Эрнст Теодор Амадей Гофман Рассуждения кота Мура С отрывками биографии капельмейстера Иоганна Крейслера в случайных макулатурных листах
Предисловие издателя
Ни одна книга не нуждается в предисловии так, как эта. Необходимо объяснить, каким удивительным образом она возникла и появилась в свет. Поэтому издатель просит благосклонного читателя непременно прочесть это предисловие.
У издателя есть друг; с ним у него одна душа и одно сердце, и он знает этого друга, как самого себя. Друг сказал ему однажды: «Так как ты, мой милый, напечатал уже много книг и знаешь толк в издателях, тебе не трудно будет найти кого-нибудь их этих храбрых господ, который напечатал бы по твоей рекомендации вещь, написанную молодым автором с блестящим талантом. Займись моим автором. Он этого сто́ит».
Издатель обещал сделать все возможное для своего литературного коллеги. Ему показалось только немного странным, что рукопись, по словам его друга, принадлежала коту, которого звали Муром, и заключала в себе его житейскую философию. Но слово уже было дано, а так как он нашел, что введение книги написано довольно хорошим стилем, то он отправился немедленно с рукописью в кармане к Дюмлеру на Unter den Linden и предложил ему издать книгу кота.
Дюмлер сказал, что никогда еще не видывал писателей из котов и не слыхал, чтобы кто-либо из его уважаемых коллег имел дело с подобными личностями. Тем не менее он не прочь был попробовать.
Рукопись начали печатать, и к издателю пришли первые корректурные листы. Как же испугался он, когда увидел, что история Мура местами прерывается вставками из совершенно другой книги: из биографии Иоганна Крейслера.
После тщательных розысков и расследований издатель узнал, наконец, следующее: когда кот Мур писал свою «Житейскую философию», он без церемонии рвал печатную книгу, которую нашел у своего хозяина, и преспокойно употреблял эти листы частью для прокладки, частью для просушки рукописи. Эти листы остались в рукописи и были теперь напечатаны по недоразумению, как принадлежащие к рукописи.
К сожалению, издатель должен сознаться, что это смешение материалов произошло по его легкомыслию; ему, конечно, следовало просмотреть рукопись кота, прежде чем пустить ее в печать. В утешение мы можем сказать, что читатель легко справится с книгой, если будет обращать внимание на частые заметки «М. л.» (макулатурные листы) и «М. пр.» (Мур продолжает). Разорванная книга, по всей вероятности, никогда не появлялась в продаже, так как никто о ней ничего не знает. Друзьям капельмейстера, по крайней мере, будет приятно, что, по милости литературного вандализма кота, им станут известны кое-какие весьма странные обстоятельства из жизни в некотором роде замечательного человека.
Издатель надеется на великодушное прощение.
Справедливость требует заметить, что нередко авторы бывают обязаны наиболее смелыми своими мыслями и самыми удивительными оборотами добрым наборщикам, которые содействуют полету их идей так называемыми опечатками. Например, один автор говорит во второй части своего рассказа «Nachtstücke», на странице 326-й, о густом боскете, находившемся в саду. Но это показалось наборщику недостаточно гениальным. Он набрал слово «каскет» вместо «боскет». Есть также рассказ «Девица Скюдери». Наборщик коварно одел героиню вместо черного платья в черную краску (Farbe и Robe) из тяжелого шелка.
Но да воздастся всякому по заслугам. Ни кот Мур, ни автор биографии капельмейстера Крейслера не должны рядиться в чужие перья. Поэтому издатель просит благосклонного читателя, прежде чем он начнет читать эту книгу, просмотреть нижеследующие примечания для того, чтобы не думать об обоих авторах хуже или лучше того, чего они заслуживают. Впрочем, здесь отмечены только главные ошибки, что же касается мелких, то в этом мы полагаемся на догадливость благосклонного читателя.
(Затем следует 14 опечаток в первом издании, в последующих изданиях они исправлены.)
В заключение издатель должен прибавить, что он знал лично кота Мура. Это был мужчина с приятным и мягким характером.
Берлин. Ноябрь 1819-го года. Э. Т. А. Гофман.Предисловие автора
Робко, со стесненным сердцем отдаю я для печати несколько страниц моей жизни, полных страданий, надежд и стремлений, волновавших меня в сладкие часы досуга и поэтических вдохновений.
Устою ли я перед строгим судом критики? Но я писал для вас, родственные чувствительные души с детски-невинными чувствами, – да, для вас писал я, – и одна слеза умиления, пролитая вами, утешит меня и заживит раны, которые нанесет мне холодное порицание бесчувственных рецензентов.
Берлин, в мае 18… Мур. (Etudiant en belles lettres)[1].Интимное предисловие автора
С уверенностью и спокойствием, свойственными истинному гению, отдаю я на всемирный суд свою биографию. Пусть видят все, как развиваются великие коты, пусть все узнают мои совершенства, любят меня, ценят, уважают, удивляются мне и даже несколько благоговеют передо мною. Но если кто осмелится выразить какое-либо сомнение насчет достоинств этой удивительной книги, пусть помнит, что будет иметь дело с котом, у которого есть острый ум и острые когти.
Берлин, в мае 18… Мур. (Homme de lettres très renommé)[2].Примечание. Это уж слишком! Напечатано даже и то предисловие автора, которое не предназначалось для публики. Остается попросить благосклонного читателя извинить литературному коту несколько надменный тон его предисловия и принять во внимание то, что, если бы перевести на настоящий язык сокровенный смысл предисловий многих смиренных авторов, вышло бы почти то же самое.
Издатель.Том первый
Отдел первый Чувство бытия. Юношеские месяцы
Нет ничего прекраснее, возвышеннее, великолепнее жизни! «О сладкая привычка бытия!» – восклицает некий нидерландский герой в знаменитой трагедии. То же говорю и я, но не в столь тяжкую минуту, как упомянутый герой. Ему приходилось расставаться с жизнью, а я весь проникнут блаженным сознанием, что я окончательно освоился с этой сладкой привычкой и потому не желаю с ней расставаться. Я разумею ту духовную силу, ту неведомую власть или, вернее, то управляющее нами начало, которое навязало мне эту привычку, не спросясь моего согласия. Эта неведомая мне власть не могла иметь худших намерений, чем мой милый хозяин, который никогда не вытаскивает у меня из-под носу приготовленного мне рыбного блюда, если запах его мне нравится.
О природа, святая, великая природа! Какой восторг и отрада наполняют мою взволнованную грудь, как обвевает меня твое таинственное дыхание! Ночь свежа, и я хотел бы… Но тот, кто прочитает или не прочитает эти строки, не может понять моего высокого вдохновения; он не знает возвышенного пункта, на который я вознесся, – вернее было бы сказать – влез, – но поэты не говорят о своих ногах даже в том случае, если их четыре, как у меня: они упоминают только о крыльях, хотя бы эти крылья были произведением искусного механика, а не выросли у них за спиной. Надо мной расстилается звездное небо, полная луна сияет в вышине, озаряя серебристым блеском крыши и башни вокруг меня. Постепенно стихает подо мной городской шум. Все спокойнее становится ночь. Облака плывут. Одинокая голубка с робкой любовной жалобой порхает вокруг церковной башни. О, если бы милая крошка приблизилась ко мне! Я чувствую, как внутри у меня что-то переворачивается, мечтательный аппетит поднимается во мне с непобедимой силой. О, подойди сюда, моя нежная голубка! Я хотел бы прижать ее к израненному любовью сердцу и никогда не отпускать ее. Но коварная улетает и оставляет меня безнадежно сидящим на крыше. Как редка истинная симпатия душ в наше жалкое, черствое, бессердечное время!
Неужели ходить на двух ногах такая великая вещь, что существа, называющие себя людьми, смеют властвовать над теми, кто тверже стоит на четырех ногах? Я знаю, в чем дело: они ужасно высокого мнения о том, что будто бы сидит у них в голове и называется разумом. Я не совсем ясно представляю себе, что они под этим разумеют, но, судя по тому, что я слышал от моего хозяина, разум есть не что иное, как способность действовать сознательно и не делать глупостей. Если так, то я не уступлю в этом ни одному человеку. Кроме того, я думаю, что к сознанию привыкают. Ведь мы сами не знаем, как живем и являемся на свет. По крайней мере, так случилось со мной, и, насколько я понимаю, ни один человек не знает по собственным наблюдениям, как и почему он родился, он знает это только по преданиям, которые часто бывают очень неточны.
Города нередко оспаривали друг у друга честь места рождения знаменитых людей. Я сам не знаю ничего положительного о том, где я увидел свет: в погребе, на чердаке или в дровяном сарае; вернее сказать, не я увидел свет, а меня увидала на свете моя дорогая мамаша. По свойству нашей породы мои глаза были закрыты. Я помню, как в полной темноте раздавались вокруг меня какие-то урчащие и пискливые звуки, которые производил почти невольно и я, когда мною овладевал гнев.
Яснее помню я себя в тесном пространстве с мягкими стенками. Я едва дышал и в страхе издавал жалобный писк. Я почувствовал, как что-то вторгнулось в тесное помещение и очень грубо схватило меня. Это дало мне случай проявить первую удивительную способность, которой наделила меня природа. Из моих богато опушенных передних лап я выпустил острые когти и вонзил их в то, что, как я узнал впоследствии, было человеческой рукой. Эта рука вынула меня из тесного помещения, бросила меня, и немедленно вслед за тем я почувствовал два сильных удара по щекам, на которых у меня выросли вскоре почтенные усы. Теперь я понимаю, что рука эта наградила меня пощечинами за движение моих когтей. Это было мое первое открытие в области нравственных причин и следствий. Нравственный инстинкт заставил меня так же быстро спрятать когти, как я их выпустил. Впоследствии справедливо признали мое последнее действие за акт величайшего добродушия и любезности. За это я и получил прозвище «бархатной лапки».
Итак, рука бросила меня на землю. Но вскоре за тем она опять взяла меня за голову и нагнула вниз так, что я попал мордочкой в жидкость, которую начал лакать совершенно невольно, вероятно, по физическому инстинкту, и чувствовал при этом необыкновенное удовольствие. Теперь я знаю, что я пил молоко, что я был голоден и насытился. Так вслед за нравственным развитием наступило физическое.
Еще раз взяли меня две руки и осторожно положили на мягкое теплое ложе. Я чувствовал себя все лучше и лучше и начал выражать мое удовольствие особыми звуками, свойственными нашей породе; люди довольно удачно называют их мурлыканьем. Так шел я гигантскими шагами по пути развития. Какое наслаждение, какой бесценный дар неба выражать свое внутреннее удовольствие звуками и движениями! Сначала я мурлыкал, потом у меня явился неподражаемый талант грациозно поводить хвостом, а затем – чудный дар выражать одним словечком «мяу» радость, горе, блаженство, отчаяние, – словом, все чувства и страсти в их разнообразнейших оттенках. Что человеческий язык в сравнении с этим простейшим средством заставить себя понять! Но будем продолжать интереснейший рассказ о моей юности, полной разнообразных событий.
Я проснулся после глубокого сна. Ослепительный свет испугал меня. Пелена упала с моих глаз – я видел! Прежде, чем я привык к свету и к пестрому разнообразию цветов, которое открылось передо мной, я несколько раз сряду сильно чихнул, но скоро все пошло на лад, как будто я давно уже привык к зрению. О зрение! Без этой чудной привычки было бы трудно существовать на свете! Счастливы те высокоодаренные натуры, которые так легко привыкают к зрению, как я.
Я не стану лгать: я опять почувствовал некоторый страх и испустил жалобный писк в этом тесном пространстве. Показался маленький старичок, которого я никогда не забуду, так как, несмотря на обширный круг моего знакомства, я никогда не встречал подобной фигуры. Часто бывает в нашей породе, что тот или другой мужчина носит белую с черным шкурку, но редко бывает, чтобы у человека были белоснежные волосы и совершенно черные брови. Этим отличался мой воспитатель. Он был одет в короткий ярко-желтый халат, которого я так испугался, что сполз с мягкой подушки, насколько позволяла мне моя тогдашняя беспомощность. Человек этот подошел ко мне с ласковым движением, внушившим мне доверие. Он взял меня. Я воздержался от выпускания когтей. Связь между царапанием и ударами сама собой возникла в моем уме. Человек этот желал мне добра. Он посадил меня перед блюдечком молока, которое я с жадностью вылакал, что, по-видимому, его очень обрадовало. Он говорил мне много такого, чего я не понял, потому что в то время я еще не понимал человеческой речи: я был еще неопытным котенком. По-видимому, человек этот много знал и был хорошо знаком с науками и искусствами, так как его посетители (я видел у него людей, носивших кресты и звезды на том самом месте, где природа поместила у меня желтое пятнышко, то есть на груди) обходились с ним особенно вежливо, а иногда даже с некоторым подобострастием (так обходился впоследствии я сам с пуделем Скарамуцем), и называли его не иначе, как «много уважаемый, дорогой, бесценный мейстер Абрагам». Только два человека называли его просто «мой дорогой»: высокий худой человек в ярко зеленых панталонах и белых шелковых чулках и маленькая, очень толстая женщина с черными волосами и множеством колец на пальцах. Господин был, вероятно, владетельный князь, а дама – еврейка.
И хотя его навещали такие важные лица, мейстер Абрагам жил в маленькой комнатке на самом верху, так что я мог очень приятно совершать мои первые прогулки через окно на крышу и на чердак.
Да это не могло быть иначе: я родился на чердаке. Что погреб! Что дровяной сарай! Я стою за чердак! Климат, родина, ее нравы и обычаи, – какое влияние оказывают они на характер и на внешность гражданина! Откуда явились во мне этот высокий дух, эта непобедимая склонность к возвышенному? Откуда эта изумительная ловкость в лазании, это завидное искусство прыгать? Ах, сладкое чувство наполняет мою грудь! Во мне шевелится тоска по родном чердаке! Тебе посвящаю я эти строки, прекрасная родина, тебе это странное ликующее «мяу», тебя прославляют эти прыжки! И в этом заключаются добродетель и патриотический дух. О чердак! Ты давал мне в изобилии мышей, и у тебя я находил колбасу и сало; сидя на трубе, подстерегал я воробьев и даже время от времени ловил голубей.
«Безгранична любовь моя к тебе, о родина!» Но я должен рассказать еще многое…(М. л.) …«но, ваша светлость, разве не помните вы ту ужасную бурю, которая сорвала и сбросила в Сену шляпу у адвоката, проходившего ночью по Новому мосту? Такой же случай приведен и у Раблэ, только шляпу адвоката похитила не буря: предоставив свой плащ разыгравшимся стихиям, он крепко прижал к голове свою шляпу, но в это время мчался по мосту гренадер и, проскакав мимо с громким возгласом: «Какой сегодня ужасный ветер!», быстро стащил с парика адвоката его прекрасную касторовую шляпу; однако в Сену попала не касторовая шляпа, а драная шапка солдата, которую бурный ветер сбросил в пучину. Вашей светлости известно также, что, пока адвокат стоял на месте совершенно ошеломленный, мимо проехал другой солдат и, также воскликнув: «Какой сегодня ужасный ветер!» – схватил адвоката за воротник и стащил с него плащ; а затем пронесся третий солдат; он тоже воскликнул: «Какой сегодня ужасный ветер!» – и вырвал из рук адвоката испанскую трость с золотым набалдашником. Адвокат закричал изо всех сил, бросил свой парик вдогонку негодяю и пошел с непокрытой головой, без плаща и без трости, намереваясь составить самое удивительное завещание и разоблачить самое таинственное дело. Все это известно вашей светлости?
– Ничего этого я не знаю, – сказал князь, когда я кончил свою речь, – не знаю и не понимаю, как вы, мейстер Абрагам, можете рассказывать мне такую чепуху. Я очень хорошо помню Новый мост, он находился в Париже. Я никогда не ходил по нему пешком, но зато часто проезжал, как это прилично моему званию. Адвоката Раблэ я никогда не видал, и мне не было никакого дела до солдатских проказ. Когда в молодых годах я командовал армией, я приказывал раз в неделю сечь юнкеров за те глупости, которые они делали или могли сделать, простых же солдат я предоставлял лейтенантам, которые по моему примеру тоже секли их каждую неделю по субботам, так что к воскресенью не оставалось ни одного юнкера, ни одного нижнего чина во всей армии, который не получил бы своей порции палок. Посредством моей палочной системы войска вполне привыкали к побоям прежде, чем они видели врага, так что при встрече с ним они, конечно, стали бы его бить. Кажется, это ясно? А теперь скажите мне, ради бога, мейстер Абрагам, что хотели вы сказать вашей бурей и вашим адвокатом Раблэ, ограбленным на Новом мосту, и чем объясните вы то, что праздник кончился такой сумятицей, что в тупей мой попала шутиха, что мой сын упал в бассейн и был окачен с головы до ног предательским дельфином, что принцесса бежала через парк, как Аталанта, в разорванном платье и без вуали, что… что… Но кто исчислит все несчастья этой роковой ночи? Ну, что вы скажете, мейстер Абрагам?
– Ваша светлость, – отвечал я, почтительно кланяясь, – что же было причиной всего несчастья, как не буря, как не ужасная гроза, разразившаяся в ту минуту, когда все шло так прекрасно? Могу ли я повелевать стихиями? Разве я сам не подвергался величайшим неприятностям, разве не потерял я, как тот адвокат, которого я покорнейше прощу не смешивать с знаменитым французским писателем Раблэ, разве не потерял я шляпу, сюртук и плащ, разве я…
– Послушай, – прервал здесь мейстера Абрагама Иоганн Крейслер, – послушай, друг, даже теперь, когда это уже давно прошло, все еще говорят о дне рождения княгини и о празднике, устроенном тобой в этот день, как о какой-то непонятной тайне, и, конечно, ты, по обыкновению, натворил много чудес. Если и прежде народ считал тебя чем-то вроде колдуна, то теперь он еще более в этом уверился. Расскажи-ка мне теперь, как все было. Ты знаешь, что меня тогда здесь не было…
– Ну да, – перебил друга мейстер Абрагам, – то самое, что тебя здесь не было и что ты, бог знает – почему, бежал, точно сумасшедший, преследуемый адскими силами, – именно это и привело меня в бешенство, потому-то и призвал я на помощь стихии, желая расстроить праздник, приводивший меня в отчаяние, что недоставало тебя, главного героя пьесы. Сначала праздник был только бледен и скучен, но потом он принес некоторым милым особам страдания, ужас и страшные сны. Знай, Иоганн, я глубоко заглянул в твою душу и открыл ее опасную и ужасную тайну, – клокочущий вулкан, вечно угрожающий извергнуть губительное пламя и уничтожить все вокруг себя. В глубине нашей души часто покоятся такие тайны, о которых мы не говорим даже самым близким друзьям. Поэтому я скрывал от тебя то, что я заметил, но хотел овладеть твоим «я» посредством этого праздника, глубокий смысл которого касался не княгини, а другой милой особы и тебя самого. Я хотел оживить самые сокровенные твои страдания и отдать твое сердце на растерзание этим проснувшимся фуриям. Это средство хотел я употребить, как целебный яд, которого в смертельной опасности, грозящей больному, не должен бояться ни один мудрый врач. Это лекарство принесло бы тебе или смерть, или выздоровление. Знай, Иоганн, что день именин княгини совпадает с днем именин Юлии, которую, так же как и княгиню, зовут Марией.
– А, – воскликнул Крейслер, вскакивая и сверкая глазами, – а, мейстер, кто дал тебе власть так дерзко надо мной насмехаться? Или ты – сама судьба, что осмеливаешься проникать в глубину моего сердца?
– О дикий, необузданный человек, – спокойно возразил мейстер Абрагам. – Когда же, наконец, обратится в чистое пламя пожирающий огонь, горящий в твоей груди, и в тебе останется только присущее тебе глубокое понимание искусства и того, что прекрасно? Ты требовал описания этого рокового праздника, так выслушай меня спокойно; если же силы тебе изменят, и ты этого не выдержишь, я тебя оставлю.
– Рассказывай, – сказал Крейслер глухим голосом и снова сел, закрыв лицо руками.
– Милый Иоганн, – сказал мейстер Абрагам, неожиданно переходя в веселый тон, – я не буду утруждать тебя описанием интересных приготовлений, бывших по большей части плодом богатой фантазии князя. Праздник начался поздно вечером, и, разумеется, весь парк, окружающий увеселительный дворец, был иллюминован. Я постарался ввести в эту иллюминацию особые эффекты, но это удалось только отчасти, так как, по желанию князя, на всех дорожках горел вензель княгини с княжеской короной, составленный из разноцветных лампочек, приделанных к черным щитам. Эти щиты, укрепленные на высоких столбах, очень походили на иллюминованные надписи, гласящие, что здесь курить или проезжать воспрещается. Главным пунктом праздника была знакомая тебе сцена, устроенная в парке среди кустов и искусственных развалин. На этой сцене городские актеры должны были представить аллегорию, которая была достаточно глупа, чтобы особенно понравиться публике, даже если бы она не была произведением самого князя и не вышла бы из-под «светлейшего» пера, как остроумно выразился директор театра, ставивший одну из княжеских пьес. От дворца до театра довольно далеко. Согласно поэтической мысли князя, парящий гений должен был освещать этот путь двумя светильниками. Кроме этого, никакого освещения не полагалось, но, как только княжеская фамилия и ее свита займут свои места, театр должен был внезапно осветиться. Поэтому все это пространство оставалось в темноте. Напрасно указывал я на трудность этих махинаций, усложненную еще длиною пути. Князь вычитал нечто подобное в версальских празднествах, а так как эта поэтическая мысль принадлежала ему самому, то он настаивал на ее исполнении. Во избежание незаслуженных нареканий я предоставил гения с его светильниками машинисту из городского театра.
Когда княжеская чета со свитой вышла из зала, с крыши увеселительного дворца опустили кругленького, толстого человечка в княжеской ливрее с двумя горящими светильниками в руках. Но кукла эта оказалась слишком тяжела. Шагов за двадцать от дворца машина остановилась, и светящий гений-хранитель княжеского дома – повис в воздухе. А так как машинисты начали тянуть его сильнее, то он перевернулся вверх ногами. Тут из опрокинутых светильников закапал горячий воск. Первая капля упала на самого князя. Он перенес боль со стоическим хладнокровием. Тем не менее князь несколько изменил важность своей походки и пошел скорее. Гений парил теперь над группой, состоявшей из гофмаршала, камер-юнкеров и других придворных чинов. Он висел вверх ногами так, что огненный дождь из светильников падал кому на голову, кому на нос. Выказать боль и испортить этим праздничное настроение значило бы нарушить этикет. Интересно было видеть, как эти несчастные выступали вперед подобно целой когорте Муциев Сцевол. Лица их были страшно искажены, тем не менее они пересиливали боль и даже слегка улыбались, хотя улыбка у них выходила несколько дьявольская. Они шли в гробовом молчании, едва испуская сдерживаемые вздохи. Тем временем зазвучали трубы, и тысячи голосов воскликнули: «Да здравствует светлейший князь, да здравствует светлейшая княгиня!» Трагический пафос всей этой сцены, происходящий от контраста лаокооновских лиц и ликующих восторженных криков, придал ей невообразимое величие.
Толстый, старый гофмаршал наконец не выдержал. Когда жгучая капля упала ему прямо на щеку, он вне себя от ярости отскочил в сторону и задел за веревки, идущие от воздушной машины и прикрепленные к земле вдоль дороги. Зацепившись, он упал на землю, громко воскликнув: «Ах, черт возьми!» В ту же минуту воздушный паж покончил со своей ролью. Увесистый гофмаршал сильно потащил его вниз. Кукла полетела в самую середину свиты, которая с громкими криками рассыпалась во все стороны. Все очутились в полной темноте. Все это произошло перед самым театром. Я старался зажечь тут шнурок, от которого должны были вспыхнуть лампы и огни в этом месте, но провозился с этим минуты две, то есть ровно столько, чтобы дать время всему обществу заблудиться среди кустов и деревьев.
«Огня, огня!» – кричал князь, как король в «Гамлете». «Огня, огня!» – кричало множество голосов. Когда все было освещено, разбежавшаяся свита напоминала стадо, которое с трудом собирается в одно место. Обер-камергер выказал большое присутствие духа. Он вел себя как искуснейший тактик своего времени, так что, благодаря его расторопности, порядок был восстановлен в несколько минут. Князь со свитой взошел на возвышенье, убранное цветами, которое поднималось в виде трона посреди зрительного зала. Как только княжеская чета села на места, на нее посыпался дождь цветов (это была выдумка одного искусного машиниста). Но жестокая судьба, как нарочно, устроила так, что огромная красная лилия упала прямо на нос князя и покрыла все лицо его красной пылью, причем он сохранил необыкновенно величавый вид, вполне отвечавший торжественности случая.
– Это великолепно, это восхитительно! – воскликнул Крейслер, разражаясь хохотом, от которого задрожали стены.
– Не смейся так судорожно, – сказал мейстер Абрагам, – я тоже смеялся в эту ночь, как никогда; я был расположен ко всяким безумствам, мне хотелось, как духу Дролю, еще больше все запутать, но от этого только глубже вонзались в мою грудь те стрелы, которые я направлял на других. Теперь я скажу тебе все. В момент глупого осыпания цветами начал я вытягивать ту невидимую нить, которая должна была идти через весь праздник и, подобно электрическому току, проникнуть в души тех, кого хотел я привести в соприкосновение с таинственным духовным аппаратом, где терялась моя нить… Не перебивай меня, Иоганн, слушай спокойно… Юлия с принцессой сидели сбоку за княгиней. Я видел их обеих. Когда замолкли трубы, к Юлии на колени упала полураспустившаяся роза, окруженная душистыми ночными фиалками, и, как волнующееся дуновение ветра, полились звуки твоей глубоко трогательной песни: «Mi pignero tacendo della mia sorte amara»[3]. Сначала Юлия испугалась. Когда же раздалась песня, которую играли по моему приказанию лучшие музыканты (я говорю это, чтобы у тебя не были никаких сомнений), из уст Юлии вылетел легкий вздох, и я расслышал ясно, как она сказала принцессе: «Верно, он опять здесь!» Принцесса порывисто обняла Юлию и так громко воскликнула: «Нет, нет, никогда!», что князь обратил в ее сторону свой огненный лик и сердито проговорил: «Silence!»[4] Он, вероятно, не очень сердился на это милое дитя, но здесь я должен заметить, что его удивительные румяна (оперный tirano ingrato[5] не мог бы лучше загримироваться) придавали его лицу выражение неумолимого гнева, так что самые трогательные речи, самые нежные места, аллегорически изображавшие семейное счастье на троне, как будто пропадали даром. Актеры и зрители пришли от этого в немалое замешательство. Даже тогда, когда князь целовал княгине руку и утирал платком слезу в моментах, заранее отмеченных красным карандашом в экземпляре, который он держал в руках, он, казалось, был охвачен ужасным гневом. Камергеры, стоявшие по обеим сторонам трона, шептали друг другу: «Боже, что случилось с его светлостью?»
Я должен сказать тебе, Иоганн, что в то время, как шла вся эта чепуха, я с помощью оптического зеркала и других снарядов давал в воздухе призрачное представление в честь милой Юлии, – этого небесного создания. После других твоих песен раздалась мелодия, которую ты создал в минуту высокого вдохновения; то ближе, то дальше, как робкий и страстный призыв духов, прозвучало имя Юлии. И тебя здесь не было! Когда я, по окончании пьесы, должен был, как шекспировский Просперо, хвалить моего Ариеля и говорить ему, что все шло отлично, я находил в душе, что все придуманное мною с таким глубоким смыслом, вышло вяло и бледно. Но Юлия поняла все своим тонким чутьем. Казалось, будто она находится под впечатлением приятного сна, которому обыкновенно не придают значения в действительной жизни. Принцесса была очень задумчива. Рука об руку бродили они по освещенным дорожкам парка в то время, как двор ужинал в одном из павильонов. Я рассчитал главный удар для этой минуты, а тебя все не было, Иоганн! Недовольный и рассерженный, побежал я присмотреть за приготовлениями к большому фейерверку, которым должен был закончиться праздник. Взглянув на небо, я заметил в сумраке ночи над дальним Гейерштейном маленькое красноватое облачко, которое всегда предвещает грозу. Оно медленно плывет и потом разражается над нами с страшным громом. Ты знаешь, что я рассчитываю время этого извержения по секундам, судя по состоянию облака. Гроза могла разразиться в течение этого часа, и потому я решил поспешить с фейерверком. В эту минуту я заметил, что мой Ариель начал фантасмагорию, которая должна была все разрешить: я услышал, что хор запел в конце парка в маленькой капелле св. Марии твое произведение «Ave, Maris Stella». Я поспешил туда. Юлия и княжна преклонили колени на скамейке, поставленной перед капеллой под открытым небом, как только я подошел… Но тебя не было! Тебя не было, Иоганн! Позволь мне умолчать о том, что было после. Ах, то, что я считал ве́рхом моего искусства, было напрасно, и я открыл только то, чего не понимал по своей глупости!
– Перестань болтать! – воскликнул Крейслер. – Говори все, что случилось.
– Зачем? – возразил мейстер Абрагам. – Тебе это не принесет теперь никакой пользы, а у меня разрывается грудь при воспоминании, как печально кончились все мои замыслы. «Облако, – подумал я, – счастливая мысль! Итак, – воскликнул я в безумии, – все должно кончиться полным хаосом!» И я побежал к месту фейерверка. Князь желал, чтобы я подал знак, когда все будет готово. Я не сводил глаз с облака. Оно поднималось все выше и выше над Гейерштейном. Когда мне показалось, что оно уже довольно высоко, я велел выстрелить из мортиры. Скоро весь двор и все общество были на местах. После обычных ракет, колес, шутих взвился вензель княгини, играющий пестрыми китайскими огнями, а над ним, сияя белым светом, горело имя Юлии. Теперь пришло время. Я зажег римскую свечу, и в то время, как, шипя и свистя, взвивались на воздух ракеты, разразилась гроза с огненно-красными молниями и страшными ударами грома, от которого дрожали горы и лес. А ветер ревел в парке и завывал на тысячу жалобных голосов в глубине леса. Я вырвал трубу из рук пробегавшего музыканта и извлек из нее ликующие звуки, а лопающиеся ракеты и пушечные и мортирные выстрелы весело гремели навстречу раскатам грома.
Слушая рассказ мейстера Абрагама, Крейслер вскочил и стал быстро ходить по комнате, размахивая руками. Наконец, он воскликнул в порыве восторга:
– Это прекрасно, это великолепно! Я узнаю в этом мейстера Абрагама, с которым у меня одна душа и одно сердце!
– О, – сказал мейстер Абрагам, – я знаю, что тебе по душе все дикое и странное! Но я забыл рассказать о том, что окончательно свело бы тебя с ума. Я велел натянуть эолову арфу, которая, как тебе известно, перекинута через большой бассейн, и буря играла на ней, как искусный музыкант. Среди рева и воя урагана, среди ударов грома грозно звучали аккорды гигантского органа. Все быстрее и быстрее неслись могучие звуки. Это была настоящая пляска фурий такого величавого стиля, какой едва ли можно услышать в стенах театра. Через полчаса все кончилось. Месяц выплыл из-за туч. Ночной ветер, утихая, шелестел по испуганному лесу и осушал слезы на темных кустах. И время от времени звучала еще эолова арфа, как глухой, отдаленный звон колоколов. На душе у меня было странно. Ты, Иоганн, так наполнял собой мою душу, что мне казалось, будто ты встаешь передо мною из-под могильного холма потерянных надежд и несбывшихся снов и падаешь ко мне на грудь. В тишине ночи я думал о том, какую игру я затеял, как хотел я разрубить тот узел, который завязала судьба, и как из глубины моей души выглянул в ином виде я сам, и я ужаснулся. Множество блуждающих огоньков плясало и прыгало по всему парку, – это были слуги с фонарями, разыскивающие шляпы, парики, сетки, шпаги, перчатки и шали, потерянные в быстром бегстве. Я стоял на большом мосту перед нашим городом и еще раз оглянулся на парк: залитый лунным сиянием, он казался волшебным, и чудилось, что там резвятся эльфы. И вдруг долетел до моих ушей слабый писк, похожий на крик новорожденного ребенка. Заподозрив преступление, я наклонился через перила и увидел на ярком лунном свете котенка, судорожно уцепившегося за решетку. Вероятно, его хотели утопить, и он выкарабкался. «Ну, – подумал я, – хоть это и не ребенок, но все же бедный зверек, взывающий о помощи. Надо его спасти».
– О чувствительный Юст, – со смехом воскликнул Крейслер, – где же твой новый Тельгейм?
– Извини, Иоганн, – возразил мейстер Абрагам, – едва ли можно сравнить меня с Юстом. Я переюстил самого Юста. Он спас пуделя, – животное, которое все любят, от которого можно ждать даже приятных услуг: пес приносит перчатки, кисет, трубку и т. д. Я же спас кота, – животное, которого многие боятся и обыкновенно считают коварным, неспособным к искренней дружбе и никогда не перестающим враждебно относиться к человеку; да, я спас кота из чистого, бескорыстного человеколюбия. Я перегнулся через перила и, не без некоторой опасности для жизни, достал котенка и положил в карман. Придя домой, я быстро разделся и бросился в постель (я очень устал в этот день). Но как только я заснул, меня разбудил жалобный писк, который раздавался как будто из моего платяного шкапа. Я забыл про котенка и оставил его в кармане сюртука. Я освободил его из тюрьмы, за что он меня оцарапал, и у меня все пять пальцев были в крови. Я уже хотел бросить кота в окошко, но опомнился и устыдился своей мелочности и мстительности, еще более непростительной по отношению к неразумному существу, чем по отношению к человеку. Я самым тщательным образом воспитал котенка. Это – самое милое, забавное и благонравное животное в своей породе. Ему недостает только высшего образования, которое ты легко можешь ему дать, мой милый Иоганн, поэтому я и решил передать тебе кота Мура, – так я его назвал. Хотя Мур еще не homo sui juris[6], как выражаются юристы, я все-таки спросил его, согласен ли он поступить к тебе на службу. Он рад перейти к тебе.
– Ты все шутишь, мейстер Абрагам, – сказал Крейслер. – Ты знаешь, что я не выношу кошек, ты знаешь, что у меня есть любимая собака.
– Я прошу тебя, милый Иоганн, – сказал мейстер Абрагам, – возьми моего многообещающего кота Мура, хотя бы на время моего путешествия. Я уже принес его для этого. Он за дверью и ждет только милостивого приглашения. Взгляни на него!
При этом мейстер Абрагам открыл дверь. На половике, свернувшись клубком, спал кот, который был действительно чудом красоты в своем роде: черные и серые полосы шли у него по спине и по затылку, образуя на лбу самые замысловатые иероглифы. В таких же полосах был хвост, необыкновенной длины и силы. Пестрая шкурка кота блестела и лоснилась на солнце так, что между серыми и черными полосами можно было различить еще и золотистые.
– Мур, Мур! – позвал мейстер Абрагам.
– Kppp… Kppp… – ответил кот, потянулся, встал, изогнул спину и открыл свои зеленые искристые глаза, в которых светились разум и сознание. Так утверждал по крайней мере мейстер Абрагам, и даже Крейслер должен был подтвердить, что у кота какой-то необыкновенный вид, что голова его достаточно велика, чтобы вместить науки, а усы, несмотря на молодость, так белы и длинны, что придают ему важность греческих мудрецов.
– Как это можно вечно спать! – сказал коту мейстер Абрагам. – Ты потеряешь свою веселость и сделаешься угрюмым котом. Ну, причешись хорошенько, Мур!
Кот сейчас же сел на задние лапы, начал гладить лоб и щеки бархатной лапкой и испустил звонкое, веселое «мяу».
– Смотри, Мур, – начал мейстер Абрагам, – вот это – капельмейстер Иоганн Крейслер, к которому ты поступаешь на службу.
Кот обвел капельмейстера своими большими, сверкающими глазами, потом начал мурлыкать, вскочил на стол, стоявший около Крейслера, а оттуда без церемонии прыгнул к нему на плечо, точно хотел сказать ему что-то на ухо. Затем он опять соскочил на пол и начал ходить вокруг своего нового господина, мурлыча и урча, точно хотел с ним познакомиться.
– Боже мой, – воскликнул Клейслер, – мне положительно кажется, что у этого маленького серого существа есть разум! Он, верно, происходит от потомков знаменитого Кота в сапогах!
– Я знаю одно, – заметил мейстер Абрагам, – что кот Мур – забавнейшее животное в мире, настоящий пульчинелло; кроме того, он благонравен и не назойлив, как бывают иногда собаки, надоедающие нам своими неуклюжими ласками.
– Этот умный кот, – сказал Крейслер, – наводит меня на печальные мысли о том, как ограниченны наши познания. Кто скажет, как далеко простираются духовные способности животных? Если мы чего-нибудь не понимаем в природе, мы сейчас придумываем название, а потом кичимся нашей глупой школьной ученостью, идущей не дальше нашего носа! Точно так же и духовные способности животных, проявляющиеся иногда самым удивительным образом, обозвали мы словом «инстинкт». Я хотел бы знать только одно: совместима ли способность грезить с идеей инстинкта, – этого слепого, бессознательного побуждения? Ведь всякий, кто наблюдал за спящей охотничьей собакой, знает, что она видит очень живые сны. Перед ней проходит во сне вся охота: она ищет, обнюхивает, двигает ногами как будто на бегу, визжит и лает. О грезящих котах я пока еще ничего не знаю…
– Кот Мур, – перебил друга мейстер Абрагам, – видит очень живые сны, и нередко я замечаю, как он впадает в то приятное, мечтательное настроение, в тот лунатический бред, в то странное состояние, граничащее между сном и бодрствованием, которое внушает поэтическим душам гениальные мысли. С некоторых пор он необыкновенно стонет и охает, и я подозреваю, что он или влюблен, или сочиняет трагедию.
Крейслер громко рассмеялся и воскликнул:
– Ну поди сюда, умный, благонравный, забавный, поэтический кот Мур, позволь нам…
(М. пр.) …о моем первоначальном развитии и главное – о юношеских месяцах моей жизни.
В высшей степени поучительно, когда личность высокого ума подробно рассказывает в автобиографии о всех событиях своей молодости, даже самых незначительных. Да и может ли быть незначительно что-либо, касающееся гения? Все, что он предпринял или не предпринял во времена своего отрочества, в высшей степени важно и проливает яркий свет на сокровенный смысл его бессмертных творений. Благородная гордость поднимается в груди пылкого юноши, мучимого сомнениями в своих силах, когда он читает, что и великий человек в детстве играл в солдатики, был лакомкой, иногда получал колотушки, бывал ленив, шаловлив и бестолков. «Совсем как я, совсем как я!» – в восхищении восклицает юноша и не сомневается больше в том, что он – такой же великий гений, как и его кумир.
Многие, читая Плутарха или только Корнелия Непота, воображали себя героями, а читая в переводах трагедии древних, а также Кальдерона, Шекспира, Шиллера и Гёте, воображали себя если не великими поэтами, то хоть маленькими, милыми стихотворцами, которых очень любит публика. Так, вероятно, и мои творения зажгут высокий пламень поэзии в груди многих юных котов, богато одаренных разумом и чувством, и если благородный юноша-кот прочтет на крыше мои биографические забавы и проникнется возвышенными идеями книги, которую я держу теперь в лапах, он воскликнет в восторженном порыве: «Мур, божественный Мур, величайший гений нашей породы! Тебе, тебе обязан я всем, твой пример делает меня великим!»
Очень похвально, что, воспитывая меня, мейстер Абрагам не придерживался ни забытой системы Базедова, ни мето́ды Песталоцци, а предоставлял мне полную свободу развиваться самостоятельно, требуя, чтобы я руководствовался только некоторыми главными принципами, которые он считал необходимыми в обществе, господствующем на земле. Он думал, что общественная жизнь была бы немыслима, если бы мы стали бессмысленно и слепо кидаться друг на друга, угощая встречных толчками и пинками. Эти принципы мейстер Абрагам называл естественной вежливостью в противоположность условной, в силу которой следует говорить «виноват», когда какой-нибудь болван набежит на тебя или наступит тебе на ногу. Быть может, эта вежливость и нужна людям, но я не могу понять, почему должна она связывать также и нашу свободную породу, а так как главное средство, которым мейстер Абрагам внедрял в меня эти принципы, был один роковой березовый хлыст, то я имею полное основание жаловаться на строгость моего воспитателя. Я убежал бы от хозяина, если бы меня не связывало с ним мое прирожденное стремление к высокой культуре. Чем больше культуры, тем меньше свободы, это – несомненная истина. С культурой возникают потребности, с потребностями… Вот именно немедленное удовлетворение некоторых естественных потребностей без уважения ко времени и месту было первое, от чего совершенно отучил меня хозяин при помощи рокового березового хлыста. Потом мы перешли к обжорству, которое, как я убедился впоследствии, происходит от особого ненормального состояния духа. Это состояние – вероятное следствие моей психической организации – побуждало меня оставлять молоко и даже мясо, поставленное передо мной хозяином, вскакивать на стол и слизывать то, что хозяин приготовил себе. Я испытал силу березового хлыста и – перестал делать это. Теперь я вижу, что хозяин был прав, отвлекая мой ум от того, что, как мне известно, приводило к величайшим несчастиям и доводило до печального состояния многих из моих добрых собратьев, менее культурных и хуже меня воспитанных. Мне известно, например, что один многообещающий юный кот, не имея духовной силы противостоять искушению вылакать горшок молока, поплатился за это удовольствие хвостом и, осмеянный, опозоренный, должен был удалиться от мира. Итак, хозяин был прав, отучая меня от этого, но я не могу простить ему того, что он противился моему стремлению к наукам и искусствам. Ничто не привлекало меня в комнате хозяина так сильно, как письменный стол, загроможденный книгами, бумагами и разными странными инструментами. Я могу сказать, что этот письменный стол притягивал меня магической силой, но я ощущал некоторый священный ужас, который мешал мне вполне отдаться моему увлечению. Однажды, когда хозяина не было в комнате, я победил свой страх и вскочил на стол. Как я был счастлив, когда очутился наконец между книгами и бумагами и начал рыться в них! Нет, это были не шалость и не любопытство, а только жажда знания; я схватил в лапы одну рукопись и до тех пор таскал ее во все стороны, пока она не оказалась разорванною на мелкие части. Тут вошел хозяин; увидав, что случилось, он бросился ко мне с обидным возгласом «Проклятое животное!» и так жестоко наказал меня березовым хлыстом, что я, визжа от боли, забился под печку и целый день не откликался на самые ласковые слова. Кого бы не отучило такое испытание от желания следовать влечению, хотя бы и вложенному в него самой природой? Едва я оправился, как снова вскочил на стол, следуя непобедимому влечению. Правда, достаточно было одного слова хозяина, одного возгласа «Не сметь!», чтобы согнать меня со стола, так что ученье мое все еще не начиналось. Я терпеливо ждал удобной минуты, чтобы начать занятия, и эта минута скоро настала. Однажды хозяин собрался выйти из дому, причем я так хорошо спрятался в комнате, что он не нашел меня: я знал, что он хотел выгнать меня, помня о разорванной рукописи. Как только он вышел, я одним прыжком вскочил на письменный стол и разлегся на бумагах, что доставило мне необыкновенное наслаждение. С восхищением открыл я лапой довольно толстую книгу, лежавшую передо мной, и попробовал понять начертанные в ней знаки. Сперва мне это не удавалось. Я не читал, а только смотрел в книгу, ожидая, что на меня снизойдет вдохновение и научит меня читать. В таком положении застал меня хозяин. Он громко воскликнул: «Ах, ты, скверное животное!» – и подскочил ко мне. Спасаться было уже поздно. Я прижал уши, свернулся в клубок и уже чувствовал хлыст над спиной. Но хозяин, занесший руку, вдруг опустил ее, разразился смехом и воскликнул: «Кот, кот, да ты читал? Этого я не могу и не хочу тебе запретить. Какова жажда образования!» Он вытащил книгу у меня из-под лап, заглянул в нее и захохотал еще громче. «Мне кажется, – сказал он, – что ты составил себе собственную маленькую библиотеку, так как я не знаю сам, как попала сюда эта книга. Ну читай же, учись прилежно, котик, ты можешь даже отмечать легкими штрихами места, поразившие тебя в книге, – я тебе это позволяю». При этом он опять подложил мне раскрытую книгу. Это было, как я узнал впоследствии, сочинение Книгге «Об обхождении с людьми», и я почерпнул в этом прекрасном произведении много житейской мудрости.
Оно написано совершенно в моем духе и так подходит к котам, желающим играть некоторую роль в человеческом обществе, что просто удивительно. Тенденция книги, насколько мне известно, до сих пор еще не принята во внимание, и потому сложился фальшивый взгляд, будто человек, точно придерживающийся правил, изложенных в этой книге, непременно делается черствым педантом. С этого времени хозяин не только пускал меня на свой письменный стол, но ему даже нравилось, когда я вскакивал на стол и располагался между бумагами, пока он работал.
У мейстера Абрагама была привычка часто читать вслух. При этом я не упускал случая так садиться, чтобы заглядывать ему в книгу, что при остроте зрения, которым наделила меня природа, я мог делать, сидя довольно далеко от него. Я сравнивал письменные знаки с произносимыми им словами и в короткое время научился читать. Тот, кому покажется это невероятным, не имеет никакого понятия о необычайных способностях, вложенных в меня природою. Гениальные умы, которые меня поймут и оценят, конечно, не усомнятся в возможности такого способа обучения, так как они, вероятно, испытали его на себе. При этом я не могу не поделиться одним интересным наблюдением, сделанным мною относительно понимания человеческой речи. Я заметил, что я не знаю, как достиг я этого понимания. С людьми случается то же самое, но это не кажется мне чудом, потому что порода эта бывает в детстве гораздо глупее и неуклюжее нас. Когда я был маленьким котиком, мне никогда не случалось царапать себе глаза, хвататься за огонь или съедать сапожную ваксу вместо вишневого киселя, как это часто бывает с детьми.
Начав свободно читать и с каждым днем все более начиняться чужими мыслями, я почувствовал непреодолимое желание спасти от забвения свои собственные мысли, порожденные моим гением, но для этого нужно было владеть трудным искусством писания. Как внимательно ни следил я за рукою хозяина в то время, как он писал, мне не удавалось усвоить его приемы. Я изучал старого Гильмара Кураса, – единственный учебник чистописания, который был у хозяина, – и почти пришел к убеждению, что загадочную трудность писания можно победить только большими манжетами, надетыми на пишущей руке, изображенной в учебнике; то, что хозяин писал без манжет, доказывало, как я думал, только его необыкновенное искусство, подобно тому, как опытный плясун на канате не нуждается уже в палке для сохранения равновесия. Я мечтал о манжетах и хотел уже надеть на правую лапу ночной чепчик нашей старой служанки, как вдруг в минуту вдохновения явилась у меня гениальная мысль, которая все перевернула. Я открыл, что невозможность держать перо и карандаш так, как держит хозяин, происходила, вероятно, от различного строения наших рук, и это открытие подтвердилось.
Я должен был найти новый способ писания, приспособленный к строению моей правой лапки, и я, конечно, нашел этот способ. Так возникают новые системы, порожденные особой организацией индивидуумов.
Другая трудность заключалась в макании пера в чернильницу. Мне не сразу удалось уберечь свою лапу: она все попадала в чернила, поэтому почерк моих первых страниц, написанных больше лапой, чем пером, вышел немного груб. Непонятливые субъекты могут принять мои первые рукописи за бумагу, закапанную чернилами, но выдающиеся умы легко угадают гениального кота в его первых творениях и будут удивляться глубине и полноте ума, впервые вырвавшегося наружу. Чтобы свет не спорил о порядке моих бессмертных творений, я скажу, что прежде всего я написал философски-сентиментально-дидактический роман «Мысль и догадка, или Кот и собака». Уже и это произведение заслуживает величайшего внимания. Потом я, успешно пробуя себя в разных областях знания, написал политическую статью под названием «О мышеловках и их влиянии на миросозерцание и деятельность кошачества». Затем я вдохновился и написал трагедию «Крысиный царь Кавдаллор». Эта трагедия должна была бы пользоваться блестящим успехом и, если бы ее поставили, наверное, прошла бы множество раз во всех театрах, какие только существуют на свете. Эти произведения моего возвышенного ума должны стоять на первом месте в ряду моих сочинений. О том, как и почему они были написаны, я скажу в надлежащем месте.
По мере того, как я выучивался держать перо и не пачкать лапы, мой стиль делался свободнее, чище и приятнее, я с удовольствием располагался на альманахе муз, писал разные милые вещицы и вообще скоро сделался тем чувствительным и милым мужчиной, каким остаюсь и поныне. Я чуть было не написал героической поэмы в 24 песни, но у меня вышло нечто совсем другое. И за это Тассо и Ариост должны благодарить небо в своих могилах. Если бы из-под моих лап вышла действительно героическая поэма, ни один человек не захотел бы читать ни того, ни другого. Теперь я приступлю к…
(М. л.) …для полного понимания моего рассказа, читатель, я считаю необходимым объяснить тебе положение дел.
Всякий, кто хоть раз побывал в гостинице красивого городка Зигхартсвейлера, конечно, уже слышал про князя Иринея. Закажет, например, гость хозяину блюдо форелей, которыми славится эта страна, и хозяин сейчас же скажет: «Наш светлейший князь, сударь, тоже любит кушать форель, и я умею приготовлять эту рыбу совершенно так, как готовят ее при дворе».
Образованный путешественник знал из новейших географий, карт и статистических отчетов, что городок Зигхартсвейлер с окрестностями и с Гейерштейном находился в великом герцогстве, по которому он проезжал. Ни о каком князе там не упоминалось, и он должен был весьма удивиться, найдя здесь его светлость и двор. Вот, однако, в чем дело: князь Ириней действительно управлял маленькой земелькой близ Зигхартсвейлера и с помощью хорошей подзорной трубы мог обозревать все свои владения с бельведера своего дворца. Неминуемым следствием этого было то, что счастье и несчастье его любезных подданных были постоянно у него на виду. Во всякую минуту мог он знать, какова пшеница у Петера, живущего в отдаленнейшем участке его владений, а также наблюдать, прилежно ли возделывают Ганс и Кунц свои виноградники. Говорят, что князь Ириней выронил свою землю из кармана во время одной прогулки через границу. Как бы то ни было, но в новом, исправленном и дополненном, издании великого герцогства земелька князя Иринея оказалась приписанной к герцогству. Князя избавили от тягот правления, уделяя ему ежегодно из его прежних доходов довольно крупную сумму, которую он проживал в прелестном Зигхартсвейлере.
Кроме своей земельки, князь Ириней владел еще и значительным капиталом, которого у него не отняли и теперь. Итак, он превратился из мелкого правителя в богатого частного человека, который мог располагать своей жизнью по собственному усмотрению.
Князь Ириней слыл за тонко образованного человека, склонного к наукам и искусствам. Часто он, проходя, жаловался на тяготы правления и выразил однажды в прелестных стихах романтическое желание вести одинокую, идиллическую жизнь в маленьком домике, окруженным домашними животными. Поэтому можно было ожидать, что теперь он посвятит себя радостям домашней жизни, как подобает богатому и независимому частному человеку. Однако этого не случилось.
Быть может, любовь сильных мира к наукам и искусствам есть только неотъемлемая часть придворной жизни. Приличия требуют любить картины и слушать музыку, и было бы странно, если бы придворные переплетчики бездельничали и не одевали в золото и кожу произведений новейшей литературы. Если же эта любовь составляет неотъемлемую часть придворной жизни, то она должна исчезать вместе с ней и вспоминаться лишь, как существенное утешение в печали о потерянном троне или маленьком стуле регента, на котором привыкли сидеть.
Но князь Ириней оставил за собой и то, и другое: и придворную жизнь, и любовь к наукам и искусствам, он видел наяву приятный сон, в котором фигурировал он сам, его близкие и весь Зигхартсвейлер.
Он жил так, как будто продолжал управлять страною: держал придворный штат, государственного канцлера, финансовую коллегию и т. д. У него был свой этикет, он давал даже придворные балы, на которых бывало от двенадцати до пятнадцати особ. На этих балах этикет соблюдался строже, чем при больших дворах, а город был довольно добродушен и делал вид, что придает значение фальшивому блеску этого призрачного двора. Добрые зигхартсвейлерцы называли князя Иринея «ваша светлость», иллюминовали город в день его именин и в именины членов его семьи и охотно жертвовали собой для удовольствия двора, как афинские мастеровые в шекспировом «Сне в летнюю ночь».
Надо признаться, что князь Ириней выдерживал свою роль с большой серьезностью и умел заражать этой серьезностью всех окружающих. Вот появляется в зигхартсвейлерском клубе княжеский советник финансов. Он мрачен, сосредоточен и скуп на слова. На челе его ходят тучи. Часто впадает он в глубокое раздумье и по временам быстро поднимает голову, как бы внезапно проснувшись. В его присутствии едва смеют громко говорить и двигаться; как только бьет девять часов, он вскакивает и берет свою шляпу. Тщетно стараются его удержать. Он заявляет с гордой улыбкой, что его ждут кипы бумаг, что ему нужно просидеть всю ночь, готовясь к очень важному, последнему в этой четверти года, заседанию коллегии и быстро уходит, повергая все общество в благоговейное удивление перед необыкновенной важностью и трудностью его службы. В чем же состоят важные дела, к которым нужно готовиться всю ночь этому несчастному человеку? Это просто хозяйственные счета из всех департаментов, как-то: гардеробной, кухни, буфета и т. д. Они накопились за четверть года, и ему предстоит составить об этом доклад. Немало сочувствовали в городе и бедному княжескому каретнику, но в то же время о решении, которое приняла по этому поводу княжеская коллегия, отзывались так: «Строго, но справедливо». Согласно полученному предписанию, каретник продал половину одного экипажа, пришедшую в негодность, и под страхом немедленной отставки должен был в течение трех дней указать коллегии, куда девал он другую половину, которая, может быть, еще годилась на что-нибудь.
Самой яркой звездой при дворе князя Иринея была советница Бенцон, вдова под сорок лет, когда-то признанная красавица, еще и теперь не утратившая своей привлекательности.
Несмотря на то, что вряд ли она была дворянского происхождения, князь Ириней раз навсегда дал приказ принимать ее при дворе. Ее светлый, проницательный ум, живой нрав и житейская мудрость при известной холодности характера, неизбежно связанной с уменьем повелевать, поддерживали ее власть во всей силе, так что она держала в руках все нити, управлявшие кукольной комедией этого миниатюрного двора. Ее дочь Юлия выросла с принцессой Гедвигой, и советница имела такое влияние на душевный склад принцессы, что она казалась чужой в кругу княжеского семейства и резко отличалась от брата. Юный князь Игнатий был обречен на вечное детство: он был почти идиот. Так же близко стоял ко двору и таким же влиянием, только совсем иначе, пользовался тот удивительный человек, который уже известен тебе, читатель, как maître de plaisir[7] и насмешливый чернокнижник при дворе князя Иринея. Мейстер Абрагам попал в княжеское семейство при весьма странных обстоятельствах. Блаженной памяти папаша князя Иринея был человек простого и мягкого нрава. Он видел, что всякое напряжение может только сломать маленький, слабый механизм его государственной машины вместо того, чтобы дать ему лучшее направление. Поэтому он оставлял все по-старому, и, если у него не было случаев выказать блестящий ум или другие особые дары неба, он довольствовался тем, что всем было хорошо в его княжестве и что по отношению к иностранцам с ним было то же, что с женщинами, которые пользуются наилучшей репутацией, если о них не говорят. При маленьком дворе князя было чопорно, церемонно и старомодно, князь не принял новых идей, появившихся в последнее время, и все это происходило от неподвижности того деревянного механизма, который составляли вместе его обер-гофмейстеры, гофмаршалы и камергеры. Но в этом механизме работало маховое колесо, которого не мог остановить никакой гофмейстер. Это было свойственное князю стремление к чудесному и таинственному. Часто любил он, по примеру достойного калифа Гарун-аль-Рашида, ходить переодетым по городу и по окрестностям, желая удовлетворить свое стремление к чудесному, идущее вразрез с остальным складом его жизни, или хоть дать ему пищу. Он надевал тогда круглую шляпу и серое пальто, вследствие чего все знали с первого взгляда, что князя теперь не следует узнавать. Случилось однажды, что переодетый таким образом и неузнаваемый князь шел по аллее, ведущей от дворца в дальний угол поместья, где стоял домик вдовы княжеского повара. Придя к домику, князь увидал двух людей, закутанных в плащи, стремительно выскочивших из двери. Князь отошел в сторону. Историограф княжеского дома, у которого я заимствую эти сведения, уверяет, что князь не мог быть ни замечен, ни узнан, даже если бы надел вместо серого пальто блестящий придворный костюм со сверкающей орденской звездой, так как вечер был необыкновенно темен. Когда обе закутанные фигуры медленно проходили мимо князя, он услышал следующий разговор. Один говорил: «Прошу тебя, брат, успокойся и не будь на этот раз ослом! Человека этого нужно удалить прежде, чем князь о нем что-либо узнает. Мы должны вытолкать в шею этого проклятого колдуна, а не то он погубит нас всех своим сатанинским искусством». Другой отвечал: «Mon cher frère[8], ты можешь не горячиться на этот счет, ты знаешь мое искусство, мое savoir fair[9]. Завтра я разделаюсь с этим опасным человеком, и он может проделывать свои штуки, где ему угодно. Здесь ему нельзя оставаться, ведь князь…»
Голоса затихли; князь так и не узнал, за кого считал его гофмаршал, так как особы, вышедшие из дома и разговаривавшие таким образом, были не кто иные, как гофмаршал и его брат обер-егермейстер. Князь прекрасно узнал их по выговору.
Конечно, князь немедленно решил отыскать этого опасного колдуна, знакомству его с которым желали помешать. Он постучал в дверь домика. Вдова вышла со свечой в руках и, увидев серое пальто и круглую шляпу, спросила с холодной вежливостью:
– Что вам угодно, monsieur[10]?
Monsieur обозначало самого князя, так как он был переодет и неузнаваем. Князь спросил о незнакомце, который, как он узнал, находился в гостях у вдовы, и узнал, что это очень известный фокусник, снабженный многими аттестатами и привилегиями и желавший показать здесь свое искусство. Вдова рассказала, что у него только что были два придворных господина, перед которыми он проделал совершенно непонятные вещи. Они были так поражены, что оставили ее дом бледные и расстроенные. Не расспрашивая больше, князь вошел в дом. Мейстер Абрагам (он и был знаменитый фокусник) встретил его, как давно ожидаемого гостя, и запер за ним дверь.
Никто не знает, что делал мейстер Абрагам. Известно только, что князь провел с ним всю ночь, а на другое утро во дворце были приготовлены комнаты для мейстера Абрагама, куда князь мог незаметно проходить через потайной ход из своего кабинета. Известно также, что князь не называл больше гофмаршала «mon cher ami»[11] и никогда уже не заставлял обер-егермейстера рассказывать про удивительную охоту на рогатого белого зайца, которого он – обер-егермейстер – никак не мог подстрелить на своей первой охоте. Это повергло обоих братьев в такую печаль и уныние, что они скоро оставили двор. Известно, наконец, и то, что мейстер Абрагам удивил весь двор, город и государство не только своими фокусами, но также и все возрастающим влиянием на князя.
О фокусах его вышеупомянутый историограф княжеского дома рассказывает столько невероятного, что нельзя их описывать, не рискуя потерять доверие читателя. Самый удивительный фокус, по мнению историографа, доказывающий, по его уверению, преступную связь мейстера Абрагам с таинственными силами, есть не что иное, как акустическая игра. Фокус этот, пользовавшийся впоследствии огромным успехом, был известен под названием «невидимой девушки»; эту игру мейстер Абрагам умел уже и тогда обставлять самым фантастическим, поразительным и остроумным образом.
Известно было, что сам князь занимался с мейстером Абрагамом некоторыми магическими операциями, и между придворными дамами, камергерами и другими лицами, допущенными ко двору, возникло приятное соревнование в глупых и бессмысленных догадках относительно этих фокусов. Утверждали, что мейстер Абрагам обучает князя делать золото, так как иногда из лаборатории поднимался дым, и что князь, через посредство мейстера Абрагама, общается с духами и совещается с ними. Все были убеждены, что князь не выдавал ни одного патента, не разрешал ни одной просьбы придворного истопника, не посоветовавшись с «добрым демоном», со «spiritus familiaris»[12] или с небесными светилами.
Когда умер старый князь, и сын его Ириней принял бразды правления, мейстер Абрагам покинул страну.
Молодой князь, не унаследовавший от отца склонности к чудесному и загадочному, не удерживал его, но скоро нашел, что магическая сила мейстера Абрагама была очень полезна для заклинания некоего злого духа, который слишком часто поселяется при маленьких дворах, т. е. духа адской скуки. Уважение, которым пользовался прежде мейстер Абрагам, пустило глубокие корни в сердце юного князя. Минутами мейстер Абрагам казался князю Иринею сверхъестественным существом, стоявшим выше всего человеческого. Говорят, что это совершенно особое ощущение осталось у него после одного незабвенного критического момента, пережитого князем в детстве. Как-то раз вбежал он из детского любопытства в комнату мейстера Абрагама и сломал маленькую машину, сделанную мейстером с большим трудом и искусством. Мейстер Абрагам в гневе дал сиятельному олуху изрядную пощечину и вывел его из комнаты в коридор с некоторой, не совсем приятной поспешностью. Проливая слезы, юный князь едва мог выговорить слова: «Abraham… soufflet»[13], – так что пораженный обер-гофмейстер счел опасным и нескромным глубже проникнуть в страшную тайну князя, которую он осмеливался подозревать.
Князь живо почувствовал необходимость сохранить при себе мейстера Абрагама как живое олицетворение придворного механизма, но все старания вернуть его были напрасны. Однако после той роковой прогулки, когда князь Ириней потерял свою землю и завел в Зигхартсвейлере химерическую придворную жизнь, мейстер Абрагам появился снова, и надо признаться, что он не мог прийти более кстати, так как, не говоря уже о том, что…
(М. пр.) …удивительному событию, которое, – воспользуюсь остроумным выражением всех биографов, – составило эпоху в моей жизни.
Читатели! Юноши, мужчины, женщины, под чьими шкурками бьются чувствительные сердца, стремящиеся к добродетели! Если вы цените нежные узы, которыми соединяет нас природа, то вы меня поймете и полюбите!
День был жаркий. Я спал до вечера под печкой. Спустился сумрак, и свежий ветер повеял в окно моего хозяина. Я пробудился от сна; моя грудь расширялась под влиянием неизъяснимого чувства: в нем было и горе, и радость, и самые сладостные предчувствия. Чувство это побудило меня подняться и сделать известное выразительное движение: выгнуть спину, как сказали бы бездушные люди. Меня влекло туда, туда – на лоно свободной природы. Я вышел на крышу и стал весело бродить под лучами заходящего солнца. Тогда услыхал я с чердака невыразимо приветливые, сладкие, ласкающие звуки; что-то неведомое влекло меня к себе с непобедимой силой. Я покинул прекрасную природу и проник на чердак через слуховое окно. Спрыгнув туда, я увидел большую, красивую кошку с белыми и черными пятнами; она сидела в приятной позе на задних лапках, издавая ласкающие звуки, и смотрела на меня испытующим взглядом. Я немедленно сел против нее и, следуя внутреннему влечению, старался вторить той песне, которую пела пятнистая красавица. Я должен сказать, что это удалось мне свыше всякой меры, и с этой минуты, – замечу это для психологов, изучающих мою жизнь, – я почувствовал веру в свой музыкальный талант; но вот что удивительно: вместе с верой возник и самый талант. Взгляд пестрой кошки становился все пристальнее и острее. Вдруг она смолкла и прыгнула ко мне. Я выпустил когти, не ожидая ничего хорошего, но в эту минуту из глаз красавицы брызнули слезы, и она воскликнула:
– О сын мой, сын мой, приди в мои лапы! – Потом она обняла меня и воскликнула, прижимая к груди: – Да, это ты, мой сын, милый сын мой, которого я произвела на свет без особых страданий!
Я почувствовал глубокое волнение; уже одно это чувство свидетельствовало о том, что пестрая кошка была моя мать, но я все-таки спросил ее, твердо ли она в этом уверена.
– Ах, это сходство! – сказала пестрая кошка. – Эти глаза, эти черты лица, эти усы и шкурка – все живо напоминает мне того неверного, неблагодарного, который меня покинул. Ты – точное подобие отца, милый Мур, – ведь так тебя зовут? Но я надеюсь, что вместе с красотой отца ты унаследовал образ мыслей и добрый нрав твоей матери Мины. У отца твоего была очень внушительная осанка, лицо его выражало много достоинства, зеленые глаза сверкали умом, на усах и щеках часто играла приветливая улыбка. Эти физические преимущества, вместе с умом и той любезной легкостью, с которой он ловил мышей, покорили мое сердце. Но скоро обнаружился его тяжелый и деспотический нрав, который он сперва искусно скрывал. О ужас!.. Едва ты родился, как отец хотел съесть тебя и твоих братьев!
– Дорогая мамаша, – перебил я пеструю кошку, – не осуждайте эту склонность. Самый образованный народ на земле приписывает богам эту удивительную склонность к детоедению, но Юпитер был спасен так же, как я!
– Я не понимаю тебя, сын мой, – ответила Мина, – мне кажется, что ты или говоришь глупости, или желаешь оправдать отца. Не будь неблагодарным: ты наверно был бы сожран этим кровожадным тираном, если бы я не защищала тебя храбро вот этими острыми когтями и не скрывалась туда и сюда: то в погреб, то на чердак, то в конюшню, спасая тебя от преследований противоественного варвара. Наконец он меня покинул. Больше я никогда его не видала. Но сердце мое и теперь еще полно им! Он был красивый кот! Многие принимали его за странствующего графа, судя по его важной осанке и изящным манерам. Потеряв его, я мечтала вести спокойную жизнь в тесном домашнем кругу, посвятив себя детям. Но, увы, меня ждал новый, страшный удар! Когда я вернулась с небольшой прогулки, я не нашла детей. Ты исчез вместе с твоими братьями! За день перед тем одна старая женщина открыла мое убежище и говорила что-то ужасное о том, что надо бросить вас в воду и т. п. Счастье твое, что ты спасся! О милый сын мой, приди ко мне на грудь!
Пестрая мамаша ласкала меня с большой нежностью и расспрашивала о всех событиях моей жизни.
Я рассказал ей все, как было, и не забыл упомянуть о моем высоком развитии и о том, как я его достиг.
Казалось, редкие способности сына радовали Мину менее, чем можно было ожидать. Да, она ясно дала мне понять, что я со своим необыкновенным умом и глубокой ученостью стою на фальшивой дороге, которая может привести меня к гибели. Она убеждала меня не открывать мейстеру Абрагаму приобретенных мною познаний, так как он мог ими воспользоваться, чтобы обречь меня на позорное рабство.
– Я не так образованна, как ты, – сказала Мина, – но не лишена природных способностей и приятных талантов. К ним причисляю я, например, уменье пускать искры из шкурки, когда меня гладят. Сколько мучений принес мне этот единственный талант! Дети и взрослые постоянно хлопали меня по спине, желая увидеть этот фейерверк, и, когда я отпрыгивала от них или показывала когти, меня называли диким животным, а иногда и наказывали… Итак, если мейстер Абрагам узнает, что ты умеешь писать, милый Мур, он сделает тебя своим переписчиком, и то, что ты делал по склонности, обратится в обязанность.
Мина много говорила о моих отношениях к мейстеру Абрагаму и о моем образовании, но только позднее увидел я, что ею руководило не отвращение к наукам, а истинная житейская мудрость.
Я узнал, что Мина жила у соседки в довольно стесненных обстоятельствах и что ей было трудно снискивать себе пропитание. Это глубоко потрясло меня. Сыновняя любовь проснулась в моей груди со всей силой: я вспомнил о прекрасной селедочной головке, оставшейся у меня от вчерашнего обеда; я решил принести ее моей доброй матери, которую так неожиданно нашел.
Кто опишет непостоянство нашего сердца? Зачем предает нас судьба игре жестоких страстей? Зачем мы, слабые тростинки, должны гнуться под бурей жизни? Неумолимая судьба! О аппетит, твое имя – Кот! Неся в зубах селедочную головку, взбирался я, как второй pius Aeneas[14], по крыше и хотел уже влезть в слуховое окно. Но тут я пришел в состояние, которое как-то странно отчуждало мое «я» от меня самого и вместе с тем как будто и было моим настоящим «я». Полагаю, что я выражаюсь достаточно ясно, чтобы в описании моего состояния каждый увидел глубину проницательного психолога. Я продолжаю. Странное чувство, состоящее из желания и нежелания, смутило мой ум и победило меня… Сопротивление было невозможно, я… съел селедочную головку!
Я слышал, как печально мяукала Мина, печально звала она меня по имени. Терзаемый раскаянием и стыдом, я прыгнул назад, в комнату хозяина и забился под печку. Тогда стали преследовать меня самые мрачные образы. Я увидел Мину, мою вновь обретенную пеструю мать, безутешную, покинутую, тоскующую об обещанной пище, близкую к потере чувств… А!.. Ветер в дымовой трубе завывал: «Мина, Мина!..» – «Мина!» – шелестели бумаги мейстера Абрагама, «Мина!» – говорили тростниковые стулья. «Мина» – жаловалась печная заслонка. Сердце мое разрывалось. Я решил при первой возможности пригласить к утреннему молоку мою бедную мать. Эта мысль снизошла на меня освежающей тенью и наполнила меня блаженным спокойствием. Я прижал уши и заснул.
О вы, понявшие меня, чувствительные души! Вы увидите, если вы только не ослы, а настоящие, честные коты, вы увидите, говорю я, что эта буря в моей груди должна была очистить небо моей юности, как благодетельный ураган, который, рассеяв мрачные облака, раскрывает чистейшие горизонты. Как ни тяжело легла на мою душу эта селедочная головка, я все-таки узнал теперь, что такое аппетит, а также и то, что бороться с матерью-природой – дерзость. Пусть всякий сам снискивает себе селедочные головки и не рассчитывает на уменье других, которые, движимые законным аппетитом, ищут их для себя.
Так заключу я этот эпизод моей жизни…
(М. л.) …хуже всего для историографа или биографа, когда приходится ему, подобно человеку, скачущему на диком коне, носиться то туда, то сюда, перепрыгивать через овраги, камни и заборы, вечно ища желанной дороги и никогда ее не находя. Так случилось с тем, кто решил записать для читателей то, что узнал он про удивительную жизнь капельмейстера Иоганна Крейслера. Охотно начал бы он так: «В маленьком городке Н. или Б. или К. весной или осенью такого-то года увидел свет Иоганн Крейслер».
Но такой прекрасный хронологический порядок здесь невозможен, так как в распоряжении несчастного рассказчика есть только отрывочные сведения, которые он должен сейчас же обрабатывать, чтобы ему не изменила память.
Как составлялись эти сведения, ты можешь узнать в конце книги, милейший читатель, и тогда ты, быть может, простишь мне рапсодический характер всего произведения, а может быть – даже подумаешь, что, несмотря на кажущуюся отрывочность, крепкая нить соединяет все части его воедино.
В эту минуту я хочу рассказать только то, что вскоре после прибытия князя Иринея в Зигхартсвейлер в один прелестный летний вечер принцесса Гедвига и Юлия гуляли по прекрасному зигхартсвейлерскому парку. Лучи заходящего солнца пронизывали лес золотой сетью; в молчании стояли кусты и деревья, ожидая ласкающего вечернего ветра. Только журчанье лесного ручья, пробиравшегося по белым камешкам, нарушало глубокую тишину.
Молча, рука об руку, шли девушки по дорожкам, переходили через мостики, перекинутые через изгибы ручья, и, наконец, пришли к большому озеру, где отражался далекий Гейерштейн со своими живописными развалинами.
– Как хорошо! – воскликнула Юлия.
– Пойдем в рыбачий домик, – сказала Гедвига, – солнце ужасно жжет, а там из среднего окна вид на Гейерштейн еще лучше, чем здесь, так как местность там представляет настоящую картину, а не панораму.
Юлия последовала за принцессой, которая, едва взглянув в окно, потребовала карандаш и бумагу, чтобы нарисовать открывавшийся вид, находя его необыкновенно удачным.
– Я хотела бы, – сказала Юлия, – обладать твоим искусством рисовать с натуры кусты, деревья, озера и горы. Но я знаю, что если бы я умела рисовать даже не хуже тебя, мне никогда не удалось бы срисовать ландшафт с натуры, и чем он был бы лучше, тем мне было бы труднее. Мне кажется, что от радости и восторга я не могла бы приняться за работу.
При этих словах Юлии на лице принцессы мелькнула улыбка, которая могла бы показаться опасной для шестнадцатилетней девушки. Мейстер Абрагам, выражавшийся иногда немного своеобразно, говорил, что такую игру лица можно сравнить с рябью на поверхности воды, если в глубине ее есть нечто угрожающее. Итак, принцесса улыбнулась. Когда же она открыла свои розовые уста, чтобы ответить кроткой и безыскусственной Юлии, совсем близко от них раздались аккорды, зазвучавшие сильно и дико: почти не верилось, что играют на простой гитаре. Обе девушки поспешно вышли из рыбачьего домика.
Теперь они еще отчетливей услышали странные модуляции и аккорды. К этому присоединился звучный мужской голос, который то разливался нежнейшей итальянской песней, то, вдруг обрываясь, переходил в строгие мрачные мелодии или в речитатив, придавая словам особое выражение.
Снова настраивают гитару, снова раздаются аккорды, все обрывается… опять настраивают гитару, потом слышны энергичные, точно в гневе сказанные, слова, потом мелодия, потом опять настраивание.
Заинтересовавшись этим странным виртуозом, Юлия и Гедвига подходили все ближе и ближе и, наконец, увидали человека в черном платье, сидящего к ним спиной на обломке скалы у самого озера. Это он так странно играл, пел и разговаривал. Только что перестроил он гитару каким-то особенным способом, попробовал взять несколько аккордов и воскликнул:
– Опять неверно, никакой чистоты, то чуть-чуть ниже, то чуть-чуть выше, чем нужно!
Взяв обеими руками инструмент, висевший у него через плечо на голубой ленте, он заговорил, держа его прямо перед собой:
– Скажи мне, маленькая, упрямая вещица, где же твой настоящий строй? В каком углу запряталась у тебя чистая гамма? Или ты, может быть, взбунтовалась против твоего господина и станешь уверять, что его ухо оглохло в кузнице темперированного строя, а его энгармонизм – пустая детская игра? Мне кажется, ты надо мной смеешься, несмотря на то, что борода моя выбрита гораздо лучше, чем у маэстро Стефано Пачини, detto il veneziano (прозванного венецианцем), вложившего в тебя дар гармонии, остающийся для меня неразгаданной тайной. Знай же, милая вещица, что если ты не дашь мне унисонирующих дуализмов Gis и As или Cis и Des, а также и других тонов, то я напущу на тебя девять новых ученых немецких музыкантов, и они уж тебя как следует выругают и будут честить самыми негармоническими словами. И тебе не удастся спастись в объятия твоего Стефано Пачини и оставить за собой последнее слово, как делают обыкновенно сварливые женщины. А может быть, ты очень горда и думаешь, что обитающие в тебе прекрасные духи покоряются только волшебной силе, давно уже покинувшей землю, и что в руках труса…
При последних словах человек этот вдруг замолк, вскочил с места и стал смотреть в озеро, погрузившись в глубокое раздумье. Девушки, пораженные этим странным поведением, стояли за кустом и едва смели дышать.
– Гитара, – вдруг заговорил человек, – это самый жалкий и несовершенный инструмент, он годится только для воркующих влюбленных пастушков, которые потеряли амбушюр и не могут так громко играть на свирели, чтобы будить эхо вместе с мычанием коров и в сладостном томлении посылать жалобные мелодии в дальние горы навстречу Эммелинам, сгоняющим милых животных при громком хлопаньи бича. О боже! Пастушки, «вздыхающие, как печки, с печальной песней к милым пастушкам», объясните им, что трезвучие состоит только из трех тонов, и что оно уничтожается острым ударом септимы, и тогда дайте им в руки гитару! Но серьезные люди с кое-каким образованием и громадной эрудицией, выдающие себя за греческих мудрецов и отлично знающие, что делается при пекинском или нанкинском дворе, не понимают ни черта ни в пастухах, ни в пастушестве; и что им за дело до вздохов и бренчанья? Что ты делаешь, дурак? Вспомни о покойном Гиппеле, уверявшем, что человек, обучающий игре на фортепиано, производит на него такое впечатление, как будто он сбивает яйца всмятку… А тут еще бренчанье на гитаре! Черт возьми!
При последних словах человек с досадой бросил инструмент в кусты и быстро ушел, не заметив девушек.
– Однако! – воскликнула Юлия со смехом. – Что ты скажешь, Гедвига, об этом необычайном явлении? Откуда взялся этот странный человек, который умеет так хорошо говорить со своим инструментом и потом бросает его, как разбитую коробку?
– Это нехорошо, – сказала Гедвига, вдруг рассердившись, и ее бледные щеки вспыхнули ярким румянцем, – нехорошо, что парк не заперт и всякий может в него входить.
– Как, – возразила Юлия, – ты думаешь, что князь должен бессердечно закрыть для зигхартсвейлерцев и для всех, кто идет по дороге, самое лучшее место в окрестностях? Не может быть, чтобы ты так думала!
– Но ты не думаешь, – еще с большим волнением сказала принцесса, – о той опасности, какой мы подвергаемся. Часто гуляем мы одни, как сегодня, по самым отдаленным дорожкам парка. И вдруг какой-нибудь злодей…
– Но, – прервала принцессу Юлия, – я не думаю, чтобы ты серьезно боялась, что из-за куста вдруг выйдет страшный великан или рыцарь и увезет нас в свой замок. Что может с нами случиться? Я должна признаться, что мне было бы даже приятно, если бы с нами случилось маленькое приключение в этом уединенном, романтическом лесу. Я вспомнила про шекспировское «Как вам будет угодно». Мама долго не давала нам этой комедии. Нам прочел ее наконец Лотарио. Ну отчего бы тебе не разыграть хоть Целию, а мне – твою верную Розалинду? Какую роль дадим мы нашему неизвестному виртуозу?
– О, – воскликнула принцесса, – этот неизвестный! Поверишь ли, Юлия, его вид и странные речи навели на меня необъяснимый ужас. И теперь еще я нахожусь под влиянием странного чувства, овладевшего всеми моими помыслами. В самой глубине моей души встает смутное воспоминание, которое я напрасно стараюсь выяснить. Я уже видела этого человека при каких-то ужасных обстоятельствах; быть может, это был только тяжелый сон, впечатление которого у меня осталось, но все равно: этот человек с его странным поведением и запутанными речами показался мне грозным призрачным существом, желавшим увлечь нас в заколдованный круг.
– Что за мысли! – воскликнула Юлия. – Я с своей стороны превращаю грозный призрак с гитарой в monsieur Жака или почтенного Оселка, философия которого звучит почти так же, как странные речи незнакомца… Но прежде всего нужно спасти бедную крошку, которую этот варвар бросил в кусты с таким ожесточением.
– Ради бога, Юлия, что ты делаешь? – воскликнула принцесса.
Но Юлия не обратила на ее возглас внимания, прыгнула в кусты и пришла через несколько минут, с торжеством неся гитару, брошенную незнакомцем.
Принцесса пересилила свой страх и внимательно рассматривала инструмент, странная форма которого указывала на его почтенный возраст; это подтверждали год и имя мастера, хорошо видные на дне через отдушину. Там выжжены были следующие слова: «Stefano Pacini fec. Venet.[15] 1532».
Юлия не могла удержаться: она взяла аккорд на струнах красивого инструмента и почти испугалась полноты и силы звука, изданного этой небольшой вещицей.
– Чудо, чудо! – воскликнула Юлия и заиграла еще. А так как она привыкла аккомпанировать себе на гитаре, то и запела почти невольно, продолжая идти вперед. Принцесса молча следовала за ней. Юлия остановилась. Тогда Гедвига сказала:
– Пой, играй на этом волшебном инструменте: может быть, тебе удастся прогнать в ад злых духов, которые хотели мной овладеть.
– Что ты толкуешь про злых духов, – возразила Юлия, – нас с тобой они не должны касаться! Но играть и петь я буду. Я никогда не думала, что найду инструмент, который будет мне так по руке, как этот. Мне кажется даже, что мой голос звучит с ним лучше обыкновенного.
Она начала петь известную итальянскую канцонетту и рассыпалась в красивых фиоритурах и смелых пассажах, давая волю звукам, таившимся в ее в груди. Если принцесса испугалась вида незнакомца, то Юлия уж совсем окаменела, когда он вдруг предстал перед ней на повороте дорожки.
Незнакомец, по виду лет тридцати, был одет в черный костюм, сшитый по последней моде. По одежде он ничем не отличался от молодых нарядных мужчин: ничего необычного, – но все же имел какой-то странный вид. Несмотря на опрятность его костюма, в нем была заметна некоторая небрежность, происходившая не столько от недостатка старания, сколько оттого, что человеку этому, видимо, пришлось сделать непредвиденное путешествие, к которому не был приспособлен его наряд. У него выбился жилет, галстук почти развязался, башмаки так запылились, что их золотые застежки были едва заметны. Странно было и то, что у его маленькой треугольной шляпы, предназначенной только для ношения под мышкой, были отогнуты передние поля для защиты от солнца. Очевидно, он пробирался сквозь самую густую чащу парка, так как его спутанные черные волосы были полны еловых игл. Он едва взглянул на принцессу и остановил на Юлии сверкающий взгляд больших темных глаз. Это усилило ее смущение: на глазах у нее выступили слезы, как это часто бывало с нею в таких случаях.
– И эти божественные звуки, – начал незнакомец мягким и нежным голосом, – замолкают и превращаются в слезы при виде меня?
Принцесса старалась побороть первое впечатление, произведенное на нее незнакомцем, гордо взглянула на него и сказала ледяным тоном:
– Нас поражает ваше нежданное появление. В это время в княжеском парке обыкновенно не бывает чужих. Я – принцесса Гедвига.
Едва заговорила принцесса, как незнакомец быстро повернулся к ней и стал смотреть ей прямо в глаза. При этом весь вид его изменился. Исчезло выражение задумчивой мечтательности, исчезла нежность в глазах, странная блуждающая улыбка появилась на губах, горькая ирония появилась на лице. Принцесса остановилась в середине речи, как бы пораженная электрическим ударом, и, вся покраснев, стояла, опустив глаза.
Казалось, незнакомец хотел что-то сказать, но в эту минуту заговорила Юлия.
– Ну не глупа ли я, – сказала она, – что пугаюсь и плачу, как малое дитя, наказанное за лакомство? Я действительно лакомилась: я наслаждалась чудными звуками вашей гитары. Во всем виноваты гитара и наше любопытство. Мы подслушали, как вы мило разговаривали с вашей гитарой, и видели, как потом, рассердившись, вы бросили бедняжку в кусты; она испустила громкий, жалобный вздох. Это поразило меня в самое сердце; я пошла в кусты и отыскала гитару. А потом… вы сами знаете, каковы девушки… я начала что-то бренчать на гитаре, и, раз уж она попалась мне в руки, я не могла с ней расстаться. Пожалуйста, извините меня и возьмите ваш инструмент.
И Юлия протянула незнакомцу гитару.
– Это очень редкий и звучный инструмент, – сказал незнакомец, – он принадлежит доброму старому времени, но в моих неловких руках… на что похожи эти руки!.. Куда они годятся?.. Удивительный дух гармонии, заключенный в этой странной вещице, живет также и в моей груди, но только он связан и неспособен сделать ни одного свободного движения. Из вашей же души он летит к небесам в тысяче переливающихся красок, как блестящая, пестрая бабочка! Когда вы пели, вся мука тоскующей любви, весь восторг сладостных грез, надежд и желаний – все это носилось по лесу и спускалось живительной росой в благоуханные венчики цветов и в грудь внимающих соловьев! Сохраните инструмент у себя. Вы одни повелеваете чарами, которые в нем заключены.
– Но ведь вы в гневе бросили инструмент, – сказала Юлия, сильно краснея.
– Это правда, – ответил незнакомец, порывисто схватывая гитару и прижимая ее к груди, – я бросил его, а теперь беру назад, как святыню, и никогда больше с ним не расстанусь.
Но тут лицо незнакомца снова приняло вид комической маски, и он сказал холодным тоном:
– Случай или, вернее, мой злой гений сыграл со мной очень плохую шутку: я должен был явиться перед вами, многоуважаемые дамы, совершенно ex abrupto[16], как говорили римляне и другие почтенные господа. О боже мой! Ваша светлость, рискните осмотреть меня с головы до ног. Быть может, вы заметите по моему костюму, что я собрался делать визиты. Я хотел побывать в Зигхартсвейлере и оставить этому доброму городу если не мою особу, то хоть мою визитную карточку. Не думаете ли вы, принцесса, что у меня мало связей? Но разве гофмаршал вашего папаши не был моим истинным другом? Я уверен, что если бы он меня увидел здесь, он прижал бы меня к своей атласной груди и сказал бы в волнении, предлагая мне табакерку: «Мы здесь одни, мой милый, и я могу дать волю моему сердцу». И я получил бы аудиенцию у светлейшего князя Иринея и был бы представлен также и вам, о принцесса, и заслужил бы ваше расположение, – бьюсь об заклад и ставлю мою лучшую коллекцию септ-аккордов против одной пощечины. Но здесь, в саду, в самом неприличном месте, между утиным прудом и лягушечьим болотом, я должен представляться сам, к моему великому горю. Боже мой! Если бы я умел колдовать хоть настолько, чтобы subito[17] превратить эту благородную зубочистку (он вынул зубочистку из жилетного кармана) в самого блестящего камергера княжеского двора, он взял бы меня под свое покровительство и сказал бы: «Ваша светлость, вот такой-то и такой-то»… Но теперь… che far, che dir![18] Простите, простите, о принцесса! О благородные дамы и господа!
Здесь незнакомец бросился на колени перед принцессой и запел пронзительным голосом: «Ah, pietà, pietà, signora!»[19]
Принцесса схватила Юлию за руку и побежала так быстро, как только могла, с громким криком:
– Это сумасшедший! Он убежал из сумасшедшего дома!
Из дворца вышла советница Бенцон и пошла навстречу девушкам, которые, едва дыша, почти упали к ее ногам.
– Боже мой, что случилось? Что значит это бегство? – спросила она.
Принцесса, совершенно расстроенная, могла сказать только несколько бессвязных слов про какого-то сумасшедшего, который попался им в парке, но Юлия спокойно и точно рассказала, как было дело, и прибавила, что она приняла незнакомца не за сумасшедшего, а за насмешливого хитреца, совершенно вроде monsieur Жака из комедии «В Арденском лесу».
Советница Бенцон попросила повторить рассказ. Она расспрашивала о мельчайших подробностях, заставила описать походку, осанку, костюм, тон речи незнакомца и наконец воскликнула:
– Да это наверное он! Это не может быть никто другой!
– Кто, кто «он»? – нетерпеливо спросила принцесса.
– Успокойтесь, дорогая Гедвига, – ответила Бенцон, – вы напрасно запыхались. Незнакомец, показавшийся вам таким странным, совсем не сумасшедший. Какую бы горькую и неприятную шутку он себе ни позволил по своей странной манере, я все-таки думаю, что вы с ним помиритесь.
– Никогда, никогда! – воскликнула принцесса. – Я не хочу видеть еще раз этого угловатого глупца.
– Однако, Гедвига, – смеясь сказала Бенцон, – какой дух подсказал вам слово «угловатый»? После того, что случилось, оно, быть может, подходит гораздо больше, чем вы думаете.
– Я не понимаю, отчего ты так сердишься, милая Гедвига, – сказала Юлия. – Даже в непонятных и запутанных речах этого человека было что-то, подействовавшее на меня странно, но совсем не неприятно.
– Да, ты, конечно, можешь быть спокойна и невозмутима, – сказала принцесса со слезами на глазах, – а мне раздирает сердце насмешка этого ужасного человека. Скажите, Бенцон, кто он? Кто этот сумасшедший?
– Я объясню вам все в двух словах, – сказала Бенцон. – Пять лет тому назад, когда я…
(М. пр.) …убедивший меня в том, что у истинных поэтов сыновняя любовь и сострадание совмещаются с угнетением ближних.
Мечтательность, к которой часто бывают склонны молодые романтики, когда в глубине их душ происходит борьба великих и возвышенных мыслей, влекла меня к уединению. Долго не посещал я крыши, чердака и погреба. Я ощущал те же тихие, идиллические радости, как некий поэт, живший в маленьком домике на берегу ручья, осененного плакучими ивами и березами. Я остался у печки, предавшись своим мечтам.
Так и случилось, что я не видел больше Мины, моей нежной и прекрасной пестрой мамаши. Я нашел отраду и утешение в науках. В них столько прекрасного! Приношу мою горячую благодарность придумавшему их благородному человеку. Насколько лучше и полезнее это открытие, чем изобретение того ужасного монаха, который первый начал делать порох, – вещь, противную мне по самому существу. Потомство заклеймило насмешливым почитанием этого варвара, этого адского Бартольда. В наше время, когда хотят высоко поставить какого-нибудь остроумного ученого, проницательного сатирика или исключительно образованного человека, то говорят: «Он не выдумает пороха!»
В поучение многообещающей кошачьей молодежи я не могу оставить без внимания тот факт, что, желая заниматься, я вскакивал обыкновенно с зажмуренными глазами в библиотеку моего господина, вытаскивал оцарапанную при этом книгу и прочитывал ее, каково бы ни было ее содержание. Развиваясь таким способом, мой ум получил разнообразие и многосторонность, накопив познания, блеску и пестроте которых будет удивляться мое потомство. Я не буду перечислять книг, прочитанных мною в этот период поэтической мечтательности, отчасти потому, что для этого найдется, быть может, более подходящее место, отчасти же потому, что я забыл названия книг, – и это случилось, вероятно, оттого, что я большею частью не читал названий и потому их не знаю. Всякий останется доволен этим объяснением и не станет обвинять меня в библиографическом легкомыслии.
Меня ожидали новые открытия.
Однажды, когда мой господин углубился в большой фолиант, развернутый перед ним, я был под его письменным столом и лежал на листе прекрасной бумаги, упражняясь в греческом письме, которое пришлось мне как раз по лапе. В это время быстро вошел молодой человек, которого я уже много раз видел у хозяина. Он обращался со мной с дружеским уважением и даже с известным почтением, воздаваемыми обыкновенно признанному таланту и несомненному гению, так как не только говорил мне всегда: «Здравствуй, кот», но даже слегка щекотал меня между ушами и нежно гладил по спине. Это обращение очень радовало меня, так как я заключал из него, что свет признает мои дарования.
Но в этот раз все случилось иначе.
Против обыкновения рядом с молодым человеком прыгало косматое черное чудовище со сверкающими глазами; оно вбежало прямо в дверь и, увидев меня, прыгнуло прямо ко мне. Я почувствовал неописуемый ужас. В одно мгновение был я на письменном столе моего господина и издавал оттуда жалобные звуки. Вдруг чудовище вскочило на стол, производя при этом страшнейший шум. Мой добрый господин, испугавшись за меня, взял меня в руки и завернул в свой халат. Но молодой человек сказал:
– Не беспокойтесь, мейстер Абрагам, мой пудель никогда не обижает кошек, он только играет. Посадите сюда кота и порадуйтесь на то, как будут знакомиться мой пудель и ваш кот.
Хозяин хотел меня посадить, но я начал горько жаловаться, чем добился по крайней мере того, что он посадил меня на стуле, рядом с собой.
Ободренный близостью хозяина, я сел на задние лапы, свернул хвост и принял позу, достоинство и благородство которой должны были импонировать моему мнимому черному противнику. Пудель сел на пол против меня. Он, не двигаясь, смотрел мне в глаза и произносил отрывистые слова, которые мне были непонятны. Мало-помалу страх мой прошел, я успокоился и увидел, что глаза пуделя выражают добродушие и прямоту. Невольно начал я выражать доверчивое настроение моей души мягкими движениями хвоста то в ту, то в другую сторону; также и пудель сейчас же начал самым приятным образом махать своим коротким хвостом.
О, мы поняли друг друга: нельзя было сомневаться в созвучии наших чувств. «Почему, – говорил я себе, – почему испугал тебя необычный вид этого незнакомца? Что выражают эти прыжки, это тявканье, этот шум, эта беготня, этот вой, как не свободную радость жизни порывистого, сильного и подвижного юноши? О, под этой черной шкурой бьется добродетельное пуделиное сердце!» Под влиянием этих мыслей я решил сделать первый шаг к более тесному сближению наших душ и хотел сойти со стула моего господина.
Как только я поднялся, пудель вскочил и с громким лаем забегал по комнате. Это было выражение прекрасного, здорового чувства! Бояться было нечего. Я сошел со стула и тихими шагами приблизился к моему новому другу. Мы начали тот акт, который символически выражает первое распознавание сродных душ, заключение союза, проистекающего из глубокого чувства. Недальновидные и грубые люди называют его пошлым и неблагородным словом «обнюхиванье». Мой черный друг выразил желание поесть куриных костей, которые лежали на моем блюдечке. Я дал ему понять, как умел, что светское воспитание и вежливость требуют того, чтобы я его угостил. Он ел с большим аппетитом, в то время как я сидел в стороне. Хорошо, что я унес жареную рыбу и спрятал ее под свою постель. После обеда мы начали самые милые игры. Мы дружески обнимались, кубарем скатывались друг через друга и клялись во взаимной дружбе и верности.
Я не знаю, что могло быть смешного в этой встрече прекрасных душ, в этом обмене сердечных юношеских чувств. Тем не менее мой господин и незнакомый молодой человек хохотали во все горло, к моей немалой досаде.
Новое знакомство произвело на меня такое сильное впечатление, что в тени и на солнце, на крыше и под печкой я не мечтал ни о ком, кроме пуделя, пуделя и пуделя. В блестящих красках предстала передо мной пуделиная натура, и это знакомство породило глубокомысленное сочинение, о котором упоминалось уже выше: «Мысль и догадка, или Кот и собака». Нравы, обычаи и язык обеих пород ставил я в глубокую зависимость от особенностей натуры и доказывал, что обе они – только два различных луча, отраженных одной и той же призмой. Я прекрасно уловил характер языка и доказывал, что вообще язык есть только символическое изображение природного принципа, выраженное в звуках; поэтому может быть только один язык, – и кошачий язык, так же как и собачий в особом – пуделином – диалекте, суть ветви одного дерева, вследствие чего и поняли сразу друг друга вдохновенные кот и собака. Чтобы уяснить это положение, я привел много примеров из обоих языков и обратил внимание на сходные корни – бау-бау, мяу-мяу, блаф-блаф-ауау, корр-курр, птси-пшрци и т. д.
Окончивши книгу, я почувствовал непреодолимое желание действительно изучить пуделиный язык, что удалось мне, однако, не без труда при помощи моего нового друга, пуделя Понто, так как пуделиный язык очень труден для котов. Но гений везде найдет пути. Эту гениальность признает один знаменитый человеческий писатель, уверяющий, что для того, чтобы говорить на иностранном языке со всеми особенностями народа, для которого этот язык является родным, нужно быть по меньшей мере дураком. Мой господин думал, вероятно, то же и допускал в иностранных языках только научные познания, противопоставляя их разговору, под которым подразумевал уменье разговаривать о пустяках на иностранном языке. Он заходил так далеко, что считал французский язык наших придворных дам и господ за своего рода болезнь, которая обнаруживалась такими же опасными симптомами, как каталепсические припадки. Я слышал, как он поддерживал это бессмысленное мнение в присутствии самого княжеского гофмаршала.
– Извините меня, ваше превосходительство, – говорил мейстер Абрагам, – но вы можете наблюдать за собой сами. Не наградило ли вас небо прекрасным звучным голосом? Когда же вы говорите по-французски, вы начинаете шептать, шипеть, свистеть, причем приятные черты вашего лица страшно искажаются, и вся ваша прекрасная и строгая внешность портится странными конвульсиями. Что же означает это все, как не возрастающие признаки какой-то роковой болезни?
Гофмаршал очень смеялся, и гипотеза мейстера Абрагама о болезни иностранных языков была в самом деле смешна.
Один остроумный учитель советует в какой-то книге стараться думать на иностранном языке, который желаешь изучать. Совет этот прекрасен, но последствия его бывают иногда опасны. Я очень скоро научилася думать по-пуделиному, но так углубился в эти мысли, что начал забывать свой собственный язык и не понимал, о чем я думаю. Эти непонятные мысли я большей частью излагал на бумаге. Я удивляюсь глубине этих замечаний, которые я собрал под названием «Акантовых листьев»; я их и теперь еще не понимаю.
Я думаю, что эти краткие разъяснения относительно истории моих юношеских месяцев дают читателю ясное представление обо мне в настоящем периоде и в прошлом.
Но не могу оторваться от самой цветущей поры моей замечательной и разнообразной жизни, не упомянув еще об одном случае, составляющем переход к более зрелым годам. Кошачья молодежь узнает из этого, что розы не бывают без шипов, что и возвышенные умы встречают много препятствий в жизни, и что на их дороге лежит немало камней, о которые они ранят себе лапы. А боль от этих ран бывает очень и очень чувствительна.
Вероятно, читатель, ты почти позавидовал моей счастливой юности и благодетельной звезде, которая меня оберегала. Родившись от честных, но бедных родителей, близкий к ужасной смерти, попадаю я вдруг в роскошь, в богатейшие залежи литературы! Ничто не мешает моему образованию, ничто не задерживает моих склонностей; гигантскими шагами иду навстречу совершенству и стою гораздо выше своего времени. И вдруг меня настигает таможенный чиновник и требует дань, которая губит все дело.
Кто мог бы подумать, что под узами нежнейшей дружбы скрываются шипы, нанесшие мне впоследствии жестокие раны?
Каждый, у кого бьется в груди такое же чувствительное сердце, как у меня, легко поймет из того, что сказал я о моих отношениях с пуделем Понто, чем стал он для меня, и все же – он был первым поводом к катастрофе, которая могла бы меня погубить, если меня бы не охранял дух великого предка.
Да, читатель, у меня был предок, без которого я, по всей вероятности, не мог бы существовать, – великий и замечательный предок, мужчина в чинах, с влиянием, с обширной ученостью, необыкновенно добродетельный, утонченно гуманный, изящный, с передовыми вкусами, – мужчина, который… Но теперь я замечаю об этом только вскользь, после я уделю гораздо больше места тому, кто был не кто иной, как знаменитый премьер-министр Гинц фон Гинценфельд, так высоко ценимый и уважаемый всеми под именем Кота в сапогах.
Как я уже сказал, впереди еще будет речь об этом благороднейшем из котов.
Могло ли быть иначе? Когда я научился легко и красиво выражаться по-пуделиному, то о чем же я мог говорить с другом Понто? Конечно, о том, что было для меня всего важнее, то есть о себе самом и о своих произведениях. Так случилось, что я стал известен своими необыкновенными способностями, гениальностью и талантом, но, к моему немалому огорчению, я открыл, что ветреное легкомыслие и некоторая кичливость делали для юного Понто невозможными успехи в науке и искусствах. Вместо того, чтобы удивляться моим познаниям, он уверял, что не понимает, как мог я заниматься такими вещами, и что по части искусств он с своей стороны ограничивается тем, чтобы прыгать через палку и приносить из воды фуражку своего господина; относительно же наук он был того мнения, что этим можно только расстроить себе желудок и испортить аппетит.
Во время одного из таких разговоров, когда я старался научить добру моего легкомысленного друга, случилось нечто ужасное. Не успел я оглянуться, как…
(М. л.) – Да, – возразила Бенцон, – вашим фантастическим сумасбродством и леденящей иронией вы всегда будете вызывать у всех только беспокойство и путаницу, – словом, вносить полный диссонанс во все существующие условные отношения.
– О дивный капельмейстер, способный производить такие диссонансы! – смеясь, воскликнул Иоганн Крейслер.
– Не смейтесь, – продолжала Бенцон, – будьте серьезны, вы не отвертитесь от меня этой горькой шуткой! Я держу вас крепко, мой милый Иоганн!.. Да, я буду звать вас этим нежным именем; все еще надеюсь, что под маской сатира скрывается нежное чувство. И, кроме того, я никогда не поверю, что странное имя Крейслер не есть контрабанда, взятая взамен совсем другой фамилии.
– Дражайшая советница, – сказал Крейслер, и в это время в лице его странно играл каждый мускул, – что вы имеете против моего честного имени? Может быть, я и носил когда-нибудь другое, но это было уже давно, и со мной случилось то же, что с подателем советов в сказке Тика «Синяя Борода». Он говорит в одном месте: «У меня было когда-то великолепное имя, но с течением времени я забыл его, и у меня осталось от него только смутное воспоминание».
– Вспомните, Иоганн! – воскликнула советница, пронизывая его сверкающим взглядом. – Вам, наверно, приходит иногда на память полузабытое имя.
– Нет, дражайшая, это невозможно, – возразил Крейслер. – Я думаю даже, что мое смутное воспоминание и я сам, и моя наружность, рассматриваемая по отношению к имени как паспорт на жизнь, – все это имело бы совершенно другой вид, если бы удалось вспомнить то приятное время, когда меня еще не было на свете. Будьте так добры, многоуважаемая, взгляните на мое простое имя в настоящем свете, и вы найдете его премилым по отношению к моему колориту и физиономии. И даже больше! Ощупайте его, разрежьте его анатомическим ножом грамматики, и его внутренний вид покажется вам еще прекраснее. Ведь невозможно, чтобы вы находили корень моего имени в слове Краус[20], а меня по аналогии с этим словом считали парикмахером, так как тогда я должен был бы подписываться Kreusler[21]. Вы не можете отступиться от слова Kreis (круг). Думайте же лучше всего о тех удивительных кругах, в которых вращается все наше бытие, и из которых мы не можем выйти, как бы мы их себе ни представляли. В этих кругах вертится Крейслер, и хорошо было бы, если бы он, утомленный прыжками виттовой пляски, которой он подвержен, и борясь с темными, непонятными силами, описывающими эти круги, мог бы почаще выскакивать на свободу, как это предписано его и без того уже слабому организму. Острая боль этого стремления и есть, может быть, та ирония, которую вы так строго осуждаете, не замечая, что сильная мать породила сына, вступающего в жизнь, как властный король. Я говорю об юморе, который не имеет ничего общего со своей развратной сводной сестрой – насмешкой.
– Да, – сказала советница, – этот юмор, эта постоянная игра необузданной и причудливой фантазии без образа и без красок есть то самое, что черствые мужчины любят представлять как нечто великое и прекрасное, высмеивая все, что нам дорого и свято. Знаете ли вы, Крейслер, что принцесса Гедвига до сих пор вне себя вследствие вашего поведения в парке? Она очень самолюбива и страдает от всякой шутки, в которой видит хоть малейшую насмешку над своей особой. Вас же, милый Иоганн, она приняла за сумасшедшего, и вы навели на нее такой ужас, что она чуть не заболела. Ведь это непростительно!
– Не больше, чем поведение какой-то незначительной принцессы, желающей импонировать своей маленькой особой незнакомому человеку, которого она случайно встретила в открытом парке своего папаши, – возразил Крейслер.
– Как бы то ни было, – продолжала советница, – ваше загадочное поведение в нашем парке могло повести к дурным последствиям. Теперь уже все улажено, и принцесса привыкла к мысли опять увидеть вас, но этим вы обязаны моей Юлии. Она одна вас защищает, находя во всем, что вы делали и говорили, только доказательство особого настроения, часто бывающего у глубоко оскорбленных или слишком восприимчивых людей. Одним словом, Юлия, которая только недавно прочла комедию Шекспира «Как вам будет угодно», сравнила вас с меланхолическим monsieur Жаком.
– О милое дитя! – воскликнул Крейслер, и на глазах его навернулись слезы.
– Кроме того, – продолжала Бенцон, – Юлия открыла в вас чудного композитора и музыканта в то время, как вы фантазировали на гитаре, пели и разговаривали. Она говорит, что в эту минуту на нее снизошел какой-то особенный музыкальный дух, и после вас она пела и играла, повинуясь непонятной силе, и была как-то особенно в голосе. Юлия никак не могла помириться с тем, что не увидит больше человека, явившегося ей в виде странного, но милого музыкального призрака, а принцесса со всей свойственной ей порывистостью уверяла, что «второе свидание с этим сумасшедшим» причинит ей смерть. Так как девушки живут душа в душу, и между ними не бывает никаких несогласий, то я могу сказать с полным правом, что эта сцена была повторением того, что было у них в раннем детстве, когда Юлия хотела бросить в камин смешного паяца, которого ей вырезали, а принцесса взяла его под свое покровительство и объявила, что он – ее любимец.
– О, – прервал Крейслер, громко смеясь, – я позволяю принцессе бросить меня в камин, как второго паяца, и уповаю на нежное сострадание милой Юлии.
– Вы должны, – продолжала Бенцон, – считать воспоминание о паяце за юмористический случай, ведь в этом, по вашей собственной теории, нет ничего дурного. Вы легко можете себе представить, что я вас немедленно узнала, когда девушки описали мне ваше появление и весь случай в парке, и для меня излишне было заявление Юлии, что она хочет увидеть вас опять: я и без этого немедленно послала бы всех людей, бывших у меня в распоряжении, чтобы обыскать парк и Зигхартсвейлер и найти вас; вы знаете, как я полюбила вас за время нашего кратковременного знакомства. Все поиски были тщетны. Я думала, что ваш след уже потерян, и потому очень удивилась, когда вы пришли ко мне сегодня утром. Юлия теперь у принцессы. Какое разногласие чувств поднялось бы сейчас, если бы девушки узнали о вашем присутствии! Что же касается объяснения того, что привело вас сюда так внезапно, то я потребую его только тогда, когда вы сами захотите сказать мне что-нибудь об этом. Я удивлена вашим появлением здесь еще и потому, что считала очень прочным ваше положение при дворе эрцгерцога.
В то время, как говорила советница, Крейслер был погружен в глубокое раздумье. Он опустил глаза и барабанил пальцами по лбу, как человек, который напрасно старается что-то вспомнить.
– Ах, – начал он, когда она замолчала, – это очень глупая история, которой почти не сто́ит рассказывать! То, что принцессе угодно было принять за бессвязные речи сумасшедшего, было основано на правде. В то время, как я имел несчастье напугать в парке эту самолюбивую особу, я действительно делал визиты; я только что посетил самого светлейшего эрцгерцога. Здесь же, в Зигхартсвейлере, я хотел делать только самые приятные визиты.
О Крейслер, – воскликнула советница с тихим смехом (она никогда не смеялась громко), – это, верно, опять какой-нибудь странный случай, которому вы предоставили полную свободу! Если я не ошибаюсь, резиденция эрцгерцога лежит по крайней мере на расстоянии тридцати часов пути от Зигхартсвейлера.
– Да, это правда, – сказал Крейслер, – но дорога идет по саду, устроенному так изящно, что даже «nous autres» можем ему подивиться. Если вы не верите, что я делал визиты, то вы легко себе представите состояние духа впечатлительного капельмейстера, обладающего голосом и гитарой. Гуляя по благоухающему лесу, по зеленым лугам, среди дико нагроможденных скал, переходя через ветхие перекладины, под которыми, пенясь, бегут лесные ручьи, и исполняя при этом соло в звучащих вокруг него хорах, он легко может зайти в уединенную часть сада. Так попал и я в княжеский зигхартсвейлерский парк; ведь он не что иное, как микроскопическая часть большого парка, раскинутого самой природой. Но нет, дело было иначе! Я только что слышал от вас, что вы снарядили веселую охоту, желая поймать меня в лесу, как дичь; и тут в первый раз понял я необходимость моего пребывания здесь, – необходимость, которая привела бы меня сюда, даже если бы я продолжал свой неверный бег. Вы сказали, что знакомство со мной было вам дорого. Разве при этом не должны были прийти мне на ум те роковые дни заблуждения и несчастья, когда нас свела судьба? Вы видели тогда, что я бросался то туда, то сюда, не находя себе выхода, с растерзанным сердцем. Вы приняли меня приветливо и, раскрывши надо мной светлое, безоблачное небо спокойной, замкнутой в себе женственности, задумали меня утешить; вы осуждали и в то же время извиняли безумие моих поступков, объясняя их безутешным сомнением, и вырвали меня из обстановки, которую я сам должен был признать двусмысленной, ваш дом был дружеским и мирным убежищем, где я, уважая ваше тихое горе, забывал свое собственное. Ваши веселость и мягкость действовали на меня, как благодетельное лекарство, несмотря на то, что вы не знали моей болезни. Но меня мучило не то, что угрожало разрушить мое положение в свете. Давно желал я порвать с тем, что меня пугало и стесняло, и потому не мог сетовать на судьбу, совершившую то, что я сам не имел силы и духу исполнить. Нет! Когда я почувствовал себя свободным, меня охватило то беспокойство, из-за которого так часто с ранних лет я находился в разладе с самим собою. Это не то стремление, которое, – как прекрасно говорит поэт, – берет свое начало из высшей жизни духа: оно вечно, оно не может умереть, потому что никогда не может быть удовлетворено. Нет, безумное желание влечет меня вперед, к чему-то, чего я ищу вне себя в непрестанном стремлении, хотя оно живет в глубине моей души, как смутная тайна, как загадочный сон о рае высочайшего блаженства, который даже нельзя назвать сном, но можно только предчувствовать, и это предчувствие терзает меня муками Тантала. Еще в детстве это чувство часто овладевало мной так внезапно, что среди веселых игр с товарищами я вдруг убегал в лес, бросался там на землю и неутешно рыдал и плакал, несмотря на то, что был перед тем всех глупее и необузданнее. Позже я научился побеждать себя, но я не могу описать своих мук, когда среди самой веселой обстановки, в кругу милых, доброжелательных друзей, наслаждаясь искусством, в те самые минуты, когда так или иначе удовлетворялось мое тщеславие, вдруг все начинало казаться мне ничтожным, бесцветным и мертвым, и я чувствовал себя в мрачной пустыне. Есть только один светлый ангел, имеющий силу над этим злым демоном: это – дух музыки; часто встает он победоносно из глубины моей души, и перед его могучим голосом умолкают все скорби земной юдоли…
– Я всегда, всегда думала, – прервала его советница, – что музыка действует на вас сильно и пагубно. Во время исполнения какого-нибудь прекрасного произведения все ваше существо как будто проникалось им насквозь, вы менялись в лице, бледнели и не могли выговорить ни слова, только вздыхали и плакали, а потом осыпали самыми горькими, оскорбительными насмешками всякого, кто хотел сказать хоть одно слово против исполненного вами произведения. Даже когда…
– О милейшая советница, – прервал Крейслер советницу Бенцон, причем вся его прежняя серьезность и глубокое волнение исчезли, и он принял свойственный ему иронический тон. – Это все уже изменилось! Вы не знаете, как я был скромен и приличен при эрцгерцогском дворе. Я могу теперь с величайшим спокойствием и приятностью отбивать такт в «Дон-Жуане» или «Армиде», а потом приветливо кивать первой певице, когда она в необычайной каденце взбирается на вершину звуковой лестницы; когда гофмаршал шепчет мне после «Времен года» Гайдна: «C’était bien ennuyant, mon cher maître de chapelle!»[22], – я могу, улыбаясь, склонять голову и многозначительно брать щепотку табаку, я могу даже терпеливо слушать, когда считающий себя знатоком искусства камергер и спектакельгер доказывает мне, что Моцарт и Бетховен ни черта не понимали в пении, и что Россини, Пучитта и как там еще зовут всех этих человечков, поднялись à la hauteur[23] всей оперной музыки. Да, многоуважаемая, вы не знаете, как много приобрел я во время моего капельмейстерства, а главное – вполне убедился в том, как хорошо бывает, когда артист поступает на службу; черт и его бабушка могли бы поддержать это мнение вместе с гордыми и кичливыми людьми. Заставьте любого композитора сделаться капельмейстером или музыкальным директором, стихотворца – придворным поэтом, художника – придворным портретистом, и у вас скоро не будет в государстве бесполезных фантазеров, а только полезные граждане с хорошим образованием и мягкими нравами!
– Тише, тише! – воскликнула советница. – Остановитесь, Крейслер; ваш конь опять начинает бунтовать на обычный лад! Остальное я подозреваю, но хочу теперь знать подробно, какой неприятный случай заставил вас поспешно бежать из резиденции, так как все обстоятельства вашего появления в парке свидетельствуют о бегстве.
– А я могу вас уверить, – спокойно сказал Крейслер, не спуская глаз с советницы, – что неприятный случай, изгнавший меня из резиденции, лежал во мне самом независимо от всех внешних условий. То самое беспокойство, о котором я говорил, овладело мной сильнее, чем когда-либо, и я больше не мог там оставаться. Вы знаете, как я радовался моему капельмейстерству при дворе эрцгерцога. Я имел глупость думать, что, живя искусством, я успокоюсь и укрощу своего внутреннего демона. Из того немногого, что я сказал вам о моем пребывании при дворе, вы можете видеть, как сильно я ошибался. Избавьте меня от описания того, как эта мелкая игра со святым искусством, которой я вынужден был заниматься, все эти глупости бездушных кропателей и безвкусных дилетантов и глупая светская жизнь с ее искусственными куклами все больше и больше убеждали меня в жалком ничтожестве моего существования. Однажды утром мне пришлось явиться к эрцгерцогу, чтобы поговорить о моем участии в празднествах, которые должны были наступить через несколько дней. Директор театра, конечно, тоже присутствовал и напал на меня с разными бессмысленными и безвкусными распоряжениями, которым я должен был подчиниться. Это касалось преимущественно им самим сочиненного пролога, для которого я должен был написать музыку. «Так как на этот раз, – говорил он эрцгерцогу, бросая на меня искоса злые взгляды, – речь будет идти не об ученой немецкой музыке, а о прекрасном итальянском пении, то я сам сочинил несколько мелодий, которые нужно хорошенько обработать». – Эрцгерцог не совсем согласился, но счел уместным поставить мне на вид, что он ожидает от меня дальнейшего развития, если я буду усердно изучать новейших итальянцев. Как жалок я был в ту минуту! Я глубоко презирал себя самого, и все это показалось мне справедливой карой за мое глупое, детское долготерпение. Я оставил дворец с тем, чтобы никогда больше не возвращаться. В тот же вечер хотел я подать в отставку; но даже и это решение не могло меня успокоить, так как мне казалось, что я уже изгнан тайным остракизмом. Я взял из экипажа гитару, приготовленную для иного употребления, а экипаж отправил назад, как только выехал из ворот, сам же ушел на свободу и шел все вперед и вперед. Солнце уже садилось, все темнее и шире ложилась тень от горы и от леса. Невыносима, мучительна была для меня мысль, что я должен вернуться в резиденцию. «Какая сила тянет меня назад?» – громко воскликнул я. Я узнал, что был на дороге в Зигхартсвейлер, и вспомнил о старом мейстере Абрагаме, от которого за день перед тем получил письмо, где он, догадываясь о моем положении в резиденции, писал, чтобы я оттуда ушел, и приглашал меня к себе.
– Как, – прервала советница Крейслера, – вы знаете этого удивительного старика?
– Мейстер Абрагам, – продолжал Крейслер, – был лучшим другом моего отца, он мой учитель и отчасти воспитатель… Итак, многоуважаемая, теперь вы знаете, как пришел я в парк доброго князя Иринея, и больше не будете сомневаться, что при случае я умею рассказывать вполне спокойно, с надлежащей исторической точностью и так приятно, что мне самому делается страшно. Вообще вся история о моем бегстве из резиденции кажется мне, как я уже сказал, такой глупой и ничтожной, что нельзя даже говорить о ней, не впадая в некоторую слабость. Не можете ли вы воспользоваться этим маленьким случаем наподобие компресса, действующего против спазм, чтобы успокоить испуганную принцессу? Подумайте о том, что станется с честным немецким музыкантом, которого, как только он надел шелковые чулки и удобно поместился в хорошей карете, обратили в бегство Россини и Пучитты, Павези и Фиоравенти, и бог весть еще какие «итты» и «ини». Не может же он оставаться особенно рассудительным. Итак, я надеюсь, что вы меня простите. А как поэтическое заключение этого скучного приключения примите то, что в ту минуту, когда я хотел бежать, бичуемый злым демоном, меня приковали к месту самые сладостные чары. Демон злорадно старался омрачить глубочайшую тайну моей души, но вот шевельнул крылами дух музыки, и от этого мелодического шелеста проснулись надежда, утешение, даже сладостное стремление, которое и есть вечная любовь и восторг вечной юности. То пела Юлия!
Крейслер замолчал. Бенцон ждала дальнейшего рассказа, но так как капельмейстер, казалось, погрузился в глубокое раздумье, она спросила его с холодной приветливостью:
– Вы в самом деле находите приятным пение моей дочери, милый Иоганн?
Крейслер порывисто встал, но то, что он хотел сказать, исторгло только вздох из глубины его души.
– Это мне очень приятно, милый Крейслер, – сказала Бенцон. – Юлия может научиться у вас многому по части пения; вы, конечно, здесь остановитесь; я считаю это уже решенным делом.
– Многоуважаемая… – начал Крейслер, но в эту минуту открылась дверь, и вошла Юлия.
Когда она увидала капельмейстера, ее милое личико просияло нежной улыбкой, и с уст слетело тихое восклицание.
Бенцон встала, взяла капельмейстера за руку и повела его навстречу Юлии, говоря:
– Вот, дитя мое, тот странный…
(М. пр.) …юный Понто бросился на мою новую рукопись, лежавшую около меня, схватил ее в зубы и стал носиться по комнате; при этом он злорадно улыбался, и это одно уже могло бы убедить меня в том, что это не простая юношеская шалость; в игре его было нечто другое. Скоро все объяснилось.
Дня через два к мейстеру Абрагаму пришел человек, у которого служил молодой Понто. Как узнал я впоследствии, это был господин Лотарио, профессор эстетики в зигхартсвейлерской гимназии. После обычных приветствий профессор посмотрел вокруг и сказал, глядя на меня:
– Не могу ли я попросить вас, мейстер, удалить из комнаты вашего кота?
– Зачем? – спросил мейстер. – Вы всегда охотно терпели кошек, профессор, особенно же моего любимца, красивого и умного кота Мура.
– Да, – сказал профессор и саркастически улыбнулся. – Красивый и умный, это правда! Но все-таки сделайте мне удовольствие и удалите вашего любимца, так как я хочу говорить с вами о вещах, которых он не должен слышать.
– Кто? – воскликнул мейстер Абрагам, с удивлением глядя на профессора.
– Ваш кот, – отвечал профессор. – Я прошу вас, не спрашивайте меня больше, но сделайте то, о чем я вас прошу.
– Это интересно, – сказал мейстер, отворяя дверь кабинета, и позвал меня. Я пошел на его зов, но затем незаметно прокрался назад и забился на нижнюю полку книжного шкапа, откуда, никем не замеченный, мог видеть всю комнату и слышать каждое слово, которое могло быть сказано.
– Ну, – сказал мейстер Абрагам, садясь в кресло против профессора, – хотел бы я знать, что это за тайна, которая должна быть скрыта от моего честного кота Мура.
– Скажите мне прежде вот что, – начал профессор очень серьезно и глубокомысленно. – Многие думают, что при одном только телесном здоровьи, без природных способностей ума, талантов и гениальности можно посредством особенно правильного воспитания создать в короткое время из всякого ребенка, даже в детских годах, светило науки и искусства. Что думаете вы об этом положении?
– Э, – отвечал мейстер, – что же могу я о нем думать, как не то, что оно глупо и безвкусно. Легко может статься, что ребенка с хорошей памятью и приблизительно с такой же сообразительностью, как у обезьян, можно постепенно выучить многим вещам, которые он потом выложит перед учителями. Но даже если у него не будет никаких природных способностей, его внутреннее чувство воспротивится этой нечестивой процедуре. Ну кто же и когда назовет такого глупого малого, откормленного всеми съедобными крохами науки, ученым в настоящем смысле слова?
– Свет! – порывисто воскликнул профессор. – Весь свет! О, это ужасно! Вся наша вера в высшую природную силу духа, которая одна создает ученых и художников, летит к черту из-за этого безбожного, глупого принципа!
– Не горячитесь, – улыбаясь сказал мейстер, – насколько я знаю, в нашей доброй Германии был выставлен только один продукт этой методы воспитания, мир довольно долго говорил о нем и потом все-таки увидал, что продукт не особенно удался. Притом цветущая пора этого препарата наступила в тот период, когда вошли в моду вундеркинды, которые, как хорошо выученные собаки и обезьяны, показывали свое искусство за дешевую входную плату.
– Так говорите вы теперь, мейстер Абрагам, – начал профессор, – и вам можно было бы верить, если б не знать, что вы – неисправимый шутник, и что вся ваша жизнь представляет ряд удивительных экспериментов; признайтесь, что вы в тишине и в полнейшей тайне совершали эксперименты в духе вышеупомянутого принципа, но вы хотели перещеголять изобретателя того препарата, о котором была речь; вы хотели, когда все будет сделано, явиться с вашим воспитанником и повергнуть в удивление и в сомнение весь мир и всех профессоров. Вы хотели совершенно испортить прекрасное правило «non ex quivis ligno fit Mercurius»[24]. Quivis (всякий) уже налицо, а на место Меркурия – кот!
– Что вы говорите? – громко смеясь, воскликнул мейстер. – Что вы говорите? Кот?
– Если я не ошибаюсь, – продолжал профессор, – то вы испробовали у себя в комнате над котом особый метод воспитания, вы научили его читать и писать и преподавали ему науки так, что теперь он начинает уже разыгрывать автора и даже пишет стихи.
– Однако, – сказал мейстер, – со мной в самом деле никогда не случалось ничего глупее этого. Я воспитывал моего кота и преподавал ему науки! Скажите, профессор, какие сны бродят в вашей голове? Уверяю вас, что я ровно ничего не знаю об образовании моего кота и считаю это совершенно невозможным.
– Да? – протяжно спросил профессор, вынув из кармана тетрадь, в которой я сейчас же узнал рукопись, похищенную у меня молодым Понто, и затем прочел:
Стремление к высокому
О, что за чувство грудь мою томит! К чему восторги сладостных волнений? Или мой дух одним прыжком спешит Достичь туда, куда стремится гений? О чем и мысль, и сердце говорит? Что значит буря пламенных стремлений? Что в глубине души моей кипит? Чем бьется сердце, полное томлений? Стремлюсь туда, в волшебный, дивный край, Язык в цепях, ни слова нет, ни звука… Но кончится, я знаю, сердца мука: Весна идет! Надежды сладкий рай Открылся мне; восторгом упоенный, Несусь вперед, надеждой окрыленный.Я надеюсь, что благосклонный читатель вполне признает совершенство этого прекрасного сонета, вылившегося из глубины моей души, и будет еще более удивлен, когда узнает, что это – первый сонет в моей жизни. Однако профессор прочел его так скверно и бесцветно, что я насилу узнал себя и в порыве внезапного самолюбивого гнева, свойственного молодым поэтам, хотел было выскочить из моего укромного уголка, броситься в лицо профессора и дать ему почувствовать остроту моих когтей. Но мысль о том, что я буду сильно раскаиваться, если профессор и хозяин меня заметят, заставила меня побороть свой гнев. Все же я невольно издал урчащее мяуканье, которое непременно бы меня выдало, если бы в то время, как профессор кончил сонет, хозяин не разразился громким смехом, что было мне еще более неприятно, чем неумелое чтение профессора.
– Ого! – воскликнул хозяин. – Вероятно, этот сонет вполне достоин кота, но я все-таки не понимаю вашей шутки, профессор; скажите же мне прямо, мой милый, чего вы хотите?
Профессор молча перелистывал рукопись и начал читать дальше:
Рассуждение
Всюду к нам любовь приходит, Дружба ищет тишины, Быстро нас любовь находит, Дружбу мы искать должны. Томно жалобные звуки Слышу я со всех сторон. Что в них: радость или муки? Что сулит их нежный стон? То не греза ли? Не сон? Так я часто вопрошаю. И, душой воспрянув вновь, Я разумно отвечаю: Крышу, погреб наполняя, Всюду царствует любовь. Но любовное мученье Долго сердце не томит, Раны страсти заживит Тишина уединенья, В ней приходит исцеленье. Милой кошечки любовь Разве может долго длиться? Прочь от этих злых оков! Лучше с пуделем укрыться К печке, в дружбы мирный кров. Да, нельзя…– Нет, друг мой, – прервал хозяин читающего профессора, – вы положительно хотите вывести меня из себя! Не знаю, вам или другому хитрецу вздумалось пошутить, сочинив стихи в духе кота, долженствующего изображать моего доброго Мура, и вот вы угощаете меня этим все утро. Шутка эта, впрочем, невинная и могла бы очень понравиться Крейслеру: он не упустил бы случая устроить при этом маленькую охоту, в конце которой вы сами очутились бы в положении затравленного зверя.
Профессор сложил рукопись, серьезно посмотрел в глаза мейстеру Абрагаму и сказал:
– Эти листы принес мне несколько дней тому назад мой пудель Понто, который, как вам известно, состоит в дружбе с вашим Муром. Он принес рукопись в зубах, как он привык носить все остальное, но положил мне ее на колени в нетронутом виде, чем ясно дал мне понять, что она могла к нему попасть только от его друга Мура. Как только я на нее взглянул, меня поразил ее странный, своеобразный почерк; когда же я начал читать, то не знаю уж, каким непонятным образом пришла мне в голову странная мысль, что все это мог написать сам кот Мур. Мой разум и известный жизненный опыт, от которого никто из нас не может отделаться и который в конце концов и есть тот же самый разум, – все это говорило мне, что идея моя бессмысленна, так как кот не может ни писать, ни сочинять стихов, но я никак не мог отделаться от этой мысли. Я решил наблюдать за вашим котом и, зная от моего Понто, что Мур проводит много времени на вашем чердаке, я вынул несколько кирпичей из своего чердака, так что мог свободно смотреть в ваше слуховое окно. И что же я увидел? Слушайте и удивляйтесь: в отдельном углу чердака сидит ваш кот; расположившись перед маленьким столиком с бумагой и письменными принадлежностями, он сидит и трет себе лапой то лоб, то затылок, проводит ею по морде, обмакивает перо в чернила и пишет, затем перестает писать и мурлычет, – я ясно слышал, как он мурлычет и урчит от удовольствия, – а вокруг него лежат разные книги в переплетах, взятые из вашей библиотеки.
– Да ведь это был бы сам черт! – воскликнул хозяин. – Я сейчас посмотрю, все ли мои книги на месте!
Он встал и подошел к книжному шкапу, но, увидев меня, отступил на несколько шагов и посмотрел на меня с величайшим удивлением. А профессор воскликнул:
– Вот видите, мейстер, вы думаете, что ваш кот тихонько сидит в той комнате, куда вы его заперли, а он прокрался в книжный шкап, чтобы заниматься, а еще вероятнее – чтобы нас подслушать. Теперь он слышал все, что мы говорили, и может принять свои меры.
– Послушай, кот, – начал мейстер, остановив на мне взгляд, полный удивления, – если бы я знал, что ты, совершенно изменив своей честной натуре, действительно принялся сочинять такие странные стихи, как прочел мне сейчас профессор, если бы я мог думать, что ты в самом деле занимаешься науками, а не мышами, то я, вероятно, жестоко выдрал бы тебя за уши, или…
Тут я почувствовал невыразимый страх и, зажмурив глаза, сделал вид, что я сплю.
– Да нет же, нет, – продолжал мой хозяин, – вы взгляните только, профессор, как беззаботно спит мой честный кот, и скажите сами, неужели в его добродушной морде есть хоть что-нибудь, указывающее на те удивительные, таинственные плутни, в которых вы его обвиняете.
– Мур! Мур!
Заслышав зов хозяина, я не упустил случая ответить ему моим обычным «крр… крр…», открыть глаза, потянуться и приятнейшим образом изогнуть спину.
Профессор в гневе бросил мне мою рукопись в морду, но со свойственным мне лукавством я сделал вид, что принял это за игру, и, прыгая и танцуя, рвал бумагу так, что куски летели во все стороны.
– Ну, – сказал хозяин, – теперь уже ясно, что вы были неправы, профессор, и что ваш Понто что-нибудь напутал. Взгляните, как Мур обрабатывает стихи; ну какой же поэт способен так обращаться с своей рукописью?
– Я предупредил вас, мейстер, теперь делайте, что хотите, – возразил профессор и вышел из комнаты.
Я думал, что буря прошла мимо, но как жестоко я ошибся! К великой моей досаде, мейстер Абрагам начал противиться моему научному образованию, и, несмотря на то, что он сделал вид, будто не поверил словом профессора, я вскоре убедился, что он везде за мной следит, тщательно запирает свой книжный шкап, преграждая мне этим доступ в библиотеку, и не желает больше, чтобы я ложился на его письменном столе между бумагами, как я делал это раньше.
Итак, страдания и горе омрачили мою юность. Видеть себя непонятым и осмеянным! Что может быть ужаснее для гениального существа? Встречать препятствия там, где ожидаешь найти поддержку! Что может больше озлобить великий ум? Но чем сильнее гнет, тем больше сила сопротивления; чем больше натянута тетива, тем сильнее удар стрелы. Читать мне было запрещено, но тем свободнее творил мой дух.
В этот тяжкий период моей жизни я проводил много дней и ночей в домовых погребах, где стояли мышеловки и где поэтому собиралось много котов разных званий и возрастов.
От смелого философского ума не укроются даже самые таинственные отношения жизни к живущему: он умеет распознавать, как именно образуется из них сама жизнь. Так проходили передо мной в погребах отношения кошек и мышеловок в их взаимодействии, и мне, как коту благородного ума, стало тяжело на сердце, когда я должен был признать, какую скуку внесли в кошачью молодость эти безжизненные машины с их пунктуальными движениями. Я взялся за перо и написал бессмертное творение, которое обдумал еще раньше, под названием: «О мышеловках и их влиянии на миросозерцание и деятельность кошачества». Эта книга служила для расслабленной кошачьей молодежи зеркалом, в котором она должна была увидеть себя самое лишенной всякой инициативы, вялой, бездеятельной, спокойно смотрящей на то, как гибнут из-за сала презренные мыши. Я пробудил их от сна громовыми речами. Кроме пользы, которую должно было принести мое произведение, оно имело и для меня очень большое значение: я сам тоже никогда не мог поймать ни одной мыши; теперь же, когда я заговорил с такой силой против бездействия, никому не могло прийти в голову требовать, чтобы я показал на деле пример того геройства, о котором писал.
Этим я заключаю первый период моей жизни и перехожу к тем юношеским годам, которые соприкасаются с периодом возмужалости; но я не могу не предложить благосклонному читателю прочесть две последние строфы великолепного произведения, которое не хотел дослушать мой хозяин.
Вот они:
Да, нельзя – я это знаю — Избежать ее оков… Там, меж розовых кустов, Раздаются звуки рая: Скачет милая, играя; Жадный взор за ней следит… Но лишь только голос нежный, Призывая, прозвучит — Уж на зов она спешит. Так любовь всегда мятежна. Это сладкое томленье Может разум помутить. Беготня, прыжки, круженье Скоро могут утомить. Тихой дружбой лучше жить. Ты, кого я разумею, Я найти тебя сумею, За тобой я с вышины Брошусь, лапок не жалея. Дружбу мы искать должны.(М. л.) …вечером был он в таком веселом и приятном настроении, в каком давно уже его не видали. Благодаря этому, случилась неслыханная вещь. Вместо того, чтобы убежать и спрятаться подальше, как он делал это обыкновенно в подобных случаях, он очень спокойно и даже с добродушной улыбкой прослушал скучнейший и длиннейший вступительный акт ужасной трагедии в переводе некоего розового и прекрасно завитого поручика.
Когда же автор, прочтя свое произведение со всеми замашками счастливого поэта, спросил капельмейстера, что думает он об его стихах, этот последний со светлым лицом, выражающим глубочайший восторг, принялся уверять юного героя войны и поэзии, что его вступительный акт – настоящий лакомый кусок эстетической пищи, заключающий в себе прекрасную мысль, за гениальную оригинальность которой говорит уже то обстоятельство, что ею воспользовались раньше такие всесветные знаменитости, как Кальдерон, Шекспир и Шиллер. Поручик порывисто обнял музыканта и объявил с таинственным видом, что намерен в тот же вечер осчастливить своим прекрасным первым актом общество начитанных девиц, в числе которых будет даже одна графиня, читающая по-испански и пишущая масляными красками. Крейслер подтвердил, что это будет прекрасно, и поручик в полном восторге распрощался со своими слушателями.
– Я не могу понять, мой милый Иоганн, – заговорил маленький тайный советник, – что за кротость напала на тебя сегодня. Как мог ты так спокойно и внимательно слушать эту невозможную дрянь? Я пришел в ужас, когда поручик напал на наше беззащитное собрание и опутал нас сетями своих бесконечных стихов! С минуту на минуту ожидал я, что ты от нас уйдешь, как ты делаешь это обыкновенно при всяком удобном случае. А ты сидишь спокойно, взгляд твой выражает даже удовольствие, и под конец, когда я почувствовал себя совершенно несчастным и подавленным, ты угощаешь беднягу иронией, которой он неспособен понять, и даже не говоришь ему в виде предостережения на будущее время, что вещь его слишком длинна и требует серьезной ампутации.
– Ах, – возразил Клейслер, – ну что бы я выиграл этим плачевным советом? Разве может такой здоровенный поэт, как наш милый поручик, с пользою произвести ампутацию своих стихов? Разве они не вырастут у него снова? Или ты не знаешь, что стихи наших юных поэтов обладают свойством ящериц, у которых хвосты превесело вырастают вновь, даже если их отрезать до самого основания? Если же ты думаешь, что я спокойно слушал поручика, то ты сильно ошибаешься. Гроза прошла; все травы и цветы в маленьком саду подняли склоненные головки и жадно впивали божественный нектар, падавший отдельными каплями из покрывала облаков. Я стоял под большой цветущей яблоней и прислушивался к раскатистому голосу грома в отдаленных горах. Он звучал в моей душе, как таинственное пророчество, а я смотрел на небесную лазурь, которая, подобно сияющим очам, проглядывала там и сям сквозь бегущие облака. «Но в таком случае, – воскликнул дядя, – ты должен сидеть в комнате и не портить этой мокротой своего нового халата; ведь этак ты схватишь от сырой травы страшный насморк!» – И вот перед мной уже не дядя, а какой-то попугай или скворец, говорящий за кустом или из куста, или уж я и не знаю, кто такой, задумавший глупую шутку дразнить меня, выкрикивая на свой лад самые дорогие для меня мысли Шекспира. И этот крикун был не кто иной, как поручик со своей трагедией!.. Заметь, пожалуйста, друг мой, что воспоминание детства далеко унесло меня и от тебя, и от поручика. Я действительно чувствовал себя двенадцатилетним мальчиком и стоял в саду моего дяди, надевшего ситцевый халат, лучше которого ничего еще не снилось душе ситцевого фабриканта, – и напрасно ты, друг мой, потратил сегодня свой курительный порошок: я не чувствовал ничего, кроме аромата цветущей яблони, не ощупал даже и помады стихоплета, который мажет свою голову, не имея возможности когда-либо защитить ее от ветра и непогоды лавровым венком, ибо не смеет надевать на нее ничего, кроме войлока и кожи, предназначенных, по уставу, для военного кивера! Итак, мой милый, из нас троих только ты и был жертвенным агнцем под адским ножом трагедии. В то время как я, нарядившись в халат, с двенадцатилетним легкомыслием прыгал по саду, мейстер Абрагам, как ты видишь, истратил три или четыре листа прекрасной нотной бумаги, вырезывая разные фантастические фигуры. Значит, и он спасся от поручика.
Крейслер был прав. Мейстер Абрагам умел так искусно вырезывать из картона, что сразу нельзя было ничего разобрать в его рисунке, но если за листом поставить свечку, то тени, образующиеся на стене, составляли группы удивительных фигур. Мейстер Абрагам всегда чувствовал отвращение к чтению вслух, а вирши поручика были ему особенно не по нутру; поэтому-то и случилось, что, как только тот принялся читать, мейстер Абрагам поспешно схватил нотную бумагу, лежавшую случайно на столе у тайного советника, вынул из кармана маленькие ножницы и принялся за занятие, которое вполне защитило его от покушения поручика.
– Послушай, Крейслер, – сказал тайный советник, – в душе твоей зашевелилось воспоминание детских лет, и ему я могу приписать то, что ты сегодня так кроток и мил; послушай, дорогой друг, меня (как и всех, кто тебя любит и уважает) мучит мысль, что я ровно ничего не знаю о ранних годах твоей жизни; ты упорно уклоняешься от разговоров на эту тему и умышленно набрасываешь на свое прошлое покрывало, которое, однако, часто бывает настолько прозрачно, что подстрекает любопытство странными переливами просвечивающих картин. Будь откровенен с теми, кому ты уже подарил свое доверие.
Крейслер посмотрел на своего собеседника большими удивленными глазами, как человек, проснувшийся после глубокого сна и видящий перед собою незнакомое лицо, и начал самым серьезным тоном:
– В день св. Иоанна Крестителя, т. е. 24 января тысяча семьсот какого-то года в полдень родился некто, имевший лицо, руки и ноги. Отец его ел в это время гороховый суп и от радости пролил себе на бороду целую ложку этого варева, над чем родильница, даже не видя этого, до того хохотала, что у некоего музыканта, игравшего на лютне свои новые пьесы, лопнули все струны в инструменте, и он поклялся ночным чепчиком своей бабушки, что в музыке новорожденный Ганс Газе[25] на вечные времена останется олухом. Но тут отец мой утер себе подбородок и сказал патетическим тоном: «Иоганном его действительно будут звать, но зайцем он не будет!»… Музыкант…
– Прошу тебя, Крейслер, – прервал капельмейстера маленький советник, – не впадай ты в этот проклятый тон, от которого у меня просто захватывает дыхание. Разве я требую твоей автобиографии? Я прошу только, чтобы ты позволил мне заглянуть немного в твою прошлую жизнь, которой я не знаю. Право, ты мог бы не укорять меня за это любопытство, проистекающее из сердечного расположения к тебе. Ты мог бы извинить это. К тому же твои поступки настолько странны, что всякому приходит в голову, что только самая пестрая жизнь, полная сказочных приключений, могла образовать и вылить такую психическую форму, как твоя.
– О, какая грубая ошибка! – сказал Крейслер, вздыхая. – Моя юность подобна бесплодной пустыне, усыпляющей чувство и разум печальным однообразием.
– Ну нет, уж это-то вздор! – воскликнул советник. – По крайне мере я знаю, что в этой пустыне есть премиленький садик с цветущей яблоней, которая благоухает сильнее моего лучшего курительного порошка. А теперь, Иоганн, я надеюсь, что ты поделишься с нами воспоминаниями о твой ранней юности, которые, по твоим же словам, переполняют сегодня твою душу.
– Я тоже думаю, Крейслер, – сказал мейстер Абрагам, вырезывая тонзуру у только что оконченного монаха, – что при сегодняшнем вашем настроении вы не можете сделать ничего лучшего, как открыть ваше сердце или ваши чувства или, как могли бы вы сказать, вашу внутреннюю денежную шкатулку и кое-что оттуда вынуть. Вы уже признались, что, вопреки желанию заботливого дядюшки, бегали по дождю и суеверно прислушивались к пророчеству замирающего грома, значит – можете рассказать и больше. Только не лгите, друг мой, потому что вы знаете, что находились под моим контролем, по крайней мере в то время, когда носили первые панталоны и вам заплели первую косу.
Крейслер хотел что-то возразить, но мейстер Абрагам быстро повернулся к маленькому советнику и произнес:
– Вы не можете себе представить, до какой степени наш Иоганн предается злому духу лжи, когда он, – что бывает, впрочем, очень редко, – начинает рассказывать про свою раннюю юность. В то время, когда дети говорят только «папа» и «мама» и показывают пальцем на горящую свечку, он будто бы все уже замечал и глубоко заглядывал в человеческое сердце.
– Вы ко мне несправедливы, – сказал Крейслер кротким голосом и нежно улыбнулся. – Моглу ли я разуверять вас в чем-либо, касающемся раннего развития духа, как это делают тщеславные дураки?.. Но скажи, пожалуйста, мой милый советник, разве не случается и с тобой, что в душе твоей ясно встают моменты из того времени, которое многие умнейшие люди называют прозябанием, не желая признавать за ним ничего, кроме инстинкта, высшую степень которого мы должны признавать у животных?.. Я думаю, что тут есть особое обстоятельство… Вечно непонятным останется первое пробуждение ясного сознания!.. Если бы это случилось вдруг, то, я думаю, можно было бы умереть от страха. Кто не испытывал страха в первый момент пробуждения от глубокого сна, когда человек переходит от бессознательного состояния спящего к сознанию себя самого?.. Не желая заходить слишком далеко, я скажу, что всякое сильное психическое впечатление этого переходного времени оставляет в нас зародыш, который всходит с развитием нашего духовного роста. И так живет в нас каждая печаль или радость этих предрассветных часов, а те нежные и грустные голоса дорогих нам людей, которые мы принимаем за грезу, когда они пробуждают нас от сна, действительно существуют и звучат еще в нашей душе. Но я знаю, на что намекает мейстер. Это не что иное, как история об умершей тетушке, которою он желает меня уколоть. И вот для того, чтобы хорошенько его позлить, я именно ее-то и расскажу тебе, друг мой, если ты обещаешь мне снисходительно принять мою ребяческую чувствительность. То, что я говорил тебе про гороховый суп и про музыканта…
– О, перестань, перестань, – прервал капельмейстера тайный советник, – я вижу, что ты хочешь меня надуть, и это прескверно с твоей стороны!
– Вовсе нет, душа моя! – воскликнул Крейслер. – Я оттого только заговорил о музыканте, что он составляет естественный переход к лютне, небесные звуки которой баюкали ребенка в его сладких снах. Младшая сестра моей матери прекрасно играла на этом инструменте, давно уже сданном в музыкальный архив. Серьезные люди, умеющие писать и считать и даже знавшие еще кое-что, проливали в моем присутствии слезы, вспоминая об игре на лютне покойной мамзель Софи. Поэтому нет ничего удивительного, что я еще ребенком, почти без сознания, жадно ловил унылую скорбь волшебных звуков, выливавшуюся из глубины души музыкантши. А упомянутый выше музыкант был не кто иной, как учитель покойной, маленький человечек с необыкновенно кривыми ногами. Его звали monsieur Туртель; он носил красный плащ и белый парик с косой… Я говорю это, чтобы показать, как ясно сохранились у меня в памяти эти фигуры, и чтобы ни мейстер Абрагам, ни кто-либо иной не мог усомниться в моей правдивости, когда я стану уверять, что еще до трех лет помню себя на коленях у девушки, кроткие глаза которой смотрели мне прямо в душу, – что я и теперь еще слышу нежный голос, которым она со мной говорила и пела, и отлично знаю, что я отдавал всю свою нежность и любовь этой милой особе. Это была тетя Софи, которую называли странным уменьшительным именем «Фюсхен». Однажды я очень жаловался на то, что не вижу тети Фюсхен.
Няня принесла меня в комнату, где тетушка лежала в постели, но старик, сидевший около нее, быстро вскочил и выгнал няньку, державшую меня на руках. Скоро после этого меня одели, завернули в теплые платки и унесли в другой дом, к моим многочисленным дядям и теткам, и сказали мне, что тетя Фюсхен очень больна, и что если бы я с ней остался, то и я заболел бы. Через несколько недель меня перенесли в мою прежнюю обстановку. Я плакал, кричал к просился к тете Фюсхен, потом пошел в комнату, где она лежала, подошел к ее кровати и раздвинул полог, но кровать была пуста, и другая особа, которая тоже была моя тетка, сказала мне со слезами: «Ты не найдешь ее, Иоганн, она умерла и лежит под землей».
Я отлично знаю, что не мог понять тогда смысла этих слов, но даже теперь, вспоминая ту минуту, я содрогаюсь от неизъяснимого чувства, охватившего тогда меня. Сама смерть придавила меня своим ледяным панцырем, ужас проник в мою душу, и сразу исчезла вся моя детская радость. Я не знаю, что со мной сделалось, и, вероятно, никогда этого не узнаю, но мне часто рассказывали потом, что я медленно опустил полог, постоял несколько минут очень серьезно и спокойно, а потом сел на маленький плетеный стул, стоявший рядом, как будто я был глубоко потрясен и размышлял над тем, что мне только что сказали. К этому прибавляли, что в этом тихом горе ребенка, обыкновенно склонного к самым живым проявлениям своих чувств, было что-то невыразимо трогательное! Я несколько недель оставался в том же настроении, не плакал, не смеялся, не хотел играть, не отвечал ни на какие ласковые слова, не замечал ничего, что вокруг меня делалось.
В эту минуту мейстер Абрагам взял в руки лист, изрезанный скрещивающимися и поперечными линиями, поднял его перед горящими свечами, и на стене отразился хор монахинь, играющих на странных инструментах.
– Ого, мейстер, – воскликнул Крейслер, разглядывая прекрасно составленную группу сестер, – я отлично знаю, о чем вы хотите напомнить! И теперь еще буду я утверждать, что вы были неправы, выбранив меня и назвав беспокойным и нелепым мальчуганом, способным сбить с такта и с тона целое собрание поющих и играющих людей диссонирующим голосом своей глупости. Разве в то время, когда вы повезли меня в монастырь св. Клариссы миль за 20 или за 30 от родного города, чтобы впервые послушать настоящую католическую музыку, не имел я полного права на самое блистательное невежество, находясь в самом невежественном возрасте? Что же дурного в том, что давно забытое горе трехлетнего мальчика воскресло с новой силой в безумном порыве, наполнив мое сердце восторгом и ужасом? Разве не должен был я уверять и думать, несмотря на все увещания, что на странном инструменте, называемом морской трубой, играла не кто иная, как тетя Фюсхен, хотя я и знал, что она уже давно умерла? Зачем не позволили вы мне ворваться в хор, где я наверно нашел бы ее в знакомом зеленом платье с розовым шарфом?
Крейслер подошел к стене и проговорил взволнованным, дрожащим голосом:
– Ну да, конечно, тетя Фюсхен выше всех монахинь. Она встала на скамейку, чтобы лучше управлять своим трудным инструментом.
Но тут маленький советник закрыл собою китайские тени, взял его за плечи и сказал:
– Право, было бы умнее, Иоганн, если бы ты оставил эти странные бредни и не говорил об инструментах, не существующих на свете, так как я никогда в жизни не слыхивал о морской трубе.
– О! – смеясь, воскликнул мейстер Абрагам, бросая на стол лист бумаги, причем разом исчез весь хор монахинь вместе с химерической тетей Фюсхен и ее морской трубой. – О уважаемый друг мой, тайный советник! Господин капельмейстер теперь, как и всегда, человек разумный и спокойный, а не фантазер и не шутник, как думают про него многие. Что же тут невероятного, что музыкантша, игравшая на лютне, и после смерти с неменьшим успехом играет на странном инструменте, который, может быть, встречается еще и теперь в женских монастырях? Так вы думаете, что морская труба не существует? Откройте-ка на этом слове лексикон Коха, который стоит у вас на полке.
Тайный советник исполнил просьбу Абрагама и прочел следующее:
«Этот старинный и простой струнный инструмент состоит из трех тонких семифутовых досок, которые внизу, там, где инструмент касается пола, достигают шести или семи дюймов ширины, а наверху около двух. Доски эти соединены вместе в форме треугольника так, что корпус, имеющий наверху место для колков, постепенно суживается кверху. Одна из этих трех досок составляет деку, в которой сделано несколько отверстий, на ней же натянута одна довольно толстая кишечная струна. При игре инструмент ставят наклонно к себе, прислоняя его верхнюю часть к груди. Большим пальцем левой руки играющий слабо прижимает струну в соответствующих известному тону местах, подобно тому, как это делается на скрипке при флажолетах, а правой рукой водит по струне смычком. Своеобразный тон инструмента, похожий на звук глухой трубы, получается от подставки, через которую проходит струна. Эта подставка или кобылка, как называется она у струнных инструментов, имеет форму башмачка, который спереди очень тонок и узок, а сзади гораздо выше и толще. На задней части его лежит струна; когда по ней водят смычком и она колеблется, передняя, более легкая часть кобылки двигается вверх и вниз, и от этого происходит глухой и дребезжащий звук, похожий на трубу».
– Сделайте мне такой инструмент, мейстер Абрагам! – сверкая глазами, воскликнул советник. – Я брошу в угол мою скрипку, не буду дотрагиваться до тифона, но разудивлю весь город, играя на морской трубе!
– Хорошо, я сделаю это, – отвечал мейстер Абрагам, – и тогда, друг мой, пусть дух тети Фюсхен в зеленом тафтяном платье придет вдохновить вас своей духовной силой!
Тайный советник в восхищении обнял мейстера, но Крейслер стал между ними и сказал почти сердито:
– А разве вы не такие же злые шутники, каким прежде был я? Да к тому же и безжалостные люди! Радуйтесь, что у меня на лбу выступил холодный пот при описании этого потрясающего инструмента, и не говорите больше про музыкантшу! Ты, друг мой, хотел, чтобы я рассказал про мою юность, а мейстер Абрагам вырезывал китайские тени, подходящие к разным моментам из того времени; теперь ты, кажется, можешь быть доволен прекрасным изданием набросков моей биографии, украшенным гравюрами на меди. Когда ты читал статью из коховского лексикона, мне пришел на память его лексиконный коллега Гербер, и я вообразил себя трупом, положенным на доске для биографического вскрытия. В предисловии можно было бы сказать так: «Нет ничего удивительного, что внутри этого молодого человека по всем жилам быстро течет музыкальная кровь, так как то же самое было со многими из его кровных родственников, вследствие чего он и состоит с ними в кровном родстве». Я хочу сказать, что большинство моих дядей и теток, которых у меня было немалое количество, как знает мейстер Абрагам и как заметил и ты, занимались музыкой и, кроме того, большею частью играли на инструментах, которые и тогда уже были редки, а теперь почти исчезли, так что я только во сне могу слышать те удивительные концерты, которые слышал приблизительно до десяти или до одиннадцати лет. Может быть, оттого мой музыкальный талант и принял с самого начала то направление, склонной к своеобразной инструментовке, которое упрекают в излишней фантастичности. Если ты, друг мой, можешь слушать без слез хорошую игру на старинном инструменте viola d’amore, то благодари бога за твои крепкие нервы; я же изрядно хныкал, когда рыцарь Эссер доставлял мне это удовольствие, а когда играл на нем один из моих дядей, – высокий представительный человек, к которому необыкновенно шло духовное платье, – я хныкал еще больше. Удивительно приятна была также игра другого родственника на viola di gamba. Ему аккомпанировал на клавесине тот дядя, который меня воспитывал или, вернее, не воспитывал. Он с варварской виртуозностью владел этим инструментом, но аккомпанировал с большими недохватками в такте. Немало удивил бедняга всю семью, когда открылось однажды, что он превесело танцует менуэт à la Pompadour[26] под музыку сарабанды. Я мог бы порассказать вам еще многое о музыкальных увеселениях моего семейства, которые бывали часто единственными в своем роде, но пришлось бы говорить много такого, над чем вы смеялись бы, а выставлять вам на потеху моих достойных родственников противно respectus parentalis (родственному почтению).
– Иоганн, – сказал тайный советник, – при твоем сегодняшнем настроении ты не посетуешь на меня, если я затрону в твоем сердце струну, прикосновение к которой может причинить тебе боль. Ты все говоришь о дядях и тетях и никогда не вспомнишь про отца и про мать!..
– О друг мой, – возразил Крейслер с глубоким волнением, – еще сегодня вспоминал я… Но нет, довольно воспоминаний и снов, довольно об этой минуте, заставившей меня испытать сначала непонятную печаль моего детства, а потом дивное спокойствие, похожее на сладостную тишину леса после грозы. Вы правы, мейстер, я стоял под яблоней и прислушивался к пророческому голосу замирающего грома. А ты, мой друг, ясно представишь себе тупое оцепенение, в котором я находился после потери тети Фюсхен, если я скажу тебе, что случившаяся в это время смерть моей матери не произвела на меня особого впечатления. Я не смею сказать тебе, почему отец совершенно предоставил или должен был предоставить меня брату моей матери, ты прочтешь такие случаи во многих преступных семейных романах или в любой драме из домашней жизни. Если я прожил мое детство и значительную часть юности в тяжелом одиночестве, то это можно приписать именно тому, что у меня не было родителей. Мне кажется, что плохой отец все-таки лучше всякого хорошего воспитателя, – и у меня волосы становятся дыбом, когда родители, в бессердечном непонимании, отдаляют от себя детей и переносят их в ту или другую чуждую обстановку, где бедняжек выкраивают по известному образцу, не обращая внимания на их индивидуальность, ясное понимание которой может быть доступно только родителям. Что же касается воспитания, то никто не должен удивляться тому, что я не благовоспитан: дядя вовсе меня не воспитывал; он предоставил это учителям, которые приходили на дом, так как я не посещал никакой школы и не смел нарушать никакими знакомствами с мальчиками моих лет тишину дома, где жил мой холостяк дядя со своим старым глупым слугой. Я припоминаю только три случая, когда почти до глупости спокойный и равнодушный дядя исполнил краткий наставительный акт, давши мне пощечину; за все мое детство я получил три пощечины. Так как я склонен сегодня к болтовне, то я мог бы изобразить тебе, мой друг, историю этих пощечин, как романтическую страницу, но я расскажу только о второй. Ты, мне кажется, особенно жаден до всего, что касается моего музыкального образования; поэтому тебе небезынтересно будет, вероятно, узнать, как я в первый раз стал сочинять… У дяди была довольно обширная библиотека, из которой я мог брать все, что мне вздумается. Мне попалась под руку «Исповедь» Руссо в немецком переводе. Я жадно прочел книгу, написанную, конечно, не для двенадцатилетнего мальчика. Она могла бы заронить в мою душу семена многих бед, но только один момент из всех ее очень замысловатых приключений произвел на меня настолько сильное впечатление, что я забыл все остальное. Подобно электрическому току подействовал на меня рассказ о том, как маленький Руссо, повинуясь влечению своего музыкального духа, без всяких сведений в гармонии и контрапункте и без всяких вспомогательных средств решил сочинить оперу, как он опустил для этого занавески, бросился на постель, желая вполне предаться вдохновению, и как, подобно чудному сну, возникло его творение. День и ночь думал я об этой минуте, и мне казалось, что нет ничего выше блаженства, испытанного маленьким Руссо. Я чувствовал, что и я могу быть причастен к этому блаженству, что сто́ит мне только твердо решиться, и я попаду в этот рай, так как дух музыки говорил во мне с такой же силой, как и у Руссо. Я решил подражать моему образцу. В один ненастный осенний вечер, когда мой дядя, против обыкновения, вышел из дому, я сейчас же опустил занавески и бросился на дядину кровать, чтобы вдохновиться и сочинить оперу так же, как Руссо. Но как ни прекрасна была моя обстановка и как ни старался я предаться поэтическому вдохновению, оно упорно мне не давалось. Вместо всех чудных мыслей, которые должны были прийти мне в голову, у меня в ушах назойливо звучала старая жалобная песня, плаксивый текст которой начинался словами: «Люблю я одну лишь Исмену, Исмена не любит меня», и, как я ни старался, я не мог от нее отвязаться. «Затем идет торжественный хор жрецов на горных высотах Олимпа!» – восклицал я в душе, но в ушах у меня по-прежнему раздавалось «Люблю я одну лишь Исмену» и пело так неотвязно, что я, наконец, заснул. Меня разбудили громкие голоса, причем в нос мне лез какой-то невыносимый запах, захватывавший мне дыхание. Вся комната полна была густого дыму, и в облаках его стоял дядя. Он стаскивал остатки горящей занавески, закрывавшей платяной шкап, и кричал: «Воды! Воды!» На крик его пришел старый слуга, неся кувшин с водой, и начал лить воду на пол, чтобы затушить огонь. Дым медленно выходил в окно.
«Но где же проказник?» – спрашивал дядя, освещая комнату. Я отлично знал, кого он разумеет, и притаился в постели, как мышь, но дядя подошел и поднял меня на ноги, сердито крича: «Этот негодяй сожжет весь дом!» При дальнейших расспросах я очень спокойно объяснил, что хотел сочинить оперу, лежа в постели, как делал маленький Руссо, и потому не знаю, отчего начался пожар. «Руссо? Сочинял? Оперу? Дурак!» – возгласил дядя, задыхаясь от гнева, и присоединил к этому сильнейшую пощечину, вторую в моей жизни. Я стоял молча, совершенно ошеломленный, и в ту же минуту, в виде отголоска удара, ясно раздалось в моих ушах: «Люблю я одну лишь Исмену» и т. д. С тех пор я почувствовал живейшее отвращение как к этой песне, так и к сочинительству.
– Но отчего же произошел пожар? – спросил тайный советник.
– Я до сих пор не могу понять, – ответил Крейслер, – каким образом загорелась занавеска, а с ней погибли и прекрасный дядин халат, и три или четыре завитых тупея, которые дядя брал из парикмахерской для изучения искусства завивать парики. Но мне всегда казалось, что я получил пощечину не за нечаянный пожар, а за композиторство. Удивительно то, что дядя строго требовал, чтобы я занимался музыкой, хотя мой учитель, обманутый временным отвращением, которое я выказывал к музыке, считал меня лишенным музыкальных способностей. Вообще дяде было совершенно все равно, чему я учился или не учился, но он не раз выражал серьезное неудовольствие по поводу того, что меня трудно приучить к музыке, и потому можно было думать, что он придет в восторг, когда через два года музыкальный дух заговорил во мне с такой силой, что поглотил все остальное; но вышло совсем иначе. Дядя слегка улыбался, замечая, что я довольно искусно играю на нескольких инструментах и даже сочиняю небольшие пьески, к удовольствию мейстера Абрагама и других. Он только слегка улыбался, когда ему меня хвалили, и говорил с лукавым видом: «Да, мой маленький племянник довольно глуп».
– Для меня совершенно непонятно, – заговорил тайный советник, – почему дядя не дал воли твоей склонности и направил тебя к другой карьере. Насколько мне известно, твое капельмейстерство началось очень недавно.
– И недалеко уйдет! – со смехом воскликнул мейстер Абрагам, бросая на стену тень маленького, странно сложенного человечка. – А теперь, – продолжал он, – я должен вступиться за почтенного дядюшку, которого некий нечестивый племянник называл «дядя Эге», так как он подписывался заглавными буквами своего имени Эдуард Геллер. Я должен сказать, что если капельмейстер Иоганн Крейслер сделался посольским советником и испытал много горя, то никто не виноват в этом меньше дяди Эге.
– Ну довольно об этом, мейстер, – попросил Крейслер, – и снимите со стены дядю: он был действительно довольно смешон, но сегодня я не хотел бы смеяться над стариком, который давно уже лежит в могиле.
– Вы сегодня что-то необыкновенно чувствительны, – возразил мейстер, но Крейслер не обратил на это внимания и сказал, обращаясь к тайному советнику:
– Ты заставил меня болтать, а потому уж не сердись, если я, вместо того, чтобы рассказать тебе что-нибудь необыкновенное (как ты, может быть, ожидал), буду угощать тебя только обыденными вещами, тысячу раз повторяющимися в жизни. Несомненно то, что не воспитание и не особое упрямство судьбы, а простое течение вещей было причиной того, что я невольно шел как раз не туда, куда хотел… Заметил ли ты, что в каждой семье есть кто-нибудь, достигающий известной высоты: он играет в своем кругу роль героя; на него робко взирают любящие родственники, его повелительный голос изрекает безапелляционные приговоры. Так было с младшим братом моего дяди, который улетел из музыкального гнезда и был довольно значительной особой в качестве тайного советника посольства в резиденции при особе князя. Его возвышение повергло всю семью в немое удивление, которое никогда не проходило. Имя посольского советника произносилось с глубокой торжественностью, и когда говорилось: «Посольский советник написал» или «тайный советник выразился так или иначе», то все слушали с благоговением. Приученный с раннего детства к тому, чтобы считать дядю в резиденции существом, достигшим высшей цели человеческих стремлений, я, разумеется, находил, что лучшее, что я могу сделать, это идти по его стопам. Портрет знаменитого дяди висел в парадной комнате, и я хотел только одного – быть завитым и одетым, как дядя на портрете. Это желание исполнил мой воспитатель, и я был, вероятно, очень интересен десятилетним мальчиком в непомерно высоко завитом тупее, с волосяной сеткой, в зеленом сюртуке с серебряным шитьем, в шелковых чулках и с маленькой шпагой. Когда я стал постарше, детская прихоть обратилась в нечто более серьезное: меня можно было приохотить к самой сухой науке, если только мне говорили, что это нужно, чтобы сделаться посольским советником. Никогда не думал я, что искусство, волновавшее всегда мою душу, должно стать моим настоящим призванием и единственным назначением моей жизни, так как я привык слышать о музыке, живописи и поэзии как об очень приятных вещах, которые могут служить лишь для забавы и увеселения. Быстрота и легкость, с которой я при содействии важного дяди и с помощью своих знаний начал карьеру (я сам избрал ее), не дали мне возможности оглядеться и избрать более верный для себя путь. Цель была достигнута, отступление невозможно, но тут вдруг пришла минута, когда отмстило за себя искусство, от которого я отрекся. Меня поразила мысль о загубленной жизни, и я увидел в безутешной скорби, что заковал себя в цепи, которые невозможно разбить.
– Да будет благословенна катастрофа, освободившая тебя от этих тенет! – воскликнул тайный советник.
– Не говори этого, – возразил Крейслер, – освобождение пришло слишком поздно. Со мной было то же, что с узником, который, получив наконец свободу, почувствовал, что отвык от мирской суеты и дневного света и не может воспользоваться золотой свободой, вследствие чего вернулся в темницу.
– Это одна из тех мыслей, Иоганн, – заговорил мейстер Абрагам, – которыми вы мучите себя и других. Нечего, нечего! Судьба всегда хорошо вами распоряжалась. Никто, кроме вас, не виноват в том, что вы никогда не могли идти обычным путем и бросались то вправо, то влево от верной дороги. Но, конечно, в детские годы ваша звезда особенно сильно господствовала над вами и…
Отдел второй Жизненный опыт юноши. Бывал в Аркадии и я
(М. пр.) – Это было бы, однако, довольно глупо, но вместе с тем и замечательно, – так беседовал однажды сам с собою мой хозяин, – если бы серенький господинчик, проживающий у печки, действительно знал те науки, которые навязывает ему профессор!.. Гм… да это могло бы обогатить меня еще больше, чем моя невидимая девушка. Я посадил бы его в клетку, и он стал бы показывать свое искусство свету, который охотно заплатит за это богатую дань. Научно-образованный кот мог бы все-таки больше сказать, чем скороспелый юноша, обученный посредством разных упражнений. А если он к тому же еще и писатель… Надо хорошенько расследовать это дело!
Услышав эти ужасные слова, я вспомнил предостережения моей незабвенной матери Мины и, не показывая хозяину ни малейшим признаком, что я его понял, твердо решил тщательно скрывать мое образование. С этих пор я писал и читал только ночью и при этом с благодарностью убедился в благости провидения, которое дало нашей почтенной породе большое преимущество перед родом двуногих, называющих себя почему-то «царями природы». Могу заверить, что при своих занятиях я не нуждался ни в свечных, ни в масляных фабрикантах, так как фосфорический блеск моих глаз служил мне ярким освещением даже в самые темные ночи. По той же причине, конечно, я избегну упрека, который могут сделать многим писателям старого света; мои произведения наверно уж не будут отзываться ламповым маслом.
Несмотря на мое глубокое убеждение в высоких качествах, которыми наградила меня природа, я должен, однако, признать, что нет ничего совершенного в подлунном мире, и это отражается на многих жизненных отношениях. Я не намерен говорить о тех милых вещах, которые доктора́ называют ненатуральными, несмотря на то, что я сам считаю их вполне натуральными, я хотел только заметить, что эта зависимость очень ясно выражена в нашей психической организации. Не правда ли, что часто полет наш бывает задержан цепями, происхождение и причина коих для нас непонятны?
Но будет и лучше, и справедливее, если я скажу так: все дурное происходит от дурных примеров и от слабости нашей природы; к сожалению, мы склонны следовать дурным примерам. Я уверен также, что человеческий род особенно склонен к тому, чтобы подавать дурные примеры.
Милый юноша кот, читающий эти строки, не случалось ли тебе когда-нибудь в жизни приходить в какое-то непонятное настроение, вызывавшее со стороны твоих товарищей горькие упреки, а может быть – даже и побои? Ты был ленив, заносчив, прожорлив, ни в чем не находил удовольствия, постоянно лез туда, где тебе не следовало быть, всем тяготился, – словом, ты был невыносим. Утешься, друг мой, кот! Этот неприятный период твоей жизни зависел не от тебя, ты только платил дань управляющему нами принципу за то, что и ты следовал дурному примеру людей, которые ввели это переходное состояние. Утешься, о кот: и со мной было то же!
Среди моих ночных занятий вдруг напала на меня какая-то леность, состояние, похожее на пресыщение неудобоваримыми вещами: я беспрестанно свертывался клубком и засыпал на той книге, которую читал, или на той самой рукописи, которую писал. Эта вялость овладевала мной все больше, так что наконец я не мог больше ни читать, ни писать, ни бегать, ни прыгать, ни проводить время с моими друзьями в погребах и на крыше. Вместо этого я чувствовал непреодолимое желание делать все, что было неприятно моему хозяину и моим друзьям, чем должен был им ужасно досаждать. Что касается хозяина, то он ограничивался тем, что гнал меня прочь, так как я беспрестанно выбирал для своего отдыха места, на которые он не желал меня пускать; в конце концов он должен был меня наказать. То и дело вскакивал я на его письменный стол и так долго расхаживал по нему, что попал, наконец, кончиком хвоста в большую чернильницу и оставил прекрасные рисунки на диване и на полу. Это взбесило моего хозяина, который, по-видимому, не понимал такого рода искусства. Я выскочил на двор, но там дело пошло еще хуже. Большой кот почтенной наружности давно уже выражал неудовольствие по поводу моего поведения. Когда же я и в самом деле довольно глупо вздумал утащить у него из-под носа кусок, который он только что собирался съесть, то он надавал мне столько оплеух, что я был совершенно ошеломлен, и из обоих ушей у меня сочилась кровь. Если я не ошибаюсь, этот достойный господин приходился мне дядей, так как черты его лица напоминали Мину, и фамильное сходство было несомненно. Одним словом, я признаю, что вел себя в это время очень плохо, и хозяин часто говорил мне: «Я не знаю, что с тобой, Мур! Мне остается только думать, что ты в переходном возрасте». Хозяин был прав: это было действительно опасное переходное время, переживавшееся мною благодаря дурному примеру людей, которые, как я уже говорил, ввели это скверное состояние, как нечто присущее их натуре. Они называют этот период переходными годами, у нас же может быть речь только о переходных неделях. Я вышел из этого периода благодаря сильному толчку, который мог бы мне стоить ноги или нескольких ребер. Да, удивительно энергично выпрыгнул я из этих переходных недель!
Я должен рассказать, как это случилось. На дворе дома моего хозяина стояла некая машина на четырех колесах, роскошно выложенная внутри подушками. Как узнал я потом, это была английская коляска. Очень естественно, что при тогдашнем моем настроении мне пришла охота с трудом влезть на эту машину и забраться внутрь ее. Я нашел, что находящиеся там подушки приятны и заманчивы, и с этих пор большую часть дня спал или мечтал, лежа на них.
Сильный толчок, за которым последовали треск, топанье и фырканье, разбудил меня в ту минуту, когда передо мною носились дивные образы жареной рыбы, мяса и т. п. вещей. Кто опишет мой ужас, когда я почувствовал, что вся машина двигается вперед с оглушительным шумом, подбрасывая меня на подушках. Наконец страх мой дошел до крайней степени, я сделал отчаянный прыжок и выскочил из машины, слыша за собой насмешливый хохот адских демонов и их грубые голоса, кричащие: «Брысь, брысь!» В безумном страхе бежал я оттуда, за мной летели камни, и вот, наконец, прыгнул я в какое-то мрачное здание и повалился без чувств.
Мало-помалу я услышал, как ходят над моей головой, и заключил по звуку шагов, как это случалось мне делать и раньше, что я нахожусь под лестницей. И это было действительно так.
Когда же я вышел, – о небо! – я увидел незнакомые улицы, по которым шло множество незнакомых людей. Мало этого: везде грохотали экипажи, громко лаяли собаки, и наконец показалась целая толпа людей с оружием, сверкавшим на солнце; прямо около меня кто-то вдруг начал ужасно колотить по большому барабану, и я в невыразимом страхе невольно подскочил фута на три. Теперь увидал я, что попал в свет, тот самый свет, на который я так часто смотрел издали с моей крыши не без некоторого любопытства; теперь я очутился среди него одиноким пришельцем. Я стал гулять около самых домов вдоль улицы и наконец встретил двух юношей моей породы.
Я остановился, попробовал завязать с ними разговор, но они только взглянули на меня сверкающими глазами и, отпрыгнув, побежали дальше. «Легкомысленная молодежь, – подумал я, – ты не знаешь, кто встретился на твоей дороге. Так проходят среди толпы великие умы, непонятые и незамеченные. Это жребий мудрости у смертных!» Рассчитывая на большее участие со стороны людей, я прыгнул к открытому погребу и начал издавать самые приветливые и, как я думал, заманчивые звуки, но все проходили мимо холодно и безучастно, не глядя на меня. Наконец я заметил хорошенького кудрявого белокурого мальчика, который приветливо на меня посмотрел и, щелкнув пальцами, начал звать:
– Кис, кис!
«Прекрасная душа, ты меня понимаешь!» – подумал я и, ласково мурлыча, приблизился к мальчику. Он начал меня гладить, но потом, когда я думал дать полную волю своим нежным чувствам, он так придавил мне хвост, что я громко вскрикнул от боли. По-видимому, это особенно обрадовало негодного плута, он громко захохотал и, не выпуская меня, хотел повторить свой адский маневр. Тут вспыхнула во мне мысль о мщении, и я так глубоко запустил ему когти в руки и в лицо, что он выпустил меня, совершенно исцарапанный. Но в ту же минуту я услышал за собой:
– Тирас! Картуш! Куси, куси!
И за мной с громким лаем бросились две собаки. Я совершенно запыхался от бега, а они неслись по моим следам, и спасения не было. Обезумев от страха, вскочил я в окно нижнего этажа, так что зазвенели стекла и несколько горшков с цветами, стоявших на подоконнике, с треском упали с окна в комнату. Женщина, сидевшая у стола с работой, в испуге вскочила с места, крича:
– Ах ты, скверное животное!
Она схватила палку и хотела меня ударить. Но ее остановили мои гневно сверкающие глаза, выпущенные когти и отчаянные вопли, которые я издавал; подобно тому, как в некой трагедии, поднятая палка повисла в воздухе: она являла собой картину ярости, колеблющуюся между силой и волей. Минуту спустя открылась дверь; пользуясь случаем, я проскользнул между ногами входившего человека и был настолько счастлив, что выбежал из дома на улицу.
Совершенно обессиленный, достиг я, наконец, укромного местечка, где мог немного отдохнуть. Но тут меня начал мучить голод, и я с глубокой грустью подумал о добром мейстере Абрагаме, с которым разлучила меня злая судьба. Как найти его? Уныло смотрел я кругом, не зная, каким способом отыскать обратный путь, и горячие слезы выступили у меня на глазах.
Но вот блеснула надежда! На углу улицы заметил я приветливую молодую девушку, сидевшую у маленького столика, на котором самым заманчивым образом разложены были хлебы и колбаса. Я медленно подошел к ней; она улыбнулась, а я, желая показать свою благовоспитанность и любезность, так высоко изогнул спину, как никогда.
Улыбка ее перешла в громкий смех. «Наконец-то нашел я прекрасную и сострадательную душу! Как это сладко моему израненному сердцу!» Так думал я, стаскивая со стола одну из колбас, но в ту же минуту девушка закричала, и если бы в меня попал брошенный ею толстый кусок дерева, то я бы, вероятно, никогда больше не ел не только той колбасы, которую я стянул в надежде на человеколюбие девушки, но и никакой другой. Я употребил мои последние силы на то, чтобы скрыться от преследований недоброй девушки. Это мне удалось, и я достиг, наконец, места, где мог спокойно съесть колбасу.
После этой скудной трапезы я повеселел, а так как солнце пригрело мою шкуру, то я почувствовал, что земная жизнь прекрасна. Но когда спустилась холодная ночь, и я не нашел мягкого ложа, к которому привык у своего доброго господина, когда я проснулся на другое утро, дрожа от холода и вновь мучимый голодом, то я почувствовал безнадежность, близкую к отчаянию. «Так вот, – громко жаловался я, – вот тот свет, куда ты стремился, сидя на родной крыше! Свет, где ты надеялся найти добродетель, мудрость и утонченность высшего образования!.. О бессердечные варвары! Вся ваша сила в том, чтобы наказывать! Весь разум в насмешках! Все ваши занятия заключаются в том, чтобы преследовать глубокие чувства! Прочь, прочь из этого места лицемерия и призраков! Прими меня под свою сладостную сень, о родимый погреб! О чердак, о печка! О милое уединение! К тебе уныло стремится мое сердце!»
Мысль о моем несчастном безнадежном положении настолько овладела мною, что я зажмурил глаза и горько заплакал. Знакомые звуки коснулись моих ушей:
– Мур, Мур, дорогой друг, откуда ты, что с тобой случилось?
Я открыл глаза, передо мной стоял юный Понто.
Как ни огорчил меня Понто, но его неожиданное появление было мне утешительно. Забыв неприятность, которую он мне сделал, я рассказал ему, что со мной было, со слезами описал ему мое печальное беспомощное состояние и заключил тем, что пожаловался ему на смертельный голод.
Я ожидал возбудить его участие, но вместо того юный Понто разразился громким смехом:
– Ну не дурак ли ты, милый Мур! – сказал он наконец. – Сначала садишься ты в коляску, где тебе вовсе не место, засыпаешь в ней и пугаешься, когда она едет, потом выпрыгиваешь на свет божий и удивляешься, что тебя никто не знает, когда ты ни разу не ходил дальше двери своего дома, – удивляешься, что при твоем глупом поведении тебя везде плохо принимают, и, наконец, не умеешь найти дорогу даже к своему господину. Смотри-ка, друг мой Мур, ты всегда хвастался своими науками и образованием и вечно передо мной важничал, а теперь ты сидишь здесь, покинутый и печальный, и великие качества твоего ума не годятся даже на то, чтобы научить тебя, как утолить свой голод и вернуться к хозяину. И если бы тот, кого ты считаешь гораздо ниже себя, не принял в тебе участия, ты умер бы ужасной смертью, и ни одна живая душа не спросила бы о твоих талантах и знаниях, и ни один из писателей, с которыми ты надеялся подружиться, не сказал бы дружеского Hic jacet (здесь лежит) на том месте, где ты околел бы по своей недогадливости. Видишь, я прошел известную школу и тоже умею иногда привести латинскую цитату. Но ты голоден, бедный кот, пойдем со мной; прежде всего нужно накормить тебя.
Юный Понто весело запрыгал вперед, а я последовал за ним, убитый и уничтоженный его словами, которые казались мне очень справедливыми в моем голодном настроении. Но как же испугался я, когда……………………………………………………..
(М. л.) …для издателя этих страниц было необыкновенно приятно открыть весь замечательный разговор Крейслера с маленьким тайным советником. Таким образом он смог дать читателям хотя две картины из ранних лет удивительного человека, биографию которого он некоторым образом обязан написать. Издатель надеется, что в отношении рисунка и колорита эти картины вышли довольно характерными и значительными. После того, что рассказывал Крейслер о тете Фюсхен и ее лютне, никто не может сомневаться в том, что музыка с ее сладкой тоской и небесными восторгами пустила тысячи корней в сердце мальчика, и никто не будет удивляться, что даже при самом легком ударе из этого сердца сочилась горячая кровь. Особенно интересовали издателя два момента из жизни любимого капельмейстера, – он был на них, как говорится, помешан. Он хотел знать, как попал в его семью мейстер Абрагам, как влиял он на маленького Иоганна, и какая катастрофа выбросила достопочтенного Крейслера из резиденции, превратив его в капельмейстера, коим ему следовало бы быть с самого начала, хотя мы, впрочем, должны доверять вечной власти, которая ставит всякого в надлежащее время на надлежащее место. Многое из этого было выяснено, а что именно – это ты сейчас узнаешь, читатель.
Во-первых, не подлежит сомнению, что в Гонионесмюле, где родился и воспитывался Иоганн Крейслер, жил человек, представлявший всей своей особой и всем своим поведением нечто странное и своеобразное. Вообще городок Гонионесмюль был всегда настоящим царством чудаков, и Крейслер рос, окруженный самими странными фигурами, которые производили на него тем более сильное впечатление, что в детстве он не имел никаких сношений со сверстниками. Странный человек носил одно имя с известным юмористом, так как его звали Абрагам Лисков. Это был органный мастер, который временами очень прилежно занимался своим мастерством, иногда же так заносился в заоблачные сферы, что нельзя было хорошенько понять, чего он хотел.
По словам Крейслера, в семье его всегда говорили о Лискове с большим удивлением. Его считали артистом своего дела, но уверяли, что его странные причуды и шалости всех от него отталкивают. Тот или другой сообщал иногда как об особенно счастливом событии, что господин Лисков был у него, починил и настроил его фортепьяно. Много рассказывали о фантастических причудах Лискова, и это особенно действовало на маленького Иоганна. Никогда не видав этого человека, он совершенно ясно представил себе его, стремился к нему всей душой, и, когда дядя сказал, что господин Лисков, может быть, придет чинить его дрянное фортепиано, он спрашивал после этого каждое утро: «Когда же наконец придет господин Лисков?»
Интерес мальчика к незнакомому человеку перешел в величайшее благоговение, когда раз в соборе, который дядя его посещал очень неаккуратно, он услышал в первый раз могучие звуки органа, и дядя сказал ему, что эту великолепную вещь сделал не кто иной, как Абрагам Лисков. С этой минуты исчез и образ, созданный воображением Иоганна, и на месте его появился другой: высокий, красивый человек с важной осанкой, говорящий ясно и громко, носящий фиолетовый сюртук с широкими золотыми галунами. Такой наряд видел Иоганн на своем крестном отце, коммерции советнике, который внушал ему величайшее почтение своей роскошью.
Однажды, когда дядя стоял с Иоганном у открытого окна, через улицу перешел маленький худощавый человек в светло-зеленом сюртуке, открытые рукава которого странно развевались от ветра. На голове у него была маленькая треугольная шляпа, воинственно надетая на напудренный завитой парик, а на спине болталась длинная сетка. Он шагал так тяжело, что дрожала мостовая, и почти при каждом шаге ударял в землю испанской тростью. Поравнявшись с окном, он пристально взглянул на дядю сверкающими черными глазами и не ответил на его поклон. Маленький Иоганн весь похолодел, и в то же время ему ужасно хотелось засмеяться, только он не смог, потому что у него стеснилось дыхание.
– Это господин Лисков, – сказал дядя.
– Я так и думал, – ответил ему Иоганн и, вероятно, сказал правду.
Хотя Лисков не был высоким и важным господином и не носил фиолетового кафтана с золотыми галунами, как крестный отец Иоганна, коммерции советник, но удивительно то, что Лисков был совершенно такой, каким воображал его мальчик до того дня, как услышал орган.
Чувство Иоганна перешло в невыразимый страх, когда Лисков вдруг остановился, обернулся, прошел всю улицу до окна, отвесил дяде низкий поклон и потом убежал с громким смехом.
– Ну вот, – сказал дядя, – так ли должен вести себя серьезный человек с порядочным образованием, считающийся художником в органном мастерстве и имеющий право носить шпагу? Можно подумать, что он с раннего утра выпил или выскочил из сумасшедшего дома. Но я знаю, теперь он придет и починит фортепиано.
Дядя был прав. Лисков явился на другой же день, но не стал чинить фортепиано, а потребовал, чтобы играл маленький Иоганн. Мальчика посадили на стул, подложив под него книги, а Лисков, став против него, облокотился обеими руками на фортепиано и смотрел прямо в лицо маленькому музыканту; это настолько того смущало, что менуэты и арии, которые он разыгрывал по старым нотам, шли не особенно хорошо. Лисков слушал серьезно, но вдруг мальчик качнулся вперед и свалился под фортепиано, причем органный мастер, одним толчком выбивший у него из-под ног скамейку, разразился громким смехом.
Сконфуженный мальчик выкарабкался и встал на ноги, но в ту же минуту Лисков уже сидел за фортепиано и, схвативши молоток, так неистово заколотил им по бедному инструменту, как будто хотел разбить его на тысячу кусков.
– В уме ли вы, господин Лисков? – воскликнул дядя, а маленький Иоганн, совершенно ошеломленный и вне себя от поведения органного мастера, из всех сил дернул за крышку инструмента, так что она захлопнулась с громким шумом, а Лисков должен был быстро отскочить. Тогда мальчик воскликнул:
– Дядя, это не знаменитый художник. Это не он строит чудные органы. Это не может быть он, ведь это пустой человек, который ведет себя как глупый мальчик!
Дядя подивился смелости мальчика, а Лисков посмотрел на него очень пристально и сказал: «Да он – преинтересный господин!» Затем он тихо и осторожно открыл фортепиано, вынул свои инструменты, принялся за работу и окончил ее через два часа, не сказавши больше ни слова.
С этой минуты органный мастер стал выказывать необыкновенную любовь к мальчику. Он почти каждый день приходил к его дяде и вскоре сумел привязать к себе ребенка, раскрывши перед ним новый, разнообразный мир, в котором было свободнее его живому нраву. Не особенно похвально было то, что, когда Иоганн стал постарше, Лисков подстрекал его к престранным шалостям, часто направленным против самого дяди, который, без сомнения, давал для них богатую пищу как человек ограниченного ума со множеством смешных сторон. Не подлежит сомнению и то, что если Крейслер жалуется на печальное одиночество своего детства и описывает грустное состояние своей души в то время, то это следует приписать его отношениям к дяде. Он не мог уважать человека, который должен был заменять ему отца и казался ему смешным всеми своими поступками.
Лисков хотел совсем взять к себе мальчика, и это удалось бы ему, если бы благородная натура Иоганна не воспротивилась. Проницательный ум, глубокое чувство и необыкновенная восприимчивость составляли неотъемлемые достоинства органного мастера; что же касается его юмора, то это было не то редкое настроение души, которое проистекает из глубокого знания жизни и борьбы противоположных принципов, – здесь проявлялось только очень сильное отвращение к пошлости в соединении с талантом прилагать это чувство к жизни и потребностью некоторых диких проявлений. Отсюда вытекали язвительные насмешки Лискова и злорадство, с которым он яростно преследовал все, что считал дурным. Это-то злорадное издевательство и уязвило нежное чувство мальчика и помешало близким отношениям между ним и поистине отечески расположенным к нему другом.
Причудливый органный мастер однако много способствовал развитию глубокого юмора, бившегося в натуре мальчика и так сильно развившегося впоследствии.
Лисков рассказывал Иоганну про его отца, бывшего другом его юности, и дядюшка постоянно оставался в тени, в то время как брат его выступал в ярком свете. Так однажды органный мастер восхвалял глубокую музыкальность отца и насмехался над глупым способом, которым дядя преподавал мальчику первые элементы музыки. Иоганн, вся душа которого была проникнута мыслью о том, кто был ему всего ближе и кого он никогда не знал, готов был слушать о нем без конца. Но вдруг Лисков замолк и стал смотреть в землю, как человек, пораженный необыкновенно важной мыслью.
– Что с вами, мейстер? Что вас так взволновало? – спросил Иоганн.
Лисков встряхнулся, точно пробудившись от сна, и сказал, улыбаясь:
– А помнишь, Иоганн, как я вышиб у тебя из-под ног скамейку, и ты скатился под фортепиано, перестав разыгрывать ужасные дядюшкины арии и менуэты?
– Ах, – возразил Иоганн, – я не хочу вспоминать о том, как я вас увидел в первый раз; вы шутили и обидели ребенка!
– И ребенок был достаточно груб, – ответил Лисков. – Но никак не думал я тогда, что в тебе сидит искусный музыкант, а потому, сынок, сделай милость, сыграй мне хороший хорал на маленьком органе, а я буду раздувать мехи.
Здесь нужно заметить, что у Лискова было большое пристрастие ко всяким необыкновенным игрушкам, и он восхищал этим Иоганна. Когда тот был еще ребенком, Лисков при всяком своем посещении приносил ему какой-нибудь замечательный подарок. То давал он ему яблоко, распадавшееся на тысячу кусков при первом прикосновении, то какое-нибудь печенье удивительной формы. Когда же мальчик стал подрастать, он радовал его то тем, то другим поразительным фокусом натуральной магии. Юноша помогал ему строить оптические машины, составлять симпатические чернила и так далее. Но лучше всего, что сделал органный мастер для Иоганна, был орган с восьмифутовой подставкой и картонными трубами, походивший на произведение старинного органного мастера XVII века, Евгения Каспарини, которое можно видеть в императорской венской кунсткамере. Удивительный инструмент Лискова отличался тоном, сила и приятность которого действовали неотразимо; Иоганн уверял, что он не может играть на нем без сильнейшего волнения и что при этом ему приходят в голову прекрасные церковные мелодии.
На этом-то органе должен был Иоганн играть органному мастеру. Сыгравши по требованию Лискова два хорала, он перешел на гимн Misericordiam domini cantabo (Воспою милосердие божие), который сочинил незадолго перед тем. Когда Иоганн кончил, Лисков вскочил, порывисто прижал его к груди и воскликнул с громким смехом:
– Негодяй, зачем ты дразнишь меня своей плаксивой кантиленой? Если бы я не был твоим вечным шутом, ты бы никогда не сделал ничего порядочного. Но теперь я бегу и бросаю тебя одного, и ты должен искать себе в мире другого шута, который был бы для тебя тем же, чем я.
При этом в глазах у него стояли слезы. Он выбежал из комнаты, сильно хлопнув дверью, но потом опять просунул в дверь голову и сказал очень мягко:
– Мы, может быть, никогда больше не увидимся. Прощай, Иоганн! Если дядя хватится своей гродетуровой куртки с красными цветами, скажи, что я ее взял и хочу сделать из нее тюрбан, чтобы изображать султана. Прощай, Иоганн!
Никто не мог понять, зачем Лисков так внезапно покинул милый городок Гонионесмюль, и отчего он никому не сказал, куда направил свой бег.
Дядя сказал:
– Я давно уже думал, что его беспокойный дух должен в чем-нибудь проявиться; он делает прекрасные органы, но мало придерживается поговорки: «Сиди на месте и кормись хорошенько». Хорошо, что наше фортепиано в порядке, а необузданными людьми я не интересуюсь!
Но совсем иначе думал Иоганн. Ему недоставало Лискова, и Гонионесмюль казался ему мрачной темницей.
И вот случилось, что он последовал совету органного мастера и захотел поискать для себя в мире другого шута. Дядя полагал, что, окончивши ученье, Иоганн может отправиться в резиденцию высиживать яйца под крыльями своего дядюшки, посольского советника. Так и случилось.
Тут биограф очень недоволен. Он дошел до второго момента в жизни Иоганна Крейслера, о котором обещал рассказать любезному читателю, т. е. о том, как именно Крейслер потерял желанный пост посольского советника и удалился из резиденции, – но он видит, что все его сведения об этом пункте бедны, неполны и бессвязны.
Поэтому приходится сказать в конце концов, что вскоре после того, как Крейслер поступил на место своего умершего дяди и сделался посольским советником, князя посетил в его резиденции некий могучий коронованный колосс и так сердечно и крепко сжал в своих железных объятиях своего лучшего друга, что князь едва не испустил дух. В особе могучего колосса было нечто неотразимое, его желания должны были исполняться даже в тех случаях, если для этого приходилось обращать все в хаос и разрушение. Многие находили его дружбу губительной и желали от нее отделаться, но вследствие этого перед ними возникала трудная задача или признать спасительность этой дружбы, или избрать себе другой пункт, откуда можно было, пожалуй, увидать могучего колосса в более правильном свете.
Крейслер очутился в таком же положении.
Несмотря на дипломатическую карьеру, он сохранил большую наивность и, вероятно, вследствие этого в иные минуты не знал, на что решиться. В одну из таких минут он спросил у некой красивой дамы в глубоком трауре, какого она мнения о посольских советниках. Отвечая ему на это, она сказала много хороших и умных слов, но в конце концов пришла к тому заключению, что не может быть высокого мнения о посольских советниках, которые восторженно занимаются искусством, но не вполне ему отдаются.
– Милейшая из вдов, – сказал при этом Крейслер, – я уезжаю.
Когда он надел дорожные сапоги и явился попрощаться, со шляпой в руках, – разумеется, не без приличных случаю волнения и печали, – вдова положила ему в карман вызов на место капельмейстера при дворе того самого эрцгерцога, который проглотил землю князя Иринея.
Едва ли нужно прибавлять, что дама в трауре была не кто иная, как советница Бенцон, которая только что потеряла мужа.
Удивительно то, что Бенцон в то самое время, как…………………………………………………………
(М. пр.) …Понто побежал прямо к девушке, торговавшей хлебом и колбасой, которая чуть не убила меня насмерть, когда я приветливо подошел к ней.
– Друг Понто, что ты делаешь! Будь осмотрителен! Остерегайся этой бессердечной варварки и мстительного колбасного принципа! – так кричал я Понто, но он не обращал на меня внимания и продолжал свой путь, я же следовал за ним издали, чтобы прийти ему на помощь, если он будет в опасности. Добежав до стола, Понто поднялся на задние лапы и начал подпрыгивать и плясать вокруг девушки, которой это очень нравилось. Она подозвала его к себе, он подошел, положил ей голову на колени, потом опять вскочил, весело залаял и начал прыгать вокруг стола, слегка обнюхивая его и ласково заглядывая девушке в глаза.
– Хочешь колбаски, пуделек? – спросила девушка. Понто приятно замотал хвостом и громко залаял, а она, к моему немалому удивлению, взяла одну из лучших и самых больших колбас и протянула ее Понто. Он как бы в благодарность протанцевал ей маленький танец и затем поспешил ко мне с колбасой, которую положил передо мной с приветливыми словами:
– Ешь, подкрепляйся, мой милый!
Когда я съел колбасу, Понто пригласил меня следовать за ним; он хотел привести меня назад к мейстеру Абрагаму. Мы медленно пошли рядом, так что нам было удобно вести по дороге разумные разговоры.
– Я вижу, милый Понто (так начал я свою речь), что ты гораздо лучше меня знаешь свет. Никогда не сумел бы я тронуть сердце этой варварки, а тебе это легко удалось! Но, извини, во всем твоем поведении с продавщицей колбасы было нечто, против чего возмущалась вся моя природа; это была недостойная лесть и отсутствие чувства собственного достоинства; нет, дорогой пудель, никогда бы не решился я так ласкаться, так заискивать и так смело просить милостыню, как ты. При самом сильном голоде или когда что-нибудь особенно возбуждает мой аппетит, я ограничиваюсь тем, что вскакиваю на стул за спину хозяина и выражаю свое желание тихим урчаньем. И даже это есть скорее напоминание о долге следить за моими нуждами, чем просьба о благодеянии.
Понто громко рассмеялся на эти слова.
– Милый мой Мур, – ответил он, – ты, может быть, прекрасный литератор и знаешь много такого, о чем я не имею никакого понятия, но в действительной жизни ты ничего не смыслишь, и тебя может погубить твое полное отсутствие житейской мудрости. Во-первых, ты рассуждал бы, вероятно, иначе до получения колбасы, так как голодные гораздо услужливее и милее сытых, а во-вторых, ты в большом заблуждении относительно моей мнимой покорности. Ты ведь знаешь, что прыганье и танцы доставляют мне большое удовольствие, так что я часто занимаюсь этим по собственному почину. Когда же я ради прихоти показываю свое искусство людям, мне очень забавно видеть, как эти дураки воображают, что я стараюсь из особой симпатии к их особам и только для того, чтобы доставить им удовольствие. Они думают это даже тогда, когда можно вывести совсем противоположное заключение. Ты только что видел живой пример этого, мой милый. Ну разве не было сразу видно, что я проделывал свои штуки только для того, чтобы получить колбасу? Однако девушка пришла в восторг оттого, что я показываю свое искусство именно ей, как особе, способной меня оценить; из-за этого она и сделала то, чего я добивался. Житейская мудрость учит тому, чтобы, делая что-либо для себя, придавать этому такой вид, будто мы действуем по желанию других, которые бывают этим очень польщены и начинают желать всего того, чего мы добиваемся. Многие кажутся любезными, милыми, услужливыми, точно они только и думают, что о других, а на уме у них только свое собственное «я», которому, сами того не зная, служат другие. То, что тебе угодно называть недостойной лестью, есть не что иное, как мудрая тактика, основанная на понимании чужой глупости и уменьи ею пользоваться.
– О Понто, – возразил я, – ты светский, опытный человек, это несомненно, и я повторяю, что ты лучше меня знаешь жизнь, но все же я не могу поверить, чтобы тебе могло доставлять удовольствие твое удивительное искусство. По крайней мере, меня мороз подирал по коже, когда ты в моем присутствии принес своему господину прекрасный кусок жаркого, крепко держа его в зубах и не съевши ни кусочка, пока не получил позволения господина.
– А скажи-ка мне, милый Мур, что было потом? – спросил Понто.
– Твой господин и мейстер Абрагам хвалили тебя свыше всякой меры, – ответил я, – и поставили перед тобою целую тарелку жаркого, которое ты уничтожил с необыкновенным аппетитом.
– Ну что же, – возразил Понто, – неужели ты думаешь, милейший мой кот, что если бы я съел хоть маленькую часть того куска, который я держал в зубах, мне досталась бы такая великолепная порция жаркого? Знай, неопытный юноша, что не следует скупиться на малые жертвы, когда можешь получить большие выгоды. Меня удивляет, что при твоей начитанности ты не знаешь многих простых вещей. Я признаюсь тебе, положа лапу на сердце, что, попадись мне где-нибудь в углу блюдо жаркого, я бы съел его, не дожидаясь позволения моего господина, если бы можно было сделать это незаметно. Такова уж наша природа, что мы ведем себя в углу совсем не так, как посреди улицы. Одно из самых глубоких житейских правил говорит нам, что следует быть честным в мелочах.
Некоторое время я молчал, обдумывая правила, высказанные Понто. Мне казалось, будто я где-то читал, что всякий должен поступать сообразно общему принципу, или же так, как бы он желал, чтобы с ним поступали другие, и я напрасно старался связать этот принцип с житейской мудростью Понто. Мне пришло на ум, что дружба, выказываемая им мне в эту минуту, также могла вредить мне и приносить пользу ему одному. Я невольно высказал это предположение.
– Ах ты, негодный, – смеясь воскликнул Понто, – о тебе тут не может быть и речи! Ты не можешь принести мне никакой пользы и никакого вреда. Твоим мертвым наукам я не завидую, стремления у нас с тобой разные; если же ты вздумаешь выказывать мне враждебность, то ведь я превзойду тебя и в силе, и в проворстве. Одним прыжком, одним ловким захватом моих острых зубов мог бы я сразу с тобой покончить.
Здесь я почувствовал великий, страх, усилившийся еще больше, когда большой черный пудель обычным образом приветствовал Понто, и когда оба они вступили в тихий разговор, бросая на меня сверкающие взгляды.
Прижав уши, отошел я в сторону, но скоро черный пудель оставил Понто, и он снова подбежал ко мне, крича издали:
– Иди сюда, милый друг!
– О небо! – в волнении заговорил я. – Кто был этот суровый мужчина, – вероятно, не менее тебя опытный в житейских делах?
– Ты, кажется, испугался моего доброго дяди, пуделя Скарамуца? – удивился Понто. – Мало тебе быть котом, ты хочешь еще быть зайцем.
– Но зачем же, – сказал я, – твой дядя бросал на меня сверкающие взгляды, и о чем вы с ним так таинственно шептались?
– Не скрою от тебя, милый Мур, – отвечал Понто, – что мой старый дядя немного сварлив и придерживается устарелых понятий, как это нередко бывает со стариками. Он удивился тому, что мы с тобой идем вместе: он находит, что нашему сближению мешает неравенство положения. Я уверил его, что ты очень приятный и образованный юноша и что до сих пор я очень хорошо проводил с тобой время. Тогда он сказал, что я могу видеться с тобой время от времени наедине, но только чтобы я не вздумал водить тебя в собрание пуделей, так как ты не можешь участвовать в этих собраниях; твои короткие уши слишком ясно выдают твое низкое происхождение; смышленые длинноухие пудели сочтут тебя недостойным. Я пообещал ему не водить тебя туда.
Если бы я знал тогда что-нибудь о моем великом предке, Коте в сапогах, который занимал многие должности и был ближайшим другом короля Готлиба, я бы легко доказал другу Понто, что собрание пуделей могло бы считать себя очень польщенным присутствием потомка знаменитейшего рода; но пока я должен был оставаться в неизвестности и терпеть, наблюдая, как Понто и Скарамуц надо мной величались. Мы пошли дальше. Впереди нас шел молодой человек, который вдруг издал радостное восклицание и так быстро обернулся, что непременно бы ушиб меня, если бы я не отскочил в сторону. Так же громко вскрикнул и другой молодой человек, шедший тому навстречу. Они бросились друг другу в объятия, как друзья, которые давно не видались, прошли мимо нас несколько шагов рука об руку и расстались не менее нежно. Тот, что шел сначала впереди нас, долго смотрел на уходящего друга, а потом быстро юркнул в какой-то дом. Понто остановился, и я также. Тогда открылось окно во втором этаже того дома, куда вошел молодой человек, и мы увидали его, стоящего за спиной прекрасной молодой девушки; оба они очень смеялись, глядя на друга, с которым молодой человек только что расстался. Здесь Понто проворчал сквозь зубы что-то такое, чего я не понял.
– Что ты медлишь, дорогой Понто? Не пойдем ли мы дальше? – спросил я, но Понто стоял неподвижно, потом сильно махнул головой и молча продолжал путь.
Когда мы дошли до приятного места, окруженного деревьями и статуями, Понто сказал мне:
– Побудем здесь немного, дорогой Мур, у меня не выходят из головы эти юноши, так сердечно обнимавшиеся на улице. Они такие же друзья, как Дамон и Пилад.
– Дамон и Пифий, – поправил я. – Пилад был другом Ореста, которого он нежно укладывал в постель и поил ромашкой всякий раз, когда демон и фурии слишком преследовали несчастного. Видно, что ты не особенно сведущ в истории, милый Понто.
– Это все равно, – продолжал Понто, – но историю двух друзей я знаю прекрасно и расскажу тебе ее со всеми подробностями, так как я слышал ее двадцать раз от моего господина. Быть может, рядом с Дамоном и Пифием, Орестом и Пиладом ты поставишь еще и третью пару: Вальтера и Формозуса. Формозус – это тот самый молодой человек, который чуть не упал, обрадовавшись встрече со своим дорогим Вальтером. В одном красивом доме с зеркальными стеклами живет старый, украшенный орденами президент, которого Формозус сумел так очаровать своим светлым умом, ловкостью и блестящей ученостью, что старик полюбил его, как родного сына. И вдруг Формозус потерял свою веселость и сделался бледен и томен; десять раз в течение четверти часа испускал он такие тяжкие вздохи, как будто хотел расстаться с жизнью, и был до такой степени погружен в свои мысли, что, казалось, забывал все на свете.
Долго добивался старик, чтобы юноша открыл ему причину своего таинственного горя; наконец, оказалось, что он смертельно влюблен в единственную дочь президента. Сначала старик испугался: он вовсе не рассчитывал выдать дочку за человека без положения и без чина, каким был Формозус, но так как бедный юноша увядал на его глазах, то он призвал на помощь свое мужество и спросил Ульрику, нравится ли ей юный Формозус и говорил ли он ей что-нибудь о своей любви. Ульрика опустила глазки и сказала, что хотя Формозус и не объяснялся ей по своей великой сдержанности и скромности, но она уже давно заметила, что он ее любит, так как это нетрудно было заметить. Ей Формозус тоже очень нравится, и если ничто этому не мешает, и дорогой папа ничего не имеет против…
Короче, Ульрика сказала все, что говорят в таких случаях девушки, которые перешли уже цветущую пору юности и часто подумывают: «Кто будет тот, который поведет меня к алтарю?»
Услышав такой ответ, президент сказал Формозусу: «Подними свою голову, мальчик, будь счастлив и доволен: Ульрика будет твоею».
Итак, Ульрика стала невестою юного Формозуса. Все завидовали счастью красивого и скромного юноши, но один человек пришел от этого в отчаяние: это был друг Формозуса, Вальтер, с которым он жил душа в душу. Вальтер видел Ульрику раз в жизни, говорил с ней и влюбился в нее, быть может, еще сильнее, чем Формозус. Однако, я все говорю про любовь, а ведь я не знаю, был ли ты когда-нибудь влюблен, милый кот, и знаешь ли ты, что это за чувство?
– Что касается меня, милый Понто, – ответил я, – то я не думаю, чтобы мне случалось влюбляться; это состояние описано у многих писателей, но ничего подобного я не испытывал. Конечно, не всегда можно верить писателям, но, судя по тому, что я знаю и читал, любовь есть не что иное, как психическая болезнь или особый род помешательства, который обнаруживается у людей тем, что они принимают предмет не за то, что он есть на самом деле; так, например, обыкновенную толстую девушку, вяжущую чулки, принимают за богиню. Но продолжай свой рассказ, милый пудель.
– Вальтер, – так продолжал Пудель, – бросился на шею Формозусу и сказал ему, обливаясь горькими слезами: «Ты отнимаешь у меня счастье всей моей жизни, но так как и ты будешь счастлив, то в этом мое утешение; прощай, дорогой мой, прощай навсегда!»
Тут Вальтер отправился в лес и хотел покончить с собой, но так как он в отчаянии забыл зарядить пистолет, то дело окончилось только несколькими припадками помешательства, которые повторялись ежедневно. Однажды Формозус, который не видел его уже несколько недель, пришел к нему совершенно расстроенный и увидел, что друг его стоит на коленях и громко стонет перед пастельным портретом Ульрики, висящим на стене, в рамке и под стеклом.
«Нет, – воскликнул Формозус, прижимая к груди Вальтера, – я не могу выносить твое горе и отчаяние, я жертвую тебе моим счастьем! Я отказался от Ульрики и уговорил старика-отца, чтобы он взял тебя в зятья. Ульрика любит тебя, – быть может, сама того не зная. Проси ее руки, а я удалюсь. Прощай!» Он хотел уйти, но Вальтер его удержал. Ему казалось, что он грезит, и он поверил своему счастью только тогда, когда Формозус показал ему собственноручную записку старого президента, в которой было приблизительно следующее: «Ты победил, благородный юноша! Неохотно расстаюсь я с тобой, но я уважаю твою дружбу, напоминающую черты геройства, о которых читаем мы у древних писателей. Если господин Вальтер, весьма достойный юноша, занимающий прекрасную должность, посватается к моей Ульрике и она примет его предложение, я со своей стороны ничего не имею против». Формозус уехал, а Вальтер сделал предложение Ульрике, которая вышла за него замуж.
Старый президент несколько раз писал к Формозусу, осыпая его похвалами и спрашивая, не будет ли ему приятно принять от него три тысячи талеров, – разумеется, не в виде утешения, так как об этом незачем и упоминать, а как знак его искреннего расположения. Формозус отвечал старику, что ему должна быть известна скромность его потребностей: деньги неспособны сделать его счастливым, только время может исцелить его горе, в котором не виноват никто, кроме судьбы, зажегшей любовь к Ульрике в сердце верного друга; всему виною судьба, о благородном поступке не может быть и речи. А впрочем, он готов принять подарок с тем условием, чтобы деньги были переданы некой бедной вдове, живущей там-то и там-то со своей добродетельной дочерью. Вдову отыскали и вручили ей три тысячи талеров, предназначенные для Формозуса. Вскоре за тем Вальтер написал Формозусу: «Я не могу больше жить без тебя, возвращайся и приди в мои объятия!» Формозус исполнил его желание и узнал, что Вальтер отказался от своего прекрасного места с условием, что его получит Формозус, который давно стремился получить такое же. Формозус действительно получил место и очутился в гораздо лучшем положении, чем был прежде, если не считать его погибших надежд относительно женитьбы на Ульрике. В городе и во всей округе удивлялись благородству обоих друзей, их поступки считали отголоском забытых прекрасных времен и примером геройства, на который способны только возвышенные души.
– В самом деле, – начал я, когда замолк Понто, – судя по всему, что я читал, Вальтер и Формозус, должно быть, благородные и твердые люди, которые, жертвуя всем друг для друга, ничего не знают о твоей хваленой житейской мудрости.
– Гм… – возразил Понто, иронически улыбаясь, – это еще неизвестно. Следует упомянуть о двух обстоятельствах, которых никто в городе не заметил и которые я знаю отчасти от моего господина, отчасти по собственным наблюдениям. Любовь Формозуса к богатой дочери президента была не так уж глубока, как думал ее старый отец, так как в самом разгаре этой убийственной страсти молодой человек не упускал случая каждый вечер после безнадежно проведенного дня посещать некую хорошенькую маленькую швейку. Когда же Ульрика сделалась его невестой, то он увидел, что ангелоподобная барышня в некоторых случаях внезапно превращается в чертенка. Кроме того, он узнал из верных источников одну неприятную новость, а именно – что фрейлен Ульрика делала в городе особого рода открытия по части любовного счастья; тут и напало на него вдруг непреодолимое благородство, заставившее его пожертвовать другу богатую невесту. Вальтер действительно страстно влюбился в Ульрику, увидя ее в каком-то собрании во всем блеске туалета. Ульрике же было все равно, кто из двух друзей будет ее мужем: Вальтер или Формозус. У Вальтера была действительно очень доходная должность, где он, однако, так накуралесил, что ему пришлось бы ее вскоре оставить. Он решил удалиться, устроивши все в пользу друга, и спасти свою честь этим поступком, имевшим все признаки благородства. Три тысячи талеров были препровождены в виде бумаг некой представительной особе, которая изображала иногда мать, иногда ведьму, а иногда хозяйку одной красивой швеи. В этом деле она играла двойную роль. При получении денег она была матерью, а потом, когда принесли их и она получила порядочную награду, она сделалась хозяйкой девушки, которую ты знаешь, мой милый Мур: это та самая, с которой Формозус только что смотрел в окно. Впрочем, и Формозус, и Вальтер давно уже знают, каким образом они превзошли друг друга в благородстве чувств, оба давно уже избегают друг друга, желая избавиться от взаимных похвал, и потому их сегодняшняя встреча, когда случай свел их на улице, и была так сердечна.
В эту минуту поднялся страшный шум. Люди наскакивали друг на друга, крича: «Пожар! Пожар!» По улице мчались всадники, и гремели экипажи. Из окон одного из домов неподалеку от нас вырывались клубы дыма и пламени. Понто помчался вперед, а я в страхе взобрался наверх по высокой лестнице, прислоненной к какому-то дому, и вскоре был на крыше в полной безопасности. И вдруг все вокруг меня…
(М. л.) – Совершенно неожиданно, – говорил князь Ириней, – без опроса гофмаршала, без предупреждения дежурных камергеров и даже, – но это между нами, я прошу вас, мейстер Абрагам, не разглашать этого дальше, – почти без доклада: в передней не было ни одного лакея, эти ослы играли в карты. О, игра – это большой порок!.. Когда он уже входил в дверь, его остановил столовый служитель, который, к счастью, проходил мимо, и спросил, кто он и как доложить о нем князю. Но все-таки он мне понравился; он очень приличный господин. Вы, кажется, говорили, что прежде он был побольше, чем простой музыкант, и даже имел некоторое положение?
Мейстер Абрагам заверил, что Крейслер жил прежде в совершенно других условиях, что ему доводилось даже обедать за княжеским столом, и только всесокрушающая буря времени вырвала его из этих условий. Впрочем, он желает, чтобы покрывало, набрасываемое на его прошлое, оставалось неприподнятым.
– Итак, – продолжал князь, – он знатного рода; быть может, барон или граф, быть может, даже… не следует заходить слишком далеко в заоблачных мечтаниях! У меня ведь un faible[27] к таким мистериям! Прекрасное это было время после французской революции, когда маркизы выделывали сургуч, а графы вязали ночные колпаки из филе и желали называться просто monsieur, и все веселились на большом маскарадном балу. Что же касается господина фон Крейслера, то Бенцон кое-что понимает; она рекомендовала его мне с очень хорошей стороны, и она права. По его манере держать шляпу под мышкой я сейчас же узнал благовоспитанного человека хорошего тона.
Тут князь присоединил еще несколько похвал относительно внешности Крейслера, так что мейстер Абрагам был уверен, что его план удастся. Он рассчитывал ввести своего друга в лучшее придворное общество в качестве капельмейстера и таким образом удержать его в Зигхартсвейлере. Но когда он об этом заговорил, князь очень решительно объявил, что из этого ничего не выйдет.
– Подумайте сами, мейстер Абрагам, – сказал он, – можно ли ввести этого приятного человека в мой тесный семейный круг, если я сделаю из него капельмейстера, другими словами – моего официанта? Я мог бы дать ему придворную должность и сделать его maître des plaisirs или maître des spectacles[28], но ведь он прекрасно знает музыку и знает толк в театре, как вы говорите. Я не желаю отступать от правила моего покойного родителя, который всегда говорил, что вышеупомянутые maîtres должны ничего не понимать в том, чем они распоряжаются, – иначе они бы слишком много занимались и интересовались актерами, музыкантами и т. п. А потому пусть лучше господин фон Крейслер сохранит маску иностранного капельмейстера и вступит с ней во внутренние покои княжеского дома по примеру одного знатного человека, который некогда под маской гнусного истриона забавлял образованнейшее общество своими интересными фокусами.
Тут мейстер Абрагам собрался уже уходить, но князь остановил его:
– Так как вы, по-видимому, chargé d’affaires[29] господина фон Крейслера, то я не буду от вас скрывать, что мне не понравились в нем только две вещи, которые, быть может, не более как привычка. Вы понимаете, что я хочу сказать. Во-первых, когда я с ним говорю, он смотрит мне прямо в лицо. У меня ведь не маленькие глаза, и я могу смотреть так же страшно, как некогда Фридрих Великий; ни один камер-юнкер, ни один паж не может выдержать, когда я пронизываю его своим ужасным взором и спрашиваю, не наделал ли mauvais sujet[30] новых долгов или не съел ли марципан, – а на господина фон Крейслера я могу смотреть сколько угодно: он не обращает на это никакого внимания, только улыбается, и я сам опускаю глаза. Кроме того, у него странная манера говорить, отвечать и вести разговор: иногда просто можно подумать, что ваши слова не особенно интересны, и таким образом выходит… Клянусь вам, мейстер, что это невыносимо, и вы должны позаботиться о том, чтобы господин фон Крейслер оставил эти привычки.
Мейстер Абрагам обещал то, чего требовал от него князь, и снова хотел идти, но князь заговорил о странном отвращении, которое обнаруживала к Крейслеру принцесса Гедвига, и о тех странных образах и снах, на которые с некоторых пор она жаловалась, вследствие чего лейб-медик посоветовал ей на будущую весну лечение сывороткой.
– Скажите мне, мейстер Абрагам, – говорил князь, – неужели этот умный человек носит в себе какие-нибудь следы умственного расстройства?
Мейстер Абрагам отвечал, что Крейслер не более помешан, чем он сам, но иногда рассуждает довольно странно и впадает в состояние, несколько напоминающее принца Гамлета, что делает его еще интереснее.
– Насколько я знаю, – заговорил князь, – юный Гамлет был прекраснейший принц из старинного царского рода, носившийся иногда со странной идеей, что все придворные должны уметь играть на флейте. Высокопоставленным особам очень идут разные странности, это усиливает уважение к ним. То, что в человеке без звания и положения может показаться абсурдом, у них обращается в приятную игривость оригинальной фантазии, возбуждающую удивление. Господин фон Крейслер мог бы оставаться на прямой дороге, но если он желает подражать принцу Гамлету, это доказывает его стремление к высокому, развившееся, быть может, вследствие его склонности к музыке. Ему можно извинить, если он будет себя странно вести.
По-видимому, в тот день мейстеру Абрагаму не суждено было уйти домой; князь в третий раз позвал его, когда он открывал дверь, и пожелал узнать, отчего могло произойти странное отвращение принцессы Гедвиги к Крейслеру. Мейстер Абрагам рассказал ему, каким образом Крейслер появился впервые в парке Зигхартсгофа перед принцессой и Юлией, и прибавил, что странное настроение, в котором был тогда Крейслер, действительно могло неприятно подействовать на даму с чувствительными нервами.
Князь с некоторой горячностью выразил надежду, что герр фон Крейслер явился в Зигхартсгоф не совсем пешком, что где-нибудь на пути у него остался экипаж, так как только искатели приключений могли ходить пешком по лесу. Мейстер Абрагам отвечал, что все помнят пример некоего храброго офицера, пробежавшего от Лейпцига до Сиракуз, ни разу не меняя сапог, но что Крейслер, наверно, оставил экипаж в парке. На этот раз князь остался доволен.
В то время как происходила эта сцена у князя, Иоганн сидел у советницы Бенцон за лучшим фортепиано, когда-либо выходившим из-под рук искусной Нанетты Штрейхер, и аккомпанировал Юлии, певшей большой страстный речитатив Клитемнестры из Глюковой «Ифигении в Авлиде».
Желая нарисовать верный портрет своего героя, биограф вынужден изобразить его экстравагантным человеком, представлявшимся хладнокровному наблюдателю чем-то вроде сумасшедшего, когда дело касалось музыки. Нам уже пришлось приводить его странную речь, гласившую, что «когда пела Юлия, вся мечтательная скорбь любви, весь восторг сладких грез, надежд и желаний носился по лесу и сходил освещающей росой в благоухающие венчики цветов и в грудь внимающих соловьев». После этого суждение Крейслера о пении Юлии покажется не особенно ценным. Тем не менее, биограф может уверить благосклонного читателя, что в пении Юлии, которого он сам, к несчастью, ни разу не слышал, было нечто чудное и таинственное. Самые солидные люди, которые после усиленных занятий каким-нибудь сложным юридическим случаем, интересной болезнью или же юным отпрыском страсбургского пирога не обнаруживали ни малейшего волнения, знакомясь в театре с музыкой Глюка, Моцарта, Бетховена или Спонтини, уверяли, что, когда пела фрейлен Юлия Бенцон, они чувствовали нечто совершенно непонятное. Они задыхались, испытывая в то же время непередаваемое блаженство, и доходили часто до того, что делали глупости и вели себя, как юные фантазеры и рифмоплеты. К этому можно прибавить, что однажды, когда Юлия пела при дворе, князь Ириней необыкновенно вздыхал, а по окончании пения подошел прямо к Юлии, прижал ее руку к своим губам и сказал при этом очень плаксиво: «Дорогая фрейлен!» Гофмаршал осмелился уверять, что князь Ириней действительно поцеловал руку маленькой Юлии, причем у него выкатились из глаз две слезы. Но, по настоянию обер-гофмейстерины, это уверение было отвергнуто, как нечто неприличное и противное придворным обычаям.
У Юлии был звонкий и чистый голос богатого металлического тембра. Она пела с чувством и воодушевлением, исходившими из глубины взволнованной души, и в этом и заключались, быть может, те неодолимые чары, которыми действовала она на слушателей. Дыхание спиралось в груди, всякий чувствовал невыразимо сладостное уныние, и только спустя некоторое время по окончании пения восторг каждого неудержимо и бурно вырвался наружу. Один только Крейслер сидел безмолвно и неподвижно, откинувшись на спинку стула. Наконец он медленно и бесшумно поднялся. Юлия обернулась к нему, и взгляд ее ясно говорил: «Так это в самом деле было хорошо?» Она покраснела и опустила глаза, когда Крейслер, положив руку на сердце, прошептал дрожащим голосом: «Юлия!» и скорее выскользнул, чем вышел, из круга, который составили дамы.
Бенцон с трудом заставила принцессу Гедвигу показаться вечером в обществе, где она должна была встретиться с Крейслером. Она сдалась только тогда, когда советница очень строго заметила ей, каким ребячеством было бы избегать его только за то, что он не принадлежит к разряду людей, которые скроены по одинаковой мерке, и имеет некоторые странности. К тому же Крейслер нашел доступ к князю, и поэтому становилось невозможным поддерживать это странное упрямство.
Весь вечер принцесса Гедвига с таким искусством отворачивалась и уходила в сторону, что, несмотря на все старания, Крейслер, которому по его мягкости и миролюбию хотелось помириться с принцессой, никак не мог к ней подойти. Самые искусные подходы разбивала она своей тактикой. Тем более поражена была наблюдавшая за ней Бенцон, увидев, как принцесса вдруг прорвала круг, составленный дамами, и подошла прямо к капельмейстеру; Крейслер стоял в такой глубокой задумчивости, что его вывел из нее только голос принцессы, спросившей, неужели у него одного не найдется ни слова, ни знака для поощрения успеха, которого заслужила Юлия.
– Сударыня, – ответил Крейслер голосом, обличавшим глубокое волнение, – по мнению знаменитых писателей, блаженные говорят не словами, а мыслью и взглядом. Мне кажется, я был на небе!
– Итак, – улыбаясь, сказала принцесса, – наша Юлия – светлый ангел: она открыла вам рай. Но теперь я прошу вас на время оставить небо и выслушать меня, хотя я – не более как бедная дочь земли.
Здесь принцесса остановилась, как бы ожидая, что Крейслер ей что-нибудь скажет. Он молчал, глядя на нее сверкающим взором; она опустила глаза и так быстро повернулась, уходя обратно, что легко наброшенная шаль спустилась с ее плеч. Крейслер поймал шаль на лету. Принцесса остановилась.
– Пожалуйста, – сказала она неуверенным тоном, как бы борясь с каким-то решением и как будто ей было трудно выразить то, что она чувствовала, – будемте говорить о поэтических вещах обыкновенной прозой. Я знаю, что вы даете Юлии уроки пения, и должна сознаться, что с этих пор и голос ее, и манера петь очень много выиграли. Это подает мне надежду, что вы были бы в состоянии развить даже и такой посредственный талант, как у меня. Я думаю, что…
Тут принцесса запнулась и сильно покраснела, а Бенцон выступила вперед и стала уверять, что принцесса очень несправедлива к себе, называя свой талант посредственным, так как она прекрасно играет на фортепиано и очень выразительно поет. Крейслер, которому принцесса показалась необыкновенно прелестной в своем замешательстве, рассыпался потоком любезных речей и закончил тем, что для него ничего не может быть приятнее, как помогать принцессе советом и руководством при изучении музыки, если она того пожелает.
Принцесса слушала Крейслера с заметным удовольствием, когда же он кончил и Бенцон упрекнула ее взглядом за тот страх, который она чувствовала к этому милому человеку, она сказала вполголоса: «Да, да, вы правы, Бенцон, я часто бываю похожа на ребенка!» В ту же минуту она, не глядя на нее, взяла шаль, которую Крейслер все еще держал в руках и теперь протянул ей. Как-то случилось, что при этом он дотронулся до руки принцессы. В ту же минуту он почувствовал такой сильный толчок, потрясший все его нервы, что едва не лишился чувств.
И вдруг его слуха коснулся голос Юлии, подобно светлому лучу, прорезывающему мрачные облака:
– Я должна еще петь, дорогой Крейслер, – говорила она, – мне не дают покоя. Я бы очень хотела попробовать спеть тот чудный дуэт, который вы мне недавно принесли.
– Вы не можете отказать в этом Юлии, – добавила Бенцон, – садитесь за фортепиано.
Крейслер сел за фортепиано совершенно обессиленный и взял первые аккорды дуэта точно в каком-то похмелье. Юлия начала: «Ah che mi manca l’anima in si fatal momento…»[31] Нужно заметить, что слова этого дуэта, по обычной итальянской манере, выражали расставанье влюбленной пары; со словом «momento»[32], разумеется, рифмовало «sento»[33] и «tormento»[34], и так же, как в тысяче подобных дуэтов, не было недостатка в «Abbi pietate, о cielo»[35] и в «реnа di morir»[36]. Однако Крейслер сочинял музыку на эти слова при высшем подъеме чувства, так что в осмысленном исполнении они должны были действовать неотразимо на всякого, кому бог дал хотя бы сносный слух. Дуэт можно было поставить на ряду с самыми страстными в этом роде, и так как Крейслер больше заботился о выразительности, чем о том, чтобы следить за певицей, то исполнять дуэт было довольно трудно. Юлия начала неуверенно и несмело, и Крейслер начал немного лучше ее. Но вскоре голоса их поднялись на волнах песни, как два белых лебедя: то поднимались они при громе фортепиано к сияющим золотым облакам, то, замирая в сладостном объятии, исчезали в возрастающей буре аккордов, то, тяжело вздыхая, оплакивали близкую смерть, и последнее «Addio»[37] прозвучало, как крик безумного горя, как кровавый поток, вырвавшийся из растерзанной груди.
Все были глубоко тронуты дуэтом, у многих на глазах выступили слезы; сама Бенцон заметила, что никогда еще не испытывала она ничего подобного даже при хорошо разыгранных прощальных сценах в театре. И Юлию, и капельмейстера засыпали похвалами, говорили об истинном вдохновении, которое их воодушевляло, и ставили самую вещь гораздо выше, чем она того заслуживала.
Во время пения все отлично заметили глубокое волнение принцессы Гедвиги, несмотря на то, что она старалась казаться спокойной и равнодушной. Рядом с ней сидела молоденькая придворная дама с розовыми щеками, одинаково склонная к смеху и к слезам. Принцесса то и дело шептала ей что-то на ухо, но та отвечала односложно, боясь нарушить придворный этикет. Принцесса пробовала также нашептывать разные пустяки и Бенцон, сидевшей по другую сторону, желая доказать, что она не слушает дуэта, но Бенцон со своей обычной строгой манерой попросила принцессу отложить этот разговор до окончания дуэта.
Теперь же принцесса говорила с пылающим лицом, со сверкающими глазами и так громко, что голос ее заглушил всеобщие похвалы.
– Я надеюсь, что мне позволено будет сказать свое мнение, – говорила она. – Я признаю, что дуэт имеет свои достоинства как музыкальное произведение и что моя Юлия восхитительно пела, но справедливо ли, законно ли в интимном кругу, где на первом плане должна быть приятная беседа и где разговоры и пение должны сменять друг друга, как ручеек, нежно журчащий между цветистыми берегами, – можно ли в таком месте заниматься экстравагантными вещами, терзающими душу и действующими так сильно, что от них нельзя отделаться? Я старалась защитить мои уши и сердце от той дикой, адской скорби, которую изобразил в звуках Крейслер с искусством, смеющимся над нашими слабыми душами, но никому не угодно было перейти на мою сторону. Я охотно отдаю мою слабость в жертву вашей иронии, капельмейстер, и охотно признаюсь, что я совсем больна после вашего дуэта. Разве нет у нас Чимарозы и Паэзиэлло, сочинения которых более подходят к исполнению в обществе?
– О боже, – воскликнул Крейслер, и в лице его заиграл каждый мускул, что случалось всякий раз, когда в нем просыпался юмор, – светлейшая принцесса! Ваш покорнейший слуга, разумеется, вполне согласен с мнением вашего высочества! Не противно ли всем правилам и приличиям показывать в обществе свою душу со всеми скрытыми в ней скорбями, печалями и восторгами, если тщательно не прикроешь ее косынкой благоприличия и конвенансов? На что же годятся тогда пожарные приспособления, вводимые всюду хорошим тоном для тушения огня, готового вспыхнуть то там, то здесь? Кажется, довольно накачивают нас чаем, сахарной водой, умеренными разговорами и приятным журчаньем, а все же удается иногда то тому, то другому дерзкому поджигателю бросить в середину общества шипящую ракету, и вот вспыхивает пламя, которое даже жжется, чего никогда не случается с чистым лунным светом. Да, светлейшая принцесса, и я, несчастнейший из всех капельмейстеров в мире, дерзнул выступить с этим ужаснейшим дуэтом, который, подобно адскому фейерверку, рассыпался по всему обществу огненными шарами, ракетами, римскими свечами и пушечными ударами и, к несчастью, насколько я мог заметить, везде произвел поджоги. Пожар, пожар, горим! Пожарную трубу! Воды, воды! Помогите!
Здесь Крейслер бросился к ящику с нотами, выдвинул его из-под рояля, открыл, разбросал ноты, вытащил одну тетрадь (это была «Molinara»[38] Паэзиэлло), сел за фортепиано и начал ритурнель известной хорошенькой ариетты «La Rachelina molinarina»[39], с которой появляется мельничиха.
– Но как же так, дорогой Крейслер? – проговорила Юлия совсем испуганным голосом.
Но Крейслер бросился перед ней на колени и воскликнул:
– Дражайшая, кротчайшая Юлия, сжальтесь над уважаемым обществом, пролейте бальзам на наши безнадежные чувства, спойте «La Rachelina»! Если вы этого не сделаете, мне ничего больше не останется, как впасть на ваших глазах в отчаяние, на краю которого я уже нахожусь, и напрасно будете вы держать за фалды погибшего капельмейстера. В то время как вы сострадательно воскликнете: «Останься с нами, Иоганн!» – он уже исчезнет на пути к Ахерону, кружась в неистовой пляске, – а потому спойте, о дорогая!
Юлия исполнила просьбу Крейслера, как казалось, не совсем охотно.
Когда она кончила арию, он начал известный комический дуэт нотариуса с мельничихой.
Пение Юлии и по методе, и по голосу подходило к строгому патетическому стилю; тем не менее, исполняя комические вещи, она умела придавать им очаровательную игривость. Крейслер вполне усвоил своеобразную, неотразимо увлекательную манеру итальянских буффонад; сегодня же он превзошел самого себя: его голос, казалось, был уже не тот, который только что поддавался малейшим оттенкам драматизма, и при этом он еще строил физиономии, способные рассмешить самого Катона.
Само собой разумеется, что по окончании дуэта все разразились громким смехом и знаками одобрения.
Крейслер в восторге поцеловал у Юлии руку, которую она сейчас же отдернула.
– Ах, – сказала она, – я никак не могу уследить за вашим странным, можно даже сказать – причудливым, настроением. Это salto mortale из одной крайности в другую бросает меня просто в холод. Прошу вас, дорогой Крейслер, не требуйте от меня исполнения комических вещей, даже и таких прекрасных, как эта, когда я еще вся в волнении и в душе моей продолжают звучать отголоски глубокой печали. Я могу это делать, могу себя пересилить, но после этого я чувствую себя совсем больной и усталой. Не требуйте этого больше! Ведь вы обещаете это мне, не правда ли?
Крейслер хотел отвечать, но в эту минуту принцесса обняла Юлию, смеясь при этом гораздо громче, чем это подобало по мнению какой бы то ни было гофмейстерины.
– Приди в мои объятия, – воскликнула она, – ты, самая игривая, прелестная и голосистая мельничиха в свете! Ты мистифицируешь всех баронов, чиновников и нотариусов, какие только есть на земле, и даже… – Но то, что принцесса хотела сказать, пропало, заглушенное громким смехом, которым она опять разразилась. Она продолжала, быстро обернувшись к Крейслеру: – Вы совершенно примирили меня с собой! О, теперь я понимаю ваш переменчивый нрав. Он просто великолепен! Только в борьбе разнообразных ощущений и противоположных чувств и есть настоящая жизнь! Я вам от души благодарна! Позволяю вам поцеловать мою руку!
Крейслер схватил протянутую ручку и снова почувствовал удар, но в более слабой степени. Он принужден был даже немного подождать, прежде чем прижал к губам нежные пальчики принцессы, скрытые перчаткой, кланяясь при этом с такой изысканной вежливостью, точно он еще и теперь был посольским советником. Неизвестно – почему, это физическое ощущение от прикосновения к руке принцессы необыкновенно его рассмешило.
«В конце концов, – сказал он себе, когда принцесса от него отошла, – ее высочество не что иное, как лейденская банка, которая по собственному усмотрению наделяет честных людей электрическими ударами».
Принцесса танцевала и прыгала по зале, смеясь и напевая «La Rachelina molinarina», ласкала и целовала то ту, то другую даму и уверяла, что никогда в жизни не было ей так весело и что за это должна она благодарить милого капельмейстера. Это было в высшей степени не по вкусу серьезной Бенцон; она не могла удержаться от того, чтобы не отозвать принцессы в сторону и не шепнуть ей на ухо:
– Гедвига, опомнитесь, что за поведение?
– Я думаю, дорогая Бенцон, – отвечала принцесса, сверкая глазами, – что сегодня мы можем оставить поучения и идти спать. Да, в постель, в постель!
И она велела подавать экипаж.
Принцесса впала в судорожную веселость, а Юлия сделалась тиха и печальна. Она сидела у фортепиано, положив голову на руку, и ее бледное лицо и воспаленные глаза показывали, что она страдает даже физически.
Алмазные искры крейслерова юмора тоже потухли. Он тихими шагами направился к двери, избегая всякого разговора. Бенцон загородила ему дорогу.
– Я не знаю, – сказала она, – что за странное настроение заставляет меня…
(М. пр.) …показалось мне таким родным и знакомым. Сладкий аромат какого-то прекрасного жаркого носился над крышей в виде голубоватых паров, и где-то далеко-далеко, как шелест вечернего ветерка, приветные голоса шептали:
– Милый Мур, где ты был так долго?
В груди стесненной пробежал Поток блаженства; жалкий дух Мой к небесам вознесся вдруг! Как боги, я всезнающ стал! Душа, я ныне восхищен, Тебя к высокому вздыму я! Уж в смех и в шутку превращен Стон безутешный, смертный стон: Надежда – я жаркое чую!Так пел я, погружаясь в сладчайшие грезы, несмотря на ужасный шум, производимый пожаром. Но, видно, и здесь суждено было мне испытать преследования страшных явлений грубой действительности, от которой я только что отделался. Не успел я оглянуться, как из какой-то дымовой трубы выскочило одно из тех странных существ, которых люди зовут трубочистами. Увидев меня, это черное чучело сейчас же закричало: «Брысь!» – и бросило в меня метлой. Уклоняясь от удара, я прыгнул на ближайшую крышу, а оттуда на кровельный желоб. Но кто опишет мое радостное удивление, когда я увидел, что нахожусь на крыше дома моего доброго господина? Я лазил от одного слухового окна к другому, но все были закрыты. Я возвысил свой голос, но тщетно: никто меня не слышал. Между тем, высоко поднимаясь над горящим домом, клубились облака дыма, со всех сторон прорывались струи воды, тысячи голосов перекликались между собой, и пожар как будто усиливался. И вдруг открылось слуховое окно, и мейстер Абрагам выглянул оттуда в своем желтом халате.
– Мур, Мур, славный мой кот! Это ты? Поди, поди сюда, моя серенькая шкурка!
Такими ласковыми словами звал меня хозяин, увидев меня на крыше. Я не преминул выразить ему мою радость всеми знаками, которые были в моем распоряжении. То была дивная, торжественная минута свидания. Хозяин так гладил меня, когда я вскочил к нему в слуховое окно, что от наслаждения я начал издавать то нежное и сладкое урчанье, которое люди, язвительно насмехаясь, называют мурлыканьем.
– Ага, – смеясь, говорил хозяин, – ты, верно, рад, что вернулся домой после долгих скитаний, и не подозреваешь о той опасности, в которой мы теперь находимся. Хотел бы я быть, как ты, счастливым, мирным котом, который не беспокоится ни об огне, ни о пожарной команде и не боится ничего потерять, так как единственная движимость, которой владеет его бессмертный дух, есть его собственная особа.
Тут хозяин взял меня на руки и унес в свою комнату.
Как только мы вошли, к нам бросился профессор Лотарио и еще двое каких-то господ.
– Прошу вас!.. – воскликнул профессор. – Заклинаю вас небом, мейстер, вы в ужасной опасности, огонь уже близко от вашей крыши. Позвольте, мы перенесем ваши вещи.
Хозяин ответил очень сухо, что в таких случаях излишнее усердие друзей бывает губительнее пожара, тогда как огонь по крайней мере посылает все к черту более красивым способом. Помнится, сам он однажды, желая помочь другу во время пожара, в пылу благодетельного энтузиазма бросил в окно китайский сервиз, чтобы он как-нибудь не сгорел. Если же друзья его совершенно спокойно уложат в сундук три ночных колпака, два серых сюртука и другое платье и белье, причем обратят особое внимание на шелковые панталоны, положат книги и рукописи в две корзины, а до машин его не дотронутся ни одним пальцем, то он будет им очень благодарен. Если крыша будет пылать, то он выберется отсюда вместе со своей движимостью.
– Но прежде всего, – заключил он, – позвольте мне подкрепить пищей и питьем моего усталого и ослабевшего сожителя и товарища, только что вернувшегося из дальнего путешествия, а после вы можете хозяйничать.
Все очень смеялись, узнавши, что мейстер подразумевает меня, мне же это чрезвычайно польстило. Вполне осуществилась и чудная надежда, которую я выражал на крыше мечтательно-нежными звуками. Когда я подкрепил свои силы, мейстер посадил меня в корзинку; места было так много, что рядом со мной он поставил еще блюдечко с молоком и заботливо прикрыл корзину.
– Сиди смирно, кот, – говорил мейстер, – мы не знаем еще, что с нами будет, а ты можешь тем временем заняться своим любимым напитком, тогда как, если ты выскочишь и начнешь расхаживать по комнате, тебе отдавят хвост или лапу в спасательной суматохе. Если же дело дойдет до бегства, то я унесу тебя сам, чтобы ты не удрал, как это уже с тобой случалось. Вы и не знаете, – обратился он к своим гостям, – вы и не знаете, многоуважаемые господа помощники в беде, что за чудный и основательный кот этот серенький господин, сидящий в корзинке. Ученые галлы уверяют, что коты, наделенные такими прекраснейшими свойствами, как наклонность к убийству, воровской инстинкт, хитрость и т. д., совершенно лишены инстинкта местности и, раз убежавши, никогда не находят своего дома, мой же кот составляет в этом отношении блестящее исключение. Два дня тому назад он потерялся, и я очень беспокоился о нем, но сегодня он возвратился, да еще при этом, смею вас уверить, воспользовался крышами, как местом приятных прогулок. Добрая душа проявила не только разум, но также и самую верную привязанность к своему господину, за что я люблю его теперь гораздо больше, чем прежде.
Похвала мейстера пришлась мне особенно по сердцу, я с гордостью почувствовал свое превосходство над всей нашей породой, над целой толпой заблуждающихся котов, лишенных инстинкта места, и удивлялся, как я до сих пор не заметил этого преимущества своего ума. Я помнил, что на настоящую дорогу вывел меня Понто, а на родную крышу – удар метлы трубочиста, но я не сомневался в своей проницательности и в справедливости похвалы моего господина. Я чувствовал свою силу, а это чувство убеждало меня, что похвала получена мною заслуженно. Судя по тому, что я где-то читал или слышал, незаслуженная похвала гораздо больше радует и возвышает всякого, чем заслуженная; но это применимо только к людям, умные коты не способны на такие глупости; я даже положительно думаю, что нашел бы дорогу и без Понто, и без трубочиста, оба они только спутали верное течение моих мыслей. Некоторое знание жизни, которым так гордился молодой Понто, конечно, пришло бы ко мне и другим путем, хотя различные случаи, пережитые мною с милым пуделем, с этим aimable roué[40], дали мне хороший материал для дружеских писем, в форме которых я изложил мое путешествие. Эти письма могли бы быть с успехом напечатаны во всех утренних и вечерних газетах, а также во всех изящных и либеральных листках, так как в них очень умно и тонко изображены самые блестящие стороны моего «я», что, конечно, очень интересно для всякого читателя. Но ведь я знаю: господа редакторы и издатели уже спрашивают: «Кто этот Мур?» – и, узнавши, что я – кот, хотя бы и совершеннейший на земле, говорят обыкновенно: «Кот, а тоже хочет писать!» И будь у меня юмор Лихтенберга и глубина Гумануса, – я знаю об обоих много хорошего, они немало потрудились для людей, но оба умерли, а ведь смерть довольно рискованная вещь для всякого писателя, которому хочется жить, – итак, повторяю я, будь у меня юмор Лихтенберга и глубина Гумануса, мне вернули бы рукопись назад, быть может, только потому, что им не понравится мой почерк, который выходит у меня таким от когтей. Вот что досадно! О предрассудки, вопиющие предрассудки! Как склонны к ним люди и в особенности те, что зовутся издателями! Профессор и бывшие с ним господа сделали из меня спектакль, который, по моему мнению, был вовсе не нужен при укладке ночных колпаков и серых сюртуков.
На дворе кто-то громко крикнул: «Дом горит!»
– Ого, – сказал мейстер, – надо взглянуть, что там делается; оставайтесь здесь, господа; если есть опасность, я вернусь, и мы будем укладываться.
И он поспешно вышел из комнаты.
Я не на шутку испугался. Страшный шум и дым, начинавший наполнять комнату, – все это увеличивало мой страх.
Мной овладевали разные черные мысли. А вдруг хозяин меня забудет, и я позорно погибну в пламени?
Вероятно, от страха я почувствовал внутри какое-то неприятное щипанье. «Эге, – думал я, – что если он, лукавый, завидуя моей учености и желая от меня отделаться, умышленно заключил меня в эту корзинку? Что если вдруг напиток этот, невинно-белый – не молоко, а смертельный яд, составленный коварною рукою с искусством страшным, чтоб меня сгубить?» О дивный Мур, даже в смертельном страхе мысль твоя слагается в ямбы, и ты припоминаешь то, что когда-то читал у Шекспира и Шлегеля!
В эту минуту мейстер Абрагам просунул голову в дверь и сказал:
– Господа, опасность миновала. Присядьте к столу да распейте две бутылки вина, которое найдете в стенном шкапу, я же еще некоторое время побуду на крыше, чтобы лить воду из насоса. Впрочем, сначала я посмотрю, что делает мой милый кот.
Тут мейстер вошел в комнату, поднял крышку моей корзинки и заговорил со мной самым ласковым тоном; он спрашивал, хорошо ли мне и не хочу ли я съесть еще одну жареную птичку. На все это я отвечал неоднократно самым нежным мяуканьем и очень приятно потягивался, что мейстер справедливо понял, как знак того, что я сыт, но хочу оставаться в корзинке, и снова опустил крышку.
Ласковое обращение мейстера Абрагама рассеяло мои сомнения. Я мог бы даже устыдиться моих гнусных подозрений, если бы умному коту подобало чего-либо стыдиться. «В конце концов, думал я, весь мой страх и все мои подозрения были не что иное, как поэтические грезы, присущие гениальным молодым энтузиастам, которые часто пользуются ими, как одуряющим опиумом». Эта мысль меня вполне успокоила.
Как только мейстер вышел из комнаты, я увидел сквозь небольшую щель в корзинке, что профессор как-то подозрительно взглянул в мою сторону и потом подозвал остальных таким знаком, точно он хотел открыть им нечто очень важное.
Потом он заговорил так тихо, что я не услышал бы ни словечка, если бы небо не одарило меня необыкновенно острым слухом.
– Знаете ли вы, чему я рад? – начал он. – Знаете ли вы, что я хотел бы подойти к этой корзинке, открыть ее и воткнуть этот острый нож в глотку проклятого кота, который сидит там и, может быть, смеется над нами в своем отчаянном самодовольстве?
– Что с вами, Лотарио? – воскликнул другой. – Вы хотите погубить красивого кота, любимца нашего дорогого мейстера? И зачем вы так тихо говорите?
Тут профессор объявил все тем же таинственным шепотом, что я все понимаю, что я умею читать и писать, что мейстер Абрагам каким-то таинственным и непонятным способом преподал мне разные науки, так что теперь, как открыл ему пудель Понто, я уже сочиняю в стихах и в прозе, и все это нужно хитрому мейстеру только для того, чтобы посмеяться над лучшими учеными и писателями.
– О, – говорил Лотарио, приходя в страшную ярость, – я предвижу время, когда мейстер Абрагам, который и без того уже завладел доверием эрцгерцога, сделает с своим несчастным котом все, что захочет. Эта бестия будет магистром прав, получит докторскую степень и, наконец, в качестве профессора эстетики будет читать в коллегии об Эсхиле, Корнеле и Шекспире! Я просто теряю голову! Кот будет рыться в моих внутренностях, а у него ведь ужаснейшие когти!
Услышав эту речь профессора эстетики Лотарио, все пришли в величайшее удивление. Один гость считал невероятным, чтобы кот мог выучиться читать и писать, так как эти элементы всякой науки, кроме искусства, доступного только человеку, требуют еще известного разума и понятливости, которые даются даже не всем людям, этим венцам творения. Про обыкновенных же зверей не могло быть и речи.
– Дражайший, – начал другой, как показалось мне, очень серьезный человек, – что называете вы обыкновенным зверем? Обыкновенных зверей нет. Нередко, погрузившись в спокойное самосозерцание, чувствую я глубочайшее уважение к ослам и другим полезным животным. Я не понимаю, отчего бы хорошему домашнему животному с счастливыми природными способностями не выучиться читать и писать и отчего бы такому зверку не сделаться ученым и писателем? Разве не было примеров? Я не говорю уже о «Тысяче и одной ночи», этом лучшем историческом источнике, полном прагматической достоверности, – но вспомните сами, милейший, о коте в сапогах: ведь это был кот, исполненный благородства, проницательного ума и глубокой учености.
Услышав эту похвалу коту, который, как ясно говорил мне внутренний голос, был моим достойным предком, я не мог удержаться и два или три раза довольно громко чихнул. Говоривший остановился, и все с удивлением взглянули на мою корзинку.
– Contentement, mоn cher![41] Будьте здоровы, мой милый! – воскликнул наконец говоривший перед тем человек и затем продолжал: – Если я не ошибаюсь, дражайший эстетик, вы только что упомянули о некоем пуделе Понто, который поведал вам про научные и поэтические занятия кота. Это напомнило мне милейшую Берганцу Сервантеса, о судьбах которой будет рассказано в одной новой и очень странной книге. Эта собака тоже представляет пример, сильно удаляющийся от обычных способностей к развитию животных.
– Однако, дорогой друг мой, – заговорил другой, – какие странные приводите вы примеры. Ведь про собаку Берганцу написал всем известный романист Сервантес, а история про кота в сапогах – это детская сказка, которую Тик рассказал так живо, что, пожалуй, по глупости действительно можно ей поверить. Итак, вы цитируете двух писателей, как будто они серьезные натуралисты и психологи, но ведь писатели – это фантазеры, изображающие совершенно невероятные вещи. Скажите, как может такой разумный человек, как вы, ссылаться на писателей, желая подтвердить то, что противно всякому смыслу? Лотарио – профессор эстетики, и потому неудивительно, что он хватает иногда через край, но вы…
– Постойте, постойте, милейший, – сказал серьезный человек, – не горячитесь. Обдумайте хорошенько и сообразите, что, когда дело идет о чудесном и невероятном, нужно ссылаться именно на писателей, так как обыкновенные историки ничего в этом не смыслят. Когда чудесному придается известная форма, и оно должно быть представлено чисто научным образом, доказательство какого бы то ни было положения следует брать у знаменитого писателя и на его словах строить все остальное. Я сообщу вам нечто такое, чем вы останетесь довольны, хотя вы и ученый врач; я приведу вам в пример знаменитого врача, который, делая научное описание животного магнетизма и желая доказать несомненное существование удивительной силы предчувствия, ссылается на шиллеровского Валленштейна, который говорит: «Не подлежит сомнению, что в человеческой жизни бывают моменты и голоса» и т. д. Вы можете прочесть остальное сами.
– Ого, – возразил доктор, – однако, вы скачете! Вы перешли уже к магнетизму и будете, наконец, уверять, что к числу прочих чудес, доступных магнетизму, принадлежит то, что с его помощью можно обучать восприимчивых котов.
– Но, послушайте, – сказал серьезный человек, – кто знает, как действует магнетизм на животных? Коты и так уже носят в себе электрический ток, как вы сейчас можете убедиться…
Тут я вспомнил горькие жалобы Мины на подобные эксперименты, производимые с ней, и так ужасно испугался, что испустил громкое «мяу».
– Клянусь Оркусом и всеми его ужасами, – воскликнул профессор, – этот дьявольский кот нас слышит и понимает! Я задушу его собственными руками!
– Вы неблагоразумны, профессор, – сказал серьезный человек, – никогда не потерплю я, чтобы кто-нибудь причинил хотя бы малейшее зло этому коту, которого я уже от души полюбил, хотя и не имел еще удовольствия близко познакомиться с ним. В конце концов мне остается только думать, что вы завидуете тому, что он пишет стихи. Ведь профессором эстетики этот серенький господинчик никак не может сделаться, вы можете быть спокойны на этот счет. Кажется, довольно ясно сказано в старых академических статутах, что вследствие бывших злоупотреблений ослы больше не могут быть профессорами; это правило, конечно, распространяется на зверей всевозможных пород, а следовательно – также и на котов.
– Ну, положим, – с раздражением сказал профессор, – кот никогда не будет ни магистром прав, ни профессором эстетики, но рано или поздно он выступит в качестве писателя, его будут печатать и читать ради новизны, и он отобьет у нас хорошие гонорары…
– Однако, – сказал серьезный человек, – я не вижу причины, почему бы этому славному коту, любимцу нашего мейстера, не выступить на поприще, на котором столь многие выступают, не имея ни выдержки, ни сил. Только об одном следовало бы позаботиться: нужно обстричь его острые когти, и это мы можем сейчас сделать, чтобы наверно знать, что он не будет нас царапать, когда сделается писателем.
Все встали с мест. Эстетик схватил ножницы. Легко представить себе мое состояние. Я решил защищаться как лев против того насилия, которое хотели надо мной совершить, и навеки обезобразить первого, кто ко мне подойдет. Я приготовился выскочить, как только откроют корзинку.
В эту минуту вошел мейстер Абрагам и совершенно рассеял мой страх, доходивший уже до крайних пределов. Он открыл корзинку, я одним прыжком выскочил вон и, дико пронесшись мимо мейстера, забился под печку.
– Что с ним случилось? – воскликнул мейстер, подозрительно глядя на гостей, которые стояли в смущении и ничего не отвечали, стыдясь своего злого умысла.
Как ни ужасно было мое положение в этой тюрьме, однако я нашел внутреннее удовлетворение в том, что говорил профессор о моей смелой карьере; радовала меня и его ясно выраженная зависть. Я уже чувствовал на голове докторскую шапочку, уже видел себя на кафедре. И разве мои лекции не будут посещаться усердной любознательной молодежью? Неужели некий юноша с мягкими нравами мог бы обидеться, если бы профессор попросил не водить в коллегию собак? Не все пудели так приветливы, как мой Понто; охотничьим собакам с длинными висячими ушами положительно нельзя доверять: они проделывают очень неблаговидные вещи с образованнейшими представителями нашей породы и вынуждают их к непристойным проявлениям гнева, как-то: фырканью, царапанью, кусанью и т. д.
Как прискорбно было бы…
(М. л.) …осталась одна только краснощекая придворная дама, которую Крейслер видел у Бенцон.
– Пожалуйста, Нанетта, – сказала принцесса, – будьте так добры, посмотрите сами, чтобы снесли гвоздики в мой павильон. Слуги так нерадивы! Они могут все перезабыть. Дама вскочила, очень церемонно присела, но потом вылетела из комнаты, как птица, выпущенная из клетки.
Принцесса обратилась к Крейслеру.
– Я ничего не могу сделать, – сказала она, – когда я не наедине с учителем, представляющим собой духовного отца, которому можно без страха доверить все свои грехи. Вообще вы найдете стеснительным наш строгий этикет, требующий, чтобы я вечно была окружена и оберегаема придворными дамами, как какая-то испанская королева. По крайней мере здесь, в Зигхартсгофе, можно пользоваться свободой. Если бы князь был во дворце, я бы не смела отправить Нанетту, которая сама настолько же скучает на наших уроках музыки, насколько она меня стесняет. Начнем опять сначала. Теперь пойдет гораздо лучше.
Крейслер, отличавшийся необыкновенным терпением во время уроков, начал снова ту вещь, которую разучивала принцесса, но как ни старалась Гедвига, и как ни помогал ей Крейслер, она путалась и в такте и в мелодии, делала ошибку за ошибкой и наконец, вся раскрасневшись, перестала петь, убежала к окну и стала смотреть в парк. Крейслеру показалось, что она плачет, и он нашел довольно неприятным свой первый урок и все это происшествие. Лучшее, что мог он придумать, это попробовать изгнать посредством музыки того антимузыкального духа, который мешал принцессе. И вот из-под пальцев его полились нежные мелодии. Он играл знакомые, любимые песни, варьируя их контрапунктическими ходами и замысловатыми украшениями, так что наконец сам удивился тому, как прелестно он умел играть на фортепиано, и совершенно забыл принцессу с ее арией и безрассудным поведением.
– Как великолепен Гейерштейн в сиянии вечерней зари, – сказала принцесса, не оборачиваясь.
Крейслер только что перешел в диссонанс, который, конечно, хотел разрешить, и потому не мог восхищаться с принцессой ни Гейерштейном, ни вечерней зарей.
– Есть ли на свете место очаровательнее и шире нашего Зигхартсгофа? – сказала Гедвига, возвысив голос.
Тут уж Крейслер должен был взять заключительный аккорд и подойти к окну, вежливо отвечая на вступительную фразу принцессы.
– Да, действительно, – сказал Крейслер, – действительно, ваше высочество, парк великолепен: особенно нравится мне то, что все деревья зеленого цвета, это восхищает меня во всех деревьях, кустах и травах; каждую весну благодарю я всевышнего за то, что они делаются опять зелеными, а не красными, что было бы дурно во всяком пейзаже и не встречается ни у одного хорошего пейзажиста: ни у Клод Лоррэна, ни у Бергэма, ни даже у Гакерта, который прибавляет немного пудры к своим зеленым лужайкам.
Крейслер хотел было продолжать свою речь, но вдруг увидел в маленьком зеркале, вставленном сбоку окна, смертельно бледное лицо принцессы, до такой степени расстроенное, что он остановился, пораженный ужасом.
Принцесса прервала молчание. Она заговорила, не оборачиваясь и все еще глядя вдаль, и голос ее звучал глубокой печалью.
– Крейслер, – сказала она, – судьбе угодно, чтобы я всегда казалась вам, взбалмошной, даже пустой, и давала повод изощрять на мне ваше язвительное остроумие. Пора объяснить вам, почему ваш вид приводит меня в состояние, похожее на потрясающий припадок сильнейшей лихорадки. Узнайте же все. Откровенное признание облегчит мою душу и даст мне возможность переносить ваш вид и ваше присутствие. Когда я встретила вас в первый раз в парке, то вы и все ваше поведение навели на меня ужас, причины которого я сама не могла понять. Но это было воспоминание детства, которое вдруг проснулось во мне со всей силой и ясно предстало потом в одном странном сне. При нашем дворе был художник по фамилии Эттлингер, которого князь и княгиня очень ценили за его необыкновенный талант. Вы найдете в галерее прекрасные картины его кисти, везде увидите вы княгиню в том или другом положении участвующею в исторических сценах. Но лучшая картина, возбуждающая удивление всех знатоков, висит в кабинете князя. Это портрет княгини, который художник написал в полном расцвете молодости, хотя и не знал ее в это время; портрет этот до такой степени схож с оригиналом, точно его изображение похищено у зеркала. Леонгард, – так звали художника, – был, вероятно, добрый и кроткий человек. Когда мне было не больше трех лет, я отдавала ему всю любовь, на которую способно было мое детское сердце, и желала, чтобы он никогда со мной не расставался. И он неутомимо со мной играл, рисовал мне картинки и вырезывал разные фигурки. Прошло не больше года, и вдруг он исчез. Женщина, которой поручено было мое первоначальное воспитание, сказала мне со слезами на глазах, что Леонгард умер. Я была неутешна и не могла оставаться в комнате, где играл со мной Леонгард. При всякой возможности я ускользала от своей воспитательницы и бегала по дворцу, крича: «Леонгард!» Мне все казалось, будто это неправда, что он умер, мне думалось, что он спрятался где-нибудь во дворце. Однажды вечером, пользуясь тем, что моя воспитательница куда-то вышла, я побежала искать княгиню. Она должна была сказать мне, где Леонгард, и привести его ко мне. Двери в коридор были открыты; я попала на главную лестницу, поднялась по ней и вошла наудачу в первую открытую комнату. Я стояла перед закрытой дверью и хотела ее толкнуть, думая, что она ведет в покои княгини, как вдруг дверь с шумом распахнулась и из нее выскочил человек в разорванном платье, с растрепанными волосами. Это был Леонгард, который пристально посмотрел на меня страшно сверкавшими глазами. Он был смертельно бледен, худ и почти неузнаваем.
«Леонгард, – воскликнула я, – какой ты странный! Отчего ты такой бледный? Отчего у тебя горят глаза и зачем ты так на меня смотришь? Я боюсь тебя! Будь такой же добрый, как прежде! Нарисуй мне красивых пестрых картинок!» Тогда Леонгард подскочил ко мне с диким смехом, причем надетая на него цепь загремела, волочась по полу, и заговорил хриплым голосом: «Ага, маленькая принцесса, ты хочешь пестрых картинок; да, теперь я могу рисовать, рисовать без конца; я нарисую тебе картинку и твою прекрасную мать! Не правда ли, ведь у тебя есть прекрасная мать? Только попроси ее, чтобы она меня больше не превращала, – я не хочу быть несчастным человеком, Леонгардом Эттлингером, тот уже давно умер! Я красный коршун и могу рисовать, потому что я съел все краски! Я могу рисовать, потому что у меня вместо лака горячая кровь; мне нужна твоя кровь, маленькая принцесса». И вдруг он схватил меня, прижал к себе, обнажил мне шею, и мне показалось, что в руке его сверкнул небольшой нож. Слуги сбежались на мой раздирающий крик и бросились на сумасшедшего. Но он с нечеловеческой силой повалил их на пол. В ту же минуту что-то загремело на лестнице, высокий сильный человек бежал по ней, громко крича:
«Боже мой, он убежал от меня! Что за несчастье! Погоди, погоди ты, дьявол!» Как только сумасшедший увидел этого человека, он вдруг ослабел и с воплем упал на пол. На него надели цепи, принесенные человеком, и куда-то его увели, причем он все время издавал ужасные звуки, похожие на рев затравленного зверя. Вы можете себе представить, какое страшное впечатление должно было произвести на четырехлетнего ребенка это ужаснее происшествие. Меня пробовали утешить и объяснить мне, что такое сумасшествие. Я не вполне поняла это, но в душу мою проник невыразимый ужас, который возвращается еще и теперь, когда я вижу сумасшедших или только подумаю об этом ужасном состоянии, похожем на непрерывную смертельную муку. Крейслер, вы похожи на того несчастного, как родной брат. Ваш взгляд, который часто можно назвать странным, слишком живо напоминает мне Леонгарда, и это именно привело меня в ужас, когда я увидела вас в первый раз, и это же всегда беспокоит и пугает меня в вашем присутствии.
Крейслер стоял, глубоко пораженный, и не мог выговорить ни слова. С этих пор его постоянно преследовали мысли, что будущее подстерегает его, как хищный зверь, подкрадывающийся к добыче и внезапно нападающий на нее при первом случае. Он почувствовал перед самим собой тот же ужас, какой чувствовала при виде его принцесса, и боролся со страшной мыслью, что он хотел убить принцессу в минуту бешенства. Помолчав немного, принцесса сказала:
– Несчастный Леонгард тайно любил мою мать, и эта любовь, уже сама по себе безумная, перешла в бешенство и ярость.
– Это значит, – сказал Крейслер очень мягким и кротким тоном, как он делал всегда, когда в груди его бушевала буря, – это значит, что Леонгард любил не так, как художник.
– Что вы хотите этим сказать, Клейслер? – спросила принцесса, быстро оборачиваясь к нему.
– Однажды, – начал Крейслер с нежной улыбкой, – я слышал в одной довольно глупой веселой комедии речь какого-то остряка, говорившего музыкантам: «Вы – добрые люди и плохие музыканты!» С этих пор я, как праведный судья, разделил человечество на две половины. Одна из них состоит из добрых людей, которые плохие или совсем не музыканты, другая же состоит из настоящих музыкантов. Но никто из них не проклят, все должны быть счастливы, хотя и по-разному. Добрые люди влюбляются в прекрасные глаза, простирают руки к прелестной особе, на лице которой сияют эти глаза, заключают свою милую в круг, который становится все Уже и Уже и наконец замыкается в обручальное кольцо, надеваемое на пальчик возлюбленной как pars pro toto[42]. Ведь вы немного понимаете по-латыни, светлейшая принцесса? Как pars pro toto, – говорю я, – как часть той цепи, которую надевают на попавшуюся в сети любви, ведя ее в брачную тюрьму. При этом они восклицают: «О боже!», или: «О небо!», или: «О звезды!», если они склонны к астрономии; если же они склонны к язычеству, то говорят: «О боги, она моя! Прекрасная, наполняющая всю мою душу!» Этим шумом добрые люди думают превзойти музыкантов, но напрасно, так как любовь тех выражается совсем иначе. Случается, что эти музыканты вдруг приподнимают покров, застилавший им глаза, и видят, бродя по земле, небесный образ, который, как неизведанная тайна, безмолвно покоился в их груди. И вот парит он в чистом небесном огне, лишь сияя и грея, а не уничтожая губительным пламенем; в нем весь восторг, все несказанное блаженство возвышенной жизни, исходящей из глубины души; в пылком желании дух музыканта протягивает тысячу нитей и опутывает ими ту, которую он видит, но никогда, никогда она не будет его, и вечно будет жить в нем стремление. А она, она и есть та дивная, воплощенная в жизнь мечта, которая выливается из груди художника в песне, картине или стихах! Ах, ваше высочество, верьте мне, что истые музыканты, употребляющие свои телесные руки на то, чтобы хоть сносно творить, будь это пером, кистью или еще иначе, действительно простирают к своим возлюбленным только духовные нити, на которых нет ни рук, ни пальцев, которыми они могли бы с подобающей деликатностью взять кольцо и надеть его на пальчик своей нареченной; поэтому в этих случаях нечего бояться мезальянсов, и вполне безразлично, будет ли возлюбленная, живущая в душе художника, княгиня или дочь булочника. Вышеупомянутые музыканты, испытывая любовь, творят в небесном вдохновении дивные вещи и, даже умирая в чахотке или впадая в сумасшествие, не могут быть несчастны. Я весьма благодарен г-ну Леонгарду Эттлингеру за то, что он пришел в некоторое бешенство. Он мог бы, по обычаю истых музыкантов, любить светлейшую княгиню без взаимности, сколько ему было угодно!
Насмешливые нотки, прорывавшиеся в речах Крейслера, не дошли до слуха принцессы, заглушенные звуком струны, которую он затронул и которая всего сильнее натянута в женском сердце, звуча громче всех остальных.
– Любовь художника, – сказала она, опускаясь в кресло, и как бы в раздумьи опустила голову на руку, – любовь художника! Быть так любимой! О, это дивный, небесный сон, но только сон, несбыточный сон!
– Вы, кажется, не очень склонны к снам, ваше высочество, – продолжал Крейслер, – но, к несчастью, только во сне вырастают у нас бабочкины крылья, с которыми мы вылетаем из узкого круга и, блестя и переливаясь, поднимаемся в высшие сферы. У всякого человека есть потребность летать, и я знал серьезных и приличных людей, которые по вечерам напивались шампанского для того, чтобы устроить ночью нечто вроде полета на воздушном шаре.
– И знать, что тебя так любят! – повторила принцесса с большим волнением.
Когда она замолкла, Крейслер заговорил снова:
– Что же касается любви художников, которую я постарался изобразить вам, ваше высочество, то у вас перед глазами дурной пример Леонгарда Эттлингера; он был музыкантом и хотел любить как добрые люди; вследствие этого несколько помутился его прекрасный разум, и потому я думаю, что он не был истинным музыкантом. Те носят возлюбленную в своем сердце и желают петь, сочинять и писать только ей во славу. По утонченней любезности можно сравнить их с рыцарями, но только в самых невинных вещах, так как они не выезжают, как те, на кровавые схватки, повергая во прах, для прославления дамы сердца, лучших людей, если нет под рукой драконов и великанов.
– Нет, – воскликнула принцесса, точно просыпаясь от сна, – нет! В груди мужчины не может гореть такой непорочный огонь! Что такое любовь мужчины, как не страшное оружие, употребляемое им, чтобы одержать победу, которая губит женщину, не давая ей счастья?
Крейслер был очень удивлен, слыша такие рассуждения из уст восемнадцатилетней принцессы; но в эту минуту открылась дверь и вошел принц Игнатий.
Капельмейстер был рад прекращению разговора, который он очень удачно сравнил с дуэтом, где каждый голос все время оставался верен своему характеру. В то время, как принцесса, по его уверению, разливалась в печальном adagio, только изредка вставляя мордент[43] или пральтриллер[44], сам он, как великолепнейший buffo[45] и высококомический певец, вступал с целым легионом коротких ноток parlando (скороговоркой), и выходило такое мастерское музыкальное произведение, что он от всей души желал бы слышать себя самого и принцессу из какой-нибудь ложи или хорошего места в партере.
Итак, принц Игнатий вошел в комнату, рыдая, обливаясь слезами и держа в руках разбитую чашку.
Надо заметить, что принц не мог расстаться со своими любимыми детскими играми, хотя ему было уже далеко за двадцать. Особенно любил он красивые чашки, в которые играл по целым часам, расставляя их на столе рядами и устраивая эти ряды на разные лады: то ставил он желтую чашку рядом с красной, то зеленую рядом с красной и т. д. При этом он радовался, как ребенок.
Теперь он был огорчен тем, что на стол вскочил маленький мопсик и свалил на пол одну из лучших чашек.
Принцесса обещала ему позаботиться о том, чтобы он получил из Парижа чайную чашку в новейшем вкусе. Он успокоился и начал улыбаться во весь рот. Только теперь заметил он капельмейстера. Он подошел к нему и спросил, много ли у него красивых чашек. Крейслер уже знал от мейстера Абрагама, что следует на это отвечать. Он стал уверять, что у него не может быть таких красивых чашек, как у его светлости, и что он не может тратить на это столько денег, как его светлость.
– Вот видите ли, – сказал Игнатий, который остался очень доволен, – я – принц и потому могу иметь столько красивых чашек, сколько хочу, а вы не можете, потому что вы не принц, а я уж наверно принц, и вот красивые чашки, чашки и принцы, принцы и чашки… – Тут пошли уж совсем непонятные речи, причем принц смеялся от радости, прыгал и хлопал в ладоши. Гедвига, покраснев, опустила глаза; она стыдилась слабоумного брата и совсем напрасно боялась насмешек Крейслера, которому, при его тогдашнем настроении, идиотство принца, как особый вид сумасшествия, внушало только жалость, увеличивавшую натянутость положения. Чтобы отвлечь беднягу от его чашек, принцесса попросила его убрать маленькую библиотечку, которая была в красивом стенном шкафу. Принц был совершенно счастлив и, блаженно улыбаясь, начал вынимать красиво переплетенные книжки и ставить их по формату, выставляя наружу золотой обрез так, чтобы книги составляли блестящий ряд, что его несказанно радовало.
Вдруг влетела фрейлен Нанетта, громко крича:
– Князь едет, князь с принцем!
– Ах, боже мой, – сказала принцесса, – что же мой туалет! Мы с вами и не заметили, как прошло время. Я совсем забыла и про князя, и про принца. – Она упорхнула с Нанеттой в соседний покой, а принц Игнатий продолжал заниматься своим делом.
Городской экипаж князя уже подъезжал к дворцу. Когда Крейслер был внизу главной лестницы, скороходы в придворных ливреях вышли из линейки. Но это требует объяснения.
Князь Ириней не любил расставаться со старыми обычаями. Давно уже миновало то время, когда перед лошадьми должны были скакать, как затравленные звери, быстроногие шуты в пестрых куртках, но в числе многолюдной княжеской прислуги были два скорохода, причем эти очень красивые и приличные люди почтенного возраста жаловались иногда на плохое пищеварение вследствие сидячего образа жизни.
Князя считали слишком человеколюбивым, чтобы он мог когда-либо заметить слуге, что он превращается мало-помалу в флюгарку или просто в придворную собаку. Чтобы сохранить надлежащий этикет, скороходы должны были в торжественных случаях ехать в линейке, а в тех местах, где собиралась толпа зевак, они слегка болтали ногами в знак того, что они действительно бегут. Это было прекрасное зрелище.
Итак, скороходы только что вышли из линейки, камергеры вошли в портал, а за ними проследовал князь Ириней, рядом с которым шел красивый молодой человек в богатом мундире неаполитанской гвардии, с несколькими крестами и звездами на груди.
– Je vous salue, monsieur de Krösel[46], – сказал князь, увидавши Крейслера. Он всегда выговаривал Krösel вместо Крейслер в тех торжественных и важных случаях, когда говорил по-французски и не мог как следует вспомнить ни одного немецкого имени.
Сообщая о приезде князя с принцем, фрейлен Нанетта, конечно, разумела красивого молодого человека.
Проходя мимо Крейслера, иностранный принц слегка кивнул ему – приветствие, которого Крейслер не выносил, даже если оно исходило от самых высокопоставленных лиц. Поэтому он поклонился до самой земли с таким комическим видом, что толстый гофмаршал, вообще считавший Крейслера завзятым шутником и принимавший за шутку все, что он говорил или делал, не мог удержаться и слегка фыркнул. Молодой принц яростно сверкнул на Крейслера своими темными глазами, проворчал сквозь зубы немецкое ругательство и быстро прошел вперед мимо князя, который посмотрел на него со спокойной важностью.
– Однако, – с громким смехом воскликнул Крейслер, обращаясь к гофмаршалу, – его светлость весьма недурно выражается по-немецки для итальянского гвардейца; скажите ему, ваше превосходительство, что к его услугам самое литературное неаполитанское наречие, да притом еще плохое римское или, по меньшей мере, гнусная намалеванная венецианская маска, – словом, что я не останусь у него в долгу. Скажите ему, ваше превосходительство…
Но его превосходительство уже входил по лестнице, высоко поднимая плечи наподобие бастионов или предохранительных укреплений для ушей.
Княжеский экипаж, в котором Крейслер уезжал обыкновенно из Зигхартсгофа в город, уже был готов, и старый егерь, стоя у открытой дверки, спрашивал, угодно ли ехать господину. В эту минуту мимо пробежал поваренок, громко крича и вопя:
– Какое горе! Какое несчастье!..
– Что случилось? – закричал ему Крейслер.
– Ах, какое несчастье! – отвечал поваренок, еще горше плача. – Господин обер-кухмистер в совершенном отчаянии и в бешенстве, они желают проткнуть себя с горя кухонным ножом; его светлость вдруг пожелали ужинать, а у нас не хватает улиток для итальянского салата. Господин обер-кухмистер желают сами ехать в город, но господин обер-шталмейстер не решаются велеть запрягать, потому что они не получили приказания от его светлости.
– Это можно уладить, – сказал Крейслер, – господин обер-кухмистер поедет в этом экипаже и запасется самыми лучшими улитками во всем Зигхартсвейлере, а я прогуляюсь пока пешком в тот же самый город.
Сказавши это, он побежал в парк.
– Высокая душа! Благородное сердце! Добрейший господин! – закричал ему вслед старый егерь, и даже слезы показались у него на глазах.
Дальние горы сияли в пламени вечерней зари. Горящий золотом отраженный свет, играя, лился на луга и сквозил между деревьями и кустами, точно привлекаемый шелестящим вечерним ветром.
Крейслер стоял на мосту, перекинутом через широкий рукав озера к рыбачьему домику, и смотрел в воду, где в волшебном сиянии отражался весь парк с его дивными группами деревьев и высоко вздымающимся над ним Гейерштейном, на вершине которого, подобно чудной короне, высились белые руины. Ручной лебедь, откликавшийся на имя Blanche[47], плескался в озере, поднимая прекрасную гордую шею и рассекая блестящие струи.
– Blanche, Blanche, – громко воскликнул Крейслер, простирая руки, – спой мне свою лучшую песню, но только не думай, что ты должен потом умереть! О нет, ты должен с песней прижаться к моей груди, потому что мне принадлежат твои дивные звуки, я один изнываю здесь в вечном стремлении мечты, в то время как ты, полный любви и жизни, колышешься на ласкающих волнах.
Крейслер и сам не знал, что так внезапно и глубоко его взволновало; он облокотился на перила и невольно закрыл глаза. Тогда услышал он пение Юлии, и неизъяснимо сладостная печаль наполнила его душу.
Между тем собирались мрачные тучи, бросая широкие тени на горы и лес, точно одевая их в темную мантию. Глухой гром грохотал в отдалении, сильнее гудел ночной ветер, ручьи журчали, и, как далекий орган, раздавались и затихали звуки эоловой арфы; испуганно поднялись ночные птицы и с криком носились во мраке.
Крейслер пробудился от грез и увидел в воде свое темное отражение. Ему представилось, что из глубины воды смотрит на него сумасшедший художник Эттлингер.
– Ого, – воскликнул Крейслер, – ты здесь, мой милый двойник и товарищ? Слушай-ка, почтенный мой друг, ты совсем недурен для художника, который немного хватил через край и в гордом самомнении хотел поживиться княжеской кровью вместо лака. В конце концов, добрый мой Эттлингер, я думаю, что ты дурачил знатные семейства своим безумным поведением. Чем больше я на тебя смотрю, тем яснее различаю в тебе благородные манеры. Я могу уверить княгиню Марию, что, судя по тому, каким кажешься ты мне в воде, ты был очень значительной особой и она могла бы любить тебя без дальних рассуждений. Но если ты хочешь, приятель, чтобы княгиня и теперь еще походила на твою картину, ты должен следовать примеру княжеского дилетанта, который достигает сходства тем, что тщательно копирует ее последний портрет. Если когда-то тебя несправедливо послали к черту, то зато я могу сообщить тебе разные новости. Знай же, почтенный выходец из сумасшедшего дома, что рана, которую нанес ты бедному ребенку, прекрасной принцессе Гедвиге, не зажила еще и доныне, так что она делает иногда от боли престранные вещи. Или ты так жестоко и больно уязвил ее сердце, что и теперь еще из него сочится кровь, если она видит твою маску, наподобие того, как проступает кровь на трупах, когда входят убийцы? Уж ты не взыщи с меня, друг, за то, что она считает меня твоим призраком. Только что я хотел уверить ее, что я не выходец с того света, а капельмейстер Крейслер, как пришел принц Игнатий, занимающийся вещами, которые, по мнению мудрецов, представляют приятный вид особой глупости. Не подражай же всем моим жестам, художник! Ведь я говорю с тобой серьезно! Опять! Если бы я не боялся насморка, я бы скакнул к тебе и наказал бы тебя за это! Убирайся к черту со своей проклятой мимикой!
И Крейслер быстро помчался вперед. Между тем совершенно стемнело, среди черных туч вспыхивали молнии, гремел гром, и вдруг брызнул крупными каплями дождь. Из рыбачьего домика сиял яркий, ослепительный свет, и туда поспешил Крейслер.
Недалеко от двери в ярком свете увидел Крейслер свой образ, свое «я», которое шло рядом с ним. Охваченный ужасом, ворвался он в дом и бросился на стул, бледный, как смерть, с прерывающимся дыханием.
Мейстер Абрагам, который сидел у маленького стола, при ярком свете астралиновой лампы читая большой фолиант, испуганно вскочил, подошел к Крейслеру и воскликнул:
– Ради бога, Иоганн, что с вами? Откуда вы так поздно, и что вас так испугало?
Крейслер с трудом овладел собой и сказал глухим голосом:
– Ничего не случилось, но нас здесь двое: я и мой двойник, который выскочил из озера и преследовал меня вплоть до этого дома. Будьте милосерды, мейстер, возьмите вашу палку с кинжалом и убейте этого негодяя; он бешеный и может погубить нас обоих. Он околдовал стихии. В воздухе летают духи, и музыка их разрывает грудь человека. Мейстер, мейстер, приманите лебедя, он должен петь! Моя песня смолкла, потому что мое второе «я» наложило мне на грудь свою холодную, белую мертвую руку; если же лебедь запоет, оно снимет ее и опять погрузится в озеро…
Тут мейстер Абрагам остановил Крейслера; он ласково заговорил с ним, дал ему выпить огненного итальянского вина, бывшего у него под рукой, и стал расспрашивать его понемногу, как было дело.
Как только Крейслер кончил, мейстер Абрагам разразился громким смехом:
– Узнаю моего фантазера и духовидца! – воскликнул он. – Органист, разыгравший в парке такие ужасные хоралы, был не кто иной, как ночной ветер, который с воем носился по воздуху, заставляя звучать струны гигантской эоловой арфы. Да, да, Крейслер, вы забыли про эолову арфу, протянутую между двумя павильонами в конце парка[48].
Что же касается вашего двойника, который появился рядом с вами при свете астралиновой лампы, то я сейчас докажу вам, что как только я выйду в дверь – у меня тоже окажется под рукой двойник, и всякий, кто будет ко мне входить, должен терпеть то, что при нем будет находиться chevalier d’honneur[49] его собственной особы.
Мейстер Абрагам стал перед дверью, и около него в свете лампы выступил другой мейстер Абрагам.
Крейслер заметил действие скрытого вогнутого зеркала и рассердился, как человек, узнавший разгадку чудес, в которые он верил. Людей более удовлетворяет смертельный ужас, чем естественное объяснение того, что кажется им призрачным; им мало этого мира, они хотят видеть еще кое-что из другого мира, не требующего тела для того, чтобы быть открытым.
– Я не могу понять, мейстер, вашего странного вкуса к подобным штукам, – сказал Крейслер. – Вы приготовляете чудесное из разных острых снадобий, как какой-то повар, и воображаете, что люди, фантазия которых сделалась так же плоска, как желудок у слизняков, будут сбиты с толку подобными фокусами. Нет ничего неприятнее, когда после таких проклятых фокусов, раздирающих человеку сердце, вдруг оказывается, что все это произошло естественным образом.
– Естественным! – воскликнул мейстер Абрагам. – Как человек изрядного ума, вы должны признать, что ничто в мире не происходит естественно, да, ничто! Или вы думаете, уважаемый капельмейстер, что если нам удается некоторыми средствами произвести известное, определенное действие, то для нас ясны причины действия, проистекающие из тайн природы? Вы когда-то относились с большим уважением к моим фокусам, хотя никогда не видали самого лучшего из них, перла всех моих фокусов.
– Вы разумеете невидимую девушку? – сказал Крейслер.
– Конечно, – продолжал мейстер, – именно этот фокус более всех других мог бы вам доказать, что простейшие вещи, легко поддающиеся механике, часто соприкасаются с самыми таинственными явлениями природы и могут производить нечто, остающееся необъяснимым в самом простом смысле слова.
– Гм… – сказал Крейслер, – если применить известную теорию звука и суметь искусно скрыть аппарат, а под рукой у вас будет смышленое и подвижное существо…
– О Кьяра! – воскликнул мейстер, и слезы заблестели у него на глазах. – Кьяра! Мое милое, нежное дитя!..
Крейслер никогда не видел старика в таком сильном волнении, так как тот не любил давать волю печальным чувствам и всегда над ними смеялся.
– В чем дело? Какая Кьяра? – спросил капельмейстер.
– Это очень глупо, – улыбаясь, сказал мейстер Абрагам, – что я выкажусь вам сегодня старым плаксой; но, вероятно, небу угодно, чтобы я рассказал вам, наконец, страницу из моей жизни, о которой я долго молчал. Подойдите сюда, Крейслер, посмотрите на эту большую книгу; это самая замечательная вещь из всего моего имущества, наследие одного замечательного фокусника, по имени Северино. Я сидел и читал удивительнейшие вещи, глядя на маленькую Кьяру, которая здесь изображена, и вдруг вы врываетесь вне себя и выражаете презрение к моей магии в ту самую минуту, как я погрузился в воспоминания о прекраснейшем из ее чудес, принадлежавшем мне в цветущую пору жизни.
– Ну рассказывайте же, – воскликнул Крейслер, – чтобы и я мог пореветь вместе с вами!
Мейстер Абрагам начал так:
– Когда я был молод, силен и хорош собой, то, будучи слишком усерден и чересчур любя похвалы, я заработался до истощения сил над большим органом в главной церкви Гонионесмюля. Доктор сказал мне: «Советую вам, уважаемый мейстер, пуститься в дальний путь по долам и горам». Я так и сделал, причем доставил себе удовольствие появляться всюду в качестве механика и показывать везде интереснейшие штуки. Дело шло хорошо, и я заработал немало денег, но в одном месте встретил человека, по имени Северино, который посмеялся надо мной и над моими штуками и чуть не заставил меня думать вместе с народом, что он в союзе с чертом или по крайней мере с другими, более достойными, духами. Наибольшее удивление возбуждал его женский оракул, – фокус, который был известен впоследствии под названием «невидимой девушки». Среди комнаты под потолком свободно висел шар из самого тонкого прозрачного стекла, и из этого стекла, подобно дыханию ветра, лились ответы на вопросы, предлагаемые невидимому существу. Славе художника способствовала не только необъяснимая странность этого феномена, но также и поразительный, проникающий в душу голос невидимки, меткость ее ответов и ее пророческий дар. Я сблизился с ним и много говорил ему о моих механических фокусах, но он презирал мои знания, хотя в другом смысле, чем вы, Крейслер. Он требовал, чтобы я сделал ему водяной орган для домашнего употребления, хотя я говорил ему, как и покойный придворный советник Мейстер из Гетингена в своем трактате «De veterum hydraulo»[50], что из такого употребления воды ничего выйти не может и что гораздо лучше воспользоваться несколькими фунтами воздуха, который, благодарение богу, еще везде есть. Наконец Северино признался, что ему нужны нежнейшие звуки подобного инструмента для того, чтобы помогать невидимке; он пообещал открыть мне тайну, если я поклянусь всеми святыми, что не буду пользоваться ею сам и не открою ее никому другому, хотя трудно узнать его тайну без того, чтобы… Здесь он остановился и сделал такое же таинственное и сладкое лицо, как делал когда-то Калиостро, говоря женщинам о своих волшебных превращениях. Сгорая любопытством увидеть невидимку, я обещал ему сделать водяной орган; тогда он подарил мне свое доверие и даже выказал известное расположение, так как я предлагал ему добровольное содействие в его работах. Однажды, когда я шел к Северино, я увидел толпу, собравшуюся на улице. Мне сказали, что сейчас упал в обморок какой-то человек приличного вида. Я пробрался сквозь толпу и узнал Северино, которого только что подняли и несли в ближайший дом. Шедший мимо доктор принял в нем участие. Когда испробовали разные средства, Северино с глубоким вздохом открыл глаза. Взгляд его, устремленный на меня из-под судорожно сжатых бровей, был страшен; весь ужас борьбы со смертью отражался в мрачном блеске его глаз. Губы его зашевелились, он попробовал говорить, но не мог. Наконец он несколько раз порывисто ударил рукой по боковому карману. Я заглянул туда и вынул оттуда несколько ключей. «Это ключи от вашей квартиры?» – спросил я. Он кивнул. Тогда я взял один из ключей и, держа его у него перед глазами, сказал: «Это ключ от той комнаты, в которую вы никогда не хотели меня пустить?» Он опять кивнул. Когда же я хотел расспрашивать его дальше, он начал охать и стонать в смертельном страхе; холодный пот выступил у него на лбу, он вытянул руки, потом согнул их, сложил вместе, точно что-то обнимая, и показал на меня. «Он хочет, – сказал доктор, – чтобы вы положили в сохранное место его вещи и аппараты, а в случае его смерти, может быть, даже взяли их себе». Северино, сильнее закивав, закричал наконец: «Corre!» (беги) и опять упал в обморок. Я скорей поспешил в жилище Северино. Сгорая от нетерпения и ожидания, я открыл кабинет, где должна была находиться таинственная невидимка, и немало удивился, найдя его совершенно пустым. Единственное окно было плотно завешено, так что свет едва брежжил в комнате. На стене против двери висело большое зеркало. Когда я случайно стал перед этим зеркалом и увидел при слабом свете свое отражение, я почувствовал нечто похожее на то, как будто я был на изолированном стуле электрической машины. В ту же минуту голос невидимой девушки сказал по-итальянски: «Пощадите меня хоть сегодня, отец! Не бейте меня так жестоко, ведь вы уже умерли!» Я поспешно открыл дверь, так что в комнату проник яркий свет, но не видел ни души.
– «Это хорошо, – говорил голос, – это хорошо, отец, что вы послали господина Лискова, но он не позволит, чтобы вы меня били, он разобьет магнит, а вы уж не можете прийти из могилы, где вы лежите; все ваши старания будут напрасны; вы теперь уже мертвец и не принадлежите жизни». Вы можете себе представить, Крейслер, какой ужас напал на меня; я никого не видел, а голос раздавался совсем близко. «Черт возьми, – сказал я громко, чтобы придать себе храбрости, – если я увижу где-нибудь хоть самую дрянную бутылочку, я разобью ее, хотя бы сам черт встал передо мной со всей своей свитой, но так…» Вдруг мне пришло в голову, что тихие вздохи, носившиеся по комнате, идут из-за загородки, стоявшей в углу и казавшейся мне слишком малой, чтобы скрыть человеческое существо. Я подбегаю к ней, открываю задвижку и вижу, что там, свернувшись клубком, лежит девушка, смотрит на меня дивно прекрасными глазами и протягивает мне руку. «Пойди сюда, моя овечка, моя маленькая невидимка», – говорю я ей. Я беру ее за руку и чувствую электрический ток, пробегающий по всем моим членам.
– Стойте, стойте, мейстер! – воскликнул Крейслер. – Отчего, когда я в первый раз нечаянно дотронулся до руки принцессы Гедвиги, со мной случилось то же самое, и всякий раз, хотя и слабее, чувствую я то же действие, когда она милостиво протягивает мне руку!
– Ого, – отвечал мейстер Абрагам, – значит, наша маленькая принцессочка есть нечто вроде gymnotos electricus[51], или raja torpedo[52], или trichiurus indicus[53], так же как была до некоторой степени и моя милая Кьяра; она похожа на ту веселую домашнюю мышку, которая давала очень ловкие оплеухи достопочтенному синьору Котуньо всякий раз, как он брал ее за спину, чтобы сечь, что, конечно, не могло вам прийти в голову относительно принцессы! Но мы поговорим о ней в другой раз, теперь же займемся моей невидимкой. Я попятился, испуганный ударом этой маленькой торпеды, но девочка сказала по-немецки необыкновенно ободряющим тоном: «Ах, не сердитесь, пожалуйста, господин Лисков, я не могу иначе; боль слишком сильна». Не тратя больше времени на пустые размышления, я осторожно взял малютку за плечи, вынул ее из этой отвратительной тюрьмы и увидел перед собой прелестное создание нежного сложения; по росту ей было не больше двенадцати лет, но, судя по развитию, не меньше шестнадцати. Посмотрите в книгу: она нарисована здесь очень похоже, и вы должны признать, что не может быть лица прелестнее и выразительнее ее. Но никакой портрет не передает удивительного, проникающего душу огня ее чудных черных глаз. Всякий, кто не падок до белоснежных шеек и светлых волос, должен найти это личико дивно прекрасным, так как шейка моей Кьяры была действительно слишком смугла, а волосы ее черны, как смоль. Кьяра, – вы уже знаете, что так звали маленькую невидимку, – итак, Кьяра бросилась передо мной на колени; все существо ее выражало печаль и страданье, слезы брызнули ручьем из ее глаз, и она сказала с невыразимым чувством: «Je suis sauvée»[54]. Я почувствовал глубочайшую жалость и начал подозревать ужасные вещи. Тут принесли тело Северино, умершего от второго удара сейчас же после того, как я его оставил. Как только Кьяра увидела тело, слезы ее остановились; серьезно смотрела она на мертвого Северино и удалилась, когда пришедшие люди стали с любопытством ее осматривать и, смеясь, говорили, что она и была, вероятно, невидимой девушкой. Я нашел невозможным оставить ее одну с трупом; добрые хозяева вызвались взять ее к себе.
Когда все ушли, я вошел в кабинет и нашел Кьяру сидящей перед зеркалом в странном состоянии. Глаза ее были устремлены в зеркало, но, казалось, ничего не видели, как при лунатизме.
Она шептала непонятные слова, которые становились все яснее и яснее, так что, наконец, можно было разобрать, что она говорит то по-немецки, то по-французски, то по-испански, то по-итальянски о вещах, относившихся как будто к отдаленным лицам. К немалому своему удивлению, я заметил, что наступил тот самый час, когда Северино заставлял обыкновенно прорицать свой женский оракул. И вдруг Кьяра закрыла глаза и впала в глубокий сон. Я взял бедняжку на руки и снес ее к хозяевам. На другой день я нашел ее веселой и спокойной; только теперь она окончательно поняла, что она свободна, и рассказала мне все, что я хотел. Несмотря на то, что вы прежде придавали значение знатности рода, вас, вероятно, не смутит то обстоятельство, что моя Кьяра была не кто иная, как маленькая цыганочка. Она грелась на солнце, охраняемая сыщиками, вместе с толпой грязного люда на рыночной площади какого-то большого города, как раз в ту минуту, когда мимо проходил Северино. Его остановила восьмилетняя девочка, крича ему: «Братец, хочешь, я погадаю?» Северино долго смотрел ей в глаза, потом протянул ей свою ладонь и выразил величайшее удивление. Вероятно, он нашел в малютке нечто совершенно особенное, так как сейчас же подошел к полицейскому, который вел толпу взятых под стражу цыган, и сказал, что даст изрядную сумму, если ему позволят взять с собой девочку. Полицейский резко заметил, что здесь не невольничий рынок, но, однако, прибавил, что малютку нельзя считать за настоящего человека, и она стала бы только занимать место в тюрьме, а потому ее можно взять, если господину угодно будет заплатить десять дукатов в городскую кассу для бедных.
Северино сейчас же вынул кошелек и вручил полицейскому деньги. Кьяра и ее старая бабушка слышали этот торг; они начали кричать, плакать и не хотели расставаться. Тогда подошли сыщики и посадили старуху в приготовленную для развозки фуру; полицейский, вероятно, принявший в ту минуту свой кошелек за городскую кассу для бедных, побрякивал блестящими дукатами, а Северино уводил маленькую Кьяру, которую он старался утешить тем, что купил ей на том же самом рынке, где он ее нашел, красивое новое платьице и накормил ее лакомствами. Очевидно, Северино, тогда уже обдумавший фокус с невидимкой, нашел в маленькой цыганке все данные для этой роли. Он старался развить ее организм и действовать на нее так, чтобы она приходила в возбужденное состояние. Он искусственными средствами доводил ее до того состояния, в котором у нее являлся пророческий дар (вспомните Месмера и его ужасные эксперименты), и приводил ее в это состояние всякий раз, как ей нужно было прорицать. Несчастный случай открыл ему, что малютка была особенно хороша, когда она испытывала боль: тогда ее дар провидеть чужое «я» доходил до невероятных пределов, превращая ее в ясновидящую. Перед каждым опытом ужасный человек бичевал ее и доводил этим жестоким способом до сильнейшей степени ясновидения. К этой муке присоединилась еще и та, что бедняжка Кьяра в отсутствии Северино должна была забиваться за эту загородку, чтобы даже в случае, если кто-нибудь проникнет в кабинет, ее присутствие оставалось тайной.
В этом же ящике она и путешествовала с Северино. Судьба Кьяры была несчастнее и страшнее участи того карлика, который сопровождал известного Кемпелена и должен был разыгрывать шаха в одежде турка. Я нашел у Северино много денег золотом и в бумагах, и мне удалось обеспечить существование Кьяры; аппарат же с оракулом, то есть акустические приспособления в комнате, я уничтожил, как и многие другие сооружения, неудобные для переноски, причем я, по ясно выраженному желанию Северино, узнал и сохранил многие его тайны. Сделавши это, я самым грустным образом распрощался с Кьярой, которую добрые хозяева оставляли у себя, как любимое дитя, и покинул город. Прошел уже год; я намеревался вернуться в Гонионесмюль, где достопочтенный магистрат требовал от меня починки орга́на, но по особому благоволению неба я прослыл за фокусника, вследствие чего один негодяй стащил кошелек, составлявший все мое богатство, и заставил меня для пропитания проделывать разные чудеса в качестве знаменитого механика с множеством аттестатов. Это случилось в одном местечке, недалеко от Зигхартсвейлера. Однажды вечером я возился над каким-то волшебным ящичком. Вдруг отворяется дверь, и входит женщина, которая восклицает: «Нет! Я не могла больше вынести, я должна была прийти к вам, господин Лисков, иначе я умерла бы с тоски! Вы – мой господин, распоряжайтесь мною!»
Она бросается к моим ногам, потом в мои объятия… Передо мной – Кьяра! Я едва узнал ее, так она выросла и пополнела, что, однако, нисколько не умаляло изящества ее форм. «Милая, дорогая Кьяра!» – восклицаю я в глубоком волнении и прижимаю ее к своей груди. «Не правда ли, – говорит Кьяра, – вы не прогоните и не оттолкнете бедной Кьяры, которая обязана вам жизнью и свободой?» С этими словами она бросается к ящику, который вносит в эту минуту почтовый служитель, сует ему в руки столько денег, что тот улепетывает, громко возгласив: «Ай да молодец, моя милая цыганочка!», – потом открывает ящик, вынимает вот эту книгу и отдает ее мне, говоря: «Господин Лисков, возьмите лучшее наследие Северино, забытое вами». Я раскрываю книгу, и она начинает спокойно вынимать белье и платья. Вы можете себе представить, Крейслер, что Кьяра привела меня в немалое замешательство. Но пришло наконец время, повеса: ты должен научиться меня ценить. Когда я помогал тебе таскать спелые груши с дядюшкиного дерева и вешать вместо них искусно разрисованные деревянные плоды, или учил предлагать ему померанцевой воды в лейке, из которой он поливал свои панталоны, разложенные на траве для беления, или же помогал тебе разбивать прекрасную мраморную статую, – словом, когда я подстрекал тебя к разным дурачествам, ты считал меня шутом и полагал, что у меня нет сердца или же оно так плотно закрыто шутовской курткой, что нельзя и подозревать о том, бьется ли оно. Не кичись же твоей чувствительностью и твоими слезами; вот смотри: я опять начинаю позорно хныкать, как это частенько бывает с тобой. Но, черт возьми, не хочу я на старости лет показывать молодым людям свою душу, как какие-то меблированные комнаты! – Тут мейстер Абрагам отошел к окну и стал смотреть в темноту. Гроза прошла, сквозь шелест листьев слышно было, как падают капли дождя, стряхиваемые ночным ветром. Из дворца доносилась веселая танцевальная музыка. – Вероятно, принц Гектор открывает partie de chasse[55] и начинает ее прыжками, – сказал мейстер Абрагам.
– А Кьяра? – спросил Крейслер.
– Да, – сказал мейстер и совершенно разбитый опустился в кресло, – ты прав, сын мой, что напоминаешь мне о Кьяре; в эту ужасную ночь я должен испить до дна весь кубок горьких воспоминаний. Пока Кьяра весело порхала по комнате и в глазах ее сияла чистейшая радость, я почувствовал, что мне будет невозможно с ней расстаться, что она должна сделаться моей женой. Я сказал ей: «Кьяра, что я буду с тобой делать, если ты здесь останешься?» Кьяра подошла ко мне и сказала очень серьезно: «В книге, которую я вам привезла, вы найдете подробное описание оракула, приспособления к которому вы уже видели. Я буду вашей невидимой девушкой!» – «Кьяра!.. – воскликнул я. – Как ты можешь равнять меня с каким-то Северино?» – «О, не говорите про Северино», – отвечала Кьяра. Мне нечего рассказывать вам всего по порядку, Крейслер; вы уже знаете, что я приводил в удивление весь мир своей невидимой девушкой, и, конечно, можете быть уверены, что мне было противно возбуждать мою Кьяру какими бы то ни было искусственными средствами или чем-либо стеснять ее свободу. Она сама назначала мне день и час, когда она чувствовала себя способной играть роль невидимки, и только тогда прорицал мой оракул. Кроме того, эта роль стала потребностью для моей малютки. Некоторые обстоятельства, которые вы вскоре должны узнать, привели меня в Зигхартсвейлер. Согласно моим планам, я обставил свое появление очень таинственно. Я поселился в уединенном жилище вдовы княжеского повара, через которую я очень быстро распространил при дворе известие о моих чудесных фокусах. Случилось то самое, чего я ожидал. Князь, – я разумею отца князя Иринея, – явился ко мне, и Кьяра превратилась в волшебницу, которая, как бы вдохновляясь нечеловеческой силой, часто открывала ему его душу, так что многое, бывшее ему прежде непонятным, становилось ясно. Кьяра стала моей женой, она жила в Зигхартсгофе у одного преданного мне человека и приходила ко мне под покровом ночи, так что ее присутствие оставалось тайной. Заметьте, Крейслер, как люди любят чудесное: фокус с невидимой девушкой все сочли бы за глупый фарс, как только стало бы известно, что невидимая девушка состоит из плоти и крови. В том городе, где я встретил Кьяру, все назвали Северино обманщиком после его смерти, потому что в его кабинете говорила маленькая цыганка, и никто не обратил внимания на искусные акустические приспособления, посредством которых звук выходил из стеклянного шара.
Старый князь умер. Мне опротивели мои фокусы и таинственное укрывательство Кьяры, я хотел уехать с моей милой женой в Гонионесмюль и снова делать органы. Однажды ночью Кьяра, которая должна была в последний раз играть роль невидимки, не явилась ко мне, так что я должен был отправить любопытных ни с чем; в сердце у меня шевельнулось недоброе предчувствие. Утром я отправился в Зигхартсгоф и узнал, что Кьяра ушла в обычный час… Ну и что же ты на меня смотришь? Я надеюсь, ты не будешь задавать мне глупых вопросов? Ты ведь знаешь, что Кьяра исчезла бесследно, и я никогда, никогда ее больше не видел!
Мейстер Абрагам быстро вскочил и бросился к окну.
Глубокий вздох открыл исход каплям крови, сочившимся из раскрытой сердечной раны. Крейслер почтил молчанием глубокую скорбь старика.
– Вы теперь не можете идти в город, капельмейстер, – сказал наконец мейстер Абрагам, – теперь уже за полночь, а на дворе, как вы знаете, бродят злые двойники, и с вами могут случиться разные страшные вещи. Останьтесь со мной! Это должно быть глупо, очень глупо…
(М. пр.) …если бы подобные неприличия происходили в священных местах, я разумею аудиторию. Мне стало так душно, так тяжело на сердце, меня волновали самые высокие мысли, я не мог больше писать, я должен был прекратить это занятие и немного пройтись! Мне стало легче, и я вернулся к столу. Но от избытка сердца глаголют уста, а также и перо поэта. Я слышал, как мейстер Абрагам рассказывал, что в одной старой книге говорится про странного человека, у которого была в теле какая-то особенная materia peccans[56], выходившая только через пальцы. Он подкладывал под руку хорошую белую бумагу и начинал изливать все, что исходило от этого злого, беспокойного существа, и эти гнусные излияния он называл стонами, исходившими из глубины его сердца. Я считаю это злой сатирой, но в самом деле у меня бывает иногда в лапах какое-то особое чувство, нечто вроде духовного зуда, понуждающее меня записывать все, что я думаю. Теперь я чувствую то же самое. Это может мне повредить; глупые коты бывают иногда злы в своей слепоте, они способны дать мне почувствовать свои когти, но я не могу удержаться.
Хозяин сегодня весь день читал большую книгу, переплетенную в свиную кожу; когда же он, наконец, ушел в свой обычный час, он оставил книгу на столе открытой. Я быстро вскочил на нее и с своей обычной страстью к наукам хотел пронюхать, что это за книга, которую хозяин так настойчиво изучал. Это было прекрасное сочинение старого Иоганна Кунисбергера об естественном влиянии созвездий, планет и двенадцати знаков зодиака. Да, я могу справедливо назвать это сочинение прекрасным, так как, пока я его читал, чудесность моего существования и моих судеб предстала передо мной с полной ясностью.
Пока я пишу это, над моей головой горит великолепное созвездие, оно родственно мне и потому сияет мне в душу и из моей души; да, я чувствую на челе своем сверкающий луч длиннохвостой кометы, сам же я – не что иное, как сверкающая звезда с хвостом, небесный метеор, пророчески проходящий через мир во всей своей славе. Перед кометой бледнеют все звезды, и так же точно, – если только я не зарою в землю своих талантов и заставлю ярко гореть свой светильник, что вполне зависит от меня самого, – так же точно, говорю я, исчезнут передо мной во мраке ночи все другие коты, животные и люди! Но, несмотря на божественную натуру, сияющую из моего светлого хвостоносного духа, разве не разделяю я участи всех прочих смертных? Мое сердце так мягко, и я такой чувствительный кот, что легко могу впадать в слабости, почему и испытываю печаль или горе. Не должен ли я сознаться, что я одинок, как в пустыне, так как не принадлежу ни к нынешнему, ни к грядущему веку, более высокому по своему развитию, и нет ни одной души, способной достаточно мне удивляться? А между тем это очень приятно, когда мне удивляются; я чувствую неизреченную радость даже от похвал самых простых и необразованных молодых котов. Я умею доводить их до крайнего удивления, но к чему это, когда они не умеют при этом взять настоящий хвалебный тон, даже если начнут мяукать во все горло. Следует думать о грядущем поколении, которое будет меня ценить. А теперь напишу ли я философское сочинение – кто проникнет в глубину моего духа? Напишу ли трагедию – где актеры, способные ее разыграть? Примусь ли за другие литературные работы, например, за критические очерки, – они удадутся мне уже потому, что я – выше всего, что носит название поэта, писателя или художника, и считаю себя самого несравненным образцом и идеалом совершенства, в чем я один могу быть компетентным судьей, – но кто же способен возвыситься до моего основного принципа и разделить мои взгляды? Итак, есть ли лапы или руки, способные увенчать мое чело заслуженными лаврами? Остается одно отличное средство: я сделаю это сам и потом дам почувствовать свои когти всякому, кто осмелится покуситься на мой венец. А ведь существуют такие завистливые звери. Я даже представляю себе часто, как они на меня нападают, и в воображаемой самозащите запускаю в лицо свое острое орудие и страшно царапаю свое светлое чело. Благородному чувству собственного достоинства свойственна некоторая недоверчивость, но иначе и быть не может. Недавно еще принял я за скрытую вражду против моей добродетели и совершенства то, что юный Понто не заметил меня на улице, разговаривая о новостях дня с толпой молодых пуделей, хотя я был не далее, как за шесть шагов от него, сидя у самой двери родного погреба. Немало взбесило меня и то, что, когда я упрекнул этого вертопраха, он начал уверять, что действительно меня не заметил.
Но внимайте, о родственные души прекрасного грядущего поколения: пришло, наконец, время открыть вам то, что случилось с вашим Муром во дни его юности. О, как хотел бы я, чтобы это поколение было уже здесь, среди нас, и, имея просвещенные взгляды на величие Мура, выражало их так громко, что нельзя было бы разобрать ничего другого за этими криками. Но мимо, о добрые души! Приближается важный момент моей жизни.
Наступили мартовские дни; на крышу лились кроткие лучи весеннего солнца, и в груди моей разгоралась нежное пламя. Уже два дня мучило меня какое-то непонятное беспокойство и грызла незнакомая мне дотоле тоска; потом я стал спокойнее, но, увы, для того только, чтобы впасть в состояние, о котором я никогда и не подозревал.
Недалеко от меня из слухового окна свободно и плавно вышло некое существо. О, найду ли слова, чтобы описать прекрасную! Ее покров сиял белизной, только небольшое черное пятнышко скрывало прелестный лоб и на стройных ножках были такие же черные чулочки. Прекрасные зеленые глаза ее сияли кротким блеском, мягкие движения изящно заостренных ушей обличали ум и добродетель, а волнообразные повороты хвоста говорили о приветливости и женственной нежности.
Милое дитя, казалось, меня не замечало: оно смотрело на солнце, щурилось и чихало. О, этот звук проник в мою душу и наполнил ее трепетом. Кровь закипела в моих жилах, сердце хотело выскочить из груди, весь невыразимо мучительный восторг, взволновавший мою душу, вылился наружу в протяжном, громком «мяу». Малютка быстро обернулась и посмотрела на меня с милым детским страхом в глазах. Невидимые лапы толкнули меня к ней с непобедимой силой, но едва я подскочил к прелестной, желая ее обнять, как она быстрее мечты исчезла за трубой! В отчаянии и в ярости бегал я по крыше, издавая жалобные звуки, но напрасно: она не вернулась! О, что за ужасное состояние! Пища мне опротивела, науки не привлекали, я не мог ни читать, ни писать! «О небо!» – восклицал я на другой день после того, как тщетно искал прекрасную на крыше, на земле, в погребе и во всех закоулках дома. Я вернулся домой безутешный, с непрестанной мыслью о ней, и даже жареная рыба, предложенная мне хозяином, взглянула на меня с блюда ее глазами, так что я громко воскликнул в безумии восторга: «Ты ли это, желанная?» – и проглотил ее разом. Тогда-то и возгласил я: «О небо, небо, ужели это – любовь?» После этого я стал спокойнее и, как начитанный юноша, решил выяснить свое состояние. Для этого я сейчас же начал очень настойчиво изучать «De arte amandi» (об искусстве любить) Овидия и «Искусство любить» Монсо, но ни один из признаков влюбленного, указанных в этих сочинениях, ко мне не подходил. Наконец мне пришло на ум, что я читал в какой-то драме[57], что равнодушное настроение и всклокоченная борода – верные признаки влюбленного. Тогда я посмотрелся в зеркало. О небо! Борода была всклокочена, и настроение мое было равнодушно! Когда я в точности узнал, что означало мое настроение, я утешился. Я решил хорошенько подкрепиться пищей и питьем и потом уже искать ту, которой я отдал свое сердце. Сладкое предчувствие говорило мне, что она сидит перед дверью дома: я спустился с лестницы и действительно нашел ее там. О, что за встреча! Сколько восторга, сколько невыразимой неги было в моей груди! Мисмис – так звали малютку, как я узнал от нее потом – сидела в грациозной позе на задних ногах и умывалась, проводя лапкой по мордочке и по ушам. С какой невыразимой прелестью совершала она на моих глазах то, чего требовали опрятность и изящество; она не нуждалась в презренных ухищрениях туалета, чтобы усилить очарование, которым наградила ее природа.
Я подошел к ней скромнее, чем в первый раз, и сел подле нее. Она не убежала, но посмотрела на меня испытующим взглядом и потом опустила глаза.
– Прекрасная, – начал я тихо, – будь моею!
– Отважный кот, – отвечала она смущенно, – кто ты и знаешь ли ты меня? Если ты так же правдив и прямодушен, как я, то скажи и поклянись, что ты меня действительно любишь!
– О, – воскликнул я вдохновенно, – клянусь всеми силами ада, священной луной и всеми звездами и планетами, которые появятся ночью, если небо будет благоприятно, – клянусь, что я люблю тебя!
– И я тебя тоже, – прошептала малютка и в нежной стыдливости склонила ко мне голову.
Я хотел обнять ее от всего сердца.
Тогда с адским ворчаньем наскочили на меня два гигантских кота. Они жестоко меня избили, исцарапали и вдобавок еще толкнули под желоб, где меня окатило грязной водой. Я насилу спасся от когтей кровожадных животных, не обращавших внимания на мое состояние, и, громко крича от страха, взбежал на лестницу.
Когда меня увидел хозяин, он воскликнул с громким смехом:
– Мур, Мур, на что ты похож! Ха-ха! Я понимаю, что случилось. Ты хотел делать то же, что кавалер, бродящий по саду любви, и вот что из этого вышло!
При этом, к немалой моей досаде, хозяин опять разразился громким смехом. Затем он налил в лоханку тепловатой воды, без церемонии окунул меня в нее несколько раз, так что я потерял зрение и слух от чиханья и фырканья, потом крепко завернул меня в фланель и положил в корзинку. Я почти лишился чувств от ярости и боли и не мог двинуть ни единым членом. Но понемногу тепло начало на меня приятно действовать, и мысли мои пришли в порядок.
– О, – жаловался я, – какое горькое испытание! Так вот она, любовь, которую я воспевал с прекрасным вдохновеньем! Вот оно, блаженство, наполняющее нас невыразимой негой и возвышающее до небес! Ах, они меня столкнули в водосточный желоб! Я отрекаюсь от чувства, которое приносит только побои, отвратительную ванну и невыносимое пребывание в презренной фланели! Но едва я почувствовал себя здоровым и свободным, как образ Мисмис опять неотступно встал у меня перед глазами, и, несмотря на весь свой позор, я с ужасом должен был признать, что я все еще влюблен. Я взял себя в руки и, как разумный и ученый кот, начал читать Овидия, так как отлично помнил, что в «Ars amandi»[58] были также рецепты против любви. Я прочел стихи:
Venus otia amat. Qui finem quaeris amoris, Cedit amor rebus, res age, tutus eris[59].С новым рвением погрузился я в науки, следуя этому предписанию, но Мисмис прыгала перед моими глазами на каждой странице; я думал, читал и писал только об одной Мисмис! «Автор разумеет, вероятно, другие занятия», – подумал я, и так как я слышал от других котов, что мышиная охота – необыкновенно приятное развлечение, то могло быть, что под словом rebus подразумевалось также и это. Для этого я отправился в погреб, как только стемнело, и ходил по темным переходам, напевая:
Дубравой темной крался я, курок ружья взведен.И вот, вместо дичи, которую я хотел травить, увидал я ее прекрасный образ, выступивший из темноты. При этом мука любви пронзила мое слишком легко восприимчивое сердце.
Я сказал:
– Обрати на меня твои прекрасные взоры, о девственное утреннее солнце! Мур и Мисмис будут счастливыми, как жених и невеста.
Так говорил я, радостный кот, надеясь получить награду за победу. О бедный! Пугливая кошка умчалась, зажмурив глаза.
И так-то все сильней и сильней разгоралась моя любовь, которую точно на пагубу мне зажгла в моем сердце враждебная мне звезда. Яростно негодуя на свою судьбу, бросился я опять к Овидию и прочел следующие стихи:
Exige quod cantet, siqua est sine voce puella; Non didicit chordas tangere, posce lyram[60].– О, – воскликнул я, – к ней, к ней, на крышу!
Я буду искать мою нежную красавицу там, где увидел ее впервые, но она должна петь, и, если я услышу хоть одну фальшивую ноту, все пройдет, и я буду здоров и свободен. Небо было ясно, и луна, которою я клялся в любви прекрасной Мисмис, показалась как раз в то время, когда я ступил на крышу. Я ждал ее, и мои вздохи громко выражали муку любви.
Наконец я запел песню на самый печальный мотив; в ней говорилось приблизительно следующее:
Шумящие сени, журчащий ручей, Ласкающий звоном игривых зыбей, Вы все мне внемлите! Скажите, скажите, Мисмис, дорогая, куда вдруг ушла, Нежданно сразивши жестокой разлукой? Где дивная фея приют обрела? Где скрыться могла? Утешьте кота, удрученного мукой! Скажи мне, луна, О, где же она, Невинный младенец и чудо созданья? Ничто не излечит от злого страданья! Мой мудрый советчик, мой верный оплот, Страдавший от терний Любовных мучений, Спаси, умоляет истерзанный кот.Вы видите, любезный читатель, что хороший поэт может не находиться ни в шумящем лесу, ни у журчащего ручья, и все же его будут касаться игривые зыби, и в них увидит он то, что захочет, и поэтому может воспеть все, что ему угодно. Если кто-нибудь будет слишком удивляться высокому совершенству этих стихов, я скромно замечу ему на это, что я был в экстазе и вдохновлялся любовью, а всем известно, что всякий, схвативший любовную лихорадку, если даже его рифмы бывают обыкновенно не лучше «муки» и «разлуки», «любовь» и «вновь» или еще хуже, внезапно делается поэтом и производит прекраснейшие стихи, подобно тому, как схвативший насморк разражается неудержимым чиханьем. Этому экстазу прозаических натур обязаны мы очень многим, и вследствие этого нередко бывало, что человеческие Мисмисы, не замечательные своей красотой, добивались на некоторое время большой славы. Но если это случается с сухим деревом, то что же должно быть со свежим? Я хочу сказать, что если и собачьи прозаики превращаются посредством любви в поэтов, то что же должно быть с настоящими поэтами в этот период их жизни?.. Итак, я сидел не в шумящем лесу и не у журчащего ручья, а на гладкой, высокой крыше; лунный свет был почти не в счет, – и все же я умолял в этих мастерских стихах лесные сени, ручеек и, наконец, моего друга Овидия прийти на помощь моей любовной тоске. Мне было немного трудно подыскивать рифмы к названию моей породы; обыкновенного слова «отец» я не мог поместить даже в минуту вдохновения. То, что я приискал рифмы, доказало мне еще раз преимущество моей породы над человеческой. К слову «человек» (Mensch), сколько мне известно, совсем нет рифмы, и потому, как заметил какой-то игривый драматург, человек (Mensch) – не рифмующее животное. Я же, напротив, рифмующее[61].
Недаром издавал я звуки, полные болезненной тоски, недаром заклинал леса, ручьи и лунный свет привести мне царицу моих мыслей: из-за трубы легкими, грациозными шагами вышла моя красавица.
– Это ты так прекрасно поешь, милый Мур? – воскликнула Мисмис, увидя меня.
– Как, – ответил я в приятном изумлении, – ты меня знаешь, прелестное созданье?
– Ах, – сказала она, – конечно! Ты понравился мне с первого раза, и мне было очень грустно видеть, как мои неучтивые родственники столкнули тебя…
– Оставим это, – прервал я ее, – не будем говорить об этом, милое дитя. О, скажи мне, скажи, любишь ли ты меня?
– Я справлялась о твоем положении, – продолжала Мисмис, – и узнала, что тебя зовут Мур и что ты не только роскошно помещен у одного доброго человека, но сверх того пользуешься всеми удобствами жизни и мог бы разделить их с нежной супругой. О, я очень люблю тебя, добрый Мур!
– О небо! – воскликнул я в величайшем восторге. – О небо! Возможно ли это? Что это, сон или действительность? О, удержись, удержись, мой разум! Неужели я еще на земле и сижу на крыше? Не витаю ли я в облаках? Неужели я – кот Мур, а не человек с луны? Приди ко мне на грудь, о возлюбленная! Но сначала, красавица, скажи мне твое имя!
– Меня зовут Мисмис, – с милой стыдливостью прошептала малютка и села рядом со мной.
О, как прекрасна была она! Ее белая шкурка отливала серебром при лунном свете. Ее зеленые глазки горели мягким, стыдливым огнем.
– Ты…
(М. л.) …конечно, мог бы, любезный читатель, узнать это несколько раньше, но дай бог, чтобы мне не пришлось больше прыгать в сторону, как я делал это доселе.
Итак, как уж было сказано выше, с отцом принца Гектора случилось то же самое, что с князем Иринеем: сам не зная – как, он выронил из кармана свою земельку. Принц Гектор, который был менее всего расположен к спокойной и мирной жизни, все же не пал духом, когда из-под него вытащили княжеское кресло, и хотел если не управлять, то по меньшей мере командовать.
Он поступил на французскую службу и был необыкновенно храбр, но, услышав от какой-то певицы: «Ты знаешь край, где зреют апельсины», – отправился в тот край, где зреют эти плоды, то есть в Неаполь, и вместо французской формы надел неаполитанскую.
Он так быстро сделался генералом, как это может случаться только с принцами. Когда умер отец принца Гектора, князь Ириней открыл большую книгу, где он собственноручно записывал все княжеские роды в Европе, и отметил смерть своего высокого друга и товарища по несчастью. После этого он долго смотрел на имя принца Гектора, затем очень громко воскликнул: «Принц Гектор!» – и так шумно захлопнул книгу, что испуганный гофмаршал попятился на три шага. Потом князь встал и начал медленно ходить по комнате, причем вынюхал столько испанского табаку, что его достало бы для приведения в порядок целого моря мыслей. Гофмаршал долго говорил ему о счастливом господине, обладавшем не только большим, но и прекрасным сердцем, то есть о юном принце Гекторе, обожаемом в Неаполе и монархом, и народом, и т. д. Князь Ириней, казалось, ничего этого не слышал. Он вдруг остановился прямо против гофмаршала, посмотрел на него страшным фридриховским взглядом и очень сурово сказал:
– Peut être[62], – и скрылся в соседнюю комнату.
– Боже мой! – сказал гофмаршал. – Светлейший князь возымел, вероятно, замечательную мысль, а может быть – даже и планы.
И это действительно было так. Князь Ириней думал о богатстве принца и о его сношениях с сильными мира сего; он уверил себя в том, что принц Гектор непременно променяет шпагу на скипетр, и ему пришло на ум, что брак принца с принцессой Гедвигой мог бы иметь самые важные последствия. Камергер, тотчас же посланный к принцу от лица князя для выражения сожаления по случаю смерти его отца, должен был под строжайшей тайной везти в кармане миниатюрный портрет принцессы, удавшийся даже в отношении цвета шеи. Нужно заметить, что принцессу действительно можно было бы назвать красавицей, если бы ее шея имела менее желтый отлив. Поэтому принцесса очень выигрывала при свечах.
Камергер исполнил тайное поручение князя, который не сообщал своих намерений даже княгине. Когда принц увидал портрет, он пришел почти в такой же восторг, как его сиятельный коллега в «Волшебной флейте». Подобно Тамино, он мог бы если не пропеть, то сказать: «Какое чудо красоты!» и затем прибавить: «Я поражен, я удивлен! Да, да, я, кажется, влюблен!»
Обыкновенно не одна любовь заставляет принцев стремиться к прекрасному, но принц Гектор не имел, кажется, никаких посторонних соображений, когда писал князю Иринею, что был бы в восхищении, если бы мог просить руки и сердца принцессы Гедвиги.
Князь Ириней отвечал, что он очень рад этому браку, которого желает от всего сердца, хотя бы в уважение к памяти своего умершего высокопоставленного друга, и потому не нужно никакого дальнейшего сватовства. Но так как необходимо соблюсти форму, то принц мог бы послать в Зигхартсвейлер какого-нибудь достойного человека приличного звания, уполномоченного им совершить бракосочетание по прекрасному старинному обычаю.
На это принц отвечал:
– Я приеду сам, ваше высочество!
Князю это было не по сердцу. Ему казалось, что венчание с уполномоченным было бы красивее, торжественнее и величавее, он уже заранее радовался этому празднику, и его успокоило только то, что перед венчанием будет большое торжество с орденом. Он хотел самым торжественным образом надеть на принца большой крест ордена их дома, который учредил его отец и которого не носил и не мог носить ни один из других рыцарей.
Итак, принц Гектор явился в Зигхартсвейлер, чтобы увезти принцессу Гедвигу и получить большой крест ордена, потерявшего свое значение. Ему нравилось то, что князь держал свое намерение в тайне; он просил его пребывать в этом молчании и в особенности не говорить ничего Гедвиге, так как хотел убедиться в ее любви, прежде чем начать сватовство.
Князь не мог хорошенько понять, что принц хотел этим сказать, и полагал, что, насколько ему известно, эта форма, то есть уверенность в любви перед венчанием, никогда не была в употреблении в княжеских домах. Если принц понимает под этим обнаружение некоторой привязанности, то ведь этого не должно быть до брака; но так как легкомысленная молодежь склонна перескакивать через все, касающееся этикета, то указанные чувства можно выяснить за три минуты до обручения. Как прекрасно-возвышенно было бы, если бы в эту минуту жених и невеста выказали друг к другу отвращение! К несчастью, впрочем, подобные правила высшего тона считаются в новейшие времена пустыми бреднями.
Когда принц Гектор впервые увидел Гедвиг у, он шепнул своему адъютанту на непонятном для всех неаполитанском диалекте:
– Клянусь небом, она прекрасна, но рождена близ Везувия, и его огонь горит в ее глазах.
Принц Игнатий очень кстати осведомился о том, есть ли в Неаполе красивые чашки и сколько их у принца Гектора. Проделав всю гамму приветствий, принц Гектор хотел снова обратиться к Гедвиге, но тут открылись двери, и князь пригласил принца взглянуть на величавую сцену, которую он приготовил в парадном зале, собрав большое общество, которое весьма мало подходило ко двору. На этот раз он был менее строг в выборе, чем обыкновенно, так как зигхартсвейлерский кружок в это время был на загородной прогулке. Бенцон и Юлия, однако, присутствовали.
Принцесса Гедвига была спокойна, сдержанна и безучастна. Она, по-видимому, не больше обращала внимания на прекрасного чужестранца с юга, чем на всякое другое новое лицо при дворе. Принцесса с неудовольствием спрашивала у краснощекой Нанетты, не сошла ли она с ума, когда та шептала ей на ухо, что иностранный принц удивительно хорош собой и она никогда в жизни не видала такой красивой формы.
Принц Гектор распустил перед Гедвигой пестрый, блестящий павлиний хвост своей любезности, а она расспрашивала его об Италии, о Неаполе, почти оскорбленная его преувеличенной слащавостью.
Отвечая, принц изобразил ей рай, в котором она была бы господствующим божеством. Он мастерски владел искусством говорить с дамами: все превращалось в гимн, восхваляющий их красоту и прелесть. Но среди этого гимна принцесса вдруг вскочила и бросилась к Юлии, стоявшей поблизости. Она прижала ее к своему сердцу, называя тысячью нежнейших имен и восклицая, что это – ее дорогая сестра, чудная, нежная Юлия. Тут подошел принц, несколько удивленный бегством Гедвиги. Он остановил на Юлии долгий и странный взгляд, так что та все больше краснела и наконец опустила глаза, а затем с беспокойством обернулась к матери, которая стояла за ней. Но принцесса еще раз обняла ее и воскликнула:
– Дорогая, милая Юлия! – причем на глазах у нее выступили слезы.
– Принцесса, принцесса, – тихо сказала Бенцон, – зачем такая неровность в поведении?
Но принцесса обратилась к принцу, у которого разом исчезло все красноречие, и если раньше она была спокойна, сурова и неприветлива, то теперь впала в странную, судорожную веселость. Слишком туго натянутые струны вдруг ослабели, и мелодии, звучавшие из глубины ее души, стали теперь мягче, нежнее и девственнее. Она была любезнее, чем когда-либо, и принц казался совсем очарованным. Наконец начались танцы. Принц вызвался показать неаполитанский национальный танец, и ему вскоре удалось прекрасно передать его танцующим, так что все шло очень хорошо и даже удачно был уловлен нежно-страстный характер танца.
Но никто не мог уловить этот характер лучше Гедвиги, которая танцевала с принцем. Она потребовала повторения, а после второго раза захотела начать танец в третий раз, не обращая внимания на увещания Бенцон, которая уже видела на ее лице зловещую бледность. Принцесса уверяла, что только теперь он может ей вполне удаться. Принц был в восторге. Он носился с Гедвигой, каждое движение которой было сама грация. В одной из многих запутанных фигур, составлявших танец, принц страстно прижал к груди свою прекрасную даму, но в ту же минуту Гедвига упала без чувств к нему на руки.
Князь нашел, что нельзя представить более неприличного случая на придворном балу, и только итальянское происхождение принца могло служить ему извинением…
Принц Гектор сам перенес бесчувственную Гедвигу в соседнюю комнату и положил ее на софу, где Бенцон стала тереть ей виски каким-то сильным средством, бывшим под рукой у лейб-медика. Впрочем, лейб-медик сказал, что обморок – не более как нервный припадок, происшедший вследствие возбуждения от танца, и должен скоро пройти.
Медик был прав: через несколько секунд принцесса открыла глаза с глубоким вздохом. Когда принц заметил, что принцесса очнулась, он ворвался в толпу дам, окружавших Гедвигу, стал на колени перед софой и горько жаловался на то, что он один виноват в этом случае, терзающем его сердце.
Но как только принцесса увидала его, она закричал с отвращением:
– Прочь, прочь! – и снова упала в обморок.
– Пойдемте, милейший принц, – сказал князь, беря за руку принца, – вы не знаете, что принцесса часто страдает престранными фантазиями. Боже мой, воображаю, какой странной показалась она вам в эту минуту. Представьте себе, любезнейший принц, что когда она была еще ребенком, то, entre nous soit dit[63], она один раз целый день принимала меня за Великого Могола и требовала, чтобы я ходил в атласных туфлях, на что я наконец согласился, хотя ходил только по саду.
На это принц Гектор без церемонии расхохотался князю в лицо и велел подать себе экипаж.
По желанию княгини Бенцон должна была остаться во дворце вместе с Юлией, чтобы ухаживать за принцессой. Княгиня знала, какое сильное нравственное влияние оказывала та на принцессу, а также знала и то, что это влияние смягчало обыкновенно болезненные припадки принцессы. Гедвига скоро оправилась у себя в комнате под влиянием неутомимых и кротких увещаний Бенцон. Принцесса уверяла, что во время танцев принц превратился в чудовищного дракона и уколол ее в сердце своим пылающим острым языком.
– Боже мой, – воскликнула Бенцон, – да ведь в таком случае принц Гектор – не что иное, как monstro turchino[64] из гоцциевской басни. Что за воображение!
В конце концов выйдет то же, что с Крейслером, которого вы сочли за страшного сумасшедшего!
– Никогда! – порывисто воскликнула принцесса и прибавила со смехом: – Я бы вовсе не хотела, чтобы мой милый Крейслер так же внезапно превращался в monstro turchino, как принц Гектор.
Когда на другое утро Бенцон, которая провела ночь с принцессой, вошла в комнату Юлии, та вышла ей навстречу бледная, усталая, с опущенной головой, точно больная голубка.
– Что с тобой, Юлия? – со страхом воскликнула Бенцон, не привыкшая видеть дочь в таком состоянии.
– Ах, мама, – печально сказала Юлия, – никогда больше не приду я сюда, у меня сердце переворачивается, когда я подумаю об этой ночи. В этом принце есть что-то ужасное; я не могу рассказать тебе, что было у меня на душе, когда он посмотрел на меня. В зловещих темных глазах его вспыхнула убийственная молния, которая чуть не превратила меня в пепел. Не смейся надо мной! Это был взгляд убийцы, намечающего свою жертву, которую он убьет одним страхом, прежде чем вонзит в нее кинжал; да, я повторяю, какое-то совсем незнакомое чувство, которого я не могу назвать, прошло, точно судорога, по всему моему телу. Я слышала о василисках, взгляд которых, как ядовитая огненная стрела, мгновенно убивает всякого, кто осмелится на них посмотреть. Принц похож на это страшное чудовище.
– Ну, – смеясь, воскликнула Бенцон, – мне в самом деле придется думать, что басня о monstro turchino не лишена основания, так как принц, несмотря на всю свою красоту и любезность, представляется двум девушкам драконом и василиском. Я привыкла к безумным фантазиям принцессы, но если моя спокойная, тихая Юлия, мое милое дитя, тоже вздумает предаваться нелепым грезам…
– А Гедвига? – прервала Юлия мать. – Я не знаю, какая злая, враждебная сила оторвала ее от моего сердца, а меня толкает на борьбу со страшной болезнью, которая свирепствует в ее сердце. Да, я называю болезнью состояние принцессы, которое бедняжка не могла побороть. Когда она вчера вдруг отвернулась от принца и начала меня ласкать и обнимать, я чувствовала, что она горела, как в огне. А потом этот танец, этот ужасный танец! Ты знаешь, как я ненавижу танцы, в которых позволяется мужчинам нас обнимать. Мне кажется, что в эту минуту мы забываем все, чего требуют приличия, и допускаем мужчинам такую власть над собой, которая должна быть неприятна хотя бы тем из них, у кого есть деликатные чувства. И вдруг Гедвига танцует без конца этот южный танец, который все больше и больше внушал мне отвращение. В глазах принца сверкала ужасная, дьявольская радость!
– Дурочка, – сказала Бенцон, – все это тебе только кажется! Однако я не стану осуждать твои взгляды, ты можешь их сохранить, но не будь несправедлива к Гедвиге; вообще же не думай больше ни о ней, ни о принце, выбрось это из головы. Если хочешь, я позабочусь о том, чтобы некоторое время ты не видала ни Гедвиги, ни принца. Твой покой не должен быть нарушен! Подойди ко мне, мое милое, доброе дитя! – И мать обняла Юлию с величайшей нежностью.
– Мама, – сказала Юлия, пряча пылающее лицо на груди матери, – может быть, те странные сны, которые меня расстроили, можно приписать ужасному беспокойству моей души?
– Что же ты видела? – спросила Бенцон.
– Мне казалось, – начала Юлия, – что я хожу по прекрасному саду, где цветут ночные фиалки и розы, и их нежный запах наполняет воздух. Странный блеск вроде лунного света переходил в звуки и песни, и когда он касался золотыми лучами цветов и деревьев, они содрогались от восторга, листья шелестели, а ручьи издавали тоскливые, тихие вздохи. Тогда я почувствовала, что я сама – та песня, которая неслась через сад, и, как только погаснет блеск звуков, я сама изойду в болезненной скорби. Но тут чей-то нежный голос сказал: «Ведь звук есть блаженство, а не уничтожение; я крепко держу тебя сильными руками, и в тебе покоится моя песня, которая вечна, как мечтание». Передо мной стоял Крейслер и говорил эти слова. В душу мою сошло небесное чувство надежды и успокоения, и я, сама не знаю – как, – я уж все скажу тебе, мама, – я упала к нему на грудь. Тогда я вдруг почувствовала, что меня крепко обхватила железная рука и ужасный насмешливый голос воскликнул: «Зачем ты противишься, несчастная? Ведь ты уже убита и будешь теперь моей!» Это были голос и рука принца. Я громко закричала и проснулась. Тогда я накинула ночной капот, подошла к окну и открыла его, так как в комнате было жарко и душно. Вдали увидала я человека, который смотрел в подзорную трубу на окна дворца, но потом побежал по аллее каким-то странным, можно сказать даже глупым, образом: он выделывал какие-то антраша и танцевальные па, воздевал руки к небу и при этом громко пел. Я узнала Крейслера. Его поведение меня рассмешило, но в то же время он представился мне благодетельным духом, который защитит меня от принца. Как будто только тут стала мне ясна душа Крейслера, и я увидела, что шутовская, насмешливая манера, которая многих оскорбляет, исходит из самого лучшего и верного чувства. Мне захотелось побежать в парк и рассказать Крейслеру обо всех ужасах моего страшного сна.
– Это очень глупый сон, а продолжение еще глупее! – серьезно сказала Бенцон. – Тебе нужен покой, Юлия, поспи немного, я тоже думаю поспать часа два.
И она вышла из комнаты, а Юлия поступила так, как ей было сказано.
Когда она проснулась, утреннее солнце ярко светило в окно, и сильный запах роз и ночных фиалок разливался по комнате.
– Что это, – с удивлением воскликнула Юлия, – мой сон?
Она осмотрелась и увидала, что через спинку дивана, на котором она спала, был перекинут прекрасный букет из роз и ночных фиалок.
– Крейслер, мой милый Крейслер, – тихо сказала Юлия, взяла букет и мечтательно задумалась.
Принц Игнатий прислал спросить, нельзя ли ему на часок повидаться с Юлией.
Юлия оделась и поспешила в комнату, где ждал ее принц с корзинкой фарфоровых чашек и китайских куколок. Добренькая Юлия по целым часам играла с принцем, который внушал ей глубокое сострадание. У нее не вырывалось ни одного обидного или насмешливого слова, как это часто случалось с другими, особенно с принцессой Гедвигой, и потому общество Юлии необыкновенно нравилось принцу, и он даже часто называл ее своей маленькой невестой. Чашки и куколки были расставлены, и Юлия держала речь от имени маленького арлекина к японскому императору, причем обе куклы стояли друг против друга. В эту минуту вошла Бенцон.
Некоторое время она смотрела на игру, потом поцеловала Юлию в лоб и сказала:
– Ты – мое милое, доброе дитя!
Наступили сумерки. Юлия, которая, по желанию матери, не должна была показываться за обедом, сидела одна в своей комнате и ждала мать. Но вот послышались тихие шаги, отворилась дверь, и вошла принцесса, вся в белом, смертельно бледная, с остановившимся взглядом, точно привидение.
– Юлия, – сказала она глухим и тихим голосом, – Юлия, называй меня глупой, распущенной, сумасшедшей, но не закрывай от меня своего сердца, так как мне нужны твоя жалость и твое утешение. Я была просто больна от возбуждения и утомления; виноват этот отвратительный танец, но теперь все прошло, и мне лучше. Принц уехал в Зигхартовейлер. Мне хочется на воздух, погуляем по парку.
Когда Юлия с принцессой были уже в конце аллеи, сквозь чащу засиял яркий свет, и они услышали приятное пение.
– Это вечерняя литания в капелле св. Марии! – воскликнула Юлия.
– Да, – сказала принцесса, – пойдем туда, помолимся! Помолись и за меня тоже, Юлия!
Юлия была глубоко огорчена состоянием подруги.
– Мы будем молиться, – сказала она, – чтобы никогда злой дух не властвовал над нами, чтобы наше чистое, светлое чувство никогда не нарушалось враждебным вмешательством.
Когда девушки подошли к капелле, которая была на дальнем конце парка, оттуда выходили крестьяне, певшие литанию перед образом св. Марии, разукрашенным цветами и освещенным лампами. Подруги опустились на колени. Тогда небольшой хор, стоявший в стороне алтаря, начал петь гимн «Ave, Maris Stella»[65], недавно сочиненный Крейслером.
Гимн начался тихо, затем раздавался все громче и громче до слов «dei mater alma»[66] и, замирая в словах «felix coeli porta»[67], уносился на крыльях вечернего ветра. Девушки стояли на коленях, глубоко погруженные в свои мысли. Священник шептал молитвы, а издали, точно хор ангельских голосов, звучащий из облаков ночного неба, раздавался гимн «О sanctissima»[68], который пели те же певцы.
Наконец священник благословил молящихся. Тогда девушки встали и упали друг другу в объятия. Неизъяснимая грусть, в которой были и горе, и радость, непобедимо рвалась из их сердец; горячие слезы, которые брызнули из их глаз, были не что иное, как капли крови, лившейся из их истерзанных сердец.
– Это был он, – прошептала принцесса.
– Да, он, – ответила Юлия.
Они поняли друг друга.
В неподвижном молчании ждал лес, когда поднимется луна и пронижет его своим трепетным золотом.
А хорал, продолжавший звучать в темноте ночи, казалось, поднимался навстречу пламеневшим облакам, которые раскинулись через горы, обозначая путь сияющей планеты, перед которой бледнели звезды.
– Ах, – сказала Юлия, – что же нас так волнует и наполняет наши души печалью? Послушай, каким утешением звучит вдали этот хорал. Мы помолились, и из золотых облаков говорят с нами светлые духи небесного блаженства.
– Да, моя Юлия, – серьезно и твердо отвечала принцесса, – оттуда веет на нас блаженством и святостью; я бы хотела, чтобы небесный ангел отнес меня к звездам, прежде чем овладеют мной мрачные силы. Я бы хотела умереть, но я знаю, что меня положат в княжеском склепе, и предки, которые там покоятся, не поверят, что я умерла, они пробудятся от смертного сна к ужасной жизни и повлекут меня за собой. И тогда я не принадлежала бы ни к живым, ни к мертвым и нигде не нашла бы покоя.
– Что ты говоришь, Гедвига? Боже мой, что ты говоришь? – в испуге воскликнула Юлия.
– Я уже видела это во сне, – сказала принцесса тем же твердым, почти равнодушным голосом. – А что если какой-нибудь страшный предок сделался в могиле вампиром и сосет мою кровь? Может быть, оттого и бывают у меня обмороки.
– Ты больна, – воскликнула Юлия, – ты очень больна, Гедвига! Тебе вреден ночной воздух, пойдем скорее назад.
Она обняла принцессу, которая молча ей покорилась.
Месяц высоко поднялся над Гейерштейном, освещая волшебным блеском кусты и деревья, которые шумели и шелестели на тысячи ладов, разговаривая с ночным ветром.
– Разве не хорошо на земле? – сказала Юлия. – Разве не творит перед нами природа своих дивных чудес, как мать для любимых детей?
– Ты думаешь? – возразила принцесса и, немного помолчав, продолжала: – Я бы не хотела, чтобы ты меня вполне поняла, и прошу тебя считать мои слова следствием дурного настроения. Ведь ты еще не знаешь разрушительных житейских страданий. Природа жестока, она ласкает и бережет только здоровых детей, больных она покидает и грозит их существованию ужасным оружием. Ведь ты знаешь, что прежде природа казалась мне картинной галереей, сделанной для того, чтобы упражнять силы духа и тела, но теперь все стало иначе: я чувствую и предвижу одни только страдания. Мне было бы легче в освещенном зале, среди разнообразного общества, чем оставаться с тобой наедине в эту лунную ночь.
Юлии стало страшно; она заметила, что Гедвига все больше и больше ослабевала, так что Юлия должна была напрягать все свои силы, чтобы поддерживать подругу.
Наконец они достигли дворца. Недалеко от него на каменной скамейке под кустом бузины сидела темная фигура. Увидев ее, Гедвига радостно вскрикнула:
– Благодарение пречистой и всем святым, это она!
Принцесса вдруг точно ожила и, отделившись от Юлии, пошла навстречу фигуре, которая поднялась и проговорила глухим голосом:
– Гедвига, мое бедное дитя!
Юлия увидала, что это была женщина, с головы до ног закутанная в темные одежды; густая тень не позволяла рассмотреть черты ее лица.
Юлия остановилась, вся трепеща от страха.
Женщина и принцесса опустились на скамейку. Женщина осторожно отодвинула ото лба Гедвиги ее локоны, потом положила на него руки и медленно и тихо заговорила на языке, незнакомом для Юлии. Через несколько минут женщина громко сказала Юлии:
– Девушка, пойди во дворец, позови женщин и вели перенести принцессу! Она впала в глубокий сон, после которого проснется здоровой и веселой.
Юлия немедленно исполнила то, что ей было приказано.
Когда она привела женщин, она нашла принцессу заботливо укутанной в ее шаль.
Она действительно спала, а женщины уже не было.
– Скажи мне, – говорила Юлия на другое утро, когда принцесса проснулась вполне здоровая, без всяких следов расстройства, которого опасалась Юлия, – скажи мне, ради бога, кто эта удивительная женщина?
– Я не знаю, – отвечала принцесса, – я видела ее прежде только раз. Ты помнишь, в детстве у меня была ужасная болезнь, которой не понимали доктора. Однажды ночью я увидела, что у моей постели сидит женщина; она убаюкала меня, как сегодня, так что я впала в сладкий сон, после которого проснулась совсем здоровая. Прошлую ночь ее образ в первый раз припомнился мне, и я почувствовала, что она опять явится и спасет меня. Так и случилось. Я прошу тебя, из любви ко мне, не говори никому об этом событии и не показывай ни движением, ни словом, что с нами произошло что-то необыкновенное. Подумай о Гамлете и будь моим милым Горацио. Наверно, с этой женщиной было какое-нибудь таинственное приключение, но пусть это останется для нас тайной; мне кажется, что проникать в нее было бы опасно.
Разве не довольно того, что я здорова, весела и избавилась от тех призраков, которые меня преследовали?
Все дивились внезапному выздоровлению принцессы. Лейб-медик уверял, что на нее благотворно подействовала ночная прогулка в капеллу, встряхнувшая ее нервы, и он просто забыл предписать это средство.
А Бенцон говорила про себя:
– Гм… у нее была старуха! На этот раз это можно оставить так.
Теперь пришло время разрешить роковой вопрос биографа: ты…
(М. пр.) …любишь меня, прекрасная Мисмис? О, повторяй, повторяй мне это тысячу раз, чтобы я пришел в еще больший восторг и наговорил столько глупостей, сколько подобает герою, созданному воображением лучшего романиста. Но, дорогая, ведь ты уже заметила мою удивительную склонность к пению, так не будешь ли и ты настолько добра, чтобы спеть мне маленькую песенку?
– Ах, – отвечала Мисмис, – во-первых, я еще недалеко ушла в искусстве пения, а во-вторых, ты знаешь, что случается с молодыми певицами, когда они в первый раз поют перед знатоками и мастерами своего дела? Страх и робость сжимают им горло, и прекраснейшие звуки, трели и морденты самым роковым образом застревают в глотке, как рыбьи кости. Пропеть арию бывает положительно невозможно, и потому лучше начинать с дуэта. Попробуем спеть небольшой дуэт, если тебе это нравится!
Мне было это очень приятно. Мы сейчас же спели нежный дуэт «Едва я увидел тебя, к тебе понеслось мое сердце» и т. д. Мисмис начала робко, но вскоре ее ободрил мой сильный фальцет. Голос у нее был прелестный, исполнение законченно, мягко и нежно, – словом, она оказалась прекрасной певицей.
Я был восхищен, хотя и видел, что друг мой Овидий остался ни с чем. Ввиду того, что Мисмис так отличилась в искусстве cantare[69], нечего было прибегать к chordas tangere[70], и мне даже не понадобилась гитара.
Мисмис пропела с удивительной легкостью, выразительностью и изяществом известную арию «Di tanti palpiti»[71] и т. д. Из героически-сильного речитатива она прекрасно перешла в andante, отличавшееся чисто кошачьей нежностью. Ария эта точно нарочно для нее написана; сердце мое переполнилось, и я испустил громкий, радостный крик. Ах, этой арией Мисмис могла бы воодушевить целый мир чувствительных кошачьих душ!
Мы исполнили еще один дуэт из новой оперы, и он так удался нам, точно музыка была нарочно для нас написана. Из груди нашей вылетали блестящие рулады, состоявшие по большей части из хроматических гамм.
Я должен заметить, что вообще нашей породе свойственны хроматизмы, и потому всякий, кто захочет для нас сочинять, хорошо сделает, если будет придерживаться хроматизмов в мелодии и во всем остальном. К сожалению, я забыл имя замечательного мастера, сочинившего этот дуэт; это очень хороший человек, и музыка его вполне мне по вкусу.
Во время пения появился черный кот, пожиравший нас сверкающими глазами.
– Сделайте одолжение, не подходите, любезный друг, – закричал я ему, – а не то я выцарапаю вам глаза и сброшу вас с крыши; если же вы желаете с нами петь, то это другое дело.
Я знал, что у этого черного юноши прекрасный бас, и потому решил спеть одну вещь, не особенно мной любимую, но зато очень подходившую по словам к моей близкой разлуке с Мисмис. Мы пели: «Ужели я, милый, не свижусь с тобой!»
Но едва начал я уверять вместе с черным котом, что боги будут ко мне благосклонны, как между нами упал огромный осколок черепицы, и страшный голос закричал:
– Замолчите ли вы, проклятые коты!
В смертельном ужасе бросились мы в разные стороны и разбежались по чердакам. О бездушные варвары! Их не трогают даже трогательные жалобы любовной тоски, они помышляют только о мщении и гибели!
Как уже сказано выше, то, что должно было вылечить меня от моей любви, заставило меня полюбить еще сильнее. Мисмис была так музыкальна, что мы фантазировали вместе самым приятным образом. Она восхитительно пела мои сочинения, вследствие чего я совсем одурел и до такой степени страдал от любви, что совсем исхудал и побледнел. Наконец, после долгих размышлений мне пришло на ум последнее, хотя и отчаянное, средство вылечиться от моей любви. Я предложил Мисмис лапу и сердце. Она согласилась, и вскоре мои страдания совершенно прошли. Молочный суп и жаркое получили свою цену, веселое расположение духа вернулось, борода моя пришла в порядок, шкурка приобрела прежний блеск, так как я теперь даже больше прежнего занимался своим туалетом, чем не могла нахвалиться моя Мисмис. Несмотря на это, я сочинял еще стихи к моей Мисмис, и они были тем прекраснее и правдивее, что я шел все дальше и дальше в выражении мечтательной нежности и дошел, наконец, до ее высочайшего проявления. Я посвятил своей милой еще одну толстую книгу и таким образом сделал в области литературной эстетики все, что можно требовать от честного, искренне влюбленного кота. Вообще мы с моей Мисмис вели самую домовитую, спокойную и счастливую жизнь на соломенном половике перед дверью хозяина. Но есть ли прочное счастье в этом мире? Вскоре я стал замечать, что Мисмис часто бывает рассеянна в моем присутствии. Когда я говорил с ней, она отвечала что-то бессвязное, часто вырывались у нее глубокие вздохи, и она могла петь только томные любовные песни и сделалась наконец совсем больной и слабой. Когда же я спрашивал, что с ней, она гладила меня по щекам и отвечала: «Ничего, ничего, мой милый папаша». Но все это мне не нравилось. Часто ждал я ее напрасно на соломенном половике и тщетно искал ее в погребе и на земле; когда же я находил ее и делал ей нежные упреки, она оправдывалась тем, что для ее здоровья необходимы длинные прогулки, а один врач из породы котов будто бы прописал ей даже морское путешествие. И это мне не нравилось. Она умела заглушать мой гнев и успокаивать меня своими ласками, но и в этих ласках было что-то особенное, что охлаждало меня, а не согревало, и это мне тоже не нравилось. Не признаваясь себе в том, что такому поведению Мисмис должны быть особые причины, я видел, однако, что во мне угасла последняя искра любви к прекрасному и что близ нее я испытывал смертельную скуку. Поэтому я пошел своей дорогой, а она своей; если же мы сходились иногда вместе на соломенном половике, то делали друг другу трогательные упреки, были нежнейшими супругами и воспевали нашу мирную жизнь.
Случилось однажды, что черный бас посетил меня в комнате моего господина. Он начал говорить какие-то отрывочные таинственные слова, потом вдруг порывисто спросил меня, как поживаю я с Мисмис, – словом, я отлично видел, что у черного кота есть на сердце нечто, что он желает мне поведать. Наконец все объяснилось. Некий юноша, служивший в войске, возвратился и жил по соседству на небольшой пенсион, получаемый им от одного трактирщика, в виде рыбьих костей и объедков со стола. Он был хорош собой, сложен как Геркулес, носил богатый иностранный мундир черного, серого и желтого цвета, а на груди у него красовался почетный знак горелого сала, данный ему за храбрость после очистки от мышей большого амбара в сообществе немногих товарищей. Кот этот нравился всем кошкам в окружности. Все сердца бились ему навстречу, когда он входил отважный и смелый, высоко подняв голову и бросая вокруг огненные взгляды. Он-то, как уверял черный кот, и влюбился в мою Мисмис; она отвечала ему взаимностью, и не подлежало сомнению, что каждую ночь у них были тайные свидания за трубой или в погребе.
– Меня удивляет, любезный друг, – говорил черный кот, – как вы при вашей проницательности давно не заметили этого. Впрочем, любящие мужья часто бывают слепы. Мне очень жаль, что долг дружбы заставил меня открыть вам глаза, так как я знаю, что вы все еще влюблены в вашу прелестную супругу.
– О Муциус! – воскликнул я. – О Муциус (так звали черного кота), люблю ли я ее, прекрасную изменницу?! Я молюсь на нее, все мое существо принадлежит ей! Нет, она не могла так поступить! Муциус, черный обманщик, получи награду за твое гнусное дело!
Я поднял лапу и выпустил когти, но Муциус посмотрел на меня дружески и сказал очень спокойно:
– Не горячитесь, милейший! Вы разделяете участь многих прекрасных мужчин. Всюду царствует непостоянство, и, к несчастью, в нашей породе не менее, чем в других.
Я опустил поднятую лапу, несколько раз высоко подпрыгнул, как бы в величайшем отчаянии, и яростно воскликнул:
– Возможно ли, возможно ли? О небо! О земля! Ну что еще! Уж не призвать ли адский пламень? И кто же? Черно-серо-желтый кот! Она, она, столь нежная супруга, позорно изменить могла тому, кто на груди ее прелестной в любовных снах блаженно почивал? О, лейтесь, слезы, лейтесь о неверной! О небо! Тысяча проклятий! Черт занес на крышу этого пестрого молодца!
– Успокойтесь, – сказал мне Муциус, – вы слишком предаетесь ярости и неукротимой скорби. Как истинный друг, я не буду больше мешать вам в вашем приятном отчаянии. Если вы хотите убить себя, то я мог бы ссудить вас очень хорошим порошком против крыс, но я не хочу этого делать, так как вы – милый и очаровательный кот, и было бы слишком жаль вашей молодой жизни. Утешьтесь, пусть бегает Мисмис; на свете много прелестных кошек. Прощайте, милейший!
С этими словами Муциус прыгнул в открытую дверь.
Когда я, спокойно лежа у печки, обдумывал те разоблачения, которые сделал мне Муциус, я почувствовал, что внутри меня шевельнулось нечто похожее на тайную радость. Я знал теперь, что произошло с Мисмис, и мучения неизвестности кончились. Но если я больше из приличия выказал надлежащее отчаяние, то те же самые приличия требовали, по моему мнению, того, чтобы наказать черно-серо-желтого кота.
Ночью я подстерег влюбленную пару за трубой и со словами: «Адский животный похититель!» – напал на моего соперника. Но он, значительно превосходя меня своей силой, что я, к несчастью, слишком поздно заметил, жестоко избил меня, так что шкура моя во многих местах повисла клочьями, – и затем быстро скрылся.
Мисмис лежала в обмороке, но, когда я приблизился к ней, она вскочила почти так же быстро, как ее любовник, и умчалась за ним на чердак.
Хромая, с окровавленными ушами, поплелся я к своему господину и, удовлетворяясь той мыслью, что честь моя спасена, нисколько не считал позором вполне предоставить Мисмис черно-серо-желтому коту.
«Какая жестокая судьба, – думал я, – из-за небесно-романтической любви попал я в водосточный желоб, а семейное счастье привело меня к еще более горьким испытаниям».
На следующее утро я немало удивился, когда, выйдя из комнаты хозяина, нашел Мисмис на соломенном половике.
– Милый Мур, – сказала она спокойно и кротко, – мне кажется, я люблю тебя уже не так, как прежде, и это меня очень печалит.
– О дорогая Мисмис – отвечал я нежно, – это леденит мне сердце, но я должен сознаться, что с тех пор, как произошли некоторые события, я тоже сделался к тебе вполне равнодушен.
– Не обижайся, – продолжала Мисмис, – не сердись, дорогой друг, но мне кажется, что ты давно уже стал для меня совершенно невыносим.
– Праведное небо, – воскликнул я вдохновенно, – какая симпатия душ: я чувствовал то же самое!
Мы пришли к тому соглашению, что мы оба сделались друг другу невыносимы, и потому нам необходимо навеки расстаться, после чего мы нежно обнялись и плакали радостными, блаженными слезами.
Затем мы расстались, и каждый был убежден в величии души другого и хвалил его всякому, кто только хотел слушать.
– Бывал в Аркадии и я! – воскликнул я и ревностнее, чем когда-либо, принялся за науки и искусства.
(М. л.) – Да, – сказал Крейслер, – я говорю вам, что этот покой для меня страшнее разъяренной бури. Это – глухое затишье перед разрушительной грозой; все при дворе так настроено; сам же князь Ириней похож на золотообрезной альманах в формате in duodecimo[72], выставленный напоказ. Напрасно, подобно второму Франклину, изобретает он громоотводы, устраивая необыкновенно блестящие праздники: молния все-таки ударит и, может быть, уничтожит даже его государственное платье. Правда, принцесса Гедвига напоминает теперь всей своей особой светло и ясно льющуюся мелодию, сменившую те дикие и беспокойные аккорды, которые вырывались прежде из ее истерзанной груди; теперь она выступает в своей просветленной гордости рука об руку с прекрасным неаполитанцем, а Юлия дарит ему свои благодатные улыбки и принимает его любезности, которые принц, не спуская глаз с нареченной невесты, умеет отпускать Юлии так ловко, что они, как рикошеты, могут лучше попасть в ее неопытную молодую душу, чем выстрелы, направленные прямо в цель. А еще говорили вначале, как рассказывала мне Бенцон, что Гедвига испугалась monstro turchino, а кроткой и спокойной Юлии, этому небесному дитяти, прекрасный général en chef[73] показался василиском! О, вы правы, чуткие души! Или я не читал во всемирной истории Баумгартена, что змей, бывший в раю, блистал золотой чешуей? Это приходит мне на память, когда я смотрю на расшитого золотом Гектора. Впрочем, Гектором звали также одного очень достойного бульдога, отличавшегося необыкновенной любовью и преданностью моей особе. Мне хотелось бы, чтобы он был со мной, и я мог его наускивать на его высокопоставленного тезку, когда тот вертится между двумя прелестными сестрами. Или вот скажите мне, мейстер, – вы знаете столько фокусов, – как бы это так сделать, чтобы при всяком удобном случае обращаться в осу и так жалить эту княжескую собаку, чтобы сбивать ее с проклятого тона?
– Я дал вам договорить, Крейслер, – начал мейстер Абрагам, – и спрашиваю вас теперь, можете ли вы меня спокойно выслушать, если я открою вам некоторые вещи, подтверждающие ваши предчувствия?
– Разве я не настоящий капельмейстер? – ответил Крейслер. – Я говорю это не в философском смысле слова, не в смысле преданности капельмейстерству, а просто имея в виду особую способность смирно сидеть в порядочном обществе, когда вас кусает муха.
– В таком случае, – продолжал мейстер Абрагам, – узнайте, Крейслер, что один странный случай дал мне возможность глубоко заглянуть в душу принца. Вы были правы, сравнивая его со змеем в райском саду. Под красивой оболочкой, которой вы не будете отрицать, кроется гибельный яд или, лучше сказать, предательство. У него недоброе на уме: я заключил по очень многому, что он обратил свои взоры на прелестную Юлию.
– Ого! – воскликнул Крейслер, бегая по комнате. – Где же твои нежные песни, белая птица? Принц – искусный малый, он протягивает свои когти и к разрешенным, и к запретным плодам. Берегись, прекрасный неаполитанец! Ты не знаешь, что Юлию оберегает честный капельмейстер с музыкой в крови, и как только ты к ней подойдешь, он примет тебя за проклятый кварт-квинт-аккорд, который следует разрешить. И капельмейстер сделает то, что нужно, то есть разрешит тебя, пустив тебе пулю в лоб или проткнув тебя шпагой.
Тут Крейслер вынул свою шпагу, стал в позицию и спросил мейстера, достаточно ли у него уменья, чтобы пронзить княжескую собаку.
– Успокойтесь, успокойтесь, Крейслер, – сказал мейстер Абрагам, – вовсе не нужно таких геройских подвигов, чтобы испортить игру принцу. Против него есть другое оружие, и я дам вам его в руки. Вчера я был в рыбачьем домике, а принц проходил мимо со своим адъютантом. Они меня не видали. «Принцесса хороша, – сказал принц, – но маленькая Бенцон просто божественна! Вся кровь моя вскипела, когда я ее увидел; она должна быть моей прежде, чем я подам руку принцессе. Как ты думаешь, она неприступна?» – «Какая женщина устоит перед вами, ваша светлость?» – отвечал адъютант. – «Но, черт возьми, – продолжал принц, – она, кажется, невинное дитя». – «И незлобивое, – перебил адъютант, – а невинные и незлобивые дети обыкновенно покорно подчиняются, ошеломленные натиском привычного к победе мужчины. После же считают все за предопределение божие да еще чувствуют необычайную любовь к победителю. То же может случиться и с вами, ваша светлость». – «Это было бы довольно глупо! – воскликнул принц. – Но если бы я мог увидеть ее одну! Как это сделать?» – «Ничего нет легче, – отвечал адъютант, – я заметил, что малютка часто гуляет одна по парку… Если вы…» Здесь голоса стихли, и я ничего не мог больше понять. Очевидно, сегодня же будет приведен в исполнение какой-нибудь адский план, и нужно его предупредить. Я мог бы это сделать сам, но по некоторым причинам я теперь не желал бы показываться принцу. Поэтому, Крейслер, вы сейчас же должны отправиться в Зигхартсгоф и поспеть к сумеркам, когда Юлия выходит к озеру кормить ручного лебедя. Ту же дорогу подстерег, вероятно, и итальянский злодей. Но получите оружие и необходимые инструкции, Крейслер, чтобы выказать себя хорошим полководцем в борьбе с опасным принцем.
Биограф снова приходит в отчаяние из-за отрывочности материалов, из которых он должен склеивать свой рассказ. Если здесь не было ясно высказано, какие инструкции давал мейстер Абрагам капельмейстеру, то позже появится само оружие, и все же, любезный читатель, тебе невозможно будет понять, в чем заключается это обстоятельство.
Несчастный биограф не знает пока ни одного словечка из этой инструкции, посредством которой честный капельмейстер был, по-видимому, посвящен в совершенно особую тайну. Потерпи немного, любезный читатель! Вышеупомянутый биограф готов прозакладывать свои пальцы, что эта тайна все же выяснится до окончания книги.
Теперь мы можем рассказать, что, когда солнце начало заходить, Юлия, повесив на руку корзинку с белым хлебом, напевая, пошла по парку к озеру и остановилась посреди моста, недалеко от рыбачьего домика. А Крейслер лежал в засаде, в кустах, с хорошей подзорной трубой, в которую он смотрел через кусты, скрывавшие его от посторонних глаз. Лебедь плескался в воде, Юлия бросала ему куски, которые он жадно глотал. Юлия громко пела и не заметила, как подошел к ней принц. Когда он внезапно очутился перед ней, она отступила, как бы в испуге. Принц схватил ее руку, прижал ее к груди, к губам и потом лег совсем близко от Юлии у перил моста. Юлия бросала хлеб, а принц с жаром говорил, смотря в озеро на лебедя.
«Не строй же таких дьявольски сладких гримас! Разве ты не видишь, что я сижу совсем близко от тебя и могу дать тебе пощечину?.. Но, боже, отчего разгораются таким ярким пурпуром твои щеки, небесное дитя! Отчего ты так странно смотришь на этого злодея? Ты улыбаешься! Да, это огненный яд, от которого должна раскрыться твоя грудь, как цветочная почка, свернутая в прекрасные лепестки и открывающаяся от солнечного луча, чтобы скорее погибнуть!» Так говорил Крейслер, наблюдая за парой, которую приближала к нему его подзорная труба. Принц тоже начал бросать хлеб, но лебедь не ел его кусков и стал громко кричать. Тогда принц обвил Юлию рукой, бросая хлеб так, чтобы лебедь думал, что его кормит Юлия. При этом рука принца почти касалась руки Юлии.
«Так, так, светлейший бездельник, – говорил Крейслер, – держи крепче свою добычу, хищная птица; здесь, в кустах, есть некто, кто уже метит в тебя и сейчас подрежет твои блестящие крылья так, что плохо придется тебе и твоей охоте».
Тут принц взял Юлию под руку, и оба пошли к рыбачьему домику. Но неподалеку от него из кустов выступил Крейслер, подошел к гуляющим и сказал, низко склонившись перед принцем:
– Дивный вечер! Необыкновенно чистый воздух и живительный аромат; ваша светлость, вероятно, чувствует себя, как в прекрасном Неаполе.
– Кто вы, милостивый государь? – резко спросил принц.
Но в ту же минуту Юлия высвободилась из-под его руки, приветливо подошла к Крейслеру, протянула ему руку и сказала:
– Как хорошо, что вы снова здесь, милый Крейслер. Знаете ли вы, что я о вас очень соскучилась? Мама говорит, что я веду себя как глупое, плаксивое дитя, если вы хоть один день не зайдете. Я могла бы заболеть от досады, если бы подумала, что вы пренебрегли мной и моим пением.
– Ага, – воскликнул принц, бросая убийственные взгляды на Юлию и на Крейслера, – вы – monsieur de Krösel. Князь отзывался о вас с большой похвалой.
– О, – сказал Крейслер, и все его лицо задрожало в тысяче складок, – да будет благословен за это светлейший князь; таким образом мне, быть может, удастся получить то, о чем я хотел умолять вашу светлость, надеясь удостоиться вашей протекции. Я имею смелость думать, что вы с первого взгляда подарили меня своим расположением, так как, проходя, вы чрезвычайно оригинально изволили обозвать меня болваном, а так как только болваны годятся на что-нибудь путное, то…
– Вы большой шутник, – перебил его принц.
– О, вовсе нет, – продолжал Крейслер, – я люблю шутки, но только дурные, а этим нельзя шутить. Кстати, я бы очень хотел отправиться в Неаполь и записать на моле некоторые песни рыбаков и бандитов ad usum delphini[74]. Вы добры и любите искусство, милейший принц, быть может, вы не откажете мне в рекомендациях.
– Вы большой шутник, monsieur de Krösel, – снова перебил его принц, – я люблю это, да, я очень это люблю, но теперь я не буду мешать вашей прогулке. Adieu!
– О, нет, ваша светлость, – воскликнул Крейслер, – я не могу упустить случая показаться вам во всем моем блеске! Вы желали войти в рыбачий домик, там есть фортепиано; фрейлен Юлия, вероятно, не откажется спеть со мной дуэт.
– С величайшим удовольствием! – воскликнула Юлия и повисла на руке Крейслера.
Принц стиснул зубы и гордо прошел вперед. На ходу Юлия шепнула Крейслеру на ухо:
– Крейслер, что за странный тон!
– О боже мой, – также тихо ответил Крейслер, – и ты покоишься, убаюкиваемая нелепыми снами, когда приближается змея, готовая убить тебя ядовитым жалом.
Юлия посмотрела на него с величайшим изумлением. Только один раз, в минуту сильнейшего музыкального вдохновения, Крейслер говорил ей «ты».
По окончании дуэта принц, который во время пения много раз кричал bravo, bravissimo, рассыпался в бурных знаках одобрения. Он покрыл руки Юлии огненными поцелуями, клялся, что никогда еще пение не потрясало его так сильно, и в подтверждение этого умолял Юлию позволить ему напечатлеть поцелуй на небесных губках, из которых лились эти райские звуки.
Юлия в испуге откинулась назад. Крейслер стал перед принцем и сказал:
– Так как светлейший принц не желает сказать мне ни слова похвалы, которую я надеялся заслужить как композитор и хороший певец, то я вижу, что я недостаточно сильно действую своими слабыми музыкальными познаниями. Но я также большой знаток в живописи и буду иметь честь показать вашей светлости небольшой портрет, изображающий особу, замечательная жизнь и странный конец которой мне настолько известен, что я могу рассказать их всякому, кто пожелает меня слушать.
– Распущенный человек! – пробормотал принц.
Крейслер извлек из кармана ящичек, вынул из него небольшой портрет и показал его принцу. Тот взглянул на него, и вся кровь сбежала с его лица, глаза его остановились, губы задрожали. «Maledetto!»[75] – пробормотал он сквозь зубы и выбежал вон.
– Что это такое? – в смертельном страхе воскликнула Юлия. – Ради всех святых, что это такое, Крейслер? Скажите мне всё!
– Пустяки, – отвечал Крейслер, – так, шутки, чертова забава! Посмотрите, какими огромными шагами бежит через мост его светлость! Боже мой, он противоречит своей нежно-идиллической натуре, он больше не смотрит в озеро и не нуждается в том, чтобы кормить лебедя, милый, добрый… дьявол!
– Крейслер, – проговорила Юлия, – ваш тон заставляет меня содрогаться, я чую недоброе; что произошло у вас с принцем?
Капельмейстер отошел от окна, у которого он стоял, и с таким глубоким волнением посмотрел на стоявшую перед ним Юлию, точно призывал доброго духа, чтобы отвратить от нее страх, вызывавший на глаза ее слезы.
– Нет, – сказал Крейслер, – ни одно враждебное разногласие не должно нарушать небесного благозвучия, живущего в твоих чувствах, невинное дитя! Духи ада ходят по свету в блестящем одеянии, но над тобой у них не будет власти, и ты не должна узнавать их в их черных делах! Успокойтесь, Юлия! Не спрашивайте меня, все уже прошло!
В эту минуту вошла Бенцон в большом беспокойстве.
– Что случилось? Что случилось? – воскликнула она. – Как бешено пролетел мимо меня принц, не заметив моего присутствия! У самого дворца его встретил адъютант, они горячо разговаривали друг с другом, потом принц дал адъютанту, вероятно, какое-то очень важное поручение: адъютант стрелой полетел в павильон, где он живет, а принц направился во дворец. Садовник сказал мне, что ты стояла на мосту с принцем; тогда я, сама не знаю уж – почему, – у меня явилось предчувствие чего-то ужасного, – я поспешила сюда; скажите, что же случилось?
Юлия рассказала, как было дело.
– Тайны? – резко спросила Бенцон, бросив на Крейслера пронзительный взор.
– Милейшая советница, – ответил Крейслер, – бывают минуты, случаи и положения, когда, по моему мнению, человек должен держать язык за зубами, так как сто́ит ему открыть рот, чтобы вышли замешательства, раздражающие благоразумных людей.
Он остался при этом мнении, несмотря на то, что Бенцон, по-видимому, оскорбляло его молчание. Капельмейстер проводил мать и дочь до дворца, а потом пошел обратно в Зигхартсвейлер. Когда он скрылся в заворотах парка, из павильона вышел адъютант принца и пошел вслед за Крейслером. Вскоре в глубине леса раздался выстрел.
В ту же ночь принц покинул Зигхартсвейлер; он оставил князю письмо, где обещал вскоре вернуться. Когда на следующее утро садовник обыскивал парк со своими людьми, он нашел шляпу Крейслера с кровавыми следами. Сам Крейслер исчез неизвестно куда…………………………………. Его………………………………
Том второй
Отдел третий Учебные месяцы. Капризная игра случая
(М. пр.) Пылкие желания и тоска наполняют нашу грудь; но лишь только мы достигаем того, к чему стремились с тысячью мук и терзаний, исполненное желание переходит в ледяное равнодушие, и мы бросаем полученное счастье, как бесполезную игрушку. Едва это случится, наступает горькое раскаяние в скором поступке, все начинается сызнова, и так протекает вся жизнь в вечной смене желаний и отвращений. Таковы, по крайней мере, кошки. Это рассуждение верно определяет нашу породу, к которой принадлежит также и великодушный лев, коего знаменитый Хорнвилла в «Октавиане» Тика называет по этой причине большой кошкой. Да, повторяю я, именно таковы кошки, и кошачье сердце – очень непостоянная вещь. Честный биограф обязан быть прежде всего справедливым, – следовательно, не щадить себя самого! Поэтому я признаюсь вполне откровенно, положа лапу на сердце, что, несмотря на необыкновенное усердие, с которым я принялся за науки и искусства, часто мысль о прекрасной Мисмис внезапно просыпалась во мне и совершенно нарушала мои занятия.
Мне казалось, что я не должен был ее покидать, что я оскорбил верное сердце, ослепленное минутным заблуждением. Ах, часто, когда я желал наслаждаться великим Пифагором (в то время я занимался математикой), нежная лапка в черном чулочке нежданно спутывала все мои катеты и гипотенузы, и передо мной вставала сама прекрасная Мисмис с прелестной бархатной шапочкой на голове, и чудные глаза ее приятно-зеленого цвета смотрели на меня, сверкая, с нежнейшим упреком! Что за милые прыжки в сторону, какое дивное урчание и сгибание хвоста! Я порывался обнять ее с восторгом вновь загоревшейся страсти, но дразнящий призрак исчезал, как мечта.
Естественно, что эти грезы о блаженстве любви повергали меня в уныние, которое могло повредить мне на избранном мною поприще писателя и ученого; иногда это настроение переходило даже в вялость, которой я не мог преодолеть. Я хотел силой побороть это неприятное состояние, воспользоваться минутным настроением и снова найти Мисмис. Но лишь только я опускал лапу на первую ступеньку лестницы, чтобы перейти в высшие сферы, где я надеялся отыскать прекрасную, как на меня находил стыд, я отдергивал лапу и грустно забивался под печку.
Несмотря на этот психический гнет, меня радовало необыкновенно приятное состояние моего здоровья. Я заметно шел вперед если не в науках, то в крепости моего тела, и с удовольствием замечал, смотрясь в зеркало, что мое округлое лицо начало приобретать, не теряя юношеской свежести, нечто, внушающее уважение.
Даже хозяин заметил перемену в моем настроении. Правда, прежде я урчал и весело прыгал, когда он предлагал мне вкусную пищу, прежде я вертелся у его ног, терся о него и даже вскакивал к нему на колени, когда он, вставши утром, говорил мне: «Доброго утра, Мур!» Теперь же я все это оставил, ограничиваясь приветливым «мяу» и тем гордым выгибанием спины, которое, вероятно, знакомо благосклонному читателю. Да, я пренебрегал теперь даже столь любимой мной прежде игрой в птицу. Для молодых гимнастов и спортсменов моей породы будет небесполезно узнать, в чем заключалась эта игра. Хозяин привязывал к длинной нитке одно или два гусиных пера и заставлял их быстро опускаться и подниматься в воздухе наподобие полета. Я прятался по углам, выжидая удобной минуты, и до тех пор прыгал за перьями, пока мне не удавалось их схватить и разорвать. Эта игра часто выводила меня из себя, я действительно принимал перья за птицу и весь распалялся увлечением, так что и дух, и тело упражнялись и крепли. Да, даже и этой игрой пренебрегал я теперь и спокойно лежал на подушке, между тем как хозяин мог сколько угодно заставлять летать свои перья.
– Послушай, кот, – сказал однажды хозяин, когда перья щекотали меня по носу и даже летали по моей подушке, а я только взглядывал и чуть-чуть шевелил лапой, – послушай, кот, ты совсем не тот, что прежде: ты с каждым днем становишься все более и более ленивым и вялым. Мне кажется, ты слишком много ешь и спишь.
При этих словах хозяина молниеносный луч проник в мою душу. Я приписывал мою вялость и грусть размышлениям о Мисмис и об утраченном рае любви; только теперь я понял, как раздвоила земная жизнь мое высокое стремление к наукам и как сильны были ее требования. Есть в природе вещи, которые ясно указывают на то, в какой мере наша скованная душа отдается во власть тирану, называемому телом. К этим вещам причисляю я в особенности вкусную кашу, сладкое молоко и масло, а также большую подушку, хорошо набитую конским волосом. Молочную кашу служанка моего хозяина умела так отлично готовить, что я каждое утро съедал с величайшим аппетитом две полных тарелки этого кушанья. Но после такого завтрака меня нисколько не пленяли науки, они казались мне сухой пищей, и ничего не выходило также и тогда, когда я, оставив их, быстро переходил к поэзии. Ни лучшие произведения новейших писателей, ни знаменитейшие трагедии высокочтимых поэтов не могли приковать к себе мой ум; я впадал в расплывчатую игру мыслей; искусная служанка моего господина невольно вступала в конфликт с автором, и мне казалось, что она гораздо лучше его знала толк в распределении и смешении жирного, сладкого и крепкого, чем он. Увы, я смешивал в грезах вкусовые ощущения духа и тела. Да, я назову это смешение грезами, потому что я грезил, и это заставляло меня искать другую опасную вещь, т. е. большую подушку, набитую конским волосом, и сладко на ней засыпать. Тогда вставал передо мной нежный образ прекрасной Мисмис! О небо, все это было тесно связано: молочная каша, уважение к наукам, меланхолия, подушка, непоэтическая природа и любовные мечты! Хозяин был прав: я слишком много ел и спал! С какой стоической серьезностью принял я решение быть воздержаннее, но природа котов слаба: самые лучшие решения разлетались в прах перед сладким запахом молочной каши и перед заманчиво-пухлой подушкой. Однажды я услышал, как мейстер, входя в комнату, говорил кому-то на пороге:
– Хорошо, я согласен, – может быть, общество его развеселит. Но только если вы будете делать глупости, вскакивать на стол и играть с чернильницей, то я выброшу вас обоих в окошко.
Тут хозяин немного приотворил дверь и кого-то впустил. Этот «кто-то» был не кто иной, как мой друг Муциус. Но я едва узнал его. Когда-то гладкая и блестящая шерсть его была теперь взъерошена и некрасива, глаза глубоко ввалились, и вся его прежняя несколько неуклюжая, но вполне приличная фигура получила какой-то грубый и заносчивый характер.
– Ну, – фыркая, проговорил он, – наконец-то я вас нашел. Неужели приходится искать вас у вашей проклятой печки? Но позвольте!..
С этими словами он подошел к тарелке и съел жареную рыбу, которую я отложил себе для вечерней трапезы.
– Скажите мне, – говорил он при этом, – скажите же, черт возьми, куда вы запропастились, отчего вы никогда не ходите на крышу и не показываетесь в тех местах, где можно повеселиться?
Я объявил ему, что с тех пор, как я отказался от любви к прекрасной Мисмис, я вполне отдался наукам, и потому мне было не до прогулок. Я нимало не стремлюсь в общество, так как получаю от хозяина все, чего может желать мое сердце, как-то: молоко, мясо, рыбу, мягкое ложе и т. д. Спокойная и беззаботная жизнь есть величайшее благо для кота с моими наклонностями и вкусами, и я боюсь нарушить ее, если выйду из дому, так как, к сожалению, должен признаться, что моя склонность к малютке Мисмис еще не совсем прошла и свидание с нею легко может вызвать опрометчивость, в которой я после сильно раскаюсь.
– Вы можете предложить мне потом еще одну рыбу, – сказал Муциус и, погладив себе лапой морду, усы и уши, уселся рядом со мной на подушке.
Немного поурчав в знак своего удовольствия, Муциус заговорил мягким голосом и с ужимками:
– Добрый брат мой Мур, ваше счастье, что я посетил вас в вашем уединении, а хозяин пустил меня к вам без возражений. Вы в величайшей опасности, какая только может угрожать смышленому молодому коту с разумной головой и сильным телом. Другими словами, вам угрожает опасность сделаться отвратительным филистером. Вы говорите, что вы сильно заняты науками и не можете отдавать ваше время на что-либо иное или проводить его в обществе котов. Простите, друг мой, но это неправда: вы так круглы, толсты и гладки, что совсем не похожи на книгоеда. Поверьте мне, проклятые удобства вашей жизни делают вас ленивым и вялым. Совсем иначе чувствовали бы вы себя, если бы вам пришлось потрудиться, как многим из нас, чтобы подцепить рыбью кость или поймать птичку.
– Я думал, – прервал я друга, – что ваше положение недурно; ведь вы же прежде…
– Об этом после, – сердито перебил меня Муциус, – мне не нравится ваш тон; так можно разговаривать, когда мы с вами хорошенько выпьем[76]. Впрочем, вы ведь – филистер, и ничего не понимаете в обычаях.
Я извинился перед рассерженным другом, и он прибавил уже мягче:
– Итак, повторяю: ваш образ жизни, любезный Мур, никуда не годится. Вы должны пуститься в свет.
– О небо, – воскликнул я со страхом, – что вы говорите, друг мой! Мне пуститься в свет! Вы забыли, что я рассказывал вам в погребе несколько месяцев тому назад о том, как я выскочил один раз в свет из английской коляски, какие опасности угрожали мне со всех сторон, и как, наконец, добрый Понто спас меня и привел к моему господину.
Муциус насмешливо улыбнулся.
– Да, – сказал он потом, – именно добрый Понто! Щеголеватый, хитроумный, дурацкий, надменный лицемер, который взялся за вас потому, что это его забавляло, а когда вы посещали его в кругу ему подобных, то он вас не узнавал и, чего доброго, еще растерзал бы вас, так как вы не принадлежите к его породе. Добрый Понто, который вместо того, чтобы ввести вас в настоящий свет, занимал вас пустыми человеческими историями! Нет, добрый мой Мур, этот случай показал вам совсем не тот мир; вы не знаете другого, своего мира. Поверьте мне, что ваши кабинетные занятия ни к чему не ведут и скорее даже вредят вам, потому что вы все-таки остаетесь филистером, а нет ничего скучнее и противнее ученого филистера!
Я откровенно признался другу Муциусу, что не вполне понимаю слово филистер, а также и его мысли.
– Брат мой, – ответил Муциус, приветливо улыбаясь, так что даже похорошел в ту минуту и стал совсем похож на прежнего Муциуса, – напрасно было бы вам объяснять; вы до тех пор не поймете, что такое филистер, пока не перестанете быть им сами. Но если вы желаете познакомиться с основными чертами кошачьего филистерства, то я могу…
(М. л.) …разыгрывалась прекрасная драма. Среди комнаты стояла принцесса Гедвига; лицо ее было бледно, как смерть, взгляд неподвижен и безжизнен. Принц Игнатий играл в нее, как в куклу с двигающимися членами. Он поднимал ее руку, и она останавливалась вверху, дергал ее вниз, и она падала. Он тихонько толкал принцессу вперед, и она шла, он оставлял ее в покое, и она стояла, усаживал ее на стул, она садилась. Принц был так погружен в свою игру, что не заметил входящих.
– Что вы делаете, принц? – воскликнула, входя, княгиня.
Тогда он, весело фыркая и потирая руки, начал уверять, что сестрица Гедвига стала теперь добра и послушна: она делает все, что он хочет, ни в чем ему не противоречит и не дразнит его, как прежде. И он снова начал с военной командой ставить принцессу в разные положения, и всякий раз, когда она, точно окаменев, принимала то положение, которое он ей придавал, он громко смеялся и от радости прыгал по комнате.
– Это невыносимо, – сказала княгиня тихим, дрожащим голосом, и слезы заблестели у нее на глазах, но лейб-медик подошел к принцу и строго на него прикрикнул:
– Оставьте это, ваша светлость! – Потом он взял принцессу на руки, осторожно положил ее на оттоманку, стоявшую в комнате, и опустил занавески. Затем он сказал княгине: – Теперь принцессе всего нужнее полнейший покой; я попрошу, чтобы принц оставил комнату.
Принц Игнатий был очень недоволен и со слезами жаловался, что ему теперь постоянно противоречат разные люди, которые совсем не принцы и даже не знатны. Он хочет остаться с сестрицей-принцессой, которая для него теперь лучше самых красивых чашек, и господин лейб-медик не смеет ему запретить это.
– Идите в вашу комнату, милый принц, – кротко сказала ему княгиня, – идите, принцессе нужно теперь поспать, а после обеда к вам придет фрейлен Юлия.
– Фрейлен Юлия, – воскликнул принц, смеясь и прыгая, совсем как дитя, – фрейлен Юлия! Ах, как хорошо! Я покажу ей новые гравюры, где я представлен в истории про водяного царя в виде принца Лакса с таким большим орденом!..
Затем он церемонно поцеловал руку княгине и с гордым видом протянул свою руку для поцелуя лейб-медику. Но тот взял принца за руку и подвел его к двери, которую открыл с почтительным поклоном. Принц не обиделся, что его вывели таким способом.
Княгиня, совсем разбитая и огорченная, упала в кресло, опустила голову на руки и сказала тихим голосом, звучавшим глубочайшей скорбью:
– Какой смертельный грех тяготеет на мне, что небо так тяжко меня наказывает? Принц обречен на вечное слабоумие, а теперь Гедвига… моя Гедвига! – И княгиня впала в мрачное и тяжелое раздумье.
Тем временем лейб-медик с трудом влил принцессе в рот несколько капель какого-то успокоительного лекарства и позвал камеристок, которые перенесли Гедвигу, остававшуюся все в том же автоматическом состоянии, в ее комнату, получив от лейб-медика приказанье позвать его при малейшей перемене в положении принцессы.
– Ваша светлость, – обратился лейб-медик к княгине, – как ни странно и ни опасно может казаться состояние принцессы, я все-таки считаю возможным уверить вас, что оно скоро пройдет, не оставив никаких опасных следов. Принцесса страдает совсем особой, странной формой столбняка, которая так редко встречается в докторской практике, что многие знаменитейшие врачи ни разу в жизни не имели случая ее наблюдать. Поэтому я должен считать себя поистине счастливым… – Здесь лейб-медик запнулся.
– Ах, – с горечью сказала княгиня, – я узнаю в этом врача-практика, который не обращает внимания на величайшие страдания, если они обогащают его опыт.
– Недавно, – продолжал лейб-медик, не обратив внимания на упрек княгини, – я нашел в одной научной книге пример, очень похожий на случай с принцессой. Одна дама (так говорит автор) приехала из Везуля в Безансон, чтобы вести какое-то дело. Важность случая и мысль, что потеря процесса может принести ей величайшую неприятность, низведя к нищете и к несчастью ее самое и ее семью, приводили ее в ужасное беспокойство, которое дошло до полной экзальтации. Она не могла спать, почти не ела и особенно долго простаивала в церкви на молитве, – словом, всячески доводила себя до ненормального состояния. Наконец в тот день, когда должен был решиться процесс, она впала в состояние, которое присутствующие приняли за удар. Созванные врачи нашли ее сидящею в кресле: глаза ее сверкали и были устремлены к небу, веки были открыты и неподвижны, руки подняты вверх и ладони сжаты. Всегда печальное и бледное лицо ее было теперь веселее, ярче и приятнее, чем когда-либо, дыхание было ровно, пульс мягкий, медленный и умеренно-сильный, как у спокойно спящего человека. Члены ее были гибки и легки и без малейшего сопротивления принимали всевозможные положения. Болезненное состояние обнаруживалось только тем, что члены ее не могли сами переменить положение, которое им придавали. Ее дернули за подбородок – рот открылся и остался в таком положении; ей подняли сначала одну, потом другую руку – они не опустились; руки отогнули к спине и подняли так высоко, что никто не мог бы долго оставаться в таком положении, она же его не изменила. Ее тело можно было сгибать как угодно, оно оставалось в полнейшем равновесии. Она казалась совершенно бесчувственной; ее трясли, щипали, мучили, ставили ее ноги на раскаленную жаровню, кричали ей в уши, что она выиграла процесс, все напрасно: она не подавала никаких признаков сознательной жизни. Мало-помалу она пришла в себя, но произносила бессвязные речи; наконец…
– Продолжайте, – сказала княгиня, когда лейб-медик остановился, – продолжайте, говорите мне все, не скрывая, даже если произошли самые ужасные вещи. Неправда ли, эта дама сошла с ума?
– Достаточно сказать, – продолжал лейб-медик, – что тяжелое состояние этой дамы длилось только четыре дня и что она совершенно поправилась в Везуле, куда она возвратилась, не сохранив никаких следов своей необыкновенной и тяжкой болезни.
Княгиня опять погрузилась в мрачное раздумье, а лейб-медик распространился о тех средствах, которые он думал применить, чтобы помочь принцессе, и вдался, наконец, в такие научные рассуждения, как будто говорил на врачебном совете в среде ученейших докторов.
– К чему ведут все средства, предлагаемые спекулятивной наукой, – прервала наконец княгиня словоохотливого врача, – когда сам разум находится в опасности?
Несколько минут лейб-медик молчал; потом он заговорил так:
– Ваша светлость, пример удивительного столбняка дамы в Безансоне доказывает, что ее болезнь произошла от психических причин. Когда она немного пришла в себя, то леченье начали с того, что ободрили ее, сказавши, что несчастный процесс окончился благополучно. Самые опытные врачи сходятся в том, что подобное состояние может произойти от внезапного душевного потрясения. Принцесса Гедвига чувствительна до последней степени, организация ее нервной системы уже сама по себе может считаться ненормальной. Не подлежит сомнению, что ее болезненное состояние произошло от какого-нибудь сильного потрясения. Надо постараться найти его причину, чтобы действовать на нее нравственным путем. Внезапный отъезд принца Гектора… Ваша светлость, быть может, мать окажется проницательнее всякого врача и сумеет дать ему в руки лучшие средства для исцеления.
Княгиня выпрямилась и холодно и гордо проговорила:
– Даже обыкновенные женщины предпочитают скрывать тайны женского сердца; в княжеских домах глубина его доступна только церкви и ее служителям, к которым нельзя причислить врача! Как, – живо воскликнул лейб-медик, – кто может так резко отделять духовное от телесного? Врач – это второй духовник, ему тоже дозволяют проникать взором в глубину души, если не желают ежеминутно находиться на краю опасности. Ваша светлость, вспомните историю больного принца…
– Довольно, довольно, – перебила княгиня врача с некоторым неудовольствием, – никогда не допущу я себя до того, чтобы сделать неприличие, и столь же мало могу я поверить, что какое бы то ни было неприличие, хотя бы в мыслях или в чувствах, могло вызвать болезнь принцессы.
С этими словами княгиня удалилась и оставила лейб-медика одного.
– Странная женщина эта княгиня, – сказал лейб-медик, обращаясь к себе самому, – она охотно бы убедила всех других, да и себя самое, что замазка, связывающая душу и тело, когда она употребляется при созидании чего-либо княжеского, бывает совсем особого рода и ничем не похожа на ту, которая употребляется при созидании бедных сынов земли не княжеского рода. Поэтому не следует думать, что у принцессы есть сердце, по примеру некоего испанского придворного, отвергнувшего шелковые чулки, которые хотели преподнести его повелительнице добрые нидерландцы: он полагал неприличным помнить, что у испанской королевы есть такие же ноги, как у других честных людей. И все же можно побиться об заклад, что именно в сердце, в этой лаборатории всех женских несчастий, и нужно искать причину тех страшных нервных страданий, которые чувствует принцесса.
Лейб-медик подумал о внезапном отъезде принца Гектора, о необычайной, болезненной чувствительности принцессы, о страстном характере, как ему представлялось, ее чувства к принцу, и он уверился, что какая-нибудь внезапная любовная ссора довела принцессу до ее страшной болезни. Мы увидим, имели ли основание догадки лейб-медика. Что же касается княгини, то, может быть, у нее были те же догадки, и именно потому-то она и считала неприличными всякие вопросы и допытывания со стороны врача, так как при дворе всякое глубокое чувство считалось неуместным и низким. У княгини были когда-то и чувство, и сердце, но странное насмешливо-злостное бремя, называемое этикетом, легло на ее грудь зловещим кошмаром, и ни один вздох, ни один внешний признак не должны были обнаруживать ее внутреннюю жизнь. Поэтому ей удавалось переносить даже такие сцены, как та, которая произошла между принцем и принцессой, и при этом отталкивать тех, кто хотел ей помочь.
В то время, как все это происходило во дворце, в парке делалось многое, о чем следует рассказать.
В кустах налево от выхода стоял толстый гофмаршал; он вынул из кармана маленькую золотую табакерку, взял из нее щепотку табаку и, обтерев ее несколько раз рукавом своего кафтана, протянул княжескому лейб-камердинеру, говоря:
– Достойный друг, я знаю, что вы любите такие вещицы; возьмите эту табакерку в знак моего к вам милостивого благоволения, на которое вы всегда можете рассчитывать. Но скажите, милейший, как произошла эта странная и необычайная прогулка?
– Мне остается только благодарить вас, – сказал лейб-камердинер, принимая золотую табакерку. Затем он откашлялся и продолжал: – Могу вас уверить, ваше превосходительство, что его светлость очень беспокоятся с той минуты, как светлейшая принцесса Гедвига неизвестно с чего лишилась своих пяти чувств. Сегодня они целые полчаса стояли у окна, совершенно выпрямившись, и так страшно барабанили августейшими пальцами правой руки по стеклу, что оно звенело и трещало. Но это были прекрасные марши, полные приятнейших мелодий свежего стиля, как говаривал мой покойный зять, придворный трубач. Вы ведь знаете, ваше превосходительство, что мой покойный зять, придворный трубач, был способный человек. Он мастерски справлялся со своим инструментом, низкие и высокие ноты звучали у него, как соловьиная трель, а уж что касается до средних…
– Да, знаю, знаю, милейший, – перебил болтуна гофмаршал, – ваш покойный зять был прекрасный придворный трубач, но теперь дело идет о том, что делали и что говорили его светлость, когда они изволили барабанить марши.
– Что они делали? Что говорили? – продолжал лейб-камердинер. – Гм… не очень-то много: светлейший обернулся, посмотрел неподвижным, сверкающим взглядом, страшно дернул за колокольчик и громко закричал: «François[77]! François!» – «Я здесь, здесь, ваша светлость!» – воскликнул я. Тогда его светлость сказали сердитым голосом: «Осел! Что же ты не говорил раньше!» – и затем прибавили: «Выходное платье!» Я исполнил приказание. Его светлость изволили надеть зеленый шелковый кафтан без звезды и отправились в парк. Они запретили мне за ними следовать, но, ваше превосходительство, ведь надо же знать, где находятся их светлость на случай несчастья, – ну, я и пошел за ними так, издалека, и увидел, что их светлость отправились в рыбачий домик.
– К мейстеру Абрагаму! – воскликнул гофмаршал в величайшем удивлении.
– Да, именно, – сказал лейб-камердинер и состроил очень важную и таинственную гримасу.
– В рыбачий домик! – повторил гофмаршал. – В рыбачий домик, к мейстеру Абрагаму! Никогда еще его светлость не посещал мейстера Абрагама в рыбачьем домике.
Затем последовало молчание, после чего гофмаршал спросил:
– И больше ничего не высказал его светлость?
– Ничего, – многозначительно ответил лейб-камердинер, – но, – продолжал он с лукавым смехом, – одно из окон рыбачьего домика выходит на частый кустарник, там есть углубление, и можно расслышать каждое слово, произносимое в домике; можно было бы…
– Если бы вы сделали это, милейший! – в восторге воскликнул гофмаршал.
– Я это сделаю, – сказал камердинер и осторожно зашагал вперед. Но когда он вышел из чащи, перед ним очутился князь, который как раз возвращался во дворец. Камердинер чуть не задел его и в почтительном ужасе отступил.
– Vous êtes un grand[78] болван! – прогремел князь, затем кинул гофмаршалу холодное «dormez bien»[79] и удалился во дворец вместе с лейб-камердинером, который последовал за ним.
Гофмаршал стоял совершенно ошеломленный, бормоча про себя: «Рыбачий домик, мейстер Абрагам, dormez bien», и решил немедленно поехать к государственному канцлеру, чтобы обсудить этот необыкновенный случай и по возможности найти положение, какое должно занять при дворе это событие.
Мейстер Абрагам проводил князя до тех самых кустов, где стояли гофмаршал и лейб-камердинер; здесь он удалился по желанию князя, который не хотел, чтобы его видели из окон дворца в обществе мейстера. Читатель знает, как хорошо удалось князю скрыть его таинственный и уединенный визит в рыбачий домик к мейстеру Абрагаму. Но, кроме камердинера, была еще одна особа, которая подстерегла князя без его ведома.
Едва дошел мейстер Абрагам до своего жилища, как совсем неожиданно вышла ему навстречу с дорожки, начинавшей уже теряться во мраке, советница Бенцон.
– Ага, – воскликнула она с горьким смехом, – князь советовался с вами, мейстер Абрагам! И в самом деле, вы – истинная опора княжеского дома, ваша мудрость и ваша опытность изливаются и на отца, и на сына, и когда добрые советы слишком дороги или совсем невозможны…
– Но, – перебил мейстер Абрагам госпожу Бенцон, – я знаю одну советницу, напоминающую блестящую планету, которая все здесь освещает, и влияния которой избегнул только некий бедный старый органный мастер, одиноко прозябающий в своей простой жизни.
– Не шутите так горько, мейстер Абрагам, – сказала Бенцон, – планета, которая ярко сияла, может побледнеть, снизившись на горизонте, и наконец совершенно исчезнуть. По-видимому, самые страшные события происходят в этом одиноком семейном кругу, который в маленьком городке и среди двух дюжин людей, живущих помимо него, привыкли называть двором. Внезапный отъезд страстно ожидаемого жениха, ужасное состояние Гедвиги, – это в самом деле могло бы глубоко взволновать князя, если бы он не был совершенно бесчувственным человеком.
– Вы не всегда так думали, госпожа советница, – прервал мейстер Абрагам госпожу Бенцон.
– Я вас не понимаю, – сказала Бенцон презрительным тоном, бросив пронзительный взор на мейстера Абрагама, и быстро от него отвернулась.
Доверие, которое князь Ириней оказал мейстеру Абрагаму, признавая за ним даже некоторое умственное превосходство, заставило его отбросить в сторону все княжеские соображения; в рыбачьем домике он открыл свое сердце, умолчав, однако, о влиянии Бенцон на тяжелые события дня. Мейстер Абрагам это знал, и тем более поразила его чувствительность советницы, хотя он и удивлялся тому, что такая холодная и замкнутая особа не могла совладать с собой.
Но советницу глубоко огорчало то, что она видела. Она сознавала, какая опасность угрожает ее монополии опеки над князем, да еще в такую критическую и страшную минуту, как эта. По причинам, которые, быть может, впоследствии выяснятся, советница пламенно желала брака принцессы Гедвиги с принцем Гектором. Как ей казалось, этот брак был теперь поставлен на карту, и вмешательство третьего лица она считала опасным. Кроме того, в первый раз видела она себя окруженной непонятными тайнами, в первый раз в жизни о чем-то умалчивал князь; можно ли было больше оскорбить ее, привыкшую управлять игрою этого фантастического двора?
Мейстер Абрагам знал, что ничто так не раздражает рассерженной женщины, как невозмутимое спокойствие; поэтому он не сказал больше ни слова и молча пошел рядом с Бенцон. Она в глубоком раздумьи направлялась к тому самому мосту, который уже знаком читателю. Облокотившись на перила, смотрела советница на дальний лес. Закатывающееся солнце, как бы на прощанье, бросало огненные взоры.
– Прекрасный вечер, – сказала советница, не оборачиваясь.
– Да, – ответил мейстер Абрагам, – он так же тих, спокоен и ясен, как безмятежное, нетронутое чувство.
– Не сетуйте на меня, любезный мейстер, – начала советница, переходя в более непринужденный тон, – вы могли бы извинить меня за то, что я огорчаюсь, когда доверие князя внезапно переходит к вам, и только у вас он спрашивает совета, тогда как опытная женщина могла бы лучше посоветовать и помочь. Но теперь уже прошло мелочное раздражение, которого я не могла побороть. Я совершенно спокойна, так как нарушена только форма. Князь, вероятно, и сам сказал бы мне то, что я узнала теперь другим способом, и я могу только одобрить все, что вы ему отвечали, любезный мейстер. Я признаюсь, что сделала нечто недостойное похвалы, но думаю, что это извинительно, так как тут действовало не столько женское любопытство, сколько глубокое участие ко всему, что происходит в княжеском семействе. Узнайте же, мейстер, что я подстерегла вас, подслушала весь ваш разговор с князем и поняла каждое слово.
При этих словах Бенцон мейстера Абрагама охватило странное смешанное чувство иронии и глубокой горечи. Он заметил точно так же, как и княжеский лейб-камердинер, что из кустов, разросшихся под окном рыбачьего домика, можно было расслышать всякое слово, которое говорилось внутри. Посредством искусных акустических приспособлений ему удалось достигнуть того, что разговор внутри домика доходил до ушей стоящего снаружи в виде смутного, непонятного шума, так что нельзя было разобрать ни одного слова. Поэтому мейстеру показалось жалким, когда Бенцон прибегла ко лжи, чтобы выведать тайну, которую она могла подозревать скорее, чем князь, и о которой по этой причине тот ничего не мог сказать мейстеру Абрагаму. Мы увидим после, что делал князь в рыбачьем домике с мейстером Абрагамом.
– О, – воскликнул мейстер, – вас привел к рыбачьему домику верный инстинкт предприимчивой и мудрой женщины! Где мне, бедному, старому и неопытному человеку, разобраться во всех этих вещах без вашего содействия? Я только что хотел подробно рассказать вам о том, что доверил мне князь, но если вам уже все известно, не буду вдаваться в дальнейшие разъяснения. Быть может, вы окажете мне честь, поговоривши со мной по душе обо всем, что может казаться хуже, чем оно есть на самом деле.
Мейстер Абрагам так хорошо подделался под тон чистосердечной доверчивости, что, несмотря на всю свою проницательность, Бенцон не могла понять, была ли здесь мистификация или нет, и это затруднение подрезало ту нить, которую она держала в руках для того, чтобы завязать петлю западни, предназначенной для мейстера. Она напрасно искала слов и, стоя на мосту, как прикованная к месту, смотрела в озеро. Несколько минут мейстер наблюдал ее замешательство, потом его мысли обратились к событиям дня. Он знал, что Крейслер был главным центром этих событий; его охватила глубокая скорбь о потере любимого друга, и у него невольно вырвалось восклицание: «Бедный Иоганн!»
Тогда Бенцон быстро повернулась к мейстеру и порывисто сказала:
– Как, мейстер Абрагам, вы ведь не так глупы, чтобы верить в исчезновение Крейслера? Что же доказывает кровавая шляпа? И что могло так внезапно заставить его решиться на такой страшный поступок, как самоубийство? Ведь его бы тогда тоже нашли.
Немало удивило мейстера, что Бенцон говорит о самоубийстве, когда, по-видимому, можно было подозревать нечто совсем другое; но прежде, чем он собрался отвечать, советница продолжала:
– Счастье для нас, что здесь нет больше этого несчастного, который всюду, где он появляется, приносит одни только бедствия. Его страстная натура, его озлобленность, – я не могу иначе назвать его хваленый юмор, – уязвляет всякое нежное чувство, с которым он заводит свою ужасную игру. Если насмешливое презрение ко всем условным отношениям, наперекор всем обычным формам, доказывает умственное превосходство, то все мы должны стоять на коленях перед этим капельмейстером, но пусть лучше он оставит нас в покое и не восстает против всего, что установлено верными взглядами настоящей жизни и признано основанием нашего счастья. Да, да, я благодарю небо за то, что его больше здесь нет, и надеюсь, что никогда больше его не увижу.
– Однако, госпожа советница, – мягко проговорил мейстер, – вы были когда-то другом моего Иоганна, вы приняли в нем участие в очень критическое время его жизни и даже направили его на поприще, от которого отвратили его те самые условные отношения, которые вы так горячо защищаете. В чем же вы теперь обвиняете моего доброго Крейслера? Что же он сделал дурного? Можно ли его ненавидеть за то, что, когда случай бросил его в новую сферу, жизнь сразу вступила с ним во вражду? Виноват ли он в том, что ему грозила гибель, или в том, что его подстерег итальянский бандит?
При этих словах г-жа Бенцон вздрогнула.
– Какая адская мысль зародилась в вашей голове, мейстер Абрагам? – сказала она дрожащим голосом. – Но если бы это было и так, если бы Крейслер действительно погиб, то вместе с тем была бы отомщена и невеста, которую он погубил. Какой-то тайный голос говорил мне, что в страшном состоянии принцессы виноват один только Крейслер. Безжалостно натягивал он нежные струны чувств нашей больной, и вот наконец они порвались.
– Но итальянский господин был очень решителен, – ядовито ответил мейстер Абрагам, – он предпослал свое мщение. Вы ведь слышали, многоуважаемая, что мы говорили с князем в рыбачьем домике, и потому знаете также и то, что принцесса Гедвига впала в столбняк в ту самую минуту, как в лесу раздался выстрел.
– Право, – сказала Бенцон, – можно поверить во все химерические странности, которыми нас теперь угощают, уверовать в соответствие душ и т. п. И все-таки хорошо, что его здесь нет; состояние принцессы может и должно измениться, судьба изгнала нарушителя нашего покоя, а ведь сами вы знаете, мейстер Абрагам, что душа нашего друга так растерзана, что в жизни он не мог бы найти покоя; признайтесь же, что…
Но советница не кончила; гнев мейстера Абрагама, с трудом подавлявшийся им до сих пор, вспыхнул с внезапной силой.
– Что? – воскликнул он громовым голосом. – Почему все вы против Иоганна? Что он вам сделал дурного? Почему вы не хотите даже оставить ему на земле свободное место? Вы не знаете почему? Так я скажу вам. Дело в том, что Крейслер не носит ваших цветов и не понимает ваших речей, и тот стул, который вы ему подставляете, желая, чтобы он сидел среди вас, ему слишком узок и мал. Вы не можете считать его равным, и это вас злит. Он не хочет признавать вечности договоров, которые вы заключили в жизни, и думает, что то безумие, на которое вы поймались, мешает вам видеть настоящую жизнь, а та торжественность, с которой вы будто бы управляете неизвестным вам царством, смешна; вы же называете это озлобленностью. Больше всего любит он шутку, которая происходит от глубокого понимания человеческой натуры и может назваться прекраснейшим даром природы, зарождаясь в чистейшем источнике ее жизни. Но вы, важные и серьезные люди, вы не хотите шутить. В нем живет дух настоящей любви, но мог ли он согреть сердце, которое навеки застыло в неподвижности, где никогда не было и искры, которую дух этот мог бы превратить в пламя! Вам неприятен Крейслер потому, что вам невыносимо то превосходство, какое вы в нем невольно видите; вы боитесь его, видя, что он занимается возвышенными вещами, которые не идут к вашему узкому кругозору.
– Мейстер, – сказала Бенцон глухим голосом, – мейстер Абрагам, горячность, с какой ты защищал друга, завела тебя слишком далеко. Ты хотел меня уязвить, и это тебе удалось, потому что ты разбудил во мне мысли, которые давно-давно уже спали! Ты говоришь, что сердце мое застыло? А знаешь ли ты, слыхало ли оно когда-либо приветливый голос любви, и в одних ли только условных житейских отношениях, которые презирал необузданный Крейслер, находила я покой и утешение? Или не знаешь ты, старик, видавший столько страданий, какая опасная вещь подниматься выше этих отношений и желать приблизиться к духу мира, обманывая себя самого? Я знаю, что Крейслер считает меня самой холодной, прозаической женщиной, и когда ты говоришь, что сердце мое застыло, то устами твоими говорит его мнение; но проникали ли вы когда-нибудь сквозь этот лед, который давно уже служит мне спасительным панцырем? Если для мужчины любовь не составляет жизни, а есть только вершина, с которой идут во все стороны более прямые пути, то наш высочайший и светлый пункт – это момент первой любви, создающий и образующий всю нашу жизнь. Если враждебная судьба сомнет этот момент, то вся жизнь слабой женщины испорчена и навеки лишена смысла; но женщина с более сильной душой борется, побеждает себя и даже в самых обыденных житейских отношениях находит нечто, дающее ей мир и покой. Выслушай меня, старик, я могу сказать тебе это в ночной темноте, благоприятной признаниям! Когда наступил этот момент в моей жизни, когда я увидела того, кто зажег во мне весь пламень глубокой любви, на который способно женское сердце, я стояла перед алтарем с тем самым Бенцоном, который после был мне прекрасным мужем. Его полная незначительность давала мне все, чего я могла пожелать, чтобы вести спокойную жизнь, и ни одна жалоба, ни один упрек не вылетели из моих уст. Я вращалась только в среде обыденной жизни, и если даже и в этой среде происходило многое, что незаметно вело меня к заблуждению, и многое, что могло казаться предосудительным, я могу извинить это только увлечением мимолетной встречи, и пусть прежде осудит меня та женщина, которая выдержала подобно мне трудную борьбу, ведущую к отречению от всякого более высокого счастья, даже если оно – не более, как сладкая, безумная греза. Со мной познакомился князь Ириней… Но я умолчу о том, что давно уже было, – здесь будет речь только о настоящем. Мейстер Абрагам, я позволила тебе заглянуть в мою душу; ты знаешь теперь, отчего я могу считать опасным вторжение всякого чуждого, экзотического принципа. Моя собственная судьба в ту роковую годину моей жизни стоит передо мной как страшный предостерегающий призрак. Я должна спасти тех, кто мне дорог, и у меня есть свои планы. Не противьтесь мне, мейстер; если же вы хотите вступить со мною в борьбу, то знайте наперед, что я сумею расстроить ваши лучшие фокусы!
– Несчастная женщина! – воскликнул мейстер Абрагам.
– Ты называешь меня несчастной, – возразила Бенцон, – меня, которая сумела побороть враждебный жребий и найти покой и удовлетворение там, где, казалось, уже все потеряно?
– Несчастная женщина! – воскликнул мейстер Абрагам тоном глубокого волнения. – Бедная, несчастная женщина!.. Ты думаешь, что нашла покой и удовлетворение, и не подозреваешь того, что отчаяние заставило извергнуться из души твоей вулкан, пламеневший лавой. В своем тупом оцепенении ты принимаешь за роскошное поле жизни, которое еще принесет тебе плод, один лишь мертвый пепел, на котором не вырастет больше ни почки, ни цветка! Ты хочешь возвести искусственное здание на краеугольном камне, раздробленном молнией, и не боишься, что оно обрушится в тот момент, когда веселые пестрые ленты будут развеваться вокруг венка, возвещая победу строителя. Юлия, Гедвига… Я знаю, что для них составляются планы! Несчастная женщина! Берегись, чтобы то беспокойное чувство и то озлобление, которые ты несправедливо приписываешь моему Иоганну, не оказались на дне твоего собственного сердца. Что же такое означают тогда твои мудрые замыслы, как не враждебное сопротивление тому счастью, которого ты никогда не испытала и которое ты хочешь отнять у твоих близких? Я знаю больше, чем ты думаешь, о твоих замыслах, о твоих хваленых житейских отношениях, которые должны были принести тебе покой и привели тебя к позорным поступкам!
Глухой, неясный стон, вырвавшийся у Бенцон при этих словах мейстера, выдал ее глубокое смущение. Мейстер подождал ответа, но так как Бенцон молчала, не двигаясь с места, он продолжал:
– У меня нет ни малейшего желания вступать с вами в борьбу; что же касается моих так называемых фокусов, то вам хорошо известно, многоуважаемая госпожа советница, что с тех пор, как меня покинула моя невидимка… – В эту минуту мысль об утраченной Кьяре охватила мейстера с небывалой силой; ему показалось, что он видит в темной дали ее образ, что он слышит ее нежный голос. – О Кьяра, дорогая Кьяра! – воскликнула он в порыве безутешной тоски.
– Что с вами? – сказала Бенцон, быстро оборачиваясь к нему. – Что с вами, мейстер Абрагам? Какое имя произнесли вы?.. Но я повторяю: оставим прошедшее, не судите меня сообразно тем странным взглядам на жизнь, которые вы разделяете с Крейслером, обещайте мне не злоупотреблять доверием, которое подарил вам князь Ириней, обещайте мне не противиться моим действиям.
Мейстер Абрагам был так погружен в свои печальные думы о Кьяре, что едва слышал слова советницы и отвечал ей невнятно.
– Не отталкивайте меня, мейстер Абрагам, – продолжала советница. – Как видно, вы действительно знаете больше, чем я смела ожидать, но возможно, что и я знаю тайны, узнать которые было бы для вас очень важно; быть может, я окажу вам дружескую услугу, о которой вы и не подозреваете. Будем вместе управлять этим маленьким двором, который в самом деле нуждается в помочах. Вы с такой тоской воскликнули: Кьяра!..
Сильный шум, раздавшийся во дворце, заставил Бенцон остановиться. Мейстер Абрагам пробудился от грез; шум…
(М. пр.) …сказать вам следующее. Кошачий филистер даже при сильной жажде начинает с того, что облизывает блюдечко с молоком, чтобы не замочить себе морды и усов, и всегда остается благопристойным, так как благопристойность для него важнее жажды. Если придешь к коту-филистеру, то он угостит тебя и будет уверять в своей дружбе, а после съест потихоньку один лучшие припрятанные кусочки. Кошачий филистер посредством особого такта умеет найти себе и на земле, и в погребе, и везде самое хорошее место, на котором он помещается так удобно и превосходно, как только можно! Он много говорит о своих добрых качествах и благодарит бога за то, что судьба не просмотрела этих добрых качеств. Он пространно объяснит тебе, как добился того хорошего места, которое занимает, и перечислит то, что он намерен предпринять, чтобы улучшить свое положение. Если же ты захочешь наконец сказать ему что-нибудь о себе и о своей жизни, то кот-филистер сейчас же зажмуривает глаза, поджимает уши и делает вид, что он спит или урчит. Кот-филистер прилежно лижет свою шкуру, делая ее блестящей и гладкой, и даже на мышиной охоте на каждом шагу встряхивает свои лапы в сырых местах; таким образом, если дичь и будет от этого потеряна, то сам он останется во всех случаях жизни изящным, порядочным и хорошо одетым котом. Кошачий филистер боится малейшей опасности; если же его ближний находится в беде и требует его помощи, то он уверяет священнейшими клятвами дружбы, что именно в эту минуту его положение, по известным соображениям, этого не допускает. Вообще все действия и поступки кошачьего филистера во всех случаях жизни зависят от тысячи соображений. Даже по отношению к маленькому мопсу, очень чувствительно укусившему его хвост, он остается вежливым и приличным, чтобы не поссориться с дворовой собакой, протекцией которой он сумел заручиться, и только в ночное время позволяет он себе выцарапать глаз мопсу. Через день после этого он от души жалеет дорогого друга мопса и разглагольствует о злобе коварных врагов. Вообще его соображения похожи на хорошо устроенную лисью нору, которая дает возможность кошачьему филистеру выскочить из нее в ту самую минуту, как думают его схватить. Кошачий филистер всего охотнее остается у милой печки; свободная крыша причиняет ему головокружение. Вы видите, друг мой Мур, что это касается и вас. Если же я скажу вам теперь, что кошачий бурш откровенен, честен, неэгоистичен, сердечен, всегда готов помочь другу, что ему чужды все соображения, кроме чести и правды, – словом, что кошачий бурш есть антипод кошачьего филистера, то вы, несомненно, сумеете отделаться от филистерства и сделаться настоящим добрым кошачьим буршем.
Я живо почувствовал истину слов друга Муциуса. Я увидел теперь, что не знал только слова «филистер», самый же характер был мне знаком, так как я не раз встречал филистеров, т. е. плохих малых из котов. Тем более почувствовал я свое заблуждение, поддавшись которому, мог бы попасть в категорию презренных существ, и я решил во всем следовать советам Муциуса в надежде сделаться таким образом добрым буршем. Один молодой человек говорил однажды моему хозяину о каком-то неверном друге и охарактеризовал его очень странным и непонятным для меня словом. Он назвал его напомаженным малым. Мне казалось теперь, что прозвище «напомаженный» очень подходит к слову «филистер», и я спросил об этом друга Муциуса. Но едва произнес я слово «напомаженный», как Муциус подпрыгнул с радостным видом и, горячо обнявши меня, воскликнул:
– Дорогой мой, я вижу, что ты меня отлично понял! Да, «напомаженный филистер» – это и есть то презренное существо, которое противоположно благородным кошачьим буршам и которое мы отовсюду хотели бы изгнать. Да, друг Мур, у тебя уже есть истинное чутье всего благородного и великого, позволь мне еще раз прижать тебя к груди, в которой бьется верное немецкое сердце.
Здесь друг Муциус еще раз меня обнял и сказал, что в эту же ночь он думает свести меня в собрание буршей, только бы я был в полночь на крыше, откуда он возьмет меня с собой на праздник, даваемый кошачьим старшиной по имени Пуф.
В комнату вошел хозяин. Я по обыкновению пошел навстречу ему и начал кататься на полу, выражая этим мою радость. Муциус также глядел на него с довольным видом. Немного пощекотав меня по голове и по шее, хозяин осмотрел комнату и, увидав, что все в порядке, сказал:
– Вот это хорошо, вы проводили время спокойно и мирно, как подобает благовоспитанным людям, – это заслуживает награды!
Тут хозяин пошел к двери, которая вела в кухню, а мы с Муциусом, поняв его доброе намерение, пошли за ним, издавая самые приветливые «мяу, мяу». Хозяин действительно открыл кухонный шкап и достал остовы и косточки двух молодых кур, мясо которых он ел накануне. Известно, что моя порода считает кухонные косточки одним из самых лакомых блюд, и поэтому понятно, что глаза Муциуса разгорелись ярким огнем, и он начал самым приятным образом вертеть хвостом и громко урчать в то время, как хозяин ставил перед нами на пол тарелку. Памятуя о напомаженном филистере, я отдал другу Муциусу лучшие куски, как-то: шейки, спинки и грудки, а сам удовольствовался более грубыми косточками от крыльев и ножек. Когда мы покончили с курами, я хотел спросить друга Муциуса, не пожелает ли он чашку молока; но, не упуская из вида напомаженного филистера, я, ничего не сказав, вытащил чашку, которая, как мне было известно, стояла под шкапом, и приветливо пригласил Муциуса вылакать ее вместе со мной, причем я пил за его здоровье. Муциус дочиста вылакал чашку, потом пожал мне лапу и сказал со слезами на глазах:
– Друг Мур, у вас лукулловский стол, но вы выказали верное и благородное сердце; итак, суетные удовольствия не приведут вас к гнусному филистерству. Благодарю, душевно благодарю вас!
Мы распростились, крепко пожав друг другу лапы по старинному немецкому обычаю. Вероятно, желая скрыть глубокое волнение, вызвавшее на глаза его слезы, Муциус быстрым отчаянным прыжком выскочил через открытое окно на ближайшую крышу. Даже я, наделенный природой удивительно-сильными мышцами, подивился смелому прыжку и при этом удобном случае еще раз похвалил в душе нашу породу, состоящую из природных гимнастов, не нуждающихся ни в мачтах, ни в трапециях.
Кроме того, друг Муциус показал мне на себе, как часто под грубой, отталкивающей наружностью скрывается нежное и глубокое сердце.
Я вернулся в комнату хозяина и лег под печку. Здесь в одиночестве я представил себе, какую окраску имело до тех пор мое существование, обдумал мое недавнее настроение, оценил всю мою жизнь и ужаснулся при мысли о том, как близок я был к падению; несмотря на свою взъерошенную шерсть, друг Муциус представился мне в ту минуту прекрасным спасительным ангелом. Я твердо решил вступить в новый мир, восполнить пустоту своей души и сделаться другим котом; сердце мое билось робким и радостным ожиданием.
Было еще далеко до полуночи, когда я попросил хозяина меня выпустить, произнеся обычное в таких случаях «мяу».
– С большим удовольствием, Мур, с большим удовольствием! – сказал он, отворяя дверь. – Из вечного лежанья и спанья под печкой не может выйти ничего хорошего. Иди, иди, побывай в обществе своих; может быть, ты встретишь родственных тебе по духу юных котов, которые будут забавляться с тобой между делом и шуткой!
Ах, хозяин верно понял, что для меня начинается новая жизнь! Когда я дождался полуночи, явился друг Муциус, повел меня по разным крышам, и, наконец, на одной почти плоской, итальянской крыше нас встретили громкими ликующими криками десять статных молодых котов, так же небрежно и странно одетых, как Муциус. Он представил меня друзьям, похвалил мои качества, мои верные и честные понятия, особенно же выставил на вид то, как я радушно угостил его жареной рыбой, куриными костями и молоком, и закончил тем, что я желал бы сделаться добрым кошачьим буршем. Все дали свое согласие.
Затем начались некоторые торжественные церемонии, о которых я умолчу, так как благосклонные читатели моей породы могли бы заподозрить, что я вступил в какой-нибудь запрещенный орден, и сочли бы, пожалуй, долгом потребовать меня к ответу. Я могу, однако, заверить, с полным чистосердечием, что не было и речи о каком бы то ни было ордене и его атрибутах, как-то: о статутах, тайных знаках и т. д. Наше общество основывалось только на общности мнений. Вскоре оказалось, что всякий из нас предпочитает молоко воде и жаркое хлебу.
После церемоний я получил от каждого кота братский поцелуй и пожатие лапы, и все начали говорить мне «ты». Затем мы уселись за простую, но веселую трапезу, вслед за которой началась попойка. Муциус сделал великолепный кошачий пунш. Если какой-нибудь лакомка юный кот захочет узнать рецепт этого дорогого напитка, то я, к сожалению, не могу дать ему для этого достаточных указаний. Я знаю только, что изысканность его вкуса и удивительная крепость достигаются посредством сильной примеси селедочного рассола.
Громким голосом, разносившимся далеко по крышам, запел старшина Пуф прекрасную песню: Gaudeamus igitur[80]. С наслаждением чувствовал я себя и наружно и внутренно настоящим juvenis (юношей), вовсе не желая думать о tumulus (могиле), так как жестокая судьба редко посылает нам спокойную и тихую смерть. Потом пелись другие прекрасные песни, как, например, «Пускай политики болтают» и т. д., и наконец старшина Пуф ударил по столу своей увесистой лапой и объявил, что теперь будут петь настоящую священную песню, т. е. Ессе quam bonum![81], и сейчас же запел гимн, начинавшийся этими словами.
Я никогда еще не слышал этой песни, которая может назваться удивительной и таинственной как по глубокой обдуманности композиции, так и по верности мелодии и гармонии. Насколько мне известно, хозяин ее не знает, но многие приписывают эту песню великому Генделю, другие же уверяют, что она существовала гораздо раньше генделевских времен и, по вюртембергским хроникам, ее пели еще тогда, когда принц Гамлет был студентом. Но безразлично, кто ее сочинил, – произведение это велико и бессмертно; особенно же интересно то, что вставленные в хор соло дают певцам простор для самых приятных и неистощимых изменений. Некоторые из этих изменений, слышанные мною в ту ночь, я сохранил в своей памяти.
Как только кончился хор, черный с белым кот запел следующее:
Род собачий нам претит, Все в нем досаждает: Шпиц вертится и визжит, Пудель громко лает! Хор: Ессе quam… и т. д.После него запел серый кот:
Вон филистер свой колпак Вежливо снимает, И услужливый дурак Тотчас отвечает! Хор: Ессе quam… и т. д.Потом запел желтый:
Рыбы плавают в воде, Птицы же летают, Не достать нам их нигде, Пусть себе летают! Хор: Ессе quam… и т. д.Потом запел белый:
И мяукать, и урчать, И мурлыкать можно, Только когти выпускать Надо осторожно! Хор: Ессе quam… и т. д.Потом запел друг Муциус:
Обезьяны на свой лад Нас судить желают, Пусть носы свои крутят, Благо – не кусают! Хор: Ессе quam… и т. д.Я сидел рядом с Муциусом, и теперь наступила моя очередь. Все соло, спетые до меня, до такой степени не походили на те стихи, которые я сочинял, что я со страхом и с беспокойством думал о том, что не сумею попасть в тон. От этого произошло, что хор смолк, а я все еще молчал. Уже некоторые подняли стаканы, восклицая: «Pro poena!»[82], но тут я собрал все свои силы и запел так:
Лапа с лапой, заодно Дружно все сомкнемся, Мы филистерам назло Буршами зовемся! Хор: Ессе quam… и т. д.Моя вариация имела необычайный успех. Великодушные юноши с криком бросались ко мне, заключали меня в свои лапы и прижимали к своим бьющимся сердцам. Итак, здесь тоже признали мою высокую гениальность. Это была одна из лучших минут моей жизни. Затем провозгласили восторженное «ура» в честь многих великих и знаменитых котов, – в особенности тех, которые, несмотря на свою знаменитость, удалялись от всякого филистерства и доказали это и словом, и делом. После этого мы расстались.
Пунш немного ударил мне в голову: мне казалось, что крыши колеблются, я едва мог держаться на ногах с помощью хвоста, который употреблял я в виде шеста, поддерживающего равновесие. Заметив мое состояние, верный Муциус принял во мне участие и счастливо довел меня до дома через слуховое окно.
Чувствуя в голове необычайную тяжесть, я долго не мог…
(М. л.) …я знал это не хуже самой проницательной г-жи Бенцон, но сердце мое не чувствовало, что именно сегодня я получу о тебе весть, моя верная душа!
Так говорил мейстер Абрагам, запирая в выдвижной ящик своего письменного стола нераспечатанное письмо, на конверте которого он с радостным удивлением узнал руку Крейслера; заперев письмо в стол, он отправился в парк. У мейстера Абрагама с давних пор образовалась привычка по целым часам, а иногда даже и дням, оставлять нераспечатанными те письма, которые он получал.
– Если содержание письма безразлично, – говорил он, – то замедление неважно; если в нем есть неприятная новость, то я выиграю еще несколько веселых или по меньшей мере спокойных часов; если же есть радостное известие, то степенный человек может и подождать того момента, когда радость схватит его за горло.
Эту привычку мейстера Абрагама следует осудить, так как человек, оставляющий письма непрочитанными, не годится ни в купцы, ни в газетчики; кроме того, ясно, что от этого может произойти много неудобств и для тех людей, которые не состоят купцами или газетчиками. Что касается настоящего биографа, то он не верит в стоическое равнодушие Абрагама, но скорее приписывает его привычку известному страху перед тайной закрытого письма. Получать письма – это совсем особое удовольствие, и поэтому нам бывают особенно милы те лица, с помощью которых мы получаем это удовольствие, а именно – почтальоны, как уже заметил где-то один остроумный писатель. Тут проявляется нечто вроде приятной мистификации собственной особы. Биограф помнит, как однажды, когда он был в университете и ждал с тоской письма от одного милого существа, он со слезами на глазах просил почтальона, чтобы тот скорее доставил ему письмо из родного города, и обещал ему дать за это большую награду. Плут с хитрым видом обещал сделать то, что от него требовалось; когда же вскоре пришло письмо, то принес его с таким торжествующим видом, точно это зависело только от сказанного им слова, и получил обещанную награду. Но биограф, который сам, быть может, слишком склонен к такого рода мистификациям собственной особы, не знает, похож ли ты на него, любезный читатель, и будешь ли ты испытывать вместе с радостью известный страх, который во время открывания письма заставит биться твое сердце даже и в том случае, если вполне ясно, что письмо не может заключать в себе чего-либо для тебя важного. Быть может, то самое чувство, которое сжимает нашу грудь, когда мы смотрим в неизвестное будущее, шевелится в нас и при получении письма, и именно оттого-то, когда достаточно легкого нажатия пальцев, чтобы открыть сокровенное, этот последний момент вызывает в нас такую тревогу. И потом… сколько сладких надежд было разбито этой роковой печатью! Самые дивные грезы, рождавшиеся в нашей душе из пылких стремлений, разлетались в прах, причем маленький лист бумаги играл роль волшебного заклинания, от которого увядали цветы роскошного сада, по которому мы бродим в мечтах, и жизнь представлялась нам угрюмой, печальной пустыней! Не кажется ли нам, что лучше собрать свои мысли прежде, чем легкое нажатие пальцев раскроет замкнутую тайну? И этим самым можно, пожалуй, извинить странную привычку мейстера Абрагама, происхождение которой следует приписать также и тому роковому времени, когда почти всякое письмо, которое он получал, походило на ящик Пандоры, откуда при всяком вскрытии вылетали на свет божий тысячи бед и несчастий. Но если мейстер Абрагам запер в свой письменный стол письмо капельмейстера и затем отправился гулять в парк, то читатель должен сейчас же дословно узнать его содержание. Вот что писал Иоганн Крейслер:
«Дорогой мейстер,
«La fin couronne l’oeuvre!»[83] – вот что мог бы я воскликнуть, как лорд Клиффорд в шекспировском «Генрихе Шестом», когда его осудил на смерть благороднейший герцог Йоркский. Клянусь богом, моя простреленная шляпа полетела в кусты, а за ней и я сам, как некто, про кого принято говорить в бою: «он падает» или «он упал». Но нередко случается, что такие люди опять встают на ноги. То же сделал и ваш Иоганн, дорогой мейстер, и притом сейчас же. Я не мог позаботиться о моем тяжело раненном товарище, упавшем даже не рядом со мной, а с моей головы, так как был слишком занят тем, чтобы искусным скачком в сторону (я беру здесь слово скачок[84] не в философском и не в музыкальном, а просто в гимнастическом смысле) увернуться от дула пистолета, который кто-то держал за три шага от меня. Но я сделал больше того, т. е. внезапно перешел от оборонительного к наступательному движению, бросился на стрелка и без дальнейших рассуждений проткнул его насквозь моей шпагой. Вы всегда упрекали меня, мейстер, в том, что я слаб в историческом стиле и не способен рассказать что-либо без лишних фраз и отступлений. Что скажете вы о связном изложении моего итальянского приключения в зигхартсгофском парке, управляемом таким кротким и возвышенным князем, который терпит даже разбойников, – вероятно, ради приятного разнообразия?
Дорогой мейстер, примите то, что сказано было до сих пор, как беглый конспект исторической главы, которую я хочу написать вам вместо настоящего письма, если это позволят мне мое терпение и господин приор. Немного можно прибавить к моему приключению в лесу. Как только раздался выстрел, мне сделалось ясно, что воспользоваться им должен я, так как, падая, я почувствовал жгучую боль в левой стороне моей головы, которую гонионесмюльский конректор справедливо называл крепколобой. Мой череп действительно оказал сильное сопротивление гнусному свинцу, так что рана оказалась самая легкая. Но скажите мне, дорогой мейстер, скажите сейчас, или нынче вечером, или хоть завтра утром: чье тело пронизал мой клинок? Мне было бы очень приятно узнать, что пролитая мною кровь принадлежит не какому-нибудь обыкновенному смертному, а принцу; я подозреваю, что это так и было. О мейстер, неужели случай действительно привел меня к делу, на которое толкал меня злой дух у вас в рыбачьем домике? Быть может, когда я махал этой маленькой шпагой, она предназначалась против убийцы, как страшный меч Немезиды, карающей кровавый грех?.. Пишите мне обо всем, мейстер, и прежде всего о том, какое приключение было с тем оружием, которое вы дали мне в руки, т. е. с маленьким портретом. Но нет, нет, не говорите мне ничего об этом! Пусть это изображение Медузы, перед лицом которой замирает самый дерзкий злодей, останется для меня неразгаданной тайной. Мне кажется, что этот талисман потеряет свою силу, как только я узнаю, какие обстоятельства превратили его в волшебное оружие. Поверите ли, мейстер, что я ни разу даже не смотрел как следует на этот портрет? Когда придет время, вы скажете мне все, что мне следует знать, и я отдам талисман обратно в ваши руки. Итак, пока ни слова об этом! Но будем продолжать мою историческую главу.
Когда я проткнул своей шпагой вышеупомянутого неведомого стрелка и он упал, не произнеся ни звука, то сам я убежал, как быстроногий Аякс, так как, слыша в парке какие-то голоса, все еще считал, что я в опасности. Я думал попасть в Зигхартсвейлер, но заблудился в ночной темноте. Я бежал все скорее и скорее, все еще надеясь напасть на настоящую дорогу.
Я прыгал через канавы, взбежал на крутой холм и наконец, обессилев, упал в кустах. Мне показалось, что прямо перед моими глазами блеснула молния, я почувствовал острую боль в голове и пробудился от глубокого сна. Из раны моей вытекло много крови; с помощью носового платка я сделал себе перевязку, которая могла бы сделать честь самому искусному военному хирургу на поле битвы, и весело осмотрелся вокруг. Неподалеку от меня возвышались могучие развалины какого-то замка. Вы замечаете, мейстер, что, к немалому своему удивлению, я очутился на Гейерштейне. Рана моя не болела, я чувствовал себя свежим и бодрым и вышел из кустов, послуживших мне спальней. Восходящее солнце бросало на поля и на лес сверкающие лучи, подобные веселому утреннему привету; птицы просыпались в кустах, щебеча, купались в прохладной росе и реяли в воздухе. Далеко подо мной лежал Зигхартсгоф, еще окутанный ночным туманом, но скоро пелена с него спала, и показались кусты и деревья, залитые пламенным золотом. Озеро в парке походило на ослепительно сверкающее зеркало; рыбачий домик виднелся в виде маленькой белой точки, и, кажется, я рассмотрел даже мост. Весь вчерашний день встал передо мной, но только в виде давно прошедшего времени, от которого не осталось ничего, кроме тоски о чем-то навеки утраченном, что в одно и то же время раздирает душу и наполняет ее сладостной негой. «Что же ты хочешь этим сказать, забавник, и что ты навеки утратил в этот давно прошедший вчерашний день?» – так говорите вы, мейстер, я слышу ваш голос. – Ах, мейстер, еще раз становлюсь я на высокую вершину Гейерштейна, еще раз простираю руки, наподобие орлиных крыльев, чтобы спуститься туда, где царили сладкие чары, где любовь вне времени и пространства, вечная, как мировой дух, явилась ко мне в пророчески небесных звуках, которые есть само желанье и само жаждущее стремление! Я знаю, прямо перед моим носом становится некий чертовски голодный оппонент, возражающий только ради земного насущного, и спрашивает меня насмешливым тоном: «Возможно ли, чтобы у звука были темно-синие глаза?» Но я положительно утверждаю, что звуком бывает взор, сияющий из светлого мира через разорванное покрывало облаков. Оппонент продолжает: он спрашивает меня о лбе, о волосах, о рте, о губах, о руках и ногах и с насмешливой улыбкой сомневается в том, чтобы все это могло быть у простого чистого звука.
Ах, боже мой, я ведь знаю, что подразумевает этот повеса: не более того, как то, что, пока я буду таким же glebae adscriptus[85], как он и ему подобные, и пока мы будем питаться не одними только солнечными лучами, – эта самая вечная любовь с ее вечным стремлением, которая не требует ничего, кроме себя самой, и о которой всякий дурак умеет болтать… Мейстер, я не хотел бы, чтобы вы становились на сторону голодного оппонента, это было бы мне неприятно. Но скажите сами, можете ли вы привести мне хотя бы одну разумную причину? Выказывал ли я когда-либо склонность к печальной глупости? Не дожил ли я до зрелых лет, сумевши остаться воздержанным, и желал ли я когда-либо быть перчаткой для того только, чтобы касаться щеки Юлии, как брат мой Ромео? Люди могут говорить все, что угодно, мейстер, но поверьте, что у меня в голове нет ничего, кроме нот, а в сердце и в чувствах – ничего, кроме звуков для них же, так как, черт возьми, мог ли бы я иначе сочинять такую чинную и связную церковную музыку, как та вечерня, которая лежит уже оконченною на моем пюпитре? Но опять я отклонился от истории; буду рассказывать дальше.
Издали услышал я пение сильного мужского голоса, который звучал все ближе и ближе. Вскоре я увидел бенедиктинского монаха, который шел внизу и пел латинский гимн. Неподалеку от меня он остановился, перестал петь, снял с головы широкую дорожную шляпу, отер платком пот со лба, осмотрел местность и скрылся в кустах. Мне пришла охота присоединиться к нему, так как он был более чем хорошо откормлен, солнце пекло все сильнее и сильнее, и мне пришло на ум, что он, наверно, отыскивает в тени спокойное местечко. Я не ошибся, так как, войдя в чащу, увидел достойного монаха усевшимся на камне, густо поросшем мхом. Большой обломок скалы, лежавший рядом, служил ему столом; он разостлал на нем белую салфетку и вынул из своего дорожного мешка хлеб и жареную дичь, которую начал обрабатывать с большим аппетитом. «Sed praeter omnia bibendum quid!»[86], – воскликнул он, обращаясь к себе самому, и налил из плетеной бутылки вина в небольшой серебряный стакан, который вытащил из кармана. Он только что собрался пить, как я вышел из чащи, восклицая: «Хвала Иисусу Христу!» Он оглянулся, приложив стакан к губам, и в ту же минуту я узнал моего старого милого друга из бенедиктинского аббатства в Канцгейме, достойного регента отца Илария.
– Во веки веков! – произнес отец Иларий, пристально смотря на меня своими дальнозоркими глазами.
Я сейчас же подумал о моем головном уборе, который, несомненно, придавал мне странный вид, и сказал:
– О дорогой и достойный друг мой Иларий, не примите меня за убежавшего бродячего индуса или за упавшего головой вниз туземца, так как я не кто иной, как друг ваш капельмейстер Иоганн Клейслер.
– Клянусь святым Бенедиктом, – весело воскликнул отец Иларий, – я сейчас же узнал вас, дивный композитор и приятный друг мой, но только per deum[87] скажите мне, откуда вы и что случилось с вами, которого я считал in floribus[88] при дворце эрцгерцога?
Я без церемонии рассказал вкратце все, что со мной случилось: как я был вынужден проткнуть своей шпагой того, кому заблагорассудилось выбрать меня мишенью для своей стрельбы, и почему вышеупомянутый стрелок был, по всей вероятности, итальянский принц, именуемый Гектором, как многие достойные водолазы.
– Что теперь делать: вернуться ли в Зигхартсгоф, или же… Посоветуйте мне, отец Иларий…
Так закончил я свой рассказ. Отец Иларий, который не раз восклицал при этом: «Гм… так! О святой Бенедикт!», – посмотрел перед собой, пробормотал: «Bibamus!» (выпьем) и разом осушил серебряный стакан.
Затем он со смехом воскликнул:
– Право же, капельмейстер, лучший совет, который я могу подать вам в эту минуту, это – сесть и позавтракать вместе со мной. Могу рекомендовать вам этих перепелок; только вчера застрелил их достойный брат наш Макарий, который, как вы помните, попадает всюду, кроме нот в респонсориях; если же вам придется по вкусу соус, которым приправлено блюдо, то благодарите за это заботливого брата Евзебия, который сам приготовил жарко́е, желая мне угодить. Что же касается вина, то оно достойно того, чтобы попасть на язык беглому капельмейстеру. Настоящий боксбейтель, carissime[89] Иоганн, настоящий боксбейтель из госпиталя св. Иоанна в Вюрцбурге, который мы, недостойные слуги господни, получаем лучшего качества. Ergo, bibamus![90]
При этом он наполнил стакан и протянул его мне. Я не заставил просить себя и начал есть и пить, как человек, нуждавшийся в подкреплении.
Отец Иларий выбрал для своего завтрака прелестнейшее место. Густые березы осеняли траву, испещренную цветами, и светлый лесной ручей, пробиравшийся по камням, увеличивал освежающую прохладу. Уютное уединение этого места навевало покой и отраду, и пока отец Иларий рассказывал мне обо всем, что было за это время в аббатстве, причем не забывал своих обычных прибауток и великолепной кухонной латыни, я прислушивался к голосам леса и водяных струй, в которых слышались мне утешительные мелодии.
Отец Иларий приписал мое молчание тяжелой заботе, причиняемой тем, что со мной случилось.
– Не унывайте, капельмейстер, – сказал он, протягивая мне вновь налитый стакан. – Вы пролили кровь, это правда, и проливать кровь есть грех, но distinguendum est inter et inter[91]. Всякому дорога его жизнь, она дается нам только раз. Вы защищали свою, а это не запрещается церковью, как достаточно уже было доказано, и наш высокопреподобный аббат или же какой-нибудь другой служитель церкви даст вам отпущение даже в том случае, если вы пронзили княжескую утробу. Ergo, bibamus! Vir sapiens non te abhorrebit, domine[92]. Если же вы вернетесь в Зигхартсвейлер, дорогой мой Крейслер, то пойдут вопросы: cur, quomodo, quando, ubi (почему, каким образом, как, где), а если вы припишете принцу убийственный замысел, то кто вам поверит? Ibi jacet lepus cum pipere[93]. Смотрите-ка, капельмейстер, но bibendum quid[94], – здесь он осушил полный стакан и продолжал: – Смотрите, какие хорошие советы подает боксбейтель. Знайте, что я шел в монастырь Всех святых, чтобы взять у тамошнего регента ноты для наступающего праздника. Я уже два или три раза перерыл ящики, все старо и избито; что же касается того, что вы сочинили для нас во время вашего пребывания в аббатстве, то это очень хорошо и ново, но, не сердитесь на меня, капельмейстер, это так удивительно написано, что нельзя ни на минуту оторвать глаза от партитуры. Только покосишься через решетку в середине церкви на какую-нибудь красотку, сейчас пропустишь паузу или еще что-нибудь, начнешь неверно отбивать такт и все спутаешь, все полетит в трубу, а брат Иаков так и колотит в органные клавиши! Итак, я должен был… но bibamus!
Мы оба выпили, после чего поток его речей полился снова:
– Нельзя спрашивать у тех, кого с нами нет, поэтому я и думаю: не пойдете ли вы со мной назад в аббатство, которое, если идти прямо, будет отсюда не больше, чем в двух часах ходьбы. В аббатстве вы будете в безопасности от всяких преследований, contra hostium insidias (от засады врагов); я доставлю вас туда как воплощение музыки, и вы останетесь там, сколько пожелаете или сколько найдете нужным. Его высокопреподобие г-н аббат позаботится обо всем, что следует. Он оденет вас в тончайшее белье и прибавит к этому бенедиктинскую одежду, которая к вам очень пойдет. А для того, чтобы вы и теперь не походили на раненого в картине о милосердном самарянине, наденьте мою дорожную шляпу, а я спущу на свою лысину капюшон. Bibendum quid, милейший!
При этом он еще раз осушил свой стакан, выполоскал его в ручье, быстро уложил мешок, нахлобучил мне на лоб свою дорожную шляпу и весело воскликнул:
– Ну, капельмейстер, мы можем самым спокойным и тихим образом переставлять одну ногу перед другой и все-таки придем как раз к тому времени, как зазвонят ad conventum conventuales[95], т. е. к тому времени, как его высокопреподобие садится за стол.
Вы можете себе представить, дорогой мейстер, что мне нечего было возразить на предложение веселого отца Илария и что, напротив, мне было приятно идти в это место, которое по многим соображениям могло послужить мне благодетельным приютом.
Мы подвигались вперед в различных разговорах и дошли до аббатства, согласно желанию отца Илария, как раз в то время, когда зазвонил обеденный колокол…
Чтобы избегнуть всяких вопросов, отец Иларий сказал аббату, что, узнавши случайно о моем пребывании в Зигхартсвейлере, он решил, что вместо нот из монастыря Всех святых лучше привести композитора, который носит в себе неистощимый запас музыки.
Аббат Хризостом (кажется, я вам о нем много рассказывал) принял меня с той сердечной радостью, которая свойственна истинно доброму расположению, и похвалил решение отца Илария.
А теперь, мейстер Абрагам, представьте себе меня превращенным в недурного бенедиктинского монаха, сидящим в высокой просторной комнате главного здания аббатства и прилежно работающим над гимнами и вечерней, представьте, что я написал уже много частей для торжественной службы, и вот собираются поющие и играющие братья и мальчики из хора, и я с жаром устраиваю репетиции и управляю хором через решетку. Право, я чувствую себя до такой степени погребенным в этом уединении, что могу сравнить себя с Тартини, который, боясь мщения кардинала Корнаро, бежал в миноритский монастырь в Ассизи, где его через много лет открыл падуанец, зашедший в церковь и увидевший давно потерянного друга в хоре в ту минуту, как порыв ветра приподнял занавес, закрывавший оркестр. С вами, мейстер, могло бы случиться то же, что с падуанцем, но я должен был сказать вам, где я, чтобы вы не думали разных чудес обо мне. Может быть, нашли мою шляпу и дивились тому, что ей не хватало головы? Мейстер, в душу мою снизошел какой-то особенный, благодатный покой. Может быть, я брошу здесь якорь. Когда я шел недавно по берегу небольшого озера, лежащего посреди обширного сада аббатства, и увидел в озере свой образ, двигающийся рядом со мной, я сказал себе: тот, что идет там внизу, рассудительный и спокойный человек, который крепко держится найденного поприща, а не шатается дико в неопределенном и неограниченном пространстве, – и для меня большое счастье, что этот человек – не кто иной, как я сам. Из другого озера смотрел на меня ужасный двойник; но тише, довольно об этом. Мейстер, не называйте мне никаких имен, не рассказывайте мне ни о чем, даже не говорите, кого я заколол. Но пишите больше про вас самих… Братья идут на репетицию, я кончаю мою историческую главу и вместе с тем мое письмо. Прощайте, добрый мой мейстер, и думайте обо мне!..»
Одиноко бродя по отдаленным, заросшим дорожкам парка, мейстер Абрагам думал о судьбе любимого друга и о том, как он, только что с ним соединившись, снова его потерял. Он видел маленького Иоганна и себя самого в Гонионесмюле перед фортепиано старого дяди: ребенок ударял по клавишам с почти мужской силой, с гордыми взглядами играл труднейшие сонаты Себастьяна Баха, и за это он потихоньку клал ему в карман пакетик со сластями. Ему казалось, что это было всего несколько дней назад, и он дивился тому, что этот мальчик был не кто иной, как Крейслер, по-видимому, опутанный теперь странной и капризной игрой таинственных обстоятельств. Но вместе с мыслью о прошлом и о роковом настоящем встала перед мейстером также и картина его собственной жизни.
Отец его, строгий и упрямый человек, почти насильно заставил его взяться за искусство постройки органов, которым сам занимался как обыкновенным, тяжелым ремеслом. Он не допускал, чтобы кто-либо другой, кроме органного мастера, прилагал руку к инструменту, и ученики его должны были сделаться искусными столярами и литейщиками, прежде чем доходили до внутренней механики. Точность, прочность и легкость игры на инструменте старик считал главным качеством, а в душе его, в тоне он ничего не смыслил, что удивительно сказывалось на органах его работы, которым справедливо приписывали жесткий и резкий звук. Кроме того, старик особенно любил старинные ребяческие штуки. Так, к одному органу приделал он царей Давида и Соломона, которые во время игры как бы в удивлении качали головами. Ни один из его органов не обходился без трубящих или отбивающих такт ангелов, петухов, хлопающих крыльями, и т. д. Часто Абрагаму удавалось только в том случае избегнуть заслуженных или незаслуженных колотушек или вызвать у старика выражение отеческой радости, если он изобретал какую-нибудь особенную штуку, – например, громкое кукареку для нового петуха. Робко и страстно ждал Абрагам того времени, когда он научится ремеслу и пойдет странствовать. Наконец это время пришло, и он оставил отчий дом, чтобы никогда больше в него не возвращаться.
Во время этого странствования в обществе других подмастерьев, по большей части распутных и грубых парней, он зашел в аббатство св. Власия в шварцвальдских горах и услышал там знаменитый орган старого Иоганна Андреаса Зильбермана. В дивных, полных звуках этого инструмента впервые сошло в его душу волшебство благозвучия; он почувствовал, что перенесся в другой мир, и с этой минуты весь исполнился любовью к тому искусству, которым прежде занимался с отвращением. Но тут вся его жизнь с ее прежней обстановкой показалась ему до такой степени недостойной, что он употребил все свои силы, чтобы выкарабкаться из той тины, в которой он погряз, как ему казалось. Его природный ум и способность к усвоению позволяли ему делать гигантские шаги в научном образовании, и все же нередко чувствовал он, какие цепи наложили на него его прежнее воспитание и низменная среда. Кьяра и связь с этим таинственным существом – вот второй светлый пункт его жизни, и таким образом и то и другое, т. е. пробуждение чувства благозвучия и любовь Кьяры, создали в его поэтическом существе дуализм, который благодетельно подействовал на его грубую, но сильную натуру. Только что оторвавшись от ночлежных приютов и шинков, где среди густого табачного дыма раздавались непристойные песни, юный Абрагам, благодаря случаю или, вернее, своему искусству делать механические игрушки, которым он, как уже известно читателю, умел придавать вид тайны, перенесся в обстановку, которая должна была создать ему новый мир, где он навсегда остался чужим человеком и держался только тем, что всегда сохранял тот твердый тон, которым наделила его внутренняя природа. Этот твердый тон делался постепенно все тверже и тверже, основываясь не на простой грубости, а на ясном, здравом понимании людей, верном взгляде на жизнь и проистекающей из этого меткой насмешке. Поэтому если юношу только терпели, то мужчина уже внушал большое уважение, так как в нем чувствовали слишком опасные принципы. Ничего нет легче, как импонировать известным знатным людям, которые всегда далеки от того, за что их считают. Именно об этом и думал мейстер Абрагам в ту минуту, как шел в рыбачий домик, возвращаясь с прогулки. Он разразился при этом громким, искренним смехом, облегчившим его стесненную грудь.
Причиной глубокого уныния, вообще несвойственного мейстеру Абрагаму, было живое воспоминание о моменте в церкви аббатства св. Власия и об утраченной Кьяре. «Отчего, – говорил он себе самому, – именно теперь так сочится кровь из этой раны, которую я считал давно зажившей? Отчего предаюсь я пустым мечтам в то время, когда, как мне кажется, я должен деятельно взяться за машину, которую какой-то злой дух как будто фальшиво направил?» Мейстера Абрагама пугала мысль, что, по-видимому, есть нечто угрожающее его своеобразным поступкам, но, как уже сказано выше, он напал, по ассоциации идей, на мысль о знатных людях, над которыми посмеялся, и в ту же минуту почувствовал облегчение.
Он вошел в рыбачий домик, чтобы прочесть письмо Крейслера.
А в княжеском дворце произошли между тем замечательные вещи. Лейб-медик сказал:
– Удивительно! Это вне всякой практики, вне всяких наблюдений!
Княгиня добавила:
– Так и должно было случиться, и принцесса не скомпрометирована!
Князь произнес:
– Кажется, ясно, что я это запретил, но у этой crapule[96], у этих ослов-слуг нет ушей. Старший лесничий должен позаботиться о том, чтобы принцу больше не попадался в руки порох.
Советница Бенцон сказала:
– Благодарение небу, она спасена!
В это время принцесса Гедвига смотрела в окно своей спальни, время от времени воспроизводя отрывочные аккорды на той самой гитаре, которую Крейслер забросил в недобрую минуту и которую снова взял из рук Юлии уже освященной, как он выразился. На диване сидел принц Игнатий и со слезами жаловался: «Больно, больно!», а перед ним стояла Юлия, прилежно занимавшаяся тем, что терла сырой картофель на серебряном блюдечке.
Все это происходило после события, которое лейб-медик с полным правом назвал удивительным и стоящим вне всякой практики. Принц Игнатий, как уже много раз видел читатель, сохранил невинность ума и нетронутость шестилетнего мальчика и поэтому охотно играл точно дитя. В числе прочих игрушек у него была маленькая, отлитая из металла пушка, служившая для его любимой игры, которою он очень редко мог наслаждаться, так как при этом требовались разные вещи, не всегда бывшие под рукой, как-то: порох, дробь и маленькая птичка. Если у него все это было, он заставлял маршировать свои войска, совершал военный суд над птичкой, бунтовавшей на утраченной земле княжеского папаши, заряжал пушку и стрелял в птичку, которую привязывал с черным сердцем на груди к подсвечнику, причем иногда убивал ее до смерти, а иногда и нет, так что вынужден был прибегать к перочинному ножику, чтобы довершить наказание государственного преступника.
Десятилетний мальчик садовника Фриц поймал для принца красивую пеструю коноплянку и, по обыкновению, получил от него за это крону. Принц сейчас же пробрался в охотничью комнату в отсутствие охотников, отыскал дробь и порох и запасся необходимыми зарядами. Он хотел уже начать свою экзекуцию, которая требовала, по-видимому, быстрых действий, так как щебечущий пестрый мятежник употреблял всевозможные старания, чтобы улететь, – как вдруг ему пришло на ум, что принцессе Гедвиге, которая стала теперь такой послушной, нельзя отказать в удовольствии присутствовать при наказании маленького государственного преступника. Поэтому он взял под одну руку ящик, где лежала вся его армия, под другую пушку, птицу же зажал в свободную ладонь и, так как князь запретил ему видеть принцессу, потихоньку пробрался в спальню Гедвиги, где нашел ее лежащей в платье на постели все в том же каталепсическом состоянии. Как это сейчас окажется, было и плохо, и хорошо, что камеристки оставили принцессу.
Принц, не мешкая, привязал птицу к подсвечнику, выставил в порядке всю свою армию, зарядил пушку, потом поднял принцессу с постели, заставил ее подойти к столу и объявил, что она будет изображать главнокомандующего, а он останется князем и сейчас зажжет снаряд, который убьет мятежника. Избыток снарядов погубил дело: принц слишком сильно набил пушку и кроме того рассыпал порох по всему столу; когда он разрядил пушку, то не только раздался необыкновенный треск, но и просыпанный порох вспыхнул и сильно обжег ему руку, так что он громко вскрикнул и даже не заметил того, что в минуту взрыва принцессу с силой отбросило на пол. На грохот выстрела все сбежались в комнату, предполагая несчастие; даже князь и княгиня, забывши в страхе про всякий этикет, вбежали в дверь вместе со слугами. Камеристки подняли принцессу с пола и положили ее на постель. Послали за лейб-медиком и за хирургом. По остаткам на столе князь понял, что случилось, и, сердито сверкая глазами, сказал принцу, который страшно кричал и жаловался:
– Ну вот, Игнатий, все это произошло из-за твоих дурацких детских проказ. Сейчас же положи на руку мазь и не реви, как уличный мальчишка! Розгой бы его… – Тут губы князя так затряслись, что нельзя было ничего разобрать, и он важно вышел из комнаты. Ужас охватил его слуг: князь уже не в первый раз называл принца по имени, обращаясь к нему без всяких титулов, и каждый раз выказывал дикий, с трудом подавляемый гнев.
Когда лейб-медик объявил, что наступил кризис, вследствие чего он надеется, что ужасное состояние принцессы скоро пройдет и она будет совсем здоровой, княгиня сказала с меньшим участием, чем можно было от нее ожидать:
– Dieu soit loué![97] Известите меня об остальном.
Но плачущего принца она нежно обвила руками, утешая его ласковыми словами, и затем последовала за князем.
Тем временем Бенцон, которой пришло на ум навестить вместе с Юлией несчастную Гедвигу, явились во дворец. Как только она услышала, что случилось, она поспешила в комнату принцессы, подбежала к ее постели, стала перед ней на колени, схватила руку Гедвиги и начала пристально смотреть ей в глаза, в то время как Юлия проливала горькие слезы, думая, что ее дорогая подруга скоро заснет сном смерти. Тогда Гедвига глубоко вздохнула и сказала глухим, едва слышным голосом:
– Он умер?
Тут принц Игнатий сразу перестал плакать, несмотря на свою боль, и, смеясь и фыркая от радости при мысли об удачной экзекуции, ответил:
– Да, да, сестрица-принцесса, совсем умер, он прострелен в самое сердце…
– Да, – сказала принцесса, снова закрывая глаза, которые она было открыла, – да, я знаю. Я видела каплю крови, которая вытекла из сердца, но она упала в мою грудь, и я превратилась в кристалл, а она осталась в трупе!
– Гедвига, – тихо и нежно произнесла советница, – Гедвига, проснитесь от ваших страшных снов. Гедвига, узнаете ли вы меня?
Гедвига слабо пошевелила рукой, как будто хотела, чтобы ее оставили.
– Гедвига, – продолжала Бенцон, – здесь Юлия.
На устах Гедвиги мелькнула улыбка. Юлия нагнулась над ней и осторожно поцеловала бледные губы подруги. Тогда Гедвига чуть слышно прошептала:
– Все прошло, через несколько минут я совсем оправлюсь, я чувствую это.
До сих пор никто не заботился о маленьком государственном преступнике, который лежал на столе с растерзанной грудью. Теперь же он попался на глаза Юлии, и в ту же минуту она поняла, что принц Игнатий опять играл в отвратительную, ненавистную ей игру…
– Принц, – сказала она, и щеки ее вспыхнули ярким румянцем, – что сделала вам бедная птица? За что вы так безжалостно убили ее? Это совсем глупая и жестокая игра, вы давно обещали мне оставить ее и не сдержали слова. Но если вы еще раз это сделаете, то я никогда больше не буду ни расставлять ваших чашек, ни учить говорить ваших куколок, ни рассказывать вам про водяного царя!
– Не сердитесь, не сердитесь, фрейлен Юлия, – защищался принц, – это был настоящий пестрый плут: он потихоньку отрезал фалды у всех солдат и, кроме того, начал бунтовать. Ах, мне больно, больно!
Бенцон с странной улыбкой посмотрела на принца и на Юлию, потом воскликнула:
– Сто́ит ли жаловаться из-за каких-то двух обожженных пальцев. Правда, что хирург бесконечно возится со своей мазью. Но ведь простое домашнее средство может помочь и не простым людям. Нужно достать сырого картофеля! – Она пошла к двери, но, точно вдруг осененная какой-то мыслью, остановилась, подошла к Юлии, обняла ее, поцеловала в лоб и сказала: – Ты – мое доброе, милое дитя и будешь вполне тем, чем ты должна быть! Берегись только необузданных, сумасшедших глупцов и спасай свои чувства от злых чар их соблазнительных речей.
Она бросила еще один испытующий взгляд на принцессу, которая, по-видимому, сладко и спокойно спала, и оставила комнату.
Вскоре вошел хирург с огромным пластырем в руках, клятвенно заверяя, что он уже давным-давно ждал в комнатах светлейшего принца, так как не предполагал, что он находится в спальне светлейшей принцессы. Он хотел уже приступить к принцу со своим пластырем, но камеристка, принесшая на серебряном блюдце две больших картофелины, перерезала ему дорогу, уверяя, что лучшее средство против ожогов – это тертый картофель.
– Я сама, – перебила Юлия камеристку, беря у нее из рук серебряное блюдце, – я сама сделаю вам пластырь, мой милый принц!
– Ваша светлость, – в страхе воскликнул хирург, – подумайте только! Домашнее средство от ожогов для такой высокой, княжеской особы! Искусство, одно только искусство может и должно здесь помочь!
Он опять хотел приступить к принцу, но тот отскочил от него, крича:
– Прочь, прочь! Фрейлен Юлия сама сделает мне пластырь, а искусство нужно изрезать в куски.
«Искусство» удалилось вместе со своим прекрасно сделанным пластырем, бросая ядовитые взгляды на камеристку.
Юлия заметила, что дыхание принцессы становится все сильнее и сильнее; но как же удивилась она, когда…
(М. пр.) …заснуть. Я вертелся на моем ложе то так, то этак и перепробовал всевозможные положения. То протягивался я во всю длину, то свертывался клубком, клал голову на свои мягкие лапы и нежно обертывал ее хвостом, закрывая глаза, то бросался на бок, вытягивая лапы и предоставляя хвосту в безжизненном равнодушии свешиваться с моего ложа. Но все, все было напрасно! Все запутаннее и запутаннее становились мои мысли и представления, и наконец я впал в бред, который можно было назвать не сном, а борьбой между бодрствованием и сном, как справедливо утверждают Мориц, Давидсон, Пудов, Тудеман, Вингольт, Рейль, Шуберт, Клуге и другие философские писатели, которых я не читал, трактовавшие о сне и грезах.
Солнце ярко светило в комнату хозяина, когда я пробудился, наконец, к ясному сознанию от этого бреда, от этой борьбы между бодрствованием и сном. О юноша-кот, изучающий эти строки! Насторожи уши и читай внимательно, чтобы от тебя не ускользнула их мораль! Прими к сердцу то, что я скажу о состоянии, безнадежность которого я могу описать тебе только слабыми красками. Я повторяю: прими к сердцу это состояние и по возможности прими во внимание себя самого, когда ты в первый раз испробуешь кошачий пунш в обществе кошачьих буршей. Пей умеренно; если же это будут порицать, то сошлись на меня и на мои наблюдения; пусть кот Мур будет твоим авторитетом, который, надеюсь, всякий признает и оценит.
Итак, что касается моего физического состояния, то я чувствовал себя не только несчастным и слабым, но еще особенно страдал от какой-то дерзкой и ненормальной потребности желудка, которую, вероятно, именно вследствие ее ненормальности невозможно было удовлетворить; она причиняла мне какое-то ненужное беспокойство, к чему присоединялось еще и возбуждение нервов, которые болезненно дрожали от физической неудовлетворенности. Это было ужасное состояние!
Но еще мучительнее было, пожалуй, мое психическое состояние. Вместе с горьким раскаянием и сокрушением о вчерашнем дне, в котором я не находил в сущности ничего предосудительного, сошло в мою душу безнадежное равнодушие ко всем земным благам. Я презирал все земные радости, все дары природы: мудрость, ум, шутку и т. д. Величайшие философы, умнейшие писатели казались мне теперь не лучше тряпичных кукол и так называемых вороньих пугал, но хуже всего было то, что это презрение распространялось также и на меня самого, и мне казалось теперь, что я сам – не что иное, как самый обыкновенный, жалкий мышиный кот! Что может быть убийственнее этого! Мысль, что со мной случилось величайшее несчастие, что вся земля есть юдоль страданий, сокрушала меня невыразимой скорбью. Я зажмурил глаза и заплакал!
– Ты гулял, Мур, и у тебя теперь скверно на душе? Да, да, это понятно! Проспись, старина, тебе станет легче!
Так воскликнул хозяин, когда я, не дотронувшись до завтрака, издал несколько болезненных звуков. О хозяин! Мог ли он знать и понимать мои страдания! Он не подозревал, как действуют общество буршей и кошачий пунш на нежные чувства!
Вероятно, был уже полдень, а я еще не двигался с своего ложа. Вдруг, – бог его знает, как он ко мне пробрался, – передо мной очутился брат Муциус. Я пожаловался ему на мое тяжкое состояние, но, вместо того, чтобы утешить и пожалеть меня, как я ожидал, он разразился громким смехом и воскликнул:
– Ого, брат Мур! Это не более как кризис, переход от недостойного филистерского мальчишества к достойному состоянию бурша; это и заставляет тебя думать, что ты болен и несчастлив. Ты еще не привык к благородному кутежу! Но сделай милость, сдержи себя, не криви твою морду и не жалуйся хозяину на твои страдания. Наша порода уже достаточно опозорена из-за этой кажущейся болезни, и злоречивые люди дали ей название, указывающее на нас, – не буду его повторять. А теперь встань, возьми себя в руки и пойди со мной; свежий воздух принесет тебе пользу, и, кроме того, ты должен прежде всего опохмелиться. Пойдем, ты сейчас узнаешь на практике, что это значит.
С тех пор, как я оставил филистерство, брат Муциус властвовал надо мной чрезвычайно, и я делал все, что он хотел. Медленно поднялся я со своего ложа, потянулся, насколько позволяли это мои отяжелевшие члены, и последовал на крышу за верным другом. Мы прошли несколько раз взад и вперед по крыше, и мне стало действительно немного лучше, свежее на душе. Тогда брат Муциус повел меня за трубу, и здесь я должен был, даже если бы мне это было противно, выпить две или три рюмки чистого селедочного рассола. Это и было то, что Муциус называл «опохмелиться». Удивительное средство! Что скажу я? Ненормальная потребность желудка прошла, беспокойство прекратилось, нервная система успокоилась, жизнь снова казалась мне прекрасной, я вновь ценил земные блага: науку, мудрость, ум, шутки и т. д. Я возвращен был самому себе, я был опять великолепный, высокосовершенный кот Мур! О природа, природа! Может ли быть, что две капли, вкушаемые легкомысленным котом по свободному и неукротимому желанию, производят бунт против благодетельного принципа, с материнской любовью вложенного тобою в его грудь и долженствующего убеждать его, что мир с его радостями, как-то: жареной рыбой, куриными костями, молочной кашей и т. д., есть наилучшее благо, а сам он – лучшее, что есть в этом мире, так как эти радости созданы только для него и ради него? Но кот-философ должен признать эту истину, ибо в ней есть глубокая мудрость; эта безутешная, страшная скорбь есть только противовес, который производит реакцию, необходимую в условиях бытия, и таким образом она, т. е. эта скорбь, основана на вечном законе мироздания. Юные коты, пейте селедочный рассол и утешайтесь потом этим философским положением вашего ученого и проницательного товарища!
Скажу коротко, что я долгое время вел на окрестных крышах веселую и здоровую жизнь буршей вместе с Муциусом и другими честнейшими, простодушными и верными юношами с белой, желтой и пестрой шкуркой. Но вскоре произошло в моей жизни важное событие, оставшееся не без последствий.
Однажды, когда с наступлением ночи я при ярком лунном свете шел с братом Муциусом в кнейп, посещаемый буршами, мне встретился черно-серо-желтый предатель, похитивший мою Мисмис. Очень может быть, что при виде ненавистного любовника, которому я принужден был позорно уступить свою возлюбленную, я немного смутился; но он пошел прямо на меня, не поклонился мне и, как мне показалось, насмешливо улыбнулся в сознании превосходства своей силы. Я вспомнил об утраченной Мисмис, о перенесенных мною побоях, и кровь закипела в моих жилах. Муциус заметил мою вспышку; когда же я сообщил ему, что мне показалось, он сказал:
– Ты прав, Мур. Негодяй состроил кривую рожу и очень дерзко пошел на тебя; он, очевидно, хотел тебя задеть. Это мы скоро узнаем. Если я не ошибаюсь, у пестрого филистера завелась поблизости новая любовная интрига, он каждый вечер шныряет по этой крыше. Подождем немного; может быть, господин этот скоро вернется, и тогда мы увидим, в чем дело.
И действительно, мы недолго ждали: пестрый кот вернулся, уже издали бросая на меня насмешливые взгляды. Я дерзко пошел ему навстречу, и мы так близко столкнулись, что задели друг друга хвостами. Я сейчас же остановился, обернулся и сказал твердым голосом:
– Мяу!
Он тоже остановился, тоже обернулся и дерзко ответил:
– Мяу!
Потом мы разошлись в разные стороны.
– Он тебя задел! – сердито воскликнул Муциус. – Завтра же потребую к ответу этого дерзкого пестрого молодца!
На другое утро Муциус отправился к нему и спросил от моего имени, задел ли он меня за хвост. Он просил мне ответить, что задел. На это я сказал, что если он задел меня за хвост, то я должен принять это как оскорбление.
Он ответил, что я могу принимать это, как мне угодно. Я сказал, что принимаю это за оскорбление. На это он ответил, что я не могу судить о том, что такое оскорбление. А я ему на это: «Я это очень хорошо знаю и даже лучше вас». Он ответил, что не таков я, чтобы стоило меня оскорблять. А я ему опять: «Но я принимаю это за оскорбление». А он мне: «Вы – глупый малый». На это я ответил, желая сохранить перевес, что если я глупый малый, то он подлый шпиц! За этим последовал вызов.
Рассуждение издателя в скобках. (О Мур, милый мой кот! Или вопрос чести не изменился со времен Шекспира, или я ловлю тебя на писательской лжи, т. е. на лжи, служащей для того, чтобы придать больше огня и блеска событию, о котором ты рассказываешь. Разве способ, приведший к дуэли с пестрым пенсионером, не есть чистейшая пародия на семь раз отвергнутую ложь Оселка в шекспировской пьесе «Как вам будет угодно»? Не нахожу ли я в излагаемом тобою дуэльном процессе весь постепенный ход учтивого приличия, тонкой насмешки, грубого возражения и горячего опровержения вплоть до дерзкого противоречия, и может ли спасти тебя то, что вместо условной или открытой лжи ты все это заключаешь двумя-тремя ругательствами? Мур, милый мой кот, на тебя обрушатся рецензенты, но по крайней мере ты доказал, что с пользой и пониманием читал Шекспира, а это многое извиняет.)
Должен сознаться, что, получив вызов, гласивший о дуэли на когтях, я почувствовал себя не совсем хорошо. Я вспомнил о том, какое зло причинил мне пестрый предатель, когда я напал на него, движимый мщением и ревностью, и я не прочь был отказаться от перевеса, полученного мною с помощью друга Муциуса. Муциус видел, что я побледнел, читая кровавый вызов, и вообще заметил расстройство моей души.
– Брат мой Мур, – сказал он, – мне кажется, что тебе немного не по себе перед первой твоей дуэлью.
Я, не колеблясь, открыл другу свое сердце и объявил ему, что смущало мой ум.
– О брат мой, – сказал Муциус, – дорогой брат мой Мур, ты забываешь, что в то время, как тебя избил гнусным образом этот дерзкий наглец, ты был еще новичок, а не такой честный и бравый бурш, как теперь. Твоя борьба с пестрым котом не была настоящей дуэлью по всем правилам искусства, ее нельзя назвать даже встречей, – у вас произошла просто филистерская потасовка, неприличная для бурша. Заметь, брат Мур, что люди, завидующие нашим особым дарованиям, приписывают нам склонность некрасиво и недостойно драться, и когда то же самое случается в их породе, то они называют это позорным и насмешливым словом «кошачья потасовка». Одного этого достаточно для того, чтобы порядочный кот с честными правилами, держащийся хороших нравов, избегал всякой неприятной встречи подобного рода. Тогда и люди, очень склонные к этому при известных обстоятельствах, тоже постыдятся бить и быть битыми. Итак, милый брат мой, отложи в сторону всякий страх, наберись храбрости и будь уверен, что в настоящей дуэли ты достаточно отомстишь за все перенесенные обиды и так исцарапаешь пестрого дурака, что он хоть на время оставит глупое волокитство и пустое бахвальство своими победами. Но вот что: мне приходит в голову, что после того, что произошло между вами, поединок на когтях не даст достаточных результатов, – следует драться гораздо решительнее, т. е. на укусах. Надо узнать мнение буршей.
В очень хорошо составленной речи Муциус изложил перед собранием буршей случай, происшедший между мной и пестрым котом. Все согласились с мнением говорившего, и потому я просил передать пестрому коту через Муциуса, что принимаю его вызов, но тяжесть обиды так велика, что я не могу и не буду драться иначе, как на укусах. Пестрый кот начал было возражать, отговариваясь тупостью зубов и т. п.; но когда Муциус объявил ему с своей серьезной и твердой манерой, что здесь может быть речь только о приличной дуэли на укусах и что, отказавшись от нее, он должен будет помириться с прозвищем подлого шпица, то он решился на все.
Наконец пришла ночь, в которую должен был состояться поединок. В назначенный час я был вместе с Муциусом на крыше, лежавшей на границе округа. Скоро явился и мой противник со статным котом, который был еще пестрее его и отличался еще более дерзким и нахальным видом. По-видимому, это был его секундант; они сделали вместе несколько кампаний, и оба участвовали в очищении амбара, снискавшем пестрому коту орден горелого сала. Кроме того, как узнал я потом, стараниями предусмотрительного Муциуса была найдена светло-серая кошечка, удивительно сведущая в хирургии, умевшая обращаться с самыми опасными ранами и в короткое время их вылечивать. Мы заранее уговорились, что во время поединка будет сделано три прыжка, и если после третьего не произойдет ничего особенного, то придется обсудить, продолжать ли дуэль новыми прыжками или покончить дело на этом. Секунданты отмерили шаги, и мы стали в позицию друг против друга. Согласно установленным обычаям, секунданты подняли крик, и мы бросились друг на друга.
В ту самую минуту, как я хотел схватить моего противника, он так сильно укусил мое правое ухо, что я невольно испустил громкий крик.
– Разойдитесь! – крикнул Муциус.
Пестрый кот оставил меня, и мы снова стали в позицию.
Новый крик секундантов, второй прыжок. На этот раз я надеялся лучше справиться со своим противником, но предатель изогнулся и так укусил меня в левую лапу, что из нее хлынула кровь.
– Разойдитесь! – еще раз воскликнул Муциус.
– В сущности, милейший, – сказал секундант моего противника, обращаясь ко мне, – дело покончено, так как, получив такую значительную рану в лапу, ты можешь считаться hors de combat[98].
Но мой гнев и обида были так сильны, что я не чувствовал боли и возразил, что при третьем прыжке будет видно, насколько я еще в силах и можно ли считать наше дело поконченным.
– Хорошо, – сказал секундант, насмешливо улыбаясь, – если вы желаете пасть от лапы сильнейшего противника, то пусть будет по-вашему!
Но Муциус хлопнул меня по плечу и сказал:
– Браво, браво, брат Мур, настоящий бурш не обращает внимания на такие царапины! Смелее!
В третий раз прокричали секунданты, третий прыжок.
Несмотря на всю ярость, я заметил уловку моего противника, который всегда прыгал немного вбок, вследствие чего он увертывался от меня и всякий раз меня схватывал. На этот раз я был внимателен; я тоже прыгнул вбок, и в ту минуту, как противник думал меня схватить, я так укусил его в шею, что он не мог даже крикнуть.
– Разойдитесь! – крикнул на этот раз секундант моего врага.
Я сейчас же отскочил, но пестрый кот упал без чувств, и кровь струями лилась из его глубокой раны. Светло-серая кошка сейчас же поспешила к нему и, желая остановить кровь перед перевязкой, пустила в ход одно домашнее средство, которое, как уверял Муциус, было у нее всегда под руками, так как она всегда имела его при себе: она влила в рану некую жидкость и спрыснула ею бесчувственного; по сильному и едкому запаху я принял ее за какое-нибудь сильно возбуждающее средство; это не был ни одеколон, ни другая душистая вода.
Муциус с жаром прижал меня к своей груди и сказал:
– Брат Мур, ты покончил дело чести, как подобает коту, у которого сердце на настоящем месте! Ты сделаешься венцом буршей, не потерпишь никакой обиды и будешь всегда готов, если придется поддержать нашу честь.
Секундант моего противника, помогавший светло-серому хирургу, дерзко подошел к нам и объявил, что при третьем прыжке я дрался не по правилам. Тогда брат Муциус стал в позицию и объявил, сверкая глазами и выпустив когти, что тот, кто скажет это, будет иметь дело с ним, и дело это может быть покончено тут же на месте. Секундант счел за лучшее не отвечать; он молча взвалил на спину раненого друга, который начал приходить в себя, и отправился с ним через слуховое окно. Пепельно-серый хирург спросил, не может ли он служить также и мне своим домашним средством. Но я отклонил это, хотя ухо и лапа у меня сильно болели. По дороге к дому я подкреплял себя сознанием одержанной победы и удовлетворенного мщения за измену Мисмис и полученные побои.
Для тебя, о юноша-кот, так подробно описал я историю моего первого поединка! Помимо того, что эта замечательная история может дать тебе полное понятие о вопросе чести, ты еще можешь почерпнуть из нее полезную и необходимейшую житейскую истину, а именно – что мужество и храбрость ничего не значат в сравнении с уловками, и потому основательное изучение уловок необходимо для того, чтобы не падать на землю и твердо держаться на месте. «Chi no se ajuta, se nega»[99], – говорит Бригелла в «Счастливом нищем» Гоцци, – и человек этот прав, вполне прав. Заметь это, юноша-кот, и не пренебрегай никакими уловками, потому что в них, подобно богатой руде, заключается истинная житейская мудрость.
Когда я вернулся домой, дверь хозяина была уже заперта, и потому я должен был превратить в ночное ложе лежавший перед нею соломенный половик. Раны причинили мне сильную потерю крови, и я был довольно слаб. Но вот я почувствовал, что кто-то осторожно меня переносит. Это был мой добрый хозяин, который услышал меня за дверью, так как я, вероятно, сам того не зная, слегка взвизгивал; он открыл дверь и заметил мои раны.
– Бедный мой Мур, – воскликнул он, – что с тобой сделали! Как ты искусан! Но я надеюсь, что и ты не остался в долгу у своего противника?!
«О хозяин, – подумал я, – если бы ты знал!»
И снова почувствовал я, как сильно возвышает меня мысль об одержанной победе и о той чести, которую она мне доставила. Добрый хозяин положил меня на свою постель, вынул из шкафа небольшой ящик с мазью, сделал два пластыря и приложил их к моему уху и к лапе. Спокойно и терпеливо дал я все это сделать, испустивши только тихое «мррр…», когда первая перевязка сделала мне немного больно.
– Ты – умный кот, Мур, – сказал хозяин, – ты не отвергаешь добрых попечений своего господина, как другие ворчливые дикари твоей породы. Лежи же теперь спокойно; когда придет время зализывать рану на лапе, ты сам сбросишь перевязку. Что же касается раны на ухе, то с этим ты ничего не можешь поделать, бедняга, и потому потерпи немного.
Я обещал хозяину то, чего он хотел, и в знак своего удовольствия и благодарности за оказанную мне помощь протянул ему здоровую лапу, которую он по обыкновению взял и слегка пощекотал, нисколько ее не сжимая. Хозяин умел обращаться с образованными котами.
Вскоре я почувствовал благодетельное действие пластыря и был рад тому, что не принял фатального домашнего средства пепельно-серого хирурга. Посетивший меня Муциус нашел меня веселым и бодрым. Вскоре я был уже в состоянии сопровождать его в кнейпу, где собрались бурши. Можно себе представить, каким неописанным ликованием был я встречен. Все полюбили меня вдвое больше прежнего.
С этих пор я вел прекрасную жизнь буршей и легко перенес потерю лучших волос из своей шубы. Но есть ли в мире прочное счастье? И не ожидает ли нас при всякой вкушаемой радости…
(М. л.) …поднимался высокий и крутой холм, который в плоской местности сошел бы за гору. Наверх шла широкая и удобная дорога, окаймленная душистыми кустами, по обеим сторонам ее были расставлены каменные скамейки и беседки, свидетельствовавшие о гостеприимной заботе о странниках. Только тогда, когда путник поднимался наверх, перед ним открывались величина и великолепие здания, которое издали казалось одиноко стоящей церковью. Герб, епископская шапка, посох и крест, высеченные из камня на воротах, показывали, что это была когда-то епископская резиденция, а надпись: «Benedictus, qui venit in nomine domini»[100] – приветствовала мирных гостей. Но всякий входящий невольно останавливался, пораженный видом церкви, стоящей в середине, с великолепным фасадом в стиле Палладио, с двумя высокими воздушными башнями и с флигелями, примыкавшими с двух сторон к главному зданию. В главном здании были комнаты аббата, а в боковых флигелях – жилища монахов, трапезная, другие общие залы и комнаты для гостей. Недалеко от монастыря находились хозяйственные строения, кузница и дом старшины. Ниже в долину спускалась с холма красивая деревня Канцгейм, опоясывая и холм, и аббатство наподобие роскошного пестрого венка.
Долина простиралась до самого подножия дальних гор. Многочисленные стада паслись на зеленых лугах, перерезанных светлыми ручьями; весело выходили крестьяне из деревень, разбросанных там и сям; над тучными нивами носились ликующие песни птиц, звучащие из чащи; призывный звук рогов раздавался из темного леса; по широкой реке, пробегавшей в долине, быстро неслись тяжело нагруженные лодки, окрыленные белыми парусами, и слышались веселые приветствия пловцов. Всюду было плодородие, изобилие, благословение природы и деятельная, вечно стремительная жизнь. Вид на этот веселый пейзаж с холма из окон аббатства возвышал душу и в то же время наполнял ее глубокой отрадой.
Если внутреннее убранство церкви, несмотря на благородство и грандиозность всего здания, можно было справедливо упрекнуть в излишестве и монашеском безвкусии из-за множества пестрой золоченой резьбы и мелких рисунков, то тем более бросалась в глаза чистота стиля в постройке и убранство комнат аббата. Хоры церкви непосредственно соединялись с обширной залой, служившей для собраний братии и вместе с тем для хранения инструментов и нот. Из этой залы вел в покои аббата длинный коридор в виде ионической колоннады. Шелковые обои, прекрасные картины лучших мастеров различных школ, бюсты и статуи великих мужей церкви, ковры, изящная настилка полов, дорогое убранство – все свидетельствовало здесь о богатстве монастыря. Это богатство, царившее во всем, не производило, однако, впечатления того пышного блеска, который ослепляет глаз, не принося ему пользы, и внушает удивление, не доставляя отрады. Все было на месте, ни в чем не проявлялось старания хвастливо привлечь внимание и помешать впечатлению другого, так что, не замечая драгоценности того или иного отдельного украшения, всякий чувствовал только приятное впечатление от всего целого. Приятное впечатление достигалось надлежащим распределением всех подробностей, и именно это верно распределяющее чутье и было, очевидно, тем самым, что принято называть хорошим вкусом. По удобству и уютности убранство комнат аббата граничило с пышностью, не будучи на самом деле пышным, и потому не было ничего поражающего в том факте, что духовное лицо само устроило и выбрало всю эту обстановку. Приехав в Канцгейм несколько лет тому назад, аббат Хризостом привел свое жилище в тот вид, в котором оно теперь находилось, и весь образ жизни аббата вполне сказывался в этом убранстве прежде, чем видели его самого и замечали высокую степень его духовного развития. Аббат был человек лет сорока, высокий, с одухотворенным, мужественно-прекрасным лицом, с осанкой, полной достоинства и благородства; всем, кто имел с ним дело, он внушал уважение, требуемое его званием. Ревностный воин церкви, неутомимый поборник прав своего ордена и монастыря, он все же казался уступчивым и терпимым. Но эта кажущаяся уступчивость была тем оружием, которым он искусно владел, умея побеждать всякое сопротивление, даже и высшей силы. Если можно было предполагать, что под простыми и умильными словами, шедшими, как казалось, от самого сердца, скрывалось лукавство монаха, то наружно это имело вид изворотливого, сильного ума, проникавшего в глубочайшие интересы церкви. Аббат был питомец римской коллегии пропаганды. Не будучи склонен отрекаться от потребностей жизни, насколько они совместимы с духовными обычаями и порядками, он предоставлял своим многочисленным подчиненным всю свободу, какую только можно было допустить при их звании.
Так, преданные той или другой науке обитатели монастыря изучали ее в уединении кельи; другие беззаботно бродили по парку аббатства, забавляясь веселыми разговорами; некоторые, склонные к раздумью, постились и проводили время в постоянной молитве; иные предавались удовольствиям обильного стола, ограничивая свои религиозные занятия выполнением правил ордена; одни не могли расстаться с аббатством, другие отправлялись в дальние странствования или же, когда приходило время охоты, меняли длинную священническую одежду на короткую охотничью куртку и превращались в искусных охотников. Но если вкусы монахов были различны, и каждый мог следовать своему, то все они сходились в восторженной любви к музыке. Почти каждый из них был законченным музыкантом, и между ними находились виртуозы, которые могли бы сделать честь любой княжеской капелле. Богатый запас нот и прекраснейших инструментов давал возможность всякому из них заниматься искусством, как он хотел, а частое исполнение избранных произведений давало им постоянную практику.
Этому-то музыкальному влечению дало новый толчок пребывание Крейслера в аббатстве. Ученые закрыли свои книги, склонные к раздумью сократили свои молитвы, и все собрались вокруг Крейслера, так как очень его любили и ценили его произведения больше всяких других. Сам аббат отнесся к нему с искренней дружбой и изощрялся вместе с другими, выказывая ему всеми способами свою любовь и уважение. Место, где находилось аббатство, можно было назвать раем; жизнь в монастыре отличалась приятнейшими удобствами, к числу которых, разумеется, относились здоровый стол и благородное вино, о чем заботился отец Иларий; в среде братьев царила самая искренняя веселость, и кроме того Крейслер, неутомимо занимавшийся искусством, попал в свою стихию; все это, конечно, способствовало тому, что его переменчивый нрав успокоился так, как этого давно уже с ним не бывало. Даже горечь его юмора притупилась, и он сделался мягок и нежен, как дитя. Но всего важнее было то, что он верил в себя; исчез и призрачный двойник, выраставший из ран его истерзанной груди.
Где-то[101] говорится про капельмейстера Иоганна Крейслера, что не было границ его радости, когда он кончал новое произведение; однако какую бы радость ни доставляло ему удавшееся произведение, он сейчас же бросал его в огонь. Так было в роковую годину его жизни, которая грозила бедному Иоганну безвыходным переворотом, о котором биограф до сих пор еще знает очень немного. Теперь же, в канцгеймском аббатстве, Крейслер остерегался уничтожать свои произведения, исходившие из глубины его души, и его настроение сказывалось в сладостно-унылом и успокоительном характере, который носили его произведения, между тем как прежде он слишком часто вызывал из глубины гармонии силою своих чар могучих духов, пробуждавших в душе человека ужас, страх и все муки безнадежной тоски.
Однажды вечером была последняя репетиция церковного хора, певшего торжественную службу, сочиненную Крейслером; она должна была исполняться на следующее утро. Братья разошлись по своим кельям, Крейслер остался один в зале и смотрел на картину местности, освещенную блеском лучей заходящего солнца. Тогда показалось ему, будто он еще раз услышал издали свое произведение, только что вызванное к жизни братьями. Во время пения Agnus dei[102] его вновь с еще большей силой охватило несказанное блаженство той минуты, когда впервые для него зазвучал этот Agnus.
– Нет, – воскликнул он, и пламенные слезы брызнули из его глаз, – нет, это не я, это – ты, мое единое помышление, мое единое стремление!
Удивительно, как сочинил Крейслер эту часть, в которой и аббат, и братья нашли выражение глубокого раздумья и самой небесной любви. Полный мыслью о торжественной службе, которую он начал сочинять, но далеко еще не кончил, он увидал раз во сне, что священный день, к которому готовилось его сочинение, уже пришел, служба началась, сам он стоял перед пюпитром с готовой партитурой, аббат, служивший мессу, произнес возглас и началась его kyrie[103].
Шли фраза за фразой, исполнение поражало его силой и стройностью; весь потрясенный, дождался он наконец Agnus dei. Тогда он с ужасом заметил белые листы партитуры; там не было ни одной ноты. Он опустил свою палочку, и братья смотрели на него, дожидаясь, когда он начнет и застучит своей палочкой. Но стыд и страх угнетали его, как свинец, и, несмотря на то, что весь Agnus звучал у него в душе, он не мог выразить его в партитуре. Тогда явился вдруг светлый ангел, взошел на пюпитр и небесным голосом спел Agnus dei, – и этим ангелом была Юлия! В восторге высокого вдохновения проснулся Крейслер и записал Agnus dei, как он представился ему в блаженном сне. И этот сон видел Крейслер опять, он слышал голос Юлии. Выше и выше вздымались волны песни, и вот, наконец, вступил хор: Dona nobis pacem[104], и он погрузился в море тысячи блаженных восторгов, которые его переполнили.
Легкий удар по плечу пробудил Крейслера от экстаза. Это был аббат, который стоял перед ним, устремив на него взгляд, полный доброты.
– Не прав ли я, сын мой Иоганн, – начал аббат, – полагая, что то, что нашел ты в глубине твоего сердца и что удалось тебе с такой силой и великолепием вызвать к жизни, наполняет теперь радостью твою душу? Ты, вероятно, думал о своей торжественной мессе, которую я причисляю к лучшим произведениям, когда-либо созданным тобою.
Крейслер молча смотрел на аббата, он был еще не в состоянии говорить.
– Ну же, ну, – продолжал, улыбаясь, аббат, – спустись из высших сфер, в которые ты вознесся. Ты, кажется, мысленно сочиняешь и таким образом не отдыхаешь от работы, которая тебе, конечно, приятна, но и опасна, так как она в конце концов истощает твои силы. Оторвись пока от своих творческих мыслей, погуляем в этом прохладном проходе и поболтаем.
Аббат заговорил о монастырских порядках и об образе жизни монахов, хвалил присущий им истинно веселый и ясный дух и, наконец, спросил капельмейстра, не ошибся ли он, т. е. аббат, заметив, что за время своего пребывания в аббатстве Крейслер стал спокойнее, свободнее и более склонен к живой деятельности в высоком искусстве, так дивно украшающем церковную службу.
Крейслер подтвердил это мнение и, кроме того, уверил, что аббатство было для него убежищем, где он мог скрыться, чувствуя себя так хорошо, точно будто действительно сделался монахом и никогда больше не покинет монастыря.
– Ваше преподобие, – закончил Крейслер, – не нарушайте обмана, происходящего от моей одежды; пусть буду я думать, что, избегнувши грозной бури, я выброшен милостью судьбы на спасительный остров, где никогда больше не будет нарушен прекрасный сон, который есть не что иное, как само вдохновение.
– Да, правда, сын мой Иоганн, – ответил аббат, причем лицо его осветилось особой добротою, – та одежда, которую надел ты, чтобы казаться одним из братьев, очень тебе подходит, и я хотел бы, чтобы ты никогда ее не снимал. Ты самый достойный бенедиктинец, какого только можно желать. Но только, – продолжал аббат после краткого молчания, беря за руку Крейслера, – этим нельзя шутить. Вы знаете, Иоганн, как вы полюбились мне с той самой минуты, когда я вас впервые узнал, и как постоянно возрастала моя искренняя дружба вместе с высоким уважением к вашему избранному таланту. Любовь к человеку всегда приносит заботы, и я не без страха наблюдал за вами со времени вашего прибытия в монастырь. Результат этих наблюдений привел меня к убеждению, от которого я не могу отказаться. Давно уж хотел я открыть вам свое сердце; я ждал только удобной минуты, и вот она настала! Крейслер, отрекитесь от мира, вступите в наше братство!
Как ни нравилось Крейслеру в аббатстве, как ни приятно было ему продолжать свое пребывание в том месте, где нашел он мир и покой, где он проявил такую богатую художественную деятельность, но предложение аббата поразило его почти неприятным образом, так как он никогда не думал серьезно о том, чтобы, отказавшись от своей свободы, навеки заточиться в монастыре, хотя у него не раз бывали такие фантазии, и это могло быть замечено аббатом. С удивлением смотрел он на аббата, который, не дав ему говорить, продолжал:
– Выслушайте меня спокойно, Крейслер, прежде, чем вы мне ответите. Мне было бы очень приятно приобрести для церкви столь искусного служителя, но сама церковь чуждается всяких искусственных уговоров и желает затрагивать только искру истинного сознания, чтобы она разгоралась в ярко горящее пламя веры, разрушающее все заблуждения. Итак, я желаю раскрыть только то, что, быть может, неясно и смутно покоится в вашем сердце, и довести это до вашего сознания. Нужно ли мне говорить вам, Иоганн, о тех глупых предрассудках, которые существуют в мире относительно монастырской жизни? Думают, будто бы монаха приводит в келью какой-нибудь необыкновенный случай, и вот, отрекшись от всех мирских радостей, влачит он безнадежное существование в вечных мучениях. Если бы это было так, то монастырь был бы мрачной тюрьмой, где гнездится безутешная скорбь о навеки утраченном счастье, где проявляются отчаяние и безумие самой изобретательной муки, где влачат несчастное существование изнуренные, бледные, мертвенные люди, изливая свой раздирающий душу страх в глухом бормотании молитв!
Клейслер не мог удержаться от улыбки, представляя себе, пока аббат говорил об изнуренных людях с мертвенно-бледными лицами, откормленных бенедиктинцев и в особенности милейшего, краснощекого отца Илария, знавшего только одно мученье – пить плохо выдержанное вино и только один страх – перед новой партитурой, которую он не сразу понял.
– Вы улыбаетесь, – продолжал аббат, – над контрастом изображаемой мною картины с той монастырской жизнью, которую вы теперь узнали, и, конечно, вы правы. Бывает и то, что люди, истерзанные земными страданиями, навсегда отрекаются от всякого счастья и мирской радости и идут в монастырь. И для них спасительно, что их принимает церковь: они находят в ее лоне покой, который один только может утешить их за все перенесенные горести и поднять над гибельной долей выше всяких житейских стремлений. А сколько есть таких, которых приводит в монастырь истинное влечение души к мечтательной и созерцательной жизни, которые не подходят к миру и, ежеминутно страдая от разных мелочных обстоятельств, создаваемых жизнью, чувствуют себя хорошо только в избранном ими уединении. Есть еще и другие, которые, не имея определенного влечения к монастырской жизни, все же бывают на своем месте только в монастыре. Я разумею тех, которые всегда есть и будут чуждыми миру, так как, отличаясь более высоким складом своей внутренней жизни, они принимают за житейские условия требования этой возвышенной жизни и, неутомимо добиваясь того, чего нельзя найти на земле, вечно скитаются то там, то сям в жажде неудовлетворенного стремления и напрасно ищут покоя и мира; в их открытую грудь попадает всякая брошенная стрела, и для ран их есть лишь один бальзам: горькая насмешка над вечно вооруженным врагом. Только уединенная однообразная жизнь без враждебных вторжений и, главное, постоянное свободное общение с тем светлым миром, к которому они принадлежат, могут поддерживать в них равновесие и давать их душе неземную отраду, которой нельзя достигнуть в мирской суете… И вы, вы, Иоганн, принадлежите к таким людям, которых вечная сила земного давления поднимает высоко к небесам. Живое сознание высшей жизни, которое вечно будет бороться в вас с пустыми земными порывами, ярко выступает в искусстве, принадлежащем к иному миру; будучи святою тайной небесной любви, оно заключено в вашем сердце вместе с вечным стремлением. Это искусство наполняет вас пламенной мечтой, и, отдаваясь ему вполне, вы не имеете уже ничего общего с пестрой мирской суетой, которую отбрасываете от себя с презрением, как юноша, бросающий ненужную детскую игрушку. Бегите навсегда от сумасбродных придирок насмешливых глупцов, которые часто уязвляли вас до крови, мой бедный Иоганн! Друг простирает к вам руки, чтобы укрыть вас в надежную гавань, где вас не настигнет никакая буря!
– Высокопреподобный друг мой, – сказал Иоганн, когда аббат замолчал с серьезным видом, – глубоко чувствую я справедливость ваших слов и то, что я действительно непригоден для света, который представляется мне вечным загадочным недоразумением. И все же, – признаюсь в этом прямо, – убеждения, которые всосал я с молоком матери, заставляют меня бояться этого платья как тюрьмы, из которой я никогда не выйду. Мне кажется, что для монаха Иоганна тот самый мир, в котором капельмейстер Иоганн находил так много прекрасных садов с душистыми цветами, вдруг превратится в угрюмую пустыню, когда в кипучую жизнь проникнет отречение…
– Отречение? – перебил капельмейстра аббат, возвышая голос. – Отречение? Где же тут отречение, Иоганн, если дух искусства будет в тебе все сильнее и крепче, и ты на могучих крылах поднимешься к сияющим облакам? Какая житейская радость может еще тебя соблазнить?.. Да, правда, – продолжал аббат, смягчая голос, – вечная власть вложила в грудь нашу чувство, которое с непобедимой силой потрясает все наше существо; это – непостижимая связь, соединяющая душу и тело, причем душа как будто стремится к высшему идеалу химерического блаженства, а на самом деле желает только того, что составляет необходимую потребность тела, и так происходит взаимодействие, обусловливающее продолжение человеческого рода. Мне нечего прибавлять, что я говорю о половой любви, и что отречение от нее я считаю нелегким делом. Но твое отречение, Иоганн, только спасет тебя от погибели: никогда, никогда ты не найдешь настоящего счастья в земной любви!
Последние слова аббат произнес так торжественно и с таким чувством, точно перед ним лежала открытая книга судеб, и он читал бедному Иоганну Крейслеру о всех страданиях, для избежания которых ему следовало поступить в монастырь.
Но тут началась на лице Крейслера странная игра мускулов, предвещавшая овладевшего им духа иронии.
– Ого, – сказал он, – ого! Вы ошибаетесь, ваше преподобие, вы жестоко ошибаетесь! Вы в заблуждении насчет моей особы, вас смущает то платье, которое я надел, чтобы некоторое время подшучивать над людьми en masque[105] и в неузнаваемом виде писать у них на руке их имена, давая им понять, что они такое… Чем же я плох? Или я не могу считаться мужчиной в цвете лет, изрядной наружности и притом вполне образованным и приличным? Или не могу я вычистить и надеть прекраснейший черный фрак и с полной смелостью явиться весь в шелку перед какой-нибудь краснощекой профессорской дочкой или же перед голубоглазой дочкой надворного советника и со всей сладостью нежнейшего amoroso[106] в движениях, лице и тоне сказать ей без дальнейших рассуждений: «Прекрасная, хотите ли вы отдать мне вашу руку и всю вашу достойную особу в придачу, как прибавление к оной?» А профессорская дочка опустит глазки и едва слышно прошепчет: «Поговорите с папашей». Или же дочка надворного советника бросит на меня мечтательный взор и затем начнет уверять, что она давно уже замечала мою любовь, которую я только теперь осмелился высказать, и при этом упомянет вскользь о вышивке на подвенечном платье. А достопочтенные господа отцы! Разве не с великой охотой сбыли бы они с рук своих дочерей, по просьбе такой уважаемой особы, как эрцгерцогский экс-капельмейстер! Но я мог бы также пуститься в высший романтизм, завести идиллию и преподнести мою руку и сердце милой арендаторской дочке как раз в то время, когда она делает овечий сыр, или же, подобно второму нотариусу Пистофолусу, побежать на мельницу и найти свою богиню в небесных облаках мучной пыли! И там будет признано верное и честное сердце, которое ничего больше не хочет и ничего не требует, кроме свадьбы, свадьбы и свадьбы! Я буду несчастлив в любви? Да вы и не подозреваете, ваше преподобие, что я – тот самый человек, который должен быть страшно счастлив в любви! Моя простейшая тема есть не что иное, как «хочешь меня, так беру я тебя!», и вариации на ту же тему после свадебного allegro brillianto будут разыгрываться в супружестве. Вы не знаете, ваше преподобие, что я уже давно и очень серьезно думал о браке. Правда, я был тогда еще юношей с небольшим опытом и образованием, мне было только семь лет, но та тридцатитрехлетняя девица, которую я избрал себе в невесты, поклялась мне, что не возьмет в мужья никого другого, кроме меня, и я сам не знаю, почему это дело после расстроилось. Вы только заметьте, ваше преподобие, что счастье любви улыбалось мне с детских лет; теперь же шелковые чулки здесь, шелковые чулки там, башмаки тут, и – вот я уж выступаю жениховскими ногами и затем во всю прыть бегу к ней, которая протянула свой нежный пальчик для скорейшего обручения. Если бы не было неприлично для почтенного бенедиктинца забавляться заячьими прыжками, то я бы тут же, на глазах у вашего преподобия, протанцевал матлот, гавот или гопвальцер единственно только от радости, охватывающей меня при одной мысли о невесте и о свадьбе. Ого! Что касается до любовного счастья и до женитьбы, то я просто молодец! Я бы желал, чтобы вы убедились в этом, ваше преподобие!
– Я не хотел прерывать вашу странную, шуточную речь, капельмейстер, доказывающую то самое, что я утверждаю, – ответил аббат, когда Крейслер наконец остановился. – Я прекрасно понимаю колкость, предназначенную для того, чтобы уязвить меня, но не уязвила! Хорошо, что я никогда не верил в ту химерическую любовь, которая бестелесно витает в воздухе и будто бы не имеет ничего общего с условиями человеческой жизни. Как можно, чтобы вы при этом болезненном напряжении духа… Но довольно об этом! Теперь нужно ближе подойти к тому грозному врагу, который вас преследует… Слышали ли вы во время вашего пребывания в Зигхартсгофе о судьбе одного несчастного художника, Леонгарда Этлингера?
Зловещий ужас проник в душу Крейслера, когда аббат произнес это имя. Горькая ирония погасла на его лице, и он спросил глухим голосом:
– Этлингер! Этлингер! Что мне до него за дело! Что у меня с ним общего? Я никогда его не знал, это была игра разгоряченной фантазии, когда мне показалось раз, что он говорит со мной из воды.
– Успокойся, – мягко и кротко сказал аббат, беря за руку Крейслера, – успокойся, сын мой Иоганн, у тебя ничего нет общего с тем, кого заблуждение слишком могучей страсти повергло в пучину гибели. Но его ужасная судьба может послужить тебе предостерегающим примером. Сын мой Иоганн, ты стоишь на еще более скользком пути, чем он, а потому беги, спасайся! Гедвига… Иоганн, ужасный сон крепко держит принцессу в путах, которые, по-видимому, нельзя развязать, если не разрубить их свободным разумом! А ты?
Тысячи мыслей промелькнули в голове Крейслера при этих словах аббата. Он увидел, что аббату известны не только все события зигхартсгофского княжеского дома, но также и то, что произошло во время его пребывания там. Ему стало ясно, что болезненная чувствительность принцессы подвергалась от его близости опасности, о которой он никогда не думал, и кто же другой мог бояться этой опасности и вследствие этого желать, чтобы он совершенно сошел со сцены, как не Бенцон? Она, вероятно, переписывалась с аббатом, получила известие о его – Крейслера – пребывании в аббатстве и таким образом была пружиной всех начинаний его преподобия. Живо вспомнились ему все моменты, когда принцесса казалась действительно одержимой страстью, рвущейся из глубины ее души, но, неизвестно почему, при мысли, что он сам мог быть предметом этой страсти, его охватывало чувство, похожее на страх перед привидением. Точно будто какая-то чуждая духовная сила властно вторгалась в его душу и похищала свободу его мысли. И вдруг представилась ему принцесса Гедвига: она пристально смотрела на него своим странным взглядом, и все его нервы задрожали, как в тот день, когда принцесса в первый раз дотронулась до его руки. Но неприятный страх его быстро прошел, электрическая теплота благодетельно разлилась по его телу, и он проговорил тихим голосом, точно во сне:
– Ах, шаловливая электрическая рыбка! Ты опять меня дразнишь и не знаешь того, что ты не смеешь безнаказанно жалить, так как я из чистой любви к тебе сделался бенедиктинским монахом.
Аббат смотрел на капельмейстера испытующим взглядом, как будто хотел проникнуть насквозь все его существо, и проговорил торжественно и серьезно:
– С кем говоришь ты, мой сын Иоганн? Но Крейслер очнулся от своих снов. Он представил себе, что если аббату известно все, что делалось в Зигхартсгофе, то он должен знать также и о последствиях случившейся с ним катастрофы, о чем было бы очень приятно узнать побольше.
– Я, ваше преподобие, – отвечал он с комической улыбкой, – я говорю, как вы изволили заметить, с одной шаловливой электрической рыбкой, которая непрошено вмешивается в наш разумный разговор, намереваясь еще больше запутать мои и без того уже спутанные мысли. Но прежде всего должен я заметить, к моему великому сожалению, что разные люди считают меня таким же великим дураком, как покойного придворного портретиста Леонардуса Этлингера, желавшего не только изображать высокую особу, которая, разумеется, не обращала на него внимания, но еще и любить ее таким же обыкновенным способом, как Ганс свою Грету. Но, боже, разве я когда-либо бывал непочтителен, беря прекраснейшие аккорды, сопровождавшие гнусную певучую дребедень?.. Разве посмел я касаться неприличных или фантастических тем о восторгах и страданиях, любви и ненависти, в то время как княжеское упрямство изощрялось в разных удивительных забавах и желало мучить почтенных людей магнетическими видениями? Разве я делал когда-либо такие вещи, скажите?
– Но, – прервал его аббат, – ведь ты говорил, Иоганн, про любовь художника!..
Крейслер пристально взглянул на аббата, потом всплеснул руками и, глядя вверх, воскликнул:
– О небо, да, это так! Достойные люди, – продолжал он с прежней комической улыбкой на лице, причем его голос почти прервался от глубокой скорби, – достойные люди, не слыхали ли вы когда-нибудь, хотя бы и на обыкновенных подмостках, как принц Гамлет сказал некоему почтенному человеку по имени Гильденштерн: «Вы можете меня расстроить, но играть на мне вы не можете». О боже, со мной случается то же самое! Зачем вы подслушиваете безобидного Крейслера, когда благозвучие любви, заключенное в его груди, кажется вам разногласием? О Юлия!
Аббат, точно вдруг пораженный чем-то неожиданным, напрасно искал слов, пока Крейслер стоял перед ним совершенно расстроенный, глядя в море огня, горевшее на вечернем небе.
Тогда раздались с башен аббатства звуки колоколов, и эти странные небесные голоса понеслись через пылающие золотом вечерние облака.
– С вами, – воскликнул Крейслер, простирая руки, – с вами хочу я лететь, аккорды! Несомая вами, должна подняться во мне вся безутешная скорбь и растаять в моей груди, а ваши голоса должны возвестить мне, как небесные посланники мира, что скорбь перешла в надежду и в стремление вечной любви.
– Сейчас начнутся вечерние молитвы, – сказал аббат, – я слышу, как сходятся братья; завтра, милый друг мой, мы, может быть, еще потолкуем о событиях в Зигхартсгофе.
– Ах, – воскликнул Крейслер, только теперь вспоминая, что хотел он узнать от аббата, – ах, ваше преподобие, я бы многое хотел узнать про веселую свадьбу и тому подобные вещи!.. Принц Гектор, верно, больше не будет медлить получением руки, которой он добивался еще издали. Значит, с блистательным женихом не случилось ничего дурного?
Лицо аббата потеряло всякую торжественность, и он сказал свойственным ему приветливым тоном:
– Нет, уважаемый друг мой Иоганн, с блистательным женихом ничего не случилось, но его адъютанта, должно быть, укусила в лесу оса.
– Ого, ого, – ответил Крейслер, – это была оса, которую он хотел истребить огнем и мечом.
Братья вошли в коридор…
(М. пр.) …злой враг, старающийся вырвать лакомый кусок прямо из морды безобидного кота? Недолго длилось наше счастье, – наш дружеский союз на крыше потерпел удар, разрушивший его до самого основания. Злой враг кошачьей радости явился к нам в образе могучего, яростного филистера, носившего имя Ахилл. Он мало походил на своего гомеровского одноименника, так как в противном случае следовало бы признать, что геройство этого последнего состояло главным образом в ненужной заносчивости и в грубых и пустых разговорах. Ахилл был в сущности обыкновенной собакой из мясной лавки, но служил дворовым псом, и хозяин, к которому он поступил на службу, велел посадить его на цепь, чтобы укрепить его привязанность к дому; он был на свободе только ночью. Многие из нас сожалели о нем, несмотря на его неприятный нрав, он же не огорчался лишением свободы, так как был настолько глуп, что принимал тяжелую цепь за честь и почет. К немалой своей досаде Ахилл, который должен был бегать по ночам вокруг дома, оберегая его от всяких опасных прохожих, был обеспокоен во время сна нашими ночными собраниями и грозил нам смертью и гибелью, как нарушителям его покоя. Но так как он по своей беспомощности не мог попасть ни на чердак, ни на крышу, то мы не обращали никакого внимания на его угрозы и продолжали проводить время по-прежнему. Тогда Ахилл принял другие меры: он начал против нас войну и, как хороший генерал, дал несколько сражений сначала с прикрытой атакой, а потом и с открытой перестрелкой.
Различные шпицы, которым Ахилл оказывал иногда честь, играя с ними и ворочая их своими неуклюжими лапами, стали являться на его зов, как только наш хор начинал пение, и принимались так зверски лаять, что мы не могли услышать ни одной своей ноты. Мало того, некоторые из этих филистерских слуг ворвались на чердак и, не желая вступать с нами в открытый и честный бой, когда мы показали им когти, подняли такой неистовый гам с визгом и лаем, что если раньше мы мешали дворовому псу, то теперь уже сам хозяин дома не мог сомкнуть глаз, а так как гам этот не унимался, то он схватил плеть и бросился разгонять бушевавших над его головой.
О кот, читающий эти строки! Если у тебя в груди истинно мужественное сердце, в голове светлый разум, а уши твои не очень притуплены, то скажи мне, есть ли для тебя что-либо отвратительнее, противнее и ненавистнее, чем визгливый, пронзительный и во всех тонах диссонирующий лай разозленного шпица? Этим маленьким виляющим, тявкающим и вертлявым существам нельзя доверять, заметь это, кот! Поверь мне, что дружба шпица опаснее выпущенных когтей тигра! Но умолчим о горьком опыте, который мы, увы, слишком часто испытывали, и вернемся к дальнейшему течению нашего рассказа.
Итак, хозяин, как было сказано выше, взял плеть, чтобы разогнать бушевавших на чердаке. Но что же вышло? Шпицы завиляли хвостами, бросившись навстречу разгневанному хозяину, стали лизать ему ноги и уверили его, что весь этот гам был поднят только ради его покоя, несмотря на то, что сам он потерял из-за него всякий покой. Они лаяли только для того, чтобы выгнать нас, которые поднимают на крыше нестерпимый шум своими песнями во всевозможных пронзительных тонах. Хозяин поддался болтливому красноречию шпицов, тем более что дворовый пес при его расспросах подтвердил их слова, руководствуясь страшной ненавистью, которая таилась в его груди против нас. И вот начались преследования. Домовые слуги гнали нас отовсюду метлами, обломками черепицы и даже расставили везде западни и капканы, в которые мы должны были попадаться и, увы, действительно попадались! Даже дорогой друг мой Муциус попал в беду, то есть в капкан, который страшно повредил ему правую заднюю лапу!
Так прервалась наша веселая совместная жизнь. Я вернулся к печке хозяина, оплакивая в полном уединении судьбу моего несчастного друга.
Однажды в комнату моего господина вошел профессор эстетики Лотарио, а за ним вбежал Понто.
Я не могу выразить, какое неприятное чувство причинил мне вид Понто. Хотя он не был ни дворовым псом, ни шпицем, но все же принадлежал к породе, враждебное отношение которой помешало веселым сборищам кошачьих буршей, и этого было достаточно, чтобы, несмотря на всю дружбу, которую он мне выказывал, он был мне неприятен. Кроме того, мне показалось, что во взгляде Понто и во всей его особе было что-то нахальное и насмешливое, и потому я решил не говорить с ним. Тихо-тихо спустился я со своей подушки, одним прыжком очутился в печке, заслонка которой была открыта, и запер ее за собой.
Лотарио говорил с хозяином о чем-то мало интересном для меня, – тем более что все мое внимание было сосредоточено на юном Понто, который, с щеголеватым видом напевая какую-то песенку, танцевал по комнате, затем вскочил на подоконник и, как истый фанфарон, каждую минуту кланялся знакомым прохожим и даже слегка полаивал, конечно, для того, чтобы обратить на себя внимание проходивших красавиц его породы. Обо мне легкомысленный малый, по-видимому, даже и не думал, и, хотя я, как уже сказано, вовсе не желал разговаривать с ним, мне было все-таки неприятно, что он не осведомлялся обо мне.
Совсем иначе и, как думалось мне, приличнее и разумнее показал себя эстетический профессор Лотарио, который, поискав меня по всей комнате, сказал мейстеру:
– А где же ваш великолепный мосье Мур?
Для честного кошачьего бурша нет более позорного названия, чем роковое слово «мосье», но от эстетиков в мире многое терпят, и потому я прощаю профессору эту неприятность…
Мейстер Абрагам объяснил, что с некоторых пор я делаю все по-своему и по ночам редко бываю дома, вследствие чего кажусь усталым и слабым. Так и теперь: я только что лежал на подушке, и он положительно не понимает, куда я вдруг так быстро исчез.
– Я полагаю, – продолжал профессор, – я полагаю, мейстер Абрагам, что ваш Мур… но, может быть, он где-нибудь спрятался и подслушивает?.. Посмотрим-ка, где он.
Я тихонько попятился в глубину печки, но можно себе представить, как насторожил я уши, когда речь зашла обо мне. Профессор напрасно обыскал все углы к немалому удивлению хозяина, который воскликнул со смехом:
– Право, профессор, вы оказываете необыкновенную честь моему Муру!
– Ого, – отвечал профессор, – у меня не выходит из головы подозрение относительно педагогического эксперимента, посредством которого ваш кот превратился в писателя и поэта. Или вы забыли про сонет и рассуждение, похищенные моим Понто из лап вашего Мура? Но как бы то ни было, а я воспользуюсь отсутствием Мура, чтобы сообщить вам одно неприятное подозрение и настоятельно посоветовать вам внимательно следить за поведением Мура. Как ни мало занимаюсь я кошками, но от меня не укрылось, что многие коты, бывшие прежде очень приличными и вежливыми, теперь вдруг усвоили манеру, грубо противоречащую всем общепринятым обычаям и порядкам. Вместо того, чтобы смиренно изгибаться, как прежде, они сделались кичливы и дерзки, нисколько не боятся выказывать свою первобытную дикую натуру сверкающими взглядами и сердитым урчанием и даже показывают когти. Насколько мало заботятся они о спокойном и приличном поведении, настолько же мало заняты они и своей внешностью, не стараясь казаться благовоспитанными и светскими существами. Уже нет и речи ни о приглаживании усов, ни о придающем блеск лизаньи шерсти, ни об откусывании слишком длинных когтей. Взъерошенные и шершавые, бегают они с растрепанными хвостами, внушая ужас и отвращение всем благовоспитанным кошкам. Но что, по-видимому, наиболее достойно порицания и совсем не должно быть терпимо, так это их тайные сборища, устраиваемые по ночам, причем они предаются глупому занятию, которое называют пением; на самом деле это не более как бессмысленный крик, в котором нет ни настоящего такта, ни порядочной мелодии, ни гармонии. Боюсь, боюсь я, мейстер Абагам, что ваш Мур попал в худую компанию и принимает участие в недостойных увеселениях, которые могут принести ему только заслуженные побои. Мне было бы жаль, если бы труд, положенный вами на этого маленького серого господина, пошел даром, и вместо всяких наук он предался бы обыкновенной жизни простых завывающих котов!
Когда я увидел, как гнусно судят о моем дорогом друге Муциусе, у меня невольно вырвался болезненный крик.
– Что это? – воскликнул профессор. – Мур, очевидно, спрятался в комнате!.. Понто, allons[107], ищи, ищи!
Мгновенно Понто соскочил с подоконника и начал обнюхивать комнату. Перед печной заслонкой он остановился, зарычал, залаял и начал прыгать.
– Он в печке, это не подлежит сомнению! – сказал хозяин, открывая заслонку.
Я спокойно остался на месте, глядя на хозяина сверкающими, широко открытыми глазами.
– Действительно, он сидит в самой глубине печки! – воскликнул мейстер. – Ну, выходи сейчас оттуда!
Как ни мало желал я покинуть свое убежище, я должен был, однако, послушаться приказания хозяина, если не хотел допустить насилия над собой. Медленно выполз я из печки, но, едва показался на свет, профессор и хозяин воскликнули оба:
– Мур, Мур, на что ты похож! Это что за штуки!
Я был действительно весь в золе, и к этому присоединялось еще и то, что с некоторых пор моя наружность в самом деле сильно пострадала, так что я узнал себя в изображении схизматических котов, сделанном профессором; можно себе представить, какая жалкая фигура была у меня теперь. Сравнив эту жалкую фигуру с наружностью моего друга Понто, который был действительно хорош с своей видной, блестящей и красиво завитой шерстью, я, почувствовав глубокий стыд, печально и тихо забился в угол.
– Это ли приличный и благовоспитанный кот Мур! – воскликнул профессор. – Это ли изящный писатель и изобретательный поэт, пишущий сонеты и рассуждения?.. Нет, это самый обыкновенный кот, гуляющий с кошачьей бандой по крышам и только и умеющий, что ловить мышей на чердаках и в погребах. Скажи-ка мне, достопочтенный кот, скоро ли ты получишь ученую степень и взойдешь на кафедру с званием профессора эстетики? Хорошо докторское платье, в которое ты залез?
Так сыпались на меня насмешливые слова. Что оставалось мне делать, как не прижать к голове уши: так я делал обыкновенно в тех случаях, когда меня наказывали.
Наконец профессор и хозяин разразились громким смехом, пронизавшим насквозь мое сердце. Но едва ли не обиднее этого было для меня поведение Понто.
Он не только показывал всеми своими взглядами и движениями, что разделяет презрение своего господина, но прыжками в сторону открыто выражал страх подойти ко мне; вероятно, он боялся выпачкать свою красивую, чистую шкурку. Немалое испытание для кота, сознающего в себе такие совершенства, как я, выносить подобные обиды от какого-то щеголя пуделя.
Профессор пустился с хозяином в длинный разговор, не относящийся, по-видимому, ни ко мне, ни к моей породе, из которого я кое-что понял. Насколько я мог заметить, речь шла о том, что лучше: противиться ли открытой силой смутным и необузданным порывам экзальтированного юношества или же ограничивать их искусным и незаметным образом, развивая в нем самосознание, в котором эти порывы скоро сами уничтожаются. Профессор стоял за открытую силу, так как положение вещей требует для общего блага, чтобы всякий человек, несмотря на все его сопротивление, был сколь возможно рано вылеплен в форму, обусловливаемую целым по отношению к отдельным частям, иначе немедленно возникнет безобразное несоответствие, способное причинить всевозможные несчастия. При этом профессор говорил что-то непонятное для меня о выбрасывании в окошко и о провозглашении pereat (да погибнет!). По этому поводу хозяин сказал ему, что с молодыми экзальтированными душами бывает то же, что с сумасшедшими: открытое противодействие доводит их до еще большего безумия; если же привести их к сознанию их заблуждения, то они радикально излечиваются и никогда не возвращаются к прежнему.
– Ну, мейстер, – воскликнул наконец профессор, беря палку и шляпу, – что касается открытой силы против экзальтированных поступков, то вы согласитесь по крайней мере с тем, что она должна безжалостно вступать в свои права, когда эти поступки мешают жизни, а потому, возвращаясь к вашему коту, добавлю, что умные шпицы очень хорошо сделали, разогнав котов, которые зверски пели, да еще притом считали себя великими виртуозами.
– На это можно разно смотреть, – отвечал хозяин. – Если бы им предоставили петь, то, может быть, они и сделались бы тем, чем уже считали себя по заблуждению, то есть действительно превратились бы в хороших виртуозов, тогда как теперь они пока не знают настоящей виртуозности.
Тут профессор откланялся, и Понто побежал за ним, не удостоив меня даже прощальным поклоном, что он дружески делал прежде.
– Я и сам, Мур, был последнее время недоволен твоим поведением, – обратился ко мне хозяин, – пора тебе снова сделаться порядочным и разумным, чтобы заслужить лучшую репутацию, чем та, которой ты, по-видимому, пользуешься теперь. Если бы ты мог вполне меня понять, то я бы посоветовал тебе всегда быть приветливым и тихим и все предпринимаемое тобой совершать без всякого шума; таким образом всего легче заслужить добрую славу. В виде примера могу привести тебе двух людей, из которых один каждый день садится в укромный уголок и в тихом уединении выпивает одну бутылку вина за другой до тех пор, пока не дойдет до состояния полного опьянения, но посредством долгих практических упражнений он умеет, однако, так хорошо это скрывать, что никто об этом не подозревает. Другой же пьет изредка в обществе милых и веселых друзей; вино развязывает ему язык, он возбуждается и говорит много и горячо, не оскорбляя, однако, ни нравов, ни приличий, но именно его-то и называет свет страстным истребителем вина, тогда как тот, тайный пьяница, слывет за спокойного и умеренного человека. Ах, милый мой Мур, если бы ты знал свет, тебе бы ясно было, что филистер, постоянно протягивающий свои щупальцы, поступает лучше всех. Но как можешь ты знать, что такое «филистер», хотя и в твоей породе их, вероятно, довольно!
При этих словах хозяина я не мог удержаться от громкого и радостного чиханья и урчанья в сознании того совершенного знания котов, которое я приобрел как посредством уроков доброго Муциуса, так и личным своим опытом.
– Ага, Мур! – воскликнул со смехом хозяин. – Я, право, думаю, кот, что ты меня понимаешь. Пожалуй, профессор прав, подозревая в тебе особенный разум и боясь найти в тебе «эстетического» соперника.
Чтобы показать, что это действительно было так, я издал громкое и благозвучное «мяу» и без церемонии вскочил к хозяину на колени. Я не сообразил, что хозяин только что надел свой нарядный халат из желтого щелка с большими цветами и что я должен был запачкать его золой.
Сердито закричав: «Пошел вон!», хозяин так порывисто сбросил меня с себя, что я перекувыркнулся и, в страхе прижав уши и зажмурив глаза, скатился на пол.
Но каково же было добродушие моего хозяина!
– Ну-ну, – сказал он ласковым тоном, – я не хотел тебе зла, мой милый кот; я ведь знал, что у тебя были добрые намерения, – ты хотел показать мне свою привязанность, но сделал это глупым образом, а когда случается так, то уж никто не спрашивает про намерения. Ну, пойди сюда, мой маленький трубочист, нужно тебя почистить, чтобы ты снова принял вид порядочного кота.
Хозяин снял халат, взял меня на руки и не погнушался вычистить мою шкурку мягкой щеткой, а потом гладко причесать мне шерсть маленьким гребешком.
Когда туалет мой был кончен, и я начал гулять перед зеркалом, то я сам удивился тому, как я вдруг превратился в совершенно другого кота. Я не мог удержаться, чтобы не поурчать: так красив я себе показался, – и я не стану скрывать, что в эту минуту во мне зашевелились большие сомнения относительно необходимости и полезности клуба буршей. То, что я залез в печку, показалось мне сущим варварством, которое я мог приписать только какой-то одичалости, и мне совсем не нужно было предостережения хозяина, прикрикнувшего на меня:
– Не сметь больше залезать в печку!
На следующую ночь мне показалось, что я услышал за дверью легкое царапанье и громкое «мяу», которое было мне как будто знакомо. Я вскочил и спросил: «Кто там?» Мне ответил, как я сейчас же узнал по голосу, честный старшина Пуф:
– Это я, верный брат мой Мур, я должен сообщить тебе в высшей степени печальную новость.
– О боже, что…
(М. л.) – Я была очень неправа, моя милая, нежная подруга. Нет, ты для меня еще больше: моя верная сестра! Я мало тебя любила, мало тебе доверяла. Только теперь открою я тебе свое сердце, только теперь, когда я знаю…
Принцесса остановилась, из глаз ее брызнули потоки слез; она снова нежно прижала Юлию к сердцу.
– Гедвига, – мягко сказала Юлия, – разве ты прежде любила меня не всей душой? Разве у тебя были когда-нибудь тайны, которых ты не хотела мне доверить? Что ты узнала? Что ты теперь открыла? Но нет, нет! Ни слова больше до тех пор, пока снова твой пульс не начнет ровно биться и глаза твои не перестанут так мрачно гореть.
– Я не знаю, – сказала принцесса, внезапно приходя в раздражение, – чего вы все от меня хотите. Меня считают больной, а я никогда еще не чувствовала себя сильнее и здоровее. Вас напугал странный случай, бывший со мной, а между тем очень может быть, что эти электрические удары, приводящие в движение весь жизненный организм, мне необходимы; может быть, они полезнее всех средств, предлагаемых пустым и убогим искусством врачевания в его несчастном самообольщении. Как несносен мне этот лейб-медик, желающий управлять человеческой природой, точно перед ним часовой механизм, который можно вычистить и завести! Он наводит на меня ужас со своими каплями и эссенциями. И от этих вещей должно зависеть мое благо? Если так, то жизнь была бы страшной насмешкой над мировым разумом!
– Твое чрезмерное возбуждение как раз и показывает, что ты еще больна, милая Гедвига, – перебила принцессу Юлия, – и должна гораздо больше себя щадить, чем ты это делаешь.
– И ты хочешь терзать меня! – воскликнула принцесса. Порывисто вскочив, она подбежала к окну, открыла его и стала смотреть в парк.
Юлия последовала за ней, обняла ее одной рукой и с нежной грустью попросила ее хоть немного поберечься от резкого ветра и подумать о том покое, который лейб-медик считал для нее полезным. Принцесса отвечала ей, что именно эта холодная струя воздуха, идущая из окна, ее оживляет и укрепляет.
Тогда Юлия с глубоким чувством заговорила о недавнем прошлом, когда над ними властвовал какой-то грозный и мрачный дух, и о том, что нужно собрать все свои душевные силы, чтобы не поддаться этим событиям, вызывающим в ней чувство, которое можно сравнить только с смертельным страхом привидений. Сюда же относится и таинственное столкновение, происшедшее между принцем Гектором и Крейслером, заставляющее подозревать самые ужасные вещи, так как вполне очевидно, что бедный Иоганн мог пасть от руки мстительного итальянца и что он спасся только чудом, как уверяет мейстер Абрагам.
– И этот ужасный человек, – говорила Юлия, – должен был сделаться твоим мужем? Нет, никогда! Благодарение небу, ты спасена! Он не вернется. Никогда! Не правда ли, Гедвига? Ведь никогда?
– Никогда! – отвечала принцесса глухим, едва слышным голосом. Потом она глубоко вздохнула и заговорила тихо, точно во сне:
– Да, этот чистый небесный огонь должен только сиять и согревать, а не уничтожать губительным пламенем; из души художника сияет вызванная к жизни мечта, и она сама есть любовь! Так говорил ты здесь, на этом самом месте.
– Кто? – воскликнула пораженная Юлия. – Кто говорил это? О ком ты думаешь, Гедвига?
Принцесса провела рукой по лбу, как бы силясь вспомнить о настоящем. Потом она с помощью Юлии подошла к дивану и опустилась на него совершенно обессиленная. Обеспокоенная Юлия хотела позвать камеристок, но Гедвига мягко привлекла ее на диван и тихо прошептала:
– Нет, дорогая, ты должна остаться со мной; не думай, что я больна… Нет, это была только мысль о высочайшем блаженстве, сила которой хотела прорвать мою грудь, и небесный восторг принял вид убийственной боли. Останься со мной, милая девушка, ты сама не знаешь, какая удивительная волшебная власть у тебя надо мной! Дай я взгляну в твою душу, как в чистое, светлое зеркало, чтобы снова узнать себя самое! Юлия, мне часто кажется, что от тебя излучается небесное вдохновение, и слова из твоих нежных уст исходят как дыхание любви, как утешительное пророчество. Юлия, милая, останься со мной! Не оставляй меня никогда, никогда!..
Крепко держа Юлию за руки, принцесса вдруг упала навзничь с закрытыми глазами.
Как ни привыкла Юлия к минутам, когда Гедвига страдала от напряжения своего больного духа, но пароксизм, обнаружившийся теперь, показался ей совершенно непонятным и загадочным. Прежде оскорбляла в ней детские чувства страстная горечь принцессы, происходившая от несоответствия ее внутреннего чувства с жизнью и доходившая почти до ненависти. Теперь же Гедвига была, по-видимому, разбита скорбью и невыразимой печалью, и это безутешное состояние трогало Юлию. Жалость ее все увеличивалась по мере того, как возрастал страх за подругу.
– Гедвига, – воскликнула она, – о моя Гедвига! как могу я оставить тебя! Нет сердца, более преданного тебе, чем мое! Но только скажи же, скажи мне, доверься, какая мука терзает твою душу? И я буду с тобой скорбеть и плакать!
Тогда на лице Гедвиги появилась странная улыбка, нежная краска заиграла на ее щеках, и она прошептала, не открывая глаз:
– Не правда ли, Юлия, ведь ты не влюблена?
Смутное чувство охватило Юлию при этом вопросе принцессы: оно походило на жестокий страх.
В каком девичьем сердце не шевелится предчувствие страсти, которая составляет, по-видимому, главное условие женского существования, потому что только любящая женщина – настоящая женщина. Но чистая детская светлая душа заставляет дремать это предчувствие, не ища дальше и не желая в пустом любопытстве проникать в ту сладкую тайну, которая должна открыться только в минуту, обещанную нам невнятным стремлением. Так было и с Юлией, которая вдруг услышала то, о чем она не смела думать: в страхе, как бы застигнутая в каком-то неясном грехе, она силилась проникнуть в свою душу.
– Юлия, – повторила принцесса, – ты не любишь? Скажи мне, будь откровенна!
– Как странно, – ответила Юлия, – как странен твой вопрос; что могу, что должна я тебе ответить?
– Скажи же, скажи, – настаивала принцесса.
Солнечный свет проник в душу Юлии, и она нашла слова, чтобы выразить то, что она ясно увидела в своем сердце.
– Что за чувство руководит тобой, Гедвига? Зачем ты спрашиваешь меня об этом? – серьезно и твердо сказала Юлия. – О какой любви ты говоришь? Не правда ли, нужно чувствовать влечение к возлюбленному с такой непобедимой силой, чтобы только и жить мыслью о нем, чтобы отдать ему все свое «я», чтобы в нем одном было все наше стремление, надежда, желания, весь мир? И эта любовь должна достигнуть величайшей степени блаженства?.. У меня кружится голова от такой высоты, так как взор мой видит бездонную пропасть со всеми ужасами неизбежной гибели! Нет, Гедвига, такой любви, ужасной и греховной, мое сердце не знало, и я твердо верю, что оно всегда будет чисто и свободно от этого. Но случается также, что один мужчина из всех остальных вызывает в нас наибольшее уважение, и нас охватывает удивление перед огромной мужественной силой его духа. И даже более того: мы чувствуем, что в его присутствии в нас проникает какая-то сладкая, таинственная отрада, мы точно поднимаемся над самими собой, точно дух наш только тогда и пробуждается, и только тогда улыбается нам жизнь; мы бываем веселы, когда он является, и грустны, когда он уходит. Это ли зовешь ты любовью?.. Отчего же не признаться тебе, что исчезнувший Крейслер внушил мне такое чувство, и что я по нем горько тоскую?
– Юлия, – воскликнула принцесса, внезапно приподнимаясь и пронизывая ее горящим взором, – можешь ли ты представить его себе в объятиях другой, не чувствуя невыразимой муки?
Юлия покраснела и ответила тоном, показывающим, как сильно она была оскорблена:
– Никогда не представляла я себе его в моих объятиях.
– Ах, ты его не любишь, ты его не любишь! – воскликнула принцесса и снова упала на диван.
– О, – сказала Юлия, – о, если бы он вернулся! Невинно и чисто то чувство, которое питаю я к этому дорогому человеку, и если я никогда его не увижу, то мысль о нем незабвенном будет сиять в моей жизни чудной, светлой звездой. О, вероятно, он вернется! Иначе как же…
– Никогда, – прервала принцесса подругу резким, холодным тоном, – никогда не может и не должен он вернуться. Говорят, что он в канцгеймском аббатстве; он решил отказаться от мира в вступить в братство св. Бенедикта.
У Юлии навернулись на глазах слезы. Она молча встала и подошла к окну.
– Твоя мать права, – продолжала принцесса. – Да, она совершенно права! Хорошо, что исчез этот безумный, врывавшийся в нашу жизнь, как злой дух, и умевший так терзать наши души! Музыка была волшебным средством, которым он нас завлекал. Никогда больше не должна я его видеть.
Слова принцессы терзали Юлию, как удары кинжала; она схватила шляпу и шаль.
– Ты хочешь меня покинуть, мой нежный друг? – воскликнула принцесса. – Останься, останься! Утешь меня, если можешь! Над этими залами, над парком носится зловещий ужас! Узнай же…
И принцесса подвела Юлию к окну, показала на павильон, где жил прежде адъютант принца Гектора, и заговорила глухим голосом:
– Смотри, Юлия, эти стены скрывают ужасную тайну; кастелян и садовники уверяют, что с отъезда принца там никто не живет, что двери павильона крепко заперты, а между тем… О, смотри, смотри туда! Видишь там, в окне?
И действительно, Юлия увидала в окне, проделанном на фронтоне павильона, темную фигуру, которая в ту же минуту исчезла.
– Здесь, – сказала Юлия, чувствуя, как судорожно дрожала в ее руке рука Гедвиги, – нет никакой зловещей или необъяснимой тайны; наверное, кто-нибудь из слуг тайком пользуется пустым павильоном. Можно сейчас же обыскать павильон и узнать, откуда явилась фигура у окна.
Но принцесса ответила, что старый преданный кастелян давно уже сделал это по ее желанию и утверждает, что во всем павильоне нет никаких следов человека.
– Позволь мне рассказать тебе, что было здесь три ночи назад, – сказала принцесса. – Ты знаешь, что от меня часто бежит сон; тогда я встаю и до тех пор хожу по комнатам, пока мной не овладеет усталость, после чего я засыпаю. Случилось, что три ночи тому назад бессонница привела меня в эту комнату. Вдруг на стене задрожало отражение света; я взглянула в окно и увидала четырех человек; один из них нес глухой фонарь; они исчезли около павильона, но я не заметила, действительно ли они туда вошли. Вскоре осветилось это самое окно, и внутри замелькали тени. Потом снова стало темно, но вдруг через кусты засиял яркий свет, шедший, вероятно, из открытых дверей павильона. Свет все приближался, и наконец из кустов вышел бенедиктинский монах; он нес в правой руке факел, а в левой распятие. За ним шли четыре человека, неся на плечах гроб, завешенный черными покровами. Они прошли всего несколько шагов, и вдруг навстречу им выступила фигура, окутанная широким плащом. Они остановились, поставили на землю гроб. Человек, закутанный в плащ, снял покровы с гроба и открыл лицо мертвеца. Я едва не лишилась чувств, но все же видела, что люди подняли гроб и быстро пошли за монахом по узкой тропинке, которая выводит из парка на дорогу в Канцгеймское аббатство. С тех пор стала появляться в окне черная фигура, и, может быть, меня пугает призрак убитого.
Юлия склонна была счесть происшествие, рассказанное Гедвигой, за сон или за обманчивую игру расстроенного воображения. Кто же тот мертвец, которого вынесли при такой таинственной обстановке из павильона, где никого не было, и кто поверит, что этот неизвестный мертвец может являться в помещении, из которого его вынесли? Все это высказала Юлия принцессе и прибавила, что явление в окне можно приписать оптическому обману или же шутке старого мага – мейстера Абрагама, который нередко играет такими вещами и, может быть, превратил пустой павильон в место призраков.
– Ах, – улыбаясь сказала принцесса, к которой вернулось все ее самообладание, – как быстро находятся объяснения, когда дело идет о необыкновенном и сверхъестественном! Что же касается мертвеца, то ты забываешь о том, что случилось в парке, прежде чем нас оставил Крейслер.
– Боже мой! – воскликнула Юлия. – Неужели действительно совершилось ужасное дело? Но кто же и как?..
– Ты знаешь, – продолжала Гедвига, – ты ведь знаешь, что Крейслер жив. Но жив также и тот, кто в тебя влюблен. Не смотри же на меня с таким страхом! Разве ты раньше не подозревала? Я упоминаю об этом теперь для того, чтобы выяснить то, что могло бы тебя погубить, если бы это дольше скрывалось. Принц Гектор любит тебя, тебя, Юлия, – любит со всей дикой страстью, свойственной его нации. Я была и есть его невеста, а ты, Юлия, ты – его возлюбленная.
Последние слова принцесса произнесла особенным резким тоном, не придавая им, впрочем, выражения горечи.
– О праведное небо! – порывисто воскликнула Юлия, и из глаз ее брызнули слезы. – Гедвига, ты хочешь растерзать мое сердце! Какой мрачный дух вселился в тебя? Нет, нет, охотно снесу я, если ты, терзаемая злыми снами, хочешь вымещать все на мне несчастной, но никогда не поверю я в зловещего призрака! Гедвига, опомнись! Ты больше не невеста этого ужасного человека! Он явился нам как сама погибель! Он никогда не вернется, ты никогда не будешь ему принадлежать!
– Напротив, напротив! – возразила принцесса. – Опомнись ты, дитя! Только тогда, когда церковь соединит меня с принцем, быть может, кончится страшное недоразумение, делающее меня несчастной! Тебя спасает чудное предопределение неба. Мы разлучаемся, я следую за супругом, ты остаешься! – Принцесса смолкла, охваченная глубоким волнением; Юлия тоже не могла произнести ни слова; обе молча упали друг другу на грудь, обливаясь слезами.
Доложили, что подан чай. Юлия находилась в волнении, не свойственном ее спокойному и ясному нраву. Она не могла оставаться в обществе, и мать охотно позволила ей пойти домой, так как принцесса тоже нуждалась в покое.
На расспросы княгини фрейлен Нанетта ответила, что принцесса прекрасно чувствовала себя весь день и весь вечер, но пожелала остаться вдвоем с Юлией. Насколько она могла заметить, находясь в соседней комнате, принцесса и Юлия рассказывали друг другу разные истории, шутили и то смеялись, то плакали.
– Милые девушки! – тихо проговорил гофмаршал.
– Прелестная принцесса и милая девушка! – поправил князь, делая большие глаза на гофмаршала.
Испугавшись своей страшной ошибки, тот хотел разом проглотить кусок сухаря, размоченного в чае, но кусок застрял у него в глотке, гофмаршал разразился страшным кашлем и должен был оставить зал; он спасся от позорной смерти удавленника только тем, что находившийся поблизости гоффурьер исполнил на его спине своим опытным кулаком хорошо составленное соло для барабана.
После двух неловкостей, в которых он провинился, гофмаршал боялся сделать третью и потому не пожелал вернуться в зал, но просил извиниться за него перед князем, сославшись на внезапную болезнь.
За отсутствием гофмаршала расстроилась партия виста, в который обычно играл князь.
Когда приготовили игорные столы, все напряженно ждали, что сделает князь в этом критическом случае. Он же сделал только то, что, когда по его знаку остальные принялись за игру, взял руку советницы Бенцон, подвел ее к дивану и попросил сесть, причем сам поместился рядом.
– Мне было бы очень прискорбно, – сказал он тихим и мягким тоном, каким всегда говорил с Бенцон, – если бы гофмаршал подавился сухарем. Но, по-видимому, как я уже заметил, он сегодня рассеян; он назвал в конце концов девушкой принцессу Гедвигу и потому был бы невозможен в висте. Мне же именно сегодня, дорогая Бенцон, особенно желательно и приятно вместо игры перекинуться с вами, как прежде, в уединении несколькими словами. Ах да, как прежде! Вам одной известна моя привязанность к вам, дорогая! Она никогда не изгладится, княжеское сердце всегда останется верно вам, если только неотвратимые обстоятельства не потребуют иного.
При этих словах князь поцеловал у Бенцон руку гораздо нежнее, чем это допускалось, по-видимому, его положением, летами и обстановкой. Бенцон с горящими от радости глазами ответила, что она давно уже жаждала минуты по душе поговорить с князем, так как хотела сообщить ему многое, что не будет ему неприятно.
– Ваша светлость, – сказала Бенцон, – тайный советник посольства опять написал, что наше дело внезапно приняло более благоприятный оборот, что…
– Довольно, – перебил князь, – довольно, дражайшая, не будем заниматься государственными делами. Князья тоже надевают халаты и ночные колпаки, когда, почти изнемогая под бременем правления, отправляются на покой, хотя прусский король Фридрих Великий, как, вероятно, известно такой начитанной женщине, составлял исключение и даже в постели надевал войлочную шляпу. Я хочу сказать, что князья также имеют в себе слишком много того… ну, одним словом, как говорится, мещанских интересов, основанных на браке, отеческих радостях и т. д., и не могут вполне отрешиться от этих чувств. Поэтому по меньшей мере простительно, если они предаются им в те минуты, когда государство и заботы о надлежащем состоянии двора и страны не требуют всего их внимания. Добрейшая Бенцон, такова настоящая минута! В моем кабинете лежат семь готовых подписей; теперь же позвольте мне совершенно забыть о князе и дайте мне здесь, за чаем, побыть отцом семейства, немецким отцом семейства из баронов фон Гемминген. Позвольте мне поговорить о моих – да, о моих, – детях, которые причиняют мне столько горя, что я часто прихожу в совершенно неприличное расстройство чувств.
– Речь будет о ваших детях, ваша светлость, – спросила Бенцон резким тоном, – то есть о принце Игнатии и о принцессе Гедвиге? Говорите, говорите, ваша светлость! Может быть, я могу подать вам совет и утешение так же, как и мейстер Абрагам.
– Да, – продолжал князь, – совет и утешение, которые могут быть мне очень полезны. Знаете ли вы, добрейшая Бенцон, что я хочу сказать по поводу принца? Конечно, он не нуждается в особых дарах ума, которыми природа наделяет обыкновенно тех, кто по самому своему положению должен оставаться в тени, но немного побольше esprit (ума) ему не мешало бы иметь; он ведь есть и останется simple (простаком)! Посмотрите на него! Он сидит и болтает ногами, делает в игре ошибку за ошибкой, фыркает и смеется, как семилетний мальчик! Бенцон, entre nous soit dit[108], нет возможности передать ему искусство письма даже в самом необходимом размере: его княжеская подпись похожа на какие-то каракули. Праведное небо! Но что же из этого выйдет? Недавно еще помешал мне в моих занятиях страшный лай перед моим окном; я выглядываю из окна, чтобы велеть прогнать несносного шпица, и что же я вижу? Поверите ли, это был принц, который лаял, как сумасшедший, гоняясь за сыном садовника. Они вместе играли в зайца и собаку! Есть ли тут смысл, и княжеская ли это забава? Может ли принц проявить когда-нибудь хотя бы малейшую самостоятельность?
– Для этого нужно, – отвечала Бенцон, – чтобы принц как можно скорее женился и нашел бы жену, привлекательность, кротость и ясный разум которой пробудили бы его уснувшие чувства, и которая была бы настолько добра, чтобы могла вполне снизойти до него и привязать его к себе. Эти свойства необходимы в женщине, решившейся соединиться с принцем, чтобы спасти его от того состояния души, которое, – я говорю это с грустью, ваша светлость, – может перейти в конце концов в настоящее помешательство. Именно поэтому эти редкие качества должны быть оценены, и в данном случае не следует обращать слишком большое внимание на положение невесты в свете.
– Никогда, – сказал князь, хмуря брови, – никогда еще не было в нашем доме мезальянсов: оставьте эту мысль, я считаю ее невозможной. В остальном я всегда был, как и теперь, склонен исполнять ваши желания.
– Этого я не знала, ваша светлость, – резко сказала Бенцон. – Как часто должны были умолкать мои справедливые требования в силу химерических соображений! Но есть требования, перед которыми умолкает все остальное.
– Laissons cela![109] – перебил князь; затем он откашлялся и понюхал табаку. Немного помолчав, он продолжал: – Еще больше, чем принц, огорчает меня принцесса. Скажите, Бенцон, как могло случиться, что у нас родилась дочь с такими странными чувствами и с такой необычайной болезненностью, повергающей в удивление самого лейб-медика? Не отличалась ли всегда княгиня цветущим здоровьем, и была ли она когда-либо склонна к мистическим нервным припадкам? Что же касается меня, то я, кажется, всегда был силен духом и телом. Как могло случиться, чтобы наше дитя, – я должен в этом сознаться, к величайшему своему сожалению, – часто казалось мне совсем помешанным, лишенным всякого княжеского достоинства.
– Также и мне, – отвечала Бенцон, – совершенно непонятен организм принцессы. Мать была всегда ясна, разумна, лишена всякой порывистой страстности. – Последние слова проговорила Бенцон тихо и глухо, опустив глаза вниз.
– Вы хотите сказать княгиня? – спросил князь с ударением, так как ему казалось неприличным, что к слову «мать» не был прибавлен титул княгини.
– Про кого же другого могла я говорить? – натянуто отвечала Бенцон.
– Ах, – продолжал князь, – разве не показал мне последний роковой случай с принцессой, как напрасны были все мои старания и радость по случаю ее скорого замужества согласно моему желанию?.. Добрейшая Бенцон, entre nous soit dit, ведь последний каталепсический припадок принцессы, который я приписываю сильной простуде, был, по всей вероятности, достаточной причиной для внезапного отъезда принца Гектора. Он хочет разорвать, и – juste ciel![110] – я сам должен сознаться, что не могу его за это слишком винить, так что, если бы даже приличия не запрещали всякого дальнейшего сближения, то уже это одно должно удержать меня, князя, от новых шагов к исполнению желания, от которого я отказываюсь очень неохотно и единственно по необходимости. Вы должны согласиться со мной, дражайшая, что положительно страшно иметь жену, подверженную таким припадкам. Разве такая высокопоставленная каталепсическая супруга не может внезапно впасть в автоматическое состояние в присутствии самого блестящего двора и вынудить разных достойных особ подражать ей и оставаться неподвижными? Конечно, двор, одержимый общей каталепсией, должен представлять самое торжественное и возвышенное зрелище в мире, так как тут даже самые легкомысленные лица не могут не соблюсти требуемого достоинства. Но чувство, наполняющее меня в такие отеческие минуты, как настоящая, заставляет меня думать, что такое состояние невесты может возбуждать в высокопоставленном женихе леденящий ужас, и потому… Бенцон, вы такая отзывчивая и умная женщина, быть может, вы найдете возможность поправить дело с принцем, найти какое-нибудь средство?
– Оно не нужно, ваша светлость, – живо перебила князя Бенцон, – не болезнь принцессы так быстро оттолкнула принца, здесь есть другая тайна, и в ней замешан капельмейстер Крейслер.
– Как? – в удивлении воскликнул принц. – Как? что вы говорите, Бенцон? Капельмейстер Крейслер? Так, значит, правда, что он…
– Да, – продолжала Бенцон, – да, ваша светлость, столкновение между ним и принцем Гектором, которое принц пожелал ликвидировать, быть может, слишком героическим средством, – вот причина, заставившая удалиться принца Гек тора.
– Столкновение, – прервал князь Бенцон, – столкновение… ликвидировать… героическим средством!.. Выстрел в парке!.. окровавленная шляпа!.. Бенцон, но это невозможно: принц и капельмейстер!.. Дуэль, столкновение… и то и другое невероятно.
– Не подлежит сомнению, ваша светлость, – продолжала Бенцон, – что Крейслер слишком сильно подействовал на чувства принцессы, что тот необычайный страх, который она чувствовала сначала в его присутствии, обратился в гибельную страсть. Возможно, что принц был достаточно проницателен, чтобы это заметить, и что в Крейслере, с самого начала встретившем его с враждебной, насмешливой иронией, он нашел соперника, от которого решил отделаться, и так совершилось это дело, которое, конечно, можно извинить только вспышкой оскорбленного чувства чести и ревности. Благодарение небу, все кончилось лучше, чем можно было ожидать. Я признаю, что все это не объясняет быстрого отъезда принца, и что, как уже я говорила, здесь кроется еще какая-то смутная тайна. По словам Юлии, принц в ужасе бежал от портрета, который показал ему Крейслер… Но что бы там ни было, а Крейслер исчез, и кризис у принцессы прошел. Поверьте мне, ваша светлость, что если бы Крейслер остался, то в груди принцессы горела бы к нему сильнейшая страсть, и она скорее бы умерла, чем отдала свою руку принцу. Теперь же все принимает другой оборот: скоро вернется принц, и брак его с принцессой прекратит все ваши заботы.
– Скажите, пожалуйста, – сердито воскликнул князь, – какова дерзость этого гнусного музыканта! В него влюбляется принцесса и из-за него желает отказать в руке любезнейшему принцу! Ah, le coquin![111] Теперь я понимаю вас, мейстер Абрагам! Вы должны прогнать этого фатального человека так, чтобы он никогда больше не возвращался.
– Все меры, которые мог бы предложить мудрый мейстер Абрагам, – сказала советница, – будут совершенно излишни, так как случилось уже то, что всего желательнее: Крейслер находится в Канцгеймском аббатстве, и, судя по тому, что пишет мне аббат Хризостом, он, вероятно, откажется от мира и сделается монахом. Принцесса уже узнала это от меня в надлежащее время, и так как я не заметила в ней при этом никакого особенного волнения, то можно заключить, как я сказала, что опасный кризис прошел.
– Чудная, милая женщина, – заговорил князь, – какая забота о благе и счастье моего дома!
– В самом деле, – с горечью сказала Бенцон, – я делаю это? Разве я могу, разве я смею заботиться о счастье ваших детей?
Последним словам Бенцон придала особенное выражение, князь же молча смотрел вниз и играл большими пальцами сложенных рук. Наконец он тихо проговорил:
– Анджела! Все еще никаких следов? Совершенно исчезла?
– Да, – отвечала Бенцон, – и я боюсь, что несчастное дитя сделалось жертвой какой-нибудь низости. Ее, по слухам, видели в Венеции, но, очевидно, это ошибка. Согласитесь, ваша светлость, что было ужасно жестоко отрывать ваше дитя от материнской груди и посылать его в вечное изгнание! Эта рана, нанесенная мне вашей суровостью, никогда не перестанет у меня болеть!
– Бенцон, – сказал князь, – разве я не назначил вам и ребенку достаточного годового содержания? Что же я мог еще сделать? Не должен ли я был, если бы Анджела оставалась при нас, ежеминутно бояться, что откроются наши faiblesses (слабости) и неприличным образом нарушат покой двора? Вы знаете княгиню, добрая Бенцон! Вы знаете, что у нее часто бывают престранные фантазии.
– Итак, – отвечала Бенцон, – деньги и годовое содержание должны вознаградить мать за все ее страдания, муки и горькие жалобы о потерянном дитяти? Право же, ваша светлость, есть другой способ заботиться о своем ребенке, доставляющий матери больше радости, чем всякие деньги!
Эти слова Бенцон сказала с таким взглядом и таким тоном, которые немного смутили князя.
– Дражайшая, – начал он с замешательством, – зачем такие странные мысли? Разве вы не знаете, что мне также очень неприятно, очень прискорбно бесследное исчезновение нашей милой Анджелы? Из нее вышла, вероятно, очаровательная девушка, ведь она родилась от таких прелестных родителей.
Тут князь еще раз нежно поцеловал руку Бенцон, но советница, однако, быстро отдернула ее и зашептала князю на ухо с горящим, пронизывающим взором:
– Сознайтесь, ваша светлость, что вы были несправедливы и жестоки, когда настояли, чтобы ребенок был удален. Не ваш ли долг удовлетворить теперь желание, исполнение которого я, по своей доброте, считаю действительно некоторым вознаграждением за все мои страдания?
– Бенцон, – еще виноватее прежнего ответил князь, – чудная, добрая Бенцон, разве нельзя найти нашу Анджелу? Дорогая, я сделаю геройский шаг, чтобы исполнить ваше желание. Я доверюсь мейстеру Абрагаму и посоветуюсь с ним. Он опытный и умный человек; может быть, он нам поможет.
– О, – перебила Бенцон, – о мудрый мейстер Абрагам! Так вы думаете, ваша светлость, что мейстер Абрагам действительно расположен что-нибудь для вас сделать, что он предан вашему дому? Что может он сделать для Анджелы, когда все розыски в Венеции и во Флоренции оказались напрасными, и, что всего хуже, у него отнято таинственное средство, которым он прежде пользовался, чтобы узнавать неизвестное?
– Вы разумеете его жену, злую волшебницу Кьяру? – сказал князь.
– Еще очень сомнительно, – отвечала Бенцон, – заслуживает ли этого названия, быть может, только вдохновенная женщина, одаренная необыкновенными силами. Во всяком случае было несправедливо и бесчеловечно отнять у мейстера жену, которой он предан был всей душой, и которая составляла часть его «я».
– Бенцон, – воскликнул князь в совершенном испуге, – Бенцон, я вас сегодня не понимаю! У меня голова идет кругом! Разве вы не были сами за то, чтобы удалить опасное существо, посредством которого мейстер вскоре мог овладеть всеми нашими тайнами? Разве не вы послали эрцгерцогу мою бумагу, в которой я написал, что так как в стране давно уже запрещено всякое волшебство, то особы, которые занимаются делами такого рода, не должны быть терпимы и ради безопасности должны быть на время заключены в тюрьму? Ведь только ради того, чтобы пощадить мейстера Абрагама, не был начат открытый процесс против таинственной Кьяры, а ее без шума схватили и отправили, я и сам не знаю – куда, так как я больше об этом не заботился. В чем же можете вы меня теперь упрекнуть?
– Простите, – отвечала Бенцон, – простите, ваша светлость, но этот упрек касается слишком быстрого способа действия, и вы его действительно заслужили. Знайте же, ваша светлость, что мейстеру Абрагаму известно, что его Кьяра отправлена по вашему приказанию. Он спокоен и приветлив, но неужели вы думаете, что в душе его не кипят ненависть и мщение против того, кто отнял у него самое дорогое, что было у него на земле? И этому человеку хотели вы довериться и открыть ему свою душу?
– Бенцон, – сказал князь, отирая со лба капли пота, – Бенцон, вы расстраиваете меня ужасно, я хотел сказать – выше всякого описания! Милосердный боже! Может ли князь до такой степени выйти из себя? Черт возьми! Ах, боже мой! Я, кажется, бранюсь сегодня, как солдат! Бенцон, отчего вы не говорили этого раньше? Он все уже знает! В рыбачьем домике, когда я был совершенно вне себя под влиянием припадка принцессы, я излил ему все свое сердце. Я говорил об Анджеле, я открылся ему, Бенцон! Это ужасно! J’étais – un[112] – осел! Voilà tout![113]
– И он ответил? – натянуто спросила Бенцон.
– Кажется, – продолжал князь. – Да, мейстер Абрагам как будто говорил о нашей прежней привязанности и о том, каким счастливым отцом мог бы я быть, тогда как теперь я несчастлив. Но одно несомненно: когда я окончил мои признанья, он сказал, улыбаясь, что давно уже это знал и что, быть может, очень скоро будет известно, где находится Анджела. Тогда исчезнут многие мечты и устранятся многие заблуждения.
– Это сказал мейстер? – дрожащими губами произнесла Бенцон.
– Sur mon honneur[114], – ответил князь, – он сказал именно это. Тысяча проклятий! Извините, Бенцон, но я рассержен; а что если старик захочет мне мстить? Бенцон, que faire?[115]
Князь и Бенцон молча смотрели друг на друга.
– Светлейший князь, – тихо прошептал камер-лакей, поднося князю чай.
– Bête![116] – закричал князь, порывисто вскакивая и выбивая этим движением из рук лакея поднос вместе с поставленной на нем чашкой.
Все в ужасе повскакали из-за карточных столов. Игра была кончена; князь, с трудом сдерживая себя, с приветливой улыбкой бросил испуганному обществу «Adieu!» и удалился с княгиней во внутренние покои. Тем не менее на всех лицах можно было ясно прочесть: «Боже мой, что это значит! Князь не играл, долгой горячо говорил с советницей и пришел потом в такой страшный гнев!»
Но Бенцон не могла даже и подозревать, что ожидало ее на ее квартире, находившейся в боковом здании, прилегавшем к дворцу. Как только она вошла, навстречу ей бросилась Юлия, совершенно вне себя, и… Но биограф очень рад: на этот раз он может рассказать, что случилось с Юлией во время княжеского чая, гораздо лучше и яснее, чем многие другие факты доселе несколько спутанного рассказа.
Итак, мы знаем, что Юлии было позволено вернуться домой раньше. Лейб-егерь освещал ей дорогу факелом. Но едва только отошли они на несколько шагов от дворца, как лейб-егерь вдруг остановился и высоко поднял факел.
– Что там такое? – спросила Юлия.
– Эге, – отвечал лейб-егерь, – заметили ли вы, фрейлен Юлия, фигуру, которая быстро промелькнула мимо нас? Не знаю, что и думать, а только вот уже несколько вечеров, как шныряет здесь человек, который так прячется, что, верно, у него на уме что-нибудь недоброе. Мы уж его выслеживали на все лады, но он проскальзывает у нас меж рук и пропадает из глаз, как какое-то привидение или как сам нечистый, с нами крестная сила!
Юлия вспомнила о черной фигуре в окне павильона и почувствовала страх.
– Скорее вперед, вперед! – закричала она егерю, который сказал ей, смеясь, что милой барышне нечего бояться, так как прежде, чем что-нибудь с ней случится, привидение должно ему сломать шею, – да кроме того у неизвестного, появляющегося в окрестностях дворца, такое же точно тело с ногами, как у других честных людей, и притом он – трус, боится света.
Юлия отослала спать свою девушку, которая жаловалась на лихорадку и головную боль, и без ее помощи надела ночной наряд.
Когда она осталась одна в своей комнате, в душе ее еще раз прошло все то, что говорила ей Гедвига в таком состоянии, которое Юлия желала бы приписать только ее болезненному возбуждению. Но все же было очевидно, что болезненное возбуждение имело свои особые психические причины. Девушки с такими чистыми и нетронутыми чувствами, как Юлия, редко произносят верные суждения в таких запутанных случаях. Так и Юлия, еще раз перебравши все в своем уме, решила, что Гедвига одержима той самой ужасающей страстью, которую она сама под влиянием предчувствия так страшно ей описала, и что принц Гектор был тот мужчина, которому она отдала все свое сердце.
– И потом, – заключила она, – уже бог знает – как, явилась у Гедвиги безумная мысль, что принц занят другой любовью. Эта мысль мучила ее как ужасный, вечно преследующий призрак, и оттого произошло ее болезненное душевное расстройство.
– Ах, дорогая моя Гедвига, – сказала Юлия самой себе, – как только вернется принц Гектор, ты сейчас же убедишься, что тебе нечего бояться подруги! – Но в ту минуту, как Юлия прошептала эти слова, мысль, что принц ее любит, так ясно заговорила в ее душе, что она испугалась ее силы и жизненности и почувствовала неописуемый страх. Ее пронизало сознание, что, быть может, и права принцесса, и тогда погибель ее, Юлии, несомненна. То странное впечатление, которое произвели на нее взгляд принца и все его существо, снова пришло ей на память, и трепет ужаса опять пробежал по всем ее членам. Она вспомнила тот момент на мосту, когда принц кормил лебедя, обхвативши ее рукой, и все замысловатые слова, которые он тогда говорил, – и, как ни невинно представлялось ей тогда все происходившее, те же слова показались ей теперь полными глубокого смысла. Она вспомнила также и о роковом сне, когда она чувствовала себя охваченной железной рукой; тот, кто держал ее так крепко, был принц; вспомнила, как, проснувшись, она увидала в саду капельмейстера, как вся его душа сделалась ей ясна, и она подумала, что он защитит ее от принца.
– Нет, – громко воскликнула Юлия, – это не так! Этого не может быть, это невозможно! Сам злой дух поселил во мне бедной эти греховные сомнения! Нет, он не может иметь надо мною власти!..
Вместе с мыслью о принце и о той опасной минуте в душе Юлии шевельнулось чувство, угрожающий характер которого выразился только в том, что оно возбудило в ней стыд, заливший ее щеки краской и вызвавший на глазах слезы. Хорошо, что кроткая, чистая Юлия обладала достаточной силой, чтобы отогнать злого духа и не допустить его до границы, где бы он мог утвердиться. Здесь нужно еще раз заметить, что принц Гектор был самый красивый и любезный мужчина, какого только можно себе представить, что его искусство нравиться было основано на глубоком знании женщин, которое он приобрел в течение жизни, полной счастливых приключений, и что молодая, неопытная девушка могла быть испугана победоносной силой его существа.
– О Иоганн, – сказала она нежно, – о дорогой, добрый друг мой, неужели не найду я в тебе защиты, которую ты мне обещал? Неужели не можешь ты сам, утешая, говорить со мной небесными звуками, которые вечно раздаются в моей душе?
Тут Юлия открыла фортепиано и начала играть и петь те произведения Крейслера, которые она любила больше всего. И в самом деле, вскоре она почувствовала себя утешенной и развеселилась. Пение перенесло ее в другой мир: для нее не существовали больше ни принц, ни Гедвига, болезненные фантазии которой смущали ее.
– Ну еще мою любимую канцонетту! – сказала Юлия и запела слова, положенные на музыку многими композиторами: «Mi lagnerà tacendo»[117] и т. д.
И в самом деле Крейслеру особенно удалась эта песня. Сладостная печаль страстной любовной тоски была выражена в простой мелодии с силой, которая непреодолимо трогала всякое чувствительное сердце. Юлия кончила и, вся погруженная в думу о Крейслере, взяла еще несколько аккордов, как бы служивших отголосками ее внутренних чувств. Вдруг отворилась дверь, Юлия оглянулась, и, прежде чем она успела встать, принц Гектор уже лежал у ее ног, крепко схватив ее руки. Она громко закричала от страха, но принц заклинал ее пречистой девой и всеми святыми, быть спокойной и только на две минуты подарить ему небесную радость: лицезреть ее, Юлию, и слушать ее речи. Затем он заговорил в выражениях, обличавших безумие бешеной страсти: он говорил, что ее одну он боготворит, что мысль о браке с Гедвигой для него ужасна, убийственна, что он хотел бежать, но, привлеченный назад силой страсти, которая исчезнет только с его смертью, вернулся, чтобы видеть и говорить с Юлией и сказать ей, что в ней одной его жизнь, его счастье, все, все!
– Уйдите, – в смертельном страхе воскликнула Юлия, – уйдите! Вы меня убиваете, принц!
– Никогда, – воскликнул принц, в страстном порыве прижимая к устам руки Юлии, – никогда! Эта минута принесет мне жизнь или смерть! Юлия! Небесное дитя! Можешь ли ты оттолкнуть меня, когда в тебе вся моя жизнь, все мое блаженство? Нет, Юлия, ты любишь меня! Я знаю это! О, скажи же, что ты меня любишь, и передо мной откроется небо неизреченного блаженства!
Принц обнял Юлию, почти лишившуюся чувств от ужаса, и порывисто прижал ее к груди.
– Горе мне, – изнемогающим голосом воскликнула Юлия, – горе мне! Неужели никто надо мной не сжалится?
Вдруг окна осветились блеском факелов, и за дверьми послышались голоса. Юлия почувствовала, что ее уста обжег пламенный поцелуй, и затем принц быстро скрылся.
Итак, Юлия, как уже было сказано, совершенно вне себя бросилась навстречу входившей матери и с ужасом передала ей все, что случилось. Та начала с того, что, как могла, утешила бедную Юлию, уверив ее, что, к стыду принца, она откроет то убежище, где он находится.
– О, не делай этого! – сказала Юлия. – Я не знаю, что со мной будет, если узнают об этом князь и Гедвига…
Она, рыдая, спрятала лицо на груди матери.
– Ты права, – отвечала советница, – ты права, мое доброе, милое дитя. Пока никто не должен ни знать, ни подозревать, что принц находится здесь и преследует тебя, мою милую, кроткую Юлию! Заговорщики должны молчать! А что есть такие, которые в союзе с принцем, в этом не может быть сомненья: только с их помощью и мог он скрываться в Зигхартсгсфе и прокрасться в нашу квартиру. Непонятно, как это мог принц скрыться из дома, не встретив меня и Фридриха, который мне светил. Старого Георга нашли мы в глубоком, неестественном сне; а где же Нанни?
– Ах, боже мой, – прошептала Юлия, – к несчастью, она больна, и я должна была ее отпустить.
– Может быть, я ее вылечу, – сказала Бенцон и быстро открыла дверь в соседнюю комнату. Там стояла больная Нанни, причесанная и одетая: она подслушивала и теперь в ужасе упала к ногам Бенцон.
Нескольких вопросов советницы было достаточно, чтобы узнать, что принц через старого кастеляна, считавшегося таким преданным слугой…
(М. пр.) …должен я был узнать! Муциус, мой верный друг, мой дорогой брат, умер от несчастного случая с задней ногой. Печальная весть сильно меня огорчила; только теперь почувствовал я, чем был для меня Муциус. В следующую ночь, как сказала мне Пуф, в погребе того дома, где жил мейстер и куда перенесли тело, будет погребальное торжество. Я обещал не только явиться в назначенное время, но позаботиться о еде и питье, чтобы устроить погребальный пир, как принято по старинному благородному обычаю. Я действительно позаботился об этом, целый день перетаскивая свой богатый запас из рыбы, куриных костей и зелени. Для читателей, желающих узнать, как это было сделано и как могло случиться, что я перенес питье, я замечу, что мне без особых трудов помогла в этом одна приветливая служанка. Эта служанка, которую я привык часто встречать в погребе и посещать в ее кухне, по-видимому, особенно расположена была к нашей породе и в особенности ко мне, так что мы не могли встретиться, не поигравши друг с другом самым приятным образом. Она давала мне разные кусочки, которые были, положим, хуже тех, что я получал от хозяина, но все же я съедал их, причем часто из любезности делал вид, что они мне очень нравятся. Это очень трогало сердце служанки, и потому она делала то, что мне было нужно. Я вскакивал к ней на колени, и она так нежно чесала мне за ухом, что я испытывал упоительное блаженство и очень привык к руке, которая «по будням кухню подметает, а в праздник лучше всех ласкает». К этой-то милой особе подошел я в ту минуту, когда она хотела унести из погреба, где я был в то время, большой горшок молока, и выразил понятным для нее способом живейшее желание получить это молоко для себя. «Глупый Мур, – сказала девушка, знавшая мое имя, как и все в доме и по соседству, – ты, верно, не для себя одного захотел молока, а будешь потчевать и других. Ну, бери молоко, серая шкурка, я возьму наверху другое!» Она поставила молоко на землю, пощекотала меня немного по спине, причем я самым милым кувырканием выразил ей свою радость и благодарность, и пошла из погреба вверх по лестнице.
Заметь, о юноша-кот, что знакомство и даже дружеские, сердечные отношения с приветливой кухаркой бывают так же приятны, как и полезны для молодых людей нашего положения и нашей породы.
В полночь я отправился в погреб. О, печальный, раздирающий душу вид! Посредине, на катафалке, состоявшем из кучи соломы, что соответствовало, конечно, простоте вкусов покойного, лежало тело дорогого, любимого друга!.. Все коты были уже в сборе; мы молча пожали друг другу лапы, со слезами на глазах сели вокруг катафалка и запели жалобную песню, леденящие душу звуки которой мрачно раздавались под сводами погреба. Это была самая ужасная, безутешная скорбь, когда-либо слышанная в мире; человеческий орган неспособен произвести ничего подобного. Когда кончилось пение, вышел вперед очень красивый юноша в черной с белом одежде, стал у изголовья покойного и начал следующую речь, которую он дал мне потом в письменном виде, хотя и говорил ее наизусть.
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ,
СКАЗАННАЯ НА МОГИЛЕ БЕЗВРЕМЕННО ПОГИБШЕГО КОТА МУЦИУСА, ИЗУЧАВШЕГО ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ, СОЧИНЕННАЯ ЕГО ВЕРНЫМ ДРУГОМ И БРАТОМ
КОТОМ ГИНЦМАНОМ,
ИЗУЧАЮЩИМ ПОЭЗИЮ И КРАСНОРЕЧИЕ
– Дорогие братья, удрученные скорбию! Великодушные, смелые бурши! Что такое кот? – Разрушающийся, бренный предмет, как и все рожденное на земле! Если верно, как утверждают знаменитые физиологи и врачи, что смерть, которой подвержены все твари, состоит главным образом в полном прекращении дыхания, – о, тогда дорогой друг и достойный брат наш, этот храбрый союзник в го́ре и в радости, о, тогда благородный наш Муциус действительно мертв! Смотрите! Вот лежит он, благородный, на холодной соломе, распластав все четыре лапы! Ни малейшая струя дыхания не вылетает из навеки сомкнутых уст! Закрылись глаза, то сиявшие прежде переливами зеленого золота, то сверкавшие нежным любовным огнем, то блиставшие губительным гневом! Смертельная бледность разлита по его лицу, уши сонно поникли, хвост повис! О брат мой Муциус, где твои резвые прыжки, твоя веселость, твой светлый нрав, твое ясное радостное «мяу», веселившее все сердца, твои мужество, стойкость, твои ум и шутки? Все, все похитила злая смерть, и теперь ты, быть может, даже не знаешь, жил ли ты на свете. А между тем ты был сама сила, само здоровье, не поддававшееся никакой телесной боли, – и казалось – будешь жить вечно! Ни одно колесо твоего внутреннего механизма не было попорчено, и ангел смерти не замахивался мечом своим над твоей головой, когда механизм остановился, чтобы никогда больше не быть пущенным в ход! Нет, враждебное начало насильственно ворвалось в организм и дерзостно повредило то, что еще долго могло бы служить. Да, еще часто могли бы приветливо сиять эти глаза, часто могли бы раздаваться из этих уст и вырываться из этой застывшей груди веселые речи и песни, часто мог бы извиваться в волнистых линиях этот хвост, выражая веселый нрав и внутреннюю силу, не раз доказали бы еще эти лапы силу и ловкость смелыми прыжками, и вот… О, может ли допускать природа, чтобы то, что она созидала с трудом и на долгое время, было безвременно разрушено? Или в самом деле существует мрачный дух, называемый случаем, в деспотически дерзком своеволии врывающийся в движения, которые обусловливают, по-видимому, всякое существование сообразно вечному принципу природы?.. О, если бы мог умерший ответить на это опечаленному, но живому собранию!..
Достойные слушатели и дорогие братья, не будем, однако, останавливаться на таких глубокомысленных соображениях, но предадимся печали о безвременно утраченном друге Муциусе! Принято, чтобы произносящий надгробную речь сообщал присутствующим полную биографию покойного со всеми похвальными случаями и примечаниями, и этот обычай очень хорош, так как таким сообщением можно возбудить скуку даже и в наиболее огорченных слушателях, а эта скука, по опыту и наблюдениям достойнейших психологов, наиболее препятствует всякой печали, и, следовательно, оратор исполняет таким образом одновременно два долга: оказывает должную честь усопшему и утешает оставшихся. Мы знаем примеры, и они вполне естественны, когда наиболее удрученные горем уходили довольными и веселыми после такой речи; они так радовались избавлению от муки таких речей, что забывали даже о потере усопшего.
Дорогие братья, как охотно последовал бы я этому похвальному и достойному обычаю, как охотно сообщил бы я вам полную биографию умершего друга и брата и превратил бы вас из огорченных котов в довольных, но – увы! Это невозможно, это положительно невозможно! Дело в том, дорогие возлюбленные братья, что я почти ничего не знаю ни о начале жизни усопшего – о его рождении и воспитании, ни о событиях его юности, так что мне пришлось бы выдумывать по этому поводу сущие басни, что было бы неприлично в присутствии тела усопшего и в таком торжественном собрании.
Но не печальтесь, бурши! Вместо скучной длительной речи я расскажу в коротких словах, какой постыдный конец выпал на долю бедняги, который лежит здесь перед нами неподвижный и мертвый, и какой смышленый и славный малый был он при жизни. Но, боже мой, я сбился с тона и забыл о красноречии, несмотря на то, что я его изучаю и, если угодно будет судьбе, надеюсь сделаться professor poësiae et eloquentiae![118]
(Здесь Гинцман смолк, провел правой лапой по ушам, лбу, носу и бороде, долго, не отрываясь, смотрел на мертвое тело, потом откашлялся, еще раз провел лапой по морде и заговорил возвышенным тоном.)
– О злая судьба! О жестокая смерть, как могла ты так жестоко похитить во цвете лет усопшего юношу?.. Братья, оратор обязан до тех пор говорить слушателям то, что им уже известно, пока не надоест им; поэтому я повторяю то, что вы все уже знаете, то есть, что лежащий здесь брат наш пал жертвой яростной ненависти филистеров-шпицев.
Туда, на ту самую крышу, где мы когда-то наслаждались покоем и радостью, где раздавались веселые песни, где, сидя лапа с лапой и грудь с грудью, составляли мы одну душу и одно сердце, хотел он пробраться, чтобы в тихом уединении отпраздновать со старшиной Пуфом память тех прекрасных дней, настоящих дней в Аранхуэсе, которые уже миновали[119]. Тогда филистеры-шпицы, которые желали расстроить всякое возникновение нашего веселого кошачьего союза, поставили западни в темный угол чердака, в одну из них и попал несчастный Муциус; она придавила ему заднюю лапу, и он умер! Болезненны и опасны бывают раны, наносимые филистерами, так как они пользуются тупым и зазубренным оружием; однако сильный и крепкий по природе организм пострадавшего мог бы поправиться, несмотря на страшное повреждение, но стыд, жестокий стыд быть искалеченным гнусными шпицами, быть остановленным в блестящем течении своей прекрасной жизни, непрестанная мысль о позоре, который нанесен был нам всем, – вот что сократило его жизнь. Он не пользовался надлежащими перевязками, не принимал лекарств; говорят, он хотел умереть!
(При последних словах Гинцмана я и все мы почувствовали жестокую скорбь и разразились таким жалобным воем и криком, что могли бы тронуть скалу. Когда же мы настолько успокоились, что могли слушать, Гинцман продолжал с пафосом.)
– О Муциус, взгляни! Взгляни на слезы, которые мы о тебе проливаем, услышь безутешные стоны, которые раздаются над тобою, усопший кот!.. Да, взгляни на нас снизу или сверху, как удобней тебе теперь! Да будет дух твой с нами, если есть у тебя вообще дух, и если тот, который в тебе обитал, не направлен уже на другое!
Братья! Как уже сказано выше, я удержу свой язык от передачи биографии покойного, так как я ничего о нем не знаю, но тем живее остались у меня в памяти прекраснейшие качества усопшего, и их-то выставлю я перед вашим носом, дорогие, любезные друзья мои, чтобы вы могли вполне почувствовать ужасную потерю, которую понесли вы со смертью этого чудесного кота! Узнайте же, юноши, склонные никогда не отступать от стези добродетели, узнайте! Муциус был тем, чем были немногие в жизни: он был достойный член кошачьего общества, добрый и верный супруг, прекрасный, любящий отец, ревностный поборник правды и справедливости, неутомимый благодетель, опора бедняков и верный друг в нужде! Достойный член кошачьего общества! Да! Потому что он всегда обнаруживал самое лучшее направление и был даже склонен к некоторому самопожертвованию, когда случалось то, чего он хотел, и враждовал исключительно с теми, кто ему противоречил и не подчинялся его воле. Добрый, верный супруг! Да! Потому что он волочился за другими кошками только тогда, когда они были моложе и красивее его супруги и когда его влекло к этому непреодолимое желание. Прекраснейший, любящий отец! Да! Потому что никогда не случалось, чтобы он, как то случается иногда с дикими и бессердечными отцами нашей породы, в припадке особого аппетита пообедал одним из своих детенышей, – и это было ему тем более легко, что мать уносила их всех вместе, так что он ничего не знал о месте их пребывания.
Ревностный поборник правды и справедливости! Да! Потому что он положил бы свою жизнь за то, о чем он при жизни не много заботился, чего нельзя ему ставить в вину. Неутомимый благодетель и опора бедняков! Да! Так как из года в год приносил он в день Нового года на двор селедочный хвостик и две-три тоненьких косточки для бедных братьев, нуждавшихся в пище; таким образом он вполне исполнял свой долг как верный друг бедных и, конечно, мог сердито ворчать на тех требовательных котов, которые желали от него еще чего-то.
Верный друг в нужде! Да! Потому что, когда он попадал в нужду, он никогда не отставал от тех друзей, которых раньше совершенно забыл и забросил. Усопший друг, что должен сказать я еще о твоем геройстве, высоком понимании всего благородного и прекрасного, о твоей учености, культивировании искусств и о тысяче добродетелей, которые в тебе соединялись? Что мне сказать, говорю я, не увеличивая справедливой скорби о твоем исчезновении? Друзья, растроганные братья, по некоторым недвусмысленным движениям я заметил, к немалому своему удовольствию, что я вас растрогал!
Итак, растроганные братья, будем брать пример с усопшего, будем напрягать все свои силы, чтобы неотступно идти по его достойным стопам, будем вполне тем, чем был он, и мы так же будем наслаждаться в смерти покоем истинно мудрого и известного всеми добродетелями кота, как этот совершенный!
Смотрите, как спокойно лежит он! Ни одна лапа не двигается, и все мои похвалы его совершенствам не вызывают на устах его ни малейшей улыбки удовольствия! Поверьте мне, опечаленные братья, что самое горькое порицание и самые грубые и оскорбительные издевательства также не произвели бы на покойного никакого впечатления. Подумайте только, что если бы даже появился в нашем кругу демонический филистер-шпиц, которому он прежде неминуемо выцарапал бы оба глаза, друг наш Муциус теперь нисколько не рассердился бы, и его покой не был бы нарушен!
Выше хвалы и порицания, выше всякой вражды, подшучиваний, задирающей насмешки, выше всякой житейской суеты поднялся наш дивный Муциус; нет у него ни приветливой улыбки, ни горячего объятия, ни крепкого пожатия лапы для друга, но нет также и когтей, и зубов против врагов! Посредством добродетелей достиг он того покоя, к которому напрасно стремился в жизни. Мне, впрочем, приходит на ум, что все мы, собравшиеся здесь оплакивать друга, тоже успокоимся, не будучи, однако, таким соединением добродетелей, каким был он, и что может существовать и другой мотив быть добродетельным, кроме стремления к этому покою, но эту мысль предоставляю я вам для дальнейшей разработки. Я хотел только вселить в ваши сердца желание вести вашу жизнь таким образом, чтобы научиться прекрасно умирать, как брат Муциус, но я лучше не буду этого делать, так как вы можете сделать мне на это много возражений. Вы, вероятно, поставите мне на вид то, что покойный должен был также научиться быть осторожным и не попадаться в западни, чтобы не умереть слишком рано. На это я замечу, как некий очень юный кошачий отрок, довольно остроумно ответивший на подобное же замечание учителя, сказавшего, что кот должен употребить всю свою жизнь на то, чтобы научиться умирать: «Это, верно, не так уж трудно, потому что всем удается!» Теперь же, глубокоопечаленные юноши, посвятим несколько минут спокойному созерцанию!..»
Гинцман смолк и снова начал водить правой лапой по ушам и по морде; потом он, по-видимому, погрузился в глубокое раздумье и зажмурил глаза. Наконец, когда он просидел так очень уж долго, старшина Пуф взял его за плечо и тихо сказал:
– Гинцман, ты, кажется, заснул? Пожалуйста, поторопись с твоей речью, мы все отчаянно голодны.
Гинцман поднялся, снова стал в изящную ораторскую позу и продолжал:
– Дорогие братья, я надеялся выразить еще какую-нибудь возвышенную мысль и блестяще закончить настоящую речь, но мне не удалось это: вероятно, великая скорбь, которую я старался испытывать, сделала меня несколько глупым. Пусть же будет считаться оконченной моя речь, которой вы не можете отказать в полном успехе, и споем теперь обычное De или Ex profundis![120]
Так закончил благовоспитанный юный кот свою надгробную речь, которая произвела, по-видимому, хорошее впечатление; я нашел, что она хорошо составлена в риторическом отношении, хотя я бы многое из нее выпустил. Мне показалось, что Гинцман говорил больше для того, чтобы выказать свой блестящий ораторский талант, чем из желания почтить бедного Муциуса после его печального конца. Все, что он сказал, вовсе не подходило к другу Муциусу, который был простым прямодушным котом с доброй и верной душой, как я не раз убеждался. Кроме того, похвалы, расточаемые Гинцманом, были двусмысленного свойства, так что, собственно говоря, речь мне не понравилась, и во время чтения на меня произвели впечатление только личное обаяние оратора и его действительно выразительная декламация. Старшина Пуф был, по-видимому, того же мнения: мы обменялись взглядами, показавшими, что мы согласны относительно речи Гинцмана.
По окончании речи мы запели De profundis, которое звучало еще жалобнее и раздирательнее, чем ужасная надгробная песнь до речи. Известно, что певцы нашей породы выражают с необыкновенной силой глубокую печаль и безутешнее горе, раздаются ли эти жалобы по поводу тоскующей и поруганной любви или над дорогим умершим, так что даже холодные, бесчувственные люди бывают сильно потрясены этим пением, и их стесненная грудь облегчается только странными проклятиями. Окончив De profundis, мы подняли тело усопшего брата и положили его в глубокую могилу, находившуюся в углу погреба.
Но в эту минуту произошел самый неожиданный и вместе с тем приятно волнующий эпизод из всего погребального торжества. Три кошечки, прекрасные, как день, выскочили вперед и стали бросать в открытую могилу ботву от картофеля и петрушки, которую они нашли в погребе, причем старшая пела простую, задушевную песню; мелодия была мне знакома. Если я не ошибаюсь, оригинальный текст песни, с которой взят был мотив, начинается словами: «О елочка, зеленая!» и т. д. Старшина Пуф сказал мне на ухо, что это дочери покойного Муциуса, которые почтили таким образом погребальное торжество отца.
Я не мог оторвать глаз от певицы. Она была прелестна; звук ее нежного голоса и волнующая, глубоко прочувствованная мелодия совершенно меня потрясли: я не мог удержаться от слез. Но скорбь, которая их исторгала, была престранного свойства, так как она была полна сладчайшей отрады.
Я выскажусь прямо: вся моя душа устремилась к певице; мне казалось, что никогда еще не видел я кошки с таким обаянием, с таким благородством в осанке и во взгляде – словом, такой победоносной красоты.
Могила была с трудом засыпана четырьмя сильными котами, которые старались набросать в нее как можно больше песку и земли; похороны кончились, и мы пошли к столу. Прекрасные дочери Муциуса хотели удалиться, но мы этого не допустили: они должны были принять участие в погребальной трапезе, и я так ловко устроил, что повел к столу самую красивую и сел около нее. Если раньше меня поразила ее красота и очаровал ее нежный голос, то теперь, узнав, какой у нее светлый, ясный разум, постигнув глубину и нежность ее чувств, чистоту всего ее женственного, кроткого существа, сиявшую из ее души, я дошел до высшего, небесного восторга. В ее устах все получало какое-то волшебное очарование, ее разговор походил на нежную, милую идиллию. Так, например, она с горячностью рассказывала о молочной каше, которую она кушала не без аппетита за несколько дней до смерти отца; когда же я сказал ей, что у моего хозяина приготовляют эту кашу необыкновенно хорошо, да еще с большим прибавлением масла, то она взглянула на меня своими невинными зелено-лучистыми голубиными глазами и спросила тоном, взволновавшим меня до глубины души: «О, правда, в самом деле? Вы тоже любите молочную кашу?.. С маслом!» – повторила она затем, как бы теряясь в мечтательных грезах. Кто же не знает, что ничто так не красит прекрасную, цветущую девушку от шести до восьми месяцев (прелестной было не больше этого), как маленький оттенок мечтательности, и что в это время они бывают нередко неотразимы. Поэтому и случилось, что, воспылавши любовью, я порывисто схватил лапу прекрасной и громко воскликнул: «Небесное дитя, кушай со мной по утрам кашу, и нет блаженства в жизни, на которое я променял бы свое счастье!» Она казалась смущенной; краснея, опустила глазки, но не отдернула лапки, что пробудило во мне самые чудные надежды. Я слышал однажды, как один старый господин, если я не ошибаюсь – адвокат, говорил моему хозяину, что для молодой девушки очень опасно долго оставлять свою руку в руке мужчины, так как тот может справедливо принять это за «traditio brevi manu»[121] всей ее особы и основать на этом всевозможные претензии, которые потом с трудом нужно отклонять. Я возымел большую охоту к этим претензиям и только что хотел об этом заговорить, как разговор наш был прерван возлиянием в честь умершего. Между тем три молоденькие дочки покойного Муциуса выказали веселый нрав и шаловливую наивность, восхитившие всех котов. Значительно рассеяв свою печаль и скорбь питьем и едою, общество делалось все живее и веселее. Все смеялись и шутили, когда же трапеза была окончена, сам серьезный старшина Пуф предложил устроить танцы. Все было быстро расчищено, три кота настроили свои глотки, и вскоре развеселившиеся дочери Муциуса прыгали и носились с юными котами.
Я не отошел от красавицы и пригласил ее танцевать; она дала мне лапу, и мы понеслись. О, как трепетало ее дыхание на моей щеке, как волновалась моя грудь, прикасаясь к ее груди. Как крепко держал я в своих объятиях ее нежный стан! О, блаженная, небесно-блаженная минута!
Протанцевав два или три круга, я повел прекрасную в угол погреба и любезно предложил ей, согласно обычаю, известное угощение, которое еще оставалось, хотя это празднество и не имело в виду бала. Теперь я дал волю своим чувствам. Я прижал ее лапу к своим губам, уверяя, что я был бы счастливейшим смертным, если бы она хоть немного меня полюбила.
– Несчастный, – произнес вдруг голос рядом со мной, – что ты делаешь? Ведь это твоя дочь, Мина!
Я отскочил, так как хорошо узнал этот голос!.. Это была Мисмис… Судьба надо мной посмеялась: в ту самую минуту, когда я совсем забыл о Мисмис, я узнал то, чего я не мог подозревать, то есть – что я влюбился в собственное дитя!.. Мисмис была в глубоком трауре, и я не знал, что мне об этом думать.
– Мисмис, – сказал я мягко, – что привело вас сюда? Зачем вы в трауре и – о боже! – эти девушки, сёстры Мины?
Я узнал необычайные вещи. Мой ненавистный соперник, черно-серо-желтый кот, расстался с Мисмис сейчас же после того, как я выказал рыцарскую храбрость на кровавом поединке, и, когда зажили его раны, он скрылся неизвестно куда. Тогда Муциус просил ее руки, которую она охотно ему отдала, – и то, что он совершенно умолчал передо мной об этом обстоятельстве, делало ему честь и доказывало деликатность его чувств. Но эти веселые, наивные кошечки были только сестры по матери моей Мины!
– О Мур, – нежно сказала Мисмис, рассказавши мне, как все это произошло, – о Мур, ваш дивный дух только ошибся в чувстве, которое его переполнило. Любовь нежнейшего отца, а не горящего желанием любовника проснулась в вашей груди, когда вы увидели нашу Мину. Наша Мина! О, какое сладостное слово!.. Мур, неужели оно вас не тронет? Неужели в душе вашей угасла любовь к той, которая так глубоко вас любила, еще и теперь вас любит, которая осталась бы вам верна до гроба, если бы не явился другой и не соблазнил ее своим презренным искусством? «О слабость, твое имя – кошка!..» Та к думаете вы, я знаю, но разве прощать слабым кошкам не есть назначение юных котов? Мур, вы видите меня подавленной и горько опечаленной потерей третьего нежного супруга, но в этой печали снова загорается любовь, бывшая когда-то моим счастьем, гордостью моей жизнью! Мур, услышьте мое признание! Я еще люблю вас и думала по-прежнему… – Слезы не дали ей говорить.
Все происходившее было мне очень тяжело. Мина сидела бледная и прекрасная, как первый снег, что нередко лобзает осенью последние цветы и сейчас же тает, обращаясь в воду!
(Примечание издателя. – Мур, Мур, опять плагиат! В чудесных рассказах Петра Шлемиля герой рассказа описывает свою возлюбленную в тех же самых выражениях и тоже зовет ее Миной.)
Молча смотрел я на мать и на дочь; последняя нравилась мне бесконечно больше, и так как в нашей породе близкое родство не составляет по закону препятствий к браку, то мой взгляд, вероятно, меня выдал, так как Мисмис, по-видимому, угадала мои мысли.
– Варвар! – воскликнула она, быстро подскакивая к Мине, и, порывисто обняв ее, прижала к своей груди. – Варвар, что ты замышляешь? Как! Ты хочешь оскорбить это любящее сердце и совершить новое преступление?
Я не понимал, какие претензии выражала Мисмис и в каких преступлениях могла она меня упрекнуть, но, не желая нарушать веселье, в которое перешло печальное торжество, я счел, однако, благоразумным обойтись с Мисмис как можно лучше. Поэтому я уверил вышедшую из себя Мисмис, что только необычайное сходство Мины с нею ввело меня в заблуждение и заставило думать, что душу мою воспламенило то же самое чувство, которое живет во мне к ней, все еще прекрасной Мисмис. Мисмис сейчас же осушила свои слезы, села рядом со мной и начала такой задушевный разговор, как будто между нами никогда не происходило ничего неприятного. Тут юный Гинцман пригласил прекрасную Мину танцевать, и можно себе представить, в каком тяжелом и неприятном положении я очутился.
К счастью для меня, старшина Пуф увел Мисмис для последнего танца; если бы не это, она, вероятно, сделала бы мне разные странные предложения. Я потихоньку выбрался из погреба с той мыслью, что перемелется – мука будет. Это погребальное торжество я считаю поворотным пунктом, на котором кончаются мои учебные месяцы и начинается другой круг жизни.
(М. л.) Крейслера просили как можно скорее явиться в покои аббата. Он нашел его преподобие с топором и долотом в руках; аббат осторожно раскрывал большой ящик, в котором, судя по его форме, находилась картина.
– А, – воскликнул аббат, видя входящего Крейслера, – хорошо, что вы пришли, капельмейстер! Помогите мне в трудной и утомительной работе. Ящик заколочен тысячью гвоздей, точно он должен быть вечно закрытым. Он прислан из Неаполя, и в нем лежит картина, которую я сам хочу повесить в моем кабинете и не показывать братьям. Поэтому я и не зову никого на помощь; но вы должны мне помочь, капельмейстер!
Крейслер приложил к делу свои руки, и вскоре большая, прекрасная картина, вставленная в великолепную позолоченную раму, появилась из ящика. Немало удивился Крейслер, увидав, что в кабинете аббата место за маленьким алтарем, где висела прежде прелестная картина Леонардо да Винчи, изображавшая святое семейство, было пусто. Аббат считал эту картину одной из лучших в богатом собрании старых оригиналов, которые у него были, но все же это мастерское произведение должно было уступить место картине, удивительная красота и новизна которой поразила Крейслера с первого раза.
С большим трудом укрепили они на стене картину посредством больших винтов, после чего аббат отошел на несколько шагов от картины и стал рассматривать ее с таким наслаждением и с такой очевидной радостью, что, по-видимому, кроме действительно достойной удивления живописи, картина представляла для него какой-то особый интерес. Картина изображала чудо. В сиянии небесной славы с облаков спускалась святая дева; в левой руке держала она лилейную ветвь, а двумя пальцами правой дотрагивалась до обнаженной груди юноши, и видно было, как между ее пальцами текла густая кровь из открытой раны. Юноша наполовину поднялся с ложа, на котором он был распростерт, и, казалось, пробуждался от смертного сна: он не открыл еще глаз, но ясная улыбка, озарявшая его прекрасное лицо, показывала, что он видел в блаженном сне божию матерь, что боль его раны прошла, и смерть не имела больше над ним власти. Всякого знатока должны были поразить правильность рисунка, искусство в составлении группы, верное распределение света и тени, складки величественных одежд и возвышенная прелесть фигуры Марии, а в особенности живость красок, так редко встречающаяся у новейших художников. Но в чем всего больше и по самой природе вещей всего решительнее выражался гений художника, так это в в неподдающемся описанию выражении лица. Мария была самая красивая и привлекательная женщина, которую можно себе представить, но на ее высоком челе лежала печать небесного величия, и неземная благость светилась в кротком блеске ее темных очей. Небесный восторг пробужденного к жизни юноши был с редкой силой творческого гения схвачен художником. Крейслер действительно не знал ни одной картины новейших времен, которую можно было бы поставить наравне с этим изумительным произведением. Он сказал об этом аббату, долго распространялся об отдельных красотах этого произведения и прибавил, что в новейшие времена едва ли создавали что-либо более прекрасное.
– Это объясняется особыми причинами, как вы сейчас узнаете, капельмейстер, – улыбаясь, сказал аббат. – Наши молодые художники попадают обыкновенно в странное положение. Они учатся, изучают, доискиваются, рисуют, делают громадные картоны, и в конце концов у них выходит окаменелая мертвая картина. Их произведение не может войти в жизнь, так как оно само не живет. Вместо того, чтобы тщательно копировать великого старого мастера, взятого ими за образец, и проникаться свойственным ему духом, они желают сами сейчас же делаться мастерами и писать такие же картины, как он, но из-за этого впадают только в мелкую подражательность, выставляющую их в смешном свете; они подобны тем людям, которые, желая подражать великому человеку, стараются так же кашлять, картавить и гнуться на ходу, как он. Нашим молодым художникам недостает истинного вдохновения, которое вызывает из глубины души и ставит перед глазами картину во всем блеске ее жизненной силы. Мы видим, как то один, то другой из них напрасно старается довести себя до творческого настроения: усилия их не приводят ни к чему, и они не могут создать ни одного произведения искусства. То, что бедняжки принимают за истинное вдохновение, до которого возвышался спокойный и светлый дух старых мастеров, есть только смешанное чувство высокого удивления перед схваченной ими мыслью и боязливой, мучительной заботы подражать старому образцу во всех мельчайших подробностях. Поэтому часто фигура, полная жизни, обращается в карикатуру. Наши молодые художники не доводят до ясности восстающие в душе образы, и, может быть, это и есть причина, того, что даже если у них многое хорошо выходит, то краски им все-таки не удаются. Одним словом, они могут рисовать, но не умеют писать. Не правда, будто бы утрачено искусство составления красок и их применения, несправедливо и то, что молодым художникам недостает прилежания. Что касается первого, то это неестественно, так как живопись с начала христианских времен, когда она сделалась настоящим искусством, все шла вперед, мастера и ученики составляли непрерывную цепь, и перемены, которые, конечно, вели за собой уклонения от истины, не могли влиять на техническую часть живописи. Что же касается прилежания художников, то в этом отношении их можно упрекнуть скорее в избытке, чем в недостатке. Я знаю одного молодого художника, который всякую, даже довольно удачную свою картину до тех пор замазывает и пишет снова, пока она не получит наконец тусклого, оловянного тона, и, быть может, только тогда она и походит на его настоящую мысль; его образы не могут вылиться в настоящую, реальную жизнь… Смотрите, капельмейстер, вот картина, из которой бьет подлинная дивная жизнь, и это потому, что она создана настоящим вдохновением!.. Чудо для нас понятно. Юноша, приподнимающийся с ложа, подвергся нападению убийцы и был ранен насмерть. Будучи до тех пор дерзким безбожником, в адском безумии отвергавшим значение церкви, он громко призвал на помощь деву Марию, и царице небесной угодно было спасти его от смерти, чтобы он жил, видел свои заблуждения и с благочестивым смирением подчинялся церкви и ее служителям. Этот юноша, которому посланница неба оказала такую милость, и есть художник, написавший эту картину.
Выразив удивление по поводу сказанного аббатом, Крейслер прибавил, что таким образом чудо это произошло, по-видимому, в новейшие времена.
– Значит, и вы, мой милый Иоганн, – мягко сказал аббат, – держитесь того странного мнения, что врата небесной благодати теперь закрыты, так что сострадание и милосердие в образе спасителя, на которого удрученный человек горячо уповал в безумном страхе погибели, больше не сходит даже для того, чтобы явиться нуждающемуся и принести ему покой и утешение? Поверьте мне, Иоганн, что чудеса никогда не прекращались, но глаза человека, ослепленные греховной дерзостью, не могут вынести неземного блеска небес и потому не способны распознать благодать вечной силы даже тогда, когда она выражается в видимых явлениях. Но, милый мой Иоганн, самые дивные божественные чудеса совершаются в глубине человеческих чувств, и эти чудеса должен возвещать человек по мере сил своих в словах, в звуках или в красках. Так и этот монах, писавший картину, дивно возвестил чудо своего обращения, и так же точно, Иоганн, – я не могу молчать, это выливается у меня прямо из сердца, – так же точно и вы возвещаете могучими звуками из глубины вашей души дивное чудо вечного и совершеннейшего света. И разве то, что это для вас возможно, не есть благодатное чудо, совершаемое для вашего блага небесными силами?
Слова аббата очень взволновали Крейслера; редко случалось, чтобы глубокая вера так живительно действовала на его внутреннюю творческую силу, и в душу его проникла блаженная отрада.
Крейслер не отрывал глаз от дивной картины, но как часто случается, особенно если художник пустил в ход сильные световые эффекты на переднем или среднем плане, фигуры, стоящие в тени, на заднем плане, замечаются не сразу, так и здесь Крейслер только спустя некоторое время рассмотрел фигуру, завернутую в широкий плащ, с кинжалом в руке, на который падал как будто один только луч от славы царицы небесной, так что кинжал чуть блестел в темноте. Это был, очевидно, убийца; скрываясь, он оборачивался, и лицо его выражало ужас и страх.
Подобно молнии поразила Крейслера мысль, что в лице убийцы он узнал черты принца Гектора; ему казалось, что и возвращающегося к жизни юношу он тоже где-то видел, хотя и мимолетно. По какому-то непонятному для него самого страху Крейслер не поделился с аббатом этими открытиями; он только спросил аббата, не находит ли он странным и неподходящим к духу картины, что художник изобразил на заднем плане и в тени принадлежности новейшего обихода и даже, как он только теперь заметил, одел в современное платье и пробуждающегося юношу.
И действительно, на картине изображен был в углу заднего плана маленький стол и около него стул, на спинке которого висела турецкая шаль, на столе же лежала офицерская шапка с перьями и сабля. На юноше была рубашка с современным воротником, расстегнутая куртка и темный, тоже совершенно расстегнутый кафтан, покрой которого допускал, однако, красивые складки. Божия матерь была одета так, как привыкли ее видеть на картинах лучших старинных мастеров.
– А мне, – отвечал аббат, – нисколько не кажутся непоходящими обстановка на заднем плане и кафтан юноши; я думаю даже, что если бы художник отступил от правды хотя бы в ничтожных подробностях, то он был бы проникнут не небесной благодатью, а мирским безумием и тщеславием. Он должен был, как это и случилось, представить чудо со всей верностью места, обстановки, платья действующих лиц и так далее; при этом всякий увидит с первого взгляда, что чудо совершилось в наши дни, и таким образом картина благочестивого монаха будет прекрасным трофеем церкви, победившей в наши времена неверие и развращенность.
– И, однако, – сказал Крейслер, – эти шляпа, сабля, шаль, стол и стул – все это для меня фатально, и я хотел бы, чтобы художник изменил эту обстановку заднего плана и накинул на себя самого, вместо кафтана, какую-нибудь другую одежду. Скажите сами, ваше преподобие, можете ли вы представить себе священную историю в современных костюмах: святого Иосифа в кафтане, спасителя во фраке и деву Марию в платье, с накинутой на плечи турецкой шалью? Разве это не показалось бы вам недостойной и отвратительной профанацией? А между тем старинные и в особенности немецкие художники всегда обставляли библейские и священные сюжеты костюмами своего времени, и совсем напрасно было бы уверять, что те наряды лучше поддавались живописной обстановке, чем современные, действительно довольно глупые и неживописные. Моды и прежних времен доходили до страшных преувеличений; вспомните эти сапоги с загнутыми носками, раздувающиеся панталоны и разрезные фуфайки и рукава; многие женские наряды были совершенно неприличны и портили лицо и фигуру, судя по старинным картинам: у молодых, цветущих и прелестных девушек из-за нелепого наряда – вид старых некрасивых матрон. И, однако, никому эти картины не кажутся странными.
– Милый мой Иоганн, – отвечал аббат, – я могу в нескольких словах объяснить вам разницу между прежними благочестивыми и нынешними нечестивыми временами. Видите ли, тогда священная история так вошла в жизнь людей и, можно даже сказать, так помогала ей, что всякий думал, что чудесное совершилось на его глазах, и всемогущество неба может каждый день допустить то же самое. И священная история, к которой прежде обращался ум благочестивого художника, казалась ему действительностью; между окружавшими его людьми видел он случаи небесной благодати и изображал этих людей на полотне так, как они представлялись ему в жизни. Теперь же священная история представляется нам чем-то отдаленным, законченным, не повторяющимся в жизни; только в воспоминании с трудом вызываем мы тусклые образы, и напрасно стремится художник оживить их, так как даже незаметно для него самого его дух ослаблен мирским течением. Смешно слышать, когда упрекают старых художников в незнании исторических костюмов и видят в этом причину, почему они обставляли свои картины нарядами своего времени, и смешно видеть, когда наши молодые художники изображают средневековые костюмы на картинах с священными сюжетами, показывая этим лишь одно: что они ничего не видят непосредственно в жизни, а лишь довольствуются тем, что дают им картины старых мастеров. Милый мой Иоганн, наше время слишком испорчено, чтобы не являть собою резкого противоречия с этими благочестивыми легендами; никто не может себе представить, чтобы эти чудеса совершались среди нас, и вот почему их изображение в современных костюмах кажется нам безвкусным, карикатурным и даже дерзким. Но если бы всемогущий допустил, чтобы на глазах у всех нас совершилось действительное чудо, то было бы непозволительно изменить костюм нашего времени; ведь точно так же и молодые художники, ища точки опоры, должны думать о том, чтобы, насколько возможно, верно изобразить костюмы той эпохи, из которой они берут события. Повторяю еще раз: прав был художник этой картины, придерживаясь настоящего времени, а та обстановка, которую вы, милый Иоганн, находите нужным изменить, наполняет меня священным ужасом, так как мне кажется, что я сам вхожу в узкое помещение того дома в Неаполе, где два года тому назад совершилось чудо обращения этого юноши.
Слова аббата вызвали у Крейслера множество мыслей: он во многом соглашался с аббатом, но думал, что относительно высокого благочестия прежних времен и испорченности современной эпохи аббат судил как монах, которому нужны различные таинственные знаки и чудеса, и он их действительно видит, тогда как благочестивый детский ум, чуждый судорожных экстазов опьяняющего культа, не нуждается в этом для проявления истинно христианской добродетели. Именно эта добродетель и не исчезла на земле, а если это действительно случится, то всемогущий, который от нас отступится, предавши нас произволу мрачного демона, никаким чудом не возвратит нас на истинный путь.
Но все эти замечания Крейслер держал про себя и молча смотрел на картину. При внимательном рассмотрении все ярче выступали на заднем плане черты убийцы, и Крейслер окончательно убедился, что здесь изображен был не кто иной, как принц Гектор.
– Мне кажется, ваше преподобие, – начал Крейслер, – что я вижу на заднем плане смелого стрелка, охотящегося за самой благородной дичью, то есть за человеком, которого он травит различными способами. На этот раз, как я вижу, он взял в руки хорошо отточенную сталь и попал в цель; с огнестрельным же оружием дело идет, очевидно, хуже, так как еще недавно он промахнулся в некоего веселого оленя. Право, меня веселит curriculum vitae[122] этого отважного охотника, хотя бы даже это и был лишь отдельный случай, который покажет мне, где мне следует находиться и не следует ли мне сейчас же обратиться к пречистой деве за получением необходимой, быть может, и мне охранной грамоты.
– Подождите немного, капельмейстер, – сказал аббат, – я буду очень удивлен, если вскоре не выяснится все то, что теперь скрыто туманной завесой. Многие из ваших желаний, которые я только теперь узнал, могут исполниться. Странно, очень странно, как вижу я теперь, что в Зигхартсгофе грубо заблуждаются на ваш счет. Мейстер Абрагам, быть может, единственный человек, проникший в вашу душу.
– Мейстер Абрагам! – воскликнул Крейслер. – Так вы его знаете, ваше преподобие?
– Вы забываете, – улыбаясь, ответил аббат, – что наш прекрасный орган обязан своим новым замечательным устройством искусству мейстера Абрагама. Но довольно об этом! Ждите терпеливо событий, которые скоро должны свершиться.
Крейслер попросил у аббата разрешения удалиться; ему захотелось пойти в парк, чтобы разобраться в нахлынувших мыслях. Но когда он уже сошел с лестницы, он услышал за собой голос: «Domine, domine capelmeistere, pacis te volo»[123]. Это был отец Иларий, заявивший, что он с величайшим нетерпением ждал окончания его долгого совещания с аббатом. Он только что покончил с своими обязанностями главного погребщика и достал прекрасное вино, которое давно уже лежало в погребе. Было совершенно необходимо, чтобы Крейслер сейчас же осушил за завтраком бокал этого вина; он должен оценить достоинство благородного напитка и убедиться, что это чудное вино, воспламеняющее и укрепляющее ум и сердце, создано для искусного композитора и истинного музыканта.
Крейслер знал, что напрасно было бы возражать вдохновенному отцу Иларию: ему и самому вследствие настроения, в которое он пришел, было приятно выпить стакан хорошего вина; поэтому он последовал за веселым погребщиком, который повел его к себе в келью, где на маленьком столике, покрытом чистой скатертью, уже стояла бутылка благородного напитка и лежали свежеиспеченный белый хлеб, соль и тмин.
– Ergo bibamus! – воскликнул отец Иларий, налил до краев красивые зеленые бокалы и дружески чокнулся с Крейслером.
– Не правда ли, капельмейстер, – начал он, когда бокалы были осушены, – что его преподобие охотно надел бы на вас длинный кафтан? Не делайте этого, Крейслер! Мне хорошо в моей рясе, и я не хотел бы ее снять ни за что на свете, но «distinguendum est inter et inter!..» Мне заменяют весь мир добрый стакан вина да хорошее церковное пение, но вы, вы… вы призваны к другому, вам иначе улыбается жизнь, и для вас зажигаются не те свечи, что горят в алтаре. Ну, одним словом, Крейслер, чокнемся! Да здравствует ваша милая, а к свадьбе уж господин аббат, несмотря на всю свою досаду, должен будет прислать вам через меня лучшего вина, какое только найдется в нашем богатом погребе.
Слова отца Илария самым неприятным образом задели Крейслера: так больно бывает нам, когда мы видим, что берут неловкими, неуклюжими руками что-нибудь нежное, чистое как снег…
– Все-то вы знаете в ваших четырех стенах, – сказал Крейслер, отдергивая стакан.
– Domine Kreislere[124], – воскликнул отец Иларий, – не сердитесь! Video mysterium[125] и буду держать язык за зубами! Если вы не хотите… ну, будем завтракать in camera et faciemus bonum cherubim[126] et bibamus за то, чтобы господь сохранил у нас в аббатстве покой и веселье, которые до сих пор у нас царили.
– А разве они теперь в опасности? – довольно сухо спросил Крейслер.
– Domine, – сказал отец Иларий, доверчиво придвигаясь к Крейслеру, – domine dilectissime[127], вы достаточно долго у нас пробыли, чтобы знать, как свободно мы живем и как различные склонности братьев сходятся в той веселости, которая поддерживается и нашей обстановкой, и мягким монастырским уставом, и всем нашим образом жизни. Может быть, этому пришел уже конец. Вы должны узнать, Крейслер, что приехал давно ожидаемый отец Киприан, которого особенно рекомендовали из Рима аббату. Это молодой еще человек, но на его неподвижном лице не видно ни следа веселого чувства; мрачные мертвенные черты его выражают непоколебимую строгость аскета, дошедшего до высшей степени самобичевания. При этом все его поведение указывает на враждебное презрение ко всему, что его окружает, и это презрение, быть может, действительно происходит от сознания духовного превосходства над всеми нами. Он уже несколько раз в беседах с нами порицал наш монастырский устав и, по-видимому, очень гневается на наш образ жизни. Вот увидите, Крейслер, этот пришелец расстроит наш порядок, при котором нам было так хорошо. Вот увидите! Nunc probo![128] Склонные к строгости легко к нему присоединятся, и вскоре составится партия против аббата, который, быть может, не сумеет одержать победу, так как мне положительно кажется, что отец Киприан – эмиссар самого его святейшества папы, перед волей которого аббат должен преклоняться. Крейслер! Что будет с нашей музыкой и с нашим приятным препровождением времени! Я сказал ему о нашем прекрасном хоре и о том, что мы можем хорошо исполнять произведения великих мастеров, а мрачный аскет состроил ужасное лицо и ответил, что такая музыка хороша для суетного мира, а не для церкви, из которой папа Марцелл Второй справедливо хотел ее вовсе изгнать. Per diem! Что если у нас не будет хора и, может быть, даже закроют винный погреб!.. А потому… пока что, bibamus! Нечего думать о будущем, ergo – глотнем.
Крейслер полагал, что все обойдется с новым пришельцем, который казался, быть может, строже, чем был на самом деле; кроме того Крейслер не хотел верить, чтобы аббат при той твердости характера, которую он до сих пор выказывал, легко подчинился воле чужого монаха, тем более что и у аббата были в Риме довольно значительные связи.
В эту минуту зазвонили колокола в знак того, что должно произойти торжественное принятие вновь прибывшего брата Киприана в орден св. Бенедикта.
Крейслер отправился в церковь с отцом Иларием, поспешно проглотившим с восклицанием «Bibendum quid!» остатки своего бокала. Из окна коридора, по которому они проходили, можно было видеть покои аббата.
– Смотрите, смотрите! – воскликнул отец Иларий, показывая Крейслеру на одно из окон покоев аббата. Крейслер взглянул туда и увидел в комнате монаха, с которым аббат очень горячо разговаривал, причем лицо аббата было залито яркой краской. Наконец аббат стал на колени перед монахом, который дал ему свое благословение.
– Не прав ли был я, – тихо сказал Иларий, – предчувствуя нечто особенное в этом чужом монахе, внезапно явившемся в наше аббатство?
– Вероятно, с этим Киприаном было какое-нибудь необыкновенное приключение, – ответил Крейслер, – и я очень удивлюсь, если скоро не произойдут какие-нибудь странные события.
Отец Иларий поспешил присоединиться к братии. Торжественная процессия двинулась к церкви: впереди монахи несли крест, а послушники – зажженные свечи и хоругви по бокам.
Когда аббат с новым монахом прошли близко мимо Крейслера, он узнал с первого взгляда, что брат Киприан был тот самый юноша, которого пречистая дева пробуждала от смерти на картине, полученной аббатом. Но еще одно предчувствие вдруг поразило Крейслера. Он побежал в свою комнату и вынул портрет, который дал ему мейстер Абрагам; никаких сомнений! Перед ним был этот самый юноша, только моложе, свежее и в офицерской форме.
– Когда же…
Отдел четвертый Выгодные последствия высокой культуры. Зрелые месяцы мужчины
(М. пр.) Потрясающая речь Гинцмана, погребальный пир, прекрасная Мина, встреча с Мисмис, танцы – все это вызвало в моей душе борьбу самых разноречивых чувств, так что я, как говорится в обыденной жизни, не знал, что с собой поделать, и в полном разладе с самим собой желал очутиться в погребе и даже в могиле, как друг мой Муциус. Все это было очень мучительно, и я не знаю, что со мной произошло бы, если бы не жил во мне истинный и высокий поэтический дух, подсказавший мне великолепные стихи, которые я не замедлил написать.
Божественность поэзии особенно сильно сказывается в том, что сочинение стихов, – хотя и приходится иногда попотеть над рифмами, – доставляет удивительную отраду, пересиливающую всякое земное страдание, и даже, как известно, побеждает голод и зубную боль. Если смерть похитит у кого-нибудь отца, мать или супругу, и при каждом из этих случаев он будет, как водится, совершенно вне себя, то при мысли о чудном стихотворении, которое должно зародиться в его уме по случаю печального события, он перестанет отчаиваться и даже женится во второй раз, чтобы не потерять надежду вновь испытать трагическое вдохновение.
Вот стихи, рисующие с поэтической правдой и силой мое тогдашнее состояние и переход от страдания к радости:
Чу! Что там в темноте унылой Блуждает в погребе пустом? Что так зовет: не медли, милый! Чей голос плачет о былом? Здесь друга было погребенье, И дух его ко мне воззвал, Ища и в смерти утешенья, Что в жизни я ему давал. Но нет, не легкий призрак друга Те звуки скорби издает! Вздыхая, верного супруга Супруга нежная зовет. Опутан вновь любви цепями, Ринальдо пылкий к ней спешит. Что вижу? – Острыми когтями Мне ревность злостная грозит. Она, жена! Куда мне скрыться? В душе, как бешеный поток, Бушует страсть; она стремится К тебе, невинности цветок. Она прыгнет, и все сияет Вокруг светлее и светлей, Весь погреб ей благоухает, Лишь в сердце стало тяжелей. Смерть друга! Милой появленье! Восторги! Горькая тоска! Супруга! Дочь! Еще мученье! Не разорвись, моя душа! Ужели потерял я разум, Танцуя после похорон? Нет, нужно все покончить разом, Фальшивым блеском я смущен. Исчезни прочь, мечта пустая, Стремленьям высшим уступи! Ведь кошки, чувств своих не зная, Неверны в злобе и в любви. Ни слова! Взор склоните лживый, Мисмис и Мина, не прельщен Я вашей хитростью фальшивой. О друг, ты будешь отомщен! Жаркое, рыбу ли вкушаю, К тебе мечтой я уношусь, Твои деянья вспоминаю И подражать тебе стремлюсь. Друг благородный, злые шпицы Тебя сумели погубить, Но кто любил тебя, сторицей За это должен отплатить. Такая сердцем овладела Тоска, что был я сам не свой, Но, к счастью, муза прилетела С своей фантазией живой. Теперь забуду все, наверно, Изрядный чуя аппетит, Как друг, я стал едок примерный, И дух поэзией горит. Искусство, в горе утешая, Слетаешь ты из горных сфер… Как сладко! Гений мой, играя, Слагает стих в любой размер. «О Мур! – все кошки уверяют, — О Мур! – твердят мне все коты, — Твой стих доверие внушает, Так сладостно мурлычешь ты!»Действие стихов было так благодетельно, что я не мог удовольствоваться одним стихотворением и сочинил еще несколько, одно за другим, с той же легкостью. Наиболее удачными я бы поделился с благосклонным читателем, если бы у меня не явилась мысль издать их со многими остротами и экспромтами, над которыми я чуть не лопнул от смеха, сочиняя их в часы досуга; все это должно было появиться под общим названием: «То, что удалось мне создать в часы вдохновения». К немалой моей славе я должен сказать, что даже в молодые годы, когда буря страстей во мне еще не улеглась, светлый разум и тонкий такт удержали меня от всякого ненормального упоения чувств. Так и на этот раз мне вполне удалось побороть внезапно возникшую во мне любовь к прекрасной Мине. По зрелом размышлении я понял, что только раз в жизни был немного сбит с толку этой страстью; впоследствии я узнал, что Мина, несмотря на кажущуюся детскую невинность, была очень дерзкая и упрямая кошка, которая в некоторых случаях умела дурачить самых приличных котов. Чтобы отрезать себе всякое отступление, я тщательно избегал видеться с Миной, а так как я еще больше боялся странных претензий и причудливых манер Мисмис, то, не желая встречаться ни с той, ни с другой, я сидел одиноко в своей комнате, не посещая ни погреба, ни чердака, ни крыши. Хозяину это, по-видимому, нравилось: он позволял, чтобы я в то время, как он занимался у стола, садился за его спиной на спинку стула и, вытянув шею, смотрел через его руку в книгу, которую он читал. Прекрасные книги изучали мы таким образом вместе с хозяином, как, например: Б. Арпе «De prodigionis naturae et artis operibus, talismanes et amuleta dictis» («О чудесных произведениях природы и искусства, называемых талисманами и амулетами»), Беккера «Волшебный мир», Франческо Петрарки «Памятная книга» и так далее. Это чтение необыкновенно меня развлекало и даже сообщало новый полет моему уму.
Хозяин ушел; солнце ласково светило, весенние ароматы приветливо веяли в окно; я забыл про свое решение и отправился погулять по крыше. Но едва я вышел, как увидел вдову Муциуса, показавшуюся из-за трубы. В страхе остановился я, как прикованный к месту. Мне казалось, что я уже слышу упреки и уверения, но я ошибся… Вслед за нею вышел молодой Гинцман, называя прекрасную вдову нежными именами; она остановилась, встретила его ласковыми словами, оба приветствовали друг друга выражением глубокой нежности и потом быстро прошли мимо меня, не поклонившись и даже совсем меня не замечая. Юный Гинцман, очевидно, меня стыдился; он склонил голову и опустил глаза, но легкомысленная, кокетливая вдова бросила мне, однако, насмешливый взгляд.
В психическом отношений кот довольно глупое существо. Не следовало ли мне радоваться тому, что вдова Муциуса занята другим любовником? А между тем я не мог побороть досады, которая положительно походила на ревность. Я поклялся никогда не посещать крыши, где могли ожидать меня большие неприятности. Вместо прогулки я вскакивал на подоконник, грелся на солнышке, смотрел ради развлечения на улицу, делал разные глубокомысленные замечания и соединял таким образом полезное с приятным.
Предметом моих размышлений был вопрос, отчего мне до сих пор не случалось по свободному влечению садиться перед дверью дома или расхаживать по улице, как делали, по-видимому, многие из моей породы, и притом без всякого страха. Я представлял себе, что это должно быть необыкновенно приятно, и был уверен, что теперь, когда я дошел уже до зрелых месяцев и набрался достаточно опыта, не могло быть и речи о тех опасностях, которым я подвергся, когда судьба толкнула меня в свет еще неопытным юношей. Я спустился с лестницы и сел прежде всего на пороге, на самом ярком солнце. Само собой разумеется, что я принял позу, с первого взгляда выказывавшую хорошо воспитанного и образованного кота. Мне удивительно нравилось сидеть перед дверью. Горячие солнечные лучи благодетельно согревали мою шкуру, а я нежно гладил себя свернутой лапой по бороде и по морде, вследствие чего две проходившие молодые девушки, вероятно, шедшие из школы с большими, запертыми на ключ сумками не только выразили мне восхищение, но еще дали мне кусок белого хлеба, который я принял с обычной своей любезностью.
Я столько времени играл с полученным даром, что привел его наконец в растерзанный вид; но каков был мой страх, когда прямо около меня громкое ворчанье прервало эту игру и могучий старик – дядя Понто, пудель Скарамуц – очутился передо мною. Одним прыжком хотел я прыгнуть в дверь, но Скарамуц закричал мне: «Не будь зайцем и сиди смирно! Или ты думаешь, что я тебя съем?»
Я с самой смиренной учтивостью спросил, не могу ли служить господину Скарамуцу своими слабыми силами, но он грубо мне ответил:
– Ничем не можешь ты мне служить, мосье Мур; как бы это могло случиться? Я хотел только спросить, не знаешь ли ты, где шатается мой беспутный племянник Понто? Ты ведь с ним связался, и к моей немалой досаде вы с ним, кажется, живете душа в душу. Ну говори, не знаешь ли, где путается мой молодчик? Я его уже несколько дней в глаза не видал!
Оскорбленный гордым, презрительным обращением сварливого старика, я холодно ответил ему, что о тесной дружбе между мной и молодым Понто никогда не могло быть и речи. В последнее же время Понто, которого я вообще не посещал, совершенно от меня отстал.
– Это меня радует, – проворчал старик, – это показывает, что у молодца есть еще честь, и он не водится со всяким дрянным народом.
Этого уж нельзя было вынести! Мною овладел гнев и оскорбленное чувство бурша, я забыл всякий страх и, фыркнув в нос гнусному Скарамуцу и пробурчав: «Старый грубиян!», – поднял правую лапу с выпущенными когтями по направлению к левому глазу пуделя. Старик отступил на два шага и заговорил менее грубо:
– Ну-ну, Мур, не сердитесь! Вы – хороший кот, и потому я советую вам, берегитесь этого сорванца Понто! Он честный пес, вы можете этому верить, но он легкомыслен! Ох, как легкомыслен! Склонен ко всяким безумным штукам! Нет у него ни правил, ни серьезного отношения к жизни. Берегитесь, говорю я; скоро он будет увлекать вас в разные общества, к которым вы вовсе не подходите, будет принуждать вас к светским манерам, что противно вашей натуре и совершенно не соответствует вашей индивидуальности и простому безыскусственному нраву, который вы мне только что выказали. Видите ли, добрый мой Мур, как я уже сказал, вы – достойный кот и охотно слушаете добрые поучения. Какие бы глупые, неприятные и даже двусмысленные штуки ни проделывал молодой человек, он проявляет время от времени мягкое и даже слащавое добродушие, свойственное сангвиническому темпераменту, и тогда сейчас же говорят, выражаясь по-французски: «Аu fond (в сущности), он добрый малый, и поэтому ему можно простить то, что он делал против правил и приличий». Но «fond» (сущность), в котором есть ядро добра, лежит так глубоко, и поверх него скопилось столько дурного, присущего распущенной жизни, что он должен заглохнуть в зародыше. Многие преподносят вместо настоящего доброго чувства это глупое добродушие, которое, наверно, идет от черта, так как нельзя угадать духа зла в блестящей маске. Поверьте опытности старого пуделя, который немало потерся на свете, и не давайте себя обманывать этим проклятым «Аu fond, он добрый малый». Если вы увидите моего беспутного племянника, то можете прямо пересказать ему все, о чем мы с вами говорили, и вполне отказаться от продолжения дружбы с ним. Боже сохрани!.. Вы этого не едите, мой добрый Мур?
С этими словами старый дядя Понто жадно схватил зубами кусок белого хлеба, лежавший передо мной, и быстро убежал, опустивши голову, волоча по земле мохнатые уши и чуть-чуть помахивая хвостом.
С благодарностью смотрел я на старика, житейская мудрость которого была мне очень полезна.
– Что, он ушел? Ушел? – зашептал кто-то рядом со мной, и я с удивлением увидел юного Понто, который притаился за дверью, ожидая, когда уйдет старик. Неожиданное появление Понто поставило меня в затруднительное положение, так как наставления старого дяди, которыми я именно теперь и должен был бы воспользоваться, показались мне сомнительными. Я вспомнил страшные слова, сказанные мне когда-то Понто:
– Если ты вздумаешь высказать мне враждебность, то помни, что я превзойду тебя и в силе, и в проворстве: одним прыжком и одним захватом своих острых зубов я могу покончить с тобой.
Я счел за лучшее ничего ему не говорить.
Эти размышления, вероятно, придали моей внешности некоторую холодность и натянутость. Понто устремил на меня проницательный взгляд, затем разразился веселым смехом и воскликнул:
– Я уж вижу, друг Мур, что старик мой наговорил тебе много дурного о моем поведении и изобразил меня беспутным малым, предающимся разным глупым проказам и распутству. Не будь настолько глуп, чтобы верить хоть одному его слову. Во-первых, посмотри на меня внимательно. Что скажешь ты о моей внешности?
Взглянув на юного Понто, я нашел, что никогда еще не был он так хорошо откормлен и не имел такого прекрасного вида; никогда еще одежда его не отличалась такой чистотой и изяществом, и во всем существе его никогда еще не господствовало такой приятной гармонии. Я высказал ему это без обиняков.
– Послушай, добрый Мур, – сказал Понто, – можешь ли ты думать, что пудель, проводящий время в дурном обществе, преданный низкому разврату и систематически беспутствующий, не находя в этом особого вкуса, а просто от скуки, как это бывает со многими пуделями, – думаешь ли ты, что у такого пуделя может быть такой вид, как у меня? Ты прекрасно изобразил гармонию всего моего существа. Это одно уже может показать тебе, как заблуждается мой угрюмый дядя. Так как ты – литературный кот, то вспомни о мудреце, ответившем кому-то, особенно порицавшему в порочном человеке дисгармонию всей его внешности: «Разве порок может иметь единство?» Не удивляйся, друг Мур, черным клеветам моего старика. Скупой и угрюмый, как все дяди, он обратил на меня весь свой гнев, потому что par l’honneur (из чести) должен был заплатить за меня небольшие долги, которые я сделал у одного колбасника, допускавшего у себя запрещенную игру и одолжавшего игрокам значительные суммы сервилатами, кашей и ливером, приготовленным в виде колбасы. Кроме того, старик постоянно думает об известном периоде, во время которого моя жизнь была действительно не особенно похвальна, но который уже давно у меня миновал и уступил место прекрасному поведению.
В эту минуту мимо проходил нахальный пинчер. Он посмотрел на меня так, как будто никогда не видал мне подобных, и стал кричать мне в уши грубейшие дерзости, а потом хватать меня за хвост, который я далеко распустил и который ему, по-видимому, не нравился. Сильно оскорбленный, я хотел защищаться, но Понто уже бросился на дерзкого наглеца, повалил его на землю и два или три раза смял его так, что тот, горько жалуясь и поджавши хвост, стрелой пустился бежать.
Это доказательство доброго расположения и деятельной дружбы Понто настолько меня растрогало, что я подумал, что слова: «Аu fond (в сущности), он добрый малый», которыми дядя Скарамуц хотел вселить в меня подозрение, можно было применить к Понто в гораздо лучшем смысле и извинить его с большим основанием, чем многих других. Вообще мне казалось, что старик слишком мрачно смотрит на вещи: Понто мог делать только легкомысленные, но никак не дурные штуки. Все это я без обиняков высказал моему другу и поблагодарил его в самых теплых выражениях за то, что он меня защитил.
– Меня радует, – сказал Понто, делая по своему обыкновению веселые, шаловливые глаза, – меня радует, милый Мур, что старый педант не ввел тебя в заблуждение, и ты признаешь доброту моего сердца. Не правда ли, Мур, хорошо я отделал этого дерзкого малого? Он долго будет об этом помнить. Сегодня я ему отплатил за весь день; негодяй стащил у меня вчера колбасу и должен был получить за это наказание. То, что при этом случае я отомстил также и за зло, причиненное им тебе, и таким образом доказал тебе свою дружбу, мне очень приятно. Как говорится в поговорке, я убил таким образом двух мух одним хлопком; но вернемся к нашему разговору. Взгляни на меня еще раз пристально, милый кот, и скажи мне, не замечаешь ли ты в моей внешности какой-нибудь особенной перемены?
Я внимательно посмотрел на моего молодого друга… ах, боже мой! Только теперь бросился мне в глаза надетый на Понто серебряный ошейник изящной работы, на котором были выгравированы слова: «Барон Алкивиад фон Випп. Маршальская улица, 46».
– Как, – воскликнул я с удивлением, – как, Понто, ты оставил своего господина, профессора эстетики, и поступил к барону?
– Не то чтобы я оставил профессора, – ответил Понто, – но он выгнал меня сам, избив меня и надавав мне пинков.
– Как могло это случиться? – спросил я. – Ведь твой господин выказывал тебе прежде доброту и любовь?
– Ах, – ответил Понто, – это глупая и досадная история, которая только по особой веселой игре случая кончилась счастливо для меня. Всему виною мое глупейшее добродушие, к которому отчасти примешалось также и пустое тщеславие. Я хотел ежеминутно выражать моему господину внимательность и показывать ему при этом мою ловкость и благовоспитанность. Поэтому я привык приносить ему без всякого приглашения всякие мелочи, лежащие на полу. Ты, может быть, знаешь, что у профессора Лотарио молодая, прелестная жена, любящая его самым нежным образом, в чем он не должен был бы сомневаться, так как она ежеминутно его в этом уверяет и осыпает его ласками даже тогда, когда он, зарывшись в книги, готовится к предстоящей лекции. Она – сама домовитость, так как никогда не оставляет дома раньше двенадцати часов, а в половине одиннадцатого она уже встает и, будучи простых нравов, не стыдится с величайшей подробностью обсуждать с кухаркой и с горничной домашние обстоятельства и пользоваться их кассой, если деньги, выданные профессором на неделю, слишком скоро улетучились из кошелька по причине некоторых несоответствующих состоянию кассы расходов, и она не смеет попросить их у господина профессора. Проценты с этих займов выдает она в виде почти не ношенных платьев и шляп, которые удивленное общество служанок видит в воскресенье на расфранченной горничной, получившей их как награду за некоторые тайные визиты и другие удовольствия. При таком множестве совершенств едва ли можно ставить в вину любезной женщине маленькое дурачество (если это можно назвать дурачеством); живейшее ее желание и стремление заключается в том, чтобы одеваться по последней моде; все самое изящнее и дорогое для нее недостаточно дорого и изящно. Если она три раза надела платье, четыре раза шляпу и месяц проносила шаль, то она уже чувствует к этим предметам идиосинкразию и продает самые дорогие вещи за бесценок или, как уже было сказано, наряжает в них служанок. Нет ничего удивительного, если у жены профессора эстетики есть вкус ко всему, имеющему красивую внешность, и для мужа может быть только приятно, если этот вкус обнаруживается в том, что жена с заметным удовольствием останавливает взоры своих сверкающих глаз на красивых юношах, которые иногда за ней немного и приударят. Нередко замечал я, что тот или другой благовоспитанный молодой человек, посещавший лекции профессора, проходил мимо двери аудитории и тихонько отворял дверь, ведущую в комнату профессорши, и так же тихо в нее входил. Право, я должен думать, что это делалось не совсем по нечаянности; по крайней мере никто не спешил исправить свою ошибку, но всякий входящий уходил по истечении некоторого времени с таким улыбающимся и довольным лицом, как будто посещение профессорши было столь же приятно и полезно, как и эстетическая лекция профессора. Прекрасная Летиция (так звали жену профессора) не особенно меня жаловала. Она не пускала меня в свою комнату и была, пожалуй, права, так как действительно даже самый культурный пудель неуместен там, где он на каждом шагу подвергается опасности разорвать кружева и выпачкать платья, лежащие на всех стульях. Но злой гений профессорши пожелал, чтобы я проник раз в ее будуар. Господин профессор выпил однажды за полуденной трапезой больше вина, чем это было нужно, и потому пришел в самое вдохновенное настроение. Придя домой, он против обыкновения пошел прямо в комнату своей жены, и я, сам не знаю – как, по какому-то необыкновенному влечению, тоже проскочил в дверь. Профессорша была в домашнем платье, белизна которого равнялась белизне только что выпавшего снега. Весь ее наряд указывал не только на известную заботливость, но и на глубочайшее искусство одеваться, прячущееся за простотой и столь же верно одерживающее победу, как враг, скрытый в засаде. Профессорша была действительно прелестна, и полупьяный профессор почувствовал это сильнее, чем когда-либо. Полный любви и восторга, он осыпал свою прелестную супругу нежнейшими именами и совершенно не заметил рассеянности и беспокойства, ясно выражавшихся во всей особе профессорши. Возрастающая нежность вдохновенного эстетика была мне неприятна и тяжела. По своей старой привычке я начал обыскивать пол. Как раз в ту минуту, как профессор в величайшем экстазе воскликнул: «Божественная, небесная женщина, позволь…», я ловко прискакал к нему на задних лапах и, как водится в таких случаях, слегка помахивая хвостом, поднес ему изящную мужскую перчатку оранжевого цвета, которую я нашел под софой у госпожи профессорши. Профессор пристально взглянул на перчатку и, как бы внезапно пробудившись от сладкого сна, воскликнул: «Что это такое? Кому принадлежит эта перчатка? Как она попала в эту комнату?» При этом он взял перчатку у меня из пасти, осмотрел ее, поднес к носу и опять воскликнул: «Откуда явилась эта перчатка? Летиция, говори, кто у тебя был?»
– Какой ты странный, милый Лотар, – отвечала прекрасная верная Летиция с каким-то особенным замешательством, которое она напрасно старалась побороть, – кому же может принадлежать эта перчатка? Здесь была майорша и, вероятно, уходя, оставила перчатку; она, вероятно, искала ее потом на лестнице.
– Майорша! – воскликнул профессор, совершенно вне себя. – Майорша – маленькая женщина, вся рука которой поместится в большом пальце этой перчатки! Ад и черти, какой франт был здесь? Эта проклятая вещь пропитана душистым мылом; несчастная, кто был здесь? Какой сокрушающий адский обман разрушил здесь мой покой и счастье? Бессовестная, развратная женщина!
Профессорша только что собиралась упасть в обморок, как вошла горничная, и я, довольный, что могу избегнуть фатальной супружеской сцены, поспешно убежал.
Весь день профессор был молчалив и погружен в думы. Одна мысль, по-видимому, занимала его и мучила. «Может ли это быть он?» – вот слова, которые время от времени вылетали из его уст. Под вечер он взял шляпу и палку; я весело залаял и запрыгал. Он долго смотрел на меня, слезы навернулись у него на глазах, и он сказал мне тоном глубокого уныния: «Мой добрый Понто, честная, верная душа!» Потом он быстро пошел к воротам, и я за ним, твердо решивши развеселить бедного человека всеми средствами, какими я мог располагать. У самых ворот встретился нам верхом на английской лошади барон Алкивиад фон Випп, один из самых изящных господ в нашем городе. Завидев профессора, барон любезно поклонился ему и спросил о здоровье сначала самого профессора, а потом и профессорши. Профессор в замешательстве пробормотал несколько непонятных слов.
– Да, правда, сегодня очень жарко, – сказал барон и вынул из бокового кармана сюртука тонкий носовой платок. Вместе с платком оттуда выскользнула и перчатка, которую я, по своему обыкновению, принес моему господину. Профессор жадно выхватил у меня из пасти перчатку и воскликнул:
– Это ваша перчатка, господин барон?
– Да, – ответил барон, удивляясь горячности профессора, – я, кажется, выронил ее сейчас из кармана, а услужливый пудель ее подобрал.
– В таком случае, – сказал профессор ледяным тоном, подавая перчатку, которую я нашел под софой у профессорши, – я буду иметь удовольствие возвратить вам еще одну перчатку, составляющую пару этой перчатки, – ту, которую вы вчера потеряли.
Не дожидаясь ответа заметно смущенного барона, профессор бросился бежать, как безумный.
Я остерегся сопровождать профессора в комнату его дражайшей супруги, так как предчувствовал бурю, влияние которой почувствовалось вскоре даже в сенях. Я притаился как раз в уголку сеней и увидел, как профессор с раскрасневшимся лицом, пылающим пламенной яростью, вытолкнул служанку из двери, а потом, когда она попробовала сказать ему какое-то дерзкое слово, и из дома. Только поздно ночью профессор, совершенно изнеможенный, прошел в свою комнату. Я легким повизгиванием выразил ему мое искреннее участие в постигшем его горе. Тогда он обнял меня и прижал к своей груди, как будто я был его лучшим, сердечным другом.
– Добрый, честный Понто, – сказал он самым жалобным тоном, – правдивая душа, ты, ты один пробудил меня от глупого сна, мешавшего мне видеть мой позор, и привел меня к тому, что я сбросил ярмо, в которое запрягла меня фальшивая женщина. Теперь я снова буду свободным человеком! Чем могу я отблагодарить тебя, Понто? Никогда, никогда не должен ты меня покидать! Я буду тебя беречь и лелеять, как лучшего своего друга, и ты один будешь меня утешать, когда я буду страдать при мысли о моей жестокой судьбе.
Эти трогательные проявления благородного чувства благодарности были прерваны кухаркой, которая ворвалась в комнату с бледным, испуганным лицом и сообщила профессору страшную весть, что профессорша лежит в судорогах и сейчас отдаст богу душу. Профессор полетел к жене!
Много дней я почти не видел профессора. Моя пища, о которой прежде любовно заботился сам господин, была теперь поручена кухарке, ворчливой и гадкой особе, которая давала мне с ворчаньем только самые дрянные, почти несъедобные куски. Иногда она и совсем обо мне забывала, так что я принужден был побираться у добрых знакомых и даже отправлялся на добычу, чтобы утолить свой голод. Наконец однажды, когда я, голодный и ослабевший, шарил по дому, свесивши уши, профессор подарил меня некоторым вниманием.
– Понто, – воскликнул он, улыбаясь, так как вообще лицо его сияло, как солнце, – где ты был, моя старая, честная собака? Я так давно тебя не видел! Мне кажется, что совершенно против моей воли тебя забросили и плохо кормили? Ну поди же, поди сюда, сегодня я опять буду кормить тебя сам.
Я последовал в столовую за добрым господином. Госпожа профессорша, цветущая как роза и такая же сияющая, как и ее супруг, вышла мне навстречу. Оба были друг с другом нежнее, чем когда-либо; она называла его «ангелом», а он ее «мышкой», и при этом они миловались и целовались, как два голубка. Смотреть на это было сущее наслаждение. Со мной прелестная дама была тоже приветлива, как никогда, и ты можешь себе представить, добрый Мур, что при моей природной любезности я сумел вести себя достаточно благовоспитанно и изящно. Кто бы мог подозревать, что меня ожидало! Мне было бы тяжело рассказывать тебе подробно все предательские штуки, которые проделывали со мной враги, чтобы меня погубить, и, кроме того, это могло бы тебя утомить. Я ограничусь тем, что сообщу тебе только немногие из них, которые могут дать тебе верную картину моего несчастного положения. Мой господин имел обыкновение приготовлять мне в углу столовой, у печки, в то время как он сам ел, обычную порцию супа, овощей и мяса. Я ел так прилично и чисто, что на выложенном плитами полу не оставалось ни одного пятнышка. Каков же был мой ужас, когда однажды за обедом чашка, к которой я только что подошел, рассыпалась на куски, и вся моя пища разлилась по прекрасному полу! Профессор гневно накинулся на меня с бранными словами, и, несмотря на то, что профессорша старалась меня извинить, на ее бледном лице была написана сильная досада. Она полагала, что если нельзя будет отчистить грязное пятно, то это место можно отполировать или же вставить новую плиту. Профессор чувствовал глубочайшее отвращение к подобным починкам, он уже слышал заранее, как скребут и колотят мастеровые, и потому милые извинения профессорши именно и заставили его еще живее почувствовать мою неловкость и наградить меня, кроме брани, еще и двумя добрыми затрещинами. Я стоял, сознавая свою невиновность, совершенно озадаченный, и не знал, что мне думать и что говорить. Только тогда, когда то же самое повторилось два или три раза, я заметил подвох: мне подавали полуразбитые блюда, которые при малейшем прикосновении должны были разлетаться на куски. Я не смел больше оставаться в комнате, я получал свою пищу на дворе от кухарки и так скудно питался, что, побуждаемый страшным голодом, должен был отыскивать кусочки хлеба или косточки. При этом поднимался всегда страшнейший шум, и меня упрекали в себялюбивом воровстве, тогда как тут могла быть речь только об удовлетворении первейших естественных потребностей. Но вскоре произошло нечто худшее… С страшным криком нажаловалась кухарка, что у нее пропала из кухни прекрасная баранья нога, и что, наверно, ее стащил я. Дело это довели до профессора, как нечто очень важное. Он сказал, что никогда не замечал во мне раньше наклонностей к воровству и что даже мой воровской орган был поэтому мало развит; по его мнению, было также невероятно и то, чтобы я съел целую баранью ногу так, чтобы не осталось от нее ни следа. Стали искать и нашли в моей постели остатки бараньей ноги!.. Мур! Я клянусь тебе, положа лапу на сердце, что я был совершенно неповинен, что мне даже не приходило в голову воровать жарко́е, но к чему уверенья в моей невиновности, когда доказательства говорили против меня. Профессор был тем более недоволен, что держал мою сторону и обманулся в своем хорошем мнении обо мне. Меня сильно избили. Но если профессор и после того давал мне почувствовать свое неудовольствие, зато профессорша была все приветливее; она гладила меня по спине, чего никогда не делала раньше, и даже время от времени давала мне хорошие куски. Мог ли я подозревать, что все это была только обманчивая игра! Но вскоре это обнаружилось. Дверь в столовую была отворена; я с пустым желудком тоскливо смотрел туда и горестно вспоминал то доброе время, когда я, чувствуя распространяющийся по дому сладостный аромат жаркого, не напрасно вопросительно взглядывал на профессора и слегка пофыркивал носом. Вдруг профессорша позвала: «Понто, Понто» – и ловко подала мне прекрасный кусок жаркого, держа его между нежным большим и маленьким указательным пальчиками. Могло быть, что в энтузиазме раздраженного аппетита я схватил кусок немного поспешнее, чем это следовало, но я не укусил лилейную ручку, уверяю тебя, милый Мур. Однако профессорша громко воскликнула: «Злая собака!» – и опрокинулась на стул, как бы в обмороке, причем, к великому моему ужасу, я действительно увидел две капли крови на ее пальце. Профессор пришел в ярость.
Он бил меня, толкал ногами и так безжалостно терзал меня, что я, верно, не сидел бы здесь с тобой на солнышке, милый мой кот, если бы не спасся из дома бегством. О возвращении нечего было и думать.
Я видел, что ничего нельзя было сделать против черной клеветы, пущенной против меня профессоршей из мести за баронскую перчатку, и решил сейчас же найти себе другого господина. Прежде мне было бы это чрезвычайно легко, благодаря прекрасным дарованиям, которыми наградила меня мать-природа, но голод и скорбь довели меня до того, что я боялся получить отказ из-за своего жалкого вида. Печальный и озабоченный мыслью о своем пропитании, проскользнул я под ворота. Мимо меня проходил барон Алкивиад фон Випп, и я сам не знаю, как пришла мне в голову мысль предложить ему мои услуги. Быть может, это было неясное сознание того, что таким образом я могу отомстить неблагодарному профессору, как это и случилось впоследствии.
Я подошел к барону и, видя, что он довольно доброжелательно на меня смотрит, без церемоний последовал за ним на его квартиру.
– Смотрите, – сказал он молодому человеку, которого звал своим камердинером, хотя у него и не было другого слуги, – смотрите, Фридрих, какой за мной увязался пудель. Хорошо, если бы он был покрасивее.
Фридрих похвалил выражение моего лица и мое стройное сложение и сказал, что, вероятно, хозяин плохо меня содержал и потому, вероятно, я его оставил. Он прибавил, что пуделя, увязывающиеся за людьми по свободному влечению, бывают обыкновенно верными животными, так что барону следовало за меня держаться.
Хотя, благодаря заботам Фридриха, я скоро получил прекрасный вид, барон, по-видимому, не особенно мной дорожил, и я сопровождал его только на прогулки.
Но все это переменилось. Во время одной из прогулок мы встретили профессоршу. Добрый Мур, ты должен признать добродушный нрав, – да, именно так и скажу я, – добродушный нрав честного пуделя, если я уверю тебя, что, несмотря на все зло, причиненное мне этой женщиной, я был несказанно рад видеть ее. Я плясал перед ней, весело лаял и выказывал ей свою радость на всевозможные лады.
– Смотрите-ка! Понто! – воскликнула она, погладила меня и многозначительно посмотрела на остановившегося барона Виппа. Я побежал к своему господину, который начал меня ласкать. По-видимому, он напал на какую-то необыкновенную мысль, он несколько раз сряду пробормотал про себя: «Понто, Понто, если бы это было можно!»
Мы дошли до ближайшего увеселительного места. Профессорша села вместе со своим обществом, в числе которого, однако, не было доброго профессора. Неподалеку от нее сел барон Випп, так что, не будучи особенно замечен другими, он все время глядел на профессоршу. Я стал против своего господина и уставился на него, слегка помахивая хвостом, как будто я ожидал его приказаний.
– Понто, – говорил он, – Понто, если бы это было возможно! Однако надо попробовать, – прибавил он после краткого молчания.
Он вырвал из своей записной книжки листок бумаги, написал на нем несколько слов карандашом, свернул его, засунул мне за ошейник, показал мне на профессоршу и тихонько сказал:
– Понто, allons!
Я не был бы так умен и опытен в житейских делах, как это есть на самом деле, если бы не угадал сразу все, что нужно. Поэтому я сейчас же подбежал к столу, у которого сидела профессорша, и сделал вид, что меня привлекает прекрасный пирожок на столе. Профессорша была сама приветливость: одной рукой она протянула мне пирожок, а другой – трепала меня по шее. Я почувствовал, как она вытащила у меня бумажку. Вскоре затем она оставила общество и пошла по одной из ближайших дорожек. Я последовал за ней. Я видел, как она жадно прочла слова барона, вынула из своего рабочего мешочка карандаш, написала несколько слов на той же бумажке и снова ее свернула.
– Понто, – сказала она потом, смотря на меня лукавыми глазами, – ты будешь очень умный и понятливый пудель, если вовремя принесешь то, что нужно.
При этом она засунула мне бумажку за ошейник, а я немедленно побежал к своему господину. Тот сейчас же сообразил, что я принес ответ, и немедленно вытащил бумажку из-под моего ошейника. Слова профессорши звучали, вероятно, очень утешительно и приятно, так как глаза барона загорелись радостью, и он воскликнул в восхищении:
– Понто, Понто, ты – великолепный пудель, тебя привела ко мне моя счастливая звезда!
Ты легко себе представишь, добрый мой Мур, как я обрадовался, увидав, какое высокое мнение возымел обо мне мой господин после того, что случилось.
От радости начал я проделывать почти без всякого приглашения всевозможные штуки. Я говорил по-собачьи, умирал, снова воскресал и так далее.
– Удивительно смышленая собака! – воскликнула старая дама, сидевшая неподалеку от профессорши.
– Удивительно смышленая! – отвечал барон.
– Удивительно смышленая! – прозвучал, как эхо, голос профессорши.
Я скажу тебе коротко, добрый Мур, что я заботился о переписке, совершаемой вышеупомянутым образом, и забочусь о ней и теперь, а иногда бегаю даже с письмецом в квартиру профессора, когда его не бывает дома. Когда же барон Алкивиад фон Випп пробирается в сумерки к прекрасной Летиции, я остаюсь у дверей, и если вдали покажется господин профессор, то я произвожу такой чертовский гвалт своим лаем, что господин мой так же хорошо, как и я, чует близость врага и скрывается.
Мне казалось, что я не должен хвалить поведение Понто: я подумал о покойном Муциусе, о моем собственном глубоком отвращении ко всякому ошейнику, и это одно уже выяснило мне, что честный нрав, присущий всякому правдивому коту, гнушается любовными шашнями подобного рода. Все это я открыто высказал юному Понто, но он засмеялся мне в лицо и сказал, что едва ли кошачья нравственность может быть так строга, да и самому мне, вероятно, случалось время от времени выпрыгивать за веревочку, то есть делать нечто, выходящее за пределы узкого морального ящика. Я вспомнил про Мину и промолчал.
– Во-первых, добрый мой Мур, – продолжал Понто, – существует очень простое житейское правило, гласящее, что никто не уйдет от своей судьбы, которая делает все по-своему; как образованный кот, ты можешь прочесть об этом в одной книге весьма приятного стиля, под названием «Jacques le fataliste»[129]. He было ли предопределено роком, чтобы профессор эстетики Лотарио выказал вполне определенно предназначенное ему природой призвание вступить в тот большой орден, к которому принадлежит столько мужчин, нося его знаки с величайшим достоинством и важностью, ничего об этом не зная. Этому призванию последовал бы господин Лотарио, даже если бы не было на свете барона Алкивиада фон Виппа и Понто. Ну а если бы господин Лотарио заслужил нечто лучшее, и я не перешел бы в ряды армии его врагов? Но тогда, конечно, барон нашел бы другие средства объясняться с профессоршей, и то же самое зло было бы сделано профессору, не принося мне той пользы, которую извлекаю я теперь из приятных сношений барона с прекрасной Летицией. Мы, пуделя, не такие уж строгие моралисты, чтобы забывать о собственном теле и пренебрегать хорошими кусками, и без того уже достаточно скудно раздаваемыми жизнью.
Я спросил молодого Понто, действительно ли была так велика и важна польза, получаемая им на службе у барона Алкивиада фон Виппа, чтобы ею искупалось неприятное и тяжелое подчинение, связанное с нею. При этом я довольно ясно дал ему понять, что это подчинение всегда было бы неприятно коту, в груди которого не угасает дух свободы.
– Ты говоришь, добрый Мур, – гордо улыбаясь, ответил Понто, – то, что доступно твоему пониманию, или, вернее, то, что представляется тебе, благодаря твоей полной неопытности по части высших житейских отношений. Ты не знаешь, что значит быть любимцем такого любезного и благовоспитанного мужчины, как барон Алкивиад фон Випп. О том, что я сделался его любимцем с тех пор, как выказал свой ум и услужливость, я мог бы, вероятно, и не говорить тебе, мой свободолюбивый кот. Краткое описание нашего образа жизни заставит тебя живо почувствовать всю приятную и благодетельную сторону моего теперешнего состояния. Встаем мы, то есть я и мой господин, не слишком рано, но и не слишком поздно, ровно в одиннадцать часов. При этом я должен заметить, что мое мягкое и широкое ложе устроено недалеко от кровати барона, и мы настолько согласно храпим, что при внезапном пробуждении не знаем, кто из нас храпел. Барон звонит в колокольчик, и сейчас же является камердинер, который приносит барону стакан дымящегося шоколада, а мне фарфоровую чашку, полную прекрасного, сладкого кофе со сливками, которую я осушаю с таким же аппетитом, как барон свой бокал. После завтрака мы полчаса играем друг с другом, и это движение не только поддерживает наше здоровье, но и веселит наш дух. Если погода хороша, то барон садится у открытого окна и рассматривает проходящих в бинокль. Если же прохожих мало, то существует еще одна забава, которой барон может предаваться целые часы, не уставая. Под его окном лежит камень, отличающийся особенным красноватым цветом, а в середине этого камня есть маленькая дырка. Барон умеет так ловко плевать, что попадает как раз в эту дырку. Долгим и настойчивым упражнением достиг он того, что попадает на пари из трех раз один, и немало уже выиграл. После этой забавы наступает важный момент одевания. Тщательную прическу и завивку волос, а в особенности искусное завязывание галстука производит барон один, без помощи камердинера. Так как эти трудные операции производятся довольно долго, то Фридрих пользуется этим временем, чтобы совершить и мой туалет, то есть моет меня мылом, разведенным в теплой воде, расчесывает мои длинные волосы гребнем, оставляя на нужных местах изящную завивку, и надевает на меня красивый серебряный ошейник, которым почтил меня барон, как только он открыл мои добродетели. Дальнейшие моменты посвящаются литературе и искусствам. Мы идем в какой-нибудь ресторан или кафе, кушаем бифштекс или котлету, выпиваем рюмку мадеры и слегка заглядываем в новейшие журналы и газеты. Затем начинаются послеполуденные визиты. Мы посещаем ту или другую великую актрису, певицу, а иногда и танцовщицу, чтобы сообщить ей новости дня, но главным образом рассказать о дебютах, происходивших накануне вечером; замечательно, с каким искусством барон Алкивиад фон Випп умеет сообщать свои новости так, чтобы всегда поддерживать в дамах хорошее расположение духа. Никогда еще не удавалось противнице или по крайней мере соревновательнице присвоить себе хоть часть славы, венчающей царицу, посещаемую им в данную минуту в ее будуаре. Бедняжку освистали, осмеяли, и если уж нельзя умолчать о действительно блестящем успехе, то барон наверное сумеет преподнести новую скандальную историю про вышеупомянутую особу, и история эта будет так же жадно подхвачена, как и распространена, чтобы убить своим ядом цветы на венке артистки. Самые важные визиты к графине А., баронессе Б., посланнице В. и т. д. длятся до половины четвертого, затем барон обделывает собственные дела, так что в четыре часа он может спокойно садиться за стол. Это совершается обыкновенно тоже в ресторане. После обеда мы идем в кафе, играем партию на биллиарде и, если позволяет погода, совершаем небольшую прогулку; я делаю это, конечно, пешком, а барон по большей части верхом. Наконец приходит время идти в театр, чего барон никогда не пропускает. Вероятно, он играет в театре особенно важную роль; он не только посвящает публику во все отношения, касающиеся сцены, и знакомит ее с вновь появившимися артистами, но также и распределяет надлежащие похвалы и порицания и вообще дает верное направление вкусу общества. Он чувствует к этому особенное призвание. Так как даже самым изящным представителям нашей породы несправедливо запрещается вход в театр, то часы представления это – единственное время, когда я разлучаюсь со своим милым бароном и забавляюсь один, по своему личному усмотрению. Как это происходит и как я пользуюсь этим временем, заводя знакомство с английскими собаками, борзыми, мопсами и другими знатными особами, – ты сейчас узнаешь, мой добрый Мур. После театра мы снова кушаем в ресторане, и здесь барон вполне предается своему веселому нраву. Все говорят, смеются и находят все просто божественным, и никто не знает, что он говорит, чему смеется и что именно нужно считать божественным, но в этом-то и заключается самый высший тон и светская жизнь тех, кто знает толк в изяществе так, как мой господин. Нередко отправляется барон поздно вечером в то или другое общество и, вероятно, там уже доходит до совершенства. Но об этом я ничего не знаю, так как барон еще ни разу меня туда не брал, на что у него, вероятно, есть основательные причины. Про то, как прекрасно сплю я на мягкой постели около барона, я тебе уже говорил. Согласись же сам, добрый мой кот, что, судя по тому образу жизни, который я тебе описал, старый, сварливый дядя не должен обвинять меня в беспутном шатании. Правда, как я уже тебе признавался, было время, когда я давал повод ко всевозможным порицаниям: я держался дурного общества и находил особенное удовольствие в том, чтобы всюду врываться непрошеным, особенно на свадебные пирушки, и производить совершенно ненужные скандалы. Но все это делалось не столько из склонности к ненужному задору, сколько из потребности высшей культуры; я не мог удовлетворить ее в доме профессора. Теперь все изменилось. Но кого я вижу? Вот идет барон Алкивиад фон Випп! Он ищет меня, он свистит!.. Au revoir[130], дорогой мой!
Быстрее молнии бросился Понто навстречу своему господину. Внешность барона вполне соответствовала представлению, которое я составил о нем по тому, что говорил мне Понто. Барон был очень высок и не столько строен, сколько худощав. Его одежда, осанка, походка, движения могли считаться прототипом последней моды, но все это, доведенное до утрировки, придавало всей его особе что-то странное и причудливое. В руке у него была очень тонкая тросточка со стальным набалдашником, через которую он заставил Понто несколько раз перепрыгнуть. Как ни унизительно это мне показалось, я должен был, однако, сознаться, что к величайшей ловкости и силе Понто присоединилась теперь еще и грация, которой я раньше у него не замечал. Вообще в том, как барон выступал вперед особенным петушиным шагом, выпятив грудь и втянувши живот, а Понто забегал то вперед, то назад с очень мелкими прыжками, позволяя себе только короткие, несколько гордые поклоны проходящим товарищам, было нечто не вполне для меня уловимое, но импонирующее. Я смутно чуял, что подразумевал мой друг Понто под именем «высшей культуры», и старался, насколько возможно, это себе уяснить. Однако это было очень трудно или, лучше сказать, мои усилия были тщетны.
Впоследствии я увидел, что в некоторых случаях все проблемы и теории, которые могут составиться в уме, ни к чему не ведут, и только живой практикой можно достигнуть знания; высшая культура, которой достигли в лучшем обществе барон Алкивиад фон Випп и пудель Понто, принадлежит именно к таким случаям.
Проходя мимо, барон Алкивиад фон Випп навел на меня свое пенсне. Мне показалось, что я прочел в его взоре любопытство и гнев. Быть может, он заметил мой разговор с Понто и немилостиво к тому отнесся? Я испугался и поспешно убежал вверх по лестнице.
Чтобы исполнить долг хорошего биографа, я должен снова описать состояние моей души и мог бы сделать это всего лучше посредством каких-нибудь дивных стихов, которые с некоторого времени стали мне очень легко даваться. Но теперь…
(М. л.) «…на эти глупые, жалкие игрушки растратил ты лучшую часть своей жизни, а теперь ты горюешь, старый дурак и жалуешься на судьбу, наперекор которой ты шел! К чему были тебе знатные господа и весь свет, над которым ты смеялся и считал его глупым, а сам оказался глупее всех? Ты должен был оставаться ремесленником, делать органы, а не разыгрывать чародея и прорицателя. Тогда не похитили бы ее у меня, моя жена была бы со мною, я сделался бы искусным работником, сильные молодцы стучали и колотили бы вокруг меня, и мы создавали бы произведения, которые стяжали бы себе славу лучше всяких других… А Кьяра?.. Быть может, на шее у нее висели бы веселые мальчики, а на коленях прыгала бы хорошенькая дочка!.. Тысяча чертей, что со мной! Почему я не могу отделаться от прошлого ни на минуту и ищу по всему свету мою потерянную жену?»
Тут мейстер Абрагам, произносивший этот монолог, бросил под стол маленький, начатый им автомат и все свои инструменты, вскочил с места и порывисто заходил по комнате. Мысль о Кьяре, почти никогда его не покидавшая, вызвала в душе его мучительные воспоминания, но в этих муках исчезла досада, свойственная людям низших слоев, на то, что он заглянул дальше своего ремесла и начал заниматься истинным искусством. Он открыл книгу Северино и долго смотрел на прекрасную Кьяру. Как лунатик, утративший сознание того, что его окружает, и действующий автоматически, по внушению внутренних чувств, подошел мейстер Абрагам к ящику, стоявшему в углу комнаты, снял лежащие на нем книги и вещи, открыл его, вынул стеклянный шар и весь аппарат для таинственных экспериментов с невидимкой, прикрепил шар к тонкому шелковому шнурку, свешивавшемуся с потолка, и поставил в комнате все, что нужно для скрытого оракула. Только тогда, когда все было готово, очнулся он от своих грез и очень удивился тому, что он сделал.
– О, – громко простонал он, в бессилии и горести падая в кресло, – о моя бедная, утраченная Кьяра! Никогда не услышу я, как твой сладкий голос открывает то, что скрыто в глубине души человека! Нет больше утешения на земле! Надежда только в могиле!
Тогда стеклянный шар закачался, и послышался мелодический звук, подобный дыханию ветра, тихо скользящему по струнам арфы. Но вскоре звук этот перешел в слова:
Нет, надежда все живет, Не исчезло утешенье; Но душе не сбросить гнет Тяжкой клятвы запрещенья. Мейстер, близко обновленье! Мать скорбящая дает Тяжким ранам исцеленье, Скорбь отраду принесет.– О милосердый бог, – прошептал старик дрожащими губами, – это она сама говорит со мной с высоты небесной; ее уже нечего искать между живыми!
Тогда еще раз послышался мелодичный звук, и еще тише и отдаленнее прозвучали слова:
Там для смерти места нет, Где любовь не умирает; Если грустен был рассвет, Вечер ярко засияет. Час блаженный наступает: Всех печалей минет след. Сила вечная свершает Свой таинственный завет.То стихая, то усиливаясь, ласкали сладостные звуки слух старика, которого сон объял своим черным покровом. Но в темноте промелькнула, сияя прекрасной звездой, греза былого счастья, и Кьяра, как прежде, лежала на груди у мейстера, и оба были снова молоды и блаженны, и никакой темный дух не мог омрачить неба их счастливой любви.
Здесь издатель должен поставить на вид благосклонному читателю, что на этом месте кот совершенно изорвал два макулатурных листа, вследствие чего в этом изобилующем трещинами рассказе образовалась еще одна трещина. Но по числу страниц не хватает только восьми столбцов, в которых нет, по-видимому, ничего особенно замечательного, так как продолжение довольно хорошо вяжется с предыдущим. Дальше идет следующее:
…не должен был ждать. Князь Ириней был вообще открытый враг всяких необычных случаев, в особенности когда посягали на его особу ради ближайшего расследования дела. Он взял двойную щепотку табаку, как делал во всех критических случаях, пронизал лейб-егеря известным фридриховским взглядом и сказал:
– Я думаю, Лебрехт, что вы – просто мечтатель и лунатик, вам представляются призраки, и вы производите совсем напрасный шум.
– Светлейший князь, – спокойно ответил лейб-егерь, – велите прогнать меня, как наглого плута, если все не случилось буквально так, как я сейчас рассказал. Руперт – завзятый мошенник.
– Как, – воскликнул князь, полный гнева, – как! Руперт, мой старый, верный кастелян, пятнадцать лет служивший княжескому дому, который ни разу не давал заржаветь ключу и так хорошо смотрел за замками, он – мошенник? Лебрехт, да ты с ума сошел! Ты взбесился! Сто тысяч чер…
Здесь князь остановился, как всегда, когда дело доходило до проклятий, противоречивших княжескому достоинству. Лейб-егерь воспользовался этой минутой, чтобы поскорее вставить:
– Ваша светлость начинаете горячиться и браниться, а между тем нельзя же мне молчать: я должен говорить только чистую правду.
– Кто горячится, кто бранится? – сказал князь уже спокойнее. – Бранятся ослы! Повтори мне все дело в коротких словах, чтобы я мог в тайном заседании донести об этом совету и обсудить дальнейшие меры. Если Руперт действительно мошенник… Но это мы увидим потом.
– Как я уже сказал, – начал лейб-егерь, – когда я светил вчера фрейлен Юлии, тот самый человек, который давно уже здесь шныряет, проскользнул мимо нас. «Постой, – подумал я, – уж попадешься ты мне», – и как только довел до конца милую барышню, так сейчас же затушил свой факел и стал за кустом в темноте. Скоро тот самый человек вышел из кустов и тихонько постучался в дом. Я осторожно подкрался и увидел, как отворилась дверь дома, оттуда вышла девушка и с ней вместе проскользнул в дом человек. Это была Нанни, – вы знаете, ваша светлость, красивая Нанни, что служит у госпожи советницы.
– Coquin![131], – воскликнул князь. – С высокопоставленными, коронованными особами не говорят о красивых Нанни. Ну что же дальше, mon fils[132]? – прибавил он.
– Да, – продолжал лейб-егерь, – да, красивая Нанни; я бы никогда не заподозрил ее в подобных глупостях. «Так, значит, это обыкновенная любовная интрига», – подумал я; но у меня не выходило из головы, что в этом есть еще что-то другое. Я остался около дома. Через некоторое время вернулась домой госпожа советница, и едва вошла она в дом, как наверху открылось окошко, и оттуда с невероятной ловкостью выскочил этот человек прямо на прекрасные гвоздики и левкои, стоящие за решеткой, за которыми так заботливо ухаживает сама милая фрейлен Юлия. Садовник в страшном горе, он стоит на дворе с разбитыми горшками и хочет сам жаловаться вашей светлости, но я его не пустил, потому что негодяй уже с раннего утра нализался.
– Лебрехт, – перебил князь лейб-егеря, – это какое-то подражание: то же самое было в опере господина Моцарта «Свадьба Фигаро», которую я видел в Праге. Не уклоняйтесь от правды, егерь!
– Я не прибавляю ни одного слова, – говорил Лебрехт, – и могу все подтвердить под присягой. Малый выпрыгнул, и я думал сейчас же поймать его, но быстрее молнии проскользнул он мимо меня и побежал – куда? Ну, как вы думаете, ваша светлость, куда он побежал?
– Я ничего не думаю, – торжественно произнес князь, – не беспокой меня пустыми вопросами о моих мыслях, егерь, а рассказывай спокойно всю историю до конца, тогда я и буду думать.
– Человек этот побежал, – продолжал егерь, – прямо в необитаемый павильон. Да, необитаемый! Как только он постучался в дверь, там сейчас же стало светло, и тот, кто вышел, был не кто иной, как честный господин Руперт, и незнакомец последовал за ним в дом, дверь которого тот снова запер. Вы видите, ваша светлость, что Руперт завел сношения с опасными и неизвестными гостями, которые, судя по их шнырянью, замышляют что-то недоброе. Кто знает, к чему это клонится? Может быть, сам светлейший князь в спокойном и мирном Зигхартсгофе должен опасаться злых людей.
Князь Ириней считал себя очень значительной княжеской особой и потому, конечно, не раз мечтал о всяких придворных интригах и опасностях. Последние слова егеря очень тяжело легли ему на сердце, и на несколько минут он впал в глубокое раздумье.
Егерь, – сказал он затем с широко раскрытыми глазами – егерь, ты прав. Дело о неизвестном человеке, который здесь шныряет, и о свете, который виден ночью в павильоне, значительнее, чем это может казаться в первую минуту. Моя жизнь в руках божьих; но меня окружают верные слуги, и если один из них пожертвует собой для меня, я, конечно, щедро награжу его семейство. Распространи это между моими слугами, добрый Лебрехт. Ты знаешь, что княжеское сердце свободно от всяких опасений и свойственного человечеству страха смерти, но существуют обязанности к своему народу, для него нужно себя сохранять, – в особенности, когда наследник трона еще несовершеннолетний. Я оставлю дворец не прежде, чем разоблачу козни в павильоне. Лесничий должен явиться вместе с егерями и остальными служителями, все мои слуги должны вооружиться. Павильон следует сейчас же окружить, дворец накрепко запереть. Позаботься об этом, мой добрый Лебрехт! Я сам наточу свой охотничий нож, а ты заряди мои пистолеты, но не забудь спустить курки, чтобы не случилось несчастья. И пусть мне дадут знать, когда комнаты павильона будут взяты приступом и осажденные принуждены будут сдаться, чтобы я мог пройти во внутренние покои. Пусть тщательно обыщут пойманных прежде, чем их приведут к трону, чтобы никто не мог сомневаться… но что ты стоишь? Что ты на меня смотришь? Чему ты улыбаешься? Что это значит, Лебрехт?
– Э, ваша светлость, – отвечал с лукавым видом лейб-егерь, – совсем не нужно звать лесничего и его людей.
– Отчего? – сердито спросил князь. – Отчего? Ты, кажется, смеешь мне возражать? А тем временем опасность возрастает с каждой минутой? Тысячу чер… Лебрехт, бросайся на лошадь! Лесничий, его люди, заряженные ружья – все это должно быть здесь в одну минуту!
– Да они уже здесь, ваша светлость, – сказал лейб-егерь.
– Как? Что? – воскликнул князь, раскрывая рот как бы для того, чтобы дать свободный выход своему удивлению.
– Как только рассвело, – продолжал егерь, – я уже был у лесничего. Павильон так тщательно окружен, что ни одна кошка не может оттуда выскочить, не только человек.
– Ты великолепный егерь, Лебрехт, – сказал растроганный князь, – и верный слуга княжеского дома. Если ты спасешь меня от этой опасности, то можешь смело рассчитывать на почетную медаль, которую я сам придумаю и велю отчеканить из серебра или из золота сейчас же после взятия приступом павильона, сколько бы у нас ни осталось людей.
– Если позволите, ваша светлость, – сказал лейб-егерь, – то мы сейчас же приступим к делу, то есть отворим двери павильона, поймаем негодяя, и все будет кончено; да, да, поймаем того молодца, который столько раз от меня ускользал, этого проклятого прыгуна, этого дьявольского молодчика, что непрошено расположился в павильоне, – словим этого мошенника, что обеспокоил фрейлен Юлию!
– Какой мошенник? – спросила советница Бенцон, входя в комнату. – Какой это мошенник обеспокоил Юлию? О чем это вы говорите, добрый Лебрехт?
Князь пошел навстречу Бенцон торжественным, значительным шагом, как человек, готовящийся к чему-то великому и важному, требующему напряжения всех его душевных сил. Он взял руку советницы, нежно пожал ее и сказал очень мягким голосом:
– Бенцон! Даже в уединении и в полной замкнутости особа князя подвержена опасности. Такова судьба князей: ни кротость, ни доброта сердца не уберегают их от враждебного демона, зажигающего в груди предательских вассалов зависть и желание властвовать! Бенцон! Самое горькое предательство подняло против меня покрытую змеями голову Медузы, и вы видите меня в величайшей опасности. Но вскоре настанет момент катастрофы; этому верному слуге буду я обязан, быть может, жизнью и троном! Если же суждено мне иное, я покорюсь своей участи. Я знаю, Бенцон, вы сохранили ваше расположение ко мне, и потому я могу патетически воскликнуть, как некий король в трагедии немецкого поэта, которою мне принцесса Гедвига недавно испортила весь чай: «Ничто не погибло, пока вы моя!» Поцелуйте меня, добрая Бенцон! Дорогая Мальхен, мы остались все те же!.. Боже милосердый, я забылся в своем смятеньи!.. Милая моя, будем сдержанны: когда появится изменник, мы уничтожим его одним взглядом. Лейб-егерь, пусть начнется приступ на павильон!
Лейб-егерь бросился было вперед.
– Стойте! – воскликнула Бенцон. – Какой приступ? На какой павильон?
По приказанию князя лейб-егерь еще раз дал подробный отчет о всем случившемся.
Пока лейб-егерь говорил, Бенцон становилось, по-видимому, все более и более неловко. Когда он кончил, она воскликнула со смехом:
– Произошло самое смешное недоразумение, какое только может быть! Я прошу вас, ваша светлость, сейчас же отослать лесничего со всеми его людьми. Тут не может быть речи ни о каком заговоре, вам не грозит ни малейшей опасности; неизвестный житель павильона уже взят в плен.
– Но кто же, – с удивлением спросил князь, – кто тот несчастный, что поселился в павильоне без моего разрешения?
Тогда Бенцон шепнула князю на ухо:
– Это принц Гектор. Он там скрывался!
Князь отступил на несколько шагов, как бы пораженный внезапным ударом невидимой руки, и затем воскликнул:
– Кто? Как? Est-il possible?[133] Бенцон, я брежу! Принц Гектор?
Взор князя упал на лейб-егеря, который, совершенно смущенный, мял в руках свою шляпу.
– Егерь, егерь, – закричал князь, – вон отсюда! Лесничий, люди, все домой, домой! Ни одного человека не должно быть видно!
– Бенцон, – продолжал он, обращаясь к советнице, – добрая Бенцон, можете вы себе представить, что Лебрехт назвал принца Гек тора «молодцом» и «мошенником»! Несчастный! Но это останется между нами, Бенцон; это государственная тайна. Скажите же мне, объясните мне, как могло случиться, что принц собрался уехать, а сам скрывался здесь, точно он искал приключений?
Наблюдения лейб-егеря вывели Бенцон из больших затруднений. Если она и убедилась в том, что с ее стороны было бы неблагоразумно открывать князю присутствие принца в Зигхартсгофе и тем менее его вторжение к Юлии, то во всяком случае дело не могло оставаться в этом положении, с каждой минутой становившемся все опаснее и для Юлии, и для тех отношений, которые сама Бенцон поддерживала с таким трудом. Теперь же, когда лейб-егерь открыл засаду принца и миновала опасность, избавление от которой совершилось не при особенно доблестных обстоятельствах, она не могла его выдать, не выгородивши Юлию. Итак, она объявила князю, что, вероятно, между принцессой Гедвигой и принцем произошла любовная ссора, что и заставило принца объявить о своем быстром отъезде и скрываться со своим верным камердинером вблизи возлюбленной. Нельзя не сознаться, что в таком поведении было нечто романтическое и причудливое, но какой же возлюбленный не склонен к этому? Кроме того, камердинер принца – очень большой поклонник ее Нанни, которая и открыла ей эту тайну.
– Ну, – воскликнул князь, – благодарение небу! Так это камердинер, а не сам принц пробрался в ваш дом и выскочил потом из окна на цветочные горшки, как паж Керубино. Мне уже приходили в голову разные неприятные мысли. Принц и – прыгать в окно! Как бы это плохо приняли в свете.
– Однако, – лукаво смеясь, отвечала Бенцон, – я знаю некую княжескую особу, которая не гнушалась доро́гой через окно, когда…
– Вы меня расстраиваете, Бенцон, – прервал князь советницу, – вы меня просто расстраиваете! Оставим прошлое и займемся лучше тем, как поступить теперь с принцем. Вся дипломатия, государственное право и придворные правила летят к черту в этом проклятом положении!
Должен ли я его игнорировать? Должен ли находить его правым? Как должен я поступить? Все путается в моей голове, точно я кружусь по комнате. Это все оттого, что княжеского рода особы вздумали заниматься романтическими штуками!
Бенцон действительно не знала, как оформить дальнейшие отношения с принцем. Но и это затруднение было устранено. Прежде чем советница успела ответить князю, в комнату вошел старый кастелян Руперт и подал князю маленькую сложенную записку, уверяя с плутовским смехом, что она пришла от высокой особы, которую он теперь уже не будет иметь честь держать под замком.
– Так, значит, Руперт, – милостиво сказал князь, обращаясь к старику, – ты знал?.. Ну да, я всегда считал тебя верным слугой моего дома, и теперь ты доказал это на деле, слушаясь приказаний моего высокопоставленного зятя. Я подумаю о твоей награде.
Руперт поблагодарил в самых почтительных выражениях и удалился из комнаты.
В жизни встречается довольно часто, что человека считают особенно честным и добродетельным в ту самую минуту, как он сделал мошенническую штуку. Это самое подумала Бенцон, знавшая, каковы были намерения принца, и вполне убежденная в том, что старый плутоватый Руперт был посвящен в эту тайну.
Князь развернул записку и прочел:
Che dolce più, che piu giocondo stato Saria, di quel d’un amoroso core? Che viver piu felice e più beato Che ritrovarsi in servitu d’Amore? Se non fosse e’huom sempre stimulato Da quel sospetto rio, da quel timore Da quel martir, da quella frenesia, Da quella rabbia, detta gelosia!«В этих стихах великого поэта найдете вы, князь, объяснение моего таинственного поведения. Я думал, что меня не любит та, которую я обожаю, в ком вся моя жизнь, стремление и надежда, к которой горит страстью мое пламенное сердце. Но, к счастью, теперь я убедился в другом; всего несколько часов тому назад узнал я, что я любим, и я выхожу из своего убежища… Любовь и счастье – вот лозунг, который обо мне возвещает! Вскоре я явлюсь приветствовать вас, князь, как почтительный сын ваш.
Гектор».Быть может, благосклонному читателю не будет неприятно, если биограф оставит на время рассказ и набросает эскиз перевода итальянского стихотворения. Оно означает приблизительно следующее:
Что на земле есть слаще, веселее Удела тех, кто страстно полюбил? Тому и жизнь становится милее, Кого Амур крылатый победил, Когда б не то, что всех мучений злее, Тот страшный яд, смертельных полный сил, Когда душа неистово мятется, Тот ужас, ад, что ревностью зовется.Князь с большим вниманием прочел записку два, а потом и три раза сряду, и чело его все более и более омрачалось.
– Бенцон, – сказал он наконец, – что случилось с принцем? Стихи, итальянские стихи, обращенные к княжеской особе, к коронованному тестю, вместо ясного и разумного объяснения. Что это такое! В этом нет никакого смысла. Принц, по-видимому, возбужден совершенно непристойным образом. Насколько я понимаю, стихи говорят о счастии, любви и о мучениях ревности. Что хочет принц сказать своей ревностью? И, бога ради, к кому может он здесь ревновать?.. Скажите мне, добрая Бенцон, находите ли вы в этой записке хотя бы искру здравого смысла?
Бенцон ужаснулась скрытому смыслу, заключавшемуся в словах принца, который она легко могла угадать после того, что случилось вчера в ее доме. Но вместе с тем она удивлялась тонкому обороту, изобретенному принцем для того, чтобы получить возможность, не медля долее, выйти из засады. Она была далека от того, чтобы хоть чем-нибудь выдать свои мысли князю, но постаралась, однако, извлечь из положения вещей столько выгоды, сколько было возможно. Она думала, что Крейслер и мейстер Абрагам были люди, способные разрушить ее тайные планы, и против них считала она возможным употребить всякое оружие, данное ей в руки случаем. Поэтому она напомнила князю про страсть, возникшую в сердце принцессы.
– От проницательного взора принца, – продолжала она, – не могло укрыться настроение принцессы, а странное, сумасбродное поведение Крейслера, несомненно, могло дать повод заподозрить между ними какие-нибудь особые отношения. Этим и объясняется, почему принц грозил Крейслеру смертью, почему он, задумав убить Крейслера, не обратил внимания на горе и отчаяние принцессы, а потом, узнав, что Крейслер жив, вернулся, привлеченный любовной тоской, и тайно наблюдал за невестой. Стихи принца, говорившие о ревности, не могли касаться никого другого, кроме Крейслера, и поэтому нужно и разумно, воспрепятствовать пребыванию Крейслера в Зигхартсгофе, – тем более что он, по-видимому, составил вместе с мейстером Абрагамом заговор, направленный против всех придворных отношений.
– Бенцон, – серьезно проговорил князь, – я много думал о том, что вы говорили мне о недостойной склонности принцессы, и не верю ни одному слову. В жилах принцессы течет княжеская кровь.
– Думаете ли вы, ваша светлость, – горячо сказала Бенцон, краснея до самых глаз, – что женщина княжеской крови лучше всякой другой устоит против страстного биения сердца?
– Вы сегодня в очень странном настроении, госпожа советница, – с досадой сказал князь. – Повторяю, что если бы в сердце принцессы и возникла какая-нибудь недостойная страсть, то это был бы только болезненный припадок, так сказать, судорога, – ведь она же страдает спазмами, – да, болезненный припадок, от которого она очень скоро излечилась бы. Что же касается Крейслера, то это презабавный человек, которому не хватает только надлежащей культуры. Я не думаю, чтобы он был способен на такую страшную дерзость, как желание приблизиться к принцессе. Он дерзок, но совсем на другой лад. Поверьте, Бенцон, его странные манеры ясно показывают, что никакая принцесса не может увлечь его, даже если мы допустим мысль, что такая высокая особа может снизойти до того, чтобы в него влюбиться. Entre nous soit dit, он не очень-то дорожит высокопоставленными лицами, и в этом заключается безвкусное и смешное безумие, делающее его неспособным к придворной службе. Может быть, поэтому он хочет остаться вдали от двора; но если он вернется, я от души буду его приветствовать. Достаточно и того, что он, как узнал я от мейстера Абрагама… Да, от мейстера Абрагама! Его-то уж вы оставьте в покое, Бенцон! Его заговоры всегда клонились ко благу княжеского двора. Что я хотел сказать? Да, довольно того, что капельмейстер, как сказал мне мейстер Абрагам, принужден был скрыться отсюда самым неприличным образом, несмотря на то, что я дружески его принял; он всегда был и останется очень умным человеком, который забавляет меня, несмотря на свои дурацкие манеры, et cela suffit[134].
Советница оцепенела от бешенства, видя, как холодно с ней обращаются. Ничего не подозревая, наткнулась она на подводную скалу там, где думала уверенно и спокойно продолжать свой путь, как по тихой, глубокой реке.
Тем временем на дворе поднялся сильный шум. Въезжал длинный ряд экипажей, сопровождаемый отрядом эрцгерцогских гусар. Обер-гофмаршал, президент, княжеские советники и многие из знатных особ зигхартсвейлерского общества выходили из экипажей. До города дошли вести, что в Зигхартсгофе разыгралась революция, грозившая жизни князя, и теперь эти верные слуги прибыли вместе с другими почитателями двора, чтобы явиться перед особой князя вместе с защитниками государства, которые с большим трудом получили отпуск от губернатора. Князь не находил слов в ответ на громкие уверения собравшихся, что они готовы пожертвовать для его светлости жизнью. Он только что хотел заговорить, как вошел офицер, командовавший отрядом, и спросил князя о плане действий.
По свойству человеческой природы мы всегда испытываем очень неприятное чувство, когда опасность, вызвавшая в нас страх, превращается на наших глазах в пустое и глупое пугало. Нам доставляет радость мысль, что мы счастливо избегли настоящей опасности, а не то, что ее совсем не было.
Так было и теперь, так что князь едва мог сдержать свою досаду и раздражение на весь этот ненужный шум. Мог ли и должен ли был он сказать, что весь шум поднялся из-за свидания камердинера с горничной и романтической ревности влюбленного принца? Он поворачивался то туда, то сюда. Выжидательное молчание всей толпы, нарушаемое только веселым, сулящим победу ржанием гусарских лошадей, угнетало его, как свинец.
Наконец он откашлялся и начал очень патетично:
– Господа, чудесное предопределение неба… что вам нужно, mon ami[135]?
Этой фразой, обращенной к гофмаршалу, прервал князь собственную речь. Действительно, гофмаршал много раз кланялся и давал понять своим взглядом, что произошло нечто важное. Как раз в эту минуту доложили о прибытии принца Гектора.
Лицо князя тотчас же прояснилось; он увидел, что можно быть очень кратким по поводу мнимой опасности, грозившей его трону, и как по мановению жезла превратить достопочтенное собрание в приветствующий принца двор. Он так и сделал.
Весьма скоро явился принц Гектор в блестящей парадной форме, красивый, сильный и гордый, как молодой божок. Князь сделал ему навстречу два шага, но сейчас же отступил, как сраженный молнией. Рядом с принцем Гектором впрыгнул в зал принц Игнатий. Молодой принц становился с каждым днем глупее и неприличнее. Ему необыкновенно понравились гусары, стоявшие на княжеском дворе, он заставил одного из них дать ему саблю, лядунку и шапку и нарядился во все это великолепие. Он скакал по зале, делая короткие прыжки, будто сидя на лошади, с обнаженной саблей в руках и волочил по полу стальное лезвие, смеясь и фыркая от удовольствия.
– Partez, décampez, allez vous en! Tout de suite![136] – сверкая глазами и громовым голосом крикнул князь, увидев Игнатия, который в испуге поскорее выбрался вон.
Никто из присутствующих не был настолько бестактен, чтобы заметить принца Игнатия и всю эту сцену.
Князь во всем солнечном блеске своей прежней кротости и приветливости сказал несколько слов принцу, и затем оба, и князь, и принц, прошлись мимо круга собравшихся, говоря по два-три слова то тому, то другому лицу. Выход был кончен, то есть умные и глубокомысленные речи, которые произносятся в подобных случаях, были распределены надлежащим образом, и князь отправился с принцем в покои княгини, а затем, по настоянию принца, желавшего застать врасплох дорогую невесту, прошел и к принцессе. Они нашли у нее Юлию.
С поспешностью самого пламенного любовника подлетел принц к принцессе, нежно прижал ее руку к своим губам, клянясь, что он жил только мыслью о ней, что несчастное недоразумение заставило его вытерпеть адскую муку, что он не мог больше выносить разлуку с той, которую он обожал, и что только теперь открылось перед ним небесное блаженство.
Гедвига встретила принца с безмятежной веселостью, которая вообще не была ей свойственна. Она начала с принцем самый нежный разговор, какой только может вести невеста, не унижая своего достоинства; она не гнушалась даже тем, чтобы немного поддразнить принца его тайным убежищем, говоря, что она не может себе представить превращение красивее и приятнее того, когда болван для чепца превращается в голову принца. Ведь она принимала за болван для чепца ту голову, которая виднелась в верхнем окне павильона. Это подало повод к разным милым поддразниваниям счастливой пары, восхищавшим, по-видимому, даже князя. Он думал, что теперь-то он отлично видит великое заблуждение Бенцон относительно Крейслера, так как, по его мнению, любовь Гедвиги к красивейшему из мужчин выражалась слишком ясно. И дух, и тело принцессы, казалось, как-то особенно расцвели, как это и бывает обыкновенно с счастливыми невестами. Юлия представляла совершенную противоположность; как только она увидела принца, она вся съежилась под влиянием страха. Бледная, как смерть, стояла она с опущенными глазами, не в силах сделать ни одного движения, и едва могла устоять на месте.
Через некоторое время принц подошел к Юлии со словами: «Фрейлен Бенцон, если не ошибаюсь?»
– Подруга принцессы с самого детства: они – все равно что сестры!..
В то время, как князь произносил эти слова, принц взял руку Юлии и тихо-тихо шепнул ей: «Тебя одну желаю!» Юлия пошатнулась, слезы покатились из-под ее ресниц, и она, наверно, упала бы, если бы принцесса не поторопилась подставить ей стул.
– Юлия, – тихо сказала принцесса, нагнувшись над бедняжкой, – Юлия, возьми себя в руки. Разве ты не видишь, как тяжела моя борьба?
Князь открыл дверь и закричал, чтобы принесли оделюс[137].
– Этого со мной нет, – сказал шедший ему навстречу мейстер Абрагам, – но есть хороший эфир. С кем-нибудь случился обморок? Эфир тоже помогает.
– Так идите сюда скорее, мейстер Абрагам, – ответил князь, – и помогите фрейлен Юлии.
Но в то время, как мейстер Абрагам входил в зал, случилось нечто, совсем неожиданное.
Принц Гектор, бледный, как смерть, всматривался в мейстера; казалось, волосы поднялись у него на голове от ужаса, и проступил на лбу холодный пот. Шагнув вперед, он откинул назад все тело и вытянул вперед обе руки, напоминая Макбета, когда ужасная, кровавая тень Банко внезапно появилась за столом, на пустом месте. Мейстер спокойно вынул свой флакончик и хотел подойти к Юлии.
Тогда принц несколько пришел в себя, точно вернулся к жизни.
– Северино, это вы? – воскликнул он глухо, с выражением глубочайшего ужаса.
– Да, это я, – ответил мейстер Абрагам, нимало не теряя своего спокойствия, – мне приятно, что вы вспомнили меня, ваша светлость; я имел честь много лет тому назад оказать вам в Неаполе небольшую услугу.
Мейстер сделал еще один шаг вперед; тогда принц схватил его за руку, с силой увлекая в сторону, и между ними начался краткий разговор, непонятный ни для кого из находившихся в зале, так как он велся очень быстро и на неаполитанском диалекте.
– Северино, как попал к этому человеку портрет?
– Я дал портрет ему как защиту от вас.
– Знает он?
– Нет!
– Вы будете молчать?
– До некоторого времени – да!
– Северино! Все черти погнались за мной! Что значит «до некоторого времени»?
– До тех пор, пока вы будете умны и оставите в покое Крейслера и вон ту особу!
После этих слов принц оставил мейстера и отошел к окну. Тем временем Юлия справилась со своим волнением и, глядя на мейстера с неописуемым выражением раздирающей душу тоски, скорее прошептала, чем проговорила:
– Мой добрый, милый мейстер, ведь вы можете меня спасти? Не правда ли, у вас много средств? Ваша наука еще может направить все к лучшему!
Мейстер открыл в словах Юлии удивительное совпадение с предыдущим разговором, точно будто она все поняла в высоком ясновидении и узнала всю тайну!
Он тихо сказал ей на ухо:
– Ты – чистый ангел, и потому мрачный дух ада и греха не имеет над тобой власти. Доверься мне вполне, не бойся и держись всеми силами твоего духа. Думай также о нашем Иоганне.
– Ах, – горестно воскликнула Юлия, – ах, Иоганн! Ведь он вернется, не правда ли, мейстер? Я снова его увижу?
– Конечно, – ответил мейстер и приложил палец к губам. Юлия поняла его.
Принц старался быть непринужденным. Он рассказывал, что человек, которого здесь называют мейстером Абрагамом, много лет тому назад в Неаполе был свидетелем одного очень трагического события, в котором сам он, принц, признаться, был тоже замешан. Это событие теперь не время рассказывать, но впоследствии он не будет о нем умалчивать.
Буря в душе принца была слишком сильна, чтобы ее бушевание незаметно было на поверхности; расстроенное лицо принца, в котором не было ни кровинки, плохо вязалось с равнодушным разговором, к которому он принуждал себя, чтобы выйти из критического положения. Принцессе удалось лучше, чем принцу, победить натянутость этой минуты. С иронией, превращавшей в тончайшую насмешку даже подозрение и горечь, водила Гедвига принца по лабиринту своих мыслей. И этот опытный светский человек во всеоружии душевной испорченности, разрушающей всякую правду, не мог противостоять этому странному существу. Чем живее становилась Гедвига, чем огненнее и ярче вспыхивали молнии ее остроумной насмешки, тем смущеннее казался принц, и наконец чувство это сделалось ему настолько невыносимо, что он быстро удалился.
С князем случилось то, что всегда случалось с ним при подобных столкновениях: он не знал, что об этом думать, и удовольствовался несколькими французскими фразами, не имевшими особенного значения, с которыми он обратился к принцу, на что тот ответил ему такими же незначительными словами. Принц уже вышел за дверь, когда принцесса Гедвига вдруг изменилась в лице, начала пристально всматриваться в пол и громко вскрикнула странным, раздирающим душу голосом:
– Я вижу кровавый след убийцы!
Затем она, точно пробудившись от сна, страстно прижала к груди Юлию и шепнула ей:
– Дитя, мое бедное дитя, не давайся в обман!
– Тайны! – досадливо сказал князь. – Тайны, видения, глупости, романтические бредни. Ma foi, я не узнаю своего двора!.. Мейстер Абрагам, вы приведете в порядок мои часы, так как они неверно идут. Мне хочется, чтобы вы взглянули, что случилось с механизмом, который никогда прежде не останавливался. Но что такое «Северино»?
– Под этим именем, – отвечал мейстер, – я показывал в Неаполе свои оптические и механические опыты.
– Так, так, – сказал князь и пристально посмотрел на мейстера, как будто на губах у него вертелся вопрос, но потом быстро повернулся и молча оставил комнату.
Думали, что Бенцон – у княгини, но оказалось, что советница уже отправилась на свою квартиру.
Юлия стремилась на чистый воздух, и мейстер повел ее в парк, где, бродя по полуопустевшим дорожкам, разговаривали они о Крейслере и о его пребывании в аббатстве. Так дошли они до рыбачьего домика. Юлия вошла туда, чтобы отдохнуть. Письмо Крейслера лежало на столе, и мейстер нашел, что оно не заключает в себе ничего такого, что Юлии было бы неприятно узнать.
В то время, как она читала письмо, ее щеки делались ярче, и глаза разгорались мягким огнем, отражавшим ее тихую радость.
– Ты видишь, мое милое дитя, – ласково сказал мейстер, – как добрый дух моего Иоганна утешает тебя даже издали своими речами. Тебе нечего бояться страшных нападений, когда сама твердость, любовь и мужество защищают тебя от всякого зла.
– Милосердное небо, – воскликнула Юлия, поднявши свой взор, – спаси меня от меня самой! – Она в ужасе содрогнулась от слов, которые вырвались у нее помимо воли, и почти без чувств упала на стул, закрыв обеими руками пылающее лицо.
– Я не понимаю тебя, девушка, – сказал мейстер, – ты, может быть, и сама себя не понимаешь и потому должна заглянуть в свою душу до самого дна, не умалчивая и не щадя себя ни в чем.
Мейстер оставил Юлию в глубоком раздумьи и, скрестивши руки, смотрел на таинственный стеклянный шар. Грудь его сжалась тоской и странным предчувствием.
– Тебя, – сказал он, – тебя я должен спросить, с тобой посоветоваться, прекрасная, чудная тайна моей жизни! Не молчи, дай мне услышать твой голос! Ты ведь знаешь, что я никогда не был пошлым фокусником, хотя многие меня считали таким. Во мне горела любовь, которая сама есть вечный мировой дух, и в груди моей тлела искра, разгоравшаяся в яркое пламя от дыхания твоего существа!.. Не думай, Кьяра, что это сердце окаменело от старости и не может так же быстро биться, как тогда, когда я отнял тебя у бесчеловечного Северино; не думай, что я теперь менее достоин тебя, чем тогда, когда ты сама меня отыскала!.. О… дай мне только услышать твой голос, и я брошусь вперед, как юноша, и буду до тех пор бежать за этим звуком, пока не найду тебя, и тогда мы снова будем жить вместе и в волшебном согласии заниматься магией, которую все, даже самые обыкновенные люди, признают нужной, хотя в нее и не верят. И если тело твое уже не присутствует на земле и голос твой заговорит со мной из мира духов, я буду и этим доволен и буду так же искусен, как прежде… Но нет, нет! Как утешительно звучали слова, которые ты мне говорила:
Там для смерти места нет, Где любовь не умирает. Если грустен был рассвет, Вечер ярко засияет!– Мейстер, – воскликнула Юлия, поднявшись со стула и с глубоким удивлением прислушиваясь к речам старика, – мейстер, с кем вы говорите? Что вы хотите делать? Вы назвали имя «Северино». Праведное небо! Не тем ли именем назвал вас и принц, когда он оправился от своего ужаса? Какая страшная тайна скрывается в этом?
При этих словах Юлии сейчас же прошло приподнятое настроение старика, и на лице его появилось какое-то странное, комическое выражение притворной приветливости, давно уже на нем не бывавшее; это выражение удивительно противоречило прямодушию всего его существа и придавало его внешности характер неприятной карикатуры.
– Прекрасная девица, – заговорил он резким тоном, которым хвастливые фокусники расхваливают обыкновенно свои чудеса, – потерпите немного, и вскоре я буду иметь честь показать вам здесь, в рыбачьем домике, удивительные вещи. Эти танцующие человечки, маленькие турки бог знает сколько лет уже живут на свете; эти автоматы, попугаи, бесформенные картины и оптические зеркала – все это прекрасные магические игрушки; но лучшего у меня еще нет. Там моя невидимка; заметьте, она сидит наверху в стеклянном шаре; но она еще не говорит, она утомлена долгим путешествием, так как приехала прямо из дальней Индии. Через несколько дней, прекрасная девица, явится моя невидимка, и мы расспросим ее про принца Гектора, про Северино и про другие события прошлого и будущего!.. Теперь же будет только маленькая забава.
И мейстер забегал по комнате с быстротой и живостью юноши, завел машины и установил магические зеркала. Во всех углах началась жизнь и движение: автоматы заходили по комнате, покачивая головами, петух захлопал крыльями и запел, попугаи пронзительно закричали, а сама Юлия и мейстер Абрагам стояли и в комнате, и на дворе. Странное настроение мейстера навело на Юлию ужас, несмотря на то, что она достаточно привыкла к подобным представлениям.
– Мейстер, – сказала она в испуге, – мейстер, что с вами случилось?
– Дитя, – ответил мейстер со своей обычной важностью, – дитя, со мной случилось нечто прекрасное и чудесное, но не следует, чтобы ты это знала. Теперь же пусть эти живые мертвецы проделывают свои штуки, а я тем временем сообщу тебе многое, что тебе нужно и полезно узнать… Моя милая Юлия, твоя мать замкнула от тебя свое материнское сердце, я же хочу открыть его тебе, чтобы ты, заглянув туда, увидела грозящую тебе опасность и могла ее избегнуть. Узнай же прежде всего без дальнейших рассуждений, что мать твоя твердо решилась не более не менее, как…
(М. пр.) …я предпочитаю это оставить. Юноша-кот, будь скромен, как я, не спеши сейчас же выражать свою мысль стихом, когда есть в распоряжении прямая и честная проза. В книге, написанной прозой, стихи должны играть роль сала в колбасе, то есть, будучи рассеяны там и сям маленькими кусочками, придавать целому блеск и сочность, а вкусу – приятную сладость. Я не опасаюсь того, что мои коллеги по перу найдут это сравнение низким и неблагородным, так как оно относится к нашему любимому кушанью: в самом деле часто хорошие стихи так же полезны для посредственного романа, как жирное сало для тощей колбасы. Я говорю это как кот с эстетическим образованием и опытностью… Согласно моим философским и нравственным правилам, все отношения, образ жизни Понто и вся его манера подслуживаться господину должны были казаться мне недостойными и даже немного жалкими, но меня поразили его непринужденные манеры, изящество и приятная легкость в светских отношениях. Я всеми силами старался себя уверить, что я с моим научным образованием и с моей серьезностью во всех начинаниях стою́ значительно выше несведущего Понто, который только иногда на лету схватывает что-нибудь из наук. Но какое-то непобедимое чувство говорило мне, что Понто везде бы меня затмил; я чувствовал себя вынужденным признать, что есть более почетное звание, и к нему причислял пуделя Понто.
В таких гениальных головах, как моя, при всяком случае, при всяком новом житейском открытии являются особенные, своеобразные мысли. Так и теперь: зрело обдумавши мое душевное настроение и все мои отношения с Понто, я пришел к некоторым остроумным выводам, достойным того, чтобы ими поделиться. «Отчего это, – говорил я самому себе в раздумьи и положивши лапу на лоб, – отчего это великие поэты и философы, будучи вообще остроумны и мудры, кажутся такими беспомощными в так называемом знатном обществе? Они постоянно суются туда, где бы им не следовало быть в данную минуту, говорят именно тогда, когда следовало бы молчать, и молчат в тех случаях, когда нужны слова; они везде толкаются в направлении, противоположном сложившимся формам общества, и оскорбляют и себя, и других; одним словом, они похожи на того, кто, попав в толпу весело гуляющих людей, один из всех стремится к воротам и, с трудом пролагая себе путь, мешает всем остальным. Я знаю, что это приписывают недостатку светского воспитания и лоска, которые нельзя приобрести, сидя за письменным столом; но думаю, что приобрести эту культуру не очень трудно и что эта непобедимая неумелость ученых и поэтов зиждется на другом основании. Великий поэт или философ не был бы таковым, если бы не чувствовал своего превосходства; но, несмотря на то, что чувство это свойственно всем остроумным людям, поэту и философу не следовало бы выказывать его, так как другие не признают этого превосходства; оно нарушает равновесие, поддерживать которое составляет главную заботу так называемого знатного общества. Голос всякого отдельного члена общества должен присоединиться к полному аккорду, составляющему целое, а тон поэта звучит диссонансом, и если в других условиях он даже и очень хорош, то в данном случае плох, так как не подходит к целому. Хороший тон, точно так же как и вкус, заключается в отсутствии всего лишнего. Далее я думаю, что неловкость и дурное настроение, вытекающие из противоречивых чувств своего превосходства и своей ненужности, мешают философам и поэтам, впервые попавшим в светский круг, узнать его и стать выше него. Нужно, чтобы в данную минуту поэт или философ не слишком высоко ставил свое внутреннее превосходство: тогда он не слишком высоко будет ценить и так называемую «высшую светскую культуру», состоящую только в старании сгладить все углы и неровности и придать всем физиономиям один и тот же вид, вследствие чего они и сливаются воедино. Тогда, освободившись от неприятного чувства, может он непринужденно и легко изучить внутреннюю природу этой культуры и жалкие посылки, на которых она основана, и с помощью этого знания войти в этот странный свет, считающий свою культуру недостижимой. Так случается и с художниками, которых, как и писателей, и поэтов, время от времени приглашают в свой круг знатные люди, чтобы, согласно добрым обычаям, некоторым образом претендовать на меценатство. К сожалению, эти художники начинают обыкновенно сбиваться на ремесленников и потому бывают или смиренны до низкопоклонства, или развязны до грубости».
(Примечание издателя. – Мне жаль, Мур, что ты так часто рядишься в чужие перья. Я справедливо опасаюсь, что ты сильно потеряешь от этого во мнении благосклонных читателей. Не исходят ли все эти замечания, которым ты так кичишься, прямо из уст капельмейстера Иоганна Крейслера, и возможно ли вообще, чтобы ты обладал такой житейской мудростью, чтобы глубоко проникать в самое удивительное на земле, то есть в чувства человеческого писателя?)
«Отчего бы, – думал я дальше, – умному коту, будь он поэт, писатель или художник, не могло удаться возвыситься до познания высшей светской культуры и применять ее во всей красоте и прелести внешних проявлений? Разве природа дала преимущества этой культуры одному только собачьему роду? Если мы, коты, и отличаемся немного от этой гордой породы в том, что касается одежды, привычек и образа жизни, то ведь у нас есть мясо и кровь, тело и дух, и в конце концов собаки тоже не могут устроить свою жизнь иначе, чем мы. Собаки тоже должны есть, пить, спать и так далее, и им также бывает больно, когда их бьют».
Что было дальше?.. Я решил предоставить свое светское воспитание моему молодому знатному другу Понто и в полной гармонии чувств вернулся в комнату хозяина. Бросив взгляд в зеркало, я убедился, что даже серьезное желание стремиться к высшей культуре уже подействовало на мою внешность. Я смотрел на себя с величайшим наслаждением. Что может быть приятнее того состояния, когда мы вполне довольны собой?.. Я начал мурлыкать.
На другой день я не удовольствовался тем, чтобы сесть перед дверью, а пошел бродить по улице, и скоро увидел вдали барона Алкивиада фон Виппа, а за ним скакал мой веселый друг Понто. Ничего не могло быть более кстати.
Я постарался придать как можно больше достоинства своей осанке и подошел к другу с той неподражаемой грацией, которая, будучи неоцененным даром природы, не нуждается ни в какой выучке. Но – о ужас! – вот что произошло. Увидев меня, барон остановился, внимательно посмотрел на меня через пенсне и затем воскликнул: «Понто, allons, куси, куси! Кошка, кошка!» И фальшивый друг мой Понто в ярости наскочил на меня!.. В ужасе потерял я всякое самообладание от такого позорного предательства. Утратив способность к какому-либо сопротивлению, я постарался только как можно ниже пригнуться к земле, чтобы избегнуть острых зубов Понто, которые он с рычаньем и лаем оскалил на меня. Но Понто несколько раз перепрыгнул через меня, не задев меня, и шепнул мне на ухо:
– Мур, не будь дураком и не бойся! Ведь ты же видишь, что это не серьезно, я делаю это только для того, чтобы понравиться моему господину. – Понто повторил свои прыжки и даже сделал вид, что теребит меня за уши, хотя нисколько не сделал мне больно.
– Теперь, друг Мур, – шепнул мне наконец Понто, – заберись вон туда, в погреб!
Я не заставил повторять себе это два раза и вскочил в окно погреба с быстротою молнии. Несмотря на уверения Понто, что он не сделает мне никакого вреда, я все-таки очень боялся, потому что в таких критических случаях никогда нельзя знать, достаточно ли сильна будет дружба, чтобы победить природу.
Когда я был уже в погребе, Понто продолжал играть комедию, начатую им на потеху своего господина. Он рычал и лаял перед окном погреба, совал морду через решетку и делал вид, что совершенно вне себя оттого, что я от него убежал, и он не может меня догнать.
– Видишь ли ты, – сказал мне Понто, глядя в погреб, – видишь ли и признаешь ли ты теперь выгодные последствия высшей культуры? Я выказал сейчас своему господину послушание, не возбудив в тебе вражды, добрый Мур. Так поступают истинно светские люди, предназначенные судьбой быть орудием в руках сильных. Они должны бросаться вперед, но при этом обладать такой ловкостью, чтобы кусаться только там, где это выгодно им самим.
Я тотчас же открыл юному другу, как я жаждал воспользоваться его светской культурой, и спросил, может ли он и каким именно образом взять меня в ученье. Понто поразмыслил некоторое время и затем сказал, что лучше всего будет, если я с самого начала увижу живую и ясную картину высшего света, в котором он теперь имеет удовольствие вращаться, и самое лучшее будет, если я сегодня же вечером пойду вместе с ним к прелестной Бадине, у которой собирается общество во время представлений в театре. Бадина была левреткой, служившей у княжеской гофмейстерины.
Я принарядился как можно лучше, почитал немного «Об обращении с людьми» Книгге, прочел несколько новейших комедий Пикара, чтобы при случае выказать свои познания во французском языке, и вышел из дому. Понто не заставил себя долго ждать. Мы пошли по улице и вскоре достигли ярко освещенной комнаты Бадины, где я нашел пестрое общество, состоявшее из пуделей, шпицев, мопсов, болонок и других собак, разбившихся на кружки и группы.
Сердце мое сильно забилось в этом незнакомом обществе враждебных натур. Многие пудели смотрели на меня с некоторым презрительным удивлением, как бы желая сказать: «Что нужно этому коту в нашем великосветском обществе?» Или вдруг какой-нибудь элегантный шпиц начинал скалить на меня зубы, как будто желая показать, с каким удовольствием он вцепился бы в меня, если бы приличие, достоинство и воспитание гостей не считало непозволительным всякую драку. Понто вывел меня из затруднения, представив меня прекрасной хозяйке, которая уверяла меня с милой непринужденностью, что ей приятно видеть у себя кота с моей известностью. Только тогда, когда Бадина сказала мне несколько слов, некоторые гости с истинно собачьим добродушием подарили меня своим вниманием, заговорили со мной и вспомнили о моем писательстве и моих произведениях, которые иногда очень их забавляли. Это льстило моему тщеславию, и я почти не заметил, что меня спрашивали, не обращая внимания на мои ответы, хвалили мой талант, совсем его не зная, и ценили мои произведения, вовсе их не понимая. Природный инстинкт внушил мне отвечать так же, как меня спрашивали, то есть не обращая внимания на вопрос, и говорить вообще коротко и в таких общих выражениях, что они могли относиться решительно ко всему, не выражая никакого мнения, все время скользя по гладкой поверхности и не задевая глубины предмета. Понто уверил меня, будто бы один старый шпиц сказал ему, что я довольно забавен для кота и выказываю наклонность к хорошему разговору. Неуверенных в себе радует даже и такая малость! Жан-Жак Руссо рассказывает в своей «Исповеди», как он украл и видел, что наказали невиновную девочку за то воровство, которое он сделал, и не признался в нем, – и прибавляет, как тяжело ему вспоминать и признаваться в этой низости. Я нахожусь теперь в точно таком же положении. Мне нечего признаваться в злодействе, но если я желаю остаться правдивым, я не могу умолчать о глупом чувстве, которое овладело мной в тот же вечер и долго смущало меня до того, что я едва не лишился рассудка. А разве легче признаваться в глупости, чем в злодействе? Иногда еще труднее.
Скоро мне сделалось до такой степени тяжело и неприятно в незнакомом обществе, что невыносимо захотелось быть далеко отсюда, под печкой у моего хозяина. Меня угнетала нестерпимая скука, заставившая меня, наконец, забыть всякий хороший тон. Я тихонько забился в отдаленный уголок, чтобы предаться сну, который наводили на меня разговоры окружающих. Эти разговоры, которые, быть может, ошибочно приняты были мною в моем раздражении за самую глупую и бесцветную болтовню, доходили до меня теперь, как однотонный шум мельничных колес, при котором легко впадают в приятную дремоту, чтобы затем впасть в настоящий сон.
Во время этой дремоты, этого сладкого бреда мне показалось, что перед моими закрытыми глазами внезапно блеснул яркий свет. Я взглянул и увидел, что прямо передо мной стоит прелестная, белоснежная девица; как узнал я потом, это была прекрасная племянница Бадины – Минона.
Минона заговорила тем нежно-лепечущим голосом, который всегда так сильно действует на впечатлительное сердце огненного юноши.
– Я вижу, – сказала она, – что вы сидите здесь в полном одиночестве и как будто скучаете. Мне жаль вас! Но, конечно, такой великий поэт, как вы, витая в высших сферах, должен находить пустым и поверхностным течение обыденной жизни.
Я поднялся, немного смущенный, и мне было больно, что моя природа, пересилившая все теории о хороших манерах, понудила меня высоко поднять спину, как делают обыкновенно коты, чему Минона как будто улыбнулась.
Но, вернувшись сейчас же к хорошим манерам, я взял лапу Миноны, тихонько прижал ее к своим губам и заговорил о вдохновенных моментах, часто посещающих поэта. Минона слушала меня с такими явными знаками искреннего участия, с таким вниманием, что я все более и более воодушевлялся необыкновенной поэзией и наконец и сам перестал себя понимать. Минона, конечно, тоже мало поняла, но она пришла в восхищение и уверяла меня, что ее заветным желанием было познакомиться с гениальным Муром и что настоящая минута – одна из самых счастливых и прекрасных в ее жизни.
Что должен был я ответить?
Вскоре оказалось, что Минона читала мои произведения и мои чудные стихи, и не только читала, но и поняла их высокое значение. Многие из них она знала наизусть и произносила их с таким увлечением и грацией, что предо мной открылось целое небо поэзии, – в особенности потому, что прекраснейшая представительница собачьей породы говорила мои стихи.
– Прекрасная девушка, – воскликнул я в совершенном восторге, – вы поняли мои чувства, вы выучили наизусть мои стихи! Есть ли высшее блаженство для стремящегося к любви поэта?
– Мур, – прошептала Минона, – гениальный кот, можете ли вы думать, что чувствительное сердце и поэтический ум могли не оценить вас? – При этих словах Минона глубоко вздохнула, и этот вздох подал мне надежду.
Что же было дальше?
Я до такой степени влюбился в прекрасную борзую барышню, что в безумии и в ослеплении не заметил, как она вдруг остановилась среди порыва вдохновения, начавши самый пустой разговор с каким-то франтиком-мопсом, как она избегала меня весь вечер и обращалась со мной так, что я мог бы ясно понять, что ее похвалы и ее восторги тешили только ее самое. Но я все-таки был и остался слепым глупцом и следовал за прекрасной Миноной всюду, где только мог, воспевал ее в прекрасных стихах, делал из нее героиню многих милых и безумных историй, втирался в общество, к которому я не принадлежал, и испытал много горькой досады, насмешек и мучительных страданий.
Нередко в благоразумные минуты мне самому становилась ясна глупость моего поведения, но затем опять дурацким образом вспоминал я Тассо и многих новейших поэтов с рыцарскими нравами, которые избирали недосягаемую героиню, посвящали ей свои песни и обожали ее издали, как Дон-Кихот свою Дульцинею, – и мне снова хотелось быть не глупее и не менее поэтичным, чем они, и я клялся сохранить до смерти непоколебимую верность и рыцарские чувства к олицетворенной мечте моих любовных снов – к прелестной белой борзой девице. Поддавшись этому странному безумию, я переходил от одной глупости к другой, и даже друг мой Понто от меня отвернулся после того, как он серьезно предостерегал меня от тех злых мистификаций, которыми меня везде старались опутать. Кто знает, что случилось бы со мной еще, если бы надо мной не господствовала счастливая звезда! Руководимый этой счастливой звездой, пробирался я однажды поздно вечером к прекрасной Бадине только для того, чтобы увидеть возлюбленную Минону. Я нашел все двери закрытыми, и все мои ожидания, все надежды найти возможность проскользнуть к ней были тщетны. С сердцем, полным любви и муки, хотел я, по крайней мере, известить прекрасную о моей близости и начал под окном испанскую серенаду, самую нежную из всех, когда-либо сочиненных на свете. Вероятно, она очень жалобно звучала.
Я слышал лай Бадины, при этом урчал что-то и нежный голос Миноны. Но прежде чем я успел опомниться, быстро отворилось окно и на меня вылили ведро холодной воды. Можно себе представить, с какой быстротой вернулся я в родной дом. Пламя в груди и ледяная вода на шкуре так плохо гармонируют друг с другом, что из этого не могло выйти ничего, кроме болезни. Так случилось и со мной. Когда я пришел в дом моего хозяина, меня начала трясти лихорадка. По бледности моего лица, слабому блеску моих глаз, горящему лбу и неправильному пульсу хозяин догадался о моей болезни. Он дал мне теплого молока, которое я с жадностью вылакал, так как язык мой прилипал к гортани от жажды; затем я свернулся на своем ложе и вполне предался недугу, который овладел мной. Сначала я впал в горячечный бред о высшей культуре борзых собак, но потом мой сон стал спокойнее и наконец сделался так глубок, что я, без преувеличения, проспал три дня и три ночи сряду.
Когда я наконец проснулся, мне было легко и свободно; я совершенно излечился от лихорадки и – как странно! – также и от моей безумной любви. Мне сделалось совершенно ясна та глупость, к которой привел меня пудель Понто; я увидел, как нелепо было мне, природному коту, вмешиваться в общество собак, которые надо мной насмехались, не будучи в состоянии понять мой ум, и слишком держались за форму вследствие своей бессодержательности, мне же не могли дать ничего, кроме шелухи без зерен. Любовь к наукам и искусствам воскресла во мне с новой силой, и заботливость моего хозяина привлекала меня более, чем когда-либо. Наступили зрелые месяцы мужчины, и, не будучи ни кошачьим буршем, ни изящным светским франтом, я живо чувствовал, что не следует мне быть ни тем, ни другим, чтобы представлять собою то, чего требуют лучшие взгляды на жизнь.
Хозяин мой должен был уехать и счел за благо отдать меня на время в услужение своему другу, капельмейстеру Иоганну Крейслеру. Так как с этой переменой начинается новый период моей жизни, то я заканчиваю теперь описание моей юности, из которого, юноша-кот, ты можешь почерпнуть столько поучительного для твоей будущности.
(М. л.) …до ушей его достигли глухие, отдаленные звуки, и он услышал, как по коридору шли монахи.
Когда Крейслер совсем освободился от сна, он увидел из своего окна, что церковь освещена, и услышал пение хора. Полуночная служба уже кончилась; очевидно, случилось нечто необыкновенное, что заставило монахов опять собраться в храме, – и Крейслер должен был справедливо предположить, что причиной этого была нежданная и быстрая смерть какого-нибудь старого монаха, которого по обычаям монастыря принесли в церковь. Капельмейстер быстро накинул платье и отправился в церковь. По дороге он встретил заспанного отца Илария, который, громко зевая, шатался из стороны в сторону, не будучи в силах сделать ни одного твердого шага, и держал зажженную свечку не вверх, а вниз, так что воск капал на пол и ежеминутно грозил затушить свечу.
– Ваше преподобие, – сказал Иларий, когда Крейслер его окликнул, – это противно всем нашим обычаям! Экзеквием ночью, в этот час! И только потому, что здесь брат Киприан! Domine! Libera nos de hoc monacho![138]
Наконец Крейслеру удалось убедить полусонного монаха, что он не аббат, а Крейслер, и он с трудом от него добился, что ночью принесли труп неизвестного человека, которого знал, по-видимому, один только брат Киприан и который был, вероятно, не простой человек, так как аббат велел, по настоятельному требованию Киприана, сейчас же начать экзеквием, чтобы завтра после первой службы можно было перенести тело. Крейслер последовал за патером в церковь, которая при скудном освещении представляла страшное зрелище.
Зажгли только свечи большого металлического паникадила, свешивавшегося с высокого потолка главного алтаря, так что колеблющееся пламя едва освещало главную часть церкви, бросая в боковые проходы отраженный свет, при котором монахи казались статуями, проснувшимися для призрачной жизни и блуждавшими по церкви.
В самом ярком свете под паникадилом стоял открытый гроб, в котором лежал труп, и окружавшие его монахи тоже казались бледными и безжизненными, как мертвецы, вставшие из могил в час привидений. Глухими и хриплыми голосами пели они монотонные строфы реквиема; когда же они умолкали, снаружи доносился зловещий шум ночного ветра, и высокие окна странно звенели, будто тени умерших стучались в дом, где слышали благочестивый плач по мертвецу. Крейслер подошел к гробу и узнал в мертвом адъютанта принца Гектора.
Тогда поднялись так часто овладевавшие им мрачные духи и безжалостно вцепились острыми когтями в его израненную грудь.
– Дразнящий призрак, – сказал он себе самому, – для того ли ты привлек меня, чтобы у этого неподвижного юноши выступила кровь? Ведь говорят, что на трупах проступает кровь, когда приближается убийца. Ого, разве я не знаю, что у него вытекла уже вся кровь в те злые дни, когда он искупал свои грехи на одре болезни? У него не осталось ни капли крови, которой он мог бы отравить своего убийцу, даже если бы тот и близко к нему подошел, особенно Иоганна Крейслера, так как Крейслеру нечего делать с ехидной, которую он придавил к земле, когда она уже вытянула свое острое жало, желая нанести смертельную рану!.. Открой свои глаза, мертвец, чтобы я мог прямо взглянуть в них и чтобы ты увидел, что я не причастен к греху!.. Но ты не можешь этого сделать!.. Кто велел тебе ставить одну жизнь против другой? Зачем завел ты неверную игру с убийством и не приготовился к тому, чтобы проиграть в нее! Но какая кротость и доброта в чертах твоих, тихий и бледный юноша; смертная мука изгладила на твоем прекрасном лице всякий след греха, и я мог бы сказать, что небо откроет перед тобою двери своего милосердия, если бы это теперь было нужно, потому что в сердце твоем была любовь. А что если я в тебе ошибся?.. Если не ты и не злой демон, а моя счастливая звезда подняла на меня твою руку, чтобы вырвать меня из ужасной тюрьмы, которая ждет меня в черной преисподней… Тогда мог бы ты открыть свои глаза, бледный юноша, и увидеть все примиряющим взором. Должен ли я отойти от тебя с унынием или со страшной боязнью, что меня сейчас схватит черная тень, скользящая за мною?.. Да, смотри на меня… Но нет, нет, ты, пожалуй, взглянешь на меня, как художник Леонгард Этлингер, так что я подумаю, что это именно он, а не ты, и я должен буду спуститься с ним в мрачную глубину, откуда я часто слышу его глухой замогильный голос… Но что это?.. Ты улыбаешься?.. Твои щеки и губы покрываются краской? Разве ты не поддаешься орудию смерти? Нет, я больше не буду с тобой сражаться, но…
Крейслер, который во время этого разговора с самим собой бессознательно стал на одно колено и поставил локти на другое, подложивши руки под подбородок, вдруг быстро вскочил и, наверно, сделал бы что-нибудь странное и дикое, но в эту минуту монахи замолчали, и мальчики с хоров запели с нежным аккомпанементом органа «Salve, regina»[139]. Гроб закрыли, и монахи торжественно вышли из церкви. Тогда мрачные духи оставили бедного Иоганна, и, погруженный в уныние и скорбь, последовал он с опущенной головой за монахами. Он только что хотел подойти к двери, как в темном углу поднялась какая-то фигура и быстро подошла к нему.
Монахи остановились, и яркий свет их свечей упал на высокого, коренастого парня, которому можно было дать не больше двадцати лет от роду. Его лицо было безобразно и выражало дикое упрямство. Спутанные черные волосы спускались с головы, изорванная фуфайка из пестрой шерстяной материи едва прикрывала тело; панталоны едва доходили до голых икр, так что вполне было видно геркулесовское сложение его тела.
– Проклятый, кто позволил тебе убить моего брата? – дико закричал парень, так что голос его раздался по всей церкви, – и, подскочив к Крейслеру, как тигр, он схватил его за горло.
Но прежде чем Крейслер, испуганный этим неожиданным нападением, успел подумать о своей защите, около него был уже отец Киприан, крикнувший громким и повелительным голосом:
– Джузеппе, безбожный, грешный человек, что ты здесь делаешь? Где ты бросил старую мать?.. Сейчас иди вон!.. Ваше преподобие, господин аббат, велите позвать монастырских служителей, пусть они запрут этого злодея!
Как только подошел к нему Киприан, парень оставил Крейслера.
– Ну, ну, – воскликнул он сварливым тоном, – не делайте дураков из людей, которые хотят вступиться за свое право, святой отец! Я сам уйду, вам не нужно напускать на меня монастырских служителей.
С этими словами он быстро убежал через боковую дверку, которую забыли запереть и через которую он, вероятно, и пробрался в церковь. Явились монастырские служители, но решили, что не сто́ит преследовать бежавшего в такую глубокую ночь.
По свойству натуры Крейслера на него благодетельно действовало все необычайное и таинственное, когда ему удавалось победить бурю, грозившую его уничтожить.
Так случилось и теперь: аббату показалось странным и непонятным то спокойствие, с которым Крейслер явился перед ним на другой день и заговорил о потрясающем впечатлении, произведенном на него в этой необычайной обстановке видом трупа того, кто хотел его убить и кого он убил сам по печальной необходимости.
– Ни церковь, ни светский суд, – сказал аббат, – не могут, милый Иоганн, считать вас виновным в смерти этого грешного человека. Но вы долго еще не отделаетесь от упреков внутреннего голоса, говорящего вам, что лучше самому пасть, чем убить противника, – и это доказывает, что предвечному угоднее жертва собственной жизни, чем ее сохранение, если сохранить ее удается лишь посредством кровавого дела. Но оставим это; есть нечто более близкое, о чем мне нужно с вами поговорить. Какой смертный представляет себе, как может измениться положение вещей в ближайшую минуту? Недавно еще был я твердо уверен, что для спокойствия вашей души не может быть ничего лучше того, как отказаться от мира и вступить в наш орден. Теперь я другого мнения и посоветую вам, при всей моей любви и уважении к вам, скорее оставить аббатство. Не заблуждайтесь на мой счет, дорогой Иоганн! Не спрашивайте меня, зачем подчиняю я свои взгляды воле другого, который грозит сломать все, что я создал с таким трудом. Чтобы понять меня, вы должны глубоко проникнуть в тайны церкви, если только я захочу говорить с вами о моем образе действий. Но я действительно могу говорить с вами свободнее, чем со всяким другим. Знайте же, что в скором времени пребывание в аббатстве не будет приносить вам благодетельного покоя. Весь монастырский устав будет изменен, свобода, совместимая с благочестивыми нравами, кончится, и в стенах этих будет царствовать с неумолимой строгостью мрачный дух фанатического монашества… О милый Иоганн, ваши чудные песни не будут больше возносить ваш дух к высочайшему благочестию, хор будет упразднен, и скоро мы не услышим ничего, кроме однозвучных респонсорий старших братьев, с трудом протянутых хриплыми голосами.
– И все это случится, – спросил Крейслер, – из-за приезжего монаха Киприана?
– Да, дорогой мой Иоганн, – уныло сказал аббат, опуская глаза, – и я невиновен в том, что не может быть иначе.
Аббат помолчал немного и затем прибавил, возвышая голос:
– Но все, что может усилить крепость и пышность церкви, должно совершиться, и никакая жертва не бывает слишком велика!
– Кто тот всемогущий и повелевающий вами святой, – с неудовольствием сказал Крейслер, – одного слова которого было достаточно, чтобы отогнать от меня человека, хотевшего меня убить.
– Дорогой Иоганн, – отвечал аббат, – вас коснулась тайна, которую вы пока еще не вполне понимаете. Но вскоре вы узнаете многое, – быть может, даже больше, чем знаю я сам; это случится через мейстера Абрагама. Киприан, которого мы недавно назвали своим братом, – один из избранных. Он удостоен того, что может вступить в непосредственные сношения с небесными силами, и мы должны теперь же почитать его как святого. Что же касается того парня, который пробрался в церковь во время экзеквиема и напал на вас, то это – полусумасшедший беглый цыган, которого наш суд много раз уже приговаривал к плетям за то, что он воровал у крестьян откормленных кур. Чтобы укротить его, не нужно особого чуда.
При последних словах углы рта аббата искривились легкой иронической улыбкой, которая сейчас же исчезла.
Крейслером овладело горькое, неприятное чувство; он увидел, что при всех преимуществах ума и понимания аббатом руководило ложное ослепление и что все аргументы, приводившиеся им тогда, когда он побуждал его поступить в монастырь, точно так же служили предлогом для скрытых соображений, как те, которые он приводил теперь, доказывая противоположное. Кейслер решил оставить аббатство и совершенно устраниться от тех зловещих тайн, которые при дальнейшем его пребывании здесь могли опутать его сетями, из коих он не мог бы освободиться. Когда же он подумал о том, что он скоро вернется в Зигхартсгоф к мейстеру Абрагаму и опять увидит и услышит ту, что была его единым помышлением, он почувствовал в груди сладостное стеснение, которым выражается пламенное любовное стремление.
Весь углубившись в себя, шел Крейслер по главной дорожке парка, когда его догнал отец Иларий и сейчас же заговорил:
– Вы были у аббата, Крейслер? Он все вам сказал? Так я был прав? Все мы погибли! Этот духовный комедиант… Вылетело слово, ну это между нами! Когда он, – вы знаете, кого я подразумеваю, явился в Рим монахом, его святейшество папа сейчас же принял его в аудиенции. Он упал на колени и поцеловал папскую туфлю. Но, не сделав ему никакого знака, его святейшество заставил его пролежать целый час. «Это будет твоим первым церковным наказанием», – сказал папа, когда монаху позволено было, наконец, встать и вслед затем начал длинную проповедь о греховных заблуждениях, в которые впал Киприан. Затем тот выдержал долгое испытание в потайных покоях и вышел оттуда святым!.. Давно уже не было святых!.. Чудо, – вы ведь видели картину, Крейслер? – чудо, говорю я, получило свое настоящее оформление прежде всего в Риме. Я – не более как честный бенедиктинец, искусный praefectus chori (хормейстер), как вы меня называете, и выпиваю стаканчик ниренштейна или боксбейтеля во славу благодатной церкви, но… все мое утешение в том, что он недолго здесь останется. Он должен странствовать. Он, конечно, будет делать чудеса. Смотрите, Крейслер, смотрите, вот он идет по дорожке. Он увидел нас и знает, как должен вести себя.
Крейслер увидел монаха Киприана, который медленным, торжественным шагом шел по дорожке, устремив неподвижный взор к небу и сжав руки, как бы в порыве благочестивого экстаза.
Иларий быстро удалился, но Крейслер остался, погруженный в созерцанье монаха, весь вид и все существо которого носили на себе отпечаток чего-то странного и чуждого, как бы отличавшего его от всех остальных людей. Великий, необычный жребий оставляет видимые следы, и, может быть, чудная судьба сделала внешность монаха такой, какой она казалась теперь.
Монах хотел пройти мимо, не замечая в своем экстазе Крейслера, но тот почувствовал желание стать на дороге строгого посланника главы церкви и враждебного преследователя дивного искусства. Он сделал это и сказал:
– Позвольте мне, ваше преподобие, выразить вам мою благодарность. Вы вовремя освободили меня вашим властным словом от руки грубого бродяги цыгана. Он бы задушил меня, как бешеная собака!
Как бы пробудившись от сна, монах провел рукою по лбу и долго и пристально смотрел на Крейслера, точно стараясь вспомнить, кто он. Затем лицо его выразило страшную суровость, и он воскликнул громким голосом:
– Дерзкий человек, вы заслуживали того, чтобы предоставить вам погибнуть в ваших грехах! Не вы ли тот, который профанирует светским бряцанием священный культ церкви и лучшую опору религии? Не вы ли соблазняете тщеславным искусством благочестивейшие чувства так, что они отвращаются от спасителя и ищут мирских радостей в пустых песнопениях?
Крейслер почувствовал, что его оскорбляют эти безумные упреки, но в то же время возвеличивают пустое высокомерие фанатического монаха, боровшегося таким легким оружием.
Он заговорил, спокойно и твердо глядя в глаза монаху:
– Если грешно восхвалять всемогущего на языке, который он дал нам сам, чтобы этот дар неба возбуждал в душе нашей вдохновенье самого горячего благочестия и даже познание другого мира, если грешно подниматься на серафимовых крыльях песни над всем земным и в благочестивом порыве любви стремиться к высшему, то вы правы, ваше преподобие, и я большой грешник. Но позвольте мне быть противоположного мнения и твердо верить, что, если уничтожить пение, церковному культу будет недоставать истинного величия святого вдохновения.
Монах сурово и холодно ответил:
– Обратитесь к пречистой деве, чтобы она сняла пелену с ваших глаз и позволила вам уразуметь ваше проклятое заблуждение!
– Кто-то спросил одного композитора, – кротко улыбаясь, сказал Крейслер, – что он делал для того, чтобы его духовные произведения дышали таким благочестивым вдохновением. На это детски-набожный маэстро[140] ответил: «Когда у меня плохо идет работа, я хожу по комнате и, молясь, произношу несколько Ave, и тогда у меня являются новые мысли». Тот же самый мастер сказал о другом своем великом духовном произведении[141]: «Только дойдя до половины своей работы, я заметил, что она удастся: никогда не был я так набожен, как тогда, когда ею занимался; каждый день падал я на колени, моля бога, чтобы он дал мне силу довести до конца это произведение». Я думаю, ваше преподобие, что ни этот маэстро, ни старый Палестрина не стали бы трудиться над греховным делом, и что только окаменелое и застывшее в аскетизме сердце не воспламеняется высоким благочестием песни!
– Жалкий человек! – гневно воскликнул монах. – Да кто же ты, что мне нужно считаться с тобой, когда ты должен бы лежать во прахе?.. Вон из аббатства, не оскверняй собой его святости!
Глубоко оскорбленный повелительным тоном монаха, Крейслер порывисто воскликнул:
– А кто же ты сам, сумасшедший монах, желающий быть выше всего человеческого?.. Или ты свободен от греха? Или никогда не смущали тебя адские мысли? Или никогда не сбивался ты с того пути, по которому ты идешь? Если же святая дева действительно милостиво избавила тебя от смерти, которую ты заслужил, быть может, каким-нибудь страшным делом, то тебе бы следовало смиренно каяться в твоих грехах и искупать их, а не хвалиться с дерзким тщеславием милостью неба и венцом святого!
Монах смотрел на Крейслера взором, метавшим смертоносные молнии, и бормотал какие-то невнятные слова.
– Гордый монах, – продолжал Крейслер с возрастающей силой, – кем ты был, когда носил еще это платье?
При этом Крейслер подержал перед глазами монаха портрет, полученный им от мейстера Абрагама; но едва тот увидел его, как в диком отчаянии ударил себя кулаком по лбу и издал раздирающий, болезненный вопль, как будто пораженный смертельным ударом.
– Вон отсюда ты, – воскликнул Крейслер, – вон из аббатства, злодей! Ого, святой человек! Если ты как-нибудь столкнешься с птичьим вором, с которым ты, может быть, в сообщничестве, то скажи ему, что ты не можешь и не хочешь защищать меня в другой раз, но только и ему нужно остерегаться и оставить в покое мою глотку, а не то я заколю его как жаворонка или как его брата, который уже проколот…
Здесь Крейслер испугался себя самого; монах стоял перед ним неподвижно, окаменев, все еще прижимая оба кулака ко лбу, не произнося ни звука, ни слова. Крейслеру послышался какой-то шум в ближайших кустах, точно будто на него собирался напасть безумный Джузеппе; он поспешно отошел от Киприана. В это время монахи пели хором вечернюю службу, и Крейслер пошел в церковь, надеясь успокоить там свои глубоко потрясенные и оскорбленные чувства.
Служба кончилась, монахи ушли, и свечи погасли. Дух Крейслера обратился к старым, набожным мастерам, о которых он вспоминал в споре с монахом Киприаном. Музыка, чистая музыка сошла в его сердце, – там пела Юлия, и буря души его улеглась. Он хотел уйти через боковую капеллу, дверь которой выходила в длинный проход, ведущий к лестнице, а оттуда в его комнату.
Когда Крейслер вошел в капеллу, с пола с трудом поднялся монах, распростертый перед чудотворным образом девы Марии. При свете неугасимой лампады узнал Крейслер монаха Киприана, но он был так слаб и жалок, будто только что пришел в себя после обморока. Крейслер протянул ему руку помощи. Тогда монах сказал тихим, прерывающимся голосом:
– Я узнаю вас, вы – Крейслер! Будьте милосердны, не оставляйте меня, помогите мне подняться на эту ступеньку, я хочу на нее опуститься, но только сядьте поближе, совсем рядом со мной; нас должна слышать только одна благодатная… Сжальтесь надо мной, сжальтесь, прошу вас, и скажите мне, не достался ли вам этот роковой портрет от Северино и знаете ли вы всю эту ужасную тайну?
Крейслер открыто и прямо сказал ему, что портрет он получил от мейстера Абрагама Лискова, и рассказал без утайки все, что произошло в Зигхартсгофе, прибавив, что только из различных комбинаций заключил он о каком-то злодеянии, живым напоминанием о котором служил портрет, возбуждавший вместе с тем страх быть узнанным. Монах, по-видимому, потрясенный некоторыми местами крейслерова рассказа, некоторое время молчал. Затем он заговорил более твердым и уверенным голосом:
– Вы слишком много знаете, Крейслер, чтобы не узнать остального. Узнайте же, что грозивший вам смертью принц Гектор – мой младший брат. Мы – сыновья владетельного князя, трон которого я бы унаследовал, если бы его не опрокинула буря времен. Когда вспыхнула война, мы оба поступили на службу, и эта служба привела в Неаполь сперва меня, а потом и моего брата. Я предался тогда всем порочным мирским наслаждениям и в особенности дикой страсти к женщинам, которая совершенно меня увлекала. Одна танцовщица, столь же прекрасная, как и порочная, была моей любовницей, и, кроме того, я волочился за беспутными женщинами везде, где их находил.
Однажды, когда уже начало темнеть, я преследовал на молу двух подобных тварей. Я только что настиг их, как прямо около меня насмешливый голос воскликнул:
– Какой милый негодник этот принц! Гоняется за простыми развратницами, а сам мог бы быть в объятиях прекрасной принцессы!
Взор мой упал на старую, оборванную цыганку, которую я встретил несколько дней назад в улице Толедо и видел, как ее тащили сбиры, потому что она в ссоре избила своим костылем продавца воды.
– Чего ты от меня хочешь, старая ведьма? – воскликнул я, обращаясь к женщине, но она сейчас же ответила мне целым потоком самой низкой, площадной брани, так что около нас собрался праздный, безумно хохотавший народ. Я хотел уйти, но женщина крепко схватила меня за платье и тихо сказала, внезапно прекратив свою брань и осклабивши свое отвратительное лицо:
– Ты разве не хочешь со мной остаться, мой миленький принц, не хочешь послушать об ангельской девочке, которая от тебя без ума?
Тут женщина с трудом поднялась с земли, крепко цепляясь за мои руки, и начала шептать мне в уши о молодой девушке, которая была прекрасна как день и вполне невинна. Я принял старуху за обыкновенную сводню и хотел отделаться от нее двумя дукатами, так как мне не хотелось начинать новое приключение. Однако она не взяла денег и, громко смеясь, закричала мне вслед:
– Ступайте, ступайте, мой важный господин, скоро вы будете искать меня с большим горем и тоской в сердце!
Прошло некоторое время, я забыл про цыганку, как вдруг однажды на гуляньи в парке Villa Reale мимо меня прошла дама, показавшаяся мне до того удивительно прелестной, как ни одна виденная мною прежде. Я поспешил обогнать ее, и, когда я увидел ее лицо, мне показалось, что предо мной открылось сияющее небо красоты. Так думал я в то время как грешный человек, и то, что я повторяю теперь свои дерзкие мысли, послужит вам вместо всякого описания тех прелестей, которыми украсил всемогущий прекрасную Анджелу, – тем более что теперь мне не следует, да и не удастся, много говорить о земной красоте. Рядом с дамой шла или, лучше сказать, ковыляла, опираясь на палку, очень старая, прилично одетая дама, отличавшаяся необыкновенно высоким ростом и странной неуклюжестью. Несмотря на совершенно иной костюм и густую вуаль, покрывавшую ее лицо, я сейчас же узнал в старухе цыганку, встреченную мною на молу. Ее насмешливая улыбка и киванье убедили меня в том, что я не ошибся. Я не мог отвести глаз от чудной красавицы. Она опустила глаза и уронила веер. Я быстро поднял его и, подавая, коснулся ее пальцев; они дрожали; тогда вспыхнул во мне огонь проклятой страсти, и я не подозревал, что наступает первая минута страшного испытания, уготованного небом. Совершенно пораженный и обезумевший, стоял я на месте и почти не заметил, что дама и ее старая спутница сели в карету, стоявшую в конце аллеи. Только тогда, когда загремел экипаж, я опомнился и бросился вперед, как безумный. Я догнал их настолько вовремя, чтобы увидеть, как экипаж остановился перед домом в узкой улице, ведущей на большую площадь Largo delle Piane. Дама и ее спутница вышли, а так как карета уехала, как только они вошли в дом, то я мог со справедливостью заключить, что они здесь жили. На площади Largo delle Piane жил мой банкир, синьор Алессандро Сперци, – и я сам не знаю, как пришло мне на ум сейчас же пойти к этому человеку. Он думал, что я пришел по делам, и начал длинно распространяться на эту тему. Но в голове у меня была только та дама, которую я встретил. Я ничего не слушал, и вышло так, что вместо всяких ответов я рассказал синьору Сперци о приятном приключении этого дня. Синьор Сперци рассказал мне о моей красавице больше, чем я мог ожидать. Каждые полгода он получал от некоего торгового дома в Аугсбурге известную сумму для этой дамы. Ее звали Анджела Бенцони, а старуха была известна под именем Магдалы Сигрун. Кроме того, синьор Сперци должен был давать аугсбургскому торговому дому самые подробные сведения о жизни девушки; сначала ему поручено было руководить ее воспитанием, а потом ее хозяйством, так что он считался в некотором роде ее опекуном. Банкир считал девушку плодом скрытой связи между очень высокопоставленными особами. Я выразил банкиру мое удивление, что такое сокровище поручено двусмысленной старухе, шатавшейся по улицам в грязном и оборванном цыганском платье и желавшей, быть может, разыгрывать сводню. Банкир уверил меня, что не было более заботливой и верной няньки, как эта старуха, приехавшая с девочкой, когда ей было только два года. То, что старуха наряжалась иногда цыганкой, было странной шуткой, которую можно простить в этой стране маскарадной свободы. Но я должен быть краток!.. Старуха скоро отыскала меня, нарядившись цыганкой, и сама отвела меня к Анджеле, которая призналась мне в любви, краснея с девической стыдливостью. Я все еще думал в своем заблуждении, что старуха безбожно торговала грехом, но вскоре я убедился в противном. Анджела была чиста и невинна, как снег, и там, где я мечтал наслаждаться пороком, научился я верить добродетели, которую я должен признать теперь за адское и слепое орудие дьявола. По мере того, как возрастала моя страсть, я все больше и больше склонялся на увещанья старухи, которая постоянно жужжала мне в уши, что я должен жениться на Анджеле. Если теперь это должно было произойти в тайне, то настанет день, когда я открыто надену княжескую корону на чело своей супруги. Рожденье Анджелы было сходно с моим.
Мы были обвенчаны в капелле церкви Сан-Филиппо. Мне казалось, что предо мной открылось небо. Я оставил все свои связи, бросил службу, и меня не видели больше в тех кругах, где я прежде дерзко предавался греховным наслаждениям. Эта перемена в образе жизни и была моей пагубой. Танцовщица, которую я бросил, узнала, куда я хожу каждый вечер, и, предчувствуя, что здесь может развиться зародыш ее мщения, открыла тайну моей любви моему брату. Брат мой прокрался ко мне и застал меня в объятиях Анджелы. Гектор в шутливых выражениях извинился за свое вторжение и упрекнул меня в том, что я настолько себялюбив, что никогда не дарил ему доверия истинной дружбы; но я очень ясно заметил, как поразила его необычайная красота Анджелы. Искра упала, и пламя самой дикой страсти загорелось в его груди. Он стал часто ходить к нам, хотя пока только в такие часы, когда рассчитывал застать меня. Мне показалось, что безумная любовь Гектора взаимна, и жестокая ревность начала терзать мою грудь. Тогда испытал я все муки ада. Однажды, когда я вошел в покои Анджелы, мне показалось, что я слышу в соседней комнате голос Гектора. Со смертью в сердце стоял я, точно пригвожденный к земле. И вдруг, как бешеный, выскочил откуда-то Гектор с горящим лицом и дико блуждающими глазами.
– Ты больше не будешь стоять у меня на дороге, проклятый! – воскликнул он, кипя яростью, и, быстро выхватив кинжал, вонзил его мне в грудь по самую рукоять. Призванный хирург нашел, что удар попал прямо в сердце. Святая дева удостоила подарить мне жизнь, совершив чудо.
Последние слова монах сказал тихим, дрожащим голосом и затем впал, по-видимому, в глубокое раздумье.
– А что сделалось с Анджелой? – спросил Крейслер.
– Когда убийца хотел насладиться плодом своего злодейства, – ответил монах глухим, точно нечеловеческим голосом, – возлюбленная почувствовала предсмертные судороги и умерла в его объятиях… Яд…
Произнеся эти слова, монах упал лицом вниз и захрипел, как умирающий. Крейслер зазвонил в колокол и привел в движение весь монастырь. Прибежали монахи и перенесли бесчувственного Киприана в зал для больных.
На другое утро Крейслер нашел аббата в необыкновенно веселом расположении духа.
– Милый мой Иоганн, – воскликнул он со смехом, – вы не хотели верить в чудеса новейших времен, а сами совершили вчера в церкви самое удивительное чудо, которое только может случиться! Скажите, что сделали вы с нашим гордым святым, который лежит теперь, как кающийся, сокрушенный грешник, в детском страхе смерти, прося у нас всех прощения за то, что он хотел перед нами величаться? Быть может, вы сами заставили каяться того, кто потребовал от вас покаяния?
Крейслер не нашел никакой причины умалчивать о том, что произошло между ним и монахом Киприаном. Он подробно рассказал все, начиная со смелой речи, которую он произнес в наказание одностороннему монаху, когда он унижал святое музыкальное искусство, и кончая ужасным состоянием, в которое тот впал, произнеся слово «яд». Затем Крейслер сказал, что в сущности он все еще не понимает, отчего портрет, приведший в ужас принца Гектора, мог производить то же самое впечатление и на монаха Киприана. Точно так же осталось для него по-прежнему темно и то, каким образом мейстер Абрагам замешан в эти страшные события.
– Милый сын мой Иоганн, – приветливо улыбаясь, сказал аббат, – наши отношения теперь уже совсем не те, что были еще несколько часов тому назад. Настойчивость, твердость ума, а главное – глубокое чувство справедливости, развитое в вашей душе, как чудное пророческое ясновидение, делают вместе больше, чем самый острый разум и самый опытный, всюду проникающий глаз. Ты доказал это, мой Иоганн, употребив данное тебе в руки оружие, действие которого ты не совсем хорошо знал; ты воспользовался им так искусно и своевременно, что сразу повалил на землю врага, которого самый обдуманный план, быть может, не так легко выбил бы из позиции. Ты, сам не зная того, оказал мне, монастырю, а главное, может быть, церкви, услугу, выгодные последствия которой нельзя даже предвидеть. Я хочу и должен быть к тебе вполне справедлив, я отворачиваюсь от тех, которые хотели неверно изображать тебя к твоему ущербу; ты можешь рассчитывать на меня, Иоганн! Я позабочусь об исполнении прекраснейшего желания, покоящегося в твоей груди. Твоя Сицилия… ты знаешь, какое кроткое создание я разумею… Но теперь довольно об этом. То, что хотел ты узнать о том ужасном событии в Неаполе, я могу сказать тебе в нескольких словах. Во-первых, нашему достойному брату Киприану угодно было пропустить в своем рассказе одно маленькое обстоятельство. Анджела умерла от яда, который он дал ей в адском безумии ревности. Мейстер Абрагам находился в то время в Неаполе под именем Северино. Он надеялся напасть на след своей утраченной Кьяры и действительно напал на него, когда встретил старую цыганку по имени Магдала Сигурд, которую ты уже знаешь. Старуха обратилась к мейстеру, когда случилось ужасное несчастие, и, прежде чем оставить Неаполь, передала ему этот портрет, секрета которого ты еще не знаешь. Нажми стальную пуговку на рамке: портрет Антонио, который служит только крышкой для ящика, выскочит, и ты не только увидишь портрет Анджелы, но у тебя в руках будут два листка бумаги, которые крайне важны, так как в них есть доказательство двойного убийства. Ты видишь теперь, отчего так сильно действует этот талисман. Мейстер Абрагам, вероятно, имел много столкновений с обоими братьями, но об этом он сам расскажет тебе лучше, чем я. Теперь же послушаем, как обстоят дела с больным братом Киприаном!
– А чудо? – спросил Крейслер, бросая взгляд на место на стене за маленьким алтарем, куда он укреплял вместе с аббатом картину, о которой благосклонный читатель, вероятно, хорошо помнит. Крейслер очень удивился, снова увидев на месте этой картины «Святое семейство» Леонардо да Винчи. – А чудо? – спросил он во второй раз.
– Вы подразумеваете, – сказал аббат с каким-то странным выражением, – ту прекрасную картину, которая прежде здесь висела? Я велел поставить ее пока в лазарет. Быть может, вид ее укрепит нашего бедного брата Киприана, – может быть, святая дева поможет ему во второй раз.
Крейслер нашел в своей комнате письмо от мейстера Абрагама, которое было следующего содержания:
«Дорогой Иоганн!
Сюда, сюда! Оставьте аббатство и спешите сюда как можно скорее!.. Черт устроил здесь для своего удовольствия совсем особую травлю!.. Но лучше на словах: писанье покажется мне кисло, как кровь; все это стоит у меня в горле и, кажется, меня задушит. Ни слова обо мне и о звезде надежды, которая мне показалась. Скажу вам одно: советницы Бенцон больше не существует, есть только рейхсграфиня фон Эшенау. Уже пришел диплом из Вены, и свадьба Юлии с достойным принцем Игнатием почти объявлена. Князь Ириней занят мыслью о новом троне, на котором он будет сидеть как управитель. Бенцон или, вернее, графиня фон Эшенау ему это обещала. Между тем принц Гектор играл в прятки до тех пор, пока ему действительно не понадобилось ехать в армию. Вскоре он вернется, и тогда будут праздновать двойную свадьбу. Это будет весело! Трубачи уже прочищают свои глотки, пиликальщики мажут смычки, зигхартсвейлерские фонарщики готовят факелы. Но… Вскоре будет день рождения княгини, и я предпринимаю нечто великое, но вы должны быть здесь. Являйтесь, милый, на место, как только прочтете это письмо. Бегите скорее! Скоро я вас увижу. Apropos! Берегитесь попа́, но аббата я очень люблю. Прощайте!»
Это письмо старого мейстера было так коротко и содержательно, что…
Послесловие издателя
В заключение второго тома издатель вынужден сообщить читателю печальную новость. Умного, образованного, философского и поэтического кота Мура похитила злая смерть в самой середине его прекрасного жизненного поприща. Он скончался в ночь с двадцать девятого на тридцатое ноября, после кратких, но тяжких страданий, со спокойствием и самообладанием мудреца. Вот еще одно доказательство того, что скороспелые гении всегда плохо кончают. Или они делаются в неподходящей атмосфере бесхарактерно и безумно равнодушными и теряются в массе, или же не достигают преклонных лет. Бедный Мур! Смерть друга Муциуса была предвестницей твоей кончины, и если бы мне пришлось говорить над тобой надгробную речь, она вышла бы у меня гораздо сердечнее, чем у безучастного Гинцмана, потому что я любил тебя и любил больше многих. Ну, спи спокойно! Мир твоему праху!
Плохо то, что покойный не кончил своей житейской философии, которая должна поэтому остаться в отрывках. В сохранившихся записках умершего кота нашлось еще много заметок и размышлений, которые он написал, по-видимому, в то время, когда находился у капельмейстера Крейслера. Кроме того, нашли немалую часть разорванной котом книги, составляющей биографию Крейслера.
Издатель считает уместным сообщить благосклонному читателю, что в третьем томе, который должен появиться к пасхальной ярмарке, будет помещено то, что найдено еще из биографии Крейслера, и вставлены в соответствующих местах те мысли из заметок и рассуждений кота, которые достойны распространения.
Примечания
1
Начинающий в литературе (фр.).
(обратно)2
Очень известный писатель (фр.).
(обратно)3
Я буду жаловаться молча на свою горькую судьбу (ит.).
(обратно)4
Тише! (фр.)
(обратно)5
Жестокий тиран (ит.).
(обратно)6
Не имеет самостоятельной правоспособности (лат.).
(обратно)7
Устроитель празднеств (фр.).
(обратно)8
Мой дорогой брат (фр.).
(обратно)9
Ловкость (фр.).
(обратно)10
Сударь (фр.).
(обратно)11
Мой милый друг (фр.).
(обратно)12
Домашний дух (лат.).
(обратно)13
Абрагам… пощечина (фр.).
(обратно)14
Благочестивый Эней (лат.).
(обратно)15
Сделано Стефано Пачини, Венеция (лат.).
(обратно)16
Внезапно (лат.).
(обратно)17
Вдруг (лат.).
(обратно)18
Что делать, что говорить! (лат.)
(обратно)19
Ах, сжальтесь, сжальтесь, синьора! (лат.)
(обратно)20
Kraus – курчавый, кудрявый.
(обратно)21
Kreusler – парикмахер.
(обратно)22
Это было довольно скучно, дорогой капельмейстер! (фр.)
(обратно)23
До высот (фр.).
(обратно)24
Не из всякого дерева сделаешь Меркурия (лат.).
(обратно)25
«Hase» – заяц.
(обратно)26
В стиле Помпадур (фр.).
(обратно)27
Слабость (фр.).
(обратно)28
Устроитель зрелищ (фр.).
(обратно)29
Поверенный (фр.).
(обратно)30
Повеса (фр.).
(обратно)31
О, почему в эту злосчастную минуту не хватает у меня мужества… (ит.)
(обратно)32
Мгновение (ит.).
(обратно)33
Чувство (ит.).
(обратно)34
Смятение (ит.).
(обратно)35
О, сжалься, небо (ит.).
(обратно)36
Муки смерти (ит).
(обратно)37
Прости (ит.).
(обратно)38
Мельничиха (ит.).
(обратно)39
Ракелина-мельничиха (ит.).
(обратно)40
Очаровательный пройдоха (фр.).
(обратно)41
На здоровье, дорогой мой! (фр.)
(обратно)42
Часть за целое (лат.).
(обратно)43
Мелодическое украшение (ит.).
(обратно)44
Прерванная трель (нем.).
(обратно)45
Комик (ит.).
(обратно)46
Приветствую вас, господин де Крёзель (фр.).
(обратно)47
Бланш (фр.).
(обратно)48
Аббат Гаттони в Милане велел протянуть между двумя башнями 15 железных струн и так подобрать их, чтобы они составляли диатоническую гамму. При всяком изменении в атмосфере эти струны звучали или слабее, или громче, судя по мере изменения. Эту большую эолову арфу называли гигантской, или погодной, арфой.
(обратно)49
Почетный телохранитель (фр.).
(обратно)50
«О водяных сооружениях у древних» (лат.).
(обратно)51
Электрический угорь (лат.).
(обратно)52
Электрический скат (лат.).
(обратно)53
Рыба, которой во времена Гофмана напрасно приписывали те же свойства, какими отличаются угорь и скат, испускающие сильный электрический ток (лат.).
(обратно)54
Я спасена (фр.).
(обратно)55
Охоту (фр.).
(обратно)56
Греховная материя, плоть (лат.).
(обратно)57
Кот разумеет шекспировское «Как вам будет угодно» – третье явление 2-го действия.
(обратно)58
«Искусство любви».
(обратно)59
Венера любит досуг. Если хочешь прекратить любовь, принимайся за дело. Любовь уступает занятиям, и ты будешь спасен (лат.).
(обратно)60
Требуй пения, если без голоса дева; если не умеет касаться струн, требуй лиру (лат.). (Овидий «Лекарство от любви» – здесь Мур пропустил два средних стиха. – Прим. ред.)
(обратно)61
По-немецки слово Mensch (человек) не имеет рифмы, a Kater (кот) рифмует с Vater (отец) и Verather (советчик). Этой второй рифмой и воспользовался кот Мур. – Прим. перев.
(обратно)62
Может быть (фр.).
(обратно)63
Между нами говоря (фр.).
(обратно)64
Турецкое чудище (ит.).
(обратно)65
«Привет тебе, звезда морей» (лат.).
(обратно)66
Милосердная матерь божья (лат.).
(обратно)67
Блаженные небесные врата (лат.).
(обратно)68
«Святейшая» (лат.).
(обратно)69
Петь (лат.).
(обратно)70
Бряцать по струнам (лат.).
(обратно)71
«От такого трепета» (ит.).
(обратно)72
В двенадцатую долю листа (лат.).
(обратно)73
Главнокомандующий (фр.).
(обратно)74
Для учеников (лат.).
(обратно)75
Проклятие! (ит.)
(обратно)76
В русском переводе утрачивается смысл этого разговора. Дело идет о непереводимом оттенке между местоимением Jhr и более фамильярным Sie.
(обратно)77
Франсуа (фр.).
(обратно)78
Вы большой (фр.).
(обратно)79
Спокойной ночи (фр.).
(обратно)80
Будем радоваться (старинная студенч. песня, лат.).
(обратно)81
Вот как хорошо! (лат.)
(обратно)82
Штраф! (лат.)
(обратно)83
Конец венчает дело! (фр.)
(обратно)84
Непереводимая игра слов. Немецкое слово Satz (скачок, прыжок) значит также «предложение».
(обратно)85
Прикрепощенный к земле (лат.).
(обратно)86
Прежде всего выпьем! (лат.).
(обратно)87
Ради бога (лат.).
(обратно)88
Процветающим (лат.).
(обратно)89
Милейший (лат.).
(обратно)90
Итак, вьпьем! (лат.)
(обратно)91
И тут надо различать (лат.).
(обратно)92
Мудрый муж не убоится тебя, господи (лат.).
(обратно)93
Здесь покоится заяц с перцем (лат.).
(обратно)94
Надо выпить (лат.).
(обратно)95
К трапезе (лат.).
(обратно)96
Дрянь, гадость (фр.).
(обратно)97
Хвала господу! (фр.)
(обратно)98
Вне строя (фр.).
(обратно)99
Кто не помогает себе, тот себя отрицает (ит.).
(обратно)100
Благословен грядый во имя господне (лат.).
(обратно)101
«Фантастические рассказы в духе Калло», Крейслериана.
(обратно)102
Агнец божий (лат.).
(обратно)103
Kyrie, eleison – господи, помилуй (греч.).
(обратно)104
Дай нам мир (лат.).
(обратно)105
Под маской (фр.).
(обратно)106
Любовника (ит.).
(обратно)107
Ну-ка (фр.).
(обратно)108
Между нами говоря (фр.).
(обратно)109
Оставим это! (фр.)
(обратно)110
Праведное небо! (фр.)
(обратно)111
Ах, негодяй! (фр.)
(обратно)112
Я был (фр.).
(обратно)113
Вот и всё! (фр.)
(обратно)114
Клянусь честью (фр.).
(обратно)115
Что делать? (фр.)
(обратно)116
Скотина! (фр.)
(обратно)117
«Жалуюсь молча» (ит.).
(обратно)118
Профессор поэзии и красноречия (искаж. лат.).
(обратно)119
«Миновали прекрасные дни Аренкуэса» – стих из «Дон Карлоса» Шиллера.
(обратно)120
Из бездны (лат.).
(обратно)121
Передача короткой или согнутой рукой (лат.).
(обратно)122
Обзор предшествующей жизни (лат.).
(обратно)123
Господин капельмейстер, желаю тебе мира (лат.).
(обратно)124
Господин Крейслер (лат.).
(обратно)125
Вижу тайну (лат.).
(обратно)126
В комнате и изображать добрых херувимов (лат.).
(обратно)127
Любезнейший господин (лат.).
(обратно)128
Теперь я докажу! (лат.)
(обратно)129
«Жак Фаталист» (фр.). Роман Дидро, который очень ценил Гофман. – Прим. ред.
(обратно)130
До свидания (фр.).
(обратно)131
Мошенник! (фр.)
(обратно)132
Мой сын (фр.).
(обратно)133
Возможно ли? (фр.)
(обратно)134
И этого достаточно (фр.).
(обратно)135
Мой друг (фр.).
(обратно)136
Уходите, прочь, убирайтесь! Тотчас же! (фр.)
(обратно)137
Оделюс (от собственного имени Люси) – возбуждающее средство с острым запахом, состоящее из раствора аммиака в алкоголе, с примесью янтаря. – Прим. изд.
(обратно)138
Господи, избави нас от этого монаха! (лат.)
(обратно)139
«Привет тебе, царица» (лат.).
(обратно)140
Иосиф Гайдн.
(обратно)141
«Сотворение мира».
(обратно)
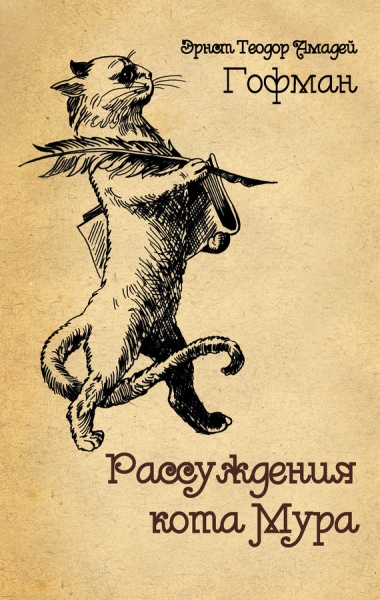

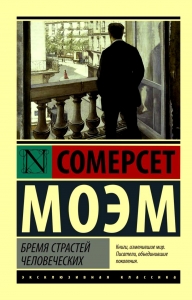
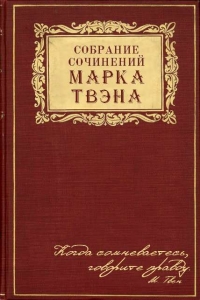
Комментарии к книге «Рассуждения кота Мура», Эрнст Теодор Амадей Гофман
Всего 0 комментариев