Мистер Всезнайка
Я был готов невзлюбить мистера Келаду прежде, чем познакомился с ним. Война только что закончилась, и океанские лайнеры были переполнены пассажирами. Ощущался недостаток удобств, и приходилось мириться с тем, что тебе предлагали агенты. Нельзя было и надеяться на одиночную каюту, и я был благодарен, что мне досталась двухместная. Но когда мне сообщили имя моего компаньона, у меня упало сердце. Оно означало закрытый иллюминатор и изгнанный ночной воздух. Не так уж хорошо делить каюту с кем-либо в течение четырнадцати дней (я ехал из Сан-Франциско в Йокогаму), но я бы не так страшился этого, будь фамилией моего спутника Смит или Браун.
Когда я прибыл на борт, я обнаружил, что багаж мистера Келады уже на борту. Вид его мне не понравился – слишком много ярлыков на сумках, слишком большой чемодан для одежды. Он уже распаковал свои туалетные принадлежности, и я обнаружил, что он приверженец превосходного месье Коти, потому как я увидел на полке одеколон, шампунь и бриолин этой марки. Эбонитовые щётки мистера Келады, украшенные его монограммой в золоте, были превосходны. Нет, мне не нравился мистер Келада. Я пошёл в комнату для курения. Я спросил колоду карт и стал раскладывать пасьянс. Едва я начал, как ко мне подошёл какой-то мужчина и спросил, прав ли он, что меня зовут так-то.
- Я мистер Келада, - добавил он с улыбкой, обнажившей ряд блеснувших зубов, и присел.
- Да, полагаю, мы делим каюту.
- Думаю, нам повезло. Никогда не знаешь, с кем придётся поселиться. Я был так рад, когда узнал, что Вы англичанин. Я за то, чтоб мы, англичане, держались вместе за границей, если Вы понимаете, что я имею в виду.
Я моргнул.
- Так Вы англичанин? – спросил я, возможно, бестактно.
- А как же. Не думаете же Вы, что я американец? Британец до мозга костей, вот кто я такой.
В доказательство Мистер Келада вытащил из кармана паспорт и помахал им перед моим носом.
У короля Георга много странных подданных. Мистер Келада был маленького роста, крепко сбит, чисто выбрит и смугл, с мясистым крючковатым носом и очень большими блестящими глазами. Его длинные чёрные волосы лоснились и завивались кудрями. Он говорил с плавностью, в которой не было ничего английского, и много жестикулировал. Я был уверен на все сто, что близкое знакомство с этим британским паспортом обнаружило бы, что мистер Келада рождён под небом более голубым, чем обычно в Англии.
- Что будете пить? – спросил он меня.
Я посмотрел на него с сомнением. Сухой закон был в силе и, по всей видимости, на корабле спиртного не продавали. Когда я не хочу пить, не знаю, что мне не нравится больше – имбирный эль или лимонад. Но мистер Келада блеснул мне своей восточной улыбкой.
- Виски с содовой или сухой мартини, скажите только слово.
Из каждого бокового кармана он достал по фляжке и положил их на стол передо мной. Я выбрал мартини и сказал официанту, чтобы он принёс льда и пару стаканов.
- Хороший коктейль, - заметил я.
- Что ж, есть гораздо больше там, откуда пришёл этот, и, если у тебя есть друзья на борту, можешь сказать им, что знаешь парня, у которого есть любое спиртное.
Мистер Келада был разговорчив. Он болтал о Нью-Йорке и Сан-Франциско. Он обсуждал пьесы, картины и политиков. Он был патриотом. Наш флаг – впечатляющий кусок материи, но когда им размахивает джентльмен из Александрии или Бейрута, невозможно не чувствовать, что он теряет часть своего величия. Мистер Келада был фамильярен. Не хочу сотрясать воздух, но для полного незнакомца было бы приличней вставлять «мистер» перед моим именем, когда он адресовался ко мне. Мистер Келада, несомненно, для того, чтобы я почувствовал себя непринуждённо, не прибегал к такой формальности. Нет, мне не нравился мистер Келада. Я отложил в сторону карты, когда он присел ко мне, но сейчас, думая, что для первого раза наш разговор длился достаточно долго, я вернулся к моей игре.
- Тройку на четвёрку, - сказал мистер Келада.
Самое раздражающее, когда раскладываешь пасьянс, - это когда тебе говорят, куда положить карту, которую ты перевернул, не давая шанса разобраться самому.
- Он сойдётся, он сойдётся, - воскликнул мистер Келада, - десятку на валета.
С яростью и ненавистью в сердце я закончил. Он завладел колодой.
- Любишь карточные фокусы?
- Нет, я ненавижу карточные фокусы, - ответил я.
- Я покажу тебе только один.
Он показал мне три. Тогда я сказал, что пойду в столовую и займу место за столом.
- Да всё в порядке, я уже занял место для тебя. Я подумал, что раз мы в одной каюте, хорошо бы сидеть за одним столом.
Нет, мне не нравился мистер Келада.
Я не только должен был разделять с ним каюту и есть за тем же столом три раза в день - я не мог пройтись по палубе без того, чтобы он ко мне присоединился. Его невозможно было осадить. Он всё не мог понять, что его не хотят видеть. Он был уверен, что вы ему так же рады, как он рад вам. В своём собственном доме вы могли бы спустить его с лестницы и хлопнуть дверью перед его лицом, а он бы и не заподозрил, что он нежеланный гость.
Он был общительный человек и за три дня перезнакомился со всеми на корабле. Он поспевал повсюду. Он руководил уборкой, проводил аукционы, собирал деньги для спортивных призов, изучал игру в гольф и метание кольца, организовывал концерты, устраивал балы-маскарады. Он был повсюду и всегда. Мы звали его мистер Всезнайка прямо в лицо. Он считал это комплиментом. Но во время еды он был совершенно непереносим. Потому что большую часть времени мы были в его руках. Он был сердечен, жизнерадостен, говорлив. Он был спорщик. Он всё знал лучше всех, и было ударом по его немыслимому тщеславию с ним не согласиться. Он не бросал тему разговора, даже самого незначительного, пока не заставлял вас встать на его точку зрения. Он никогда не думал, что может ошибаться. Он был парень, который знает. Мы сидели за столом доктора. Мистер Келада мог, со всей очевидностью, управляться, как хочет, потому что доктор был ленив, а я холодно равнодушен. Исключение составлял мужчина по фамилии Рамсей, который сидел вместе с нами. Он был догматичен не меньше мистера Келады и сильно возмущался его левантийской самоуверенностью. Дискуссии, которые они вели, были язвительными и бесконечными.
Рамсей служил в американской консульской службе на Кобе. Это был крупный тяжёлый мужчина со среднего запада, с массой жира, распиравшей его костюм из магазина готового платья. Он возвращался назад, чтобы вновь занять свой пост после короткого визита в Нью-Йорк, где он встречал жену, проведшую год дома. Мисс Рамсей была очень хорошенькой женщиной, с приятными манерами и чувством юмора. Консульская служба плохо оплачивается, и она всегда была очень просто одета, но знала, как носить свою одежду. Она достигла эффекта совершенной оригинальности. Я бы не уделил ей ни малейшего внимания, но она обладала качеством, которое, возможно, достаточно обычно среди женщин, но в наши дни не так заметно в их манерах. Нельзя было не поразиться её скромностью.
Однажды за ужином разговор случайно коснулся жемчуга. В то время в газетах много рассказывали о культивированном жемчуге, который выращивали хитроумные японцы, и доктор заметил, что он неминуемо должен снизить цену на настоящий. Культивированные жемчужины, действительно, были хороши, вскоре они станут превосходными. Мистер Келада, в своей обычной манере, подхватил новую тему. Он рассказал нам всё, что следовало знать о жемчуге. Не думаю, что Рамсей знал хоть что-то о предмете, но он не мог устоять перед возможностью броситься на семита, и через пять минут мы были в центре жаркого спора. Я уже видел мистера Келаду многоречивым и страстным, но никогда столь многоречивым и страстным, как теперь. Наконец что-то сказанное Рамсеем задело его, потому что он стукнул по столу и вскричал:
- Что ж, я знаю, о чём говорю. Я еду в Японию как раз, чтобы взглянуть на этот самый японский жемчужный бизнес. Я в деле, и любой скажет вам, что стоит прислушаться к тому, что я говорю о жемчуге. Я знаю о самых лучших жемчужинах в мире, а то, чего я не знаю о жемчуге, не стоит и знать.
Это было новостью для нас, так как мистер Келада при всей его разговорчивости никогда прежде не говорил, чем занимается. Мы только смутно догадывались, что он едет в Японию в какую-то командировку. Он триумфально оглядел стол.
- Они никогда не смогут получить культивированный жемчуг, который такой эксперт, как я, не отличит с первого взгляда. – Он указал на ожерелье, которое носила миссис Рамсей. – Даю слово, миссис Рамсей, что эта нить, надетая на Вас, никогда не будет стоить ни центом меньше, чем сейчас.
Миссис Рамсей, исполненная скромности, слегка покраснела и спрятала ожерелье под платье. Рамсей наклонился вперёд. Он взглянул на нас, и усмешка блеснула в его взгляде.
- У миссис Рамсей хорошенькое ожерелье, не правда ли?
- Я сразу его заметил, - отвечал мистер Келада, - Ого, сказал я себе, вот жемчуг что надо.
- Я купил его не сам, конечно. Интересно узнать, во что Вы его оцените.
- В рыночных ценах примерно в пятнадцать тысяч долларов. Но, если оно было куплено на Пятой Авеню, не буду удивлён, если услышу, что оно стоило больше тридцати тысяч.
Рамсей ухмыльнулся.
- Вы будете удивлены, если услышите, что миссис Рамсей купила эту нить в универмаге за день до того, как мы покинули Нью-Йорк, за восемнадцать долларов.
Мистер Келада вспыхнул.
- Чушь. Она не только настоящая, но это лучшее из ожерелий по размеру жемчужин из тех, что я видел.
- Поклянётесь в этом? Я спорю на сотню долларов, что это имитация.
- Хорошо.
- Нет, Элмер, ты не можешь спорить наверняка, - сказала миссис Рамсей.
Она слегка улыбалась, а тон её мягко протестовал.
- Почему не могу? Если представляется такой лёгкий шанс раздобыть деньги, я бы был полным дураком, если бы не воспользовался им.
- Но как мы сможем доказать это? – продолжала она. – Это всего лишь моё слово против слова мистера Келады.
- Дайте мне взглянуть на ожерелье, и, если это имитация, я сам скажу вам. Я могу себе позволить потерять сотню долларов, - сказал мистер Келада.
- Сними его, дорогая. Пусть джентльмен осматривает его столько, сколько хочет.
Миссис Рамсей минуту колебалась. Она взялась за застёжку.
- Я не могу расстегнуть его, - проговорила она. – Мистер Келада должен поверить мне на слово.
Я почувствовал подозрение, что происходит какое-то несчастье, но и не думал ничего говорить.
Рамсей вскочил:
- Я расстегну его.
Он протянул ожерелье мистеру Келаде. Тот достал увеличительное стекло из кармана и тщательно изучил нить. Триумфальная улыбка скользнула по его гладкому и смуглому лицу. Он был готов заговорить. Внезапно он поймал взгляд миссис Рамсей. Она была бледна и выглядела так, как будто готова упасть в обморок. Она смотрела на него огромными напуганными глазами. Она была в отчаянии, это было так очевидно, что я удивился, почему её муж этого не замечает.
Мистер Келада замер с открытым ртом. Он глубоко покраснел. Вы почти видели усилие, которое он над собой делал.
- Я ошибался, - сказал он. – Это очень хорошая имитация, но, конечно, как только я посмотрел сквозь своё стекло, я увидел, что жемчуг не настоящий. Я думаю, что восемнадцать долларов как раз та цена, которую стоит это чёртово ожерелье.
Он достал портмоне, а из него стодолларовую банкноту. Он протянул её Рамсею без слов.
- Возможно, это научит Вас не быть самоуверенным следующий раз, мой юный друг, - сказал Рамсей, принимая банкноту.
Я заметил, что руки мистера Келады дрожали.
История распространилась по кораблю, как обычно бывает с историями такого рода, и ему пришлось смириться с изрядной долей подтруниваний в этот вечер. Было забавной шуткой, что мистер Всезнайка попался. Но миссис Рамсей ушла в свою каюту из-за головной боли.
Назавтра я проснулся и принялся бриться. Мистер Келада лежал в своей постели и курил сигарету. Внезапно раздалось шуршание, и я увидел, что под дверь просовывают конверт. Я открыл дверь и огляделся. Никого не было. Я поднял конверт и увидел, что он адресован мистеру Келаде. Имя было написано печатными буквами. Я протянул конверт ему.
- От кого это? – Он вскрыл его. – А!
Он вытащил из конверта не письмо, а стодолларовую банкноту. Он взглянул на меня и покраснел. Он разорвал конверт на мелкие клочки и протянул их мне.
- Не можешь выкинуть их в иллюминатор?
Я так и сделал, а потом посмотрел на него с улыбкой.
- Никто не любит выглядеть полным дураком, - сказал он.
- Жемчуг был настоящим?
- Если бы у меня была хорошенькая жена, я не позволил бы ей провести целый год в Нью-Йорке, пока я остаюсь в Кобе, - сказал он.
В этот момент нельзя было сказать, что мне не нравится мистер Келада. Он достал из кармана бумажник и осторожно положил в него стодолларовую банкноту.
Поэт
Я не особо интересуюсь знаменитостями и никогда не был снисходителен к страсти, которой одержимы столь многие, - страсти пожимать руки великим мира сего. Когда мне предлагают встретиться с кем-то, кто выделяется среди своих друзей классом или знаниями, я ищу вежливый предлог, который позволил бы мне избегнуть этой чести; и когда мой друг Диего Торре предложил мне дать рекомендацию в адрес Санта Аны, я отказался. Но в этом случае предлог был искренним; Санта Ана был не только великим человеком, но и романтической фигурой, и было бы забавно увидеть в его дряхлости того мужчину, чьи приключения (по крайней мере, в Испании) были легендарными; но я знал, что он стар и болен и не думал, что выйдет что-либо, кроме неудобств для него из встречи с незнакомым человеком, да к тому же иностранцем.
Калисто де Санта Ана был последним наследником Старой Школы, и в мире, не симпатизирующем байронизму, он жил, как Байрон, к тому же описал свою полную риска жизнь в серии стихотворений, которые принесли ему славу, невиданную среди современников. Я не буду судить о ценности этих стихотворений, потому что я прочитал их впервые, когда мне было двадцать три года, и тогда они привели меня в восторг: в них были страсть, героическая самонадеянность и многоцветная жизненная энергия, которые сбивали меня с ног. Сейчас же эти звенящие строки и преследующие ритмы столь перемешались с пьянящими воспоминаниями моей юности, что я не могу читать их без того, чтобы моё сердце не билось.
Я склонен думать, что Калисто де Санта Ана заслуживает репутацию, которой он пользуется среди испано-говорящего населения. В те дни его строки были на устах у всех молодых людей, и мои друзья без конца толковали мне о его бурном образе жизни, его страстных речах (он был и поэт, и политик), его язвительном остроумии и его любовных приключениях. Он был бунтарём, и порой преследовался законом, был безрассудно смелым, но более всего он был любовником. Мы знали всё о его страсти к той великой актрисе или к этой божественной певице – разве мы не перечитывали, пока не заучим наизусть, пылающие сонеты, в которых он описывал свою любовь, свою боль и свой гнев? – и мы были осведомлены, что испанская принцесса, гордая наследница Бурбонов, поддалась на его мольбы, а после того, как его любовь иссякла, постриглась в монахини. Когда Филиппы, её царственные предки, уставали от любовниц, те поступали в монастырь, потому что не подобает той, кого любил Король, быть любимой другим; а не был ли Санта Ана выше, нежели любой из земных владык? Мы аплодировали романтическому жесту благородной дамы: он делал ей честь и льстил нашему поэту.
Но всё это происходило много лет назад, и уже четверть века дон Калисто, с презрением удалившись от мира, который ничего более не мог предложить ему, жил в уединении в своём родном городе - в Эсихе. Я как-то объявил о своём намерении посетить это местечко (я проводил неделю или две в Севилье) не из-за поэта, но потому, что это очаровательный андалузийский городок с ассоциациями, которые дороги мне, и Диего Торре предложил мне рекомендацию. Оказалось, что дон Калисто позволяет молодым литераторам время от времени навещать его и порой разговаривает с ними с тем жаром, который воспламенял его слушателей в великие дни его первенства.
- Как он сейчас выглядит? – спросил я.
- Великолепно.
- У тебя есть его фотография?
- Хотелось бы. Он отказывается встречаться с фотоаппаратом с тех пор, как ему исполнилось тридцать пять. Он говорит, что желает, чтобы грядущие поколения знали его только молодым.
Признаюсь, что я нашёл это проявление тщеславия трогательным. Я знал, что в юности он был необычайно красив и вспомнил его трогательный сонет, который он написал, когда его настигла забота о том, что юность навсегда покинула его. Этот сонет показывает, какой горький и сардоническую внезапную боль он должен был испытывать, пока следил, как исчезает его внешность, которая была такой очаровательной.
Но я отклонил предложение своего друга; меня вполне устраивало, что я могу ещё раз перечитать стихи, которые я знаю так хорошо, а во всём остальном я предпочитал странствовать по тихим и залитым солнцем улочкам Эсихи совершенно свободно. Я испытал что-то вроде ужаса, когда в вечер своего прибытия получил записку от самого великого человека. Диего Торре сообщил ему о моём визите, написал он, и ему доставит большое удовольствие, если я заскочу к нему в одиннадцать следующим утром. В таких обстоятельствах мне ничего не оставалось, как явиться самому в его доме в назначенный час.
Мой отель располагался на площади и в то весеннее утро был оживленным, но как только я покинул его, мне пришлось идти по пустынному городу. Улицы, извилистые белые улицы, были бы пустыми, если бы не женщина в чёрном то тут, то там возвращавшаяся размеренными шагами из церкви. Эсиха – это город церквей, и вы едва ли смогли бы прогуляться, не увидев осыпающийся фасад или башню, на которой аисты свили свои гнёзда. Однажды я остановился, чтобы понаблюдать за цепочкой белых осликов. Их красные попоны выцвели, и я понятия не имел, что они несут в своих корзинах. Но Эсиха была значительным местом в своё время, и у многих из этих белых домов были ворота из камня, увенчанные впечатляющими гербами, ибо в это удалённое местечко стекались богатеи Нового мира и искатели приключений, которые стяжали сокровища в Америке, для того, чтобы провести здесь свои последние дни. В одном из таких домов и жил дон Калисто, и когда я остановился во дворике после того, как нажал на звонок, я с удовлетворением подумал, что он живёт в весьма подходящем окружении. Это пришедшее в упадок величие массивных ворот подходило к моему впечатлению о пламенеющем поэте. Хотя я слышал, как колокольчик звенит в глубине дома, никто не отвечал и я позвонил во второй, а затем и в третий раз. Наконец старуха с густыми усами подошла к воротам.
- Чего Вы хотите? – спросила она.
У неё были красивые глаза, но мрачный взгляд, и я решил, что это она заботится о старом поэте. Я протянул ей свою карточку.
- У меня встреча с твоим хозяином.
Она отворила тяжёлые ворота и пригласила меня войти. Попросив меня подождать, она оставила меня и поднялась наверх. После улицы патио казался приятно освежающим. У него были благородные пропорции, и я предположил, что он был построен каким-то последователем конкистадоров, но краски потускнели, плитки на полу были разбиты, и там и здесь обвалились большие хлопья штукатурки. Повсюду ощущался дух бедности, но не ничтожества. Я знал, что дон Калисто беден. Деньги когда-то легко приходили к нему, но он не придавал им никакого значения и щедро тратил. Было очевидно, что теперь он жил в нищете, которую отказывался признавать. В центре патио стоял стол с круглым креслом с каждой стороны, а на столе лежала газета двухнедельной давности. Я размышлял, какие мечты занимали его воображение, когда он сидел здесь тёплыми летними вечерами, покуривая сигареты. На стене под колоннадой висели испанские картины, тёмные и плохие, и там и тут стояла древняя пыльная подставка с не раз чиненным лоснящимся блюдом на ней. Рядом с дверью висела пара старых пистолетов, и я испытал приятное волнение при мысли, что это – то самое оружие, которое он использовал в самой известной из своих многочисленных дуэлей, за честь Пепы Монтанес – танцовщицы (теперь, я думаю, беззубой и крашеной ведьмы), когда он убил герцога Дос Германоса.
Вся сцена с ассоциациями, которым я так дивился, так верно подходила к романтическому поэту, что я был ошеломлен духом места. Эта благородная бедность окружала его славой столь же великой, как и блеск его молодости, в нём тоже жил дух старых конкистадоров, и так и следовало, чтобы он закончил свою славную жизнь в этом обветшавшем, но великолепном доме. Поистине так должен жить и умирать поэт. Я уже пришёл достаточно спокойный и даже несколько тяготился перспективами нашей встречи, но сейчас начинал нервничать. Я зажёг сигарету. Я пришёл в назначенное время и удивлялся, что задержало старика. Молчание было странно беспокоящим. Призраки прошлого толпились в тихом патио, и ушедшие годы набирали силу в своей призрачной жизни. В людях тех дней были страсть и неистовство духа, которые ушли из мира навсегда. Мы более неспособны ни на их безрассудные поступки, ни на их театральные подвиги.
Я что-то услышал, и моё сердце забилось быстрее. Теперь я был возбуждён, и когда, наконец, увидел его, медленно спускающегося по ступенькам, я затаил дыхание. Он держал в руке мою карточку. Он был высоким стариком, необычайно худым, с кожей цвета старой слоновой кости; его густые волосы были белыми, но кустистые брови оставались тёмными; эти брови заставляли его большие глаза светиться ещё более мрачным огнём. Было удивительно, что в его возрасте эти тёмные глаза всё ещё сохраняли свой блеск. Нос у него был орлиный, губы плотно сжаты. Его неулыбчивые глаза сосредоточились на мне по мере того, как он приближался, и видно было, что он холодно оценивает меня. Он был одет в чёрное, и в руке держал широкополую шляпу. В нём чувствовались уверенность и достоинство. Он был таким, каким я и желал его видеть, и как только я увидел его, я понял, как он овладевал мыслями других и завоевывал их сердца. Он был поэт до мозга костей.
Он достиг патио и направился ко мне. У него воистину были глаза орла. Момент показался мне тревожным, ибо вот он стоял, наследник великих испанских поэтов, великолепного Херреры, ностальгического и трогательного Фра Луиса, мистика Хуана де ла Круза, а также невразумительного и тёмного Гонгора. Он был последним в этой длинной линии и он следовал им не зря. Внезапно в моём сердце зазвучала прелестная и нежная песня, которая была написана на самое известное стихотворение дона Калисто.
Я был сконфужен. К счастью, я приготовил заранее фразу, которой я намеревался приветствовать его.
- Это удивительная честь, Маэстро, для такого иностранца, как я, познакомиться со столь великим поэтом.
Искра изумления проскочила в его пронзающих глазах и улыбка на минуту скруглила линию его жёстких губ.
- Сеньор, я не поэт, я торговец щетиной. Вы ошиблись, дон Калисто живёт в следующем доме.
Я зашёл не в тот дом.
Обещание
Моя жена очень непунктуальная женщина, так что когда, пригласив её на обед к Клариджу, я пришёл туда на десять минут позже и не обнаружил её, я не удивился. Я заказал коктейль. Сезон был в разгаре, и в холе было едва ли два-три свободных столика. Некоторые пили кофе после раннего обеда, другие, как и я сам, поигрывали с сухим мартини; женщины в своих летних платьях выглядели весёлыми и очаровательными, а мужчины – беззаботными, но ни одно из этих лиц не показалось мне достаточно интересным, чтобы занять четверть часа, которую я намеревался ждать. Они были изящными и приятными на вид, хорошо одетыми и вели себя непринуждённо, но все они были сделаны по одному шаблону, и я следил за ними скорее с терпением, а не с любопытством. Но было уже два часа, и я почувствовал голод.
Жена сказала мне, что не наденет ни бирюзу, ни часы, потому что бирюза позеленела, а часы остановились; она связывала это со зловредностью судьбы. Ничего не могу сказать о бирюзе, но, что касается часов, я иногда думал, что они могли бы идти, если бы она их заводила. Я был занят этими размышлениями, когда служитель ресторана подошёл ко мне и с той мертвящей значительностью, которая присуща служителям ресторана (как будто сообщение содержит более зловещее значение, чем слова, из которых оно складывается) сказал мне, что только что звонила леди и сообщила, что задерживается и не сможет пообедать со мной.
Я колебался. Не так уж забавно есть в переполненном ресторане в одиночку, но было слишком поздно, чтобы идти в клуб, и я решил, что лучше останусь здесь. Я прогулялся в обеденный зал. Никогда не доставляло мне особого удовольствия (как, по всей видимости, доставляет многим элегантным особам), если главный официант фешенебельного ресторана знал меня по имени, но в этом случае я был бы рад, если бы меня встретили менее ледяным взглядом. Метрдотель с застывшими и враждебными глазами сказал мне, что все столики заняты. Я без надежды осмотрел большую комнату и внезапно к своему удовольствию поймал взгляд знакомой. Леди Элизабет Вермонт была моим старым другом. Она улыбнулась, и, заметив, что она одна, я подошёл к ней.
- Не сжалишься ли над голодным мужчинам и не позволишь ли мне сесть с тобой? - спросил я.
- Конечно. Но я уже почти закончила.
Она занимала маленький столик за массивной колонной, и когда я сел, я обнаружил, что, несмотря на толпу, мы сидели практически в уединении.
- Это большая удача, - сказал я, - Я на грани голодного обморока.
У неё была очень приятная улыбка, которая не озаряла лицо внезапно, но, казалось, постепенно заливала его очарованием. Она трепетала мгновение на губах и затем медленно переселялась в огромные сияющие глаза и там воцарялась. Никто с уверенностью не мог бы сказать, что Элизабет Вермонт была сделана по шаблону. Я не знал её в девичестве, но многие говорили мне, что в ту пору она была такой прелестной, что вызывала слёзы, и я с готовностью в это верю, потому что сейчас, пятидесятилетняя, она была несравненна. Её потрясающая красота делала свежую и цветущую миловидность юности несколько пресной. Я не люблю эти накрашенные лица, которые все выглядят одинаково, И я думаю, что женщины просто дуры, когда обедняют выражение лица и обесцвечивают свою индивидуальность пудрой, румянами и помадой. Но Элизабет Вермонт красилась не для того, чтобы сымитировать природу, но чтобы улучшить её; вы не спрашивали, что это значит, а аплодировали результату. Дерзкая смелость, с которой она использовала косметику, скорее усиливала, чем ослабляла характерность этого совершенного лица. Полагаю, она красила волосы: они были чёрными, гладкими и блестящими. Она держала себя так, будто не знала, что такое сидеть, развалясь, и была очень изящной. Она была одета в чёрное шёлковое платье, покрой и простота которого были восхитительны, а вокруг её шеи обвивалась длинная нить жемчуга. Единственной другой драгоценностью был огромный изумруд, который венчал её обручальное кольцо, и его тёмный блеск подчёркивал белизну её руки. Но что-то было в её руках с накрашенными ногтями, что выдавало её возраст: в них не было ничего от девичьей мягкости и округлости, и вы не могли не смотреть на них без доли уныния. Больше всего они напоминали когти хищной птицы.
Элизабет Вермонт была замечательной женщиной. Высокого происхождения – она была дочерью седьмого герцога Сен Эрта, в восемнадцать лет она вышла за богача, и с тех пор её жизнь стала ошеломляюще экстравагантной, похотливой и беспутной. Она была слишком горда, чтобы быть осторожной, слишком беспечной, чтобы думать о последствиях, и через два года в атмосфере ужасающего скандала муж развёлся с ней. Тогда она вышла замуж за одного из трёх соответчиков, фигурировавших в деле, и восемнадцать месяцев спустя бежала от него. Последовал ряд любовников. Она прославилась своим распутством. Её выдающаяся красота и скандальный образ жизни держали её на виду, и она регулярно давала новую почву для сплетен. Её имя было как кость в горле для приличных людей. Она была игроком, мотовкой и распутницей. Но, неверная своим любовникам, она была преданным другом и всегда оставались люди, которые признавали, что, что бы она ни сделала, она была очень хорошей женщиной. В ней сочеталисьи искренность, благородство и смелость. Она никогда не была лицемером. Она была щедрой и откровенной. В то время я с ней и познакомился, потому что гранд дамы с тех пор, как религия вышла из моды, склонны испытывать преувеличенно лестный интерес к искусствам. Столкнувшись с холодностью членов своего собственного класса, они порой снисходят к обществу писателей, художников и музыкантов. Я обнаружил, что она превосходный компаньон. Она принадлежала к тем благословенным особам, которые прямо и бесстрашно говорят то, что думают (экономя при этом массу бесценного времени), и она была остроумна. Она всегда была готова с юмором поговорить о своей сенсационной жизни. Её разговор, хотя безыскусный, был хорош, потому что, несмотря ни на что, она была настоящей женщиной.
Потом она сделала обескураживающую вещь. В сорок лет вышла замуж за двадцатиодноголетнего парня. Друзья говорили, что это был безумнейший поступок всей её жизни, и некоторые, которые прошли с ней огонь и воду, из жалости к юноше, потому что он был милым, и казалось постыдным воспользоваться его неопытностью, отказались иметь с ней дело. Это и в самом деле было пределом. Они пророчили несчастье, потому что Элизабет Вермонт неспособна быть верной какому бы то ни было мужчине дольше, чем шесть месяцев, о нет, и они только надеются на то (единственный шанс для несчастного юноши), что его жена поведёт себя так скандально, что он должен будет оставить её. Все они ошиблись. Не знаю, время ли ответственно за ту перемену, что произошла в её сердце или невинность и чистая любовь Питера Вермонта тронули её, но остаётся фактом, что она стала ему превосходной женой. Они были бедны, а она экстравагантна, но она превратилась в бережливую хозяйку; внезапно она стала так заботиться о своей репутации, что смолкли самые злые языки. Казалось, что её заботит только его счастье. Без сомнения, она преданно любила его. После того, как о ней столько говорили, Элизабет Вермонт исчезла из всяческих разговоров. Выглядело так, что её история окончена. Она стала совсем другой женщиной, и я забавлялся мыслью, что когда она станет старухой, со многими годами совершенной респектабельности позади, будет казаться, что её яркое прошлое принадлежит не ей, но кому-то давно умершему, кого когда-то она знала. Ибо женщины имеют завидную способность забывать.
Но кто скажет, что готовит нам судьба? В мгновение ока всё изменилось. Петер Вермонт после десяти лет идеального брака безумно влюбился в Барбару Кантон. Это была хорошая девушка, младшая дочь лорда Роберта Кантона, который одно время был помощником министра иностранных дел, красивая яркой пьянящей красотой. Конечно, её и сравнить нельзя было с леди Элизабет. Многие знали о том, что произошло, но никто не мог сказать, имела ли Элизабет хоть малейшее представление об этом и гадали, как она справится с ситуацией, которая была для неё столь нова. Это она всегда бросала своих любовников, ни один из них не оставил её. Что до меня, то я думал, что она быстро управится с маленькой мисс Кантон: я знал её смелость и находчивость. Обо всём этом я думал, пока обедал с ней. Ничто в её поведении, таком же жизнерадостном, очаровательном и искреннем, как всегда, не говорило, что она озабочена. Она беседовала, как обычно, легко и добросердечно, с живым чувством к нелепому, разнообразных форм которого мы касались в разговоре. Я наслаждался. Я пришёл к заключению, что каким-то чудом она не заметила, что чувства Питера изменились, и я объяснял это тем, что её любовь была так велика, что она не могла представить, будто его любовь меньше.
Мы выпили кофе и выкурили пару сигарет, и она спросила меня, сколько времени.
- Без четверти три.
- Мне пора спросить счёт.
- Не позволишь мне угостить тебя обедом?
- Конечно, - улыбнулась она.
- Ты торопишься?
- Я встречаюсь с Питером в три.
- И как он?
- Превосходно.
Она улыбнулась своей медлительной и очаровательной улыбкой, но мне показалось, что это была в чём-то пародия. Мгновение она колебалась, затем посмотрела на меня с размышлением.
- Ты ведь любишь курьёзные ситуации?- сказала она, - Ты никогда не догадаешься, что я должна сделать. Я позвонила Питеру сегодня утром и попросила его встретиться со мной в три. Я собираюсь просить у него развода.
- О нет! – вскричал я. Я почувствовал, что кровь бросилась мне в лицо, и не знал, что сказать. – Я думал, вам было хорошо вместе.
- Неужели ты думаешь, что я могла не знать о том, что знает весь мир? Я вовсе не такая дура.
Она была не из тех женщин, кому я мог бы сказать, что никто не верил этому, и я не мог притворяться, что не знаю, о чём она говорит. Я молчал секунду или две.
- Почему ты решила развестись?
- Роберт Кантон старомоден и консервативен. Я очень сомневаюсь, что он позволит Барбаре выйти замуж за Питера, если я не дам ему развода. А для меня, знаешь ли, никаких последствий: одним разводом больше или меньше…
Она пожала своими красивыми плечами.
- Откуда ты знаешь, что он хочет на ней жениться?
- Он по уши влюблён.
- Он так тебе сказал?
- Нет. Он даже не знает, что я знаю. Он так жалок, бедняжка. Так старается не ранить мои чувства.
- Возможно, это только мимолётное увлечение, - рискнул предположить я, - и оно пройдёт.
- С чего бы? Барбара молода и красива. Она совершенство. Они прекрасно подходят друг другу. С другой стороны, что хорошего с том, что это пройдёт? Сейчас они любят друг друга, а настоящее время в любви решает всё. Я на девятнадцать лет старше Питера. Если мужчина больше не любит женщину достаточно старую, чтобы быть его матоерью, неужели ты думаешь, он когда-либо полюбит её снова? Ты романист, ты должен бы больше знать о человеческой природе.
- Зачем же ты приносишь себя в жертву?
- Когда он просил меня выйти за него замуж десять лет назад, я обещала ему, что если он захочет свободы, он получит её. Видишь ли, различие в наших возрастах так велико, что я подумала, так будет честнее.
- Так ты собираешься исполнить обещание, которое он не просит тебя сдержать?
Её длинные тонкие руки чуть дрогнули, и на этот раз я почувствовал что-то зловещее в тёмном блеске этого изумруда.
- О, знаешь, я должна. Нужно вести себя по-джентльменски. Сказать тебе правду, именно поэтому я обедаю здесь сегодня. За этим самым столом он сделал мне предложение, мы вместе обедали, и я сидела прямо там же, где сейчас. Нелепость в том, что я сейчас так же сильно люблю его, как тогда. – Она замолчала на минуту, и я видел, как она стиснула зубы. – Ну, думаю, мне пора идти. Питер ненавидит, когда его заставляют ждать.
Она бросила на меня беспомощный взгляд, и я внезапно понял, что она просто не может себя заставить подняться с кресла. Но она улыбнулась и резко вскочила на ноги.
- Хочешь, я пойду с тобой?
- Только до двери отеля, - улыбнулась она.
Мы прошли по ресторану и холлу, и когда мы подошли к выходу, швейцар толкнул вращающуюся дверь. Я спросил, нужно ли ей такси.
- Нет, я лучше прогуляюсь, такой славный денёк. – Она протянула мне руку. – Приятно было увидеться. Завтра я уезжаю за границу, но собираюсь быть в Лондоне осенью. Позвони мне.
Она улыбнулась, кивнула и пошла прочь. Я следил, как она шла по Дэвис стрит. Воздух был мягким и весенним, и над крышами в синем небе спокойно летели маленькие белые облака. Она держалась очень прямо, и посадка её головы была элегантной. Она была изящной и привлекательной, так что люди оборачивались на неё, когда проходили мимо. Я видел, как она грациозно кивнула какому-то знакомому, который снял перед ней шляпу, и я думал, что никогда и в тысячу лет ему бы в голову не пришло, что у неё разбито сердце. Повторяю, она была настоящей женщиной.
Престол Судии
Они терпеливо ожидали своей очереди, но терпение было для них не новостью; они, все трое, упражнялись в нём с непреклонной решимостью тридцать лет. Их жизни были долгим приуготовлением к этому мгновению, и они ожидали решения теперь, если не с уверенностью, ибо в столь ужасных обстоятельствах она была бы не к месту, то с надеждой и смелостью. Они держались тесной и узкой тропинки в то время, как цветущие луга греха приветливо простирались перед ними; с высоко поднятыми головами, хотя и с разбитыми сердцами, они перенесли искушение; и теперь, когда их трудный путь окончен, они ожидали награды. Они не нуждались в разговорах, так как каждый знал мысли других, и они с благодарностью чувствовали, что одно и то же чувство облегчения наполняет их бестелесные души. В каких муках они бы сейчас корчились, если бы поддались страсти, которая казалась почти неодолимой, и каким бы безумием было, если бы за несколько коротких лет блаженства они пожертвовали Жизнью Вечной, которая таким ярким светом, наконец, воссияла перед ними! Они чувствовали себя как люди, едва-едва избегнувшие внезапной и насильственной смерти, которые озираются в изумлении, еле способные верить, что они ещё живы. Они не сделали ничего, в чём могли бы упрекнуть себя, и когда их ангелы подошли и сказали, что момент настал, они пошли вперёд так же, как шли по миру, который был теперь так далеко, счастливо сознавая, что выполнили свой долг. Они стояли чуть в стороне, потому что давка была ужасная. Шла чудовищная война, и годами солдаты всех наций, мужчины в самом цвете юности, маршировали в бесконечной процессии к Престолу Судии; туда же шли женщины и дети, чьи жизни были безжалостно оборваны насилием, или, что ещё хуже, скорбью, болезнями и голодом, так что на небесах царило нешуточное смятение.
Из-за войны и эта бледная троица трепещущих духов стояла здесь в ожидании разрешения своей судьбы. Ибо Джон и Мэри были пассажирами на судне, которое потопила торпеда с подводной лодки, а Рут, чьё здоровье было подорвано чудовищной работой, которую она так благородно приняла на себя, услышав о смерти мужчины, любимого всем сердцем, упала, как подкошенная, и умерла. На самом деле Джон мог бы спастись, если бы не старался спасти свою жену; он ненавидел её; он тридцать лет ненавидел её всеми силами своей души; но он всегда выполнял свой долг по отношению к ней и в момент смертельной опасности не мог поступить по-другому.
Наконец их ангелы взяли их за руки и подвели к месту Суда. Какое-то время Предвечный не обращал на них ни малейшего внимания. Секунду назад здесь проходил суд философа, скончавшегося на склоне лет в гордыне, который сказал Предвечному в лицо, что не верит в него. Вовсе не это потревожило спокойствие Царя Царей, это могло только заставить его улыбнуться; но философ, бесчестно пользуясь своим преимуществом в силу того, что происходило сейчас на земле, спросил его как, рассматривая их беспристрастно, возможно примирить его всемогущество с его всеблагостью.
- Невозможно отрицать существование Зла, - нравоучительно сказал философ. – Итак, если Бог не может предотвратить Зло, он не всемогущ, а если он может предотвратить его, но не делает этого, он не всеблаг.
Этот спор был, конечно, не нов для Всеведущего, но он всегда уклонялся от него; ибо, хотя он знал всё, на это ответа он не знал. Даже Бог не может сделать дважды два пятью. Но философ, усугубляя своё преимущество, и, как часто делают все философы, извлекая из разумной предпосылки неоправданное заключение, закончил положением, которое в подобных обстоятельствах было очевидным абсурдом.
- Я не желаю верить, - заявил он, - в Бога, который не всемогущ и не всеблаг.
Поэтому, возможно не без облегчения, Предвечный обратил свой взор на три тени, которые стояли перед ним смиренно, но с надеждой. Живые, как ни коротко время их жизни, когда говорят о себе, говорят слишком много, но мёртвые, имея перед собой вечность, столь многословны, что только ангелы могут слушать их вежливо. Но вот вкратце история, которую поведали эти трое. Джон и Мэри были счастливо женаты около пяти лет, и до тех пор, как Джон встретил Рут, они любили друг друга, как любит большинство семейных пар, с искренней привязанностью и взаимным уважением. Рут было восемнадцать, она была на десять лет моложе его, очаровательное грациозное создание со стремительной, всё побеждающей прелестью; она была здорова телом и духом и, испытывая жажду к естественному счастью жизни, была способна достичь такого величия, как красота души. Джон влюбился в неё, а она в него. Но ими овладела не банальная страсть, это было нечто столь ошарашивающее, что они чувствовали, будто вся долгая история мира значит что-то только потому, что через время и пространство привела к их встрече. Они любили, как Дафнис и Хлоя или как Паоло и Франческа. Но после первых мгновений экстаза, когда каждый обнаружил, что любим другим, они были охвачены унынием. Они были достойные люди и уважали самих себя, веру, в которой они были воспитаны, и общество, в котором они жили. Как он мог предать доверие невинной девушки, и что она могла делать с женатым мужчиной? Затем они забеспокоились, что Мэри узнает об их любви. Самоуверенная привязанность, с которой она относилась к мужу, потрясала, а теперь в ней взросло чувство, на которое она и не думала, что способна, - ревность и страх, что он оставит её, ярость, что кто-то угрожает её владычеству над его сердцем, и странный голод души, более болезненный, чем даже любовь. Она чувствовала, что умрёт, если он покинет её, и в то же время знала, что он полюбил потому, что любовь пришла к нему, а не потому что он жаждал этого. Она его не обвиняла. Она молилась о силе, она плакала молчаливыми, горькими слезами. Джон и Рут видели, как она томится. Борьба была долгой и упорной. Иногда их сердца изменяли им, и они чувствовали, что не могут противостоять страсти, сжигающей их до костей. Они сопротивлялись. Они сражались со злом, как Иаков сражался с ангелом Господним, и наконец они победили. Они посвятили Богу, как жертву, свои надежды на счастье, радость жизни и красоту мира.
Рут любила слишком страстно, чтобы полюбить вновь, и с каменным сердцем она обратилась к Господу и благотворительности. Она была неутомима. Она заботилась о больных и помогала бедным. Она основывала приюты для сирот и управляла благотворительными обществами. И мало-помалу её красота, о которой она больше не заботилась, увяла, и её лицо стало таким же каменным, как и её сердце. Её вера была неистовой и ограниченной, самая её доброта была жестокой, потому что была основана не на любви, а на доводах рассудка; она стала властной, нетерпимой и мстительной. А Джон, смирившийся, но мрачный и сердитый, тащился сквозь утомительные годы, ожидая, что смерть освободит его. Он больше не видел смысла в жизни; он сделал попытку и был побеждён в борьбе; единственное чувство, которое осталось с ним, была не иссякающая тайная ненависть к жене. Он был к ней добр и предупредителен, он делал всё, что можно было ожидать от христианина и джентльмена. Он выполнил свой долг. Мэри, добрая, верная и (следует признать) исключительная жена, никогда не думала упрекнуть мужа за безумие, которое овладело им; однако в то же время она не могла простить его за жертву, которую он ей принёс. Она стала язвительной и сварливой. Хотя она ненавидела себя за это, она не могла не удержаться от того, чтобы сказать что-то, очевидно ранящее его. Она с радостью бы пожертвовала для него жизнью, но не могла вынести, если у него был хоть миг счастья в то время, как она чувствовала себя так ужасно, что сотни раз желала умереть. Ну что ж, теперь она была мертва, они все были мертвы; жизнь их была тусклой и однообразойя, но она прошла; они не совершили греха и теперь ждали награды.
Они закончили, и воцарилось молчание. Молчание воцарилось в небесном суде. «Идите к чёрту», - были слова, которые просились на уста Предвечного, но он не произнёс их, ибо они порождали ассоциации, которые он справедливо полагал неподходящими к серьёзности ситуации. К тому же такой вердикт не подходил к рассматриваемому случаю. Его чело омрачилось. Он спрашивал себя, для этого ли он сделал так, чтобы солнце всходило над безграничным морем, и снег блистал на вершинах гор; для этого ли беспечно журчали ручьи, сбегая по склонам холма, и золотистая пшеница волновалась под лёгким ветром…
- Иной раз я думаю, - сказал Предвечный, - что звёзды никогда не сияют так ярко, как когда они отражаются в мутной воде придорожной канавы.
Но три тени всё ещё стояли перед ним и теперь, когда они изложили свою несчастливую историю, он не могли не чувствовать определённого удовлетворения. Борьба была тяжкой, но они выполнили свой долг. Предвечный легонько подул, подул, как человек может дуть на горящую спичку, и – смотрите-ка! – там, где стояли три бедные души, ныне не было ничего. Предвечный аннигилировал их.
- Я частенько удивляюсь, с чего люди взяли, что я придаю столько значения сексуальной распущенности. – Сказал он. – Если бы они внимательней читали мои труды, они бы заметили, что я всегда симпатизировал определённым формам моральной неустойчивости.
Затем он повернулся к философу, который всё ещё ожидал ответа на своё заявление.
- Ты не сможешь отрицать, - сказал Предвечный, - что в этом случае я вполне удачно совместил моё всемогущество с моей всеблагостью.
Побег
Я всегда был убеждён, что, если женщина задумала выйти замуж, ничто, кроме немедленного побега, не может спасти мужчину. Хотя и не всегда. Однажды мой друг, увидев неизбежную угрозу, неотвратимо надвигающуюся на него, взял билет на пароход (с одной только зубной щёткой в багаже, так сильно осознавал он опасность и необходимость немедленно действовать) и провёл год, путешествуя вокруг мира. Но когда, полагая себя в безопасности (он говорил, что женщины непостоянны и через двенадцать месяцев она вовсе забудет обо мне), он высадился в том самом порту, первым человеком, кого он увидел, весело машущей ему рукой на пристани, была маленькая леди, от которой он сбежал. Я знал только одного мужчину, кто в таких обстоятельствах сумел выпутаться. Его звали Роджер Чаринг.
Он был уже не молод, когда влюбился в Рут Барлоу, и у него было достаточно опыта, чтобы вести себя осторожно; но у Рут Барлоу был дар (может, стоит назвать это качеством?) приводить большинство мужчин в беспомощное состояние, и это он лишил Роджера его здравого смысла, его осторожности и его житейской мудрости. Он свалился, как ряд кеглей. Это был дар чувствительности. У миссис Барлоу, которая уже дважды овдовела, были великолепные тёмные глаза, самые трогательные из тех, что я когда-либо видел; казалось, они всегда были готовы наполниться слезами; они говорили, что мир слишком велик для неё, и вы чувствовали, что, бедная малышка, она испытывала больше страданий, чем кто-либо мог выдержать. Если, подобно Роджеру Чарингу, вы были крепким, дюжим мужчиной с кучей денег, почти неизбежно вы говорили себе: «Я должен встать между опасностями мира и этой беспомощной бедняжкой, и как чудесно будет убрать грусть из этих больших милых глаз!» Роджер объяснял мне, что все обращались с миссис Барлоу очень плохо. Она, очевидно, была одной из тех неудачниц, с которыми ничего не может произойти правильно. Если она выходила замуж, муж бил её; если она нанимала кухарку, та пила. У неё никогда не было ягнёнка, но он бы наверняка умер.
Когда Роджер сказал, что наконец-то уговорил её пожениться, я пожелал ему счастья.
- Я надеюсь, мы останемся добрыми друзьями, - сказал он. - Она малость побаивается тебя, знаешь ли; она думает, что ты бессердечный.
- Понятия не имею, почему она так думает.
- Она же тебе нравится, не так ли?
- Даже очень.
- Она пережила тяжёлые времена, бедняжка. Мне так её жалко.
- Да, - сказал я.
Я не мог бы сказать меньше. Я знал, что она глупа, и я думал, что она интриганка. Я был убеждён, что она крепка, как скала.
Впервые, когда я встретил её, мы вместе играли в бридж, и, хотя она была моим партнёром, она дважды побила мои лучшие карты. Я вёл себя, как ангел, но я думал, что если из чьих-то глаз и суждено политься слезам, то это скорее будут мои, нежели её. А затем, к концу вечера проиграв мне значительную сумму, она пообещала прислать чек, чего никогда так и не сделала, так что я не мог не думать, что это у меня, а не у неё должно было быть жалостливое выражение лица, когда мы встретились следующий раз.
Роджер представил её своим друзьям. Он покупал ей прелестные драгоценности. Он вывозил её повсюду. Было объявлено, что их женитьба состоится в скором будущем. Роджер был очень счастлив. Он делал доброе дело и в то же время нечто, что очень хотел сделать. Это была необычная ситуация и не удивительно, что он был больше доволен собой, чем приличествовало.
Внезапно он разлюбил. Не знаю, почему. Едва ли он устал от её разговоров, скорее, её жалостливый вид перестал терзать струны его сердца. Его глаза открылись и он стал даже проницательней, чем был раньше. Он стал беспокоиться, что Рут Барлоу вознамерилась выйти за него замуж, и он поклялся торжественной клятвой, что ничто не сможет заставить его жениться на Рут Барлоу. Но он был в затруднении. Сейчас, когда он снова властвовал над собой, он ясно видел, с какого сорта женщиной имеет дело и беспокоился, что, если он попросит её освободить его, она (в своей трогательной манере) оценит свои раненые чувства в чрезмерно высокую цифру. С другой стороны, для мужчины всегда неловко увлечь и обмануть женщину. Люди склонны думать, что такой мужчина поступает плохо.
Роджер всё держал в секрете. Ни словом, ни жестом он не выдал, что его чувства по отношению к Рут Барлоу изменились. Он оставался внимательным ко всем её желаниям, он водил её обедать в рестораны, они вместе ходили в театры, он посылал ей цветы, он был симпатичным и очаровательным. Они решили, что поженятся, как только найдут дом, который им подходит, потому что он снимал квартиру, а она жила в меблированных комнатах; и они принялись искать желанное место жительства. Агенты посылали Роджеру просмотровые ордера, и он с Рут осматривал многочисленные дома. Было очень трудно найти что-то полностью удовлетворительное. Роджер обратился к множеству агентов. Они посещали дом за домом. Они осматривали их тщательно от погреба до чердака. Порой дом был слишком велик, порой слишком мал; порой он был слишком далеко от центра, порой слишком близко; порой он был чересчур дорогим, а порой требовал слишком большого ремонта; порой он был слишком душным, а порой в нём слишком сквозило; порой в нём было темно, а порой промозгло. Роджер всегда находил недостаток, который делал дом неподходящим. Конечно, ему было трудно угодить: он не мог себе позволить пригласить его дорогую Рут жить нигде, кроме как в совершенном доме, и требовалось найти этот совершенный дом. Они осмотрели сотни домов, они вскарабкались на тысячи ступенек, они исследовали бесчисленные кухни. Рут была истощена и не один раз теряла самообладание.
- Если ты вскорости не найдёшь дома, - сказала она, - я изменю своё решение. Если ты продолжишь в том же духе, мы никогда не поженимся.
- Не говори так, - отвечал он, - Я умоляю тебя потерпеть. Я только что получил несколько новых списков от агентов, о которых я недавно услышал. В них должно быть не меньше шестидесяти домов.
Они вновь принялись охотится. Они осматривали всё больше и больше домов. В течение двух лет они осматривали дома. Рут стала молчаливой и насмешливой, её трогательные прекрасные глаза преисполнились почти зловещим выражением. У миссис Барлоу было терпение ангела, но наконец она взорвалась.
- Так ты хочешь или нет жениться на мне? – спросила она.
В её голосе была необыкновенная твёрдость, но она ничуть не повлияла на мягкость его ответа.
- Конечно, хочу. Мы поженимся, как только найдём дом. Кстати, я только что услышал о доме, который может нам подойти.
- Я чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы осматривать какие-то дома.
- Бедняжка, я боюсь, ты выглядишь усталой.
Рут Барлоу вернулась к себе. Она не могла видеть Роджера, и ему пришлось довольствоваться звонками в её жилище, чтобы навести справки, и посылкой ей цветов. Он был неутомим и галантен. Каждый день он писал ей и рассказывал, что слышал о том или другом доме, который им надо осмотреть. Прошла неделя и он получил следующее письмо:
«Роджер,
Не думаю, что ты на самом деле любишь меня. Я нашла кого-то, кто жаждет позаботиться обо мне, и я собираюсь сегодня выйти за него замуж.
Рут».
Он послал свой ответ специальной почтой:
«Рут,
Известие потрясло меня. Я никогда не оправлюсь, но, конечно, твоё счастье должно быть смыслом моей жизни. Прикладываю к сему семь ордеров; они пришли с утренней почтой и я совершенно уверен, что ты найдёшь среди них дом, который тебе подойдёт.
Роджер».
Стрекоза и муравей
Когда я был очень маленьким мальчиком, меня заставляли учить наизусть некоторые басни Лафонтена и мораль каждой из них мне тщательно объясняли. Среди них я выучил и басню «Стрекоза и муравей», которая была придумана, чтобы донести до юношества полезный урок о том, что в этом несовершенном мире усердие вознаграждается, а легкомыслие наказывается. В этой превосходной басне (извините меня, если я рассказываю то, что каждому полагается знать) муравей проводит лето в трудолюбии, собирая свои зимние припасы, покуда стрекоза сидит на краешке листа и поёт для солнца. Зима приходит, и муравей прекрасно снабжён, а кладовая стрекозы пуста; она идёт к муравью и умоляет о еде. И тогда муравей даёт ей классический ответ:
- Что же ты делала летом?
- Благослови тебя Господь, я пела, я пела все дни и все ночи.
- Ты всё пела? Так пойди же, попляши.
Я не могу приписать это своему упрямству, скорее я обязан этим детской непоследовательности и недостатку нравственных принципов, но я никогда не мог полностью смириться с моралью. Мои симпатии были на стороне стрекозы, и какое-то время я не мог видеть муравья, не придавив его ногой. Этим кратким (и, как я впоследствии выяснил, вполне человеческим) способом я стремился выразить своё неодобрение благоразумию и здравому смыслу.
Я не мог не подумать об этой басне, когда позавчера увидел Джорджа Рамсея завтракающим в одиночестве в ресторане. Я никогда не видел никого, на ком так явно было бы написано глубокое уныние. Он сидел, уставившись в пространство. Он выглядел так, будто тяжесть всего мира взвалили ему на плечи. Я пожалел его: я подозревал, что его несчастный брат опять причиняет беспокойство. Я подошёл к нему и протянул руку.
- Как ты? – спросил я.
- Не в весёлом расположении духа, - ответил он.
- Опять что-то с Томом?
Он вздохнул.
- Да, опять что-то с Томом.
- Что ж ты его не бросишь? Ты уже сделал всё, что возможно. Теперь ты должен знать, что он безнадёжен.
Полагаю, в каждой семье есть чёрная овца. Том был тяжёлым испытанием для своей в течение двадцати лет. Начал он жизнь довольно достойно: вступил в дело, женился, имел двух детей. Семейство Рамсей было совершенно респектабельным, и были все причины полагать, что Том Рамей сделает полезную и честную карьеру. Но однажды, без предупреждения, он заявил, что не хочет работать и что он не подходит для брака. Он хотел развлекаться. Он не слушал увещеваний. Он бросил жену и работу. У него было немного денег, и он провёл два счастливых года в различных европейских столицах. Слухи о его проделках время от времени достигали его родственников, которые были глубоко шокированы. Он определённо веселился напропалую. Они качали головами и спрашивали, что будет, когда он истратит все свои деньги. Они вскоре это выяснили: он стал занимать. Он был очарователен и нещепетилен. Я никогда не встречал никого, кому бы было так трудно отказать в ссуде. Он получал постоянный доход от своих друзей и заводил их легко. Но он всегда говорил, что деньги, которые тратишь на насущные вещи, наводят скуку; деньги, которые весело тратить, это деньги, которые тратишь на роскошь. Поэтому он зависел от брата Джорджа. Он не тратил на него своего шарма. Джордж был серьёзным человеком, нечувствительным к обаянию такого рода. Джордж был респектабельным. Один или два раза он поддался на уверения Тома, что тот исправится, и дал ему приличные суммы, чтобы он смог начать всё сначала. На эти деньги Том купил автомобиль и несколько изящных драгоценных безделушек. Однако когда обстоятельства принудили Джорджа понять, что его брат никогда не остепенится, и он умыл руки, Том, без всяких угрызений совести, стал его шантажировать. Не слишком приятно респектабельному юристу обнаружить, что его брат взбалтывает коктейли за стойкой бара в его любимом ресторане или увидеть его за рулём такси у порога своего клуба. Том говорил, что быть барменом или таксистом – вполне достойные занятия, но если Джордж обяжет его парой сотен фунтов, он не возражает бросить их ради чести семьи. Джордж платил.
Однажды Том чуть не попал в тюрьму. Джордж был ужасно расстроен. Он попал в совершенно позорную авантюру. Том, действительно, зашёл слишком далеко. Он был диким, эгоистичным и пустоголовым, но прежде он не совершал ничего бесчестного, того, что Джордж счёл бы незаконным; и если бы он был привлечён к суду, его совершенно точно бы осудили. Но нельзя позволить, чтобы родной брат попал в тюрьму. Человек, которого обманул Том, звали его Кроншоу, был мстительным. Он был намерен довести дело до суда, он называл Тома подлецом и говорил, что его следует наказать. Джорджу стоило немыслимых усилий и пятисот фунтов уладить дело. Я никогда не видел его в таком гневе как тогда, когда он услышал, что Том и Кроншоу отправились вместе в Монте Карло, как только обналичили чек. Они счастливо провели там месяц.
В течение двадцати лет Том играл на скачках и в азартные игры, волочился за самыми красивыми девушками, танцевал, ел в самых дорогих ресторанах и превосходно одевался. Он всегда выглядел с иголочки. Хотя ему было сорок шесть лет, вы никогда не дали бы ему больше тридцати пяти. Он был самый забавный спутник, и даже если вы знали, что он совершенно ничего не стоит, вы не могли не наслаждаться его обществом. Он всегда был в хорошем настроении, никогда не унывал и обладал невероятным шармом. Я никогда не испытывал неудовольствия, несмотря на все контрибуции, которые он взимал с меня на своё проживание. Я не мог одолжить ему пятьдесят фунтов, не испытывая чувства, что я у него в долгу. Том Рамсей знал всех, и все знали Тома Рамсея. Его невозможно было одобрить, но невозможно было не любить.
Джордж Рамсей, только годом старше своего шалопая-братца, выглядел на шестьдесят. У него ни разу за четверть века не было отпуска дольше, чем в две недели в году. Он был в своём офисе каждое утро в 9-30 и никогда не уходил раньше шести. Он был честным, трудолюбивым и стоящим. У него была хорошая жена, которой он никогда не был неверен даже в мыслях, и четыре дочери, для которых он был лучшим отцом. Он привык откладывать треть своего дохода и планировал выйти на пенсию в пятьдесят пять лет и жить в маленьком домике в деревне, где он собирался ухаживать за своим садиком и играть в гольф. Его жизнь была безупречна. Он был рад, что стареет, потому что Том старел тоже. Он потирал руки и говорил:
- Всё было в порядке, пока Том был молод и хорошо выглядел, но он только на год моложе, чем я. Через четыре года ему будет пятьдесят. И тогда его жизнь не покажется ему такой лёгкой. Я же скоплю тридцать тысяч фунтов к тому времени, как мне стукнет пятьдесят. Двадцать пять лет я говорил, что Том кончит жизнь в сточной канаве. И посмотрим, как ему это понравится. Мы посмотрим, что лучше: работать или бездельничать.
Бедняга Джордж, я симпатизировал ему. Я раздумывал, как бы выудить у него, какую ещё бесчестную вещь совершил Том. Джордж был очевидно очень удручён.
- Знаешь, что случилось? – спросил он.
Я приготовился к худшему. Я размышлял, не попал ли Том, наконец, в руки полиции. Джордж с трудом заставил себя говорить.
- Нельзя отрицать, что всю мою жизнь я тяжело трудился, был достойным, респектабельным и честным. После жизни, исполненной трудолюбия и бережливости, я могу надеяться на отдых с небольшим доходом в надёжных ценных бумагах. Я всегда исполнял мои обязанности в том месте, куда Провидению было угодно направить меня.
- Это правда.
- И нельзя отрицать, что Том был ленивым, ничего не стоящим, беспутным, бесчестным негодяем. Если бы существовало хоть какое-то правосудие, он был бы в тюрьме.
- И это правда.
Джордж покраснел.
- Несколько недель назад он обручился с женщиной, годящейся ему в матери. А теперь она умерла и оставила ему всё, что имеет. Полмиллиона фунтов, яхту, дом в Лондоне и поместье.
Джордж Рамсей ударил кулаком по столу.
- Это нечестно, говорю тебе, это нечестно. Чёрт побери, это нечестно.
Я не мог удержаться. Я разразился смехом, как только увидел разгневанное лицо Джорджа, я покатился на своём стуле, я почти упал на пол. Джордж никогда меня не простил. Но Том частенько приглашает меня на превосходные обеды в своём очаровательном доме в Мейфайре, и он время от времени берёт у меня взаймы, скорее в силу привычки. Соверен, не больше.
Ланч
Я заметил, что она поглядывала на меня во время представления, и в ответ на её кивки в антракте подошёл и сел рядом. Прошло много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз, и, думаю, я едва ли узнал бы её, если бы кто-нибудь упомянул её имя. Она живо обратилась ко мне:
- Да, много лет прошло с тех пор, как мы познакомились. Как летит время! Никто из нас не помолодел. А Вы помните, как мы встретились? Вы пригласили меня на ланч.
Помнил ли я?
Это случилось двадцать лет назад, когда я жил в Париже. Я снимал крошечную квартирку, выходившую на кладбище в латинском квартале, и заработков моих хватало разве что лишь на то, чтоб удержать душу в бренном теле. Она прочитала мою книжку и написала мне об этом. Я ответил благодарственным письмом и вскоре получил от неё второе письмо с сообщением, что она на днях будет в Париже и будет рада побеседовать со мной, однако времени у неё в обрез и она свободна только в следующий четверг. Она намеревается провести утро в Люксембургском саду, так что не мог бы я угостить её лёгким ланчем у Фойе? Фойе – ресторан, в котором обедают французские сенаторы, и цены там настолько превышали мои возможности, что я прежде и не думал заходить туда. Но я был польщён, к тому же слишком молод и ещё не научился отвечать женщине отказом. Замечу в скобках, что немногие мужчины получают этот навык прежде, чем становятся настолько стары, что женщина не придаёт их отказу никакого значения. У меня оставалось ещё 80 франков (золотых франков) до конца месяца, а скромный ланч стоил не более, чем пятнадцать. Если бы я отказался от кофе на ближайшие две недели, мне бы вполне хватило оставшихся денег.
Я ответил своей подруге по переписке, что встречусь с ней у Фойе в четверг в пол первого. Она была не так молода, как я ожидал, и имела вид скорее импозантный, чем привлекательный. Фактически ей было за сорок (очаровательный возраст, но уже не тот, что может вызвать внезапную опустошающую страсть с первого взгляда), и у меня сложилось впечатление, что её рот чересчур полон зубов, куда более крупных, безупречных и белых, чем необходимо. Она была болтлива, но, пока она болтала обо мне, я был готов довольствоваться ролью внимательного слушателя.
Я испугался, когда принесли меню, потому что цены были много выше, чем я ожидал. Но она ободрила меня:
- Я никогда ничего не ем во время ланча.
- О, не говорите так! – щедро откликнулся я.
- Я никогда не ем больше, чем одно блюдо. Я думаю, в наши дни люди слишком много едят. Может быть, чуть-чуть рыбы. Интересно, есть ли у них лососина?
Сезон лососины ещё не начался, и её не было в меню, но я спросил официанта, и он ответил, что к ним только что поступила прекрасная сёмга, самая первая в этом году. Я заказал порцию для моей спутницы. Официант спросил, не желает ли она съесть что-нибудь, пока готовится сёмга.
- О, нет, - ответила она, - я никогда не ем больше одного блюда. Вот если бы у вас была чёрная икра. Я не отказалась бы от икры.
Сердце ёкнуло у меня в груди. Я знал, что не могу позволить икры, но как бы я сказал об этом? Я велел официанту принести икру. Себе же я заказал самоё дешёвое блюдо в меню – баранью котлету.
- Я думаю, Вы напрасно едите мясо, - сказала она. - Не понимаю, как Вы собираетесь работать после того, как наедитесь тяжёлой пищи. Никогда не позволяла себе перегрузить желудок.
Теперь надо было выбрать напиток.
- Я никогда ничего не пью во время ланча, - сказала она.
- Я тоже, - быстро ответил я.
- Кроме белого вина, - продолжила она так, как будто я ничего и не говорил. – Эти французские белые вина такие лёгкие! Они просто превосходны для пищеварения.
- Что бы Вы предпочли? – спросил я, всё ещё гостеприимно, но сдержанно.
Она одарила меня яркой дружеской улыбкой в 32 зуба.
- Мой доктор запретил мне пить что-либо, кроме шампанского.
Боюсь, я несколько побледнел. Я заказал полбутылки. Я мимоходом заметил, что мой врач строго запретил мне пить шампанское.
- Что же Вы тогда собираетесь пить?
- Воду.
Она ела икру и сёмгу. Она весело болтала об искусстве, литературе и музыке. А я думал, во что мне обойдётся ланч. Когда принесли мою баранью котлету, она решила преподать мне урок.
- Смотрю, Вы привыкли к тяжёлому ланчу. Я уверена, что это неправильно. Почему бы Вам не последовать моему примеру и есть только одно блюдо? Уверена, что Вы бы чувствовали себя гораздо лучше.
- А я и собираюсь съесть только одно блюдо, - сказал я, когда официант появился снова, на этот раз со счётом.
Она отмахнулась от него.
- Нет, нет, я никогда не ем ничего на ланч. Какой-нибудь кусочек, а больше мне и не надо никогда. Да и то я ем скорее, чтобы поддержать беседу. Я просто не могла бы съесть что-нибудь более существенное, разве что у них есть немножко гигантской спаржи. Было бы жаль покинуть Париж, так и не попробовав её.
Душа моя ушла в пятки. Я видел спаржу в магазинах и знал, что она чудовищно дорогая. Мне оставалось только облизываться.
- Мадам спрашивает, есть ли у вас гигантская спаржа, - спросил я официанта.
Всем сердцем я желал, чтобы он ответил нет. Счастливая улыбка озарила его широкое лицо, напоминавшее лицо священника, и он заверил меня, что у них есть такая крупная, такая великолепная, такая нежная спаржа, что это просто чудо.
- Я вовсе не голодна, - вздохнула моя спутница, - но если Вы настаиваете, я не возражаю съесть чуть-чуть спаржи.
Мы ждали, пока приготовится спаржа. Меня охватила паника. Теперь проблема была не в том, сколько денег у меня останется до конца месяца, но в том, смогу ли я оплатить счёт.
Ужасно было бы обнаружить, что мне не хватает десяти франков и занять их у моей гостьи. Я просто не смог бы принудить себя к этому. Я точно знал, сколько у меня денег, и если бы счёт оказался слишком большим, я решил опустить руку в карман, вскочить с драматическим криком и заявить, что кошелёк похищен. Конечно, было бы в высшей степени неприятно, если б у неё не было достаточно денег, чтобы оплатить счёт. Тогда единственным выходом было бы оставить мои часы и сказать, что я вернусь и оплачу всё позже.
Подали спаржу. Она была гигантской, сочной и аппетитной. Запах тающего масла щекотал мне ноздри, как горящие жертвы добродетельных семитов щекотали ноздри Иеговы. Я смотрел, как проклятая женщина поглощает её своим огромным сластолюбивым ртом, пока я обсуждал подробности Балканских событий. Наконец, она доела.
- Кофе? – спросил я.
- Да, кофе и мороженое, - ответила она.
Мне было уже всё равно, и я заказал кофе для себя и кофе с мороженым для неё.
- Знаете, есть одно правило, в которое я безоговорочно верю, сказала она, поглощая мороженое, - из-за стола надо вставать с лёгким чувством голода.
-Вы всё ещё голодны? – я едва мог говорить.
- О нет, я не голодна, знаете, я ничего не ем на ланч. Чашку кофе утром, потом обед, но на ланч никогда не ем больше одного блюда. Я говорила о Вас.
- А! Понятно!
И тут случилась ужасающая вещь. Пока мы ждали кофе, старший официант с вкрадчивой улыбкой на лице, полном фальши, подошел к нам с огромной корзиной, полной чудовищных персиков. Они зарумянились, словно невинная девушка, их красил богатый тон итальянского пейзажа. Я был уверен, что для персиков не сезон. Бог знает, сколько они стоили. Но было уже поздно: моя спутница, продолжая болтать, рассеяно взяла один.
- Знаете, Вы переполнили свой желудок массой мяса, - моя единственная жалкая котлетка! –Так что Вы больше не можете есть. А я только перекусила, и потому наслажусь персиком.
Принесли счёт, и, расплачиваясь, я обнаружил, что у меня остаётся немного денег на жалкие чаевые. Она посмотрела на три франка, которые я оставил официанту, и я знаю, что она обо мне подумала. Но когда я покинул ресторан, у меня оставался целый месяц времени и ни одного пенни в кармане.
- Следуйте моему примеру, - сказала она, когда мы прощались, - и никогда не ешьте более одного блюда во время ланча.
- Я сделаю лучше, - ответил я, - сегодня я не буду ничего есть на обед.
- Юморист! – воскликнула она весело, заскакивая в кэб, - Вы такой юморист!
Но в конце концов я был отомщен. Не думаю, чтобы я был мстительным, но сами бессмертные боги приложили руку, а наблюдать результаты их работы с самодовольством – простительный грех. Сегодня она весит 130 килограммов.





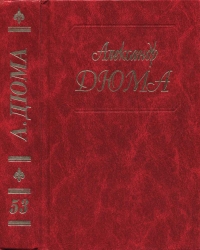

Комментарии к книге «Рассказы», Сомерсет Уильям Моэм
Всего 0 комментариев