Дурная кровь
БОРИСАВ СТАНКОВИЧ (1875—1927)
Один из самых известных сербских писателей Борисав Станкович родился в городе Вране, расположенном на юге Сербии, на перекрестке дорог, ведущих в Ниш и Скопле, в Албанию и Болгарию. Во времена турецкого владычества дороги эти имели большое торговое и военное значение. Враняне твердо придерживались веры предков, но в обычаях и нравах усвоили много восточного, особенно высший класс, состоявший из православных купцов.
Станковича, рано оставшегося круглым сиротой, воспитала бабушка. От бабушки он унаследовал дар рассказчика, от покойного отца — лирический талант. Станковичу удалось закончить не только гимназию, но и экономическое отделение юридического факультета в Белграде. Особой страстью к учению он не отличался. Рассказывают, что в Париже, куда его послали учиться в 1903—1904 годах, балканский писатель ничего не захотел увидеть и лишь мечтал за чашкой кофе о своем полувосточном Вране. Нельзя не отметить, однако, что экономическое образование помогло Станковичу разобраться в социальных проблемах южной Сербии, в положении угнетенных своими и турецкими помещиками крестьян, в процессе обогащения и разорения торгового класса, то есть в тех вопросах, к которым он испытывал глубокий и острый интерес. Несомненно также, что в молодые годы Станкович читал сербских и польских романтиков, затем сербских и русских реалистов. Если не из романов Золя, то через белградские литературные круги он был знаком с идеями натурализма. Однако не следует преувеличивать эти литературные влияния. Станкович — писатель весьма своеобразный, с резко выраженными индивидуальными чертами.
Жизненный путь Станковича был тяжек и мучителен. Бедный молодой человек из провинции, без знакомств и устойчивого общественного положения, должен был пробиваться сквозь толпу белградской буржуазии, ценившей лишь деньги и связи. Среди униженных и оскорбленных, в кругу случайных собутыльников из мелких чиновников и не слишком удачливых литераторов Станкович прожил почти всю жизнь. До первой мировой войны он был счетоводом, затем акцизным контролером на пивном заводе. В 1913 году Станковича — в то время уже известного писателя — назначили чиновником в церковное отделение министерства просвещения.
За пятнадцать лет (1898—1913), начав печататься еще на студенческой скамье, Станкович написал почти все свои произведения. В 1899 году вышла книга его рассказов «Из старого Евангелия». Премьера драмы «Коштана» состоялась в белградском Народном театре 22 июня 1900 года; автору было тогда двадцать пять лет.
Рассказы, составившие впоследствии книгу «Божьи люди», напечатала редакция старейшего сербского журнала «Летопись Матицы Сербской» в 1902 году. В том же году вышел сборник рассказов «Былые дни». Начиная с 1900 года в разных повременных изданиях появлялись отрывки из «Дурной крови». Первое полное издание романа вышло в 1910 году. Выдающийся сербский критик и литературовед Йован Скерлич писал вскоре после появления романа:
«Первая часть — это дом хаджи Трифуна, чудесная, волнующая красота Софки, ее молодость, исполненная страсти и тоски, нежданная и шумная свадьба. И эта первая часть — одно из лучших творений, написанных на сербском языке»[1].
Можно по-разному судить о деятельности Станковича в годы австрийской оккупации. Известно, что он печатался в прессе, бывшей под контролем австрийских властей, что ему и было поставлено в вину после освобождения Белграда. Известно также, что политические хамелеоны и прислужники оккупантов первыми набросились на Станковича, когда он в 1919 году опубликовал часть своих воспоминаний («Под оккупацией»), в которых показал нравственное разложение сербской буржуазии, стремившейся урвать последний кусок у бедняков. Не лишним будет заметить, что во время второй мировой войны немецкие власти запретили последний том собрания сочинений писателя, содержавший текст «Под оккупацией». Вместе с романом Бранимира Чосича «Скошенное поле» мемуары Станковича имеют первостепенное значение для истории сербского общества в годы первой мировой войны. После 1919 года Станкович почти перестал писать.
По настоянию влиятельных друзей остро нуждавшегося писателя снова приняли на государственную службу. Его послевоенная карьера в министерстве просвещения была неблестяща. Высшие власти все время переводили Станковича из отделения в отделение, сбавляли ему жалованье и наконец 27 марта 1927 года услали на пенсию «по служебной необходимости».
Слава автора «Дурной крови» росла с каждым годом. Он справедливо считается одним из самых выдающихся писателей своей страны. Роман его переведен на ряд европейских языков (итальянский, немецкий, французский и др.).
В первых рассказах Станковича, посвященных жизни родного города, преобладают романтические сюжеты, встречаются сугубо мрачные и надуманные ситуации. В сборнике «Былые дни» несколько наивное восхваление «доброго старого времени» переходит в осуждение средневековой морали патриархального мира. Натуралистическое мироощущение — натурализм в литературе рождается часто из боли, из неприятия нечеловеческих условий бытия — в произведениях Станковича постепенно уступает место реалистическому взгляду на жизнь. К натурализму ближе всего стоят рассказы из цикла «Божьи люди». Автор «Божьих людей» спускается на дно жизни, где тлеет существование юродивых, одержимых, дурачков, составлявших особую касту в полусредневековом Вране XIX века. В зарисовках Станковича нет и следов религиозной мистики. Отрицание общества, окостеневшего в традициях старины, передается не сентенциями, а самой живописью. Из этого периода творчества Станковича особенно следует отметить рассказ «Парапута», в котором обрисована горькая участь молодой вдовы, нарушившей верность мужу после его смерти. Семья заставляет ее в наказание за грех не только каяться до самой смерти, но и прислуживать шелудивому юроду Парапуте.
Театр привлекал Станковича всю жизнь. Обилие диалогов в его рассказах в значительной степени облегчало драматизацию его прозы. После «Коштаны» Станкович приступил к театральной переделке рассказа «Йовча» о затаенной страсти отца к дочери. Мотив взят из жизни старого Вране. Станкович оставил также фрагменты драматизации «Дурной крови». Незадолго до смерти автора состоялась премьера драмы «Ташана» (по рассказам «Парапута» и «Жена покойника»).
Творение молодости Станковича «Коштана» многие десятилетия не сходит со сцен югославских театров. Зрители, пришедшие на ее премьеру, по свидетельству Скерлича, ожидали увидеть полуфольклорное представление с музыкой и пением и обязательной свадьбой в конце. Однако они услышали диалоги, полные лирической страсти и горечи. Все действующие лица — жертвы патриархальных традиций. Они ищут забвения в вине, песне и пляске, но бунт их бессилен и краткосрочен. Порывы безумного веселья быстро стихают, подавленные оледеневшей моралью.
«Коштана» кончается, как и многие фольклорные пьесы, свадьбой. Но свадьба эта похожа на похороны — похороны молодости. Молодые и пожилые мужчины из богатых и уважаемых хаджийских домов сходят с ума, слушая песни красавицы цыганки Коштаны. Но председатель общины приказывает насильно выдать Коштану за цыгана Асана, чтобы пресечь соблазн в городе. Никто не хочет ей помочь: земля тверда и глуха, небо высоко, никто не слышит, нет человеку помощи перед лицом судьбы. Коштану ждут унылые будни, изнурительная работа, преждевременная старость.
Участь Софки — героини самого известного произведения Станковича — романа «Дурная кровь», напоминает судьбу Коштаны.
Два сюжетных мотива использованы в романе. Станкович повествует о семье отуреченных южносербских «патрициев», наиболее ярко представленной эфенди Митой и его единственной дочерью Софкой, первой красавицей во Вране, и о родичах Марко, вождя полуразбойничьего, полукрестьянского племени в пограничной Туретчине.
Быть может, читатель не найдет в «родословной» потомков хаджи Трифуна той ясности, которая проявляется в «Форсайтах» Голсуорси или «Глембаевых» Крлежи. Все же предки эфенди Миты, три или четыре поколения православных купцов, превратившихся в землевладельцев, представлены весьма красочно. После прихода сербов во Вране эфенди Мита теряет свои поместья и скрывается в Турции. Он — левантинец и по всем своим навыкам, и по мировоззрению, сложившемуся в Константинополе. То, что стяжательством, твердостью характера, хитростью и преступлениями приобрели его предки, предприимчивые купцы, эфенди Мита беспечно растрачивает, передав все дела плуту управляющему. Его «господство» состоит в абсолютной праздности, высокомерии, самолюбовании, безграничном эгоизме и восточном франтовстве. Все великолепие эфенди исчезает вместе с его богатством. Тогда он решается «снизойти» до крестьянина Марко, разбогатевшего не то торговлей скотом, не то контрабандой и грабежом, и выдать за его малолетнего сына свою взрослую дочь. За это он требует от него выкуп, что соответствует скорее магометанским нравам (калым). Образ эфенди Миты дан без всякого комментария. Автор не высказывает ни сочувствия, ни порицания, предоставляя судить о его моральных качествах читателям.
Психологический портрет главной героини Софки более сложен. Некоторыми чертами характера она напоминает отца, однако ей свойственны и нежность, и самопожертвование, и чувство прекрасного. Станкович не выдумывал переживания своей героини, чтобы поразить воображение читателя, — он лишь верными и резкими мазками живописал страсти, свойственные среде, которая реально существовала во Вране. Женщины, воспитанные в полугаремном быту, в праздности и довольстве, лишенные интеллектуальных интересов, легко становились жертвами преувеличенной чувственности, в которой проявлялась вся их нерастраченная жизненная энергия. Станкович обнажил, сознательно нарушая патриархальные устои, то, что в ханжеской среде его родного города принято было скрывать. Протест Софки против неравного брака и стоическая жертва, которую она приносит отцу и семье, обнаруживают в ней незаурядную личность. Но над ней висит трагический рок, который сильнее чувств и порывов молодости. Страстные устремления героев Станковича остаются неудовлетворенными, разбиваются о препятствия, зачастую ведут к унижению или гибели. Такова участь не только Софки, но также Коштаны, Ташаны, почти всех персонажей писателя.
Сцена свадьбы Софки — одна из самых сильных страниц в сербской прозе. Героине романа кажется, что она попала в плен к разбойникам, о которых поют эпические песни. Свадебное пиршество, переходящее во «фракийскую вакханалию», настолько своеобразно представлено, что сравнения с натурализмом или иными литературными школами и направлениями тут же пресекаются. Полудикое окружение Марко, где эпические кони понимают каждое слово хозяина и вот-вот сами заговорят человечьим голосом, где снохачество и кровосмешение — остатки каких-то древнейших обычаев, быть может, ровесников группового брака, — дано во всем бешеном проявлении стихийных сил.
Марко все же не решается, по примеру предков, овладеть невесткой. Терзаемый неудовлетворенной страстью, он мчится на коне в горы, где его ждет албанская пуля. Заплачка женщин, скорбный вой всего клана, потерявшего вождя, снова переносит читателя в эпическое прошлое.
Роковые события в последней части романа Станкович объясняет наследственностью: в Томче, муже Софки, обнаруживаются все пороки и необузданные страсти его отца. Античная тема «дурной крови» проявляется также в самом конце повествования (вырождение детей Софки). Всего на двух заключительных страницах обрисована стареющая и глубоко несчастная Софка. В этих страницах весь Станкович — певец трагической участи женщины и всего прекрасного в мире.
Роман вызывает страстное чувство протеста против общества, где все человеческое находится под запретом, где жизнь вколачивается в жесткие рамки отживших канонов, прадедовских обычаев и предрассудков, где предметом купли-продажи становится человек, его красота, молодость, достоинство. В трагедии Софки Станкович увидел отражение глубочайших социальных сдвигов: крушение и самовырождение патриархального мира, стык двух эпох, одна из которых уже изжила себя, а другая еще только-только заявляет о себе.
Проза Станковича, его стиль, то плавно текущий, то неровный и прерывистый, открыли новую эру в сербской литературе. Он развил и углубил психологическую ткань повествования, освободившись от примитивных и часто наивных приемов сербского реализма конца XIX века. Тем самым он приблизил сербскую прозу к достижениям русской, французской и английской реалистической литературы.
Мы не ошибемся, утверждая стилистическую связь Станковича с Гоголем. Следует, например, сравнить ритмическую прозу монолога Митки, одного из героев «Коштаны», о безвозвратно утерянной молодости с ритмикой Гоголя в «Вие» (полет Фомы Брута). Широта раскрывшихся горизонтов, экстатический «полет» в овеянные музыкой пространства родственны у обоих славянских писателей.
Жизнь и творчество Станковича еще ждет своего историка. Более подробный стилистический анализ произведений Станковича покажет, как мы полагаем, его близость к русскому реализму и в то же время еще ярче подчеркнет его оригинальность как творца неизвестного нам ранее мира, выраженного в соответствующей содержанию новой форме.
И. Голенищев-Кутузов
ДУРНАЯ КРОВЬ
Перевод М. ВОЛКОНСКОГО
I
О прапрадедах и прадедах Софки люди знали и говорили больше, чем об ее отце, матери и даже о ней самой.
Это был старинный дом. Похоже, он уже стоял тут, когда город только начинал свое существование. Весь их род вышел из этого дома. Спокон веков по большим праздникам, после обедни, епископы сперва приходили с поздравлениями к ним, а уж потом шли в другие, столь же известные и старые дома. В церкви семья имела свое место, а на кладбище — свое кладбище. На всех могилах лежали мраморные плиты и всегда, и днем и ночью, горели лампады.
Неизвестно, кто из предков построил самый дом, хотя известно, что все они издавна славились богатством. И только о прадеде Софки, хаджи Трифуне, с которого их и начали звать хаджиями, было известно, что он первый осмелился, вернувшись из паломничества, все богатства, укрытые до тех пор в подвалах, амбарах и конюшнях, вытащить на свет божий, разместить и разложить так, чтобы «люди видели». Он построил массивные крытые ворота, как в крепости. Второй этаж поднял, побелил и украсил резьбой. Комнаты щедро убрал дорогими коврами и старинными ценными картинами духовного содержания из Печа, Святой Горы и Рилы; по полкам расставил серебряные тарелки и золотые зарфы. Внизу, у ворот, установил мраморную тумбу, с которой садился на своих знаменитых коней. Как рассказывают, и летом и зимой он ходил в кафтане на меху, с широким поясом, пистолетами и ятаганами, в тяжелых крепких сапогах до колен. С той поры турок-жандарм не смел пройти мимо дома, а уж тем более остановиться перед ним. У ворот всю ночь горел фонарь и дремали три-четыре ночных сторожа. Хаджи Трифун вел торговые дела в больших городах, водился с очень видными людьми и благодаря своим знакомствам, а главное, своему богатству мог смещать и отправлять в изгнание не только жандармов или каймакамов, но даже и пашей. Всем было известно, что по любому общественному делу — будь то новая школа, церковь или монастырь, который требовалось построить, подновить, или по более сложным и рискованным затеям, как, например, смещение какого-нибудь палача или тирана, — надо обращаться к нему. И тогда в богато убранной комнате второго этажа собирались первые люди города, ночь напролет они уговаривались и договаривались, а в конце концов всегда предоставляли хаджи Трифуну поступить так, как он найдет нужным. И Трифун быстро улаживал дело. Чаще всего взятками, а если это не помогало — пулей, причем непременно пулей иноверца, какого-нибудь беглого албанца. Вот почему их семейная золотая лампада горела неугасимо перед распятием в церкви и почему они откупили место рядом с епископским, куда, кроме них, никто не имел доступа. На пасху, рождество и славу они три дня кормили и поили бедняков и арестантов.
Трифун был нрава строгого и крутого. В страхе и трепете держал не только домашних, но и всю родню. Для крестьян, работников в имении Ратае и мельников с водяных мельниц в Собине он был царь и бог. Рассказывали, что кое-кого он даже прикончил. Когда он ездил по своим торговым делам в Турцию, — а обычно он проводил там все лето, — в семье непрестанно поминали его, запугивая его именем. Особенно вдовы, сыновья которых только-только встали на ноги и, вместо того чтобы взять на себя заботу о доме, заменить отца и хозяина, транжирили деньги, — особенно они стращали сыновей «братцем», как называли Трифуна в семье.
— Вот погоди, он приедет. Вчера заходила к ним, сказали: ждем с минуты на минуту. Не желаю я больше дрожать от страха, не стану больше лгать и покрывать тебя. Не хочу, чтоб он, как придешь к нему, таращил на меня глаза: «Ты что покрываешь своего?.. Думаешь, я не вижу и не слышу, что он делает, где шатается и сколько проматывает. Голову сверну ему, как куренку! Да чтоб ни ты, ни он, никто из вас не смел мне на глаза показываться!» Вот потому я и не могу и не стану тебя выгораживать, не хочу, чтоб он на меня потом кричал. Все ему выложу, как только приедет, — посмотришь тогда.
И это помогало, устрашало, ибо каждый знал, что его ожидает. И действительно, стоило Трифуну возвратиться, как к нему стекалась вся родня: снохи, тетки… Мужчины в первый день не решались приходить к нему, зная, что все, что надо, он передаст через женщин.
Женщины поднимались на второй этаж и проходили на веранду, где он обычно сидел. Со страхом и смирением, не смея даже взглянуть на него — таким величественным и грозным он им представлялся, — они склонялись в поклоне.
— Приехали, братец?
— Приехал! — кратко отвечал он скучающим голосом.
А уж которую он особо вызывал к себе наверх, та просто обмирала. Знала, что это не предвещает ничего хорошего. Скорее всего муж провинился. Либо не вернул занятых денег, либо обманул его, не вложил деньги в дело и истратил их на что другое. Но при всей своей строгости хаджи Трифун не забывал даже самой бедной и дальней родственницы — каждой из путешествия привозил подарок, каждую хоть чем-нибудь да порадует.
Говорил он всегда мало. Но что скажет, то скажет! Слова его и изречения долго помнились и повторялись: «Эх, вот так-то и так-то говаривал покойный хаджи Трифун». Если он не был в дороге, то все время сидел дома: летом наверху, на веранде, зимой внизу, в большой просторной комнате. Он проводил там весь день, курил, пил кофе и отдавал распоряжения.
Никто не перечил его воле, и все же со своим единственным сыном хаджи Трифун никак не мог справиться. Дочерей он пристроил, выдал замуж по своему выбору. Но с сыном, который родился поздно, когда он уже состарился и когда уже никто не думал, что у него может быть ребенок, да еще сын, наследник, с этим «последышем» он никак не мог совладать. Сын, наперекор всем, лишь только подрос, не желал повиноваться отцовской воле. «Почему?» — недоумевал старик. То ли потому, что, состарившись, он не мог, как прежде, разъезжать по торговым делам, зарабатывать и приносить в дом, и это пошатнуло его авторитет; то ли — и это сильнее всего огорчало старика — кто-то восстанавливает, настраивает сына против него. И кто же, как не мать, ведь до рождения сына она была ниже травы, тише воды. Правда, она и потом не осмеливалась открыто перечить мужу, не выполнять его приказаний, но тем не менее он чувствовал, что она стала другой. Словно ей в конце концов надоело пребывать в постоянном страхе и трепете и она махнула на мужа рукой — пусть себе ругается, приказывает слугам, распоряжается крестьянами — и всецело занялась сыном, всю себя посвятив заботам о нем. Всюду она брала сына с собой — и к дочерям и к родным, с ней он ездил по хуторам, славам, храмовым праздникам, дальним родичам. И мать и сестры наперебой старались угодить мальчику. Что бы он ни сделал, ни натворил — для них все было свято. Они и мысли не допускали, что он может совершить или совершил что-нибудь дурное и безобразное. Старик же, больше из ревности, а также замечая, что сын, окруженный всеобщим вниманием, становится чересчур изнеженным, дулся на него, говорил, что видеть его не может. Но бить, как бил других, — был не в силах, потому что и сам очень его любил. Правда, он никогда этого не выказывал; даже когда сын болел, он не спускался к нему; но поднять на него руку, как он поступал с другими — слугами и крестьянами, — не мог.
Когда же сын начал водиться с одними турками да бегами, пить с ними и даже ходить в их гаремы и путаться с их женами и любовницами, старик чуть рассудка не лишился.
— Если его к этому тянет, — бушевал он, — так хаджи Трифун тоже не святой. И он когда-то был молод. Мало ему поместий да крестьянских жен. На что ему турчанки, иноверки? У турчанок кровь горячая, сердце податливое, даром, что ли, у них один муж на четверых. Все соки они из человека вытягивают! Вот потому-то, — объяснил старик, — сын его так худ и бледен, больше похож на бабу, чем на мужчину. И смотреть-то на него тошно!
Когда же, после очередного потока ругани и брани, он вдруг узнавал, что сын опять устроил с бегами дебош всем на удивление и вернулся домой на заре, Трифун призывал к себе не сына, а мать.
— Слыхала?
Мать прикидывалась непонимающей.
— А что?
— Как так что? — взвивался старик и начинал разуваться, чтобы кинуть в нее башмаком, — так-таки ничего не слыхала? Где ты была? Очумела, что ли? Раз я не спускаюсь, так уж ничего, думаешь, не вижу и не слышу? Когда он вернулся сегодня? А?
— Как когда? — упорно продолжала она изумляться. — Мальчик пришел рано, лег, вот и сейчас еще спит.
Терпение Трифуна лопалось. Он бросался на нее с башмаком или чубуком в руке.
— Вон, убирайся и ты с глаз долой! — ив ярости откидывался на подушку.
Злился и бесновался он в таких случаях не столько на сына, сколько на нее, на ее, видите ли, превеликую любовь к сыну, на то, что она якобы во имя этой любви все время врет и защищает его, словно он только ее сын и она одна его любит и желает ему добра.
А ведь знает, когда он вернулся. Один-единственный раз стукнул сынок кольцом на воротах, и мать сразу выбежала из дома, наверняка даже и не спала, поджидая его. Слуге, который, как водится, спал с ружьем в руках возле ворот, она не позволила их отворить, отогнала со словами:
— Дай я. Ты когда отворяешь, больно стучишь, еще старика разбудишь.
Старик между тем понимал, что делала она это не потому, что шум мог его разбудить, обеспокоить и прогнать сон, а лишь для того, чтобы он не слышал, что сын возвращается на заре, в неурочное время.
Так в постоянных ссорах, брани и размолвках с сыном старик и умер. Даже заболев, он как бы назло им, а особенно жене, не сказал ничего, ни разу не пожаловался, лежал себе неподвижно наверху, на веранде, только со слугами и разговаривал. Там однажды и нашли его мертвым.
И с тех пор, со смерти хаджи Трифуна, в доме воцарилась скрытая от постороннего глаза роскошь, жизнь, полная всяческого изобилия, красивых женщин, изысканных нарядов и еще более изысканных яств. Булочная, выпекавшая только для них, процветала — столько всего поглощала эта семья. Из дома никогда не доносилось ни ссор, ни побоев, ни детского писка, как бывало у соседей. Никто даже похвастаться не мог, что слышал когда-нибудь громко произнесенное бранное слово. А если и случались ссоры, размолвки и даже смерти, то и это происходило в тишине. Неизменной заботой дома было жить как можно спокойней, лучше и в возможно большем изобилии, чтоб комнаты были всегда убраны, битком набиты разной утварью и жарко натоплены, чтобы в доме и во дворе шелестели мягкие женские одежды, чтоб лица у всех были белые, нежные, чистые, холеные. Постоянно прикупались соседние с домом участки и амбары. Конюшни, находившиеся сперва возле дома, отодвигались все дальше и дальше, чтоб подводы с зерном и провизией не нарушали домашнего покоя. А сад постоянно расширялся и пополнялся прекрасными деревьями лучших пород: сирийской шелковицей, черешней, вишней, дорогими, редкими породами роз, низкорослой яблоней, дававшей лишь по нескольку яблок в год.
Женщины знали одну заботу — наряды и украшения. Кроме того, они изощрялись в приготовлении заморских блюд, а также в сложных и замысловатых вышивках. Но все же главной заботой было холить свою красоту и свое тело, быть как можно белее и изысканней. Целью их жизни стало, нежа и украшая себя, затмить яркостью своей красоты остальных женщин, а всех мужчин в доме, не считаясь ни с родством, ни с возрастом, покорить и свести с ума.
Так же и мужчины: они тоже жили какой-то своей жизнью. Нигде не показывались. Хотя в торговых рядах, в самом центре, у них и был лабаз с солью и коноплей, но служил он не столько для торговли, сколько для расчета с крестьянами и для переговоров с арендаторами. Да и в лабазе-то их никогда не увидишь, — все главный приказчик сидит. Еще реже появлялись они на хуторах в виноградниках. Ездили только на хутор в Нижнее Вране. Но больше прогулки ради. До хутора было рукой подать, и там можно было, в особенности летом и осенью, прекрасно отдохнуть в тиши и на свежем воздухе. Хутор находился за полем, его окружали стены и ряды высоких тополей, убаюкивающих своим неумолчным шелестом; двухэтажный дом утопал в зелени. С этим уединенным хутором и домом было связано столько легенд и былей! Только тут и можно было увидеть кого-нибудь из мужчин, жизнь которых состояла лишь в стремлении роскошно одеваться и продлить свой век как можно дольше. Поэтому они и проводили большую часть года на окрестных курортах, где лечились от последствий беспорядочного образа жизни, чтобы потом на первом же пиршестве, славе или ужине иметь возможность снова напиться и наесться до отвала. Приготовления к Юрьеву дню, дню святого покровителя их семьи, начинались за две недели. В это время можно было наблюдать, как со всех сторон стекалась в их дом родня, обычно тетушки победнее, которые оставались и ночевать, чтобы побольше успеть намесить, наготовить, прибрать. По три раза заводили тесто, если почему-либо оно не выходило так, как хотелось. Несколько дней совещались о стирке, мытье полов, убранстве комнат. Всем, от малого до старого, шилось новое платье. Получали обновки даже слуги и, уж конечно, служанки, которых всегда держали несколько, как правило, брали с собственных хуторов. Им перепадали платья, всего несколько раз надеванные, но либо цветом, либо покроем вышедшие из моды. Все это готовилось заранее, люди лезли из кожи вон, только чтобы день славы прошел как надо, чтобы всех превзойти, чтобы гости были поражены и потом еще многие месяцы говорили и изумлялись, женщины бы восклицали: «Ай, что было на славе у хаджи Трифуновых!» — а мужчины вспоминали бы на базаре, как после славы веселье и попойка продолжались, по обычаю, на хуторе в Нижнем Вране. Там в компании видных греков, валахов и первых бегов-турок, которых из-за веры нельзя было принимать дома, они запирались и пускались в настоящий разгул. Привозили из Скопле танцовщиц, из Масурицы музыкантов с духовыми инструментами и зурнами, цыганок, причем не городских, из цыганского квартала, а из больших окрестных сел и придорожных харчевен, так называемых джорговок, славившихся своим хрупким, жарким телом и сладострастным взором. Музыкантов помещали в отдельной комнате, чтобы они не видели, что происходит в соседней, и в течение нескольких дней из хутора в город доносилась ружейная пальба и можно было видеть, как взлетали ракеты. А позже по секрету рассказывали, как ночью на хутор приезжала знаменитая Савета. Это была не обычная продажная женщина, а богачка, обладавшая огромным состоянием, оставленным ей мужем. И о ней говорили, что она, хоть и тайком, бывала на хуторе и бражничала вместе с ними. И наконец вспоминали, как в конце веселья начиналась картежная игра, во время которой хозяева, как того требовали обычай и приличие, проигрывали целые поля и виноградники.
Вот в чем состояла жизнь мужчин этого дома; вся остальная жизнь — все, что происходило на улицах, у соседей, на базаре, в торговле, — не только была далека от них, но они сами всячески старались отодвинуть ее от себя подальше, чтобы и дом и усадьба не имели ничего общего с городом. И именно в этом стремлении к полному отчуждению они, казалось, видели главный смысл своего существования. Этого непреложного правила они придерживались даже в мелочах. Так, например, кушанья в их доме никогда не подавались жирные, жареные и острые, как у прочих, а, наоборот, легкие, пресные и только на масле — ни в коем случае не на свином сале, тяжелом для желудка. Отличались они и выговором: у греков, валахов и турок, с которыми они больше всего и знались, они переняли мягкость произношения и привычку оканчивать фразу особым словечком, вроде джанум или датим[2]. Но легче всего их было узнать по платью и манере одеваться. Никто из них не носил башмаков или сапог — только лакированные туфли. Штаны, правда, и у них вверху были широкие, спадавшие сзади тяжелыми складками, но без всякой тесьмы и внизу узкие и короткие, чтобы лучше были видны белые чулки. Четки у них тоже были не как у всех и даже не с крестом, как у паломников, а мелкие, черные, из дорогих камней; их можно было зажать в кулак, какой бы длины ни была нить. И брились и подстригались они по-особому. Лица у них и без того были схожие — узкие, худые, но они еще и усики носили одинаковые — маленькие, вровень с губой.
Чтоб о них все же не совсем забыли, они регулярно появлялись на ярмарках и празднествах; давали щедрые пожертвования на постройку школ и церквей. А потому, когда выбирали попечителей церкви или какого-либо другого общественного достояния, всегда выбирали и членов этой семьи, и не столько из-за того, что надеялись приобрести в их лице совестливых радетелей, сколько из-за денежных пожертвований и приношений. Да и обидеть их боялись, потому что знали, что, если случайно обойти их даже в самом незначительном общественном деле, это проявление; невнимания они примут не с огорчением, а с оскорбленной гордостью: «Да разве дождешься в наше время благодарности!»
И очевидно, из-за этого неблагодарного внешнего мира, которого они так чурались и избегали, но которого в то же время и побаивались, зная, что люди из зависти всегда готовы и посудачить, и позлорадствовать, и понасмешничать, они издавна все, что бы ни случилось в семье, старательно скрывали и хранили в тайне. Лютые ссоры при дележе имущества, самые дурные страсти и наклонности, так же как и болезни, держались в секрете. Никто ничего не должен был знать и видеть. А если что и случалось, каждый, собираясь выйти из дому и не доверяя самому себе, подходил сперва к зеркалу и проверял, не видно ли чего-нибудь у него на лице или в глазах.
А между тем было что послушать, что поглядеть и о чем порассказать! Особенно в последнее время, когда приступили к дележу и когда все дядья Софки хотели иметь свой дом и чтобы в нем все было так, как в старом отцовском.
Только Софка всегда с ужасом и страхом вспоминала то, что ей еще ребенком приходилось слышать от бабки, матери или теток, когда они, оставшись одни и думая, что их никто не слышит, судачили обо всем, совершенно не боясь, что маленькая Софка поймет что-либо и запомнит, а также то, что видела собственными глазами, когда подросла.
Уже о прабабке, знаменитой Цоне, которую знали не только во Вране, но и в окрестных городах, ходило много разговоров. Славилась она своей невиданной красотой и молодечеством. Овдовев, она ни за что не захотела выходить замуж вторично. Полгорода ходило в холостяках в надежде, что она за кого-нибудь выйдет замуж, когда постареет и красота ее начнет блекнуть. Но она ни на кого не смотрела, вела хозяйство сама и была главой дома не хуже мужчины. Объезжала свои хутора всегда верхом, а слуги шли по обе стороны лошади, положив руки на круп. Она не только курила, но и с оружием умела обращаться. Да и поступь ее, стан, высокие дугообразные брови и слегка удлиненный нежный овал лица делали ее заметной в любом обществе.
Но зато и умерла Цона не как все. Она ходила в церковь, не пропуская ни одного праздника, и там, на семейном месте, сразу за епископским, отстаивала все обедни. В это время в городе появился новый учитель, Николча, славившийся своим несравненным голосом. Слушая его пение в церкви, Цона в конце концов в него влюбилась.
Кто знает, как они познакомились, как и где встречались. Только люди стали замечать, что стоило учителю увидеть, что Цона пришла и стоит на обычном своем месте, как его пение становилось особенно чарующим; столько он вкладывал в него не божественного, возвышенного и аскетического, приличествующего святым словам песнопения, а мирского и страстного, что все бывали потрясены и взволнованы. Слышали даже, как сам епископ, когда Николча после пения подходил к нему под благословение, говорил:
— Браво, сынок! Браво, Николча! Но уж слишком по-мирскому, сынок, очень уж у тебя сильный и удивительный голос.
И подобно тому как Цона умело таила от людей свою связь, свою любовь, — пусть запоздалую, но лишь для ее лет, а не для ее красоты и свежести, — когда рождение ребенка должно было наконец вывести все на чистую воду, она сумела скрыть и это. Быстро и неслышно покончила с собой. Однажды ее нашли в ванне мертвой с перерезанными венами.
А Каварола, знаменитый дед Софки! Вместо того чтобы сидеть дома, как полагалось старшему (младший брат всегда был болен), он, не выдержав и нескольких месяцев брачной жизни, хотя и был женат на первой красавице Скопле, девушке из полугреческой семьи, пустился якобы снова ездить по городам, а на самом деле просто вернулся к прежнему беспорядочному образу жизни, продолжая путаться с танцовщицами, цыганками и публичными женщинами. Жена должна была сидеть дома, ухаживать за своим деверем, холить и нежить его и сидеть все с ним да с ним; на ярмарках и на славах должна была тоже появляться с ним. И кто знает, как и когда, но только, говорят, стала с ним грешить.
Лишь этим ее грехом и можно объяснить, что впоследствии она столь терпеливо сносила издевательства своего мужа, Каваролы. Несомненно, догадываясь о ее грехе, он каждый раз, возвратившись домой, бушевал и бесчинствовал.
Домой он являлся в компании публичных женщин. Разгул продолжался, и жена сама обязана была прислуживать гостям. Полумертвого от страха слабоумного деверя слуги выносили и прятали где-нибудь у соседей, чтобы Каварола не убил его. Жена оставалась дома, сама стелила постель, и даже так бывало, что и мужа, и публичных женщин укрывать одеялом ей приходилось. Сущая правда! Еще живы люди, готовые поклясться в этом. Вскоре жена умерла, слабоумный брат окончил дни в монастыре святого Прохора. А Каварола опять начал скитаться и бражничать. Хозяйство за него вели дочери с помощью дядей и других родственников, сам он приезжал несколько раз в год, чтобы отсутствие его не слишком бросалось в глаза и не возбуждало любопытства. Но на этом дело не кончилось. Продолжая кутежи, Каварола, выдав дочерей замуж, на старости лет, к общему стыду, снова женился. Да еще на девушке. И назло всем закатил такую блестящую свадьбу, словно женился первый раз. Невеста, правда, была перестарок, не первой молодости, но славилась своей пышной красотой. И она была из греческой семьи, жившей в самом городе, сразу возле церкви, причем приходилась она им не дочерью, не сестрой, а какой-то дальней родственницей. Почему ее привезли в город взрослой, уже старой девой, — неизвестно. От второго брака у Каваролы был только один сын; он первый стал одеваться по-европейски. Но пышная красота второй жены Каваролы продержалась только до венца, а потом как-то сразу поблекла и увяла. Поэтому, чтобы как-нибудь поддержать эту свою блекнущую красоту, она всю жизнь проводила в лечении, купании и согревании своего тела… Говорят, из бань она почти не выходила.
А родная сестра Софкиного деда, «дурная Наза», как ее называли! Девушкой она три раза убегала из дому. Три раза принимала ислам. Почти целый хутор ушел на то, чтобы каждый раз выкупать ее и привозить обратно. И после, чтобы скрыть все это, ее выдали за одного из слуг, купив ему на окраине города домик и дав несколько полей и виноградников, дабы было с чего жить. Состарившись, Наза совсем перестала бывать в родном доме. Приходила только на «прощу», перед великим постом, когда согласно обычаю вся семья собиралась просить друг у друга прощения, целоваться и мириться. А ее муж, бывший слуга, «ихний дядюшка», как он сам себя называл, наоборот — просто не выходил из их дома. Он гордился тем, что стал их родственником и что может есть и пить за одним с ними столом. Всем он был неприятен, все смотрели на него косо, и не потому, что он сидел с ними вместе, а потому, что напоминал о случившемся и был живым свидетелем их позора…
А дальше все хуже и хуже. Сколько было в роду слабоумных, расслабленных, сколько рождалось детей с открытыми ранами, сколько умирало в лучшие годы — бесконечные визиты знаменитых лекарей, врачей, повивальных бабок, ворожба, обливания разными водами, хождения по знахарям и целебным местам!..
Вспоминая сумасшедшего дядю Ристу, Софка и теперь содрогалась от отвращения. Из-за него девочкой она не любила ходить к тетке, а тем более гостить у нее по два, по три дня, как у других.
Точно не было известно, отчего он сошел с ума. Вообразив, что во время его длительной болезни, когда он лежал в параличе, жена изменяла ему со старшим приказчиком, он запил. С тех пор и обезумел. Его держали на втором этаже связанным, и даже кормили, не развязывая. Когда, случалось, Софка вместе с другими детьми из любопытства поднималась по лестнице, чтобы посмотреть на него, он, заметив их на веранде перед своей комнатой, вскакивал в одном исподнем, высокий, бледный, и прыгал к детям с воплем:
— Ох, Мария, шлюха!
Ноги его в новых белых чулках были связаны, и он все прыгал и кричал:
— Ох, ох… шлюха Мария!
Услыхав его крики, поспешно прибегала тетушка. Детей прогоняла, а мужа силой водворяла в его комнату. По ночам было и того хуже. Лежа под одним одеялом с остальными детьми, привыкшими ко всему и уже давно спавшими, Софка никак не могла заснуть, потому что сверху все время доносился шум. Но вот тетка отправлялась наверх лечить его. Софка в точности не знала, в чем состояло это лечение, но явственно слышала его стоны и крики:
— Дай водички! Водички, ведьма! Убей, но дай воды! Ах!
Страшный крик, шум, борьба, затем его привязывали к кровати, и тетка, усталая, разбитая, спускалась вниз. Раздеваясь и укладываясь в постель, она, крестясь, вздыхала и молилась:
— Прибери его, господи! Освободи меня, господи!
II
Вот почему Софка не любила думать о своих предках; после этого она всегда по нескольку дней, как бы стараясь спрятаться от себя самой, бродила по дому как шальная.
Своего родного деда и бабушку Софка помнила точно сквозь сон. Правда, бабушку чуть яснее. Бабушка постоянно сидела в нижней комнате, привалившись к стене домовой бани, как будто ей и летом хотелось погреть и попарить спину. Нос и подбородок у нее были острые, но лоб поразительно высокий и глаза большие, глубокие и таинственные, с густыми ресницами и четко очерченными, длинными, почти до висков, бровями. К несчастью, бабушка приходилась своему мужу, деду Софки, родственницей, правда, не по крови, не по отцу или по матери, а по какому-то дядюшке со стороны отца. Дед должен был уплатить большие деньги, чтобы с ней обвенчаться. Говорили, что родство повлияло на здоровье бабушки; она всегда ходила с повязанной головой и постоянно лечилась, больше всего крепкой ракией. Дед звал ее «мамушка» и только что на руках не носил.
Дед же запомнился Софке лишь одним. Как только она подросла настолько, что научилась есть сама и сидела вместе со всеми за столом, дед распорядился, чтобы и перед ее прибором, как и перед остальными, стоял стакан вина. Вот и все, что она помнила о нем. Позже уже из рассказов она узнала, что когда отец ее вырос и, как полагалось и приличествовало отпрыску столь богатой семьи, уехал сначала в Салоники, а затем в Стамбул, чтобы как можно больше увидеть и узнать, дед и бабушка дома почти не жили. Оставив лабаз в торговых рядах на приказчика Тоне, а дом на служанку Магду, которую приютили у себя еще ребенком, они и зиму и лето проводили на хуторах, чтобы иметь возможность больше посылать денег отцу Софки, эфенди Мите, чтобы он там жил и учился, не зная никаких забот.
Действительно, Софкин отец вернулся настоящим барином. Красивее его во всем городе не было. По-турецки, по-гречески и по-арабски он говорил свободнее, чем на родном языке. Чувствовал он себя в городе совершенным чужаком, особенно среди своей многочисленной родни. Правда, иной раз он перекинется с кем словом, поздоровается, но больше обычая ради, чем по собственному желанию. Даже с отцом и матерью говорил редко и ел не с ними. Ему накрывали наверху, в комнате для гостей, готовили отдельно, настолько он был привередлив. Единственно, что тешило его самолюбие и чем он гордился, было то, что благодаря его учености и изысканности его стали приглашать к себе первые беги и паши. Причем не старые беги, славившиеся только богатством, а новые, которые обладали, помимо богатства, такой же образованностью и ученостью, как он сам, и которые появились в городе недавно и заправляли в меджлисе и суде. С ними-то он и подружился, на совещаниях и во время судебных разбирательств бывал переводчиком и как бы связующим звеном между ними и народом, который они призваны были судить и держать в повиновении. Беги звали эфенди Миту на свои пирушки и принимали у себя, и он платил им тем же, но старался превзойти их роскошью и оригинальностью. К тому же он был лучшим ценителем женщин, которых беги брали к себе в дом.
Позднее, когда отцу Софки пришла пора жениться, в городе уже не оказалось богатых девушек из знатных семей, и ему оставалось либо взять красивую девушку, но бесприданницу, либо крестьянку, но с богатым приданым; такие легко соглашались переехать в город, да еще в столь почтенную семью.
Он выбрал первое. Мать Софки была младшей из сестер; некогда ее семья была довольно состоятельна, теперь же почти совсем разорилась. Жили они арендной платой за покосившиеся лавчонки на краю города. Отец Софкиной матери, вечно больной, полуслепой, безвыходно сидел дома, прикрыв от солнца глаза синей бумагой, полуодетый, помятый, словно только что встал с постели. Сестры ее, давно уже смирившиеся с утратой богатства, повыходили замуж за мелких торговцев, бакалейщиков, большей частью скоробогатов. Тодора, Софкина мать, ни в чем не походила на сестер. Живая, тонкая и смуглая, она больше напоминала сорванца-подростка. Ничто в ней, казалось, не предвещало будущей красавицы, однако это могло обмануть кого угодно, но только не эфенди Миту. Стоило ему увидеть ее, как он понял, какой она станет красавицей, и, ко всеобщему изумлению, наперекор своей спеси и гордыне, женился на ней. И не ошибся. Через год Тодора расцвела пышным цветом и превратилась в подлинную красавицу.
Однако он быстро пресытился молодой женой и вернулся к своему прежнему образу жизни. Как и раньше, когда он был холостым, обед и ужин носили ему наверх, отдельно от всех. Спускался он редко, с домашними разговаривал еще реже, а тем более не выказывал никакой охоты заняться наведением порядка в доме. Когда же родилась Софка, мать принуждена была совсем отделиться от мужа и спать внизу, со свекром и свекровью, только чтобы ему было спокойнее и удобней. Как и в прежние времена, при первой возможности он отправлялся в путь под предлогом торговых дел. Правда, из-за недостатка денег эти отлучки теперь бывали кратковременными, но зато частыми. И в основном падали на те месяцы, в которые он еще в молодости путешествовал и учился. В одну из таких отлучек умерли его родители, дедушка и бабушка Софки. Посланец не нашел его вовремя, и эфенди Мита не смог приехать, чтобы попрощаться с умершими.
Хотя отец Софки и жил в полном уединении, отгородившись от семьи, родственников и даже от собственной жены, в доме по-прежнему царили роскошь и изобилие. Мать Софки, преисполненная вечной благодарности за то, что эфенди Мита женился на ней, возвысил ее до себя, превзошла все ожидания. Она так убирала комнаты, так готовила и так принимала гостей, словно была из самого знатного и богатого дома. Родственники, как и раньше, часто собирались у них. Мать старалась, чтобы праздники, славы, именины были раз от разу пышнее и роскошнее. А своего недовольства тем, что муж жил своей жизнью, сторонился всех и даже жены, она никогда не то что словом, но даже жестом или выражением лица не выказывала.
Только позднее, когда Софка подросла, отец, скорее ради нее, чем ради матери, несколько смягчился и начал иногда приходить к ним. Он стал сам учить Софку грамоте. Когда ему случалось по вечерам возвращаться домой и внизу возле кухни с матерью и другими женщинами бывала Софка, бросавшаяся к нему навстречу, он обнимал ее и вместе с ней шел к домашним. Софка чувствовала тогда на своих щеках его руки, он гладил ее шею, подбородок и кудрявые волосики. Даже теперь, вспоминая об этом, Софка ощущала запах его пальцев, сухих, нежных, со слегка морщинистыми подушечками, запах его одежды, особенно рукавов, из которых высовывались его руки, обнимавшие и прижимавшие ее к себе.
— Ну, как поживаешь, Софкица? Ты хорошо себя вела? — Нежно склонясь к ней, он останавливался перед кухней и разговаривал с матерью, здоровался с остальными женщинами, тогда как обычно он, даже не взглянув ни на кого, а не то что поздоровавшись, проходил прямо к себе наверх.
Все при этом облегченно вздыхали, а в особенности мать; обрадованная тем, что дождалась случая поговорить и пошутить с мужем, да еще в присутствии других женщин, она начинала нарочно наговаривать на Софку:
— Хорошо? Все утро бегает и носится по саду. Не удержишь! Рвет цветы и бросает.
Софка, продолжавшая ощущать на себе руки отца, обнимала его колени в широких суконных штанах; даже и тогда, будучи совсем маленькой, она понимала, что доставляет этим матери радость и удовольствие. Ласкаясь к отцу, она начинала оправдываться.
— Нет, эфендица, нет, папенька! Нет, право же нет!
Он брал ее на руки и уносил наверх, к себе в комнату.
И если уже смеркалось и все гости внизу расходились, он играл с дочкой.
А чаще всего сажал ее на тахту, опускался на колени, и, взяв ее ручки, обвивал их вокруг своей шеи, клал голову ей на колени и смотрел на нее странным, глубоким и проникновенным взглядом. Губы его беззвучно шевелились и увлажнялись, словно он плакал. Не мог он на нее насмотреться, будто глаза и губы Софки что-то ему напоминали. Кто знает что? Может быть, что-то утраченное и ненайденное. Может быть, то, что хорошенькая Софка не мальчик, не наследник. Может быть, ее тонкие губки, детские черные глаза, маленький смуглый лоб, обрамленный уже длинными волосами, напоминали ему мать, какой она была, когда он ее увидел в первый раз и увлекся ею.
Он носил девочку на руках по комнате и, прижимая к себе, приговаривал:
— Софкица!.. Папина Софкица!
Его объятия становились все крепче, Софка и сейчас словно ощущала на своем лице прикосновение его свежевыбритого подбородка.
И если чей-нибудь случайный приход или что-либо другое не нарушали этого внезапно нахлынувшего порыва, он звал и мать. Они вместе ужинали, вместе сидели у него в комнате наверху. Более приятных вечеров, чем эти, Софка не помнила.
И случалось, что счастье продолжалось и на другой день. Взяв с собой только служанку Магду, они отправлялись на хутор в Нижнее Вране.
Отец садился в коляске на почетное место справа. По своему обыкновению, он сидел, откинувшись, вытянув одну ногу и положив на нее руку; одет он был в обычное суконное платье, но особого покроя. Штаны внизу уже и без тесьмы — они легче, но дороже, потому что шить их сложнее. Лицо у него худое, продолговатое, слегка костистое, с холодным выражением глаз, губы постоянно сжаты, высокий лоб от самых волос прорезан глубокой поперечной морщиной. Глаза, как всегда, усталые, полузакрытые. На колене он держал Софку, которую в таких случаях наряжали словно невесту. Волосы укладывали так, чтобы локончики обрамляли лоб и уши, надевали множество украшений и закутывали в несколько минтанов. Мать садилась напротив. Перед прогулкой она купалась и вся так и светилась румянцем. Ее прославленные глаза — большие, с подведенными бровями — сияли, на губах играла счастливая улыбка.
Экипаж спускался с горы. Они въезжали в узкий тенистый проезд с канавами, по сторонам обсаженными вербами. Затем ехали долиной, казавшейся совсем ровной от посевов кукурузы и табака. Отсюда до хутора было уже рукой подать. Магда, сидевшая с кучером, среди корзинок и узлов с провизией и пирогами, не могла удержаться, чтобы не поздороваться и не перекинуться словечком с проходящими крестьянами и работниками. Впрочем, только она и отвечала на их приветствия, потому что эфенди Мита, откинувшись на сиденье, с Софкой на колене, не спускал глаз со своей вытянутой ноги, а вернее, с лакированной, особого покроя туфли, настоящей турецкой. Может быть, он нарочно смотрел вниз, чтобы не замечать приветствий и не отвечать на них.
На хуторе, огороженном оградой из камней и окаймленном тополями, у самой реки, где даже в жару было свежо, тенисто и прохладно, они проводили несколько дней. Отец целыми днями лежал на подушках в саду, окруженный тарелочками с табаком и чашечками из-под выпитого кофе. Мать же была в доме и, излучая счастье, не отходила от окон, делая вид, что проветривает и убирает комнаты. Магда бранилась с крестьянами и слугами, не приносившими вовремя масло, брынзу и цыплят, отчего ужин мог запоздать. К столу подавали вино, охлажденное в реке; ужинали в полном уединении, под громкое журчание воды и стук мельничных колес, а над их головами, словно издалека, раздавался монотонный шелест густой и сочной листвы тополей. После ужина, пока мать стелила наверху постели, отец лежал внизу и попивал вино.
А часто он пел, вначале потихоньку, для себя, а затем все громче и громче, во весь голос. Мать, боясь прервать его, слушала сверху из освещенной комнаты. По ее лицу Софка догадывалась, что слов песни она не понимает, но видела, что мать чувствует их сердцем: вся трепеща от счастья и любви, она, приоткрыв рот, ловила звуки его голоса, доносившегося снизу и разливавшегося по саду, над рекой и тополями — голоса дивного, страстного и задушевного.
Позже, когда отец думал, что Софка уже заснула, он приходил наверх с недопитой бутылкой вина, сажал мать на колени, расплетал ей косы, обнимал ее, целовал и все пел, пел…
Через несколько дней возвращались домой. Отец, правда, выглядел усталым и замкнутым, зато мать дышала счастьем. Она без конца обнимала и целовала Софку — ведь это ей, своему ребенку, она была обязана тем, что муж и его любовь вернулись к ней.
III
Потом пришла война[3], освобождение, конец турецкого владычества, а вместе с ним и крах отца Софки, эфенди Миты. Он бежал с турками и бегами и будто бы там, в Турции, занялся торговлей. Домой приезжал редко. И чем старше становилась Софка, тем реже это случалось: раз в год, да и то ночью. Жил два-три дня, но из дому никуда не выходил, и даже самую близкую родню, дядей и теток, не принимал.
Софке эти дни вспоминались как самые тяжелые. После каждого нового отъезда отца в Турцию мать несколько дней ходила подавленная и убитая, потому что только одной ей было известно все. Она знала, что никакой торговли и никаких дел у него нет и ездит он туда вовсе не из-за того, что не может обойтись без общества турецких бегов, а совсем по другой причине.
И хоть бы ей он не лгал, хоть бы перед ней не притворялся! Она знала, что бежит он от страха перед бедностью, которая если еще и не наступила, то наверняка наступит, как знала и то, что уже давно, еще до освобождения, их дела, в особенности на хуторах и мельницах, шли плохо. Правда, все это продолжали называть их собственностью. Но урожай крестьяне привозили не весь, как раньше, а только какую-то часть, кто знает какую, — так что это больше походило на подарок, чем на испольщину. А расчеты за аренду и наем водяных мельниц произведены были бог весть за сколько лет вперед и настолько запутаны, что лучше было бы эти мельницы продать. Но о продаже, особенно при нем, эфенди Мите, нельзя было и заикнуться. Он предпочитал делать займы на во сто раз более жестких условиях и брать деньги под проценты у ростовщиков, чем хоть что-либо продать и от чего-либо отказаться. Да и сами эти займы и заклады надо было производить с глазу на глаз, под величайшим секретом. Как всегда, все это проделывал их старший приказчик Тоне, которого взяли из деревни еще при Софкином деде. Он настолько наловчился в счетоводстве, что представлял их дом в торговых рядах, уговаривался с крестьянами, сдавал в аренду земли и мельницы, занимал деньги. И уже тогда поговаривали, что, помимо наличного капитала, у Тоне есть собственный дом и что хозяева задолжали ему жалованье за несколько лет. В доме он был все и вся, в особенности при отце Софки, который никогда его не спрашивал, у кого он занял деньги, какое имение и на каких условиях заложил. Тоне должен был лишь принести деньги так, чтобы никто об этом не знал, — все остальное эфенди Миту не интересовало.
После освобождения настала пора судов и тяжб. Особенно, когда дело дошло до вопроса, кому принадлежит земля: турку, хозяину или крестьянам. Тогда-то и стало ясно, что в конечном счете от их состояния ничего не останется. Но что всего неприятнее было Софкиному отцу, эфенди Мите, так это необходимость, кроме всего прочего, еще и ходить по судам, присягать и препираться, — и с кем? — со своими недавними слугами! И он на все махнул рукой. А ведь стоило ему захотеть, он мог бы заявить, по примеру других, что ничего не получал от своих испольщиков; таким образом многие хозяева вернули свои промотанные и проданные имения.
— Эх, не хочу, чтоб крестьянский хлеб меня клял и слезы крестьянские меня проклинали! — говорил он с горьким великодушием.
Но в то же время он и не хотел и боялся того, что могло случиться, — отчуждения, продажи имений, огласки. Поэтому сразу после освобождения эфенди Мита скрылся и перебежал в Турцию с другими бегами и турками, предоставив Тоне все решать и улаживать по своему разумению. С помощью адвокатов, которые после освобождения наводнили город и у которых даже на шпорах были золотые наполеоны, Тоне все прекрасно уладил — осталось только несколько дальних полей и заброшенных виноградников, где лозы и в помине не было, а стояли лишь оголенные, развесистые каштаны. Единственное стоящее поле из оставшихся было у Моравы, около моста, если идти к Враньска-бане.
И когда Тоне пришел рассказать обо всем этом Софкиной матери, она по выражению его лица и по беспрестанно мигающим глазам поняла, сколько он при этом нахапал и украл. И это слуга, которого они вырастили и поставили на ноги! Ей хотелось швырнуть ему в лицо те жалкие гроши, которые он начал ей отсчитывать. Но разве она, Тодора, выдаст себя! И только когда Тоне уходил и, словно прося благословения, оправдывался, что принужден покинуть их, заняться собственной лавкой и собственным делом, у нее сжало горло и она едва выдавила:
— Ладно, ладно, Тоне!
— Да, матушка, и хоть я больше не служу у вас… Поверь, будь по-другому, я бы до самой смерти не покинул ваш дом. Эх, да и кому придет в голову уйти от вас?.. Но хоть я больше не служу у вас, опять-таки всегда, если тебе что понадобится, ты только пошли за мной, дай знать, и я тут же прибегу и все сделаю.
— Ладно, ладно.
Не в силах дождаться, пока он со счастливым и в то же время смиренным видом, отряхивая на ходу пыль с одежды и с ботинок и поправляя ворот, скроется с глаз, Тодора, дрожа от боли, горя и стыда, вернулась в дом и забилась в полутемный угол, захлебываясь рыданиями.
Ясно, что никто, даже родственники, не должны были знать об этом. Оставшуюся землю, в том числе поле около Моравы, сыновья Магды обрабатывали якобы исполу; на самом же деле они давали больше, чем получали, в знак благодарности за то, что земля, на которой они прежде работали как испольщики, теперь перешла к ним. Магда тоже никак не могла расстаться со своими хозяевами. Всю неделю она проводила в селе у своих сыновей и невесток. Муж у нее умер, и в некотором роде она была главой семьи. Но по субботам и праздникам она непременно приходила в город и каждый раз что-нибудь приносила, чаще всего муку, масло, брынзу, — этого хватало на некоторое время. Магда оставалась на несколько дней, прислуживая и хлопоча по хозяйству. Приходили и другие крестьяне, их бывшие испольщики, и всегда с подношениями, причем никогда не напоминали, что земля теперь их. И поэтому в первое время бедность не так уж ощущалась. И Софкиной матери довольно легко удавалось скрывать ее от постороннего глаза. Как и прежде, родственникам, в особенности старым дядям и теткам, навещавшим их, подавались крепкая ракия, хорошее вино и кофе.
На славу, рождество и пасху в доме тоже все прибиралось и приготавливалось, как и раньше, мать наряжалась, повязывала платок и прикалывала цветы. Софка выходила в такие дни во всем новом. Платья ее были из самого нового и дорогого ситца, только что входившего в моду. С утра до вечера, веселые и довольные, они принимали гостей. Приглашались и музыканты. На вопросы об эфенди Мите мать отвечала, что на днях он прислал деньги и передал с посланным, что пока не может приехать. Очень важные дела. Постарается быть к осени. Софке вот послал ситцу на платье…
Софка и сама вначале не знала, откуда у матери деньги на новые и дорогие платья. Но вскоре догадалась. Мать шила ей дорогие обновы, чтобы убедить ее в том, что это и вправду подарки отца; она боялась, что Софка, как часто бывает с детьми, забудет отца или даже возненавидит его за то, что он не приезжает и оставляет их все время одних. А люди, привозившие якобы подарки от отца, появлялись каждый раз тогда, когда Софки случайно не было дома, и она их так никогда и не видела.
Однако старания матери ни к чему не приводили. Точно так же, как для Софки не был секретом этот обман матери, она знала обо всем, что происходило вокруг нее. В том числе и о возне, поднятой родственниками после того, как отец их покинул, то есть перебрался в Турцию, и они с матерью остались одни. Тетки, как со стороны матери, так и со стороны отца, наперебой приглашали Софку к себе в гости, ревниво следя за тем, у кого она пробудет дольше, кто ее лучше примет и ублажит, словно она была не маленькой девочкой, а пожилым, почитаемым человеком. Но Софка уже тогда понимала, что столь необычная любовь и нежность родственников вызвана грозным предчувствием надвигающегося несчастья. Они суетились вокруг Софки и чуть ли не лебезили перед ней, стараясь теперь, пока беда не стряслась, выполнить по отношению к ней родственный долг: попотчевать и побаловать ее хотя бы сейчас, чтобы потом, когда беда разлучит их, она, по крайней мере, могла вспомнить их доброту, сердечие и радушие, чтобы они навсегда сохранились в ее памяти как добрые и щедрые люди. А кроме того, они еще и потому обхаживали Софку, что ясно сознавали — и это было не просто предчувствием: Софка — последний отпрыск основной ветви семьи, с ней все кончится и исчезнет. Но вместе с тем казалось, что вокруг Софки увиваются больше всего из-за ее отца, эфенди Миты, — пусть он их оставил, все равно их почтение к нему таково, что вот единственную дочь его и любимицу они прямо-таки на руках носят, берегут как зеницу ока.
А что вся эта любовь действительно относилась больше к отцу, чем к ней, Софка видела и по матери. Позже, когда Софка стала превращаться в такую красавицу, что подруги, пораженные ее красотой, ее пышной грудью и роскошными волосами, вдруг останавливались посреди игр, восклицая с изумлением: «Ой, Софка! До чего же ты хороша!» — мать перестала отпускать ее одну. Ворота запрещалось держать открытыми. Прежде чем отпустить Софку к воротам или по соседству, пусть там одни женщины, мать тщательно осматривала ее, как она выглядит, в чем одета. Даже в разгар работы, если Софка хотела пойти к подругам, она все бросала и, вытирая руки о передник, провожала ее до калитки соседнего сада, беспрестанно поправляя на ней платье и охорашивая… Боже мой, говорила ей мать, сияя от счастья, разве она может допустить, чтобы Софка вышла одетая кое-как. Этого еще не хватало! А вдруг отец приедет, застанет Софку в таком виде или услышит, что она одета не так, как полагается. Да разве она посмеет не только посмотреть ему в лицо, но даже показаться ему на глаза!
Между тем все это было излишне, Софка давно все знала: и почему отец постоянно живет в Турции, и почему навещает их все реже и реже, так что она помнила его уже только по ночным появлениям — в выцветшей одежде, с потемневшим, исхудавшим, морщинистым лицом, но все еще бодрого, побритого, с влажным ртом и глазами с поволокой, с неизменными четками в руках, в лакированных туфлях и белых чулках… Знала Софка и о бессонных ночах, которые отец и мать, думая, что она спит глубоким сном, проводили в безмолвии, сидя друг против друга. И лишь глаза их говорили, что продолжаться так больше не может, что надо наконец покончить со всем этим, продать дом и все остальное… бежать… А как же тогда могилы на кладбище, как же родственники, а главное, люди — что скажут люди!
IV
Софка всегда, с тех пор как себя помнила, знала обо всем этом. Никогда ни о чем не расспрашивая, она чувствовала и понимала все, что происходит вокруг нее, точно так же, как она ясно представляла себе свою собственную судьбу. Еще ребенком она была уверена, что станет красавицей и что красота ее с каждым днем будет все сильнее поражать и удивлять людей. По общему мнению, такой красотой могла быть отмечена только она, дочка эфенди Миты, представительница их дома, больше никто.
И она не ошиблась.
Софка всегда думала, что красота сделает ее не столько гордой, сколько счастливой. И не потому, что она могла мучить и сводить с ума мужчин, а потому, что красота ей самой доставляла много радости. Софка все больше следила за собой, все больше любила себя, сознавая, что, когда она вырастет, красота ее будет не обычной, заурядной, выражающейся в пышности форм, а совсем иной, подлинной, неземной красотой, которая появляется на свете редко и долго не блекнет, становясь все ярче и обворожительнее, и аромат которой чувствуется в каждом движении.
Все так в точности и исполнилось. Она стала взрослой девушкой, перешагнула за двадцать, а там, поскольку никто не осмеливался к ней посвататься, и за двадцать пять, и не только не утратила своей красоты, но казалась еще более ослепительной и прекрасной. Исчезла только излишняя полнота, во всем же остальном она приобретала все большую отточенность и выразительность. Спина и плечи были по-прежнему налитые, округлые и крепкие; предплечья тоже полные и упругие и вместе с полными плечами делали ее фигуру стройной и статной, подчеркивая тонкую талию и крутые бедра. Руки были немного длинноватые, худощавые, с тонкими, нежными пальцами и еще более нежным, полным запястьем, показывающим ослепительную белизну ее кожи. Лицо ее отличалось не столько свежестью, сколько белизной; слегка продолговатое, с мягкими чертами, немного выдающимися скулами, но с ясным, высоким лбом, черными, большими, миндалевидными глазами, всегда румяными щеками и тонкими сжатыми губами, лишь в уголках немного влажными и страстными. Красота ее, в стремлении сохранить себя, словно застыла, окаменела, и только волосы росли, как и прежде, пышными. Они были черные, мягкие, тяжелые, так что, распуская их, она чувствовала, как они темной и легкой тенью скользят по ее шее и плечам.
Но по мере того как она росла, превращаясь в известную всему городу красавицу, отец приезжал все реже и реже, и Софку это очень тревожило. Она понимала, что причина в ней. Словно он ее боялся. Бывало, пройдет и лето, и осень, и зима, а о нем ни слуху ни духу, даже и нарочного не шлет. Позднее случалось, что он пропадал на два-три года, не подавая о себе никаких вестей.
Мать обмирала от страха. И не потому, что боялась остаться без куска хлеба, в полной нищете. С бедностью она уже давно начала бороться и почти уже договорилась о продаже верхнего участка сада за домом, выходившего на улицу. Договорилась, конечно, с Тоне, так как только ему можно было довериться: он не станет выкладывать людям и хвастать, что сад его и что он его откупил совсем, а по-прежнему будет говорить, что взял в аренду. И то, — скажет, — пришлось долго упрашивать хозяев, чтобы они разрешили ему поставить там кое-какие склады.
Итак, очевидная бедность пугала мать меньше, чем все более редкие появления отца. Зная его нрав, она боялась, что он в конце концов совсем покинет их и никогда больше не вернется. И тогда — о себе она не думала: ее время прошло и она была готова на все, — что будет с Софкой, как она, уже взрослая и прославившаяся своей удивительной красотой, переживет такой срам и позор?
Софка же, видя мучения и страхи матери, жалела больше ее, чем себя. О себе она не беспокоилась. Еще вначале, когда она почувствовала, как наливается ее грудь, как округляется ее тело, как от всякого неожиданного прикосновения, от шума и звука шагов она ежится и вздрагивает, как от одного взгляда мужчины кровь кидается ей в голову, а ноги врастают в землю от сознания, что, если он подойдет к ней, она обомлеет и не сможет двинуться, а тем более сопротивляться и защищаться, — уже тогда, в самое трудное и тяжелое для нее время, она была убеждена, что не родился еще тот, кто был бы равен ей и достоин ее, дочери эфенди Миты, и ее красоты.
И поскольку она с самого начала знала, что ей никогда не встретить человека, который был бы выше ее и по происхождению и по красоте и которому она сочла бы за счастье отдать свою красоту, — а только такому человеку она могла бы позволить приблизиться к себе, любить себя, — поскольку она давно с этим примирилась, на все последующее она уже смотрела спокойно. Все было ясно, и Софка даже испытывала от этого удовлетворение. Ничто не могло ни смутить, ни напугать ее. Ни один человек не представлял для нее опасности, и она чувствовала себя совершенно свободной. В любое время могла выйти постоять за воротами. Молодым людям смотрела прямо в глаза. Даже, когда хотела, ходила одна по улице и к соседям. И по ночам ничего не боялась. Благодаря этому чувству свободы Софка не завидовала подругам, тому, что они, будучи моложе ее, давно повыходили замуж и теперь слыли хозяйками с достатком, так как мужья их богатели. Ничто не могло вызвать у нее злорадства. Сознавая свое превосходство, довольная собой, а особенно своей несравненной красотой, она на все смотрела с равнодушием.
Стоя у ворот, Софка при виде мужчины никогда, как требовал обычай, не пряталась и не выглядывала, чтобы посмотреть вслед, когда он пройдет, как делали другие девушки. Если она выходила за ворота, она стояла там без всякого стеснения, нисколько не стыдясь своей красоты и в особенности пышной груди, другая на ее месте прикрывалась бы платком — одни глаза оставляла бы. Софка этого никогда не делала. Непринужденно заложив руки за спину, слегка привалившись к закрытой створке ворот, она стояла, выставив одну ногу вперед, не спуская платка на лоб и не прикрывая цветов в волосах; она выходила на улицу так, как ходила дома, только держалась еще более свободно и, словно кому-то наперекор, равнодушно выпячивала нижнюю губу, отчего в уголки рта, ложилась легкая тень. Каждого прохожего она провожала пристальным взглядом, от которого тот терялся и, потупя взор, поспешно опускал голову, почтительно ей кланяясь.
Если шло двое и один из них не знал Софку или слышал о ней, но никогда не видел, то до нее всегда доносился такой разговор:
— Кто это, чья такая, а? — спрашивал тот, изумленный, прямо ошарашенный ее красотой и необычно смелым и дерзким поведением.
— Софка, дочь эфенди Миты! — раздавалось в ответ.
И всегда в разговорах о ней были лишь страх, удивление и уважение; ничего, что говорилось обычно о других женщинах, никогда не произносилось. Поэтому она всегда могла чувствовать себя свободно.
Так же просто и свободно Софка вела себя дома. У окон верхнего этажа, выходящих в сторону города, она тоже не пряталась, а, перегнувшись через подоконник и опираясь на него, смотрела на улицу равнодушным взглядом. Часто она проводила здесь целые дни; подперев лицо ладонями, отчего щеки еще больше наливались пламенем, она наполовину высовывалась из окна и, тихонько покачиваясь, испытывала особое удовольствие от прикосновения груди к подоконнику, от ощущения гибкости и послушности тела.
Особенно любила она сидеть у окна по праздникам, разглядывая народ на улице, по соседним дворам и даже около церкви и торговых рядов, — все это было рядом.
Равнодушно усмехаясь, наблюдала она за тем, как женщины расходятся из церкви, куда они ходили не столько ради службы божией, сколько ради того, чтобы показаться в новых, первый раз надетых платьях. Вот дочка газды Миленки Ната, молодая, полная, с чистым лицом. Каждое воскресенье она возвращается из церкви с отцом и мачехой. Отец идет позади, на его мясистом лице играет улыбка, он уже не в турецких штанах, а в европейском сюртуке и брюках — все ради второй, молодой жены, чтобы тоже выглядеть моложе; смотрит он больше на жену, чем на дочь. Но Ната этого не замечает. Она довольна тем, что отец всюду берет ее с собой, не понимая, что делает он это опять же ради мачехи, поскольку не положено выходить с женой, а дочь, да еще на выданье, оставлять дома. Софка всегда смотрела на Нату с сожалением: ничего-то она не понимает, знай себе радуется, что на ней новое платье, и беспрестанно оглядывается — все ли на нее, на такую красавицу, обращают внимание.
А сколько раз Софка наблюдала за дочерьми шорника Ташко, что жили на той же улице, несколько выше их дома. Их было четыре. Все погодки. Родители, хоть и разбогатели, были еще совсем деревенскими, но дети, и в первую очередь дочери, скоро стали известны всему городу своей изысканностью. Одевались они одинаково, большей частью в платья из легких, тонких и светлых тканей, во всяком случае таких, которые могут привлечь внимание. Лица у них были нежные, глаза бархатные, никто бы не подумал, что у них такие родители, в особенности отец, толстощекий, с грубой, загорелой мужицкой физиономией. Софка видела, как то одна, то другая, радуясь своей красоте и успеху у мужчин, или торчит у ворот, или выбегает на улицу, чтобы получше кого-нибудь разглядеть да показать, что она тут, поджидает. Они не пропускали ни одной службы в церкви, ни одной свадьбы или вечеринки. Даже на ярмарках в ближайших селах они непременно бывали. Сперва ездили в простой повозке вместе с родителями, запасшись на целый день провизией и вином. Позднее, когда еще больше разбогатели и братья стали взрослыми, закладывали собственный экипаж, лакированный, на рессорах, и отправлялись уже без отца, с матерью и одним из братьев. Выезжали они не как раньше — с раннего утра и на целый день, а лишь после обеда, как и все прочие богатые семьи, у которых имелись собственные экипажи и которые могли поэтому ехать когда угодно, побыть там немного, поглядеть и тут же вернуться. Ездили они туда прогуляться, в то время как простой народ ездил ради самой ярмарки, чтобы, пользуясь праздничным днем, отдохнуть, вволю поесть и выпить.
Но хотя Софка была вполне довольна собой, никому ни в чем не завидовала, а потому никогда ни о чем не тревожилась, а тем более никогда не чувствовала себя несчастной, все же зимой ей почему-то бывало легче. Вероятно, этому способствовали замкнутость и уединение, приходившие с наступлением холодов; начиная с поздней осени в течение всей долгой суровой зимы она почти не выходила из дому. Мать сходит к родным, да и то ненадолго, норовя в тот же день вернуться. Причем она спешила не потому, что Софка была дома одна или, как другие матери, опасалась чего-нибудь плохого, а потому, что знала, что в зимнюю пору Софка, если ей понадобится, не сможет выйти даже к соседям. Помимо этих отлучек матери, зимнее уединение нарушалось еще праздниками, но только большими, такими, например, как рождество. В эти дни, поскольку приходили знакомые, правда, самые близкие, живущие по соседству, надо было приодеться и тем самым как бы выйти в жизнь, всю же остальную зиму было совершенно тихо. В стенах дома можно было чувствовать себя в полном уединении и наслаждаться полной свободой.
Зима еще и потому была для Софки легче и приятней, что после нее, особенно с приближением весны, ей уже не было так хорошо. Она испытывала какое-то беспокойство, тревогу. То ли потому, что приходил конец зимнему уединению и замкнутости и жизнь, до того приглушенная и заточенная в четырех стенах метелями и морозами, выбивалась из домов и разливалась по улицам, базарам, ярмаркам и гуляньям, вовлекая в свой круговорот и мужчин и женщин. То ли потому, что ее начинало охватывать какое-то смятение при мысли, что она должна будет, чтобы не остаться совсем забытой, не ради себя, а ради матери и чести дома выйти из своего убежища и жить одной жизнью со всеми людьми. А между тем у нее не было с ними ничего общего, все ей казалось чуждым и диким.
Но всего хуже было то, что из года в год, и всегда с приходом весны и лета, Софка все с большим страхом и трепетом замечала — и в этом она никому, даже самой себе, не признавалась, — что по мере того как ей прибавлялись годы, не убавлявшие, правда, ее красоты, у нее к обычному беспокойству, вызванному необходимостью общения с людьми, все сильнее примешивалось иное беспокойство, жалившее ее подобно змее, — настоящий ужас, что вот нынешней весной или летом, может быть, на первой ярмарке появится у церкви новая красавица, которая сразу отбросит ее в запечек и превратит в старую деву.
Однако Софка была уверена, что этого никогда не случится. Она допускала, что, как обычно, весной какая-нибудь девушка, выведенная на люди впервые, подобно всякой новинке, привлечет всеобщее внимание своей молодостью и здоровьем, но чтобы она превзошла ее красотой, это было невозможно. Ни теперь, ни впредь. Пусть даже черты ее лица поблекнут, она была уверена, что и тогда никто не сможет ее превзойти. Если, не дай бог, это случится, она знала, что способна пойти на все. Чтоб только доказать свое превосходство, она перед всем светом бы открылась, всех бы убедила, что ни одна женщина никогда не сможет сравниться с ней красотой, сладострастием, пылом чувств. Да, это страшно, но она была бы не Софкой, если бы так не поступила.
И тут же, напуганная этими мыслями, растерянная, она принималась укорять себя и бранить: что это с ней, к чему думать о таких вещах, которые другим и в голову не приходят? И до каких же пор? Неужели ей никогда не быть счастливой и довольной? Когда и она наконец научится, как другие девушки, ни о чем не думать, и быть счастливой просто от того, что живешь. С утра до поздней ночи работать. Незаметно для домашних стараться урвать побольше лакомых кусочков, жадно, досыта обедать и ужинать и с трудом дожидаться минуты, чтобы без сил свалиться в мягкую постель и мгновенно заснуть мертвым сном. И так каждый день. Предоставить все судьбе, а самой, пышущей здоровьем, с упоении ожидать сватовства, венчания, когда и у нее, как у ее замужних подруг, появится свой дом, где она будет хозяйкой, когда и она вместе с мужем будет ходить по родственникам, славам и ярмаркам и стараться как можно веселее провести время, как можно сытнее и слаще поесть да как можно красивее одеться.
И как только такие мысли начинали ее одолевать, Софка силой заставляла себя быть такой. Сразу бралась за дело, обычно за какую-нибудь трудную замысловатую вышивку. Вся уходила в работу, загоралась, радовалась. Целый день головы не поднимала. Мать не могла дозваться ее обедать или ужинать. И по мере того как работа продвигалась вперед, ярче вырисовывался узор, оживал рисунок — причем узор и подбор цветов были настолько сложны, что другая бы на ее месте потратила месяцы, чтобы разобраться в них, — Софка все больше и больше увлекалась делом и сразу чувствовала себя по-другому. Спала спокойнее, по утрам бывала свежее. Смотрясь в зеркало, замечала, что кровь постепенно приливала к щекам. Пища ей казалась вкуснее, а воздух ласкал прохладой. В любую минуту она могла уснуть глубоким, сладким сном. Однако это продолжалось недолго. Как только работа подходила к концу, Софку начинали охватывать подавленность и безразличие. По утрам она уже не вставала такой освеженной. После неспокойной ночи просыпалась с тяжелой головой, руки дрожали, шею и тело ломило. Она приписывала это усталости и напряжению.
Тогда она принималась бродить без цели, не находя себе места, как больная… пока наконец, и всегда неожиданно, на нее снова не находило уже известное ей состояние: тело вдруг охватывал непонятный трепет и сладостная истома. И вся она, казалось, погружалась в мир неведомых наслаждений. Даже губы были сладкими, и она поминутно их облизывала. От безысходной тоски готова была застонать. И тут она понимала, что снова на нее нашло и подчинило себе знакомое «раздвоение»: ей начинало казаться, что в ней, Софке, заключен не один человек, а два. Одна Софка — это она сама, а другая была как бы вне ее, рядом с ней. И эта другая Софка утешала ее и нежно ласкала, так что первая, словно преступница, едва могла дождаться ночи, чтобы лечь в постель и остаться наедине с другой Софкой. Она чувствовала, как та страстно целует ее в губы, гладит ей волосы; как руки касаются ее колен и бедер и как, зная о ее самых сокровенных безумных стремлениях и желаниях, она обнимает ее так сильно, что Софка сквозь сон слышит, как хрустят ее кости. Наутро она оказывалась далеко от постели матери, вся в поту, с подушкой в объятиях. Днем, скрываясь от всех, она уходила в сад за домом и там, словно обезумев, разговаривала с цветами. Каждый цветок таил в себе одно из ее желаний, в каждом чириканье птиц ей чудилась то какая-то неспетая песня, то чей-то затаенный вздох.
И тогда у нее вдруг возникало уже не раз испытанное необъяснимое чувство… Все, что она видела, казалось, когда-то — она и сама не знала когда — уже существовало и жило именно таким же образом: все, все — и сны, и этот сад, и цветы, и деревья, и небеса над ними, и горные вершины, обступившие город, и сама она, Софка, в этом самом платье, сидящая вот так же возле цветов, и даже сам дом, и голоса, и шаги матери и других людей, и сами слова, возгласы, пожелания, — все это уже было раньше. И чем ближе к вечеру, все это вместе с ней как бы теряло земной облик, становилось ярче, самобытнее, чарующе, великолепнее, так что, возвращаясь домой, она от восторга и счастья протягивала руки к небу и едва сдерживалась, чтобы не запеть во весь голос. Но не смела. Старалась, чтобы мать ничего не заметила и потому, хоть и не была голодна, через силу заставляла себя есть, лишь бы не привлечь внимания матери, и тут же уходила.
Уходила якобы для того, чтобы лечь спать, на самом же деле для того, чтобы как можно скорее остаться наедине с собой и, укрывшись одеялом, отдаться сладостным снам с объятиями и ласками. И в конечном счете, хотя Софка и была уверена, что никогда не выйдет замуж, все ее сны сводились к мечтам о брачном счастье, о брачной комнате с ложем и прочей мебелью… Ей представлялось всегда одно и то же: огромная, роскошная комната, искрящаяся разноцветными огнями. Рядом другие комнаты, так же обставленные и украшенные полотенцами и подарками, которые она принесла в приданое. Внизу, во дворе, бьет фонтан, желтые струи его, озаренные светом из ее комнаты, горят как янтарь. Слышится музыка. Новобрачный, усталый от веселья, но все еще в приподнятом настроении, с увлечением слушает песни, которые на прощанье поют сваты, оставляя молодых одних. У него высокий лоб, черные, довольно длинные усы. Одет он в шелк и тонкое сукно. Одежда его издает крепкий запах. А она ждет его в постели, в брачной рубашке, утопая в море света, шепота фонтана, музыки и песен. И хотя он еще не подошел к ней, она уже ощущает на себе его тело, жар его губ. Его голова на ее груди, его руки сжимают ее до боли… И вот его приводят. Безумные, неистовые поцелуи, страстные объятия; слияние в бездонной пучине любви…
Потому-то Софка всегда любила одиночество. Даже оставаясь в доме совсем одна, когда мать уходила либо на кладбище, либо по делу и не возвращалась до глубокой ночи, Софка любила сидеть в темноте. Огражденная воротами и стенами от постороннего глаза, чувствуя себя в полной безопасности, она поднималась наверх. И чтобы совсем прогнать страх одиночества и темноты, предавалась грезам. Смело оголяла грудь, расстегивала пуговицы на рукавах и шальварах, чтобы ощутить, как она сможет одним движением скинуть с себя все. Она любовалась своим обнаженным телом, сладостно поеживаясь от щекотавшего ее воздуха. А сколько раз, словно мужчина, она принималась страстно разглядывать свои белоснежные, упругие, полные, давно созревшие груди.
Однажды Софка чуть не совершила глупость. Был конец лета, снова наступила суббота, базарный день. Мать ушла с Магдой на кладбище. Сумерки спускались жаркие и душные. Мать все не приходила, и Софка, как всегда, была одна, отделенная от внешнего мира оградой и стенами дома. Не находя себе места, боясь пошевельнуться, она сидела наверху, как обычно, едва одетая, в тот вечер сильнее, чем когда-либо, на нее накатила ее «раздвоенность». Но внезапно душу ее охватила какая-то особенно глубокая, тяжелая грусть, шедшая из самого нутра, страшная тоска, полная злых предчувствий: чем все это кончится? Неужели, неужели смертью? Конечно, смертью. Но тогда к чему и зачем все это?
В эту минуту она услышала, как из сада идет немой Ванко. Идет и поет. Наверняка пьяный: каждую субботу он получает немало чаевых, прислуживая на базаре, — есть на что напиться! Увидев, что внизу, на кухне, никого нет, Ванко пошел наверх к ней. Софка вздрогнула и быстро прикрылась. Однако в голову ей внезапно пришла безумная мысль, от которой ее бросило в жар. «А почему бы нет? Он пьян — ничего не соображает; немой — не сможет ничего сказать! И почему бы хоть один раз не испытать то, о чем она столько думала и мечтала? Почему бы хоть раз не испытать того, что чувствуешь, когда тебя касается рука мужчины?»
Ванко вошел, обрадовался, что нашел ее здесь, и, мыча, знаками стал объяснять, сколько и от кого он сегодня получил на чай.
— Ба… ба… ба!..
Но, заметив, что Софка полуодета и продолжает лежать на тахте, не подходит к нему, не отвечает, не улыбается, он остановился перед ней в испуге.
Но она подозвала его.
— Дай руку!
Он с готовностью протянул руку с вытянутыми и растопыренными пальцами, причем левую, которая была ближе к ней. Она взяла его за руку, но не как обычно, за пальцы, а выше — за квадратную, широкую кость. Расставленные пальцы изумленного Ванко скорчились, и ей показалось, будто к ней приближается черная жесткая лапа. Но Софка была не из тех, что, решившись на что-либо, останавливается на полпути и отступает. Она быстро привлекла его к себе, поставила между колен и, не обращая внимания на его дикие возгласы радости и страха, оголила грудь и с силой прижала к ней его руку. Ничего, кроме боли, она не ощутила. Быстро, содрогаясь от ужаса, Софка поднялась. Он же, обезумев, потеряв голову, с пеной у рта, с искаженным лицом, тыкался головой в ее живот, обнимал колени, как клещами стискивал тело, стараясь привлечь ее к себе, повалить, а с его покрытых пеной губ срывались безумные вопли:
— Ба… ба… ба!..
Другая на ее месте, несомненно, растерялась бы, сдалась, но Софка оттолкнула его с чувством омерзения и, оправляя одежду, вышла.
V
Было это незадолго до пасхи. Перед большими праздниками Софка все время проводила наверху, где прибирала и украшала комнаты, от кухни ее в таких случаях освобождали. Так было и на этот раз. Чтобы не запылиться, она надела старый минтан, который был ей узок и теснил грудь, и покрыла голову большим желтым платком, оттенявшим свежесть ее лица. Она проветривала и обметала комнаты. Деревянные сандалии ее гулко стучали по сухому полу веранды верхнего этажа.
Двор перед кухней был давно выметен и полит. От ворот к дому белела мощеная дорожка. Из деревянного ведра на колодце сочилась вода, и капли, падая на плиты, переливались на солнце. Трава около колодца, во дворе и даже на дорожке ярко зеленела. Зеленел и тянувшийся за домом сад, отгороженный дощатым забором. Под стрехами чирикали воробьи. Из соседних дворов тоже доносились разнообразные звуки приготовлений к празднику: выбивали ковры, рядна, скоблили медные противни и тазы. Слышался топот ног на улице. День стоял ясный, теплый, напоенный животворной и целительной свежестью, как бывает весной на пасху. На нижних ступеньках лестницы, у самой кухни, сидела мать; на плечи она накинула короткую колию, словно ей было холодно, на самом же деле, чтобы защитить от пыли, падавшей сверху, где работала Софка, ворот и грудь своей чистой белой рубашки. Прикрывшись колией, она держала на коленях медный противень и шелушила пшеницу, одновременно следя, чтобы на кухне не выкипели горшки, булькавшие на огне. Пшеницу она шелушила старательно, вечером ее надо было нести на кладбище, на помин души.
На воротах стукнуло дверное кольцо.
— Эй, хозяева!
Даже Софка на верхнем этаже услышала резкий голос с нездешним акцентом.
— Софка, стучат! — крикнула снизу мать.
Софка оставила работу и направилась вниз.
— Маменька, отворила бы сама, — медлила она, спускаясь по лестнице.
— Иди, иди, кто-то пришел! — торопила мать.
Пока Софка шла по дорожке мимо колодца к воротам, мать быстро спрятала противень с пшеницей и, хотя все было чисто, еще раз поспешно прошлась метлой перед кухней и убрала тряпку и еще что-то под лестницу.
Отворив ворота, Софка остановилась, ожидая, чтобы стучавший вошел.
В воротах появился высокий, с бритой головой албанец. Софка улыбнулась, так как сразу поняла, что это посланный отца, один из тех барышников, что каждую субботу, в базарный день, приезжают из Турции покупать здесь лошадей. Как только мать, узнав в пришельце албанца из Турции, подумала, что это, по всей вероятности, посланец отца, которого она всегда перед большими праздниками с нетерпением поджидала, и уверилась, что это так и есть, она испуганно засуетилась перед кухней, оглядывая, все ли чисто и прибрано.
— Это дом эфенди Миты? — громко крикнул албанец и, словно сомневаясь, опять поглядел на ворота — туда ли он попал.
Софка утвердительно кивнула головой. Он вошел и широким шагом направился к матери, засунув руки в белые штаны. Еще не дойдя до нее, он заговорил:
— Кланяется вам эфенди Мита и приказал мне сказать вам…
— Добро пожаловать, добро пожаловать! — ласково перебила его мать и быстро вынесла ему низкий трехногий табурет. — Садись, отдохни! — сказала она, усердно приглашая его сесть.
Албанец с опаской опустился на табурет. Мать, как всегда перед посланными отца, стояла, скрестив руки на животе и слегка склонив голову, жадно и почтительно выслушивая наказы и распоряжения мужа. Софка пошла на кухню варить албанцу кофе. Албанец, нахмурившись так, что отчетливо выступила полоса на челюстях и лбу, показывавшая границу его утреннего умывания, заговорил резким голосом. На мать он взглядывал редко, больше смотрел на свои крепкие, мускулистые ноги в толстых и длинных чулках из грубой шерсти. По его голосу Софка поняла, что он чем-то озадачен. И, догадавшись, усмехнулась. Очевидно, албанец, как и прочие посланные отца, отправляясь к ним, полагал увидеть мать и Софку, как и весь дом, в большей бедности и мысленно готовился в утешение им порицать отца и говорить, что он, мол, живет в Турции не лучше. А вот поди ж ты, ошибся! Он увидел Софку и ее мать, которая, несмотря на свои сорок с лишним лет, выглядела еще молодой и свежей. В глазах ее дрожал огонек, черные как смоль волосы блестели. Правда, вокруг глаз и рта виднелись морщинки, но они были едва приметны на ее свежем, округлом, нежном и, как молоко, белом лице. И если она так хороша в будничном платье, то как же она должна выглядеть, когда приоденется!
И как смиренно стоит она перед ним, как робко расспрашивает о «самом», беспрестанно укоряя себя, что заранее не догадалась приготовить то, что он может потребовать, и вот теперь не в состоянии сразу все передать посланному. Извиняясь, она сказала, что все пришлет со слугой в харчевню, где остановился албанец.
По выражению его лица Софка поняла, какое впечатление произвел на него их дом. В особенности, когда он поглядел туда, где Софка варила кофе, и увидел, как в темной, просторной кухне поблескивали большие, тяжелые подносы и широкие медные сковороды, увидел прямо против того места, где сидел, лестницу, ведущую на второй этаж, у ворот старую ветвистую шелковицу, а еще дальше тумбу, правда, почти вросшую в землю, но со сверкающей мраморной верхушкой. Албанец совсем оробел. Быстро, большими глотками он выпил кофе и сразу поднялся — причем встал не на середину мощеной дорожки, а с краю, как бы боясь ее запачкать, — прося прощения и приговаривая, чтоб мать не спешила и что он будет ожидать в харчевне, пока она все приготовит.
— Я подожду, ханум. Не успеешь сегодня, давай завтра или когда хочешь. День, два, три, не беда, я подожду. Подожду! — приговаривал он, уходя.
Мать проводила его до ворот, а Софка осталась на кухне мыть чашки. Она видела, как, проводив албанца и заперев за ним ворота, мать возвращалась медленными, тяжелыми шагами. Дойдя до колодца, она остановилась и долго там стояла. Потом направилась к погребу. Постояла и перед погребом, очевидно рассматривая что-то внутри, и лишь спустя некоторое время Софка услышала ее зов:
— Софка, пойди к Аритоновым и кликни Ванко!
Софка пошла и скоро возвратилась все с тем же Ванко. Как всегда, увидев мать, он испуганно замер перед ней. Та жестами велела ему сходить на базар за Тоне. Ванко побежал.
Немного погодя появился Тоне. С улыбкой на уже обрюзгшем, чисто выбритом лице, в широких черных шальварах без тесьмы, он мелкими, быстрыми шажками подошел к Тодоре, своей бывшей госпоже. Пока Ванко ходил за Тоне, она сварила кофе, вынесла на медной тарелочке табак, поставила и то и другое возле себя, скрутила сигарету и в ожидании его прихода медленно покуривала.
— Звала меня, госпожа? — спросил Тоне, низко ей кланяясь.
— Садись, садись, — ответила она, предлагая ему кофе и табак. — Да, звала я тебя, не бог весть зачем, но звала. Ты наши бочки знаешь?
— Как же, госпожа! Помню и как их делали. Пришлось ворота ломать, чтобы их внести! Как же, знаю отлично!
— Ну так вот, они… Возилась я кое с чем в погребе, и попадись они мне на глаза. Теперь, знаешь, года стоят неурожайные, и я не могу все их наполнить, потому и позвала тебя, хочу спросить, не поискать ли нам кого-нибудь, кто хранил бы в них вино, чтобы обручи не полопались от сухости. Ты ведь небось знаешь таких. Занимаешься вином. Замок же в погребе, как тебе известно, надежный!
— Да уж это…
И по голосу Тоне Софка поняла, что он наперед обо всем догадывается.
— Да как сказать, госпожа, — начал Тоне ломаться, — конечно, было бы неплохо! Неплохо было бы, да вот я… Есть у меня малость вина, и если ты позволишь…
— Вот и хорошо. Все лучше, чем чужой, — сказала мать, вздохнув с облегчением.
— Ну и ладно. Спасибо тебе! — быстро продолжил Тоне. — Только знаешь, госпожа, я могу взять одну или две, не больше. Все бочки одна ваша семья может наполнить, а я не могу, знаешь ведь, какое у нас положение.
— Ну, сколько сможешь, Тоне. А об остальном господь позаботится!
— Дай бог, дай бог, госпожа! Пусть каждому воздаст по его желанию. А как эфенди Мита? Есть ли какие вести?
— Сегодня утром был у меня один торговец. Говорит, здоров, но приехать еще не может. Занят делами. Шелк на платье прислал Софке и денег, чтобы все было как следует к празднику.
Тоне, хотя и был уверен, что на самом деле все обстоит наоборот, делал вид, что ни о чем не догадывается. Он тут же ушел и с мальчишкой прислал матери за год вперед плату за две бочки, пообещав, остальные, да и весь погреб занять позже, тогда же и замок свой навесить. Мать, по обыкновению не пересчитав денег, хотя каждый раз он подсовывал ей несколько фальшивых грошей, дала мальчику на чай и велела кланяться Тоне и его хозяйке.
Мальчишка ушел. Ворота за ним затворились. Софка видела, что мать продолжала неподвижно сидеть, высыпав деньги в подол и задумчиво глядя в порожние кофейные чашки. Она даже не слышала, как ворота снова отворились и в них проскользнула Магда.
Служанка, как всегда, быстро вошла, нагруженная узлами. Не останавливаясь и не здороваясь с матерью, она прошла прямо на кухню.
— Пришла? — очнулась мать, увидя ее на кухне.
— Да вот, госпожа, еле вырвалась, — ответила Магда, оправдываясь. — Никак не отпускали: то одно, то другое. Просто не отвяжешься. С трудом донесла вот…
Не показывая матери, что она принесла, словно это не стоило ее внимания, она принялась высыпать в лари белую муку, а в медные сосуды и кастрюли выкладывать масло и брынзу, принесенные ею из дому, где все это бережно собиралось ее родными во время поста, чтобы она могла отнести своим хозяевам побольше.
— Магда! — снова позвала ее мать.
— Слушаю, госпожа! — ответила Магда, выбегая с грязными руками и засученными рукавами — она уже начала мыть посуду.
— Сходи в «Пестрый хан» и спроси там торговца, албанца, — приказала мать. — Отыщи его и узнай, возьмет ли он хозяину что-нибудь печеное. Потом зайди в лавку за ситцем. Они уже там знают, какой дать. Только поскорей, а то потом нам надо будет идти. Поняла?
— Поняла, госпожа!
И старая, высохшая, костистая Магда, одетая в полудеревенское, полугородское платье, быстро обула на босу ногу потрепанные туфли и ушла. Причем вышла она не в ворота, а в калитку, чтобы пройти соседними садами и дворами, повидать всех соседей, с. каждым поздороваться, а уж потом кратчайшей дорогой направиться в «Пестрый хан». А Софка наперед знала, что Магда, даже не спросив албанца, сможет ли он что-нибудь взять, начнет давать ему советы, как все довезти, не попортив и не поломав дорогой. Потом примется рассказывать о них, своих хозяевах: о Софке, о ее матери и отце, а больше всего о дяде, у которого она служила. И не для того, чтобы албанец узнал о всех, так как, по ее мнению, все и так должны были это знать, а для того, чтобы своими рассказами запасть в память посланного и чтобы он, когда станет передавать посылку и поклоны, упомянул мимоходом, что была, мол, там еще одна бабка, и тогда он, эфенди Мита, вспомнит ее и поймет, что речь идет именно о ней, о Магде.
Действительно, скоро Софка увидела в окно, как Магда соседними дворами вышла на улицу, которая вела прямо в торговую часть города, где находились базар и разные постоялые дворы. Боясь опоздать, она чуть не бежала, то и дело поправляя свои короткие, небрежно повязанные волосы. Иногда, утомившись, она замедляла шаг. Сбитые туфли, надетые на босу ногу, мешали, она снимала их на время, брала в руки и бежала дальше. И опять поминутно останавливалась: то ребенок бегал посреди улицы, грозя попасть под лошадь или телегу, и надо было отвести его в сторону, то встречался кто из знакомых, и надо было спросить про здоровье.
Прошло много времени, прежде чем Магда вернулась в сопровождении двух мальчишек из лавки с целой грудой ситца. Софка знала, что Магда нарочно прошла с мальчишками у всех на виду, чтобы соседи могли видеть ситец и позавидовать Софке.
Когда день начал клониться к вечеру, подошла пора собираться на кладбище. Сквозь городской гул уже пробивался звон колоколов. До Софки, сидевшей наверху, доносились с базара крики, блеяние овец, шум, суматоха вокруг разгоряченных коней, грохот повозок. Гам и галдеж на базаре все увеличивались, все там утопало в облаках пыли, которую подняли уборщики, подметая и поливая перед лавками. Видно было, как продавцы бубликов покидают базар. Бегут сломя голову на дороги, откинувшись назад под тяжестью корзин, догоняют покупателей. Карманы, набитые мелочью, выпирают и бьют о ноги. Разинув рот, они кружатся вокруг крестьянок и силой суют им черствые подогретые бублики.
— Горячие, тетка! На двадцать пара три! На двадцать пара три!
Крестьянки убегают от них, прячутся, уверенные, что они их обязательно обманут, но сильнее всего шарахаются от лошадей пьяных мужиков, которые не пропускают на базаре ни одного трактира, в каждом выпивая по окке ракии, а потом несутся как бешеные, из-за пазухи у них вываливаются покупки для домашних, но они знай мчатся вперед, давя на своем пути все, а с особенным удовольствием цыган и цыганок. Цыганки в новых желтых шалях и старых антериях бегут перед ними и, думая их умилостивить, время от времени оборачиваются и униженно просят:
— Хозяин, не надо! Смилуйся, хозяин!
— А ну прочь с дороги! — орут мужики. Лошади встают на дыбы, и цыганки в смертельном ужасе разбегаются куда попало.
Внизу суетилась Магда. Не в силах дождаться, когда оденется мать, она взяла корзину с едой и угощением, приготовленными для кладбища, и вышла к воротам. Корзину она поставила себе на голову, так что края шелкового полотенца, наброшенного на корзину, почти закрывали ей голову. Взбудораженная шумом и криками, несшимися с базара, она поминутно заглядывала во двор и звала:
— Идем, госпожа, все уж пошли!
И действительно, слышно было, как на верхних улицах, в соседних дворах и на боковых улицах, где не было толчеи, стучали калитки, и замужние женщины, старухи и слуги выходили и направлялись на кладбище. Некоторые, проходя мимо Магды, спрашивали:
— Пошли, Магда! Госпожа Тодора ушла уже?
— Нет, нет! Сейчас, — отвечала Магда, переступая с ноги на ногу.
Между тем Софка в кухне снаряжала мать. Даже ей было приятно, что мать, одетая во все новенькое, в шелковой антерии, лаковых туфлях, дорогой темной колии, мягко облегающей ее талию, выглядела такой красивой и моложавой. Только вот глаза от одной мысли о кладбище и предстоящем плаче увлажнились и губы горели. Но Софка понимала, что этому была и другая причина — приезд отцова посланного. И хотя отец не передавал, что приедет, появление гонца возбудило предчувствие и надежды, что, может быть, теперь, на пасху, он после столь долгого отсутствия наконец обрадует их приездом. И потому мать, чувствуя себя виноватой перед Софкой за эти свои надежды и мысли о муже, как бы стыдясь своей слабости, отворачивалась от дочери, прятала глаза и вырывалась, недовольная тем, что та так долго ее наряжает.
— Будет, будет, Софкица! — поминутно останавливала она дочь, хотя видно было, что она тоже рада, что платье ей к лицу.
Повязав матери шаль так, чтобы лучше подчеркнуть ее полные щеки и овальный подбородок, и накинув ей на плечи белый мягкий шелковый платочек, она проводила ее до ворот.
Затворив за матерью и Магдой ворота, Софка быстро, почти бегом, поднялась наверх и из окна стала наблюдать за ними. Мать шла с горделивым и счастливым видом, чуть переваливаясь, поводя плечами, и раскланивалась с каждой соседкой, выходившей из своего дома. Женщины присоединялись к ней и шли либо рядом, либо позади. Вон и тетя Симка — ее дом стоит на соседней улице, — смуглая, худая женщина, давно уже вдова. Она все ходит по судам и судится с крестьянами, не в силах поверить, что ее покойный муж мог действительно столько растратить, а землю распродать мужикам, ничего не оставив ни ей, ни детям. Она выходит с младшим сыном и, едва завидев Тодору, подходит к ней и целует руку. И Софка знает, что она при этом говорит:
— Как поживаешь, госпожа? Сегодня у меня был суд, так еле-еле поспела вовремя, чтобы идти на кладбище. — И дальше уже идет с матерью.
Как всегда, мать шествует в толпе женщин впереди всех, как бы предводительствуя; наконец, свернув в боковую улицу, они скрываются из виду. А Софка, изогнувшись, продолжает смотреть в окно, чувствуя как шальвары тяжело облегают ей бедра, а лопатки соприкасаются друг с другом. Вдруг она вздрогнула. Заходящее за горы яркое, горящее, как кровь, солнце заливало город снопами лучей; они гасли в окнах, переливаясь багровыми отблесками от красных ковров. Городской шум постепенно стихал. Над базарной площадью в освещенном еще воздухе поднималось и дрожало облачко пыли. Снизу же, из дома, из кухни и большой комнаты, и даже со двора и из сада, не доносилось ни звука. Софка вздрогнула, встревоженная этой внезапной тишиной и спокойствием надвигавшихся сумерек; раздувая ноздри, она вдыхала свежесть, шедшую из сада. В саду шелестели листья; от травы и цветов исходил влажный, крепкий запах.
Она знала, что все эти ароматы, с каждой минутой усиливаясь, проникнут к ней сквозь тишину. А тишина будет все глубже и шире. Словно утомившись от дневных дел и совершив положенное, жизнь медленно отступит, чтоб отдохнуть в ожидании вечера и ночи. Лишь изредка слышался запоздалый скрип коромысла у колодца, шаги на улице. Слуга или мальчик из магазина поспешно проходил с покупками, которые хозяин сделал на базаре; чаще всего это были выглаженные фески на болванках или новые, сшитые у портного платья. В наступающем сумраке разливалась тишина и только в церквах, как городских, так и окрестных, продолжали звонить колокола. В эту пору Софка всегда испытывала особенно сильный страх. Поэтому она, хотя и знала, что заперла ворота, все же, накинув на голову платок, спустилась вниз. Торопясь, пока еще было видно, она с трепетом вошла в кухню, чтобы закрыть дверь в большую комнату. Туда она не решалась входить, так как в глубине было совсем темно. Затворив за собой и кухонную дверь, Софка почувствовала облегчение. Дойдя до ворот и убедившись, что и они хорошо заперты, она пошла назад, успокоенная и умиротворенная.
Как всегда, когда она в такие вечера, заперев ворота, оставалась одна и шла мимо колодца, ее охватывало сладостное томление. Она уже не решалась подняться на второй этаж и сидеть в комнате одна, так как знала, что на нее сразу найдет «ее настроение». Знала, что, хотя мать пошла на кладбище, что сейчас страстная, скорбная неделя, когда даже улыбаться грех, состояние сладостного возбуждения, как это ни грешно, еще сильнее овладеет ее существом.
И чтобы избавить себя от греха, Софка, делая вид, что занята чем-то, стала слоняться по двору, главным образом у ворот, до которых доходил шум города, придававший ей храбрости. Из сада потянуло живительной, ласкающей прохладой. С кладбища продолжал доноситься тяжелый, размеренный звон колоколов, мучительно отзывавшийся в душе Софки. Неизвестно почему, ее бросило в жар. Она не решалась войти в кухню, а тем более в спальню, большую мрачную комнату на первом этаже со шкафами в стенах и домашней баней. В страхе ей мерещилось, что из шкафов может кто-то вылезти. Против воли она все же побежала наверх. Села у окна на тахту среди мягких, взбитых красных подушек. Тело ее горело, лоб и руки были в поту. Она боялась двинуться, а тем более встать и закрыть окна и двери.
Кто знает, сколько времени она бы просидела так, если бы снизу не послышался стук в ворота. Негромкий и легкий, он мог принадлежать только человеку усталому, не желавшему привлекать внимание прохожих и слабо ударившему разок-другой, лишь бы его услышали в доме и поскорее отворили. Вслед за стуком послышался утомленный голос матери:
— Софка, отвори!
Обрадовавшись, Софка пошла отворять. Да и пора было им с Магдой вернуться, потому что от стен ограды уже веяло запахом накопившейся за день пыли. Но пока она сошла вниз и неторопливо направилась к воротам, Магда, как всегда шедшая напрямик дворами, чтобы прийти раньше матери и отворить ей ворота, и теперь, оставив корзину на кухне, опередила Софку.
— Постой, Софка, я сама, — сказала она, отстраняя Софку и отворяя ворота.
Мать ждала, с трудом переводя дух от усталости, слез и обилия съеденного на кладбище.
— Пришли? — коротко спросила Софка, беря у матери полотенце, в которое, когда они шли на кладбище, были завернуты свечи, базилик и другие цветы, а теперь — печенья и прочие гостинцы.
— Пришли! — ответила мать, входя во двор.
Софка задержалась у ворот, чтобы их запереть. Она слышала, как Магда побежала вперед, чтобы поспеть в дом прежде матери, убрать все с дороги и зажечь свечу, дабы хозяйка не споткнулась обо что-нибудь в полумраке. Софка вошла вслед за ними, раздраженная и усталая от пережитого страха.
Магда уже возилась на кухне. Разожгла огонь в очаге и разбирала большую корзину, которую несла на голове. Она была набита остатками пирогов, которые не удалось раздать на кладбище, а также пирогами и гостинцами, полученными в обмен на то, что они раздали по соседним могилам. И как всегда, когда она возвращалась с поминок, Магда после большого количества выпитой ракии ежеминутно прикладывалась к кувшину с водой. Чтобы не запачкать кувшин, она ловко ставила его на согнутый локоть и таким образом подносила ко рту и пила полными глотками. Затем, так и не утолив жажды, делала передышку. Вода ей казалась приятной и вкусной вовсе не после ракии, выпитой на кладбище; из других колодцев она вообще отказывалась пить, считая, что вода из них никуда не годится и не может идти ни в какое сравнение с их водой. Вздыхая, она приговаривала:
— Ох, и хороша же наша вода! Нигде такой нет!
Чтобы замять неловкость, Магда обернулась к Софке и стала, по своему обыкновению, рассказывать, как было на кладбище: кто какой пирог спек, какое угощение принес; кто пришел рано, кто поздно; кто как плакал и причитал; какого покойника больше поминали: мужа, отца, единственного сына, и до какого времени плакали; кто как был одет. Говорила она главным образом о матерях тех Софкиных подруг, которых, как Магда угадывала, та не любила, и больше всего о Миленковой и Трайковых.
Мать, усталая после кладбищенской суеты, перебила Магду:
— Иди ужинать, Софка! Магда, подай!
Софка не успела ответить, как мать, кивнув головой на корзину с едой и пирогами, стала ей говорить:
— Бери, бери, поешь, хоть попробуй. Ведь знаешь, что и тебе надо поесть за помин души.
Не желая спорить с матерью, Софка согласилась.
Она не любила есть то, что приносили с кладбища. Пироги всегда отдавали запахом ладана, восковых свечей и сухих, полуистлевших венков самшита с могильных крестов. Ей даже слышался запах кладбищенской земли. Магда взяла широкий, низкий стол и, нагнувшись над ним, понесла его к Софке, отталкивая ногами все, что попадалось ей на пути. В середине стола лежал огромный кусок пирога, выделявшийся белизной муки, сдобностью и обилием брынзы.
— Поешь, Софка, — стала потчевать ее Магда, показывая головой на пирог. — Это тебе тетя Стоя послала, уж так она меня просила кланяться тебе и передать, чтоб ты отведала ее пирога, — другим она ни кусочка не дала, только для тебя и пекла.
Мать сочла это безумием и ревниво возмутилась: как будто она сама не может испечь пирога по вкусу дочери; надо это делать сестре, у которой куча детей, а всего добра — домик с виноградником, да и муж к тому же почти поденщик. Мать принялась бранить Магду:
— И зачем только ты брала? Да еще такой кусок, чуть не половина противня? Самой есть нечего, а другим дает…
— Да ничего не могла поделать, госпожа, — оправдывалась Магда, — подошла к ней, а она уж ждет не дождется: «Садись, Магда! Давно не видались!» И давай угощать: то ракия, то то, то другое, и тут же пирог этот сует. Она его загодя приготовила и завернула в полотенце. «На, Магда! Для Софки. Из самой белой муки. На одном молоке и яйцах. Знает тетка, что любит Софка, вот и испекла для нее. И смотри кланяйся нашей Софкице как следует. Давно уж не видала ее тетка! Денька через два постараюсь улучить минутку, зайти повидать ее…»
Матери все это уже было известно, и она махнула рукой, чтоб Магда замолчала. Софка от всего, разложенного на противне, отщипывала понемногу кончиками пальцев и чуть касалась губами. Только теткиного пирога поела побольше.
Мать едва могла дождаться, когда Софка кончит ужинать. Как только она перекрестилась, стряхнула крошки с подола и отодвинулась от стола, который Магда снова унесла на кухню, мать поднялась и начала раздеваться.
— Ну, Магда, стели, — приказала она, раздеваясь. Она развязала платок, освободив голову и полную шею со следами туго стянутых концов платка; сняла антерии, безрукавки и пояса, чтобы дать отдых груди, полным рукам и плечам, еще вполне сохранившим свежесть и привлекательность, несмотря на годы.
Магда тем временем вытаскивала из стенных шкафов свернутые постели, подушки, тюфяки и стеганые одеяла. Тюфяки были дорогие, тяжелые, из чистой шерсти, но старые, и хотя были обшиты совсем новым чистым холстом, нельзя было не ощутить крепкого запаха старых, латаных и перелатаных, плотно слежавшихся матрацев. От того, что они вечно лежали на одном и том же месте, и от ежедневного употребления они только что не покрылись плесенью. Такими же были подушки, длинные, взбитые, но с буграми. То же можно было сказать и о ватных одеялах, когда-то подбитых шелком, тяжелых, теплых, но уже поредевших и тонких.
Постелив постели, Магда принесла и поставила у изголовья кувшин свежей воды, заткнув горлышко листьями; потом унесла на кухню свечу, чтобы Софка с матерью могли в темноте раздеться совсем и лечь. Прежде чем лечь самой, она загасила и залила огонь в очаге, чтобы ночью не вспыхнула искра и, не дай бог, что-нибудь не натворила, не ровен час дом подожжет.
Софка и ее мать раздевались молча. Мать была готова первая. Кое-как перекрестившись и наскоро пробормотав молитву (Софка, как всегда, слышала только конец: «Господи, боже мой, пресвятая богородица, помилуй мя…»), она быстро легла, укрывшись с головой одеялом. И тут же, вздохнув и как бы освободившись от всего, заснула. Слышно было, как в глубоком сне она причмокивает и попыхивает. Софка, обмотав старым платком свои густые волосы, чтобы за ночь они не спутались и утром не пришлось бы их снова расчесывать, легла рядом. Она накрылась тоже дорогим одеялом, но столь вытертым и тонким, что оно отчетливо обрисовывало ее фигуру; а так как она лежала на боку, вытянув руки вдоль тела, хорошо были видны ее округлые бедра и ноги.
Сон не шел. Пальцы на руках горели, ночь становилась все глуше, темнее. Мать давно спала. Из шкафов, в которых лежали постели и которые забыли закрыть, несло холодом, из кухни от очага, залитого водой, — запахом влажного пепла, развеявшегося по комнате. И только с верхнего, этажа сквозь трещины в потолке проникал сухой дух старых досок, дранок и деревянных украшений на полках в комнате и на веранде. И все это глубже и глубже погружалось в ночь и темноту и лишь прерывалось неожиданным звоном противней или медных тазов, задетых мышью, и скрежетом мышей под ларем и квашней. Но все эти звуки покрывал храп Магды, спавшей в глубине кухни у очага. Она спала, как всегда, подложив руку под голову, не раздеваясь, даже туфель не скинув, — ведь, господи боже мой, завтра чем свет она должна встать, подняться раньше всех, ее ждет столько работы!
VI
В канун пасхи, в субботу вечером, Софка заметила, что у ворот, как и всегда в это время, появился старший сын Магды. Закупив в городе все, что ему было надо для дома, он на обратном пути завернул к ним.
Магда не пустила во двор его неказистую лошаденку. Вошел только он, а лошадь потихоньку, чтоб никто не видел, Магда провела за дом в самую глубину сада и, привязав к сухому дереву, оставила с охапкой сена подремывать, пока хозяин ее сделает положенное: нарубит дров, принесет из источника воду в больших сосудах, подметет двор и выполет траву перед домом… А к вечеру, когда начнет темнеть и весь город огласится блеяньем ягнят, он должен будет пойти и купить на свои деньги самого лучшего и откормленного ягненка, которого тут же, у ворот под тутовником, накинув на него старую, смазанную жиром веревку, заколет и освежует. Пролитая же кровь так и останется на камнях, чтобы завтра гости видели, что барашек заколот, а не куплен в мясной. Переделав все дела, уже совсем поздно, так и не показавшись на глаза хозяевам, он уедет в село. И, как всегда, можно будет слышать, как Магда, провожая сына, наставляет его:
— Завтра смотри встань пораньше, первым приди сюда с поздравлениями, да как следует приготовь поросенка и неси аккуратней, смотри ничего не забудь!
— Хорошо, маменька! — ответит тот, целуя матери руку.
— Да чтоб Стая (жена сына) не перепекла лепешки. Чтоб из лучшей муки делала. А мне нацеди да принеси кувшин нашей ракии: не могу я пить здешнюю, «городскую».
Порывисто обняв сына и горячо поцеловав его, она закончит:
— Ну, желаю вам встретить светлый праздник в счастье и добром здоровье! Всех поздравь! Чтоб все здоровы и веселы были!
— Спасибо, маменька! Хорошо, маменька! — ответит сын, украдкой целуя ей руку, чтобы Софка или ее мать не увидели и не высмеяли их «мужицкую» любовь; пойдет за дом, отвяжет лошадь, сядет на нее и уже в темноте отправится в деревню, довольный и веселый.
Мать и Магда всю ночь не спали, занятые стряпней и уборкой. Софка давно уже покончила с комнатами наверху; ее ждали обновы, сшитые из принесенного ситца. Короткая, довольно открытая безрукавка с желтой окантовкой и шальвары с кругами из того же золотисто-желтого шнура около карманов и внизу. Софка еще вчера их примеряла, чтобы посмотреть, впору ли они ей. Но они оказались неудобными, шнур и новая ткань еще не обмялись, топорщились и кололи. Шальвары словно не на нее шились: они стояли колом и были такими широкими, что она их на себе почти не чувствовала, и потому ей казалось, что на ней вообще нет ничего.
На другой день, на самую пасху, залитый солнцем, убранный и принаряженный дом рвался ввысь и сверкал своей старой пологой крышей с покосившимися, но чисто выбеленными трубами, протертыми окнами, вымытыми дверями на верхнем этаже и желтой, как воск, от частого мытья старой лестницей. С крыши дома открывался вид на поля, сады, нивы и дорогу, которая вела в город и, минуя их дом, подымалась к базару. Перед домом и за ним тянулся город с церковью, башней с часами, базарной площадью, холмами и виноградниками; все это можно было видеть с верхнего этажа, тогда как сам дом за высокими двустворчатыми воротами не был виден. Однако теперь, как обычно по праздникам, ворота были распахнуты настежь, створки подперты двумя большими камнями, и весь дом был на виду. Чистый, прибранный, выставленный словно напоказ, он был готов принять гостей из внешнего мира. И чем сильнее разгорался день, тем все ярче и горячее светило солнце, несся все более громкий и взволнованный перезвон колоколов, а из домов на улицы высыпало все больше людей, многие из которых направлялись к ним, а Софка, мать и Магда все более торопливо и испуганно метались по дому, бегая то вниз, то вверх по лестнице.
Они были готовы. Даже Магда оделась совсем как подобает: повязала голову новым платком и застегнула рубашку доверху. А ничего хуже застегнутой доверху рубашки она не знала. Кроме того, на ней была новешенькая широкая крестьянская юбка и на ногах новые чулки. Только вот туфель она так и не надела, и все из-за новых чулок, в которых и без того жарко. С улицы было видно, как она поминутно выбегала из кухни за дровами. Наверху, посреди гостиной, стояла, скрестив руки на поясе, мать. Она была в шелковой антерии и в новой тонкой шали. Возбужденная, радостная и немного испуганная, она беспрестанно шевелила губами, на ее округлом, полном лице выступил румянец. Не присаживаясь, она то и дело наливала себе кофе. Чтобы было мягче ступать и не было слышно шагов, в комнате, по случаю праздника, поверх циновок разостлали большой старый ковер с изречениями Соломона. Ковер не только покрывал всю комнату, но даже был велик для нее, так что его пришлось подогнуть по краям. По всем стенам тянулись диваны с подушками, покрытые мохнатыми красными ковриками, свисавшими до полу. На полках выстроились тарелки, кувшины, чашки, графины и прочая утварь для питья и угощения. Все это, правда из старого золота, было вымыто и начищено и выделялось своей яркой желтизной на фоне красных ковров. Помимо двух окон с короткими занавесками, выходившими на площадь и церковь, и двух на противоположной стене, смотревших на поля, сады и дорогу, комнату делали еще нарядней и просторней развешанные по выбеленным стенам легкие шелковые полотенца. Они были расшиты старинными узорами и золотом. Хотя они уже и потемнели от копоти, стоило кому-нибудь войти, открыть или закрыть дверь, как они приходили в движение, отчего в комнате всегда веяло холодком и свежестью.
Софка еще не совсем оделась и не спешила, так как знала, что первыми придут крестьяне, их бывшие испольщики.
И действительно, первыми пришли крестьяне. Они появлялись из сада, оставив там лошадей, и первым делом шли на кухню, причем каждый непременно с погачей или каким другим подарком. Затем робко поднимались наверх к матери и там, присев на корточки у стены и отодвинув ногами, чтобы не запачкать, ковер, с нетерпением ожидали конца церемонии, когда их обнесут угощением и поговорят с ними, чтобы снова вернуться на кухню, к Магде. Тут они рассаживались у очага на низенькие скамеечки и потягивали ракию, которую Магда грела и пила вместе с ними. Когда начали приходить городские гости, крестьяне то и дело, придерживая под собой скамеечки, приподымались, вытягивали шеи и с благоговением смотрели, кто как одет, как непринужденно гости поднимались по лестнице, располагались в комнате, пили и разговаривали, да так громко, что и у них на кухне было слышно.
Пока приходили крестьяне, Софка не одевалась. Она возилась внизу в спальне. Разглядывала свои наряды, сережки, выбирала, что надеть. Когда же звон колоколов стал расти и разливаться по городу заключительными аккордами, когда с улицы донесся шум шагов и громких разговоров и мать, увидевшая сверху, что перед церковью черно от выходившего народа, начала торопить Софку: «Скорей, Софка! Пора, Софка! Каждую минуту могут прийти!» — только тогда Софка принялась одеваться. Она почувствовала легкое волнение от прикосновения тонкой чистой рубашки, отливавшей желтизной шелка, от длинных шальвар, как все новые вещи, более тяжелых, чем обычно, и падавших от пояса крупными складками. Только вот с безрукавкой ей пришлось помучиться. Она была чересчур открытой и чересчур тесной; с трудом застегнув ее, Софка пошевелила плечами и бедрами — не лопнет ли где. Голову она небрежно повязала темной шелковой косынкой. В уши вдела материнские — семейные — золотые серьги с крупными дукатами, скрепленные тонкой и длинной золотой цепочкой с золотой же застежкой посередине, которую она приколола на затылке к платку, так что половина цепочки своим холодным прикосновением щекотала ей шею и спадала на плечи. Ей не захотелось причесываться гладко, и она оставила несколько завитков на лбу и несколько за ушами; это оттеняло лицо и делало его еще более овальным. Из цветов она выбрала лишь букетик свежих, сорванных в саду гиацинтов с белым тюльпаном посередине. Приколола их не около лба, как обычно, а на затылке. Увидев, как все это ей к лицу, она, улыбаясь, вышла на кухню, наполнив ее ароматом цветов.
Крестьяне встали в немом изумлении. Подошли было к ее руке, но она не дала. Все с той же улыбкой, щурясь от удовольствия, Софка в лаковых туфлях с пряжкой и на высоких каблуках, которые она очень любила, потому что в них шальвары не касались земли и не поднимали пыли, пошла к матери.
По обычаю, она поздравила мать с праздником и поцеловала ей руку. Мать, восхищенная, и пораженная, — кто знает, какие мысли пришли ей в голову, когда она увидела, как хороша ее дочь и как просто и со вкусом она одета, — осторожно обняла ее, чтобы не испортить и не помять прически или наряда, и поцеловала не в лоб, по-матерински, а в губы, как сестра.
— Воистину воскресе, доченька! С праздником и тебя, будь здорова и счастлива!
Софка с большим подносом, покрытым вышитым полотенцем, спустилась снова в кухню, чтобы расставить на нем стаканы и чашки для гостей.
Тем временем Магда выскочила из кухни и полетела к воротам. В воротах стоял «дедушка», поп Риста. Постукивая перед собой палкой, он шел, опираясь на плечо мальчика. Полуслепой, согбенный, с длинной, почти желтой от табака и чубуков бородой, с густыми седыми прядями волос на лице, священник трясся от старости и с беспокойством озирался, туда ли он попал. Изрядно поношенная ряса свободно болталась на его плечах.
Магда подошла к его руке и похристосовалась с ним. Он, мигая, пристально вглядывался в нее, силясь припомнить, кто это, так что Магда, переминаясь перед ним с ноги на ногу, сама помогла ему.
— Это я, дедушка. Я, Магда, Магда.
С трудом, словно сквозь сон, он вспомнил ее и хриплым от старости и затворнического бдения, но все еще громким голосом сказал:
— Ах, это ты, Магда? А я никак не мог тебя признать.
Магда повела его в дом. Мать торопливо, обрадованная, что он не забыл их и по-прежнему пришел навестить их первыми, сошла вниз и бросилась ему навстречу.
— Спасибо, дедушка! С праздником, дедушка!
Поцеловав ему руку и поддерживая его, она повела его уже сама. А он, трясясь, опираясь на ее руку и постукивая перед собой палкой, шел, бормоча словно спросонок:
— Ох, ох, Тодора! Как живешь, Тодора? Что поделываешь, Тодора?
Софка тоже выбежала, обрадованная его приходом, и поцеловала ему руку. Сопровождаемый женщинами, он подошел к лестнице и остановился.
— Не смогу я наверх. Лучше уж мне внизу, на кухне, остаться, трудно мне, — принялся он отговариваться.
— Сможешь, сможешь, дедушка.
Поддерживаемый обеими хозяйками, он полез наверх. Одну ногу старик легко ставил на ступеньку, а со второй дело шло хуже, он с трудом подымал ее и ставил рядом с первой. От него несло нюхательным табаком и еще каким-то застарелым сухим, дурманящим запахом. Когда наконец он доплелся наверх и его усадили на тахту, священник, почувствовав себя устойчиво, заговорил:
— Ну, как поживаете? Что поделываете? Живы, здоровы? А я вот, — продолжал он все тем же тягучим голосом, словно про себя, — никак не помру, никак на тот свет не попаду. И бога о том прошу, а он все не хочет меня прибрать. Тяжко мне, Тодора. Невмоготу прямо. Не вижу, не слышу, да и своим помеха.
Он стал жаловаться, как жалуются все дряхлые старики, не потому, что им надоело жить, а потому, что замечают, насколько они теперь лишние в доме, как все домашние махнули на них рукой, запрятав в дальнюю комнатушку. Пусть сидят там безвылазно да пьют и едят, что принесут; из-за старости и всевозможных немощей ни дочери, ни снохи за ними не ходят, даже в комнату боятся войти, одни слуги, и то только мужчины, имеют с ними дело. Но вдруг старик остановился, сообразив, что неладно, особенно в такой день, говорить о себе, и начал расспрашивать о хозяине, об эфенди Мите, которого он крестил, а потом и венчал с Тодорой и с отцом которого, свекром Тодоры, они были неразлучными друзьями с самого детства.
— А что мой Митица? Где он? Здоров ли? Почему никогда не зайдет повидаться со мной, когда приезжает? Сколько раз спрашивал я своих и о нем и о вас, а они то ли не отвечают, а может, и отвечают, да я не слышу и думаю, что они ничего не говорят.
— Здоров, дедушка, здоров! — кричала ему в ухо Тодора. — Три дня, как был от него один албанец. Всем кланяется, прислал немного денег к празднику, а Софке шелку и ситцу. Приехать еще не может. Дела не пускают.
Тут вошла Софка с подносом, и мать замолчала. Пока Софка угощала священника традиционным вареньем, улыбаясь его беспомощности, — он не видел, что она ему давала, пожелтевшие, костлявые пальцы его дрожали, и ей пришлось самой класть ему ложку в рот, — мать скрутила сигарету и, зажженную, вложила ему в пальцы. А когда Софка, зная его пристрастие, предложила ему не один стаканчик ракии, как прочим гостям, а поставила на столик, придвинутый к его коленям, сразу пять или шесть, и мать, не успевал он докуривать одну сигарету, уже потчевала его другой, — священник совсем разомлел, распахнул рясу и, блаженствуя, принялся благословлять хозяев, какими только ласковыми именами их не называя.
Однако мальчик, который его привел, стал кричать снизу, что им пора домой. Софка и Тодора тут же поняли, что старику больше не надо давать пить, что домашние послали мальчика не только как поводыря, но и с тем, чтобы тот не разрешал старику засиживаться, — боялись, как бы он не вошел во вкус и не отправился с поздравлениями по другим домам, где бы и напился. Они знали, что, представься старику случай, он не упустит его; несмотря на старость, он был прожорлив, как ребенок.
Теперь он двигался легче и свободней, и не столько из-за того, что его поддерживали Тодора и Софка, сколько из-за ракии и из-за того, что он не поднимался, а спускался. Он сошел почти самостоятельно. Проводив его до ворот, Софка и Тодора видели, как он, согбенный, опираясь на палку, идет, не позволяя мальчику вести себя и даже размахивая свободной рукой.
В это время стали приходить разные тетки, дядья и соседи. Появились и музыканты. Их угощала внизу Магда, она же им говорила, что играть и как долго, и сама их провожала.
Дом наполнили гости. Софка то и дело спускалась в кухню за ракией и кофе. Вскоре полка в гостиной была полна принесенных апельсинов и лимонов. Дети на кухне получали от Магды красные яички и пирожные. Мать, сияя от счастья, потчевала гостей табаком и каждому рассказывала о муже, об эфенди Мите. И делала она это с таким усердием и восторгом, словно он только сейчас вышел из комнаты по какому-то делу.
Софка, тоже радостная и счастливая, бегала вниз и вверх по лестнице. В новом наряде, раскрасневшаяся от беготни, она, улыбаясь, потчевала гостей, стараясь не замарать платья. Больше всего забот ей доставляла чересчур открытая и тесная безрукавка. Нагибаясь у очага, чтобы налить кофе в чашки, она должна была все время оттягивать рубашку, иначе та поднималась, раздвигалась и открывала грудь с темной ложбинкой посередине. Когда она двигала рукой, расставляя чашки на подносе, то под безрукавкой, слегка вырезанной на спине и под мышками, отчетливо выделялась округлая лопатка.
Обедали поздно и не вместе. Из-за множества гостей мать поела внизу, даже не присаживаясь, а потом, пока обедала Софка, сидела наверху и принимала гостей. Приходили и после обеда. Вся родня без исключения перебывала у них в этот день, ни один человек не забыл о них. А уж когда прошел слух, что приезжал посланный хозяина, то и вечером, до глубокой ночи, продолжали приходить с поздравлениями.
VII
Сразу вслед за посланным отца, первым после стольких лет перерыва, к их радости, но еще к большему удивлению, стали наезжать и другие, привозя поклоны и сообщения, что он здоров.
Между тем Софка видела, что мать все же не радуется этому, как следовало ожидать: неожиданно частые появления гонцов, поклоны, привозимые ими от отца, их непривычная нежность начали смущать ее и тревожить. Мать жила в постоянном страхе и трепете. Софка скоро поняла, в чем дело. Мать давно уже примирилась с мыслью, что рано или поздно все выйдет наружу, что отец окончательно их покинет, если не явно, то, во всяком случае, тайно; что он, так и не вернувшись к ним и не подавая о себе вестей, умрет, умрет предумышленно, насильственной смертью, чтобы этим поступком скрыть и от них, и от всего света подлинную суть вещей…
Но когда стали появляться его посланцы, причем не один, а уже третий и четвертый, мать испугалась, решив, что эта внезапная нежность вызвана болезнью. Наверное, он тяжело заболел и, предчувствуя скорую смерть на чужбине, в одиночестве, хочет этим как бы приблизиться к ним, дать им понять, что, хотя он и оставил их, они ему дороже всего на свете. И Софка видела, что мать, уверенная, что отец лежит при смерти и потому, как бы прощаясь с ними, шлет гонцов, и, не находя тому подтверждения у самих гонцов, ибо все они говорили, что он здоров, а между тем она твердо знала, что он им просто приказал так говорить, тайком от всех и даже от Софки послала к нему своего человека, крестьянина, которого ей нашла Магда. Чтобы тот не догадался, зачем его посылают, мать устроила так, будто его посылает не она, а Магда. Разумеется, когда он перейдет турецкую границу и найдет эфенди Миту, на глаза ему он не должен показываться. Достаточно только узнать, здоров ли он, на ногах ли, и ничего больше. Никаких расспросов: как выглядит, как одет, где живет, с кем видится. Крестьянин отправился, как ему было сказано, нашел эфенди Миту и удостоверился, что тот здоров. Этого было достаточно.
Но больше всего успокоило мать то, что крестьянин встретил эфенди Миту, к своему удивлению, сразу, как только перешел границу, в одном из придорожных постоялых дворов. Значит, он был совсем близко, а не бог весть где, быть может, даже у моря, как они думали.
Но успокоилась мать ненадолго. Отец не только продолжал слать гонцов с поклонами, но иногда начал и в самом деле присылать немного денег и подарки для Софки, чем прежде они так любили хвастаться. Это еще больше напугало мать. Она знала, что ни о каких прибылях и заработках не могло быть и речи. Но, зная также и то, что если он решится на что-нибудь, пусть даже на самое плохое и страшное, то пойдет на все и ей останется только покориться, она от страха и дурных предчувствий чуть не заболела. Никакие все более прочувствованные приветы и щедрые подарки не помогали.
И когда однажды вечером неожиданно нагрянул посланный и по секрету сообщил матери, что они могут надеяться на скорый приезд отца, что не сегодня завтра он наверняка приедет, но что он приказал, чтобы никто об этом не знал и никого из посторонних в доме не было, мать совсем растерялась и едва не лишилась чувств от страха. Но стоило Магде радостно вскрикнуть и побежать к воротам, чтобы, по обыкновению, все разболтать соседям, как мать вскочила и бросилась к ней; чуть не задушив ее в своих объятиях, она шепнула ей так тихо, чтобы даже Софка не слышала:
— Молчи! Почем знать, зачем он приезжает!
Опасаясь, как бы сумасшедшая Магда не вырвалась и не побежала трубить по всему околотку, она почти втолкнула ее в кухню и там заперла. Сама же, перепуганная, не зная, что делать, стала ходить взад и вперед по саду перед домом.
Софка поняла, почему мать так перепугалась, — то, чего она раньше только боялась, сбылось: отец продал дом. Поэтому он посылал с нарочным деньги и подарки, а теперь вот приезжает, чтобы передать дом покупателю, а их увезти с собой в Турцию.
Отец приехал в ту же ночь.
Все было, как он приказал. Никакого освещения. Все двери в доме были закрыты и только наверху, в гостиной, горела лампа, и то прикрученная, чтобы меньше привлекать внимания.
Когда в полночь запели петухи и все вокруг погрузилось во мрак и тишину, раздался стук дверного кольца. Стук был такой легкий и тихий, что у Софки сердце замерло при мысли, что это он. Мать, уже готовая ко всему, почти спокойно поднялась и пошла отворять. Магда же, потеряв голову от волнения, трижды споткнулась, разбила кувшин на кухне и на неверных ногах выбежала в сад за дом.
А от ворот послышался тихий, спокойный голос:
— Ну как? Все живы-здоровы?
Софка, ожидавшая отца на пороге с высоко поднятой над головой свечой, так и замерла, услыхав голос у ворот, не в силах двинуться с места. Слезы душили ее. Ей хотелось броситься навстречу отцу, повиснуть у него на шее, обнять и от радости, что он наконец здесь, после стольких мучений, которые они из-за него претерпели, выплакаться у него на груди.
— Папенька, папенька милый!
А он, как нарочно, шел с матерью от ворот медленно-медленно. Шел спокойно, отряхивая и разглаживая штаны, смятые в экипаже, словно он только сегодня уезжал куда-то по делу и теперь вот возвращается.
Мать молча шла за ним и освещала дорогу. Продолжая отряхиваться, он окидывал взглядом двор и, узнавая в темноте отдельные предметы — сирийский тутовник у ворот, лестницу, а под ней дверь в погреб, — говорил как бы про себя:
— А… все на своем месте!
Когда отец подошел к Софке, она вспотевшей от волнения рукой взяла его худую и холодную руку, поцеловала и проговорила:
— Добро пожаловать, папа!
От неожиданности он отпрянул, но потом взял себя в руки. Он словно не ожидал, что она так выросла и похорошела, но, удивляясь и любуясь ею, он только похлопал ее по щеке, поцеловал в голову и сказал:
— Как поживаешь, доченька?
И вошел в дом. Всем было невыносимо тяжело. Мать шла за ним словно окаменелая. Он все еще оторопело озирался, оглядывая кухню, ряды посуды на полках, соседнюю комнату.
Отец принес с собой в дом лишь крепкий запах нюхательного табака да лежалого пропыленного платья: широких штанов, короткой верхней куртки и минтана с широкими рукавами. Все это, как и прежде, было из сукна. И хотя ряды тесьмы, начинавшиеся у пояса и спускавшиеся по краям минтана, при свете свечи лоснились, сам минтан был шелковый и дорогой. Отец очень переменился. Лоб стал более выпуклый, лицо как-то сузилось, в подстриженных усах появилась проседь, на морщинистой и чуть подбритой шее, по-прежнему обмотанной чистым белым платком, сильнее выступал кадык. Только рот все еще был свежий и влажный.
Софка ожидала, что, когда приедет отец, объятиям, поцелуям и восклицаниям конца не будет, а вместо этого с каждой минутой усиливалась тишина, тягостная неловкость и мучительное безмолвие. И только когда Магда, не смея войти, пока ее не позовут, нарочно стала возиться на кухне, отец, услышав шум, испуганно вздрогнул и, выйдя из нижней комнаты, пошел наверх, в свою комнату.
— Кто там еще? — спросил он.
— Магда.
Он обрадовался, правда не столько Магде, сколько тому, что это был не посторонний человек, который мог бы его увидеть.
— Магда? Разве она еще тут?
К великому огорчению Магды, это было все, что он сказал. Он даже не позвал ее.
А поутру отца уже и след простыл. Бог знает когда, ночью или на заре, он уехал обратно. Но что всего больше удивило и смутило Софку — это мать. Раньше после отъезда отца она бывала встревожена и напугана и на другой день ходила по кухне, тяжело вздыхая. Но на этот раз Софка, проснувшись, не увидела матери ни возле себя, в спальне, ни на кухне. Мать еще не спускалась. Софка, придумав предлог, пошла наверх и увидела, что мать сидит на подушке около постели. Она была неодета, лишь с колией на плечах поверх антерии, без платка. Рядом с ней валялось отброшенное одеяло, смятая простыня, на ковре виднелись следы пропыленных ног отца. Возле подушек стояли блюдечки с табаком, обгоревшими спичками, подсвечник с догоревшей и заплывшей свечой, кувшин с застоявшейся вчерашней водой. Было душно. Занавеси и окна еще не открывались. И Софка поняла, что мать не провожала отца; потому что, если бы она выходила из дома, то, вернувшись, она не могла бы не заметить духоты и табачного дыма и непременно бы проветрила комнату. Но раз она его не провожала, значит, между ними произошло что-то важное и страшное. Наверное, он продал дом и сказал ей об этом. Потому-то она и не может до сих пор прийти в себя. Не может примириться с тем, что должна будет покинуть дом и идти за ним в Турцию или еще бог знает куда.
Софке же стало казаться, что это даже к лучшему. Во всяком случае, лично ей будет на чужбине легче, там никто не знает, кто она и что.
А что она не ошиблась в своей догадке, ей помогла увериться и сама мать. Как только она заметила, что Софка поднимается к ней с каким-то пустячным делом, а в сущности, только чтобы увидеть ее и постараться по ее лицу дознаться, что произошло, как, когда и почему отец опять уехал, она, чтобы избежать ответов на все эти вопросы, не меняя позы и пряча глаза от дочери, сказала только:
— Скоро опять приедет!
Так она и просидела наверху целый день. Не спускалась, не показывалась, словно занемогла. Сошла она лишь на другой день и тут же почти силой погнала Магду под каким-то предлогом в деревню. Софка поняла, что мать боится, что Магда не удержится и разболтает соседям о приезде отца. А между тем в прежние времена мать, наоборот, после отъезда отца нарочно задерживала Магду, уверенная, что в несколько дней, слоняясь по соседям, она оповестит весь город о приезде хозяина и о якобы привезенных им богатых подарках. Тогда это было необходимо, потому что рассказы Магды служили явным подтверждением того, что отец их не бросил, не покинул. И то, что на этот раз мать услала Магду в деревню, Софка восприняла как лишнее доказательство того, что отец в самом деле продал дом. И приезжал затем, чтобы сообщить об этом матери. И наверняка из-за этого сегодня ночью между родителями, должно быть впервые, произошла ссора. Может быть, первый раз в жизни мать воспротивилась, не соглашалась и все ему выложила, а отец, очевидно рассердившись, сразу уехал. И тогда она, тоже впервые, не вышла за ним, чтобы проводить его до ворот и посветить ему, а, словно окаменев, осталась сидеть в одной антерии на постели, где ее и застала Софка. Чтобы не рассказывать Софке подробно, как и когда он уехал, и чтобы по голосу она не поняла больше, чем следует, мать и ответила ей коротко и сухо: «Приедет!»
Что отец действительно продал дом, стало ясно и из дальнейшего. Прежде всего, он обещал опять приехать. Значит, в этот раз он приезжал только для того, чтобы объявить обо всем матери, чтобы у нее было достаточно времени собраться и распорядиться насчет вещей и чтобы, когда он приедет уже вместе с покупателем, можно было немедленно передать ему дом, получить остаток денег и, забрав вещи и мебель, тут же уехать.
Дальнейшее поведение матери только подтвердило догадки Софки. Отныне комнаты верхнего этажа были всегда убраны и готовы к приему гостей. Все сундуки и шкафы открыты, и содержимое их — покрывала, полотенца, ковры и вышивки — тщательно проветривалось и не пряталось снова, как бывало прежде, а развешивалось и раскладывалось наверху по стенам и тахтам. Так было удобнее. Во-первых, в случае отъезда можно будет быстро все собрать, уложить и увезти, а во-вторых, когда приедет тот чужестранец, ему будет что показать: пусть не считает, что они принуждены продавать дом из-за бедности, не то еще передумает и сбавит цену. А так, видя, как хорошо содержится дом, как красиво убраны комнаты, покупатель решит, что они просто не хотят тут больше жить и продают дом, чтобы переехать в другое место, а вовсе не потому, что их толкает на это нужда. Будь это так, продав только ковры и мебель, они могли бы прожить несколько лет. И самому покупателю будет приятно покупать такой богатый и роскошно убранный дом, зная, что его продают не из-за бедности. Все будет выглядеть так, будто они продают этот дом из особого расположения к нему, как к «своему человеку», своего рода слуге или наследнику, которому отдают дом за гораздо меньшую цену, не ради прибыли, а чтобы помочь новоприбывшему — да еще чужестранцу, встать на ноги, обзавестись домом и сделаться заправским хозяином.
Потому-то вся возня матери с уборкой и украшением дома накануне его продажи и нравилась Софке. Она тоже помогала матери, чистила и приводила в порядок двор и сад, чтобы покупатель не заметил какого-нибудь хлама или рухляди, как бывает у простолюдинов, которые, прежде чем выселиться, все издырявят, попортят, а балки, потолочные доски и даже пороги снимут и увезут с собой.
Родственники, по-видимому, обо всем прослышали. Уж кто им рассказал, один бог знает. Софка понимала, что, несмотря на все старания, тайное неизбежно становилось явным. Как только родичи заметили, что дом украшается и прибирается, — словно догадавшись, в чем дело, они стали ежедневно наведываться. Как знать, может быть, мать тайком от Софки сама позвала их и сообщила им роковую весть, умоляя пощадить дочь и ничего не говорить ей до последней минуты.
Именно этим Софка и объясняла себе их странное, необыкновенное теплое к ней отношение. Все они, выходя от матери с убитым видом, не спускали глаз с девушки, словно больше всего сожалели о том, что их покидает Софка, что они ее больше не увидят и что ей, ни в чем не повинной, придется страдать на чужбине.
Одна только тетя Стоя не поддалась общему настроению. Она пришла, расцеловалась с Софкой внизу, и там и осталась, и, лишь наговорившись с ней досыта, пошла наверх к матери и остальным женщинам. Но скоро, очевидно как только тетка узнала о продаже дома, до Софки донеслись ее шумные протесты и брань.
Напрасно женщины, и особенно мать, старались унять ее, чтобы она не кричала и не бранилась так громко — не дай бог Софка внизу услышит, — ничего не помогало. Временами, когда наверху распахивалась дверь, Софка слышала крик, шум и ругань. Все это явно относилось к ее отцу.
— Замолчи!
— Не буду молчать, ну вас! — слышался прерывистый, приглушенный крик тетки, словно множество рук пытались заткнуть ей рот. — Знаю я. Вы думаете, не знаю? Все вижу. Неужели до этого дошло? Неужели она (видимо, Софка) не достойна ничего лучшего? Ну, так я буду и кормить и беречь ее. А ты-то, ты? (Эти слова, видимо, относились к матери.) Языка нет, говорить не умеешь? Почему ничего ему не сказала? Как же, муж он тебе! Лишь бы дорогой муженек был рядышком, а остальное все трын-трава!..
Софка слыхала, что после этих слов на тетку еще больше накинулись и силой заставили ее замолчать.
VIII
На второй день троицы, вечером, сверху, от таможни, вдруг раздались заливистые звуки кларнета, выводившие странную и замысловатую мелодию. Мать, словно только этого и ждала, поспешно выбежала из комнаты.
— Софка, это он!
Софка стала как вкопанная. Не могла поверить. Неужели отец так далеко зашел, что приводит покупателя, которому собирается продать последнее, с музыкой и пением?! Но тут же поняла: он так делает для того, верно, чтоб как можно лучше все скрыть.
Перепуганная Магда бросилась по лестнице зажигать свет на втором этаже. Вскоре перед воротами остановился экипаж, и Софка услышала чужой, но все же знакомый голос:
— Отворите!
Не глядя, в чем они и одеты ли как следует, обе, и Софка и мать, побежали со свечами к воротам.
Отворив ворота, они действительно увидели эфенди Миту, выходящего из экипажа. При тусклом свете свечей лица его не было видно, и они узнали его по одежде. За ним вылез другой человек, крупный, в крестьянском гуне — из-за темноты рассмотреть его сразу не удалось, но, очевидно, это был покупатель дома. Расплатившись с музыкантом и кучером, введя и привязав к тутовнику красивого рыжего оседланного коня, шедшего за экипажем (наверняка это была лошадь покупателя, на которой он уедет после ужина), приехавшие вошли во двор.
То ли от вина, то ли от напряжения, с которым он разыгрывал пьяное веселье, лицо отца было бледным и одутловатым. Войдя во двор, он показал гостю на дом.
— Вот, газда Марко, и мой сераль, дом эфенди Миты. Это моя хозяйка, а это дочь моя, моя Софка, папина дочка!
Протянув матери руку, которую та поцеловала, отец вздрагивающими, морщинистыми руками стал, нежно гладить Софку по волосам и щекам. Ласка эта потрясла ее.
Гость, газда Марко, смущенно пожал матери руку. Софка не знала, как поступить: тоже пожать ему руку или поцеловать? Он не выглядел стариком. Но гость, как бы заметив ее замешательство и желая помочь, сам поднес свою руку для поцелуя.
— Будь здорова, дочка! — сказал он ей.
Затем все тронулись к дому. Софка видела, что гость буквально пожирал глазами дом, который теперь, когда его прибрали, выглядел как-то по-другому, веселее, вырисовываясь в ночной темноте большой четырехугольной массой и сияя огнями окон. Софка заметила также, что покупатель не сводит глаз с матери.
Мать шла впереди, от радости и волнения голос ее слегка дрожал, она пыталась это скрыть — срам проявлять свои чувства при чужих! — и преувеличенно громко отдавала Магде приказания:
— Магда, Магда! Накрывай на стол! Гости приехали!
А Магда совсем растерялась. Не знала, куда деть себя. Когда же она оказалась перед хозяином и поцеловала ему руку, то и вовсе лишилась дара речи. Отец вздрогнул при ее появлении, удивился, но приветствовал ее столь же сердечно:
— А, Магда! Ты еще здесь, Магда?
— Я… я… еще… еще… — заикалась она, почти обиженная его вопросом. — Здесь я, куда же мне деваться, хозяин! Здесь!
— А как твои в деревне, живы, здоровы?
— Живы, живы, хозяин! — суетливо отвечала Магда, стыдясь, что он, ее хозяин, должен думать еще и о ее родных. Гостей ввели в гостиную. К счастью, мать, словно предчувствуя, не убирала ничего, и комната была такой, как в первый день праздника.
Софка знала, как приятно отцу видеть дом хорошо убранным. Как приятно будет ему удивление гостя при виде такого убранства, всех этих тарелок, графинов и кувшинов из старинного золота и серебра, расставленных по полкам и освещенных пламенем двух толстых свечей в высоких подсвечниках. Вся эта утварь была недавно вычищена и блестела на красном фоне мебели, подушек и ковров. По стенам колыхались развешанные полотенца, и это придавало комнате еще большую свежесть и великолепие.
Торопливо расставляя на кухне на большом подносе блюда с едой для отца и гостя, Софка слышала сверху, как гость, пораженный и напуганный приемом, не перестает смущенно извиняться за свое вторжение, отказывается сесть на подушки, опасаясь их запачкать, просит стул и то и дело говорит отцу:
— Ну, Мита, я пойду, не буду надоедать.
Но мать не давала гостю слова сказать. Если бы он приехал даже один, его бы все равно встретили радушно, а уж раз он приехал с самим хозяином… Поэтому она поминутно кричала сверху:
— Магда, несите!
Софка знала, что эти слова относились к ней. Магда уже снесла наверх закуски и ракию и передала их матери, которая, не присаживаясь, стала потчевать гостей. Теперь очередь была за Софкой. Приготовив все, Софка поднялась наверх и внесла в комнату большой серебряный поднос с разными кушаньями. Ставя его перед сидевшими, она нагнулась и увидела, что гость не спускает с нее глаз, в особенности, когда косы ее упали, открыв точеные линии ее тела. Быстро выпрямившись и закинув косы за плечи, счастливая и зардевшаяся, она спустилась на кухню к Магде. А та, ни о чем не подозревая и меньше всего думая о продаже дома, обрадованная приездом хозяина и тем, что он поговорил с ней, непрестанно ворчала, браня и укоряя себя, как это она, дура набитая, не догадалась, что приедет хозяин, когда в ночь под субботу ей снился такой сон…
Наверху ужинали. Больше пили, чем ели. Магда скоро увидела, что вина, которое она купила и принесла на праздник, не хватит. Чтобы потом, глубокой ночью, ей не пришлось за ним бегать, она то и дело протискивалась в узкие окна погреба и там, раздвинув обручи на бочке и просверлив дырочку, цедила вино Тоне. В оправдание совершаемой кражи, вылезая из погреба, она бормотала, словно желая отомстить Тоне:
— Мужик! Забрался как моль. Замков понавесил, будто кто вино его выпьет…
Она носила вино на кухню, там разливала по разным кувшинам и сосудам, чтобы ни мать, ни Софка ни о чем не догадались; она знала, что ей за это не поздоровилось бы. Силой заставили бы отнести вино в погреб и вылить назад в бочонок.
Софка заметила, что с наступлением ночи гости наверху вели себя все непринужденнее. Каждый раз, когда мать спускалась, чтобы отдать Софке или Магде новое распоряжение, Софка слышала, как гость, оставшись наедине с отцом, говорил, словно подтверждая свое решение купить дом:
— Как сказал, так и будет!
Наконец Софка ушла спать. Во-первых, не дело девушке сидеть так поздно, а во-вторых, наутро ей придется рано встать и прибрать в доме, так как мать устанет после бессонной ночи.
IX
Гость, уезжая на самой заре, сел на коня, тронулся, но вдруг остановился и долго, долго стоял у ворот. Словно хотел досыта наглядеться на их, а теперь уже свой дом, хорошенько запомнить его весь — с массивными воротами и соседними дворами, — запечатлеть в мозгу. Затем он двинулся дальше мимо выложенного камнем родника, вниз, где были сады и поля, в новую, недавно заселенную часть города, больше смахивающую на деревню, в которой жили переселенцы и крестьяне из окрестных сел, а главным образом беженцы из Турции.
Рыжий конь с длинным до копыт хвостом, длинной шеей и красивой четырехугольной головой, с умными глазами, отдохнувший, чувствуя, как ладно и крепко сидит на его спине хозяин, бежал рысцой, весело перебирая ногами.
Ночь отступала. Приближался рассвет. За равнинами из тумана вырисовывались гребни гор. С полей и огородов тянуло запахом гнилой травы и прелых корней. С реки доносилось журчание воды и редкое чириканье проснувшихся птиц. Город и улицы, кончавшиеся здесь, еще были объяты немым мраком. Но Марко казалось, что, оборачиваясь назад, он видит там, в Софкином доме, горящую свечу, которая освещает ему дорогу. Поэтому он то и дело, сдвинув на затылок меховую шапку, счастливо и радостно потирал лоб, глаза и лицо.
Привычный конь сам свернул в последнюю улицу; кривая, стесненная высокими заборами и деревьями, она напоминала ущелье; затем конь полез в гору, к базару и к дому хозяина. Марко же, заметив, что приближается к дому, почувствовал какую-то неловкость. Он приосанился, опершись о стремена. Конь почти рысью вынес его к воротам и радостно заржал.
На базарной площади в полумраке уже кое-где мерцали зажженные мангалы и раздавались выкрики продавцов салепа, тогда как здесь, на окраине, все еще было темно. Одно только бесконечное тявканье собак и пение петухов разносилось в тумане по окрестным полям и нивам.
Марко повернул коня так, чтобы плечом и локтем касаться ворот. Зная по опыту, что, поскольку дом стоял далеко от ворот, стучи хоть руками, хоть ногами, домашних не разбудить, он вынул из-за пояса пистолет и принялся стучать в ворота рукоятью. Он с трудом дождался, глядя в широкие щели крепкой ограды, когда в доме зажгут свет и с сальной свечой в подсвечнике, без шапки, накинув гунь на плечи, покажется слуга Арса.
— Кто там? Кто там? — спрашивал он на ходу, заслоняя свечу рукой, чтобы она не погасла. Но быстро сник и молнией выскочил к воротам, услыхав знакомый краткий и угрюмый возглас хозяина:
— Я!
Одной рукой подняв над головой подсвечник со свечой, чтобы хозяину было посветлее, а другой отворяя запертые на засов ворота, от волнения он толкал не засов, а всю поперечину, не замечая, что гунь у него сполз и он остался в одном исподнем, что один опанок он потерял где-то во дворе. С перепугу, не зная, что сказать, Арса обратился к коню:
— Эх, рыжий! Эх, рыжий!
— Все живы-здоровы? — бросил ему хозяин, быстро проехав в ворота.
Арса бегом догнал хозяина у самого дома, взял коня за узду и придержал стремя, чтобы газде Марко было легче слезть.
Марко, сойдя с коня, направился, как всегда, прямо в свою недавно пристроенную боковушку, маленькую, низкую и душную; пол там был не настлан, голая земля, и новые ковры, которые давно не выбивались (в комнату, кроме самого хозяина, никто не смел входить), сопрели почти до основания. Жесткие, крепкие подушки лежали в том же порядке, в каком он их оставил. Войдя, Марко прежде всего бросил взгляд на два больших замка, висевшие на довольно длинном и глубоком, пестро раскрашенном сундуке, желая удостовериться, что они находятся в том же положении, которое он умышленно им придал, чтобы, вернувшись, сразу обнаружить, трогал ли их кто-нибудь и пытался ли открыть. Убедившись, что все в порядке, он стал посреди комнаты в ожидании, пока кто-нибудь из домашних, жена или Арса, принесут свечу и разденут его.
Между тем день уже наступал. За окном синел мощеный двор, четко вырисовывалось железное ведро на цепи у колодца. Из кухни донесся треск сухого хвороста. И сразу вслед за ним в очаге вспыхнул яркий огонь, озарив светом все кругом и проникнув даже в боковушку хозяина. Слышались тихие, боязливые шаги из комнаты в кухню и обратно.
Поставив коня в конюшню, откуда явственно доносился теплый запах и шум от возни пробудившейся скотины, Арса вернулся к хозяину со свечой в руке. Приплясывая вокруг, он начал раздевать его. Марко по-прежнему стоял посреди комнаты и лишь слегка поворачивался, помогая себя раздевать.
— Встали? — спросил он.
— Встали, встали, хозяин. Слышите, хозяйка на кухне хлопочет. Томча уже одевается.
Марко не сел, как обычно, на подушки, которые ему подложил Арса, чтобы, развалившись на них, дать себя разуть, а опустился на сундук, опершись на него своей небольшой волосатой рукой с короткими и белыми пальцами. Слуга скинул с него широкий пояс с пистолетом, ятаганом и шомполом и вынес все, чтобы почистить на дворе. Марко остался сидеть все так же неподвижно, распоясанный, в легких туфлях, понурив голову. Белел на штанах гачник, под расстегнутыми и распоясанными безрукавками и минтанами виднелась широкая, сильная грудь с обильной растительностью, доходившей до короткой, толстой шеи.
Он не шевельнулся и не поднял головы, даже когда вошла жена с угощением. На старом, маленьком и довольно потертом подносе стоял большой стакан воды и на блюдечке несколько кусочков сахару весьма сомнительного цвета. Видно было, что сахар давнишний и что никто, кроме хозяина, к нему не притрагивается.
Жена, давно привыкшая к приездам мужа в неурочное время, не была взволнована и на сей раз. Вместо приветствия она только спросила:
— Приехал?
— Приехал! — угрюмо и неприязненно ответил Марко и, не взглянув на нее, взял сахар и выпил воду до дна.
— Стелить? — спросила жена спокойным, вялым голосом. Вся ее простоватая фигура выражала подавленность и безразличие. На ней было полукрестьянское, полугородское платье: антерия, платок, хотя и новый, но простой, толстые белые чулки, крестьянская юбка и за поясом нож. Это была худая, костистая, бледная женщина с белесыми глазами; на лице ее от старости росли волосы. От нее пахло деревней, молоком, навозом и свежим запахом домотканой грубой одежды.
— Стели! — ответил Марко, не сходя с сундука. — Постой! — остановил он ее, когда она была уже у двери. — Скажи Томче, пусть одевается и идет в харчевню. Хотя нет, не надо! Пусть сидит дома! — передумал он и сделал знак рукой, чтоб она уходила. — Обойдутся несколько дней и сами! — добавил он как бы про себя.
Жена ушла. Вскоре Арса принес постель. На дворе был уже день. Кивком головы Марко приказал завесить окна. И когда в комнате стало темно, он медленно, тяжело опустился на постель, укрылся и уснул.
X
Весь следующий день в доме Софки прошел на редкость приятно. Впоследствии Софка не могла себе простить, как это она, Софка, всегда все понимавшая и заранее предугадывавшая события, на этот раз, когда речь шла о ней самой, о ее жизни, обманулась, ничего не почувствовала! Да и откуда ей было знать? Знала лишь, что дом продан и что вчерашний гость — новый его владелец. Отец выспался и встал к обеду. Плотно поел, снова поспал и вечером, когда стемнело, даже спустился к ним на кухню. Обошел сад и двор. Спустился и в погреб. Мать ходила за ним следом и объясняла, когда он что спрашивал.
После ужина Софка легла внизу, в большой комнате, вместе с Магдой, которой тоже пришлось лечь там, чтобы не оставлять девушку одну. А потом — бог весть что было! Будь у нее хоть какое-то подозрение, она была бы начеку и не заснула бы так крепко. Но, окончательно примирившись с продажей дома, довольная тем, что все наконец кончилось, и хотя и без дома и где-то на чужбине, в Турции, но все же они будут вместе и у них будет настоящий глава семьи, под властью и надзором которого они смогут свободно дышать и жить, Софка чувствовала себя почти счастливой, а потом сразу сладко и крепко заснула.
Позднее она вспомнила, что глубокой ночью, примерно около полуночи, когда сон стал более чуток, до нее донеслись сверху, очевидно из комнаты отца, шум, голоса и шаги. Потом послышался необычно громкий голос матери, какой-то спор, ссора и плач.
Назавтра мать вышла на лестницу, прикрывая глаза рукой. Лицо ее было перекошено от ужаса. Войдя в кухню, где были Софка и Магда, она едва выговорила:
— Магда, отведи Софку к тетке. Пусть она останется там, а ты возвращайся.
В кухне еще было темно, земляной пол только что подмели, наверху чернели прокопченные балки, а на полках желтели круглые медные противни. Софке, как только она услышала слова матери, а она хорошо знала, что они означают, показалось, что медные противни впиваются в нее огромными, налитыми кровью глазами. Все вокруг пошло кругом, она пошатнулась, коснувшись руками пола, но быстро встала и, перепуганная, не веря своим ушам, начала лихорадочно искать глазами мать. Но та уже ушла в комнату и, прислонившись к окну, тихо, тихо всхлипывала. То ли от горя и боли, то ли от счастья и радости, что вот дождалась-таки, выдает замуж свою Софку. Ибо для всякой девушки на выданье ясно, что приказ отвести ее к родным и оставить там может означать лишь одно: она просватана и дня на два, на три ее прячут по соседству, чтобы избавить от наплыва людей, расспросов и поздравлений. Софка, чувствуя, как судорога сводит пальцы на ногах, как жестокая боль поднимается в колени и поясницу, пронзает словно ножом, подошла к матери.
— Маменька!
Но мать еще сильнее прижалась головой к окну и, отвернувшись от нее, еще пуще зарыдала, умоляя Софку не подходить к ней и не спрашивать ее ни о чем.
— Иди, иди, детонька! Ох, неужто не понимаешь? Да. Видно, судьба такая. Знала я, что ничего хорошего от него не дождешься. Теперь и ты знаешь, в чем дело. Но хоть ты, Софка, не мучь меня. И без того тяжко! Ох!
Она продолжала безутешно плакать, но потихоньку, боясь, что отец наверху услышит.
У Софки все кружилось перед глазами: и комната, и потолок, и окно с прислонившейся к нему матерью. Однако при виде слез матери ей полегчало: она поняла, что мать, по крайней мере, не одобряет это решение.
Но все еще не в силах поверить, не зная, что делать, она едва держалась на ногах.
— Но почему, маменька? Почему?.. — начала было она возмущенно, но слезы помешали ей говорить.
— Не знаю, детонька! Не знаю, не спрашивай. Знаю только, что все решено. Вон он там наверху беснуется! И на глаза ему показаться не смею. Ох, горе мне, несчастной!
Софка выпрямилась. Ее охватил такой гнев, такая ярость и ненависть к отцу, что она решительно направилась к нему. Ей была оскорбительна та быстрота, с которой отец принял решение выдать ее замуж, словно ни одной лишней минуты не хотел ее терпеть в доме. Как он мог так с ней поступить!
То ли отец заметил, что она поднимается к нему, то ли его довела до исступления Магда, убиравшая его комнату и заливавшаяся как безумная слезами, но Софку остановил на пороге его страшный голос и брань:
— Чего нюни распустила! Дуры, идиотки несчастные!
Хуже всего то, что Софка почувствовала, что его «дуры» и «идиотки» относились ко всем им, и в особенности к ней, Софке.
Голос у отца был сухой, незнакомый: в нем не слышалось ни ласки, ни теплоты, и Софка, еще более оскорбленная, поспешно спустилась вниз.
Как только Магда пришла от отца, Софка, молча, ни с кем не простившись, пошла с ней к тете Кате. Она была уверена, что с ней не могли так поступить. Не такая она, как все; что она — ребенок, девчонка-несмышленыш, чтобы с ней раз-два и расправиться?.. Но горше всего было сознание: как могло случиться, как она даже вчера не догадалась, что гость покупает вовсе не дом, а…
Тут она начала вспоминать. Теперь только ей стало понятно изумление на лице гостя, когда он ее увидел, и то, почему он потом не спускал с нее глаз, почему его полные губы все время дрожали и почему, оставаясь с глазу на глаз с отцом, он повторял: «Как сказал, так и будет!» Значит, он, еще и не видев ее, дал согласие взять ее в жены, а увидев, подтвердил свое согласие с еще большей охотой и радостью.
Приход Софки удивил тетку. Но выражение лица Магды и несколько слов, сказанных ею по-турецки, все объяснили. От радости и счастья тетка не знала, что и делать. Но по Софкиному виду, по тому, что она еле держалась на ногах и вся дрожала, по жару, полыхнувшему от нее, когда та целовала ей руку, тетка поняла, что девушку надо как можно скорее оставить одну. Она бросилась в комнату и, быстро прибрав там, ласково позвала Софку:
— Иди, иди, Софкица, посиди здесь, отдохни. Ничего не бойся, все обойдется.
И, сгорая от нетерпения, тетка вместе с Магдой побежала к сестре.
Софка ничком упала на кровать и, несмотря на свое отчаяние, не могла не почувствовать благодарности, услышав, что тетка, уходя, заперла ее на ключ. Теперь она, по крайней мере, не боялась, что кто-нибудь нарушит ее одиночество.
Хорошо бы запереть и ворота, чтобы Софка не видела в окно то, что ей было больнее всего: родной дом и все, что там происходит. Когда Магда то и дело стала выскакивать из ворот, Софка поняла, что она бегает по родственникам.
Вскоре она заметила, как к дому начала стекаться родня, обрадованная вестью о приезде эфенди Миты и напуганная необычным с его стороны приглашением. Пришли все. Одна из теток, чаще всего Ката, то выходила, но снова возвращалась в дом. Ворота были распахнуты настежь, и скоро дом оказался битком набитым гостями. Но все происходило в полном молчании, таинственное и почти испуганное выражение застыло на лицах родственников. Отец, объявляя о Софкиной свадьбе, наверняка наказал всем, чтоб они и пикнуть об этом никому не смели, чтоб ни один человек ни о чем не дознался до самой свадьбы. Теперь, когда они все знают, они могут отправляться по домам, вытаскивать и приводить в порядок праздничные наряды, чтобы быть готовыми к тому времени, когда их пригласят на торжество. Это больше всего потрясало и убивало Софку. Почему они так поступают с ней, именно с ней, ведь до самого недавнего времени все относились к ней с таким уважением и любовью? А теперь словно она ничто и никогда ничем не была. Самая обыкновенная девушка, просто вещь. И за кого ее выдают? Кто он? Откуда?
Боль, горе, тоска все сильнее и сильнее охватывали ее, время от времени она теряла сознание. Час-другой она лежала в беспамятстве, ни в чем не отдавая себе отчета. Затем медленно и с трудом приходила в себя. Но чем ближе к вечеру, — Софка все еще была одна, — она с ужасом стала замечать — и от этого у нее начинали стучать зубы, — что в бреду ей все чаще является вчерашний, этот так называемый покупатель дома, а на самом деле ее жених. Она уже чувствовала себя в его объятиях, чувствовала прикосновение его губ, дрожавших вчера с таким вожделением, его рук с белыми, короткими, волосатыми пальцами. У нее зашевелились волосы на голове и на лбу выступил холодный пот. Эти видения привели ее в такой безумный ужас, что, поднявшись и силясь бежать, она тяжело застонала:
— О боже, боже!
Но бежать было некуда, и она снова ничком упала на кровать.
И только когда совсем стемнело, Софке стало известно все. Вернулась тетка, и теперь, как положено обычаем, она все от нее узнает. Причем тетка все расскажет не ей самой, а специально приведенной какой-нибудь из родственниц, и они, не входя к Софке, а занимаясь на кухне приготовлением ужина, более богатого, чем всегда, ведь, боже мой, у них гостья — Софка, начнут громко разговаривать, чтобы Софка все услышала: кто жених, откуда, что из себя представляет, и все прочее.
Так оно и случилось. Отперев кухню, тетки зажгли свечу, развели огонь и, приготовляя ужин, повели разговор: «Испокон веков так бывало. Вон, помнишь, та еще за худшего вышла. Не то что не видала такого, а даже и во сне ей такой не снился. Главное, чтобы семья была почтенная. Вот и этот Марко, что берет Софку, ведь он так богат, что и не знает, сколько у него добра. Правда, он недавно переселился из Турции, но, говорят, он еще и сейчас на границе держит постоялые дворы и снабжает скотом турецкую армию. А здесь, в городе, недавно приобрел дом в нижнем квартале».
Но каково же было удивление Софки, когда, словно пытаясь оправдать это решение, они вдруг начали говорить, что, хотя жених еще мальчик молоденький, всего-то ему двенадцать годков, но каждая сочла бы для себя за счастье войти в столь богатый дом. Значит, покупатель берет ее не за себя, не вдовец он бездетный, а берет для сына, еще совершенного ребенка! Софка почувствовала, как все нутро у нее перевернулось, и она застонала от боли и смертельной тоски. Но она взяла себя в руки и вышла на кухню. Увидев ее при свете очага и свечи, тетка лишь пробормотала:
— Куда ты, Софкица?
— Дай мне шаль! Схожу домой, позабыла одну вещь, — едва проговорила она.
Пораженная тетка подала ей шаль, и она, даже не завернувшись в нее как следует, а только накинув на голову, чтобы ее никто не видел, вышла.
Ни темнота, ни пустынность улицы, ни шум воды в роднике не пугали ее. Она чувствовала себя самостоятельной, нет больше Софкицы, дочки эфенди Миты, теперь она стала настоящей женщиной, сама себе голова. В ярости до боли сжимая грудь и приподнимая шальвары, чтобы идти скорее и уверенней, она поспешно перешла улицу, миновала родник и вошла к себе в дом.
И внизу и наверху во всем доме горели свечи. Ярко освещенный дом излучал такое спокойствие, словно Софки никогда и не было, словно она давно умерла, ее похоронили и думать о ней позабыли.
Магда выскочила из кухни и испуганно отпрянула, увидев девушку. Софка же, показав наверх, на комнату отца, только спросила:
— Есть кто у отца?
— Один он.
Софка поднялась по лестнице. От одного вида выставленных перед дверью туфель отца она задрожала. Но все же с силой толкнула дверь и вошла. Пламя свечи заколебалось и чуть не опалило волосы отца. Он посмотрел на дочь, словно на чужую, и только сказал:
— Что надо?
Но, увидев, в каком волнении и как стремительно она вошла, догадавшись по ее глазам, зачем она пришла, он нахмурился, и губы его задрожали.
— Папенька! — начала Софка, и столько было в ее голосе оскорбленной гордости и горечи, что она едва смогла продолжить: — Не могу я так и… не пойду!..
И, чувствуя, что храбрость оставляет ее, готовая разразиться слезами, она поспешно договорила:
— Не могу и не хочу выходить замуж за такого!
Он поднялся и, сухо улыбаясь, как был, в чулках, подошел к ней и начал торжественным голосом:
— Софка, дочка! Красота и молодость проходят…
Поразило Софку то, что в голосе его она уловила нотки испытанного им самим разочарования и горечи. Он и сам когда-то думал, что самое главное, самое важное в жизни молодость и красота, а теперь вот до чего дело дошло, до бедности; не думай он так раньше, не женился бы он на ее матери и не пришлось бы ему столько мучиться, столько страдать и метаться по свету; и теперь, когда он сжалился над ними и вернулся домой, вместо благодарности вот что получает!.. Софка все-таки пробормотала:
— Не могу я!
— И я не могу.
Он резко отшатнулся, отошел от дочери и выпрямился. Софка заметила, как его пальцы в чулках сводит судорога.
Пытаясь умилостивить отца, Софка сказала:
— Стыдно! И подруг и людей стыдно!
— И мне стыдно!
Дрожа от гнева и все выше поднимая голову, отец дал выход своей горечи. И не перед Софкой, а как бы перед самим собой.
— А мне разве не стыдно? Ты думаешь, я этого хочу? Что мне это приятно? Разве я не понимаю, на что я иду? И это я, я!! Эх!
И он обрушился на Софкину неблагодарность: ведь он вернулся только ради нее, чтобы ее хорошо пристроить! А что жених еще ребенок, так это не так уж страшно, его горе гораздо страшнее: он должен стать приятелем этого мужика Марко, целоваться, обниматься с ним, жить вместе. И в довершение всего дочь заявляет, что «не хочет» и «не может». А он может! Он все может! Ноги его утопали в ковре, под которым он ощущал твердые доски пола; сотрясаясь от негодования, заложив руки за спину, распахнув ворот рубахи, так что видна была голая морщинистая шея, теперь уже, правда, побритая, с большим кадыком, душившим его, эфенди Мита, не глядя на Софку, продолжал говорить сам с собой:
— Я могу, а другие не могут. Я все могу, я должен. Я! Эфенди Мита! Ты не хочешь, тебе стыдно, вам всем стыдно (это «вам» относилось ко всем, к Софке, к матери, ко всему свету). А вам не было бы стыдно, если бы я пошел на паперть или стал носильщиком, торчал в «Пестром хане» в ожидании турецких купцов, бывших моих приятелей, которые раньше за счастье почитали, если я отвечал им на поклон и здоровался с ними, и за обед в харчевне или за несколько грошей, которые бы они мне совали в руку перед отъездом, сопровождал их по базару, был им толмачом и конюхом — и все это, чтобы купить немного для вас муки. Этого вы хотите?
Софка никогда не видела его в таком состоянии. И что самое страшное, она почувствовала, как и она сама, и ее замужество, и ее горе и страдания, все, все куда-то исчезло, вытесненное им, его злой судьбой и бедствиями.
Отец ходил взад и вперед, с трудом переводя дух. Пальцы его хрустели; старая, бритая, морщинистая голова тряслась. Он задыхался, не в силах успокоиться. И Софка поняла, что все, что произошло между ними, это еще не конец, не самое худшее; но по тому, что он никак не мог успокоиться, она догадывалась, что должно случиться еще более страшное. При свете уже оплывших свечей видно было, что он дрожит всем телом и еле держится на ногах. Он тоже сознавал, что должно случиться, и в страхе беспрестанно сжимал голову руками и стонал, желая взять себя в руки, успокоиться, остановиться в своей исповеди, прервать и избежать ее. Но тщетно.
Стремительно повернувшись к дочери, он приблизился к ней, взял ее голову обеими руками и, став на цыпочки, дрожа и озираясь, чтобы и сама дочь не услышала его слов, начал тихим, замогильным голосом:
— Софка, Софкица моя, доченька, неужели ты не веришь отцу? Думаешь, что отец лжет, что у него есть деньги и он просто так, из одного каприза хочет выдать тебя замуж? Но коли так, на — погляди на своего отца!..
И он распахнул минтан и колию.
Софка с изумлением увидела, что только борта минтана и колии, самый их краешек, который виден при движении, были на новой и дорогой подкладке, вся же остальная подкладка была старой и засаленной, а местами ее вовсе не было и торчала только вата. От него, от его обнаженной груди несло потом, кабаком, грязным бельем, давно не мытым телом.
Софка, сникнув, чуть не упала к его ногам.
— Ох, папенька, папенька!
И поспешно, не оглядываясь, так и не зная, что произошло дальше: остался ли он стоять в расстегнутой рубахе на грязном, устремленном вперед теле или упал на пол, она убежала, увидев только, что мать юркнула мимо нее к отцу. Она поняла, что мать все слышала и теперь в страхе, как бы с отцом чего не случилось, побежала скорей к нему.
И действительно, не успела Софка спуститься с лестницы и направиться к воротам, как сверху раздался перепуганный голос матери:
— Магда, воды! Скорей воды!
Софка вышла из открытых ворот и побежала к тетке. Она была спокойна, не чувствовала ни горя, ни боли, а только страшную подавленность.
Она быстро прошла мимо родника и тускло светившего фонаря. Вода текла тоненькой струйкой. Все было окутано тишиной и мраком; не слышно было лая собак, шагов прохожих. И только у них, наверху, из отцовской комнаты, бил неверный свет; он то слабел, то снова разгорался. Это, видно, мелькала тень матери: она ходила по комнате, укладывала отца в постель, брызгала на него водой, чтобы привести в чувство.
XI
Софка вошла к тетке спокойным и твердым шагом, сдвинув брови и смотря прямо перед собой слегка затуманенным взглядом. Тетка испуганно поднялась и заговорила успокаивающим тоном:
— Поужинаешь, Софка?
— Нет, я дома ела! — ответила Софка и прошла в комнату.
И только когда она услышала, что тетка, закончив дела на кухне и прибрав у очага, ушла в комнату напротив, где она спала со своими, Софка, вся в поту, вскочила.
— Так вот оно что?
Прошептав эти слова, она застыла с поникшей головой, схватившись рукой за подбородок, сама удивляясь, что в такую минуту в душе ее нет ничего: ни страха, ни робости, ни гнева. Внутри вдруг образовалась бездна, и оттуда поднимался противный пресный запах, от которого по телу пробегала дрожь.
Так вот оно что? А она и не догадывалась. Даже не думала об этом. Думала о себе, о своих прекрасных мягких волосах, о своем роскошном теле, которым так гордилась и за которым так ухаживала, и упивалась безумными грезами о страстной любви.
Что ж получилось? Совсем другое. Теперь ее преследовал образ отца, его драная подкладка, запах грязного белья, его лицо, его страшный, замогильный голос, который даже не молил, а еле-еле сходил с его помертвевших от стыда и позора губ, оттого что ему пришлось перед ней, своей дочкой, признаться в том, в чем он не признался бы и на смертном одре, сказать ей, что речь уже идет о куске хлеба и потому ни о чем другом нельзя ни думать, ни мечтать…
И что хуже всего, ей стало ясно, что после этой унизительной для него исповеди между ними все кончено. В ее глазах отец никогда уже не будет окружен ореолом величия, никогда он уже не осмелится на нее смотреть, как раньше, шутить с ней, смеяться, гладить ее по голове, а тем более требовать, чтобы она оказывала ему уважение, потчевала, ухаживала за ним.
После того, что случилось, с этим было покончено. Эфенди Мита понимал, что отныне он всегда будет ей в тягость; сохранив его честь своим жертвенным поступком, своим браком, Софка изменит к нему отношение. И потому он постоянно будет ее избегать. Если же и придется ради людей говорить с ней, в его голосе непременно будет звучать плаксивая укоризненная нотка из-за того, что она принудила его унизиться и раскрыться перед ней во всей наготе и тем самым лишиться в ее глазах всего, чем он обладал и что свято хранил прежде.
Софка невыносимо страдала и уже чувствовала раскаяние. Если бы она только знала, она даже не пыталась бы противиться, а тем более испытующе смотреть отцу прямо в глаза и идти против его воли. Если бы она только знала! Но ведь и это неправда. К чему оправдываться! Знала! Как же так — не знала? Ведь если она знала, что никогда ей не стать женой достойного себя, того, о котором грезила всю жизнь, которого осыпала ласками и поцелуями в мечтах и во сне, если знала, что все равно должна будет выйти замуж, то к чему все это? К чему, раз не только сейчас, а давно уже она не сомневалась в том, что, кто б ни был ее мужем, он не будет ее избранником и ей придется выносить поцелуи и объятия постылого мужа, терпеть от него все, что он пожелает. Она даже когда-то гордилась тем, что, в отличие от других девушек, не увлекалась и не безумствовала в своих мечтах о будущем, а отдавала себе ясный отчет, что, если она и выйдет замуж, это будет сплошным мучением и страданием, и поэтому ей все равно, кто будет ее мужем: старый или молодой; урод или красавец; из хорошей семьи или мужицкой… Почему же теперь, когда это случилось, она так вздорила и сопротивлялась, тем самым только показав, что она ведет себя как обыкновенная девушка-несмышленыш, а не так, как подобает Софке, служившей всем примером. Почему же она потеряла голову и, прежде чем пойти наверх к отцу, хорошенько не поразмыслила? И почему, когда ей все стало ясно, опять не повела себя так, как подобает ей? Почему сразу, без лишних слов, не согласилась? Тогда бы все, и в первую очередь отец, поняли, что она соглашается не потому, что это отвечает ее желаниям, а потому, что приносит себя в жертву ради спасения семьи от нищеты и бедствий. Это бы поняли не только родные, но и весь свет. И как бы она тогда выросла в глазах людей! И в ореоле этой жертвенности ее собственное горе и несчастье как-то бы смягчились, утихли, и ей было бы легче их переносить…
А теперь?
Однако еще не поздно. Еще все можно исправить и показать, как жертвуют собой ради семьи, ради отца и матери. Ведь замужество принесет ей одно страдание, так пусть, по крайней мере, оно принесет пользу ее родителям, пусть оно освободит их от забот и обеспечит им старость…
Она сидела на постели, обхватив голову руками. Из кухни доносился запах еще тлевшего очага, немытой посуды и затхлости, а также свежего ночного воздуха, проникавшего сквозь щели старых, потрескавшихся дверей кухни. Глядя сквозь низенькое окно в ночь, изрезанную силуэтами деревьев и оград соседних домов, она почувствовала, что мысль о героическом, жертвенном поступке все сильнее овладевает ею. Ведь самопожертвование ее необыкновенно; мало того, что она соглашается пойти за неровню, за нелюбимого, — она выходит за сущего ребенка. Такая жертва, несомненно, удивит и изумит всех. В глазах людей она не только останется на прежней недосягаемой высоте, но поднимется еще выше, наперекор всем, кто ожидал и наверняка надеялся, что она наконец будет сломлена и станет такой, как все.
На другой день она так торопилась скорее осуществить задуманное, что чуть свет разбудила тетку и послала ее к отцу: она согласна. Не только тетка и мать, но и сам эфенди Мита были поражены. Не смея поверить, он сам отправился в дом к тетке. На его невыспавшемся и встревоженном лице Софка прочла радость и изумление. Ее снова обдало запахом пота, немытого тела и лохмотьев. Она поднялась, поцеловала отцу руку и, искренне раскаиваясь, что вчера его так расстроила и взволновала, пробормотала:
— Прости, папенька, я не знала…
Он неподвижно стоял, глядя на нее испуганными глазами: а что, если…
Чтоб окончательно убедить отца, Софка должна была выдержать его лихорадочный взгляд. По ее ясному, открытому взгляду отец понял, что это правда, что она и впрямь решилась. Он обнял ее и, потрясенный, целуя ее волосы, едва мог проговорить:
— Спасибо, доченька! Спасибо, Софкица!
Софка горько расплакалась; по тому, как отец дрожащими руками обнимал ее голову и целовал ее волосы, было видно, как он переживал, что, получив возможность стать прежним эфенди Митой, в глазах своей дочери, своей Софки, он потерял все — и любовь и уважение. Лишь бы она сжалилась над ним и не презирала бы его, а жалела. И, оплакивая себя, он взволнованно обнимал дочь, целовал ее волосы и бормотал:
— Спасибо, Софка! Спасибо, доченька!
Софка чуть не зарыдала в голос; заметив это, он быстро отошел он нее.
Словно вознаграждая себя за только что пережитое унижение, он, как только вышел из комнаты, где была Софка, начал размахивать руками и, засучивая рукава, стал своим высоким и тягучим голосом отдавать приказания:
— Пусть Аритон сходит за сватом. И пусть газду Марко пригласит вечером на Софкин пропой. А вы, — это относилось к женщинам, — идите в дом, готовьте там все, что надо!
И он поспешно, словно убегая из дома, а на самом деле от Софки, скрылся из виду.
Но Софке некогда было об этом думать. Она быстро взяла себя в руки и встала. Зная, что самое трудное начнется теперь, когда придется быть на людях, она прибрала постель и комнату: ежеминутно будут входить соседи и родственники якобы по делу, а на самом деле для того, чтобы посмотреть на нее и по ее лицу и поведению определить, как она себя чувствует.
Первой ворвалась тетка. Надевая на ходу колию, торопясь выполнить распоряжение эфенди Миты, она поздравила Софку:
— Поздравляю, Софка!
По ее голосу Софка поняла, что не только тетка, но и вся родня были уверены, что раз эфенди Мита дал слово газде Марко, Софка принуждена будет согласиться. Но все же они не думали, что она так легко на это пойдет и даже сама добровольно изъявит свое согласие. Как она и предполагала, весь день ее ни на минуту не оставляли в покое. То и дело кто-нибудь прибегал и заглядывал к ней, даже дети. Но это было к лучшему. Беготня и суета настолько ей надоели, настолько утомили и притупили ее сознание, что, когда наступил вечер и ей принесли платье, мыло, иголки, гребни и, разложив все перед ней на стуле и подоконнике, оставили ее перед большим зеркалом с зажженными свечами одеваться и наряжаться к сватовству и пропою, это нисколько ее не взволновало. Софка стала одеваться и наряжаться словно кому-то назло. Стянула платье на талии так, что оно чуть не лопнуло; тесную безрукавку застегнула на одну нижнюю застежку, так что грудь была свободна; полные плечи и налитые, пылающие руки поблескивали сквозь рукава тонкой рубашки.
И когда поздно вечером пришли и сказали, что свекор приехал, и они с теткой пошли в их дом, она и тут не испытала никакого волнения. Она так устала после вчерашней ночи и сегодняшнего дня, так отупела, что ко всему была совершенно равнодушна. Ничто ее не волновало. Она спокойно вошла в дом, ее не тронули ни ряды освещенных окон, через которые потоки света лились на веранду и лестницу; ни объятия и поцелуи женщин внизу на кухне. И даже когда уже глубокой ночью пришла пора идти наверх целовать руку свекру и принимать от него подарок, она и туда отправилась совершенно спокойно. Так же спокойно, холодными губами поцеловала руку свекру, затем отошла в сторонку и стала ясным, сосредоточенным взглядом разглядывать своего нового «папеньку».
Он восседал на сложенной вдвое подушке, расставив ноги, опершись руками о колени; справа сидел эфенди Мита; перед ними стоял низенький стол, уставленный закусками и лакомствами (ужин должны были подать позднее). Марко был в грубых сапогах с крепкими шпорами развилкой; над сапогами ясно и четко выделялись его круглые колени в суконных штанах. Пальцы у него были толстые и короткие, с морщинистой, но чистой белой кожей. На одной руке сверкал крупный золотой перстень. Ворот у минтана и безрукавок он, видимо, никогда не застегивал: мешали торчавшие на груди волосы. Лицо у него было еще свежее, только у глаз и рта залегли морщинки. Рот был не столько большой, сколько полный и мясистый, борода овальная, бритая шея короткая и толстая. От всей его фигуры веяло какой-то дикой силой.
Если в первый свой приход он выглядел смущенным и вел себя сдержанно, то теперь чувствовал себя совершенно свободно. Это было видно по тому, с каким удобством он расположился на подушке, раскорячив ноги и непринужденно положив руки с расставленными пальцами на колени. Он словно давно готовился к этому дню и теперь, добравшись наконец до Софки, до ее матери, до эфенди Миты, до всей этой роскоши и красоты, так и сиял от счастья.
Софку особенно растрогало то, что, прежде чем отпустить ее, как полагалось по обычаю, и договориться обо всем без нее, когда она снова поцеловала его руку и направилась к двери, Марко встал и подошел к ней. Сапоги его с таким скрипом давили на пол, словно он вот-вот провалится. И, вопреки обычаю, — то, что она пришла наверх и поцеловала ему руку, уже означало согласие, — он, ко всеобщему удивлению, сказал:
— Софка, ты знаешь, о чем идет речь. Знаешь, что тебя ожидает. Но я, отец твой, коли будет на то воля судьбы, прошу тебя об одном. Бог не простит, если ты согласишься, не подумав как следует; бог не простит, если ты согласишься войти в дом мой против воли… Правда, нет у меня сейчас еще дома, достойного тебя, но будет…
Софка почувствовала, как голос его проникает ей в самое сердце. Но она и здесь собралась с силами, не дрогнула, не сделала того, что сделала бы всякая другая на ее месте: не покраснела, не убежала, бессвязно бормоча что-то и предоставив родителям отвечать вместо нее. Она посмотрела на него из-под своих тонких бровей открытым взглядом и, к удивлению отца, который все еще не мог прийти в себя и успокоиться, горячо воскликнула:
— Я согласна!
Марко только это и надо было. Подойдя к ней, он поцеловал ее в лоб, ощутив аромат ее волос. Она еще раз припала к его руке.
— Благослови тебя бог!
Марко, несмотря на все свое самообладание, стал взволнованно и судорожно рыться за пазухой и в глубоких карманах безрукавки. Хоть у него и было опасение, что из этой затеи ничего не выйдет, он все-таки на случай удачи приготовил особый подарок. Наконец он нашел его и вытащил нитку золотых, каждый по пять дукатов. Он сам надел на Софку это ожерелье, столь густое и длинное, что вся грудь ее засверкала золотом. Даже Софка, привыкшая ко всякому блеску, обмерла. Она снова поцеловала Марко руку.
— Спасибо, папенька!
И пошла вниз. Она слышала, как у отца, и у матери, и у всех прочих вырвался вздох облегчения.
— Дай бог ей счастья!
Все принялись целоваться. Особенно эфенди Мита крепко и сильно обнимал своего нового родственника Марко. Он не мог выговорить ни слова. Ему все еще до конца не верилось. Ведь сколько раз втайне он дрожал при мысли, что из всего этого ничего не выйдет, что Софка, такая, как она есть, наверняка не согласится, случай будет упущен, он не получит денег, — да еще каких! — которые, как известно, водились только у газды Марко. И дело приняло бы совсем другой оборот… долги, продажа дома… А вот теперь, слава богу, свершилось! Какова же была его радость, когда Марко, распахнув минтан, вытащил второй кошель и, локтем столкнув со стола тарелки, стаканы и подносы, не считая, начал сыпать золото.
— Это на свадьбу! Пусть Софка устраивает как хочет. Ничего не жалеть!
Из кошелька продолжали сыпаться золотые монеты: старые и новые дукаты, заплесневевшие от долгого лежания в сыром месте. Когда на столе образовалась целая груда золота, эфенди Мита закричал голосом вернувшегося к жизни человека:
— Магда!
Магда, по-видимому давно ожидавшая его зова, тут же появилась в дверях.
— Магда, — возбужденно заговорил Мита. — Магда, Магдица! (Он впервые так назвал ее, и у нее от радости подкосились ноги.) Наша Софка нас покидает! Слава богу, дождались-таки. А теперь, Магда, отворяй ворота настежь, зажигай оба фонаря и тащи мне ружье. Всем надо объявить! Чтоб все видели, все знали!
Мита поднялся.
— Чтоб все знали! — повторял он, направляясь к окну в одних чулках и неся деньги, завязанные матерью в полотенце. Он бросил узел на стоявшую в углу тахту. Раздался глухой, мягкий звон золота. Не в силах дождаться, когда Магда принесет ружье, он высунулся из окна и, опершись о раму, стал смотреть на город, расстилавшийся перед ним в ночном полумраке по склонам гор, на целое море крыш с торчащими из него трубами и высокими деревьями. Он смотрел на город и думал о его жителях, втайне мечтавших увидеть его униженным и заранее торжествовавших при мысли, что он превратился если и не в нищего, то, во всяком случае, в человека, достойного жалости. А вот подите же, он снова стал прежним, всеми уважаемым эфенди Митой…
Он взял у Магды ружье и, дрожа от радости, начал с остервенением стрелять.
К удивлению собравшихся, ружейная пальба скоро смешалась с игрой музыкантов, подходивших к дому. Это было делом рук Магды. Давно обо всем догадавшись, она послала слугу и велела привести музыкантов, как только грянут выстрелы.
Дом горел огнями. Пламя фонарей, зажженных у ворот, дрожало и сверкало; кухня, погреб и почти все комнаты были тоже освещены. По околотку прошло волнение, стали подходить соседи. Сперва никому не верилось. Но когда зазвучала музыка и зажглись яркие огни, какие бывают только на свадьбах или сватовстве, люди, не переставая удивляться, наконец убедились, что с Софкой дело уладилось…
XII
На рассвете, когда все прилегли отдохнуть, Марко, теперь уже свекор, которому тоже постелили постель, незаметно встал, сошел вниз и тихонько попросил Магду привести коня. Одна Софка увидела это и выбежала за ним.
— Отец, куда вы?
Марко обрадовался вниманию Софки, но в то же время испугался, как бы наверху не проснулись.
— Тихо, дочка! Отец сейчас вернется. Надо дома распорядиться.
Это было просто необходимо. Не мог же он вести свата в дом, зная, что там никто не предупрежден и ничего не приготовлено. Поэтому он всю ночь, за вином и угощением, крепко держал себя в руках, помня о том, что на заре ему надо будет ехать домой и все там приготовить, чтобы потом привести свата к себе и продолжить веселье.
Оказавшись в седле и выехав за ворота, Марко задрожал от радости и счастья: он не обманулся, его подозрения, что такая красавица, как Софка, никогда не согласится пойти за его сына, войти в его крестьянскую семью и стать его снохой, не подтвердились. Все еще не смея верить такому счастью, он не мог спокойно сидеть в седле. Конь, удивленный необычным беспокойством седока и недовольный туго натянутым поводом и тем, что колени хозяина больно сжимали его бока, вздыбливаясь, поворачивал к нему голову, словно желая поглядеть на хозяина и спросить, что с ним такое. Но Марко положил руку на голову коня и, поглаживая его гриву между ушами, почти смущенно стал успокаивать его и бормотать:
— Молчи, рыжий!
Он натянул повод. Конь побежал, грызя удила, взмахивая головой и стараясь не слишком выбрасывать задние ноги, чтобы резкими движениями крупа не трясти напрасно хозяина. Птицей понесся он вдоль квартала к их улице. Предутренняя синева и свежий, сыроватый воздух били в лицо. Заря только-только занималась. Из всех дворов раздавалось петушиное пение. В некоторых домах и конюшнях зажглись свечи. В небе неясно вырисовывались очертания хребтов.
Марко стремительно влетел в ворота, которые каждый раз, когда он бывал в городе или уезжал куда-нибудь ночью, оставались открытыми.
Арса первый увидел его и в страхе побежал на кухню будить хозяйку.
— Хозяйка, хозяин!
Тем временем Марко был уже у порога. Его жена Стана вышла и придержала коня, чтобы он слез. Однако он, не сходя с седла, протянул ей руку.
— Целуй!
Она поцеловала его руку, испуганно тараща глаза.
— Говори спасибо!
— Ну… спасибо, — промолвила Стана растерянно, ничего не понимая.
— С невесткой тебя!.. — И словно этого было недостаточно, он, глядя сверху на жену, торжественно продолжил: — Другой такой в мире нет. Софка, внучка хаджи Трифуна. Эх, да что ты понимаешь, — бросил он сердито, увидев, что она не только не обрадовалась, но даже испугалась.
Он быстро вошел в горницу, оттуда раздался его крик:
— Убирайте дом! Несите и тащите все, что есть на чердаке.
Перепуганный Арса бросился приносить вещи и расставлять и раскладывать их с помощью Станы. Марко, стоя посредине комнаты, наблюдал и сам приказывал, куда что класть.
— Сюда… Так… Еще… — И как был, в сапогах и в гуне, не распоясываясь, принялся поправлять, причем даже не ногой, а руками, бесчисленные циновки, половики и коврики: — Так… Это сюда… Так… Давай еще… Все тащи!
После того как комната была убрана, Марко еще раз все осмотрел, притоптал ковры вдоль стены, чтобы по краям не высовывались новые рогожи, еще раз наказал Арсе все прибрать, а хозяйке немедленно одеться как следует, приготовить угощение — и пешком отправился за сватом, эфенди Митой.
Только после его ухода, оставшись одна, Стана наконец поняла, что все это правда. И совсем растерялась. Но Арса был начеку. Он принес ей платье и заставил переодеться. Проследил, чтобы она, по своему обыкновению, не привязала к поясу деревенский ножик со старыми заржавевшими ключами. Она оделась, но все еще не могла прийти в себя и поверить в то, что случилось.
Но когда настал день и стало сильно пригревать солнце, когда сверху послышалась музыка и детвора со всего квартала побежала встречать музыкантов, когда к их колодцу стали стекаться женщины, словно бы за водой, Стана убежала и скрылась в доме. И там, на кухне, то ли от радости и счастья, то ли по какой другой причине, расплакалась.
Тем временем Арса побежал к воротам, чтобы, открыв их пошире, встретить дорогого гостя.
Стана, едва держась на ногах, утирая глаза и беспрестанно отворачиваясь, чтобы скрыть слезы от множества людей, внезапно наполнивших двор, встречала гостей на кухне. Марко, увидев ее смятение, не только не рассердился и не накинулся на нее, как обычно, а засмеялся и, словно желая вывести ее из замешательства, начал поддразнивать:
— Не плачь, старуха! Жаль, что стала старухой, а?
Эфенди Мита подошел и расцеловался с ней.
— Как поживаешь, сватьюшка? Рада новой родне?
Она в ответ только бормотала:
— А как же! А как же!
И пока они сидели в горнице и Арса выносил им на пробу разные сорта ракии, чтобы потом подать ту, которая им больше всего понравится, Стана не могла оторваться от очага. В еще большее смятение ее привела музыка во дворе и наплыв людей: соседей, детей и старух, которые, как водится при сватовстве, пришли с поздравлениями.
— Желаем счастья, Стана!
Когда цыгане просили выпить, она подавала им полную литровую кружку, беря ее с подноса, приготовленного Арсой. И хотя Стана отлично знала все, что ей следовало делать по обычаю, смятение ее было настолько велико, что она чувствовала себя не в силах нагнуться к очагу и сварить кофе, а тем более выйти к гостям, угостить их вареньем, поговорить со сватом: расспросить о здоровье невестки и сватьи, которых она, правда, не знала, но которые ей уже были близки и дороги, словно родные.
Марко, догадываясь о ее смятении, снова вышел, чтобы ее подбодрить.
— Ну, ты что?
И — небывалый случай! — погладил жену по поседелой голове.
Это совсем сразило Стану.
— Ох, Марко, не могу я!
И она произнесла это «ох, Марко» с такой лаской и волнением в голосе, с таким блеском в глазах, как, может, и говорила-то всего раз в жизни, в самом начале замужества, в первую брачную ночь. И вот после стольких лет повторила сейчас. Переполненная счастьем, она схватила руку мужа, поднесла ее к губам и принялась целовать, чувствуя, как его пальцы ласкают ее лицо.
— Ну, ну… — сказал Марко, тоже растроганный. — Держись, не показывай виду… — И, подбодрив ее, вернулся в горницу.
XIII
После сватовства о них стало известно все, в особенности о нем самом, газде Марко. Они не так давно переселились из Турции. Но в центре города, около церкви, о них знали мало, словно их и вовсе не было, точно так же, как там мало знали о нижних кварталах. Известно было только, что кварталы эти выходят к большой дороге, ведущей мимо мусульманского монастыря через виноградники к границе.
Их родное село находилось в Турции сразу за монастырем Святого отца. Дома там все были каменные и даже крыты каменными плитами. Их же дом был самый большой, стоял посреди села и походил скорее на крепость; из этого дома вышло все село. Говорили, что одна их семья построила целый этаж в монастыре, выкладывала камнем родники, снабжала монастырь всем необходимым, вплоть до того, что посылала людей защищать монастырь вместе с монахами. Все село и особенно предки Марко далеко вокруг были известны как «бунтовщики». Если в село попадал турок, живым он оттуда не уходил. Турецкий солдат, какой ни есть, если порой и возвращался домой, то либо тяжело, либо смертельно раненный. А уж каймакам или спахия, собиравшие по уезду подать или десятину, не смели к ним и носа сунуть. Вокруг села, напоминавшего укрепление, было разбросано несколько албанских деревень.
Богатство села и их семьи больше всего умножил газда Марко, став после смерти отца главой рода. Он даже грамоту знал. Уже женатого (а отец женил его, по обычаю, рано, еще мальчиком), его отдали в монастырь на учение. Но пробыл он там недолго, отец боялся, как бы сын не «переучился» — не ровен час избалуется и уйдет в город. Вскоре после его возвращения из монастыря отец умер, и Марко стал главой семьи. Он завел дружбу с албанцами и стал продавать скот турецкой армии.
Все испортил один случай. Сошелся Марко с известным албанцем по имени Ахмет, старейшиной самого многочисленного и сильного племени. Оба не только стремились к тому, чтобы их семьи жили в дружбе, потому что в таком случае никто не осмелился бы на них напасть, но и просто любили друг друга. Да так крепко, что, хотя Ахмет был иноверцем, побратались в монастыре перед монахом, при этом пили один у другого кровь из рассеченной вены. С тех пор для них перестало существовать различие в вере. Дом Марко для Ахмета стал милее и роднее собственного; точно так же и для Марко в доме Ахмета ничто, даже гарем, не было тайной.
Оба были видные, сильные, рослые. Оставаясь одни, они не могли наглядеться друг на друга. И всюду бывали вдвоем — по торговым делам, и на ярмарках, и в монастырях, и на свадьбах, — всю округу, всю прославленную Пчиню они держали в своих руках. Сколько раз, бывало, Марко, вернувшись после года отсутствия, сперва заезжал отдохнуть к своему побратиму Ахмету и только потом отправлялся домой. Известно было также, что ни один праздник, ни одна пирушка в доме Ахмета или его близких не проходили без Марко, точно так же и в доме Марко ни один праздник не мыслился без Ахмета или кого-нибудь из его домашних.
Племянник Ахмета, Юсуф, можно сказать, вырос в доме Марко. Все знали, что бездетный Ахмет любил его больше всех и готовил себе в наследники. Это было видно и из того, что он надолго оставлял его у побратима, отчасти потому, что их дом был ближе к монастырю и Юсуф мог чаще ходить туда учиться, но главное потому, что хотел, чтобы племянник у Марко и его родных, людей гораздо более отесанных и светских, научился вести себя, перенял манеры и подготовился сменить дядю на посту старейшины и главы рода. И никого так не баловали, никого так не любили в семье Марко, как Юсуфчича. Для всех родичей Марко он был вроде дикого звереныша, волчонка, которого надо было приручить. Каждый старался ему угодить; для собственных детей не делали того, что делали для Юсуфа.
И только потом увидели, к чему это привело. Была у Марко одна-единственная сестра; чтобы ей не пришлось выйти замуж за какого-нибудь крестьянина и переносить суровую жизнь в горах, он взял ее к себе в дом и даже послал учиться в монастырь. И позже не торопился выдавать замуж, выжидая подходящий случай. И так как она была единственной женщиной, остававшейся дома даже во время страды, то и Юсуфчичем больше всего занималась она. Она учила его и читать, и одеваться, и говорить. Они могли на глазах у всех целоваться, и никому в голову не приходили какие-либо нехорошие мысли. Во-первых, она была старше его и, как сестра Марко, во время отсутствия хозяина являлась главой дома. А во-вторых, для всех было очевидно, что она сама прекрасно понимала, к каким несчастьям это могло привести.
Но как-то раз, когда Марко вернулся из поездки, она не посмела показаться ему на глаза, настолько заметна была ее беременность. Когда Марко услышал об этом, он чуть не растерзал ее собственными руками; спасли ее лишь мольбы и слезы родных.
И Марко не успокоился, пока ему не доложили, что ее отвезли на лошадях — ночью, тайком — в женский монастырь, и не показали прядь отрезанных волос и кусок черного монашеского одеяния.
Но, к своем ужасу, близкие увидели, что Марко продолжает грустить. И не столько из-за себя, сколько из-за побратима Ахмета: Юсуфчич обречен на смерть, это все понимали, но он боялся, что его соплеменники не остановятся на этом и перебьют Ахмета со всем его семейством.
Напрасно пораженный Ахмет притащил к себе все племя, чтобы денно и нощно сторожить Юсуфчича. По ночам его тайком увозили в другое племя, — только бы скрыть от родных Марко.
Но все было тщетно. Самый младший из рода Марко, с детским, еще не обветренным лицом, пробрался по албанским селениям, словно под землей, и обнаружил дом, куда спрятали Юсуфчича. Неизвестно, как он взобрался на крышу, как просидел целый день в дымовом отверстии, задыхаясь от дыма из очага. Но только вечером, когда, расставив стражу около дома, все с ружьями на коленях уселись вокруг очага вместе с Юсуфчичем ужинать, парень через дымовое отверстие свалился прямо на очаг. Воспользовавшись темнотой и общим смятением, он отрубил Юсуфчичу голову. В сопровождении поджидавших его родичей он вернулся в село, и над кровлей дома была приколочена мертвая голова Юсуфчича, смывшая позор и срам со старого дома.
Сразу после этого Марко, не столько ради себя, сколько ради единственного сына, будущего главы и старейшины рода, перевез жену и сына сюда, во Вране, и купил этот дом. Перетащил и все свое богатство, правда мужицкое, но довольно значительное: огромные тюки с коврами, ряднами, мукой, шерстью, бочки вина, из скота взял только тех коров и лошадей, которые были нужны в хозяйстве и к которым жена и сын успели привязаться. Сам же он не мог навсегда расстаться с родными местами еще и потому, что боялся, как бы всех его родичей не перебили люди из племени Ахмета. Он снял в аренду несколько постоялых дворов на границе, служивших не столько для торговли, сколько для контрабанды, воровских сделок и сведения счетов, чтобы отсюда держать албанцев в страхе и повиновении.
Домой, в город, Марко приезжал редко. Раза три-четыре в год, не больше. Одежду ему посылали из дому, но не часто. Обычно это бывало по субботам, когда в город на громоздких повозках, запряженных волами, приезжали возчики за товарами для постоялых дворов: кусками соли, кадушками масла или керосина, но чаще всего за порохом, пулями и оружием.
А в городе постоянно жила жена Марко Стана со слугой Арсой, которого и слугой-то не считали, так как он вырос в доме.
Стана мало изменилась со времени переезда в город. Это была уже пожилая женщина, худая, высокая, с узким лицом, спокойными белесыми глазами и бледными губами. Хотя у нее было чем убрать дом, она ничего не делала. Тюки с коврами, подушками и покрывалами так и лежали неразвязанными. Нужно было потратить один день, чтобы все разложить по дому, но Стана никак не могла решиться на это, отговариваясь тем, что и без того дел много. Каждый день она озабоченно спрашивала: «Ну, когда же в доме будет убрано и вещи разложены?» Но опять тянула и медлила, да так и оставляла. Словно надеялась на что-то. Больше всего, видимо, на возвращение в деревню, хотя отлично понимала, что это невозможно. А потому никак не могла стать «горожанкой», смириться и свыкнуться с городским домом. Вечно она была одна. Иногда только приходили соседки, некоторые из них тоже переселились сюда из Турции. Иногда она бывала у них, и это все. Ни с одной она по-настоящему не подружилась. Из городской одежды она носила только антерию, дорогую, шелковую, но из-под нее выглядывал подол длинной, грубой крестьянской рубашки. Голову повязывала, как и прежде, обыкновенным, жестким желтым платком, юбку носила из домотканого сукна и к поясу подвешивала ножик с ключами от всевозможных сундуков. Но ходила не босая и не в опанках, а в туфлях и белых шерстяных чулках. Да и то сколько раз, позабывшись, начинала подвязывать опанки, пока Арса со смехом не кричал:
— Эй, хозяйка, тут тебе не Пчине.
И не будь с ней Арсы, бог знает, что бы с ней стало. Он был для нее и город и деревня. Ходил по городу, на базар и потом рассказывал все до мельчайших подробностей. От него она узнавала, как выглядит базар, чем торгуют в лавках, каковы товары, что делается в трактирах, особенно в «Пестром хане», где останавливаются турки и их односельчане из Турции. Односельчан Арса всегда приводил к ней, она их поила, кормила и потом мучила бесконечными расспросами, так что им едва удавалось от нее уйти.
Может быть, все было бы иначе, если бы Марко оставлял с ней сына Томчу. Но как только мальчику исполнилось десять лет, отец, словно боясь, что родственники Ахмета доберутся до головы сына даже здесь, в городе, — стал брать его с собой и никуда от себя не отпускал. Приезжали они вместе лишь на рождество и на пасху. Так мать никогда и не могла наглядеться на сына и хотя бы ночью, спящего, вволю нацеловать. Мальчик же весь в отца пошел. Двенадцати еще нет, а он уже ходит с ножом и подпоясывается двумя кушаками, на мать покрикивает и не позволяет себя особенно целовать и ласкать. Лишь изредка он приезжал к ней один; это бывало по субботам, когда он вместо отца сопровождал возчиков. Но всегда должен был возвращаться на другой день рано утром.
Сколько раз, не видя сына многие месяцы и ничего не зная о нем от других людей, что больше всего тревожило, Стана, не выдержав, начинала пытать и укорять Арсу, словно он был виноват:
— Ох, почему же он не шлет ребенка? Почему держит его так долго при себе? Мало того, что сам воюет с этими проклятыми албанцами, так еще и мальчика впутывает.
Арса сначала возмущался и сердился:
— Откуда мне знать, хозяйка? Известно ведь, каков хозяин.
Но тут же принимался утешать ее: наверняка в эту субботу пришлет мальчика, давно уж возчиков не было. А думает он так потому, что слышал, что у них там последние дни было много дела и весь товар разошелся. Но тут он умолкал, чувствуя, что заврался, и искал повод, чтобы скрыться с глаз хозяйки.
Стана, привыкшая к таким ответам, и сама уже не слушала его; понуро возвращалась она в дом, тяжело вздыхая:
— Ох, что же он не шлет его?.. Хотя бы весточку… Извел меня…
XIV
Узнав, что Софку просватали, весь город, ликуя, вздохнул с облегчением. Значит, в конце концов и с ней покончено, да, видно, только плохо богу молились, что так выдают дочку, — в крестьянскую семью, да еще за ребенка, которого ей придется учить и одеваться и умываться. Что ж, ведь она ни на кого не хотела глядеть, на всех смотрела свысока, вот и поделом! Так ей и надо! Не такая уж она важная птица, за какую себя выдавала. А затем, как полагается, пошли всевозможные наговоры и сплетни.
Но чем больше было кривотолков и слухов, тем шире были распахнуты ворота дома, а чисто выметенный двор и разукрашенные комнаты не могли вместить всех любопытствующих. Софка все это предвидела и держалась стойко. Она заранее знала, какие ей придется выносить шуточки и расспросы, имеющие цель потихоньку выведать, действительно ли она счастлива, действительно ли любит жениха, еще сущего ребенка! Знала, что самые грязные и сальные насмешки будут отпускать ее ближайшие подруги и сверстницы. И потому Софка всегда появлялась в самом роскошном своем одеянии — тяжелых шальварах, красных как кровь, с серебряным шитьем вокруг карманов и вдоль штанин. Грудь ее закрывала нитка дукатов, подаренная Марко и вызывавшая, как она понимала, больше всего изумления. Софка принимала гостей с горящими глазами и пунцовыми губами, на которые она не жалела помады, так как знала, что это будет истолковано как проявление любви и счастья.
Вечером, утомившись от гостей, Софка ложилась на тахту, служившую ей постелью. Магда, низко склонившись над стоявшим около нее низеньким столиком, пыталась заставить ее поесть — в течение дня Софка ничего не брала в рот.
Всю ночь Магда сидела, подремывая, возле нее, якобы чтоб быть под рукой, если что понадобится, на самом же деле охраняя ее. Потому что, хотя Софка и старалась держать себя в руках, каждую ночь ее била лихорадка. Она теряла представление о времени и чувствовала, что вся горит. Изо рта вырывалось горячее дыхание. Она поворачивала голову к окну и отчетливо видела, как на небе, в облаках, появляется он, могучий, высокий, с сильными руками. Вот он приближается к ней. Берет ее на руки и, не сгибаясь, — такой он сильный! — прижимает к себе и целует. Все это было так явственно, что она даже чувствовала прикосновение его лица.
Тогда она вскакивала и, обомлевшая, вне себя от страха, хватала Магду за руку, показывая в окно на небо.
— Магда, видишь?
Магда, ничему не удивлявшаяся, смачивала ей лоб водой и проводила мокрым полотенцем по губам. Софка приходила в себя, ей становилось стыдно, она ложилась ничком и приказывала:
— Магда, укрой меня. Спать хочу!
Наутро, при свете дня, Софка уже не испытывала к себе такой жалости, потому что видела, что ее жертва и ночные муки не напрасны, по крайней мере она осчастливила родителей. Дом принял свой прежний, столь знаменитый вид, блестящий, умиротворенный и торжественный. Отец немного приоделся; нового шить не хотел, чтобы не сказали, что это на деньги, полученные Софкой от свекра. Целый день эфенди Мита проводил дома. Ходил по двору и саду, присматривая за всем и наводя порядок. Дольше всего он задерживался в погребе, где стояли бочки с вином, присланные сватом Марко; что ни день он просил прислать еще то, что особенно пришлось ему по вкусу. Когда приближалось время обеда, отец приходил в нетерпение. Сам шел на кухню, топтался около очага, пробовал кушанья и указывал Магде или матери, как и что лучше приготовить, какой кусок мяса оставить для него и как поджарить… А мать, неизменно в парадном платье, не поднимая головы, печет пирожные, колет сахар, жарит кофе — по кухне нельзя и шагу сделать, не наступив на сахар или кофейное зерно. Стенные шкафы, полки и подоконники нижней комнаты завалены остатками слоеных пирогов, пирожных и локума. И все из-за отца. Понравятся ему пирожные, а съесть-то все не под силу, он и приказывает оставить ему на завтра. Но завтра он уже их не ест. На следующий день ему приглянулись другие пирожные или пироги, и он снова приказывает оставить на завтра. И вот набралось столько снеди, что весь дом, особенно нижний этаж, большая комната и кухня, пропах тяжелым, жирным, приторным запахом.
К тому же весь день не было отбоя от подарков, которые Софке беспрестанно посылал свекор Марко. После сватовства он перестал ездить по постоялым дворам и в деревню, был занят спешными приготовлениями к свадьбе и устройством дома. И потому все время посылал Софке подарки и разные сладости. А каждый вечер, с наступлением темноты, приходил сам, тайком, как бы и сам понимая, что это против обычая. От самых ворот слышался его густой бас:
— Где моя Софка?
Весь дом наполнялся его сильным, низким и радостным голосом, который достигал и верхнего этажа, где была Софка.
Подобрав шальвары, чтобы не мешали, и забрасывая косу за плечи, она выбегала к нему.
— Я здесь, папа!
И целовала ему руку.
Он протягивал ей подарок, оправдываясь, что шел-де по базару, попались ему на глаза серьги, он и купил для нее. Эфенди Мита угощал его, потом они ужинали, и Марко засиживался до глубокой ночи. Когда он уходил, Софка провожала его до ворот со свечой, и он всегда тихонько, чтобы никто не слышал, спрашивал ее:
— Денег тебе не надо? Дать, может?
— Есть, есть у нас!
— Да нет. Тебе самой, чтобы у тебя были собственные: понадобится что, ты и купишь.
Дальше он не спрашивал, но когда Софка целовала ему руку на прощание, в ее руке оказывался дукат.
XV
Со дня сватовства и даже во время обручения, когда она в первый раз увидела своего жениха Томчу, которого, правда, толком и не разглядела, — он едва доходил ей до плеча, — Софка ни разу не плакала.
И только накануне свадьбы, в субботу, когда, по обычаю, в сопровождении молодых родственниц и ближайших соседок, она отправилась в бани, чтобы искупаться там и приготовиться к венчанию, она в первый раз расплакалась.
Наняли бани целиком. Мать, тетки и пожилые женщины остались дома. Пошла только бабушка Симка, знаменитая парильщица, которая должна была купать Софку. Это было ее ремеслом. Когда-то она убежала с турком и приняла ислам. Потом он бросил ее, она служила в гаремах, а состарившись, вернулась домой. И с тех пор купала и парила всех невест.
Поговаривали, что она и ворожить умеет, что, купая невест, она дает им наставления, снабжает разными зельями, чтобы на другой день, во время и после венчания, они понравились бы мужьям, пришлись им по вкусу.
Потому-то Софку и отправили с бабушкой Симкой. Мать должна была лишь послать в бани как можно больше еды, пирогов и пирожных, чтобы у них там было чем угоститься. Еще до обеда служанки отнесли в бани угощение и чистое платье. Софка же взяла с собой только подарки: полотенца и чулки для содержательницы бань и остальных служащих. Узел с подарками несла бабушка Симка.
Домашние проводили их до ворот и смотрели им вслед, пока они не свернули в узкую и кривую улочку, размытую водой и усыпанную камнями; гурьбой по ней идти было невозможно, все шли гуськом. Зная, что сегодня дочь эфенди Миты, Софка, должна пройти в бани, женщины и девушки с нетерпением поджидали ее у своих ворот. Симка сияла — ведь лучшей рекомендации не сыщешь! Раз семья эфенди Миты позвала ее попарить Софку, то и те, что победнее, не преминут к ней обратиться. Она здоровалась с пожилыми женщинами, задерживалась возле каждой, чтобы поговорить.
Но они и сами приветствовали ее, словно Софкино замужество было праздником и для Симки.
— Желаем счастья, бабушка Симка!
Она, довольная, отвечала:
— Спасибо, спасибо, даст бог и ваша не засидится.
Софка, в новой дорогой колии, подарке свекра, шла посередине. Она знала, что все на нее смотрят, и это было приятно. Суконная колия плотно облегала ее и грела, в плечах и у бедер она была, правда, узковата. Но это еще лучше подчеркивало фигуру. Поднятый воротник нежно и мягко ласкал шею.
Они шли вверх по узкой улочке, с каждым шагом приближаясь к баням. Софка знала, что на том углу, где они должны будут завернуть, чтобы дальше идти через базар, около лавок соберутся холостые парни и просто зеваки. По субботам, когда женщины шли в бани, их бывало особенно много. Софка знала, что сегодня их наверняка будет еще больше. И прежде, когда она ходила сюда с матерью, при их появлении в толпе всегда происходило движение: на них были самые дорогие и красивые одежды, и люди не знали, кем любоваться, кто красивее, мать или Софка. Теперь же, когда она шла невестой, народу, без сомнения, соберется еще больше, всем захочется получше разглядеть ее и позлословить про себя, что вот-де и она выходит замуж, правда, за очень богатого, но все же мужика, недавно только приехавшего из деревни, да к тому же почти ребенка. И это она, Софка! Поэтому, подойдя к углу, она не испугалась посторонних взглядов, как другие невесты, а продолжала идти спокойно и неторопливо. Молоденькие девушки, шедшие с ней, краснели под любопытными и порой нескромными взглядами собравшейся толпы и проходили словно сквозь строй, а потом не выдерживали и бежали поскорее к мосту и баням так, что бабушка Симка, увидев, что скоро она останется с Софкой одна, принуждена была громко их окликнуть.
— Куда побежали, дурные? — останавливала она их, чтобы, как требовал порядок и обычай, всем вместе подойти к баням, стоявшим сразу за мостом.
Здание бань было круглым, из старых камней, с сырым и заплесневелым фундаментом. Зарешеченные окна были высоко, под самой крышей, чтобы нельзя было заглянуть внутрь. Широкая и почерневшая крыша опускалась полого. И только наверху, где были окна, пропускавшие свет в бани, сохранилась штукатурка. Кругом была вода, главным образом от родника, из которого снабжались бани, откуда она потом разливалась по базару и окрестным проулкам. За банями снова шел базар и находился знаменитый цыганский квартал со старой часовой башней. Оттуда уже доносились звуки скрипок, бубенцов и барабанов; сидя у своих хижин, цыгане-музыканты настраивали инструменты, чтобы быть наготове и с наступлением ночи разойтись по городу.
Перед банями Софку встретила сама хозяйка. После того как девушка поцеловала ей руку и подарила рубашку, хозяйка ввела ее первой и проводила на почетное место, где лежал тюфяк, тогда как всюду были расстелены циновки. Пол был выстлан каменными плитами. С потолка свисала зажженная лампа, потому что решетчатые окна давали мало света. Свет шел еще от груды горящих угольев, вокруг которых сушились купальные простыни. За Софкой вошли и все остальные. Как только двери бань затворили, купальщицы почувствовали себя на свободе, стали рассаживаться на тахты и раздеваться. Вскоре помещение запестрело скинутыми одеждами и наполнилось говором, хохотом и веселыми восклицаниями суетившихся женщин.
Одни смеялись, щекотали друг друга, переодевались в чужое платье, другие силой раздевали особо стыдливых девушек, в первый раз пришедших в бани. В особенности отличались молодухи, недавно вышедшие замуж. Они разделись и были готовы первыми и пошли задирать и подгонять остальных. Стук деревянных сандалий цыганок, приводивших в порядок помещение, вторил беспрестанному стуку поленьев, подвешенных к дверям, чтобы они плотнее захлопывались. Все смешалось с общим гулом голосов… Некоторые уже разделись и в нетерпении бегали босые по плитам, держа в руках сандалии и норовя проскользнуть внутрь, но сразу с визгом выбегали обратно, обрызганные холодной водой теми, кому уже удалось туда проникнуть. И все жаловались бабушке Симке, словно она для них была и отцом и матерью. Выбежит с визгом девушка:
— Тетя, чего они! Пройти не дают!
Софка, сидя на почетном месте, на тюфяке, покрытом белой простыней, раздевалась. Бабушка Симка стояла рядом, Софка не торопилась. И ничему не удивлялась. Как только ее просватали, она уже тогда знала, как все это будет: сватовство, подарки, головной убор невесты, толпа мужчин на углу улицы, и вот — бани. Знала, что свет будет едва пробиваться сквозь окна под потолком, а в глубине мерцать груда углей, из-под тахты будет тянуть свежестью от сырых плит, у входа будут стоять кувшины с холодной водой, а рядом с ними — ряды сандалий, в мокрых одеждах будут сновать цыганки, сухощавые, смуглые, с блестящими глазами и белыми зубами. А из мыльни будет нести жаром, паром и спертым воздухом…
Знала и то, что теперь на нее будут смотреть иначе, чем раньше, когда она приходила с матерью, еще не просватанная (тогда ее словно обходили, любовались лишь издали), теперь же на нее станут смотреть совсем по-другому, будто впервые ее увидели. Сейчас вот она начнет раздеваться, и все исподтишка будут ожидать, когда она скинет с себя все, чтобы рассмотреть ее как следует, каждую часть тела, каждое движение. И все оттого, что завтра она выходит замуж. Для Софки и это не было неожиданностью и поэтому совершенно ее не трогало.
Но когда она увидела, что все уже разделись и прошли в мыльню, а у ног ее осталась только бабушка Симка, Софку вдруг охватил ужас от того, что все это происходит с ней, Софкой. Старуха, тоже раздетая, в купальной простыне на поясе, в огромных сандалиях на тощих ногах, своим высохшим торсом бронзового цвета прикрывала Софку от любопытных взглядов. Покуривая, она разговаривала с хозяйкой, с особенным удовольствием вставляя турецкие слова. Не желая, чтобы кто-нибудь подумал, что она так медленно раздевается от страха, и не пришел бы ее подбадривать, Софка поспешно сбросила с себя последнюю одежду и торопливо позвала Симку:
— Идем, тетя!
Хозяйка подмигнула цыганке, которая наготове стояла рядом, та в тот же миг подала Софке красивые деревянные сандалии с перламутровыми украшениями и услужливо надела их на ее маленькие розовые ноги. Софка, дрожа как в ознобе, движением головы откинула назад волосы, почувствовав, как они нежной волной легли на плечи и спину, и пошла за цыганкой, пальцами ног придерживая соскальзывающие сандалии. Цыганка отворила первую дверь — тяжелую, пропитанную сыростью, всю прогнившую снизу. Софка, а за ней Симка вошли. Когда тяжелое полено ударилось о дверь, захлопывая ее за ними, а влага, пар, запах мыла, смешавшись с оглушительными криками, хохотом, звоном тазов и шумом воды, выплеснулись навстречу, ее снова охватил панический ужас. Неожиданно ей стало грустно и тяжело. Но, совладав с собой, она сама отворила вторые двери и вошла внутрь.
Вначале из-за пара Софка ничего не могла разобрать. Свет проникал сверху через узкие окна и освещал только самую середину — тершену[4], под сводами, куда свет из окон не доходил, в курнах[5] мерцали темно-красные лампады. Из кранов вода бежала в мраморные, четырехугольные ванны. На тершене смутно виднелись раскинувшиеся тела, чернели пряди длинных, мокрых, слипшихся волос.
Твердой, горделивой поступью Софка направилась к своей курне, которую она легко узнала по двум лампадкам и красной занавеске у входа, но бабушка Симка, остановив ее, шепнула:
— Софка, сперва на тершене погрейся и попарься.
Она повернула туда. Лежавшие встретили ее веселыми прибаутками и, раздвинувшись, уступили ей место посредине. Софка поднялась на тершену и легла. Но не на спину, как все остальные, а ничком, спрятав грудь и прижавшись лбом к перевернутому тазу. Разогретые плиты жгли, но ей было холодно. В горле стоял комок горечи, она была зла на себя. Что это с ней такое? Она все знала заранее, почему же на душе такая тяжесть? Ведь все видят ее тоску. Симка, скрестив ноги, села рядом и, покуривая и попивая ракию, посланную хозяйкой, ждала, пока Софка хорошенько прогреется, чтобы начать ее растирать. И от этого становилось на душе еще горше.
А ведь самое тяжелое впереди. Сейчас снова начнется веселье, песни, и, как обычно, петь будут сплошь о любви, о сердечной тоске, о луне…
Так и случилось. Женщины еще лежали возле Софки и парились, когда молодежь уже затянула песню. Им уж прискучило лежать. Уйдя за занавески, где были краны, они принялись плескаться, обливать друг друга, а в дальних, темных углах, где из-за пара ничего не было видно, громко запели тогда еще новую песню:
Плачь, любимый, и я стану плакать.Песню подхватили все. Поднялись с тершены и женщины, лежавшие рядом с Софкой; они присоединились к девушкам и тоже начали мыться и петь. Голоса их выделялись силой и напевностью. Вода из курн потоками разливалась вокруг тершены. Песня звучала все более громко и страстно. И как назло, об одном и том же: не в богатстве счастье, что будто был у Софки милый, любила она его, а вот теперь выходит за немилого. И жалея ее, видя, как у нее тяжело на сердце, они поют песню о разлуке, думая утешить ее, показать, что она не одна, что и среди них есть такие же, несчастные горемыки, и они вянут без любви. А Софка знала, что у нее все не так. И оттого было еще горше.
Лежа ничком в облаках пара, окруженная только водой и песней, Софка чувствовала, что вместе с душившим ее паром она глотает слова песен. Прислуживающие цыганки беспрестанно входили и выходили, полено било о дверь, и Софке казалось, что оно бьет по ее голове. Все громче гремели тазы, все выше поднималась песня. Наконец высокая смуглая девушка, та самая, что жаловалась на Пасу, спасаясь от подруг, обливавших ее водой, отчего волосы облепили всю ее красивую, стройную фигуру, вскочила на тершену к Софке и, вскинув голову, запела так громко, что загудели все бани:
Знай, любимый, знай, любимый, Как сохну я по тебе.И вдруг смолкла и через мгновение затянула жалобное причитание, словно она завтра сама выходит замуж:
Ох, ох, тебе, любимый, жаль, Тебе жаль, что разлука настала?— Тетя, пойдем!
Софка поднялась, почувствовав, что больше ей не выдержать.
В курне, как только за ней опустилась занавеска, Софка схватилась за голову, упала на лавку и залилась слезами. Симка быстро повернулась навстречу цыганке и, не позволив ей войти, приказала стоять у входа и крепко держать занавеску снаружи, чтобы ничего не было видно.
Цыганка понимающе усмехнулась, уверенная, что Симка потому прячет Софку, что во время мытья и растираний будет ее учить напускать чары на мужа.
С уходом Софки женщины и девушки почувствовали себя совсем непринужденно. Распаренные и размякшие до самых костей, они пели в каком-то экстазе. Бани гудели. Даже хозяйка с вязаньем в руках пришла поглядеть, что здесь происходит. Предводительствовала всеми все та же высокая девушка. Стоя посередине тершены с тазом над головой, она самозабвенно пела. Голос ее звучал сильно и страстно:
Ох, ох, тебе, любимый, жаль, Тебе жаль, что разлука настала? Разлука настала, а…Неожиданно, в исступлении страсти, она бросила таз. Он подскочил и покатился со звоном. Все переполошились, испугавшись, что хозяйка будет ругать за порчу таза. Но она, стоя у входа, и сама поддалась общему беснованию.
Никогда еще в жизни Софка не обливалась такими горючими слезами, только что в голос не рыдала. Глаза застилала тьма. Она наконец все поняла: и то, почему ей так сейчас тяжко и горько, и почему она сейчас плачет, сотрясаясь всем телом, как ни разу в жизни даже перед матерью не плакала. Совсем это не из-за того, что выходит она за нелюбимого, а из-за чего-то другого, гораздо более страшного. Все кончено. То, о чем она знала заранее, что предчувствовала, но что до сих пор казалось далеким, пришло. Раньше она, хоть никого и не любила, могла мечтать о любви, могла на что-то надеяться, кого-то ждать, любимый снился ей, она целовала его во сне. Завтра же, после венчания, все будет кончено. Некого больше ждать, некого видеть во сне, не о ком мечтать. Все, что было дорого сердцу, к чему втайне всеми силами стремилась душа, все это завтра исчезнет, канет, уйдет…
Сердце разрывалось от боли.
— Ох, ох, тетя, тетя!
Пряча залитое слезами лицо на высохшей груди Симки, Софка, словно безумная, билась в судорогах. Ее прекрасное, будто выточенное из мрамора, влажное тело сверкало и переливалось.
Мыла ее Симка осторожно, умело. Сухой, как пергамент, рукой она тщательно растирала спину, плечи и грудь Софки, чтобы завтра на свадьбе она особенно хорошо выглядела. На ее слезы и всхлипывания она не обращала внимания. Такой красоты ей давно не приходилось видеть, она и сама расстроилась и, словно утешая себя и подбадривая, твердила:
— Ох, впервые мне такое выпало!
На самом же деле, и особенно в последнее время, ни одна девушка не была счастлива, ни одна не выходила по любви. Почти все, как Софка, плакали, убивались и горевали… Да что толку!
Испугавшись, что плач и стоны Софки могут быть услышаны, так как в банях стало тише, Симка, чтобы заглушить их, принялась громко разговаривать и шутить, задирая тех, кто стоял поблизости или проходил мимо. Когда Софка, окончательно овладевшая собой и успокоившаяся, наконец встала и вышла из курны, Симка ей ни слова не сказала. Сделала вид, что ничего и не было.
— Пошли, тетя! — сказала Софка.
И та тихо ответила:
— Пошли, Софка!
И в этом «пошли, Софка!» прозвучало столько участия, столько утешения, но одновременно и такое решительное побуждение выдержать все, что посылает судьба, что Софка, растрогавшись, окрепла духом и смело, с улыбкой на губах, вышла из мыльни.
Женщины на тахтах медленно одевались, остывая после купанья. Из незастегнутых минтанов и безрукавок виднелось разгоряченное тело, на крепких покрасневших шеях беспокойно бились вены. Девушки еще никак не могли угомониться. То и дело в воздух летели белые полотенца, они вытирали пот со лба, совали их под мышки или между грудей и вытаскивали смятыми и мокрыми. Хватались за сухие полотенца, просили друг друга вытереть спину. Взаимное вытирание вызвало новые шутки, вновь поднялась возня. Помещение наполнилось запахом чистых, вымытых страстных тел. Время от времени дверь из мыльни открывалась и оттуда с шумом вырывалась сильная струя пара и зноя, явственно напоминая вздох, словно это мраморные плиты сожалели о прекрасных телах, недавно их покинувших.
Жара и пар из мыльни, влившиеся в прохладный воздух, наполнили все помещение, освещенное слабым светом свечей, сырым туманом и мглой. И казалось, это еще больше распалило и одурманило женщин.
Но как только появилась Софка, все мгновенно притихли, повернулись к ней и в один голос бросились ее весело приветствовать на свой лад:
— Эй, невеста, невеста! Ах, Томча! Глянь только, кого завтра обнимать будешь!
— Кыш, безобразницы! — крикнула что было мочи Симка. И чтобы поддержать веселье, которое, по обычаю, после купания должно еще больше разгореться, она обернулась к хозяйке: — Ну, чего ты смотришь, чего стоишь? Надо было впустить с базара парней, чтобы эти негодницы угомонились!
— О, о… тетя, пусти Васкиного Ристу. Вон он томится на мосту!
— И Йована твоего заодно! — послышался обиженный и сердитый голос Васки.
— Миту, Миту впустите! — откликнулась с другого конца расходившаяся молодуха, ядовито глянув на смуглую девушку, которая пела с тазом над головой. Крепко обняв ее, она пустилась дразнить девушку: — Миту, Миту ее впустите! — И потом запела:
Эх, Мита, Митанче, Хоть помри, хоть лопни, Эх, Мита, Митанче!«Митанче» подхватили все и запели с такой исступленной страстью, что даже хозяйка заволновалась и, смеясь, принуждена была сходить и покрепче притворить наружную дверь, чтобы парни на базарной площади не услышали и не начали собираться перед банями.
Симка первой оделась и села во главе стола. Перед ней уже стоял графин ракии, лежали маринованные виноград, груши и перец. Возле нее стали рассаживаться женщины и угощаться фруктами и всякими сластями.
Софка торопливо оделась и села со всеми. Ее начали потчевать, и, к всеобщему удивлению, она не только ела, но и выпила несколько стаканчиков ракии, и все это время с губ ее не сходила сдержанная улыбка, глаза были чуть прищурены, а брови чуть-чуть хмурились, словно она надо всеми посмеивалась и всех жалела…
XVI
Возвращались из бань в сумерки. По базарным рядам и мосту шли степенно, закутанные и согнувшиеся, стараясь спрятаться друг за друга. Но как только базар остался позади, они снова, озираясь, начали шалить и толкаться. А вблизи Софкиной улицы бросились бежать. Каждой хотелось прибежать первой. Симка пыталась их удержать, но махнула рукой и осталась почти вдвоем с Софкой, которая была настолько утомлена, что ничего вокруг не замечала. Лишь когда показался ее дом с двумя уже зажженными фонарями, пламя которых мерцало наподобие страшных кровавых глаз, и тихо качающейся меж фонарей гирляндой из самшита и больших белых роз, на нее пахнуло смертью. В глаза бросилась новая черепица на крыше, недавно частично перекрытой (видно, на деньги, полученные за нее); среди старой, почерневшей и обросшей мхом черепицы она резко выделялась своим кроваво-красным цветом, словно была из мяса. Софке показалось, из ее мяса (она сама не знала, откуда это пришло ей в голову). Ее всю передернуло, но она взяла себя в руки и вошла во двор не через ворота, через которые отныне могли входить только сваты и гости, а через соседскую калитку.
Дом кишел народом; все суетились, бегали. На кухне громко булькали огромные котлы, над ними поднимались клубы жирного пара, за домом пылал большой костер, трещали угли и на вертелах жарились поросята и барашки; через нарочно поваленную ограду сада все время бегали дети, служанки, перенося в соседский дом подушки, одеяла, колии: эту ночь они должны были провести там.
Женщины, а особенно молодые, были в нарядных одеждах, в большинстве случаев из тонких, прозрачных шелковых тканей. Боже мой, ведь завтра надо показаться новой родне, пусть увидят, каковы у Софки родственники! На всех были длинные шелковые антерии, к шелковым платкам приколоты украшения; черные волосы, выкрашенные к торжеству, блестели, брови были насурьмлены, а лица и шеи набелены. Подбородок и шея были совсем открыты — как будто от спешки и беготни, а на самом деле эта небрежность, невероятная при других обстоятельствах, была вызвана тем, что они знали, что сегодня в доме никого из чужих не будет и стесняться, значит, некого, и поэтому чувствовали себя непринужденно, упиваясь откровенностью и красотой своих нарядов; забыв о годах, даже пожилые резвились, словно девочки. Женщины поминутно с визгом выбегали из кухни, неслись в погреб за вином, а потом мчались к колодцу охладить лицо и голову.
Софку это ничуть не удивляло. Она знала, что и сегодня все будет так, как всегда бывало на свадьбах и пирушках. Женщины будут вести себя так, словно пируют не со своими мужьями, а с совершенно незнакомыми людьми, которых им предстоит очаровать. Они будут готовы на самые невероятные вещи, и, по мере того как все больше будет разгораться веселье, напитки крепчать, а мужчины хмелеть, женщины будут все сильнее распаляться страстью к своим мужьям (позабыв, что уже народили им кучу детей), будто впервые увидели их, познакомились и влюбились. И каждая будет стараться как можно жарче и безогляднее выразить свою беспредельную любовь к мужу, чтобы тем самым как бы поднять его вес и цену в глазах других.
Вот они уже пошли суетиться у очага, отделяя часть из общего котла и заправляя блюдо по вкусу своего мужа. Кое-кто притащил даже из дому масло и муку, которую муж любит больше всего, кое-кто свое вино, опасаясь, что от здешнего, более крепкого, муж натворит черт знает что, тогда как от своего, привычного, с ним ничего не будет. И так каждая. Только бы ей было хорошо и весело! А на Софку ни одна даже не посмотрит — не то что поблагодарить за пиршество и веселье, причиной которых была ее свадьба. И лишь на заре, когда, по обычаю, начнут собираться гости и Софку надо будет одевать к венцу, они вдруг вспомнят о ней. Окружив ее тесным кольцом и словно бы раскаиваясь, что, самозабвенно и эгоистично предавшись веселью, позабыли о ней, они станут, причесывая и обряжая ее, лить слезы и горестно причитать.
Но Софка их не винила. Она понимала, что только на свадьбах и славах они могут уйти от забот, детей и насладиться жизнью. Тем более, что и перед свадьбой бывало много всяких хлопот и приготовлений, и поэтому, когда праздник наконец наступал, женщины, позабыв обо всем на свете, набрасывались на еду, питье и удовольствия. Причина этого, во-первых, заключалась в том, что только тогда им это и было доступно, а во-вторых, свадьба доставляла им особую радость, всегда вызывая воспоминание о собственном венчании. Одни бесновались от радости, что мечты их осуществились — вышли за любимого и желанного, и от сожаления, что тогда были глупы, стыдливы и сдержанны; другие — от горя и тоски по несбывшимся надеждам, по любви, которой им так и не удалось узнать.
Поэтому Софка с улыбкой смотрела на их разгоряченные от вина и возбуждения лица, на их разметавшиеся волосы, небрежными прядями падавшие на шею; на их антерии и кушаки, ослабевшие и съехавшие на сторону: она видела, что они едва собой владеют. Чем гуще ночная темень, тем сильнее становилось их волнение. Нет сил дождаться полной темноты (хотя уже порядочно стемнело), когда должно начаться пиршество. Давно уже зажгли свечи в комнатах и фонари перед домом и во дворе, давно уже разносятся крепкие ароматы с кухни, пыль во дворе стоит столбом от беготни, но празднество все не начинается. Нет музыкантов, а без них какое же веселье? И правда, почему это музыканты не идут? Ведь так никакого терпения не хватит — наешься, напьешься, не дождавшись их прихода, и все пропало, уж не будет той радости, даром пропадет долгое томление и ожидание… Поэтому, когда наконец снизу послышались звуки музыки, весь дом пришел в движение, все бросились к воротам с возгласом:
— Музыканты! Музыканты!
Действительно, это были они. Слышен был даже звон бубенцов на руках и ногах у танцовщиц и крики детворы, скакавшей впереди музыкантов. С приближением музыкантов во дворе поднимался все больший гам.
— Эй, старая, старая!
Это относилось к матери, которая, и без того взволнованная, тут, казалось, прямо рехнулась от счастья. Дождалась, что и ей, как каждой матери на свадьбе дочери, пришла пора вести коло.
Наконец музыканты вошли во двор. Поклонившись Тодоре, они стали у ворот, сбившись в кучу. Танцовщицы сняли бубенцы и скромно отошли в сторону. Стряпуха быстро подошла к Тодоре и, низко кланяясь, сказала:
— Дай бог счастья, старая!
Она подала Тодоре сито, полное сахару, орехов и других сластей, которые та, танцуя, должна будет свободной рукой разбрасывать по двору и комнатам, чтобы жизнь ее дитяти была такой же обильной, сладкой и богатой.
Музыканты заиграли. Тодора вышла в круг… Но то ли от радости, то ли от смущения, что все на нее смотрят, смешалась и стала делать ошибки. Однако другие тут же с веселым смехом подстроились к ней. Она быстро оправилась от волнения и увлеченно повела хоровод, свободной рукой разбрасывая из сита сахар и орешки по двору и дому.
Мрак сгущался; ярче светили фонари; казалось, дом, горящий огнями, насыщенный теплом и запахами разгоряченных тел, мокрых от пота одежд, дрожит и колеблется. А коло все разрасталось, уже закружилось вокруг дома, забив двор до отказа; за оградой толпились соседи, большей частью девушки, которых привели поглядеть на Софкину свадьбу. Войти в ворота было уже невозможно. Со всего города начали стекаться парни и включаться в коло…
И весь этот люд глазел на Софку. С не меньшим интересом, как казалось Софке, они разглядывали разложенные на веранде за ее спиной подарки, которые завтра понесут к жениху: шелковые одеяла, перины и подушки. Особенный интерес вызывало красное шелковое двуспальное стеганое одеяло. Софке почудилось вдруг, что она сидит голая, и она судорожно начала осматривать себя, чтобы увериться, что она одета и что на ней все в порядке. Но тут же спохватилась: нельзя этого допускать, нельзя, чтобы посторонние видели, как она сидит одна, подумали, что у нее, наверное, тяжело на душе, и стали бы ее жалеть. Софка быстро сбросила шаль и сошла вниз. Громко, словно кому-то наперекор, она сказала:
— Пошли плясать!
— Невеста, невеста хочет плясать!
Все, в особенности тетки, окружили ее тесным кольцом. Они были счастливы, что и в этом Софка оказалась выше других, сама вышла плясать, — обычно невесту приходится упрашивать и вытаскивать из угла.
Музыканты заиграли. Танцовщицы, оказывая ей честь, выстроились перед Софкой, чтобы сопровождать ее. Софка смерила всех взглядом исподлобья. Закусив нижнюю, влажную и горячую губу, отчего верхняя чуть выпятилась, она повела коло. Да как! Она была уверена, что ноги ее не подведут. Знала, что теперь-то на нее и будут глазеть самым наглым образом; каждое ее движение, ноги, колени, случайно мелькнувшие из-под платья — все будет ставиться в связь с завтрашним днем, с мужем, с брачной ночью. Знала, что особенно будут пожирать ее глазами незнакомые мужчины. Опустив глаза и глядя на грудь, колени и носки, она вся отдалась танцу. Она слегка присела, подпрыгнула и мягко и плавно пошла, покачиваясь в такт музыке.
Остальные, с нетерпением ожидавшие этого момента, принялись плясать с еще большим увлечением и азартом, а особенно знаменитая Паса, страстная плясунья. Увидев, с каким самозабвением пляшет Софка, она ревниво пустилась за ней. Но тетки и мать не допустили, чтобы Паса соперничала с Софкой. Они встали рядом, стараясь превзойти ее в танце. Софка воспользовалась их состязанием и незаметно отошла. Женщины, обхватив друг друга за пояс, двигались шаг в шаг, образовав единую слитную цепочку. Вскоре двор стал тесен, музыка гремела, пляски становились все исступленнее…
XVII
К ночи вернулся и эфенди Мита, подстриженный и побритый. Как требовали порядок и обычай, он пришел тогда, когда знал наверняка, что женщины приготовили все положенное: Софка побывала в банях, подарки разложили на веранде, встретили музыкантов, сплясали первое коло и разбросали сахар. Только тогда он мог приступить к своим обязанностям: встречать гостей-мужчин.
Поэтому, осмотрев кухню и щедро одарив стряпуху и цыган, а больше всех бабушку Симку, он прошел наверх. Женщины вздохнули с облегчением. Знали, что вниз он больше не сойдет, а если что понадобится, прикажет сверху. Мита скрылся в верхних освещенных комнатах, где были расставлены большие низкие круглые столы. Хотя тогда уже вошли в моду обычные столы, он приказал по старинке поставить низкие, турецкие, так как хорошо знал, что ни у кого, кроме них, нет ни таких широких, длинных полотенец, которые тридцать человек могли разостлать на коленях, ни золотых и серебряных подсвечников для такого количества свечей.
Через некоторое время сверху раздался голос эфенди Миты:
— Магда!
Добавлять что-либо еще к своему зову он считал для себя обременительным; он просто произносил имя, а уж другие пусть зовут того, кто ему требовался.
Магда помчалась наверх. Слышно было, как он отдавал приказания: главный стол еще немного отодвинуть, положить кругом больше подушек, чтобы из соседней комнаты не дуло и кого-нибудь не просквозило бы. Было ясно, что он сам намеревался тут сидеть и устраивает все это для себя. Потом приказал свечи в подсвечниках поставить реже и покрасивее, принести еще несколько фонарей и повесить перед дверью на веранду, чтобы лучше осветить лестницу, да еще на веранде поставить по стенам скамьи и стол для музыкантов. Для себя он велел принести табурет на трех ножках с небольшой подушкой из шерсти, на котором он будет сидеть на верхней площадке лестницы в ожидании гостей. И чтобы ему сейчас же подали ракию, которую он еще утром приказал охладить, да побольше курева, и чтобы сигареты уже были свернуты, так как ему некогда будет этим заниматься, а курить придется много, одну за одной. Сперва пусть принесут все, что нужно ему, а уж потом займутся прочим.
Прошло немного времени, и он уже сидел на верхней площадке лестницы, сидел не так, как бы ему хотелось, а как полагалось на свадьбе: свет фонаря бил прямо в лицо и освещал всю его фигуру, он сидел, привалившись спиной к веранде и поставив локоть на барьер, в руке с завернувшимся рукавом держал зажженную сигарету; на барьере веранды стояли табак, ракия, закуски…
Он думал о себе: сейчас он должен пить, пить через силу, чтобы быстрее опьянеть и быть в состоянии делать все, что полагалось отцу. Но до чего же все это тяжело! С каким бы удовольствием он все оставил, бросил всем на удивление и ушел бы далеко, далеко… Зачем лгать? Зачем все это? Зачем он должен встречать гостей, целоваться с ними, когда его ничто не тешит: ни гости, ни родня, ни пиршество, ни пляски, ни песни, ни вся эта притворная радость! Но так надо. Другого выхода нет. И чтобы быть в состоянии лгать и притворяться, он должен сейчас пить без конца ракию и курить одну сигарету за другой. Он поминутно вставал и снова садился, скрестив ноги. Музыкантов пока наверх звать не хотел, — очень уж от них несло запахом грязных, жирных, немытых тел; поэтому он приказал им играть внизу. Зная его, музыканты выделили самых умелых и искусных и завели песню, которая испокон веку пелась в их доме на свадьбах:
— Хаджи Гайка, хаджи Гайка, ты нам дочку отдавай-ка! — Я бы дочку выдать рад, да потом не взять назад…[6]Песня тронула эфенди Миту, слова показались утешительными. Да, что правда, то правда, в их семье иных свадеб не бывало. И сам он венчался больше ради других, ради отца, семьи, людей… А вот теперь он выдает свою Софку — и разве с легким сердцем? Конечно, нет, выдает потому, что так надо.
И слова песни, которую цыгане внизу все время повторяли, хватали его за сердце щемящей правдой:
— Хаджи Гайка, хаджи Гайка, ты нам дочку выдавай-ка! — Я бы дочку выдать рад, да потом не взять назад…Он кинул музыкантам динар и крикнул на кухню:
— Женщины, ракию цыганам!
Музыканты, обрадованные не столько чаевыми, сколько тем, что угодили ему песней — а они знали, как трудно ему угодить, — стали играть смелее. Женщины, видя, что хозяин в хорошем настроении, тоже вздохнули с облегчением. До этого они не смели показаться ему на глаза. А если и приходилось пройти мимо, старались это сделать незаметно, чтобы он не обнаружил вдруг какое-нибудь упущение в наряде и не начал ругаться. Увидев же, что хозяин в прекрасном расположении духа и угощает музыкантов, женщины почувствовали себя свободней. И, понимая это, эфенди Мита старательно разыгрывал веселье, чтобы женщины внизу чувствовали себя непринужденнее. Поэтому он пил не переставая и заказывал музыкантам не те песни, которые он любил, а те, которые, он знал, нравятся всем. Он даже завел с музыкантами разговор, конечно, по-турецки. Кое-кого из них он узнал. Узнал, например, старого Мусу, который, к его удивлению, еще не помер; он сидел позади всех, с краю, нагнув голову, завернутую в старый, грязный женский платок, чтоб не простыли подслеповатые глаза. Мусу все еще брали с собой, не потому, что от него было много проку, а потому, что он умел держать свирель так, будто действительно играет, и это давало ему право на свою долю еды и выпивки.
— Муса, ты ли это, Муса? — услышали цыгане голос эфенди Миты сверху.
Довольные, что хозяин не бранит их за старика, музыканты стали подталкивать Мусу, чтоб он встал и отозвался. Поняв, в чем дело, старик оторопело вскочил:
— Я, газда, я…
— Ходишь все? — принялся добродушно расспрашивать его эфенди Мита. — Как живешь? Ракия у тебя есть?
Кувшин с ракией, который до сих пор цыгане утаивали от него, изредка давая ему по стаканчику, быстро сунули ему в руки.
— Есть, есть, газда! — ответил тот, поднимая графин трясущимися руками.
— Ну, ладно, пей! А выпьешь, требуй еще.
Музыканты, вдохновленные, заиграли с еще большим подъемом. Всюду воцарилась непринужденность, которая так необходима на любой свадьбе и пирушке. А чтоб стало еще веселее, эфенди Мита решил снизойти к ним, спуститься вниз и смешаться со всеми. И все ради них, чтоб им было веселей. Да и как же иначе, ведь это в первый и последний раз он с ними веселится. Пусть же радость будет полной! Выпитая ракия тоже начала действовать, и эфенди Мита спустился на кухню и стал разговаривать с женщинами. А чтобы они почувствовали себя непринужденно и не робели перед ним, он начал подпускать двусмысленные шуточки и остроты. Так же и с девушками, всегда избегавшими его, дрожавшими от страха при одном его появлении. После нескольких сальных шуточек девушки совсем разошлись и пустились с ним заигрывать.
Скованность и страх исчезли. Жаждавшие веселья и плясок девушки перестали его замечать, словно его и не было, беспрерывно сновали, кружились, нисколько не смущаясь, если шальвары спускались ниже, чем полагалось, если безрукавка или минтан не были застегнуты на все пуговицы. А он каждую из них останавливал и, довольный, что они его не боятся, обнимал, клал руки на бедра и крепкие бока. И они, почувствовав прикосновение его легкой, уже высохшей руки, не пугались и не вырывались. И это его особенно радовало, а когда он чуть крепче прижимал к себе налитое, еще не тронутое мужской рукой тело, у девушки начинала кружиться голова, она вдруг чувствовала, что рука его, хоть и старая, все же рука мужчины, глаза ее загорались, с губ срывалось частое дыхание страсти, и она поспешно вырывалась и убегала.
Скоро начали появляться гости.
Дом в мгновение ока наполнился людьми. Наверху расположились мужчины во главе с эфенди Митой. Хозяин сперва принимал гостей, стоя на верхней площадке лестницы, здороваясь с каждым и целуясь. Но хватило его ненадолго. Встретив первый десяток гостей, он сел за стол. Затем началась трапеза — бесконечная и обильная, со всевозможными здравицами, супами, закусками, и лишь совсем поздно ночью приступили собственно к ужину. И все это, по обычаю, сопровождалось игрой и песнями музыкантов, помещавшихся на веранде; песни исполнялись не задорные и веселые, от которых на месте не усидишь, а специально предназначенные для такого рода ужинов — нескончаемые, монотонные, умиротворяющие и зачаровывающие, словно усыпляющие, под которые можно не торопясь, с удовольствием, всласть поесть и выпить…
XVIII
Софка, укрывшись в соседнем доме, сидела в маленькой комнатке на кровати у окна, чтоб через сад видеть все, что делается в доме. Вокруг нее на полу лежали грудные младенцы, которых матери не могли оставить дома, их собрали всех вместе и уложили спать у соседей, вдали от свадебного шума и суеты. Софка выбрала эту комнату, зная, что здесь будет тише всего, так как сюда не бегали поминутно, как в другие комнаты, из боязни разбудить детей. Только Магде она сказала, где ее искать.
Софка отдыхала, подремывая у окна, положив голову на руки, прислушиваясь к тихому посапыванию детей и вдыхая наполнявший комнату запах детского дыхания и молочных ртов, кулачков, прижатых к щечкам, и потных головок с редкими волосиками и еще мягким темечком. У Софки слегка кружилась голова, словно от аромата травы или первой весенней влаги. Но скоро этот молочный запах детей стал ей так же невыносим, как шум и гам в доме. Она была уже готова бежать и отсюда. Но в это время в комнату вошла Магда, стараясь не шаркать туфлями, она думала, что Софка давно уже спит. Если бы Софке не было так тяжело, она промолчала бы, сделала вид, что спит, но она не выдержала и подала голос:
— Что тебе, Магда?
Должно быть, в голосе ее была такая тоска, что пораженная Магда испуганно затопталась возле нее.
— Софкица, ты не спишь, не отдыхаешь? А я думала…
— Нет.
— Ай-ай-ай! Да ты, бедняжка, ничего не ела! — И Магда всплеснула руками, решив, что Софка, должно быть, не может заснуть из-за голода, так как, придя из бань, она ничего не ела. — Принести тебе? Давай схожу принесу чего-нибудь?
— Нет! Не надо! — ответила Софка.
— Может, выпьешь чего? Ну, поешь хоть чуточку. Сперва поешь, а потом выпей…
— Нет, нет, не хочу есть! — решительно отказалась Софка, содрогнувшись от одной мысли об еде.
— Так я пойду принесу чего-нибудь выпить?
И Магда ушла, опечаленная и задумчивая. По тому, как Софка отказывалась от еды, она поняла, что ей надо принести не вина, а ракии. Как же ей, видно, тяжело, если она хочет ракии, которую никогда до этого и в рот не брала.
Вскоре Магда вернулась с ракией. Чтобы никто не догадался, что она несет, она налила ракию в кувшинчик для воды и в горлышко вставила листик. Софка потянула прямо из кувшинчика. Сдвинув брови и шевеля губами, она сперва содрогнулась от обжегшей ее ракии, но, решившись, потянула увереннее, чувствуя, как огонь разливается по всему телу.
И сразу почувствовала себя лучше. В сжатом кулаке, лежавшем на колене, появилась сила, она словно бы ожила, постель прямо пылала под ней, а сердце билось сильно и свободно… Она снова потянула из кувшинчика и опять не пожалела, так как почувствовала, что жизнь возвращается к ней. Раздувая ноздри, она вдыхала свежий ночной воздух. Сад заколыхался, ночь вдруг показалась чудесной и ясной, такой, как та песня:
— Хаджи Гайка, хаджи Гайка, ты нам дочку отдавай-ка! — Я бы дочку выдать рад, да потом не взять назад…Софка поняла, что приближается минута, когда она уже не сможет оставаться здесь, в тиши и покое. Продолжая потягивать ракию, она мысленно готовилась к новому испытанию. Голова кружилась, глаза горели, но она думала, что это от страха. Софка боялась, что, когда придут гости жениха и она выйдет их встречать, когда они станут глядеть на нее взволнованно и выжидательно: веселый ли и довольный ли у нее вид, чтобы и им быть еще веселее, пить и петь еще больше, — у нее не хватит выдержки и умения показаться достаточно радостной и счастливой.
Однако она не ударила в грязь лицом и вела себя как следует. Около полуночи Магда что есть духу прибежала к ней.
— Гости жениха!
Софка сразу встала и пошла за ней.
Проходя по саду, она слышала, как все бегали, суетились и кричали:
— Сваты идут!
И хотя света было много, люди спешили к воротам со свечами, чтобы осветить их еще ярче. Действительно, это были сваты. Слышались то свирель, то скрипка, то городская музыка, то деревенская.
Скоро в толпе гостей можно было уже различить Марко, свекра. Впереди шли парни с фонарями на шестах, рядом с ним его родичи, в большинстве крестьяне. Он шел посередине, в накинутой на плечи колии, в меховой шапке, сдвинутой на затылок, из-под колии видна была новая шелковая белая рубаха с кружевами, очевидно Софкин подарок. Сразу надел ее, не терпелось показать, как мила и дорога ему Софка.
— Э-гей, сваты мои! — кричал Марко, поворачиваясь направо и налево. — Пусть все слышат меня! — И он приказывал музыкантам играть громче.
Принялись здороваться и целоваться. Крестьяне растерянно жались к Марко, напуганные и домом, и освещением, и обилием народа, да вдобавок городского, который много о себе «понимает». Один только Марко не был смущен. Сияя от счастья, он здоровался и кричал:
— Рады ли вы гостям, сваты?
— Еще бы, еще бы! — раздались со всех сторон голоса.
Дошли до лестницы. Марко остановился, глядя наверх, где его ждал, едва держась на ногах, окруженный хаджиями и женщинами, эфенди Мита с непокрытой головой, и закричал:
— Где моя Софка?
— Я здесь, папенька! — Подбежав к свекру, Софка поцеловала ему руку. Ему почудилось, что от ее поцелуя пахнуло недавним купанием, и, довольный, он положил ей руку на голову. Софка пыталась вывернуться из-под его тяжелой горячей руки, но Марко другой рукой полез в свой глубокий карман и, вытащив оттуда целую пригоршню монет, стал их совать ей. Софка почувствовала неловкость от его неуемной щедрости и начала отказываться: — Довольно, папенька!
— Для тебя ничего не жалко!
Он стал подниматься по лестнице, пустив Софку вперед, прикинувшись, что не знает, куда идти, по какой лестнице, и боится не туда попасть… Все захлопали в ладоши.
— Так, свекор, так, так!
Софка повела его. Она поднималась на одну ступеньку и поворачивалась к нему в ожидании, чтобы и он шагнул, не выпуская его руки из своей и чувствуя, как пальцы его дрожат все сильней и как бы щекочут ее ладонь, должно быть, потому, что ногти были недавно подстрижены. Марко же, польщенный тем, как она на глазах у всех ласково и предупредительно ведет его за руку, был на седьмом небе от счастья. Может, еще что ей подарить? Он опять полез в карман, но Софка воспротивилась, потихоньку сделав ему знак глазами. От такого выражения близости Марко пришел в совершенный восторг! Не зная, что и делать, он повернулся к кларнетисту, следовавшему за ним по пятам, и, захлебываясь, пробормотал:
— Ну-ка, Алил, сынок!
Алил, высокий с проседью полуцыган, длинноносый и длиннорукий, в белых штанах и чалме, стал выводить на кларнете высокие заливистые мелодии, поднимаясь вместе с ними наверх.
Наверху их ждали. Эфенди Мита со всеми перецеловался. Крестьяне, пришедшие с Марко, держались все еще принужденно и не решались отойти от него и сесть на принесенные стулья и подушки. Так и стояли, сбившись в кучу, вокруг своего братца Марко.
Софкина же родня, желая показать перед пришедшими, как они любят и ценят нового свата, своего братца, как они его величают, наперебой обхаживали Марко. Тодора неустанно его потчевала, собственноручно подавая ему стаканы и закуски. Он должен был позволить ей самой снять с него колию. Кое-кто начал ее уже поддразнивать:
— Эх, Тодора, эх, матушка, что-то больно ты увиваешься вокруг свата!
Марко, сидя во главе стола, опершись рукой о колено, с непокрытой головой, был так взволнован, что не знал, кого и благодарить: то ли сватью Тодору, так и кружившуюся вокруг него, обдававшую его жаром своей еще крепкой, ядреной груди, хмелем, ударявшим в голову; то ли Софку, которая, бог даст, завтра станет его снохой, а сегодня, склонившись над ним, крутит ему сигареты, зажигает и кладет в рот; то ли кларнетиста Алила, который чуть поодаль от него играет как никогда раньше. Не в силах усидеть на месте, не зная, что предпринять от такой радости и счастья, Марко вскочил и, заложив руки за спину, подскочил к Алилу.
— Алил, играй так, чтоб земля плясала!
Алил, задетый за живое, ответил:
— Газда Марко, моя игра — моя гордость!
Стоя на коленях, Алил совсем согнулся, так что почти касался пола, и чудилось, что звуки идут из-под земли. Это было знаменитое «большое коло».
— Тодора, Тодора! — закричали кругом.
И, ко всеобщему удивлению, — все были уверены, что, сколько ее ни упрашивай, она вряд ли согласится, в особенности при муже и других пожилых людях, плясать «большое коло», — Тодора сразу вышла в круг и повела коло с таким чувством, с каким никогда прежде не водила. Все захлопали в ладоши, а старики изо всех сил тянули шеи, чтоб лучше ее видеть. Эфенди Мита в исступлении стал кидать во двор стаканы с вином.
XIX
Солнце застало танцовщиц переодетыми в белые платья и густо нарумяненными, чтоб не было видно морщин и следов усталости после бурно проведенной ночи. На дворе стоял еще запах пролитого вина, еды. В саду над местом вчерашнего костра, залитого водой, поднимался и стелился сырой дым, пахнущий мусором.
Софка, уже одетая и обутая, ждала в большой комнате, возле кухни. На ней был один шелк. Длинная и густая фата почти скрывала и шальвары, и сильно открытую грудь, увешанную ожерельями и дукатами. Видны были только сверкающая шея, подбородок и рот, которым она все время двигала, судорожно глотая слюну. Несмотря на все усилия, у нее иногда вдруг подкашивались ноги. Присесть и отдохнуть не позволял обычай. Она чувствовала, как ее покрывает пот и капельками скатывается по ложбинке меж грудей. Но она не решалась сделать ни одного движения. Попробуй она поправить шальвары, чтоб удобнее было шагать, откинуть волосы или вытереть пот, все бы подумали, что она прихорашивается для мужа. Поэтому она стояла словно каменное изваяние.
Все, что происходило в доме, во дворе, для нее сейчас не существовало. Мысли ее были заняты лишь одним: как она выйдет на порог дома, как появится перед сватами и народом. Потому и время летело незаметно. Шум, гам, встреча сватов, ружейная пальба, крики, конский топот, скрип седел, давка — летят изгороди, топчутся цветы: три года понадобится, чтобы снова зазеленел и зацвел сад — так бывает после каждой свадьбы. Она очнулась перед самым выходом, когда прибежали тетки и с плачем принялись прощаться с ней, обнимать ее, целовать и украшать ей волосы цветами.
Привели старшего шафера. Это был молодой, высокий, разодетый и принаряженный крестьянин; в воротах грянули песню перемешавшиеся музыканты и танцовщицы жениха и невесты.
Хаджи Гайка, хаджи Гайка, ты нам дочку выдавай-ка!Последней прибежала мать и начала целовать ее, всхлипывая.
— Софка, Софкица!
Но лоб и губы Софки были холодны; быстро и молча поцеловав мать, она вышла из комнаты.
Свет, солнце и шум ошеломили ее. Фата зацепилась за порог, и это было ей на руку. Она остановилась, слегка повернувшись и подняв руку, словно защищаясь от яркого солнца и шума, и стала ждать, пока отцепят фату, чувствуя, что силы возвращаются к ней. Она знала, что, стоя на пороге вполоборота к людям, она даст им возможность хорошо ее разглядеть, и, когда ей придется повернуться к ним лицом, их любопытство в какой-то мере уже уляжется, и дальше она пойдет спокойней. Так и получилось. Как только Софка появилась на пороге, до нее донесся общий вздох изумления. Крестьяне, пораженные ее красотой, обрадованные, исполненные чувства гордости, стали поздравлять друг друга и своего братца.
— Ай да братец, ай да братец! — восклицали они.
Как всегда, фату никак не могли отцепить, все суетились, толкались. Софка успела совсем успокоиться, и, когда наконец фату отцепили, она быстро повернулась, ясным, спокойным взглядом окинула сватов и гостей и приветливо кивнула головой. При выходе из ворот ей снова стало не по себе от прикосновения ко лбу и волосам венка из самшита и цветов, уже завядших и съежившихся от фонарного чада, пахнувшего на Софку. Но это ощущение скоро прошло. Она увидела, что по обеим сторонам улицы до самой церкви толпится народ. Во всех воротах было черно от женщин и девушек, набежавших со всех концов города.
Софка шла медленно и устало. Далеко впереди вертелись и извивались танцовщицы, окруженные толпой детей. Но Софка знала, что на них никто не смотрит, все взоры обращены только на нее; приподнимаясь на цыпочки, люди старались как можно лучше ее разглядеть. Все хотели убедиться, действительно ли она так красива, так разодета и разукрашена, как они думали. И хотя Софка понимала, что торопиться нельзя и надо идти медленно, она поневоле ускоряла шаг, и получалось, будто она ведет шафера, а не он ее. Чем ближе церковь, тем все больше становилось народу. В музыку и гомон начал вливаться звон колоколов, Софка опять почувствовала себя хуже. Помимо толкотни и давки впереди, ее раздражали и выкрики сватов, идущих позади. Там шли ее родичи: тетки, за ними их мужья — все в длинных суконных колиях, туфлях и коротких штанах, чтоб были видны белые чулки хаджий. Шли они тесной гурьбой, стараясь держаться на расстоянии от других сватов, в особенности от крестьян, ехавших на конях. Свекор ехал последним на рыжем коне, в новом седле, выпятив грудь и сияя от радости. Он хотел видеть все: и танцовщиц, и Софку, сверкавшую на солнце облаками шелка и золота; и в то же время не мог не наслаждаться игрой и песнями музыкантов, вместе с ним замыкавших шествие. Чтобы танцовщицы впереди могли их слышать и плясать под их музыку, они играли и пели что было силы. Рядом со свекром, в ногу с конем, шагал верный Алил, играя на кларнете.
Марко на радостях поминутно прилеплял ему дукаты на чалму и лоб. Софкины хаджии оборачивались и, кто с раздражением, кто с усмешкой, бормотали: «мужик», «простак», но тут же громко обращались к нему:
— Свекор, ну как, по нраву тебе?
— Еще бы, еще бы! — слышала Софка его ответ, и он снова лепил деньги на чалму Алила.
В церковь пришлось пробираться сквозь толпу нищих, детей и зевак. Церковь, просторная, на высоком фундаменте, с галереей вокруг, с потемневшими сводами, старыми, закоптелыми от свечей колоннами, с полом, выложенным большими, потрескавшимися плитами, с рядом мрачных, сводчатых, забранных железной решеткой окошек под самым куполом, выглядела страшно холодной. Еще более мертвой она показалась Софке, когда та вошла во двор и навстречу ей поспешили длинноволосые священники в черных шуршащих рясах, от которых несло табаком и воском.
Но в самой церкви Софка почувствовала облегчение. Суета и музыка прекратились, ее подвели к царским вратам и оставили совсем одну. Впервые в жизни стоя перед царскими вратами, она ощутила размеры церкви, ее ширину, высоту ее сводов, уходящих словно к самым небесам, с темным, закоптелым изображением Страшного суда. Прямо перед ней возвышался иконостас. Иконы, несомненно, были самые что ни на есть чудотворные, обладавшие особой силой исцеления. От иконостаса, деревянных окладов и резьбы шел удушливый запах червоточины, плесени, ладана и оплывших свечей, сзади же Софку обдавало вызывавшим дрожь холодом, который шел от пола, выложенного плитами, покрытыми сырой, гниловатой пылью. В церкви стоял полумрак. Только из алтаря, где над престолом было большое круглое отверстие, лились яркие снопы света. Очевидно, так было сделано специально, чтобы пение и церковная служба проходили более торжественно и производили более сильное впечатление.
Впервые в жизни Софка через царские врата могла разглядеть престол с ветхой мертвенно-холодной плащаницей, расставленные на нем потиры, кресты и подсвечники с зажженными свечами. Она слышала, как за ее спиной, в ожидании начала службы, переминались с ноги на ногу сваты, не смея не только кашлянуть, но и дохнуть. По одну сторону от нее на своих обычных местах стояли ее родичи, а по другую — тесной толпой, почти до самого выхода из церкви, «его» родичи. У Софки заныли ноги, в особенности икры, должно быть, от долгого неподвижного стояния.
В руки ей вложили зажженные свечи; затем к царским вратам подвели жениха, также с зажженными свечами в руках. Краешком глаза она стала его разглядывать. После обручения она впервые его видела. Он был небольшого роста, но хорошо развитый для своих лет, с широкой грудью, с крупной нижней челюстью и подбородком, но еще детскими плечами и руками. Особенно бросались в глаза его коротко, по-детски остриженные волосы над выпуклым лбом. На нем были дорогие шелковые кушаки и суконные штаны, в которых он тонул. Ни бедер, ни колен не было видно. Карманы, отороченные шнуром, съехали куда-то на живот и пропали в складках штанов.
Из алтаря уже потянуло кадильным дымом и послышался звон колокольчиков на кадильнице. Из боковых дверей, ведших на клирос, вышел пономарь, неся аналой и разукрашенные серебряные венцы. Сваты шумно ринулись к аналою.
Вдруг распахнулись царские врата и появился священник в расшитой золотом ризе. Это было столь неожиданно, что Софка резко нагнула голову, словно ее кто по лбу ударил. Наслаждаясь ее смущением, священник громко и звонко возгласил:
— Миром господу помолимся!
Когда священник повел их к аналою, Софка сквозь опущенные ресницы разглядывала жениха. Ничего, кроме него, она не замечала, но видела только то, что он не доходил ей до плеча. Колен его она так и не увидела, такими мелкими шажками он шел.
Служил сам протоиерей и все священники, дьяконы и пономари с кладбищенской церкви. Они уже пронюхали, что за человек ее свекор, газда Марко, и что дукаты будут сыпаться без счета. И чтобы оправдать такой расход, решили, что служба должна быть полной, без сокращений, и поэтому не торопились. Софка слышала, как ее родные со своих мест подавали ответы на возгласы ектеньи. Это считалось привилегией ее семьи.
А около нее, распространяя тяжелый запах воска и усиливая духоту, все ярче разгорались свечи; сваты все теснее окружали ее, особенно напирали тетки. Они становились на цыпочки и пялили глаза не столько на нее, сколько на жениха, с любопытством наблюдая, как ей мучительно трудно удерживать в своей руке его маленькую детскую руку. Да, это было самое тяжелое. Его пальцы, онемевшие от страха, безвольно лежали в ее руке, и она принуждена была крепко сжимать их, чтоб они не выскользнули. К счастью, руки их были скрыты полученными в подарок ситцем и шелками, а потому никто не видел, как пальцы жениха постепенно, один за другим выскальзывали из ее руки и, когда оставался один, Софка снова перехватывала его руку.
Догадывался обо всем, как казалось Софке, только свекор Марко. Она заметила, как, пробившись сквозь толпу сватов, он стал на цыпочки, чтоб она могла увидеть его и подбодриться. От длинной службы, бесконечных молитв, пения и сгущающейся духоты жених уставал все больше. Пальцы его вспотели, и удержать их становилось все труднее. Наконец ей показалось, что дольше она не выдержит. Пальцы жениха продолжали выскальзывать из ее тоже вспотевшей руки, и она боялась, что выпустит их еще до окончания церемонии. Тогда произойдет то, что не случалось еще ни с одной невестой: все будет кончено, руки разомкнутся, подарки упадут на пол, и брак будет признан недействительным. От страха и ужаса вся церковь закружилась у нее перед глазами.
Не зная, что делать, Софка вдруг подняла голову и посмотрела на свекра с таким отчаянием, что тот пришел в полное смятение, решив, что она, принуждавшая себя до сих пор к этому браку, теперь, когда близится конец бракосочетания, хочет отказаться от столь тягостного положения и от такого мужа, потому и смотрит на свекра с таким отчаянием, прося у него прощения за то, что должна осрамить его и опозорить. Но Софка, показав на свое плечо и вытянутую руку, дала ему понять, что речь идет не о том, чего он боится. Довольный, что ошибся, Марко сразу догадался, в чем дело. Увидев, что он ее правильно понял, Марко подозвал служителя и сказал ему что-то на ухо, Софка прониклась к нему еще большим расположением. Служитель шепнул протоиерею, тот дал знак священникам и возгласил:
— Исайя ликуй!
Софка вонзилась ногтями в руку жениха, чтобы как-то удержать ее, пока они обходили аналой, и едва дождалась выхода из церкви.
Увидев, что вся ее родня вместе с музыкантами отделилась и ушла, Софка вздохнула свободнее, особенно когда завернули в другой проулок и направились к дому жениха. Итак, самое трудное и тяжелое, когда она должна была в церкви предстать перед людьми на позор и осмеяние, позади.
Но больше всего ее подбадривало, что Марко идет за ней. Считая своим долгом идти подле нее и самому ввести ее в дом, Марко сошел с коня и, работая локтями, защищал Софку от толпы сватов. Это совсем растрогало ее. Обернувшись, она поблагодарила его улыбкой. Потрясенный и взволнованный, Марко только бормотал:
— Не бойся, Софка! Не бойся, дочка… Папа все…
Они спускались по торговым рядам, постройки редели и как бы расступались перед ними, здесь базар кончался. Хотя и тут со всех улиц валил народ, чтобы на них поглядеть, все же прежней толкотни и давки не было. Как всегда на окраине города, дома стояли реже и вразброд, простора было больше. За домами торчали стога сена и соломы. На недавно выкопанных, примитивных колодцах чернели журавли с привязанными к длинным шеям веревками. В свежем воздухе носились запахи помета и навоза, вперемежку с пресными запахами молока, брынзы и сухой пеньки.
XX
Софка боялась, что, когда она окажется перед домом жениха, ей будет страшно и тяжело. Но никакого страха она не почувствовала. Даже самые ворота, массивные как в крепости, не показались ей необычными. Стоили они, наверно, дороже, чем сам дом, видневшийся в глубине длинного двора.
Точно так же, вопреки ожиданиям, она не ощутила ничего неприятного, увидев у ворот свекровь. Софка поцеловала ей руку, и на своей щеке почувствовала прикосновение ее холодных дрожащих губ, окаймленных седыми волосками. Софка была даже польщена, что свекровь, одетая во все новое, городское, — видно, ее силой заставили так одеться, потому что платье было помято и сидело на ней нескладно, — при виде ее красоты и наряда так испугалась, что не могла произнести ни слова. Чтобы ее подбодрить, Софка еще раз поцеловала ей руку, и та, захлебываясь от счастья и благодарности, пробормотала:
— Спасибо вам! — И, совсем позабывшись, стала по-крестьянски вытирать рукавом слезы.
По этому «вы» вместо «ты, дочка» Софка поняла, насколько та боялась ее, насколько была уверена, что, когда придет Софка и увидит, какая она мужичка, худосочная, невзрачная, она проклянет судьбу, пославшую ей такую свекровь. А получилось совсем наоборот. Софка на глазах у всех дважды поцеловала ей руку, да так сердечно и тепло, что свекровь сначала онемела от неожиданности, а потом почувствовала себя свободнее и стала бормотать слова благодарности:
— Спасибо, детка, спасибо, доченька!..
Взяв Софку за руку, она прильнула к ней — и не как свекровь, а как старшая сестра, — не в силах с ней расстаться и на минуту.
Сваты, заметив это, обрадованно загалдели:
— Ай да свекровь, ай да свекровь, и отпускать сноху не хочет!
Марко, и сам растроганный, желая подразнить и напугать жену, сделал вид, что хочет отогнать ее от Софки.
— Ну, что тебе тут надо? Иди туда…
— Оставь, Марко! — поняв, что он шутит, вскрикнула она и еще теснее прижалась к Софке, чтобы показать, что хоть она и слабенькая и худенькая, но все равно может защитить сноху от натиска сватов, столпившихся в воротах и уже начавших напирать — ведь никто не смел войти во двор прежде Софки.
А перед Софкой стояло корыто с водой, которое, согласно обычаю, она не могла перешагнуть, пока свекор не бросит туда денег и не скажет, какая доля имущества, какое поле и какая лавка отойдет снохе, какая часть арендной платы пойдет на ее личные расходы. Толпа, горя нетерпением скорее войти во двор, стала орать:
— Свекор, а свекор, что даешь снохе?
— Все, все… — начал он.
— Не все, а что именно и сколько?
— Да все!
— Ужель и постоялые дворы? — испытующе закричали люди.
— И постоялые дворы, и все! — И, обернувшись к жене, приказал: — Да ну, иди же!
— Куда?
— Иди и принеси «то самое».
И Марко головой показал на дом, на боковушку, где в сундуке были заперты кушаки с деньгами. Свекровь оставила Софку и побежала. Но ее уже опередил Арса. Отлично зная, что хозяйка замешкается и провозится с замком, он на ходу взял у нее ключ. И не успела она дойти до кухни, как он уже нес оттуда почерневший кушак, сложенный вдвое. Свекровь подала его Марко. Тот, желая скорее покончить с этим делом, разорвал кожу зубами и, чтобы все могли видеть, поднял кушак над головой и, нагнувшись над корытом, стал высыпать деньги. Старинные меджедии, венецианские золотые, турецкое серебро и заржавелые и позеленевшие дукаты с глухим звоном посыпались в корыто, рассекая воду.
— На, на! Все! — Марко сыпал золото и покряхтывал от счастья и радости, слыша возгласы изумления и восторга, раздавшиеся в толпе при виде такого богатства, горевшего и переливавшегося в солнечных лучах живым огнем.
Продолжая покряхтывать от удовольствия, не в силах оторвать глаз от Софки и все время подбадривая ее: «Не бойся, Софка! Не бойся, дочка!» — Марко протянул ей руку, чтобы помочь перешагнуть через корыто, а потом повел дальше. Впереди шел Арса, подняв высоко на руках корыто. В нем продолжал ярко сверкать золотой сноп лучей от колыхавшихся в воде денег, а на поверхности плавал съежившийся черный кушак.
Марко шел немного впереди Софки, как бы желая заслонить собой дом; он чувствовал, что дом и в особенности единственная побеленная боковушка произведут на Софку тяжелое впечатление. Шел он так, чтобы, если Софка оступится, было ловчее поддержать ее. Софка видела, что по мере приближения к дому он волновался все больше. Словно не мог поверить тому, что происходит, что он ведет ее, Софку, к себе, в свой дом. Пожирая ее глазами и поминутно извиняясь, Марко твердил:
— Не бойся, Софка, не бойся, доченька!
У порога кухни Марко передал ее женщинам, чтобы они там сделали все, что полагалось по обычаю, а сам, словно сбросив тяжелый груз, вздохнул с облегчением и перевел дух. Но не мог дождаться, пока женщины сделают все, что надо, и стал кричать и требовать, чтобы его впустили:
— Живей, бабы! Довольно, хватит! Не то оттаскаю за косы!
На радостях он скинул меховую шапку, снял короткую суконную колию и остался в одном шелковом минтане и новых суконных штанах; ворот новой рубахи был распахнут. Его бритое, гладкое лицо сияло от счастья, подбородок и губы подергивались от удовольствия, он выглядел здоровым и сильным. Когда Софка из кухни перешла в маленькую комнату отдохнуть, Марко, вдруг вспомнив что-то, поспешил на кухню и приказал стряпухе:
— Дай ей чего-нибудь поесть.
— Кому? — не поняла стряпуха.
— Да Софке! Не может же ребенок целый день ничего не есть!
— Потом поест! — возразила стряпуха, недовольная вмешательством в ее дела. — Я уж знаю. Будет есть вместе с шафером и остальными гостями.
— Как так потом? Да если ребенок есть хочет, ему что же теперь, голодать, что ли? — резко перебил ее Марко, и она замолчала.
И сам понес Софке отборные кусочки жаркого.
В маленькой комнате нельзя было протолкнуться: вслед за Софкой туда ворвались все женщины, в том числе и те, что приехали из Турции и были в городе в первый и последний раз. Марко всех разогнал и из всей этой толпы женщин выбрал самую младшую.
— Миления! Ты останься тут и прислуживай Софке. А ты, Софка, если чего захочешь, скажи ей. Больше никого не пускайте. Нечего сюда шляться да только марать все. Пусть туда идут. Там и свадьба, и двор, и коло… О свекрови, Софка, не спрашивай. И не жди от нее ничего. Теперь и сам господь бог ее не вразумит. И всегда-то она была бестолковая, а уж теперь…
Миления была счастлива, хоть и побаивалась, что «сношенька» будет ею недовольна и что она не сумеет ей угодить. Она низко склонилась перед ней и, вымыв несколько раз руки, чтобы та убедилась, что они чистые, принялась ей прислуживать, потчуя жарким, принесенным Марко:
— Возьми, сношенька, возьми, попробуй…
Не в силах прийти в себя от выпавшего на ее долю счастья, Миления не могла наглядеться на Софку, на ее красоту, на ее одежду, золотые украшения и шелка. Со страхом она дотрагивалась тихонько до подола ее платья, млея от восторга, когда Софка брала что-нибудь в рот и ела.
— Спасибо, сношенька, спасибо… Поешь, возьми еще!
И Софка ела, чтобы доставить Милении удовольствие. Но еще больше пила. С жадностью пила разбавленное водой вино из большого, старинного, полулитрового толстого стакана, плохо вымытого. Видя, что Софка ест и пьет с удовольствием — а они-то боялись, что она побрезгует ими, — Миления растрогалась до слез и без конца потчевала ее:
— Спасибо, сношенька, спасибо… Бери, бери еще. — Встав на колени, она на вытянутой руке держала стакан у самого рта Софки так, чтоб той не нужно было наклоняться, — открой рот и пей.
Софке никогда еще не приходилось видеть такого загорелого, здорового, но в то же время такого нежного лица, как у Милении: на нем было написано столько наивного счастья и рабской преданности за то, что ей тоже позволено жить! От ее простой, но новой одежды, от деревенской юбки и грубой рубашки пахло льном, коноплей и высокогорными травами. А ее еще не вполне развившееся тело, в сравнении с грубой рубашкой, с опаленным солнцем лицом и мозолистыми руками, выделялось молочной белизной.
В окно Софка видела, как крестьяне поили коней у колодца. Подобно Милении, они были в новых грубых колиях; высокие жесткие воротники, обшитые синей тесьмой, доходили до ушей; удлиненные кверху головы были коротко и неровно — лесенкой острижены к свадьбе. Все были в зимних меховых шапках, коротких штанах, шитых, очевидно, еще к их собственной свадьбе. Зато опоясаны они были кожаными богатыми, тиснеными и разукрашенными поясами с ятаганами, разными пистолетами, ножами и бичами. Большинство крестьян были низкорослые и физически плохо развитые. Но если уж попадался здоровяк, то это был просто богатырь. Таковы же были и лошади, которых они поили у колодца. Приземистые, но на тонких ногах и с поразительно круглыми и по-человечески умными глазами, с очень длинными и густыми гривами и хвостами. Софка заметила, что и поят они своих лошадей как-то по-особенному. Подведут к каменному корыту у колодца и говорят им, словно людям:
— Ну, пей!
Конь долго пьет, ткнувшись мордой в корыто, потом поднимает голову, гремя мокрыми удилами, по которым стекает вода, смотрит на хозяина сытыми глазами, и тот, закинув уздечку на переднюю луку седла, говорит:
— Ну, теперь ступай!
Конь уходил вниз, к конюшне, а хозяин направлялся за дом, в беседку, к остальным гостям. И хотя было очень жарко — на солнце впору изжариться, — крестьяне, затянутые и закутанные в свои колии, в кушаках и сапогах, не снимали их, ведь по одежде судили о достатке! Софка видела, как вслед за ними бежали слуги с огромными новыми медными котлами, доверху наполненными вином, у слуг не было ни стаканов, ни графинов, а лишь глиняные баклаги, в которых они и обносили вином. Из беседки доносился гул голосов — не разговор, смех или здравицы, а какие-то воинственные выкрики:
— Эй, дед! Выпей за здоровье, дед! Будь здоров! На здоровье! Ага!
К воинственным выкрикам все больше и больше примешивался звон шпор и ятаганов, скрип кожи, так что Софке стало казаться, что она в военном лагере. Все здесь напоминало лагерь: и крестьяне, и сам дом, и женщины в накрахмаленных юбках и еще более жестких рубашках до пят (за поясами у них были ножи и цепочки), и переметные сумки на шестах перед домом, и большой костер внизу, на котором крутились и шкворчали туши телят. Софке почудилось, что она пленница этих людей и что они устроили тут лишь привал, а потом двинутся в далекие, неведомые края… Как в сказке или песне, ей мерещилось, что она красавица, которую заперли в башне. А люди Марко, укрываясь днем, а по ночам избегая лунного света и ясного неба, после долгих поисков нашли красавицу, завладели башней, разрушив ее, а красавицу похитили и вот теперь стали на привал. Потому там в беседке никто и не садился, не раздевался, а все ели и пили стоя, как были — при оружии, в кушаках и сапогах. А выпив и осмелев, мужчины затолпились возле ее комнаты, стараясь как можно лучше разглядеть ее. Стоило Милении выйти, как девушку окружали, и Софка отлично слышала, как ее упрашивали:
— Миления, Миления! Оставь щелочку, не закрывай дверь совсем. Дай и нам поглядеть на нашу сношеньку…
А Миления, словно назло, с шумом и бранью захлопывала дверь у них перед носом.
— Пошли вон! Не приставайте!
XXI
К счастью, все это Софку начало занимать и даже нравиться ей. Она захотела попробовать крестьянских кушаний, их лепешки, брынзу из кадушки, а не есть то, что ей принесла Миления, специально для нее приготовленное.
Ближе к вечеру зевак стало меньше, а потом они и вовсе исчезли. Оставшись наконец одни, хозяин и гости предались веселью на свой крестьянский лад, и из беседки полились мелодии их песен. В забористых и сложных плясках топот ног становился все яростнее, то и дело раздавались звонкие удары кованых сапог со шпорами; звон тяжелых, длинных — ниже пояса, монист из старинных посеребренных монет и громкий шелест грубых накрахмаленных юбок женщин. Весь этот шум покрывал попеременный хор старавшихся перекричать друг друга мужских и женских голосов. Пели они один и тот же куплет, заткнув одно ухо, чтобы голос звучал как можно громче, словно они у себя в селе, в горах, где песня не песня, если она не перелетает через горы и не слышится всюду отчетливо. По мере того как сгущалась тьма, гости чувствовали себя все вольнее и непринужденней. А опьянев, совсем осмелели и стали заходить к Софке, даже не спрашивая разрешения. Сначала старики, деды, которым старость давала большие права, а потом и молодые. Сперва входили поодиночке, чтобы, так сказать, представиться, пожать ей руку и поднести подарок, а там повалили толпами, так что дверь уже не закрывалась. Входили, правда, с некоторой робостью, понимая, что досаждают. Но больше всего они боялись Марко; входя, они тревожно озирались, как бы он их не заметил со двора из беседки. Но, на их счастье, он был поглощен трапезой. Когда гости стали направляться к Софке группами и стол в беседке почти опустел, Марко догадался, в чем дело, и Софка слышала, как он, испугавшись, что они там обнаглеют и осрамят его, стал кричать, пытаясь остановить их:
— Эй, туда нельзя!
Комната Софки мигом опустела, все в страхе разбежались, шепча про себя:
— Братец сердится!
Но Софка поднялась и сделала то, что казалось ей необходимым. Сама пошла к ним. Была уже ночь. Вдоль стены дома на низкой стрехе и на балках висели лампы, освещая дорогу к беседке. В беседке были подвешены продолговатые железные фонари с черным заржавленным тяжелым и массивным дном, — обрушься такой фонарь на стол, наверняка проломит. Люди расположились на подушках и седлах. Внизу у стены, скрестив ноги, рядком сидели музыканты со скрипками, зурнами и барабанами, а напротив, у дома, на корточках пристроились женщины, уже отвалившиеся от стола.
Увидев Софку, крестьяне смешались, даже самые пьяные смущенно застыли со стаканами в руке, женщины испуганно повскакали. Быстро поднявшись, Марко поспешил навстречу, чтобы остановить ее, не пускать в беседку. Со страха у него дрожали колени; пока он сидел, кушаки сползли, грудь и живот оголились. Напуганный и удивленный ее появлением, расставив руки, Марко старался оттеснить ее от беседки, без конца повторяя так, чтобы никто не слышал:
— Нет, дочка, нет, Софка! Сюда нельзя. Тут люди грубые, пьяные.
— Ничего, ничего, папенька!
— Нет, нет… зачем тебе сюда? Не надо. Тебе здесь не место.
Но Софка не сдавалась.
— А я хочу… Зачем? Хочу, да и только! — И она, зная, как он будет этим поражен, со счастливой улыбкой наступала на него.
— Хочешь? Любишь нас? — И, нагнувшись к ней, Марко стал пристально вглядываться в ее лицо, стараясь убедиться, в самом ли деле она любит его и его родичей и поэтому хочет быть с ними или говорит все это потому только, что так полагается.
Софка поняла и, чтобы раз навсегда покончить с его сомнениями, разуверить его, прикинувшись оскорбленной, со слезами в голосе стала укорять его:
— Полно, папенька, за кого ты меня принимаешь? Если бы не любила, разве я пришла бы сюда, пошла бы замуж?
— Ну, дочка! — И, окончательно убедившись, что Софка в самом деле их любит, Марко, обезумев от радости, повернулся к гостям, и в первую очередь к самому старому, почти слепому деду Митре, сидевшему во главе стола:
— Дед Митра и вы все, готовьте дары, моя сношенька идет вас потчевать!
Радостные и глубоко тронутые тем, что Софка, как водится у крестьян, идет их потчевать, гости поднялись и встретили ее поясным поклоном. Обрадованные женщины, почувствовав себя после прихода Софии совсем непринужденно, окружили ее и стали помогать ей. Обряд потчевания состоял в том, что, прежде чем протянуть стакан или баклагу, надо было каждому поцеловать руку, подождать, пока он выпьет, и снова поцеловать руку, а затем уже переходить к следующему. Потчуя, Софка касалась губами грубых и узловатых рук новых родичей, чувствовала на своем лице прикосновение их усов, бороды и волос, а сквозь шальвары и шелковые безрукавки — уколы их грубых ворсистых одежд. Женщины сначала робко, а потом все смелее гладили Софку по спине, плечам и крутым бедрам, восторгаясь ее красотой…
XXII
А сама была виновата. Знала ведь, что не следует так поступать. Но постепенно увлеклась и забылась, потому что, смешавшись с крестьянами, непрестанно потчуя их, она чувствовала, что, отбросив все, что в ней было хаджийского и городского, став с ними на равную ногу, она осчастливила новых родичей, вернула им свободу. От счастья они не знали, что и делать. Старики ей низко кланялись и, как дети, благодарили за то, что она не погнушалась ими. Принимая из ее рук огромные кубки, они выпивали их залпом. Теперь все свои и можно было веселиться, кто как умеет.
Они уж не боялись досадить кому-либо и требовали, чтобы цыгане играли и пели одну и ту же любимую песню:
Соловей птенчик, не пой рано, Не буди моего хозяина! Ой, не пой рано!Только и всего. Но потому, верно, она и приводила их в неистовство; громко и резко выла зурна, барабан гремел так, что свечи гасли. Обезумев от восторга, крестьяне выхватывали из-за поясов ятаганы, ножи, бросались к цыганам и протыкали барабаны. Женщины убегали от них к Софке, прячась за ее спину, зная, что тут их никто не посмеет тронуть. Свекор Марко, все еще не веря, что сноха в самом деле счастлива, не мог отвести от нее глаз, глядя, как она, раскрасневшись, сердечно и уважительно потчует гостей, двигаясь свободно, без всякого стеснения, словно у себя дома. Ее не смущало, что, когда она наклоняется, четко обрисовывается линия спины, бедер, а волосы, заплетенные в тяжелые косы, падают, обнажая свежую, розовую, гладкую шею. И эта шея кружит голову Марко, сверлит мозг. Нет больше сил смотреть, как она хлопочет и потчует гостей, и он, чтобы дать ей отдохнуть, усаживает ее рядом с собой. Не желая выказывать усталости, в знак особого почтения она принялась на зависть остальным потчевать свекра, своего нового папеньку. Опершись одной рукой о его колено, слегка приподнявшись, она другой рукой, как бы обняв его, поднесла стакан к самым его губам. Это было встречено оглушительными криками восторга. Зурны цыган взвились до небес. Марко кинул им кошелек с деньгами. Потом он внезапно вскочил и позвал ее:
— Софка, дитя мое, пойдем-ка…
Она пошла, не зная, куда он ее зовет. Видела только, что он шагает, проталкиваясь сквозь толпу, и что впереди белеет его короткая мощная шея. Но, поняв, что он направляется в ее комнатку, она, улыбнувшись, догадалась, чего он хочет. Наверняка опять полезет в сундук с деньгами и вытащит какой-нибудь подарок, монисто или что другое. Софка не торопилась, пропуская его все время вперед. Проходя мимо кухни, она услышала и там какие-то крики и шум; неожиданно из кухни выскочил Арса и, хотя его испуганно удерживали другие слуги, преградил ей путь.
— Сношенька, и я тоже, и я тоже…
Больше он ничего не мог выговорить. Но Софка поняла, что он хотел сказать. Он хотел, чтобы она знала, кто он такой, что он, Арса, слуга ее свекра. Улыбнувшись, Софка мягко помогла ему:
— Знаю, знаю, Арса.
Вслед за Марко она вошла в комнату. В темном углу за дверью Марко сбивал с сундука замок тяжелым каблуком с подковой и шпорой. В ярости, что ему не сразу удалось это сделать, он наконец сшиб его. Софка чувствовала, что, увидев ее в комнате, среди разложенных подарков, где, кроме них, никого не было, где у стены лежала свернутая брачная постель, с широким красным одеялом, с чистыми, белыми, пахучими подушками, он не мог оторвать от нее глаз. Показывая на сундук с развороченным запором, он едва выговорил:
— Вот, дочка, это все тебе. Отворяй и бери… Ключ будет у тебя. Хочешь — храни, хочешь — раздавай, хочешь — трать… Как хочешь, так и поступай. Все твое!
— Знаю, знаю, папенька.
— Но скажи только одно, Софка, только одно…
У него был другой голос, он не назвал ее ни «дочкой», ни «дитя», а только «Софкой». И имя ее прозвучало с такой неистовой страстью, что у нее проступили на шее жилы и вся она начала цепенеть. Да и было отчего — нагнувшись к ней и дрожа всем телом, он бормотал:
— Софка, Софка, скажи только одно. Но только правду.
Чтобы видеть ее глаза и убедиться, правду ли она говорит, Марко схватил ее за плечо. Его горячая рука потонула в мягком, округлом плече. Задыхаясь, он умолял ее:
— Скажи, скажи… Ведь это неправда, неправда, что ты в самом деле по-настоящему любишь всех нас.
Софка в порыве внезапно охватившего ее безумия, тронутая силой его любви, исполненная жалости к нему, желая во что бы то ни стало утешить его, успокоить, начала вдохновенно уверять его:
— Люблю, люблю, папенька. Все мне по сердцу!
— Так-таки все?
— Все: и дом, и ты, больше всех ты!
Тут она обессилела. От руки, лежавшей на ее плече, прошла горячая волна по всему ее телу, ей вдруг стало не по себе, ее охватило какое-то незнакомое до сих пор чувство. С ужасом она почувствовала, как под тяжестью руки тело ее независимо от воли стало сгибаться, а в груди затрепыхалось что-то живое — словно птица, готовая вспорхнуть и улететь. Марко почти бегом бросился вон из комнаты, и она слышала, что, прибежав к своим, он, обуреваемый каким-то предчувствием и надеждами, как полоумный начал кричать и приказывать:
— Ворота закрыть, запереть ворота, чтобы никто, никто не вышел… Эх, эх!
XXIII
А потом наступило самое страшное, самое жуткое. Гости, как вошли в первый вечер в большую горницу, занимавшую половину дома, так уж больше из нее и не выходили. Цыгане чередовались, сменяя друг друга. А долгожданный «большой ужин» не начинался. По-прежнему горел и потрескивал огонь в кухне, перед домом, вокруг дома и даже возле конюшни, где расположились совсем немощные старики, горели костры. Всю ночь раскаленные крышки падали на огонь, закрывая круглые противни со слоеными пирогами и разными печеньями. Все это были «подношения», которые каждая семья приносит с собой из деревни, чтобы передать невесте на «большом ужине». Вино носили из погреба в огромных чанах и ставили на кухне вдоль стен, чтобы было под рукой и не приходилось за ним каждую минуту бегать. И женщины, находившиеся возле своих противней, потихоньку пили сколько вздумается. И поэтому у костров, горевших в ночном мраке особенно ярко, гомон голосов, хохот, веселье становились все громче и развязнее. От неверного света, треска, множества огня Софке стало страшно, земля уходила из-под ног, а над головой ни крыши, ни потолка, и все это кружится вокруг нее и вместе с ней — все быстрей и быстрей. Когда стариков, отдыхавших у стены за домом, позвали в большую горницу к столу, Софке показалось, что это делается вовсе не потому, что без их здравиц и благословений нельзя начать долгожданный «большой ужин», — разве им сейчас до еды! — а потому, что без их присутствия и одобрения нельзя приступить к тому, что они намеревались с ней сделать. Потому-то при приближении стариков раздался такой ликующий гул и шум. Входили они медленно, согнувшись, лица у всех были длинные, ссохшиеся, морщинистые. После сна они не могли умыться и шли, утираясь полотенцами. Софка встречала их у низкого круглого стола, целовала им руку и потчевала из большой чаши, которую они, прежде чем сесть, должны были выпить до дна. Из кухни начали вносить «подношения» — разных сортов слоеные пироги, из которых обильно текло масло, и другие печения, каждый раз громко объявляя, от кого оно.
— Это от Митровых!.. Это от Стошиных… Это от Станиных, это от Магдиных…
Кухня, где пылал очаг и стояла невыносимая жара, как бы слилась с большой горницей; гости постепенно раздевались, сбрасывали с себя лишнюю одежду. У женщин выступили животы из-за обилия съеденного и выпитого, рубашки распахнулись, полуобнажив грудь, у кого уже высохшую, а у кого еще свежую, крепкую и горячую. На оголенных потных шеях и двойных подбородках остались разноцветные следы краски от пестрых платков и шалей, и это придавало им еще более странный вид.
Мужчины вели себя все более разнузданно, они скинули кушаки и пояса, сапоги и сидели разутые, открыв волосатую грудь. И чем больше пили, тем наступала все большая вакханалия. Уже никто не выбирал, где сесть, к кому привалиться. Каждый устраивался как мог. Не муж возле жены, не жена возле мужа, а где придется. Боль в груди от локтя соседа уже не чувствовалась, так же как не вызывала смущения близость чужих, а не мужниных колен. Софка с ужасом наблюдала это повальное безумие, не было ни молодых, ни старых, ни жен, ни снох, ни теток, ни своячениц. Мужчины стали только мужчинами, женщины — только женщинами. Люди бегали друг за другом вокруг дома, издавая исступленные крики; маленькая кроткая Миления, не выдержав натиска преследовавших ее мужчин, прибежала в спальню к Софке. Девушка была без сил, вся в синяках, но в то же время охваченная какой-то сладостной истомой. Прячась за Софку, обезумев от счастья, девушка громко смеялась и умоляла ее:
— Спрячь меня, сношенька! Спрячь, миленькая! Спрячь, а то эти наши всю меня… — И она показала на почти голую грудь и смятые юбку и безрукавки.
Но и это никого не пристыдило, не заставило покраснеть, наоборот, все стали смеяться над Миленией, в особенности женщины постарше; она ведь на свадьбе была самая младшая, ей и положено больше всех «страдать». Видимо, вспомнив то время, когда и они были самыми молодыми на пирушках и свадьбах и на их долю выпадало больше всего щипков и поцелуев, женщины взволнованно принялись поддразнивать Милению:
— Эх, Миления! Ай да недотрога! Скажешь, противно тебе? Да?
Софка содрогнулась от ужаса. Ей стало ясно, что и свадьба, и этот пир среди ночи, и приказ покрепче запереть ворота, чтобы чувствовать себя наконец на свободе, — все это, видимо, входило в ритуал давно ожидаемого праздника. И напивались они до потери сознания не впервые — так проходила каждая свадьба. В этом и состояло главное веселье. Мужчины вечно были вне дома, ходили со стадами по горам и пастбищам, и лишь на свадьбах да в праздники видели не только друг друга, но и своих жен. После тяжкой работы и длительного воздержания они забывались и опускались до того, что уже ни с чем не считались, ни с родством, ни с возрастом. Вот откуда пошли эти невероятные слухи и рассказы о крестьянах! Теперь Софка поняла, почему от Магды она никогда не слыхала ни одного доброго слова об ее сыновьях и снохах; когда ее спрашивали, она постоянно отвечала: «Да ну их, что с них возьмешь, одно слово — мужичье». Рассказывали, хотя Софка не верила, о знаменитом деде Веле, который, как говорили, живет со всеми своими снохами. Теперь Софке стало ясно, почему так часто рождались дети на селе, хотя мужья большую часть времени проводили на отхожих промыслах, и почему дети так походили друг на друга, словно были от одного отца и матери. А страшные рассказы, которым в городе и верили и не верили, о том, что крестьяне, стремясь получить в дом работницу, женили своих малолетних сыновей на взрослых девушках, способных на любую работу, это тоже правда. Издавна так заведено, и никто не считал это за грех или унижение; даже и сыновья, когда подрастали. Не важно. Будут и у них свои сыновья, будут и свои снохи.
И, к своему ужасу, Софка поняла, что ей это тоже угрожает, что судьба ее уже решена: поздравляя Марко, гости кидали в ее сторону масленые ухмылки, грязные смешки и намеки.
XXIV
Наступил вторник, третий день пиршества. А Марко все еще никого не выпускал. Сам шел и запирал ворота. Плохо приходилось тому, кто скажет вдруг, что пора уходить, а тем более решится уйти. Но сил больше ни у кого не было. Все словно сбесились. Кидались друг на друга, дрались, в исступлении резали себе руки и ноги, женам приходилось уволакивать мужей через соседские калитки или перетаскивать через ограды.
Марко совсем обезумел. Никого не отпускал, а если замечал, что кто-нибудь исчез, избивал слуг.
Софка лежала, закутавшись в колию. Она уже была не в состоянии потчевать и угощать. Тело горело; глаза слипались от усталости. Ужас почти лишил ее рассудка. По мере того как гости уходили, она все чаще оставалась наедине со свекром, и, что самое тяжелое, ужас рождала не неизвестность — она знала, что ее ожидает, — а то, что ей самой не было ясно, как она поступит, если свекор и вправду… Не будь она дочерью эфенди Миты, она бы знала, что делать. Вырвалась бы во что бы то ни стало, пусть растерзанная, голая, и убежала. Но что будет потом, когда вся улица, весь город увидит ее в таком виде?.. Люди ведь только того и ждут. Нет, на это она не могла решиться; не придумав ничего, она лежала у стола, за которым сидел свекор, и от страха тряслась как в лихорадке, стуча зубами. Но еще страшнее стало, когда в голосе Марко, — он кричал перед домом, ругался и грозил тем, кто ушел, особенно гневаясь, что ушли дед Митра, Арса и Стева, — в его жалобах и угрозах она почуяла страх, что его оставили одного. Будь здесь те, которые проделали все это со своими снохами, и ему было бы куда легче со своей сношенькой… А так оставили его одного, да еще здесь, в городе, где такие вещи не в заводе, где такое не бывает и не дозволяется…
Софка слышала приближение Марко. Дышал он так, что вся комната ходуном ходила. Не в силах встать, чтобы встретить его, как подобает, Софка стала извиняться:
— Не могу встать, папенька, устала.
— Сиди, сиди, деточка!
Он сел чуть поодаль от нее. Это еще больше напугало Софку, ибо она видела, что и сидеть-то он не может, — скрестив ноги и уперев локти в колени, он покачивался, вперив острый взгляд прямо перед собой на неубранный стол, пролитое вино, разбросанные кости и остатки еды, ломти хлеба, смятые половики и подушки.
У дверей кухни дремали усталые до смерти цыгане, едва удерживая в руках зурны. На дворе уже в третий раз спускались сумерки, все вокруг словно бы успокаивалось и укладывалось на покой. Даже камни, выбитые со своего места конскими копытами, не звенят, а как попали в какую-нибудь ямку, так и остались там, плотно прижавшись, будто тоже на отдых. У колодца шумно плескались невыспавшиеся, сонные парни. Снизу из конюшни доносилось шуршание сена и соломы, из которых выдергивались охапки. Их куда-то несли, и травинки падали, устилая собой путь. Но тишина была какая-то жуткая. Яркий огонь, словно сделав свое дело, угас, превратившись в пепел. В кухне раздавались шаги, шлепанье туфель стряпухи, тихо шептавшейся со свекровью. И этот шепот снова вывел из себя Марко.
Испуганно вскочив, он заорал так, что стекла задрожали:
— Музыка!
Забыв о себе, Софка поднялась, пробуя его урезонить:
— Не надо, папенька, не надо.
Но Марко даже не взглянул на нее. Прыжком перемахнул через стол и направился к музыкантам на кухню. Один из них, держа в одной руке свирель, а другой рукой запахивая минтан, согнулся перед Марко и слабым, сонным, но полным решимости голосом сказал:
— Марко… — Но тут же спохватился и поправился: — Газда Марко, хоть мы и цыгане, но и у нас душа есть. Не можем больше. Сам видишь, не можем.
За такой ответ в другое время Марко избил бы и прогнал цыгана, но теперь он стал просто просить:
— Знаю, вижу… Вижу, но я хочу, хочу, хочу! — С каким-то упоением твердя это «хочу», он поднял руки, готовый размозжить цыгану голову, если тот снова воспротивится…
Музыканты заиграли. Правда, устало, через силу, но все же задушевно и громко. Снова в ночном воздухе переливчато запела свирель. Марко как будто только этого и ждал. К удивлению Софки, он не вернулся к ней, а пошел на другую сторону комнаты, к окну, и там, в совершенно темном углу, в изнеможении сел на пол. Софка замерла, поняв, что сейчас произойдет то самое: сейчас он признается ей в любви. Потому и спрятался в темный угол, чтобы она не пугалась его вида; потому и музыкантам приказал играть, чтобы свекровь и стряпуха не услышали его исповеди.
И кто знает, может быть, так все и случилось бы, если бы в этот момент не вошла стряпуха. По ее лицу, по тому, как она держалась, было видно, что она решилась войти после долгих колебаний, после приставаний, просьб, а может, и слез свекрови. Поэтому она была очень зла на всех, а также и на себя, что дала себя уговорить. Но больше всего она была зла на самого свекра Марко. Если его родичи, мужики, не знают порядков, то он, газда, давно живет в городе и должен знать здешний обычай: пришла пора новобрачным идти в свою комнату. И поэтому, едва переступив порог, она почти крикнула:
— Ну, пошли! — И точно у нее нет времени ждать, она стала в дверях, всем своим видом призывая Марко и Софку поторопиться. — Да ну же, пошли!
Софка видела, как он там, в углу, на первый оклик стряпухи «пошли» рванулся было вперед, чтобы и ее, как всякого другого, выгнать прочь, но вовремя вспомнил, что она не деревенская баба, с которой можно обращаться как угодно, а горожанка. Но больше всего Марко поразил вид стряпухи — она стояла подбоченившись, рукава ее белой, чистой рубахи были засучены, а руки обнажены; он понял, что она занималась не мытьем посуды, а готовила постель новобрачным.
— Пошли, пошли, свекор! Хватит, пора уж… — стала торопить Марко стряпуха, ободренная его молчанием.
Софка знала, куда ее зовут, что означает стряпухино «пошли!», куда ее поведут, в какую бездну… Стряпуха строго на нее посмотрела, делая ей знак, чтобы хоть она не теряла головы и делала то, что положено, пусть сама встанет и уйдет, если уж свекор, мужик мужиком, ничего знать не хочет… Стуча зубами и поправляя платье, хотя оно и так было в порядке, Софка встала.
— До свидания, папенька! — Она подошла к Марко и поцеловала ему руку.
Пальцы его были холодные и тяжелые. Проходя через кухню, она услышала за собой, как стряпуха еще более строгим голосом приказала цыганам:
— Ступайте и вы…
Обрадованные цыгане, в спешке волоча по земле куртки и колии, пронеслись мимо Софки к воротам. Но тут же раздался грозный окрик Марко, кинувшегося к стряпухе:
— Стой! Ты что это?
Но для стряпухи, видно, это не было неожиданностью; Софка слышала, как она пыталась его успокоить:
— Ну, ну, газда Марко, знаю я…
— Что ты знаешь, потаскуха городская, что?
— Ладно, ладно, Марко, все будет хорошо, ты, главное, ложись да выспись.
Но в ответ раздался звон разбиваемых оконных стекол. Грохот был такой, что перепуганная стряпуха выскочила с криком: «Беда!» — но вопль ее потонул в еще более страшном треске: Марко крушил уже не только стекла, но и рамы, топтал посуду на столе, сопровождая все это безумными криками, бранью, проклятьями, вполне понятными лишь Софке, в страхе упавшей на постель и спрятавшейся под одеялом.
— Ах, собака, злодей, старый хрыч Митра! Ах, мать, ах, шлюха. Ах, отец, будь ты проклят… Ах! Вы-то ведь…
Софка понимала это так: вам, мол, все было позволено, вы могли делать все, что хотели: сыновей женили, снох себе выбирали! Взять хоть его самого, и его отец женил мальчишкой, и не то что может быть, а наверняка его жена, ставшая теперь свекровью, сперва жила с отцом, своим свекром! И сын его наверняка не сын ему, а брат! И все они, когда хотели, поступали с женами своих сыновей так, как поступали отцы с их женами. И только ему не позволяют! Только ему одному нельзя!..
Неизвестно, чем бы и когда все это кончилось, если бы не послышался испуганный голос стряпухи, обращенный к свекрови:
— Хозяйка, я больше к нему не пойду. Хочешь, иди сама, угомони его, уговори лечь и заснуть, чтобы молодожены могли… Как знаешь, но я больше ничего не могу сделать…
— Пойду! — послышался убитый, но решительный голос свекрови. И в самом деле, к всеобщему ужасу и удивлению, она вошла к нему.
Что произошло между ними, какой был разговор — неизвестно. Но судя по изменившемуся голосу Марко, по его свистящему, глухому, прерывающемуся от бешенства шепоту, наверняка у него и пена выступила на губах. Софка была уверена, что он истязает свою жену, выпытывая у нее признание, что и она жила со своим свекром, с его отцом, пока он был мальчишкой. И Софка чувствовала, что теперь все зависит от признания свекрови, — и не надо ему никаких слов, Марко все поймет по голосу, поведению, непроизвольному восклицанию. Признание ему сейчас было необходимо, как оправдание; получив его, он немедленно, в отместку жене и покойному отцу, бросился бы к Софке… А что Софка не ошибалась, что он действительно мучил и истязал жену, добиваясь у нее признания, подтверждали испуганные крики и возгласы свекрови:
— Марко! Марко! Молчи, бога побойся!.. Ой, беда! Неужели свекор… Пусть земля разверзнется и всех нас поглотит! Горе мне, до чего дожила! Ох, беда! Господи боже! Господи!
Раздался страшный голос Марко:
— Я твой господь!
И тупой сильный удар. Затем слабый вскрик теряющей сознание свекрови. Арса, несмотря на обуявший его страх, все же вертелся поблизости и время от времени заглядывал в комнату; было слышно, как он крикнул:
— Хозяин хозяйку убил!
Софка, понимая, что теперь уже некуда деваться, — исчезла последняя надежда на спасение, лежала почти в беспамятстве. Кровь прольет, все разнесет, а все же она будет его… Непонятный шум у двери ее комнаты сразу привел ее в чувство и заставил оцепенеть. У самого порога кто-то барахтался и пыхтел. Сомнений быть не могло — это был он! И не то что он куда-то пошел и случайно споткнулся у ее порога, он намеренно направился сюда, но потом вдруг осознал, что делает, — и ужас сковал его. Не было сил открыть дверь и войти к ней, и он упал на пороге. А из горницы, где ничком лежала свекровь с окровавленной головой, все еще неслись причитания, тихие, безнадежные, жалобные:
— Ох, беда! Горе мое! Ох, матушка! Долюшка моя горемычная!
Но для Марко, лежавшего у дверей комнаты, почти у Софкиных ног, всего этого не существовало. Между ним и домом, женой с ее стенаниями все было кончено, как и со всей жизнью, детством, отцом, матерью, а главное, с отцом, проклятым отцом, чтоб кости его в гробу не знали покоя за то, что он, по обычаю, женил сына мальчишкой, несмышленым ребенком, и теперь ему никогда не познать, не пережить настоящего чувства. Сейчас вот он лежит у порога ее комнаты, в душе его все клокочет, он борется с самим собой; сквозь пальцы поднятой над головой руки, касающейся двери, сквозь щели, сквозь самую землю до него доносилось благоухание Софки. Ему казалось, что он слышит, как бьется ее сердце, чувствует, как горят ее сочные страстные губы, как нежно благоухают волосы, разбросанные по постели, обвивающие и покрывающие ее тело…
Софка слышала, как он кряхтит и барахтается изо всех сил, стараясь толкнуть дверь хотя бы головой или плечом, отворить ее и войти. Но тщетно, он снова падал. Руки, локти, колени не слушались, стенания жены душили его, словно веревка на шее. Они не давали ему встать и переступить порог. А вернуться назад, в горницу, к жене, было свыше его сил, — с этим было покончено! А ее стенания, именно потому, что они не звали на помощь, а были едва слышны, подавленные, безнадежные, все сильнее поражали его слух. Ему чудилось, что они вместе с потолком, балками, черепицей, всем домом обрушиваются на его голову, бьют по темени, вонзаются в мозг. С трудом овладев собой, он встал на четвереньки, поднялся и, пошатываясь, пошел во двор.
— Арса, кушаки!
Пробормотав эти слова, он едва добрел до угловой балки дома, оперся на нее, чтобы удержаться на ногах, пока Арса его опояшет.
Арса прибежал. Принялся его опоясывать, но дело шло туго, Марко весь дрожал и трясся. В груди у него клокотало, судорога сводила тело, пояса сползали. Он ничего не видел, кроме стоявшего перед ним слуги; все силы уходили на то, чтобы не упасть и удержать руки поднятыми, чтобы Арса мог туже затянуть пояса. Ее слышно он пробормотал:
— Коня!
Арса надел на него новый пояс. Марко ничего не чувствовал, он оцепенело вслушивался, не доносится ли каких-нибудь звуков из комнаты Софки, где еще горела свеча. К счастью, ничего не было слышно, ни слез, ни стонов. Зато из другой комнаты продолжали раздаваться глухие причитания жены; Марко казалось, что ее лицо, залитое кровью, все глубже и глубже зарывается в землю. А ночь стояла по-прежнему темная, мощеный двор был безмятежно спокоен. Лишь из угла в глубине двора, куда сливали и выкидывали нечистоты, несло навозом и гнилью. И этот запах все сильнее и сильнее бил в нос. Марко начал приходить в себя. Вспомнил все, что случилось. Содрогнувшись в последний раз, он резким движением взялся за нож, заткнутый за пояс. Но, увидев, что Арса подводит коня и может заметить, остановился. И чтобы слуга не догадался, Марко той же рукой, которой хотел выхватить нож и вонзить его в свою грудь, вытер пот со лба. Им снова овладел ужас, снова он почувствовал удушье… Арсе пришлось самому вложить его ногу в стремя. Марко безвольно держался за луку седла, но вдруг с неожиданной силой вскочил в седло и ножом хватил коня по крупу. Брызнула кровь. Конь, сверкнув в темноте, вздыбился и, разрывая мостовую, ринулся вперед. Софка слышала, как Арса, влетев на кухню, крикнул свекрови:
— Хозяин ускакал, коня порезал!
XXV
После этого привели новобрачного. Но Софка была в таком жару, что ничего не помнила. Пришла в себя только к утру. Брезжил рассвет. Большая сальная свеча над ее головой сгорела до ручки подсвечника и, оплыв, погасла, распространяя удушливый запах.
Новобрачный спал у ее ног, почти на голом полу.
Как только его привели, он заснул спокойным, глубоким сном, вытянув руки вдоль тела и поджав колени. Опасаясь, что во сне он может случайно положить голову на одеяло, которым была укрыта Софка, запачкать его или смять, он подвернул его и отодвинул от себя.
В окне чернели колесо колодца и стены ограды. Снизу из конюшни слышались шорох и возня скотины, но в доме все было тихо, мертво.
Чтобы стряпуха, войдя на рассвете, застала все, как положено обычаем, Софке пришлось самой поднять молодожена и снять с него пояса. Он так крепко спал, что даже не проснулся. Софка сняла с него пояса, раздела и втащила в постель; укрыв и себя и его одеялом, она стала ждать утра. Волосы мужа касались ее шеи, лица и слегка кололи — подобно всем детям, он был коротко острижен; от его недавно вымытой головы пахло теплой водой и мылом.
Софка не вставала. У нее началась горячка. Днем она лежала без памяти и лишь по ночам приходила в себя. Сбоку у изголовья стоял поднос с едой и питьем, которые свекровь приносила днем, когда Софка была без сознания; после всего того, что произошло, ей было стыдно смотреть снохе в глаза, а тем более говорить с ней. В ногах постели, на голой циновке, полураздетый, спал, свернувшись калачиком, муж Томча. Софка поднималась. С трудом приводила в порядок постель. Затем брала мужа к себе; она не хотела никакого снисхождения, не нуждалась ни в чьем сожалении и сострадании. Она уже столько выстрадала, что готова была выпить чашу до дна!
Плача, она обнимала и целовала сонного Томчу. Затем, растревоженная, почти в беспамятстве поднималась и выходила во двор, в глухую, безмолвную ночь, огражденную стенами. Арса, оберегая ее, прятался в каком-нибудь углу, а потом выходил и спрашивал, не надо ли чего. Но Софка не только ничего не просила, но, словно бы не узнавая, смотрела на него таким странным, помутневшим взором, что у слуги волосы вставали дыбом и мурашки по спине пробегали. Так ходила она по двору, не опоясав шальвар, с растрепанными и прилипшими на висках и на шее волосами, в широко распахнутой рубашке, из-под которой виднелась ее сверкающая горячая грудь. Потом возвращалась в комнату, снова ложилась и плача обнимала и целовала мужа, моля бога, чтобы он продлил ночь и ее одиночество.
Так проходила ночь; только к утру, разбитая и измученная, Софка погружалась в глубокий, лихорадочный сон и весь день металась в жару и бреду. И как ни странно, болезнь помогла ей, она избавила ее от всех обрядов после свадьбы и первой брачной ночи: осмотра, угощений, посещения соседок и родственниц, при которых она должна была быть веселой и довольной…
XXVI
Понемногу Софка начала вставать, и не потому, что лучше себя чувствовала, а чтобы успокоить семью и особенно свекровь. Правда, выходила она из своей комнаты только к обеду, осунувшаяся, с повязанной головой, опухшими глазами, воспаленные губы ее дрожали, уголки рта были опущены, словно она вот-вот заплачет. Но теперь горе ушло внутрь, слезы сделались тихими, умиротворенными, которые порой бывали даже приятны.
С каждым днем Софка поправлялась и успокаивалась. Из ее родных никто — ни отец, ни мать, будто сознавая свою вину, не приходили. А ее послесвадебной горячке не придавалось никакого значения. Это считалось в порядке вещей. Предоставленная сама себе, Софка постепенно возвращалась к жизни. Начала ходить по дому и даже работать. Стала одеваться, прихорашиваться, носить в волосах цветы, вновь ослепляя и поражая свекровь и всех домашних своей пышной красотой, ставшей еще ярче. Как и у себя дома, она ходила полуодетая, распоясанная, и это еще больше подчеркивало ее талию и крутые бедра. Свекровь не могла на нее нарадоваться. Когда Софка, хлопоча у очага, наклонялась, отчего красота плеч, груди и закинутых назад волос проступала еще сильнее, свекровь, сидя рядом, не могла удержаться, чтобы осторожно и робко, словно боясь повредить, не поправить на ней платье, при этом с особым удовольствием она придерживала ей шальвары у колен, чтобы они не запачкались о пепел. Целыми днями свекровь готова была сидеть в Софкиной комнате, забившись в угол, и смотреть, как Софка разбирает вещи, вынимает из сундука платья, безрукавки, нарядные рубашки, шелковые платки.
Так проходили дни. Спать ложились рано. За долгие одинокие ночи можно было вволю наотдыхаться, зная, что завтра все начнется сызнова. И не будь воспоминаний о той страшной ночи, о свекре и о его последующем исчезновении, было бы, наверное, совсем хорошо. Но и это стало как будто забываться. Софка начала его даже оправдывать. Он был пьян, свекровь со стряпухой не сумели с ним как следует поговорить, вот он и не давал новобрачным войти в их комнату, а вовсе не потому, что у него были дурные намерения. Но почему же он, как уехал на границу, так и не возвращается, пусть не для того, чтобы извиниться перед Софкой, но хотя бы для того, чтобы людей, а особенно ее родных, убедить в том, что ничего не произошло!
Но пришло и это. Однажды в сумерки прискакал длинноногий горец на коне, покрытом попоной со старым деревянным седлом. На голом животе горца болтался пояс, за который был заткнут длинный черный пистолет.
Спешившись, крестьянин не привязал коня, не затянул пояс, не привел себя в порядок, а как был, вытирая ладонью пот с длинной шеи, прошел прямо на кухню. Софка, подняв руки, в которых у нее что-то было, встретила его стоя. Свекровь, как всегда спокойная и сосредоточенная, сидела за Софкой, у самых дверей в большую горницу. Софка, хотя давно уже предчувствовала, что это еще не конец, что должно произойти что-то еще более ужасное, оцепенела от страха: горец, не дойдя до нее, с порога начал бормотать сквозь слезы:
— Хозяйка, послали меня, значит, сказать, что хозяин убит. Убит хозяин, хозяйка! — повторял он, беспрестанно утирая пот с худого лица и длинной шеи.
Софка почувствовала, что у нее подкосились ноги и глаза словно огнем опалило. По выражению лица и по глазам крестьянина было ясно, что он говорил правду. Свекровь, поднявшись, испуганно хваталась правой рукой за косяк двери, пытаясь удержаться на ногах, но тщетно — она стала клониться набок, и, всплеснув руками, грохнулась на пол. Мелькнули белые рукава рубашки и послышался слабый вскрик:
— Спасите, люди!
Софка поняла, что эти слова свекрови были последней попыткой защититься и от убийцы-албанца, и от приехавшего гонца, и от Софки, и от всего света, от всего, что вдруг, словно сговорившись, обрушилось на ее дом и вот теперь совсем сгубило.
Едва держась на ногах, запинаясь, Софка стала расспрашивать крестьянина:
— Как? Где?
— Не знаю, хозяйка. — Крестьянин, не меняя позы и по-прежнему утирая пот и слезы, рассказывал: — Два дня тому назад, вечером, почти ночью, принесли его, раненого, от албанцев. Пуля застряла в животе. Был он, правда, без памяти, но еще живой. Мы повезли его. Приехали в Корбевац и положили его в корчме, стали запрягать других волов, — на лошадях нельзя, больно трясет… кто же знал, что он над собой сделает! А он пришел в себя, огляделся, сорвал повязки, рана открылась, кровь хлынула, — так и умер. Меня послали сказать вам, чтобы вы приготовились, и велели остаться у вас и помочь в чем, если надо.
Тут вбежал запыхавшийся Арса и, услышав роковую весть, так и сел на землю.
— А ты? А вы все? — заорал он на крестьянина.
— Эх, Арса! — продолжал плачущим голосом крестьянин, поняв восклицание слуги как укор: где же были слуги и остальные крестьяне, как они могли допустить эдакое, не уберегли, не защитили хозяина, жизнь свою за него не положили. — Да разве мы думали, Арса? Ведь ты знаешь его. Как приехал со свадьбы, таким ласковым прикинулся. Никому дурного слова не сказал. А когда мы увидели, как далеко он зашел за нашу границу, и пошли за ним, он заметил, что мы идем за ним, охраняем его, и чуть не убил нас. После этого уж никто не смел за ним и шагу ступить. И вот… теперь… так-то!
Из этих слов Софка поняла, что причина всему она. Из-за нее Марко пошел искать смерти к албанцам. А увидев, что он еще жив, не желая возвращаться домой, на глаза Софке, перед которой ему пришлось бы краснеть, — оставшись один, сорвал пояса и повязку и вот и истек кровью.
Не глядя ни на свекровь, которая все еще лежала на пороге, ни на крестьянина, стоявшего столбом посреди кухни, как бы делившего ее пополам и четко вырисовывавшегося на фоне полок с подносами и тарелками, Софка с тяжелой головой, которую она с трудом держала на плечах, шатаясь, пошла в свою боковушку, которая сейчас показалась ей мрачной и глубокой могилой.
Дом снова наполнился соседями, торговцами с базара, снова кругом кишели люди. Свекровь подняли, облили водой и унесли в комнату.
Крестьянин продолжал стоять посреди кухни и на все изумленные восклицания, вздыхая, отвечал одно и то же:
— Так вот… Хозяин… Умер…
С наступлением ночи стало еще тяжелее. Начали появляться крестьяне, родственники из Турции и окрестных деревень. Все прибывали взволнованные и встревоженные, кто пешком, кто верхом или в повозке — как кто сумел. Всю ночь приходили люди — и те, что были на свадьбе, и многие другие. И каждый, входя в ворота, с тяжелым вздохом говорил:
— Эх, братец!
В дом, на кухню или в комнаты не входили, оставались во дворе и, пристроившись на корточках у стен, сидели, понурив голову и сложив руки на груди.
Арса мертвецки напился, чего прежде с ним никогда не бывало. Ничего не хотел слушать и только грозил албанцу Ахмету, так как был уверен, что убийца он.
— Ах, Ахмет! Ах, сукин сын! Ах, собака!.. Говорил я хозяину: «Пусти меня, хозяин, дай мне его прикончить, кровушки его хлебнуть!» А он: «Сиди, Арса, дома, иди в город и смотри за домом, довольно снятых голов и крови!» Вот тебе и дом! — И, подняв руки в сторону дома, словно разбирал его, снимал крышу и трубы, Арса продолжал: — Вот тебе и голова! — В пьяной ярости осыпая ударами собственную голову и шею, он шел к воротам и, возвращаясь назад, еще громче и злее поносил Ахмета, пока наконец не напустился с бранью на самого покойного своего хозяина Марко. — Так ему и надо! Как он, хозяин, мог позволить, чтоб его убил эдакий пес поганый? А я, Арса, конечно, ничего не понимаю! Арса дурак, Арса болван!.. Говорил ведь тебе Арса, просил отпустить, чтобы свернуть той собаке голову, как куренку, а ты что? «Не надо, Арса, сиди дома, Арса…» Вот Арса и сидел дома, у очага, а ты и потерял голову! Так-то! Да, так-то вот!
На все укоры крестьян, почему он не идет в дом, не поможет там, может, хозяйке что надо, Арса отвечал:
— Пусть и она умирает! — и не хотел даже рукой пошевелить, хотя без него ничего нельзя было сделать. — Не буду, и все тут! — заявил Арса, бросив им ключи, пусть что хотят, то и делают…
Но когда поздней ночью настежь распахнулись освещенные ворота и в них показалась громоздкая ломовая телега, которую тащили два здоровых старых черных буйвола и в которой на куче мягкой и свежей соломы чернело вытянувшееся, неподвижное, покрытое широким гунем тело Марко, Арса никому не позволил подступиться с ней и сам снял хозяина. Сгибаясь под тяжестью покойного, обняв его вытянутые, окоченелые, мертвые колени, понес его на неверных ногах, всхлипывая и приговаривая:
— Ох, хозяин! Ох, хозяин!
Он шел, беспрерывно спотыкаясь, хотя другие бросились ему помогать, придерживая покойника за плечи и за безжизненно качающуюся голову. Но Арса все же сам внес своего хозяина в дом, положил его на пол, на белую простыню, голову устроил на подушке, а руки сложил крест-накрест на груди. Но, поцеловав его короткие, толстые руки, от которых ему столько пришлось претерпеть, которых он боялся всю жизнь, он стремглав выбежал из дома, грохнулся на землю, как ребенок, и разразился горючими, неудержимыми рыданиями. А из комнаты, где лежал Марко, освещенный мерцающим пламенем свечей, неслись громкие причитания и плач женщин. Особенно выделялись голоса крестьянок, бесчисленных теток покойного. Они кричали громко и монотонно, и от их воплей, казалось, и дом и крыша сейчас обрушатся.
— Ох, горе, братец! Горе мне, братец! Кто нас теперь, братец, защитит, кто о нас, братец, позаботится?
Приезжавшие верхом спешивались, шли в комнату, где лежал покойник, ставили свечку и, поцеловав икону, вложенную в скрещенные на груди руки, на цыпочках, с непокрытой головой, выходили к остальным и присаживались на корточках у стены дома. Больше всего народа сидело за домом, под окнами большой горницы; скрытые от любопытных взоров горожан, подавленные происшедшим, люди свободно предавались своему горю и отчаянию.
— Ох, братец! — то и дело раздавался стон.
Ибо все они, хотя Марко, может, и заглянул к ним в дом один раз в жизни и, уж конечно, никому не помог, поскольку все жили порознь, все они, пока он был жив, чувствовали себя как за каменной стеной под защитой его сурового и строгого взгляда. Теперь же, когда его не стало, они оказались словно без головы, так как над ними уже не было человека, в одном имени которого заключалась их сила, защита и безопасность. Ведь достаточно было сказать: «Это дядя, дедушка или родственник газды Марко», — как все, будь то соседи или вовсе чужаки, начинали относиться по-другому, становились сдержаннее и любезней. Теперь же с его внезапной смертью они почувствовали себя сиротами, отданными на милость и немилость первому встречному.
И когда глубокой ночью поднялась луна и ее косые белые лучи, изрезанные черными силуэтами соседних оград, проникли в дом, поглотив даже свет пламени в очаге, Софке не то что стало казаться, а ею просто овладела уверенность, что все это неправда. Марко вовсе не умер, а дом стоит не тут, в городе, среди других домов, а где-то далеко, на каком-то желтом песке пустыни, что все это, слившись воедино, движется вместе с лунным сиянием. Движется и она в своей комнатушке, скорчившись на сундуке; движутся и конюшня и лошади, испуская ржание и кусая друг друга; движутся и лежащие за домом, под окном, обратив к лунному свету лица, сморенные усталостью крестьяне; движется в горнице и сам покойник со скрещенными руками и подвязанной челюстью, освещенный свечами и окруженный женщинами; свекровь сникла у изголовья, совсем позабыв о плаче и причитаниях; не спуская руки с его ледяного лба, она точно играет прядями его темных волос, гладя и поправляя их возле ушей.
На другой день были похороны. Только тогда появились и родные Софки. Но она, напуганная, что ей придется с каждым разговаривать и в комнату набьется народ, не встала с постели. Лишь мать зашла к ней, остальные толпились у дверей, загораживая их собой, чтобы она не видела, когда будут проносить покойника. Согласно обычаю, молодуха не должна видеть похорон, а тем более самого покойника, чтоб не родить, если она уже забеременела, больного или уродливого ребенка.
XXVII
Как она предполагала, так и случилось. Миновало два и три года, а Софке продолжало казаться, что все это было совсем недавно, — и месяца не прошло.
После похорон Марко всю осень и зиму ходили на кладбище. С наступлением осенней слякоти, нескончаемых дождей и буранов отчасти из-за непогоды, но главным образом по причине траура семья жила в полном уединении. По-прежнему напуганные и потрясенные внезапной, загадочной смертью хозяина, они аккуратно ходили на его могилу, служили панихиды. И это постоянное хождение на кладбище, совестливое исполнение долга по отношению к умершему утишало горе. И как ни странно, именно потому, что на его могиле делалось все, как положено, сам Марко стал постепенно забываться и исчезать из памяти.
Первое время к Софке приходила только мать. Но то ли потому, что это было вскоре после похорон и Софка еще чувствовала в доме присутствие покойного, то ли по какой иной причине каждый раз, когда приходила мать, она волновалась и пугалась. Мать это заметила и стала ходить реже, больше чтоб не нарушать обычай, а не потому, что ей приятно было видеть дочь.
Прошло время, и хотя Софке по-прежнему казалось, что все произошло только вчера, она поняла, что со временем все должно переболеть, улечься и позабыться. Правда, на душе все еще было очень тяжело, хуже быть не может, и, однако, кто знает, вдруг…
В доме с нее глаз не спускали. Ухаживали за ней, угождали, думали только о том, чтоб ей было хорошо. Она могла готовить то, что хотела, и столько, сколько хотела. Свекровь после смерти Марко, с которым была связана вся ее жизнь, причем жизнь в Турции, в деревне (жизнь в городе, где он оставил ее одну, среди чужих людей, для нее была уже не жизнь), находилась в таком подавленном и напуганном состоянии, что не имела никаких мыслей или желаний. Пусть весь дом прахом пойдет, она даже не заметит. Позднее, когда старуха наконец пришла в себя, осознала свою вину перед Софкой, она, стремясь ее загладить, принялась увиваться вокруг Софки, всячески ей угождая.
Так же и слуги, а особенно Арса. За одно доброе слово он был готов денно и нощно выполнять ее приказания. Он почитал за счастье, если мог прийти к ней и доложить, что так-то и так-то выполнил ее приказания, и получить улыбку одобрения.
Софка была полновластной хозяйкой. И не только в доме. И фруктовыми деревьями за домом распоряжалась она. Их, правда, было немного, сад был загроможден поленницами и кучами камней. Когда абрикосы и яблоки созревали и начинали падать, поскольку никто из домашних и смотреть на них не хотел, то можно было слышать, как слуги и поденщики, прежде чем съесть самим, подбивали друг друга:
— Пойди-ка, брат, пусть сношенька придет попробует. Пусть скажет, поспели ли?
Так же относились к Софке и соседи. Для всей этой окраины, еще не до конца заселенной, куда перебирались крестьянские семьи или городская беднота из верхних, богатых кварталов, — для всех здесь она была «сношенькой»… Всюду ее принимали и приветствовали сердечно и радостно. Если ей случалось проходить по улице, женщины, стоя у ворот, смиренно приглашали ее зайти к ним. И Софка никому не отказывала и каждую из жалости приглашала к себе.
Муж ее, Томча, был к ней внимателен. За это время он заметно возмужал. Над губой пробивались маленькие усики, подбородок округлился, челюсти стали квадратными. Его детские, угловатые плечи уже вырисовывались под минтаном, колени пополнели. Что бы ему Софка ни приказала, он исполнял с радостью, счастливый от того, что она ему приказывает и с ним говорит. Подходил он к ней лишь тогда, когда она его звала. Софка делала с ним что хотела. Сколько раз, бывало, по утрам, когда он уже выходил из комнаты, она звала его назад, увидев, что у него кушаки не в порядке или он плохо застегнулся, и начинала сама охорашивать его, движимая скорее жалостью, чем каким-либо другим чувством.
Он передал ей ключи от сундука с деньгами, прямо силой всучил, умоляя их хранить у себя из боязни, что либо он сам, либо его мать по рассеянности потеряют их или забудут где-нибудь. Деньги, вырученные в постоялых дворах, тоже отдавал ей, чтобы она клала их к остальным деньгам в сундук. Когда надо было за что платить, Томча просил у нее. Причем она сама должна была отворить сундук, вынуть деньги из кошелька и отсчитать, сколько требовалось.
Так же и свекровь весь дом, амбары и подвалы отдала в ее распоряжение. Даже там, где дело касалось вещей сугубо деревенских, Софке совершенно непонятных и ненужных, старуха тоже ничего не хотела знать. И когда соседка приходила занять какую-нибудь вещь, о которой знала только свекровь, она все же отсылала ее к Софке.
— Ничего не знаю я, дорогая! Вон Софка, спроси ее, коли захочет, пусть даст.
И только после Софкиных слов: «Дай, мама. Я же не знаю, ни что это, ни где лежит. Пойди и дай!» — только тогда свекровь поднималась, лезла на чердак, шарила по углам, куда бог знает почему и когда запрятала вещь.
Софка понимала, что они это делают вовсе не потому, что боятся ее или думают, что не сумеют управиться с домом и хозяйством, а потому, что хотят предоставить ей полную свободу, чтобы она чувствовала себя здесь как дома. Кроме того, они хотели этим как бы искупить то зло, которое причинил ей Марко и в котором они не были повинны ни сном ни духом. Ведь приведя ее сюда, в их дом, он, может, навеки сделал ее несчастной, отдал в рабство, заживо похоронил.
И все это приводило к тому, что, правда медленно, с большим трудом, Софка мало-помалу начинала привыкать к своему положению и чувствовать, что если и дальше так пойдет, — при этом она всхлипывала и у нее навертывались на глаза слезы радости, — то она всех их полюбит, и свекровь, и дом, и в особенности Томчу, мужа. Так его полюбит, как никогда и не мечтала. Может, как того, во сне… В мысли, что она на самом деле полюбит Томчу, ее больше всего укрепляло не то, что Томча постепенно превращался в настоящего сильного мужчину, а то, что с каждым днем он все больше становился ее: из чужого ей подростка, сына газды Марко, он превращался в ее Томчу, как бы ее дитя, которое она родила и воспитала, творение ее рук. Да так оно и было в действительности. Она выучила его одеваться, подпоясываться, разговаривать, здороваться, вести себя на людях. Он не выходил из ее комнаты, не причесавшись, не умывшись и даже не надушившись. И если дальше пойдет так, как сейчас, и из него выйдет действительно добрый, пригожий, всеми уважаемый человек, это будет ее заслуга. И он по-прежнему будет ее, так же как теперь. Ведь он и сейчас красив, одет всегда чисто и нарядно. Ведь и сейчас стоит ему увидеть ее, подойти к ней, как он не знает, куда девать себя от счастья и радости (а что же будет позднее, когда он станет взрослым мужчиной!), его большие черные глаза загораются страстью, он ловит ее взгляд, стараясь угадать ее желания, осчастливленный тем, что ему дано исполнить любую ее просьбу.
А что действительно настанет пора любви и счастья, Софка чувствовала и по себе. После ужина она ложилась спать с ощущением, что она выздоравливает, поправляется. Утомленная за день, она погружалась в приятную истому и сладостный отдых. Она уже не чувствовала под собой, сквозь тюфяки, голую землю; ее пополневшее тело тонуло в мягкой и теплой постели; случайно шевельнув ногами, она чувствовала, как, соприкасаясь, они рождают ощущение полноты и крепости.
Томча всецело принадлежит ей. Ничего и никого он не знает, кроме нее. Ведь все, что он до сих пор успел узнать и почувствовать, он узнал от нее. И теперь, когда он еще не до конца возмужал, исполнялись все ее желания, даже самые безумные, девичьи! Что же будет потом, когда в нем пробудятся его собственные желания и страсти? Выученный ею, как он тогда будет ее обнимать и целовать!..
XXVIII
Дом начал казаться Софке уютным. Правда, потолок был низкий, пол земляной, но дом уже не производил впечатления холодного и разоренного жилища. Ей стало ясно, что, помимо земляного пола, низких потолков и кухни с таким широким дымовым отверстием, что ночью в кухню никто не решался входить, потому что в него видно было небо, в доме есть и другое: огромное богатство, хранящееся в подвалах, конюшнях и доверху набитых амбарах. Стоит только двинуть рукой, взять все это и разложить, как дом преобразится. Софка так и сделала. Она вытащила ковры и подушки и устлала ими весь дом — пол, стены, углы. Сразу исчезли острые углы, трещины и отверстия в дверях и окнах. Весь дом стал выглядеть по-другому, мягче, теплее, уютней. Даже кухня с новой полкой и расставленными на ней медными тазами и противнями уже не казалась такой пустой и огромной.
И единственное, что иногда беспокоило Софку, так это муж, Томча. Обычно это случалось тогда, когда она оставляла его одного, когда, то ли заработавшись, то ли устав и пресытившись им, она дня три не подпускала его к себе и он переставал чувствовать ее близость. Софка хлопотала либо по дому, либо на кухне, а Томча был в амбарах и на конюшне со слугами и поденщиками. Софка замечала, что, когда он знал, что она не может его слышать и видеть, и обнаруживал, что один из слуг украл что-нибудь или совершил другую провинность, глаза у него начинали сверкать ужасным, нечеловеческим блеском, челюсть выдавалась вперед и тряслась, зубы выбивали дробь. И, к ужасу Софки, ей сразу бросались в глаза его руки, такие же, как у Марко, короткие и волосатые, такая же короткая, плотная шея, низкий лоб и длинный высокий затылок.
Софка сама не знала почему, но сходство Томчи с отцом, проявлявшееся, когда он приходил в ярость, каждый раз пронзало ее словно острым ножом. Но стоило ей позвать его, придав голосу побольше нежности и ласки, как с него немедленно все слетало. Он бежал к ней, как всегда, с готовностью, обрадованный, что она зовет его, что он ей нужен, что он может ей услужить, и, счастливо улыбаясь, спрашивал:
— Что нужно, Софка?
XXIX
Когда Томча вырос, то и он, и особенно свекровь стали уговаривать Софку продать постоялые дворы и все имения, находящиеся на границе и в Турции, и выстроить неподалеку от торговых рядов большой красивый дом. Софка ни за что не соглашалась. И не потому, что не хотела, а потому, что люди, в особенности родичи мужа, могли расценить это как желание отгородиться от них и от деревни, это дало бы повод для разговоров, что вот, мол, начали транжирить, спускать нажитое. С другой стороны, она боялась, что Томча может истолковать ее отказ неправильно. Он был с ней по-прежнему предупредителен и робок, вечно жил в страхе, что сегодня она его не позовет, не захочет терпеть в своей комнате, в своей постели. Он все еще не мог побороть скованности и, оставаясь с Софкой наедине, никогда не чувствовал себя вполне непринужденно и свободно, как чувствуют себя с женой. Поэтому, чтобы Томча не объяснил ее отказ желанием, сохранив на границе постоялые дворы, освободиться от него на несколько недель и месяцев, которые он проводит там, Софка в конце концов согласилась построить в торговых рядах трактир и несколько лавок для сдачи в аренду; дом же слегка подновить, а позади разбить сад.
Так и сделали. Весной сад уже был почти весь перекопан. У стены белели кучи извлеченных из земли камней. Мягкая, взрыхленная почва чернела. Кроме их комнатки, побелили снаружи весь дом, а также большую горницу с ее черными, изрешеченными пулями балками и потолком. Конюшню освободили, оставили там одного рыжего коня; из потрескавшихся стен уже не вылезала солома и не падала вниз, смешиваясь с конским навозом и распространяя зловоние. Все было вычищено. Массивные, как дом, крытые ворота грозили разрушением. Когда ворота снесли, — а они заслоняли собой весь дом и двор и придавали им запущенный и мрачный вид, — дом как бы освободился и наполнился светом, блеском, и хоть и одноэтажный, но побеленный и заново перекрытый, стал выглядеть привлекательней.
Сколько раз Софка стояла с вязаньем в руках, зажав под мышкой клубок, и смотрела, как рушили ворота! На ней были шальвары из пестрого искусственного шелка, низ которых был расшит золотом. Из-под них выглядывали ее округлые пятки в белых нитяных чулках. Нитки дукатов на груди почти прикрывали застегнутую у шеи кружевную рубашку. Бедра у нее были уже не девические; как у всякой молодухи, они стали шире и круче, что еще сильнее подчеркивало стройность талии. Лицо совершенно чистое, кожа возле ушей, на подбородке и скулах была молочно-белой. Волосы, повязанные платком, были подобраны до последнего завитка и открывали сиявшие белизной округлые плечи. От всей ее фигуры веяло уравновешенностью и довольством, что лучше всего читалось в ее спокойном взоре, в сдвинутых, тонко изогнутых бровях, в счастливой улыбке на томных влажных губах.
Увидев, что Софка стоит у ворот одна, Томча немедленно устремлялся туда. Склонившись к ней, он принимался показывать, что ломают и как будут строить. Заметив их вдвоем, свекровь не выдерживала и, бросив выкипающие на очаге горшки, спешила к ним. Но чтобы это не бросилось в глаза, она всегда выдумывала себе дело на конюшне или у мусорной ямы. И все для того, чтобы незаметно для них из какого-нибудь темного угла конюшни беспрепятственно наблюдать за ними. Мать не могла наглядеться на Софку — со счастливой улыбкой на губах, сияя черными глазами, повернувшись к мужу, она слушала, что он ей говорит и показывает. Лицо Софки выдавало, что она отлично понимает, что и мужу это неинтересно, что он пустился в объяснения только ради того, чтобы побыть рядом с ней, смотреть на нее и наслаждаться ее красотой. Свекровь видела, что и Софке приятно, когда Томча наклоняется к ней и объясняет, размахивая руками; а руки у него стали длинные и вылезали из застегнутых и тесных рукавов минтана; окрепшие ребра и лопатки раздались и были приметны, когда он нагибался.
И наконец, когда свекровь видела, как Софка, упиваясь счастьем Томчи, который словно ребенок ластился к ней, и зная, какую это ему доставляет радость, поворачивалась к нему так, чтобы он мог смотреть на нее и вволю любоваться ею, она не выдерживала и начинала про себя шептать:
— Сладкие мои…
А когда к тому же замечала, что живот у Софки все больше округляется и что к будущему году можно ожидать внука, от счастья у нее комок подступал к горлу, и она судорожно кашляла. Кашель выдавал ее. Догадываясь, в чем дело, Софка принималась мягко и шутливо укорять ее:
— Мама, а обед? Пригорит ведь?
Пристыженная свекровь, утирая слезы радости, извинялась и возвращалась на кухню.
— Сейчас, сейчас, Софка! Дело было одно на конюшне, да вот проклятая вонь — раскашлялась.
XXX
Был праздник, пасха. Служба в церкви давно кончилась, колокола замолкли. Базар опустел. Люди разошлись. Кто домой, кто в трактиры. Наступило праздничное затишье, светлое, теплое; яркое солнце бросало короткие тени на землю, раскаленный воздух дрожал. Софка давно уже прибрала комнату и кухню, подмела двор, оделась и в ожидании обеда, который приготовляла свекровь, стояла со счастливым видом у порога. Рядом с ней, как всегда, был Томча и что-то ей говорил. Неожиданно в воротах показался отец. Заметив его, Софка вздрогнула от радости и, позабывшись, чуть не побежала ему навстречу. Разве он уже вернулся? А она слышала, что вскоре после смерти Марко отец снова уехал в Турцию. Но она сдержалась, так как по его решительным, размеренным шагам поняла, что он чем-то недоволен. Она заметила, что, увидав ее, да к тому же с Томчей, на прибранном дворе, перед побеленным домом, он скривился. На его тонких, морщинистых губах заиграла странная, ироническая улыбка, открывшая уже полусгнившие зубы. Софка похолодела.
Томча радостно побежал в дом, чтобы приготовиться к встрече тестя в горнице. Софка поджидала отца, словно окаменев. Ее так взволновала его улыбка, что у нее не было сил двинуться с места. В этой улыбке она угадала язвительность, злость и насмешку над ней, Софкой, — вот, мол, получила мужа, собственный дом и раздобрела; и над ее мужем Томчей, — вишь, как увивается! Софке был ясен смысл этой улыбки: «О! Глядите-ка, как зажили, как устроились! А я хожу без гроша за душой. Мы с матерью не нужны, нас позабыли!» И тут Софке пришло в голову, что, может быть, родители давно сидят без денег; со страхом поджидая отца, она укоряла себя: как это она не подумала раньше и тайком не посылала деньги, причем не отцу, а матери, чтобы он не чувствовал себя оскорбленным. Тогда бы он не пришел сюда таким сердитым. Но свекровь прервала течение ее мыслей. Она выбежала к эфенди Мите и, опередив Софку, вытирая об юбку руки, выпачканные в муке, с искренней радостью стала его приветствовать.
— О сват, дорожку пшеничкой посыплю по такому случаю!
Софка услышала, что отец, заметив неподвижность дочери, ответил с иронией:
— Эх, неужто вам так хочется видеть нас? — Он подчеркнул «нас», едва сдерживая злость и обиду. И чтобы как-то замять сказанное, стал чистить штаны и башмаки, которые он якобы запачкал, проходя через ворота и по двору, а на самом деле, чтобы чем-то занять руки, скрыть свою все накипавшую ярость.
— Как здоровье, папенька? — приветствовала отца Софка, подходя к его руке.
Он поцеловал ее, коснувшись губами ее лба в том месте, где начинался пробор.
— Хорошо, детка! — ответил отец с обидой в голосе.
Но, осмотревшись и заметив, насколько дом стал лучше, а двор просторнее, он как бы спохватился, — ему и раньше было не по себе, а уж тем более теперь, когда он должен был распинаться перед ними. А потому, чтобы сразу внести ясность, он коротко спросил Софку:
— Где Томча? У меня к нему разговор!
И, не дожидаясь ответа, направился прямо к нему Софка прошла в свою комнату. Но не могла найти себе места. Сама не зная почему, она вдруг начала дрожать. Внезапно ее обуял смертельный страх от предчувствия ужасного неминуемого несчастья. И в самом деле, она тут же услышала, как отец, не дожидаясь традиционного угощения, приготовленного для него в большой горнице, не пожелав даже сесть, несмотря на усиленные приглашения Томчи, в ярости и бешенстве, что он, сам эфенди Мита, вынужден терпеть такое унижение, глухим свистящим голосом стал толковать о чем-то Томче, на что тот простодушно, но удивленно отвечал:
— Я, право, не знаю, отец, не знаю ни о каких деньгах!
Причем эти слова не означали отказа дать деньги, просто Томча, как ребенок, которого напрасно обвинили, пытался оправдаться.
— Деньги! — услышала Софка восклицание отца, вылетевшее вместе с брызнувшей слюной.
И злился он не потому, что тот отказывался, не хотел давать денег, а потому, что все они, и Софка, и этот так называемый зять, мальчишка, довели его до того, что он просит, да еще у них, деньги!.. Софку резануло по сердцу, когда она услышала, как отец, совершенно потеряв голову и, должно быть, нагнувшись над Томчей, готовый его ударить, заорал:
— Неужели ты думаешь, что, если бы этот, как его, ну, твой отец (он не хотел даже имени его поминать!), не пообещал мне денег, я бы отдал свою дочь за такого сопляка?
И в том, как он это сказал, было столько презрения, словно перед ним какая-то мразь или пакость, до которой и ногой противно дотронуться. Томча пошатнулся, съежился, и из груди его вырвался страшный, угрожающий вопль:
— Отец, что ты? Не может такого быть!
— Может! — продолжал эфенди Мита в еще большей ярости, совершенно не владея собой. — Если бы он не обещал мне денег, да еще каких, разве я бы отдал свою дочь, свое дитя, тебе, всем вам? Да кто ты такой? Что ты такое? Мужик, холуй, и больше ничего! И теперь ты хочешь меня…
Не успела Софка опомниться, как Томча был возле нее. Он был неузнаваем. Челюсть его так дрожала, что он ничего не мог выговорить; не зная, куда деть руки, он бил себя по ногам.
— Деньги давай, деньги! Ну, давай же! — выдохнул Томча. Он едва держался на ногах.
Софка с ужасом смотрела, как руки его принялись шарить за поясом, где у него обычно был нож. Страх сковал ее при мысли, что может пролиться кровь, и она не сделала того, что следовало сделать: не давать деньги Томче, самой пойти к отцу и, что бы там ни было, какой бы грех ни случился, прогнать его. А теперь для нее все было кончено. Помочь уже ничем было нельзя. Все пошло прахом. Для нее это означало конец, смерть. Софки, прежней Софки, больше не будет. После этих денег, этого торга в глазах Томчи она станет обычной вещью, которую, как всякую вещь, можно купить за деньги. Сорвав крышку сундука, Томча запустил руки внутрь и, не посмотрев, что это — кошель с золотом, серебром или никелем, схватил два мешочка и, тяжело дыша, побежал обратно. Вероятнее всего, он бросил их прямо в лицо эфенди Миты — так презрительно и злобно прозвучало его «на!».
Отец, взяв деньги, чуть не бросился бежать, однако все еще старательно делал вид, что осматривает одежду, поправляет измятые штаны.
Почему она и тогда не нашлась? Почему не встала и не ушла вместе с отцом? Как бы это ни было плохо, все же лучше, чем оставаться тут. Едва отец ушел, как из большой горницы на весь дом и кухню раздался оглушительный и страшный голос Томчи, тем более страшный, что его гнев относился к Софке, хотя он и обращался к матери:
— Так значит, так, мама, мужики мы, холуи…
— Не надо, сынок! Не надо, Томча! Пустяки это, — слышался успокаивающий голос перепуганной матери…
— А? Холуи? А они, которые за деньги и продают и покупают, они, значит, все, а мы мразь. Мы холуи! Дерьмо! Так!
В его страшном голосе звучало скрытое торжество, словно случившееся дало ему возможность освободиться, стряхнуть с себя что-то, правда дорогое и милое, но одновременно и чуждое; ведь, несмотря на счастье, которое он познал возле Софки, он никогда не мог быть самим собой, не мог дышать свободно, чувствуя, что и голос, и движения, и глаза, и взгляд — все это было не его, все это было ее, Софки, но прежней Софки, а не теперешней, купленной, как всякая женщина или вещь, за деньги!
— Так! — услышала Софка его восклицание, полное дикой радости и злобы, и тут же увидела его перед собой. — Ты! — кинулся он на жену, вложив в это «ты» все свое презрение, горе, страдание, обиду. Не успела прибежать свекровь, как на лицо и голову Софки обрушились тяжелые удары, и она почувствовала, что падает. Он быстро выскочил из комнаты, чтобы не избить и мать, пытавшуюся остановить его, и крикнул: — Арса!
Арса, пораженный в самое сердце этим позабытым было властным и строгим окриком покойного хозяина, в ту же минуту был перед ним.
— Что, хозяин?
— Коня и отцовские сапоги! — взвизгнул Томча и сам бросился на конюшню. Не дождавшись, чтобы оседлали коня и принесли сапоги, он вскочил на неоседланного рыжего и средь бела дня на удивление всему люду пронесся по улицам, направляясь к границе.
XXXI
Позднее Томча, смеясь над самим собой, рассказывал, что, когда он глубокой ночью мчался на своем коне прочь от дома, дорогу ему преградила река, которую он хотел перейти выше моста вброд, — а река была темная, холодная, у берегов заросшая ветвистыми вербами, — и вдруг он ясно, как днем, увидел в воде голую женщину изумительной красоты, — она купалась, расчесывала волосы и манила его к себе. Была она вылитая Софка. И чтобы не поддаться ее чарам и не вернуться назад, а главное, чтобы конь, увидев ее, со страха не шарахнулся и силой не помчал его домой, он прямо-таки лег на коня, руками зажал ему глаза и уши и впился зубами в жилы на шее под самой гривой. Разъяренный конь взвился, ринулся во всю прыть через лес, прячась от лунного света, и так домчал всадника до постоялого двора.
Там Томча проверил слуг и испольщиков и, обнаружив, сколько они наворовали, всех переколотил. А они словно были и рады: новый хозяин не слабее старого, а должно, еще и посильнее.
И как запил с того дня Томча, так его трезвым больше и не видели. С помощью слуг и поденщиков он приволакивал цыганок и крестьянок; насильничал над ними и черт знает что делал. Мать напрасно наказывала ему, чтобы он немедленно возвращался, не то и она уйдет из дому. Его ответ был постоянен: честь и уважение матери; пусть ест и пьет, чего душа пожелает, ничего пусть не жалеет, не бережет, но, если еще чего от него хочет, пусть идет куда знает.
Софкин отец, эфенди Мита, чтобы поддержать свою честь, а Томче задать страху, послал к нему старшего шафера с требованием, чтобы зять вернулся домой и не срамил его, или же он возьмет дочь назад. Томча встретил шафера как нельзя лучше, но тестю, эфенди Мите, послал кукиш, присовокупив к нему такую непристойность, что сразу стало ясно, что он совсем откололся от жены и тестя, совсем опустился. Она означала также, что он окончательно вернулся к тем временам, когда ребенком жил с отцом на постоялых дворах в компании цыган и пьяниц. Эфенди Мита, больше всего разозлясь оттого, что зять не выругал его в глаза, а посмел передать ругань через посланного, да еще с кукишем, послал за Софкой. Но Софка отказалась вернуться. И не только отказалась, но просила передать отцу, чтобы он никогда ее больше не тревожил, оставил ее в покое, что ей здесь «хорошо, очень хорошо…».
XXXII
Но на этом дело не кончилось. Когда Томча увидел, что его больше не трогают и тем более не решаются приказывать или угрожать и что, следовательно, он уже не ребенок, а взрослый, независимый человек, он снова стал появляться дома. Но как! Всегда ночью, всегда пьяный, он всегда почти вышибал ворота, Арса никогда не успевал отворить их. Сойдя с коня, он входил в комнату; где стоя поджидала его жена, и тут же обрушивал на ее голову удар, после которого у него в руке всегда оставались ее платок и клок волос. Но Софка, словно назло, ни звука. Она стаскивала с него сапоги, и стоило ей на мгновение замешкаться или смешаться, муж, не глядя, пинал ее сапогом со шпорами в грудь, живот. Пинал с такой силой, что Софка отлетала к стене. Но снова подходила и продолжала его разувать. Слуги обычно разбегались и прятались у соседей, так как знали, что он всех перестреляет, лишь только заметит в доме. Потом он сам отправлялся в погреб за вином, но чаще за ракией. С налитыми кровью глазами, вне себя от ярости оттого, что она ничему не удивляется и не пугается и чуть ли не с наслаждением переносит все мучения, как бы желая, чтоб они никогда не кончились, он силой заставлял ее пить вместе с собой. Пить много, и одну ракию, крепкую, дважды перегнанную ракию, от которой она сваливалась в беспамятстве. Тогда он терзал и целовал ее так, что только у Софки хватало сил это вытерпеть. И она терпела. Он мог бить ее, кусать — она не шевелилась и не издавала ни единого звука! Только пила и пила ракию, чувствуя, как она сжигает нутро и погружает ее в безумие боли и наслаждения.
На другой день, на самой заре, Томча, чуть протрезвившись, поднимался и снова уезжал на границу или в село.
А Софка, избитая, изломанная, с трудом вставала и выходила к свекрови. Та, напуганная и подавленная ночными ужасами, не в силах была подняться с постели. Увидев, что у Софки повязана голова и лицо в кровоподтеках, свекровь, плача навзрыд, говорила ей:
— Софка, детка! Уходи от него. Брось его, Софка! Уходи, уходи от него!
— Ничего, мамаша. Ничего. Это я сама упала и расшиблась, — отвечала Софка, пытаясь скрыть от свекрови происшедшее.
— Ох, какое там сама! Все слышала, доченька. Уходи, уходи от него, спасайся. Не то убьет он тебя. А я не могу тебя защитить. Беги, беги от него, деточка!
Но так как Софка наотрез отказывалась уйти от Томчи и бросить дом, уходила свекровь. Не в силах от стыда и срама смотреть Софке в глаза, точно она во всем виновата, убитая горем старуха на несколько дней исчезала из дому. Уходила она всегда вроде бы на кладбище, а на обратном пути, чего раньше никогда не случалось, встречала какую-нибудь знакомую крестьянку, и та будто бы насильно оставляла ее у себя на ночь и весь следующий день. Свекровь жалела Софку больше себя. Напрасно Софка оставляла ей еду и в обед и в ужин, чтобы она поела, когда вернется, — она ни к чему не притрагивалась. Даже к постели не притрагивалась и, уж конечно, спала не в ней, а где-нибудь в уголку. И все для того, чтобы не пачкать и не мять постель, чтобы Софке не надо было снова оправлять ее и чтобы, таким образом, избавить невестку от лишнего беспокойства и хлопот, которых у нее и без того много. Не ложась в постель и не разбирая ее, старуха думала сберечь Софкины силы.
Напрасно Софка упрекала свекровь и по утрам выговаривала ей, что она опять не спала в постели; та неизменно отвечала: потому-де не легла в постель, что спать расхотелось. Однако по смятой антерии и платку, приставшему к шее, вискам и затылку, видно было, что свекровь спала одетой возле постели, в углу на подушке, на которой наутро оставались следы от локтей и головы.
— Но почему, мама? Почему ты не ляжешь в постель, не разденешься? Ведь простудишься, заболеешь, — начинала громко укорять ее Софка, у которой сердце разрывалось от жалости при виде ее помятой, растерянной, пришибленной страхом фигуры.
Но свекровь продолжала оправдываться:
— Да нет же, нет, детонька. Лягу я, лягу. Вчера как-то позабыла. Прилегла случайно на подушку, задремала, да так и заснула.
А Софка между тем всю ночь слышала, что свекровь не спала. Тихонько, чтобы не потревожить и не разбудить Софку, она бродила по комнатам, кухне и иногда, позабывшись, издавала глубокий стон:
— Ох, проклятые!
И все. Кто проклятые? Весь мир или только они: Софкин отец, ее муж, покойный Марко, а теперь ее сын, Томча?
Вечно терзая себя, все время стремясь уйти из дому, старуха однажды свалилась в постель и в несколько дней умерла. Хотя Томчу и известили, на похороны он не приехал. Схоронив хозяйку, покинул дом и Арса. Ушел вроде бы в село, чтобы найти и расквитаться с Ахметом, с кровоместником хозяина; а на самом деле отправился и он на границу, к Томче, чтоб срывать гнев на остальных слугах, требуя, чтобы они прислуживали ему, как старшому. И Софка осталась в доме совершенно одна. Для нее, как и для Томчи, это было и лучше и легче. Смерть матери словно обрадовала его, он наконец почувствовал себя совсем свободным. Теперь он мог приезжать домой не только по ночам, но и днем и делать с Софкой все, что ему заблагорассудится. Да и для нее было лучше, что она, когда муж уезжал и оставлял ее почти обезумевшей от боли и возбуждения, была в полном одиночестве и могла не бояться, что ее увидят в таком виде. Потому что, хоть и пьяный, Томча не давал себе воли и нарочно, чтобы увеличить Софкины муки, оставлял ее в столь возбужденном состоянии, что она потом лежала по нескольку дней и ночей и беспробудно пила, чтобы только как-нибудь забыться.
Позднее, как говорят, дело зашло еще дальше. После отъездов Томчи Софка бывала в таком исступлении, что ночью, напившись до потери сознания, сваливалась и звала к себе слуг. Поэтому все слуги у нее были глухонемыми.
XXXIII
И ничего не случилось. И смерть не пришла. Наоборот, стали рождаться дети. Но какие дети, какое потомство! Только первенец и был более или менее крепким, а остальные — один другого бледнее, одутловатей.
Но это ее не удивляло. Все было ясно. Все повторялось сначала. Точно так же, как хаджи Трифун некогда положил начало вырождению своего рода, так и сейчас то же самое произошло со свекром ее, Марко, мужем Томчей и с ней, Софкой. Если бы все кончилось на ней! Но нет, это продолжат ее дети, внуки и правнуки. И кто знает, может быть, какая-нибудь ее правнучка, которую и звать будут Софкой и которая вырастет такой же красавицей, какой была она сама, окончит так же, жизнью своей заплатив за грехи предков, проклиная Софку, свою бабку, не давая покоя ее костям в могиле.
Только что минула полночь. Едва можно различить колодец, конюшню, стену ограды; все остальное еще тонет во мраке. Из горницы, в широкие низкие окна, местами залепленные закоптелой бумагой, пробивается желтоватый, тусклый свет. На кухне, на табурете возле двери, теплится лампа. Она горит слабым, вялым пламенем, распространяя запах керосина. Хотя в доме давно уже не спят, не слышно никакого движения. И даже оседланный рыжий с зарубцевавшимся черным шрамом на еще крепком крупе тоже словно не решается заржать или забить копытом, а медленно и монотонно жует овес в торбе, подвешенной к его шее, в ожидании, когда его хозяин, Томча, выйдет из комнаты, сядет на него и поедет на постоялый двор. И из комнаты еще ничего не слышно, кроме шуршанья одежд, резких ударов каблуков об пол, чтобы сапог сел на ногу, и глухого, короткого покашливания со сна. Слуга стоит на пороге кухни, подперев головой притолоку и привалившись спиной к косяку, словно пригвожденный; в одной руке у него переметные сумки, в другой — большой и тяжелый, подбитый мехом гунь. Со страхом, не мигая, он глядит то в горницу, следя за тем, чтобы лампа на табуретке возле дверей не погасла и хозяину не пришлось бы выходить в темноте, то в боковушку, время от времени прикрикивая на проснувшихся детей, когда они начинали слишком громко гомозиться под одеялом.
— А, а!.. Отец еще не уехал.
— Дай хлыст! — донесся из комнаты громкий голос Томчи.
Слуга поспешно перекинул гунь и переметные сумки через седло, подвел коня к двери, держа одно стремя так, чтобы Томча мог не глядя вложить в него ногу и легко вскочить на коня. И так и застыл, согнувшись, в ожидании хозяина, одной рукой держа коня под уздцы, а другой — стремя.
Вскоре послышался скрип дверей, тяжелые шаги в кухне и обычные при отъезде приказания и угрозы, относившиеся не к слуге, а к «тем», к Софке, к детям, — к семье.
— Скажи этому поганцу (сыну): живым не будет, коли услышу, что он опять шатается и бездельничает.
— Хорошо, хорошо! — раздался тихий, но твердый голос Софки, выходящей вслед на мужем из комнаты.
Рука слуги, державшая стремя, задрожала, когда на пороге появился темный силуэт Томчи. От обильных яств и возлияний он преждевременно обрюзг и растолстел. Грудь что у женщины. Рот едва заметен в двойном подбородке, переходящем в короткую толстую шею. Одет он был в широкие, простые штаны, доломан с широким поясом, сапоги выше колен и меховую шапку.
Мощная и мрачная фигура, освещенная сзади лампой, которую Софка взяла с табурета у дверей и подняла высоко над головой, чтобы было светлее, производила страшное, гнетущее впечатление.
Слуга, еще раз бросив на коня испуганный взгляд, — не забыл ли чего? — подвел рыжего, надел стремя на поднятую ногу Томчи, быстро перешел на другую сторону и повис на седле, чтобы хозяин мог спокойно и легко сесть. Сев на коня, хозяин запахнул хорошенько гунь, покрыл ноги и колени, проверил, не отсырел ли порох в пистолетах. Тем временем слуга побежал к воротам и отворил их, придерживая створки. Утеплившись, хозяин почувствовал, что сидит крепко и удобно, взял в руки поводья, перекрестился и, не подав Софке руки, поехал.
— С богом!
— Счастливый путь! — ответила Софка, продолжая светить ему, пока он, уверенно покачиваясь на рыжем, не исчез в воротах.
Только услышав, что слуга затворил за мужем ворота, Софка медленно вернулась на кухню, уже освещенную пламенем очага, раздутого детьми, которые сгрудились вокруг него, заспанные, с гноящимися глазами, в нитках, клочьях шерсти и ваты с постелей. Они весело и непринужденно поглядывали кругом, засунув босые ноги в пепел у очага. Как обычно, Софка принялась их бранить. Затем прошла в горницу, вернулась, волоча за собой подушку, и, сложив ее, села на нее у очага. В одной джезве она поставила варить кофе, в другой — греть ракию. Зная, что мать готовит не для них, дети полезли в ларь у стены. Подпирая головенками большую, тяжелую, старую крышку, они таскали из ларя ломти хлеба и ели их, разбрасывая крошки по кухне, комнатам и особенно по горнице отца, куда они не смели заглядывать, пока он бывал дома, и откуда теперь с восторгом выволакивали подушки, рядна и другие вещи. Софка словно ничего не видела. Иногда только вдруг вскидывалась и, увидев, чем они занимаются, вспыхивала и бросала в них туфлей, деревянной сандалией или чем другим, что попадало под руку, а затем снова оставляла их в покое. Слуга, затворив ворота, притащил охапку дров и тоже уселся у огня, расположившись поудобнее. Сняв опанки, он засучил штаны до колен и принялся вытаскивать из штанин солому. Начало светать. Синева зари стала пробиваться сквозь дымовое отверстие, вступая в схватку с пламенем очага. Из соседних дворов послышались стук топора, скрип колодезного журавля, постукивание деревянных сандалий по мощеным дворам, а с базара, от городских ворот и кофейни стали доноситься протяжные выкрики продавцов салепа и сильный, резкий запах углей в мангалах перед лавками. У колодца появились женщины. По шумному поведению детей они поняли, что Томча уехал, и, оставив кувшины у колодца, без стеснения шли к Софке выпить кофе, посидеть, причем так заговаривались, что из дому приходилось по нескольку раз присылать за ними детей.
Софка за это время сильно сдала. Когда-то тонкая и стройная, она согнулась и сгорбилась. Черные глаза ее ввалились, нос вытянулся и заострился, виски как-то сблизились, и только губы оставались тонкими, влажными и свежими. Ходит она медленно, неверными шагами, никогда не торопится, руки у нее всегда сложены на груди, и рубашка от этого вечно мятая и грязная. Никто не видел, чтобы она ела. Да она почти ничего и не ест. Пьет только кофе; и ко лбу привязывает кружки лука, посыпанные кофе. Целыми днями она сидит в кухне, нагнувшись над очагом, выбирая щипцами потухшие угольки и что-то рисуя на чистом буром пепле плавными легкими движениями. Из этого состояния ее выводит только приход какой-нибудь соседки, у которой запуталась пряжа и которая звала ее к себе распутать. Софка тут же поднимается и идет. Чуть глянув, она уже видит, где пряжа запуталась, и уверенно, легко, не оборвав ни единой нитки, налаживает станок и как ни в чем не бывало садится за него, принимаясь ткать, словно и не прерывала этой работы. Но это редко. Она быстро устает, поднимается и идет к другой соседке. И так целый день бродит, еле волоча ноги, от соседки к соседке, из одной калитки в другую. Обойдя целый квартал, она возвращается домой, снова садится у очага, рисует на пепле, варит кофе и потягивает его медленно и сосредоточенно, облизывая свои искусанные, по-прежнему румяные и влажные губы.
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
Бадняк — дубовые поленья или сучья, которые по народному обычаю сжигают в сочельник.
Газда — уважительное обращение к людям торгового или ремесленного сословия, букв.: хозяин.
Джезва — медный сосуд для варки кофе по-турецки.
Ечерма — жилет.
Зарфа — металлическая чашечка, в которую ставится кофейная фарфоровая чашечка.
Кабаница — верхняя одежда типа плаща.
Кавела — народный музыкальный инструмент.
Каймакам — окружной начальник.
Капа — головной убор типа тюбетейки.
Колия — верхняя одежда, обычно из сукна, наподобие короткого кафтана.
Коло — южнославянский танец типа хоровода.
Новчич — мелкая монета.
Окка — мера объема, равная 11/3 литра.
Опанки — крестьянская обувь из сыромятной кожи.
Пара — мелкая разменная монета.
Погача — плоский пресный хлеб.
Плета — мелкая австрийская монета.
Прангия — пушка, предназначенная для стрельбы холостыми патронами во время празднеств.
Провидур — должность венецианского наместника в Далмации.
Провинциал — главный смотритель католических монастырей в округе.
Пура — крутая каша из кукурузной муки.
Ракия — фруктовая водка.
Ркач — пренебрежительное прозвище православных сербов.
Салеп — горячий напиток на меду.
Сердар — военачальник.
Спахия — турецкий землевладелец.
Слава — праздник святого покровителя семьи у православных сербов.
Токи — металлические пластинки, украшавшие одежду.
Фратер — католический монах.
Хаджи — пилигрим в Мекку и Медину, а также христианин — паломник в Иерусалим.
Ханум — госпожа.
Харамбаша — начальник сельской стражи.
Примечания
1
Скерлић Ј. Писци и књиге, т. III. Београд, 1955, с. 180.
(обратно)2
Правильно (тур.).
(обратно)3
Имеется в виду русско-турецкая война 1876—1878 гг., завершившаяся поражением Турции и освобождением славянских народов на Балканах от многовекового турецкого ига.
(обратно)4
В турецких банях мраморное возвышение, на котором парятся и моются (тур.).
(обратно)5
Род кабины в турецких банях (тур.).
(обратно)6
Перевод В. Корчагина.
(обратно)
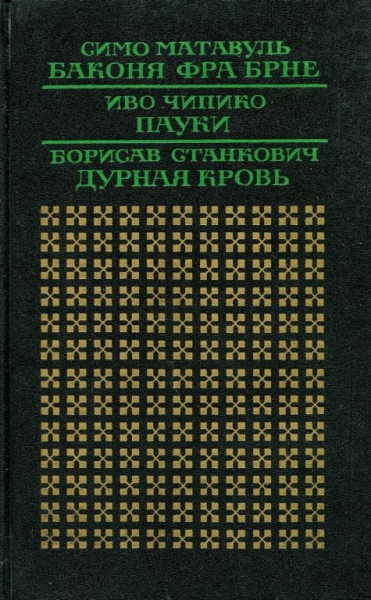



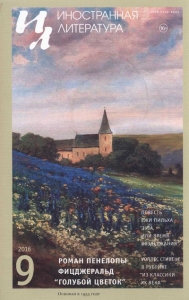
Комментарии к книге «Дурная кровь», Борисав Станкович
Всего 0 комментариев