Муа Мартинсон Мать выходит замуж
Муа Мартинсон и ее роман «Мать выходит замуж»
«Правда обо мне — это правда о вас, уважаемые читатели!» — писала Муа Мартинсон в предисловии к своей серии автобиографических романов. Действительно, в книгах о ее детских и юношеских годах, о ее полной лишений жизни тысячи простых людей Швеции находят отражение своей собственной судьбы.
Путь Муа Мартинсон в литературу был очень нелегок. Хельга Свартс, позже принявшая литературное имя Муа Мартинсон, родилась в 1890 году в Эстергётланде. Ей, «незаконной» дочери фабричной работницы, уже в детские годы довелось вынести много тягот. Учиться в школе было нелегко, так как мать, гонимая нуждой, часто переезжала с места на место. Трудно началась и самостоятельная жизнь девушки.
В 1920 году она вышла замуж и поселилась в маленьком крестьянском домике. Заработка мужа не хватало, и молодая женщина вынуждена была наниматься на поденную работу к богатым крестьянам, чтобы прокормить пятерых детей. Но ни изнуряющий труд, ни вечная тревога о завтрашнем дне, ни заботы о детях не сломили ее. Горестно складывается ее личная жизнь. Кончает самоубийством алкоголик-муж, трагически гибнут двое детей. Однако Муа находит в себе силы не сдаваться и, больше того, бороться против суровой действительности. Все свободное время она посвящает самообразованию. В круге ее читательских интересов Горький и Нексе, Золя и Достоевский. С середины 20-х годов Муа принимает активное участие в общественной жизни, сотрудничает в газетах, где печатает очерки и фельетоны. Ее политические взгляды тех лет еще весьма неустойчивы, но постепенно она сближается с коммунистической партией. «Если бы я была политическим деятелем, — говорит Муа Мартинсон, — то все свои силы я бы отдала коммунистической партии, чья политика в наибольшей мере соответствует той линии, которой я всегда следовала».
В конце 20-х годов Муа Мартинсон вступает в литературу. Своим вдохновителем она называет Мартина Андерсена-Нексе. Его книги, и особенно роман «Пелле-завоеватель», произвели на нее огромное впечатление, и она в письме поделилась с Нексе своими чувствами. Нексе прислал ей роман «Дитте, дитя человеческое» и теплое дружеское письмо, которое, как указывала позднее Муа, придало ей «мужество писать». Вспоминая о своих первых опытах, Мартинсон отмечала, что уже в ранних произведениях она стремилась сорвать с жизни бедноты тот покров идиллии, под которым буржуазные авторы пытались скрыть суровую правду. Она чувствовала, что обязана написать книгу о народе, книгу, которая будет вызывать не жалость и сострадание, а ненависть и возмущение. Если некоторые буржуазные писатели милостиво соглашались с тем, что задавленные нуждой труженики — рабочие и крестьяне — «тоже люди», то Муа Мартинсон старалась доказать, что именно трудящиеся больше чем кто-либо достойны высокого права называться Человеком. Она стремилась показать, что «тонкость чувств не является привилегией богатых и образованных», что «фантазия и чувство так же сильны, даже сильнее, у работницы, чем у богатой женщины».
30-е годы были временем расцвета прогрессивной шведской литературы. Певец пролетарской солидарности Иосеф Челгрен выступил как автор романов и рассказов из жизни рабочих и моряков. Призыв к борьбе за освобождение рабочего класса составлял основной пафос стихотворений Арнольда Юнгдаля. О жизни батраков рассказывал в своих романах и новеллах Ивар Лy-Йохансон. О трагических судьбах сельской бедноты писал и крупный романист Ян Фридегор. Эти писатели, а также Артур Лундквист, Эрик Асклунд и другие, смело поднимали важнейшие проблемы современной действительности и посвятили свое творчество служению народу.
Уже первыми своими книгами Муа Мартинсон завоевала себе достойное место среди передовых литераторов Швеции. Творчество ее носит многогранный характер. Большой интерес представляют ее романы, посвященные судьбе женщины-труженицы в современной Швеции: «Женщины и яблони» (1933), «Сыновья Салли» (1934), — позднее эти романы были объединены в «Книгу о Салли», — и «Невидимый возлюбленный» (1943). Мартинсон создала серию исторических романов из жизни шведского крестьянства XVIII–XIX веков: «Путь под звездами» (1940), «Огненные лилии» (1941), «Праздник жизни» (1943). Муа Мартинсон является мастером короткого рассказа, бытового очерка. Ее рассказы и очерки собраны в книгах «За шведской стеной» (1944), «Любовь между войнами» (1947). Но, пожалуй, наибольшую ценность в творчестве Муа Мартинсон представляет ее автобиографическая тетралогия: «Мать выходит замуж» (1936), «Свадьба в церкви» (1938), «Розы короля» (1939) и «Встреча с писателем» (1950). В этих ее книгах очень силен личный элемент, и рассказ о судьбе героя по существу представляет собой рассказ о судьбе автора.
Произведениям Муа Мартинсон, различным и по тематике и по времени действия, присуще много общего. Для нее характерно постоянное внимание к жизни народа. Муа Мартинсон говорит: «Большие люди попадут на страницы истории. Но есть много маленьких, никому не известных людей со своими разнообразными судьбами. И я считаю необходимым пролить дневной свет на их жизнь».
Но персонажи Муа Мартинсон могут быть названы «маленькими людьми» лишь с оговоркой — лишь по тому положению, на которое их обрекает общественная система. Рассказ о судьбе «маленького человека» у Муа Мартинсон — это рассказ о его большой трагедии. Подчеркнуто обыденные истории из жизни простого народа писательница раскрывает как проявление общих социальных закономерностей, обрекающих и городских и сельских тружеников на вечную нужду.
Именно в этом плане и показывает Муа Мартинсон тяжкую долю фабричных работниц, батрачек, жен бедняков. Буржуазная критика нередко говорит о Муа Мартинсон только как о продолжательнице столь широко распространенной в Швеции «литературы женской эмансипации». Но если представители этой литературы ограничивались состраданием к суровой участи женщины и настаивали лишь на некоторых правовых реформах, то для Муа Мартинсон «женский вопрос» является частью вопроса о вопиющей социальной несправедливости. Трагедию матери, которая выбивается из сил, но не может прокормить своих детей («Книга о Салли»), трагедию жены алкоголика, женщины, вынужденной торговать собой («Праздник жизни»), Муа Мартинсон рассматривает как неизбежный результат существующей социальной системы.
Но, рисуя страшную картину жизни городского и сельского пролетариата, Мартинсон не впадает в отчаяние, мотивы безысходности и пессимизма чужды ее творчеству. Она говорит: «Зачем нужны в литературе ставшие теперь такими модными отчаяние и пессимизм? Это ведь то же самое, что сидеть сложа руки и трепетать в ожидании смерти». Муа Мартинсон твердо верит в то, что социальная несправедливость, голод и нищета будут уничтожены, хотя и не совсем ясно представляет себе характер будущего общества без угнетателей и угнетенных.
Основой убежденности Муа Мартинсон в торжестве правды и справедливости является вера в простого человека, в его неисчерпаемые духовные возможности. Поэтому она и стремится глубже раскрыть внутренний мир персонажей. С полным правом она говорит: «Я показываю людей труда в их повседневной изнурительной работе, а также в их стремлениях, мечтах, их способности бороться, их нуждах, их любви». Писательница с большим мастерством изображает переживания своих героев, добиваясь большой психологической убедительности. Герои ее произведений — это живые люди, которые любят, ненавидят, страдают, мечтают.
У Муа Мартинсон читатель редко встретит героя, вступающего в активную, организованную политическую борьбу против угнетения. Но писательница знает, кто является настоящим героем эпохи. В очерке «Большие люди» она с восхищением говорит о смелых борцах против фашизма, идущих на пытки, на смерть ради освобождения человечества от страшной коричневой чумы: «Мы должны стремиться походить на вас — на тех, кто принял мучительную смерть в аду концлагерей, но не сдался, на тех, кто перенес страшные истязания и снова продолжает борьбу… Именно потому, что вы существуете, я чувствую гордость за то, что я человек».
Отдельные стороны классовой борьбы пролетариата также отражены в романах Муа Мартинсон, хотя и не занимают в них главного места. Но, избрав определенный круг персонажей — простых людей-тружеников, во многом находящихся в плену у старых предрассудков и представлений, — она и в этой среде находит настоящих героев. Их способность в условиях страшной нищеты, угнетения, постоянной неуверенности в завтрашнем дне сохранить веру в будущее, в добро поистине равносильна доблести. «Воля человека и любовь всегда побеждают все реакционное и враждебное, — говорит Мартинсон. — Люди, которых я люблю и в жизни и в книгах, — это люди, полностью отдавшие себя нашей чудесной, всего один раз нам данной жизни».
Не все равноценно в творчестве Муа Мартинсон. В некоторых ее произведениях мы встречаемся с абсолютизацией социальных пороков как какой-то вневременной, внеисторической силы, другие книги страдают излишней сентиментальностью. Но, оценивая творчество Мартинсон в целом, мы неизбежно приходим к выводу, что основной его пафос заключается в гуманизме, в критике системы, обрекающей народ на нищету и бесправие.
Это проявилось и в цикле автобиографических романов Мартинсон, в частности в романе «Мать выходит замуж». Роман не является только автобиографией автора. Писательница вышла из рамок мемуарного жанра и создала широкую картину жизни трудящихся Швеции конца XIX века.
Книга эта — повесть о тяжелом детстве девочки, дочери фабричной работницы. Постоянное недоедание, нищета, унижения стали для нее привычными. Восьмилетняя девочка понимает, что жизнь — «это только тяжкий, изнуряющий труд». Она совершенно лишена тех маленьких радостей, без которых детство кажется невозможным. Маленькая Миа спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся — именно в этом, пожалуй, и заключается самое страшное, — говорит, что есть вещи, не предназначенные для таких, как она: это кукла, которая умеет закрывать глаза, раскрашенный мячик, хорошие ботинки, красивые платья, качели в саду, книжки и многое другое. Такие вещи существуют не для бедных. Дети зажиточного крестьянина не желают играть с Миа, дочерью работницы. Судьба Миа ничем не лучше судьбы многих других детей. По-нищенски живет ее подружка Ханна, которая перенесла, пожалуй, даже больше несчастий, чем Миа; умирает от туберкулеза мальчик Альвар; гибнет девочка — одноклассница Миа. В книге много детских образов, но нет ни одного по-настоящему счастливого ребенка.
Особенно сильное впечатление производит на читателя окружающая Миа действительность потому, что она показана через восприятие восьмилетней девочки. Миа на каждом шагу сталкивается с горем и страданиями. Сопоставление чистой и светлой души ребенка, его непосредственных, наивных представлений с реальной действительностью подчеркивает тяжесть тех условий, в которых приходится жить беднякам. Миа видит, как изо дня в день выбиваются из сил ради куска хлеба ее мать и другие женщины, узнает, какая страшная вещь безработица, знакомится с процентщиком, которому бедняки несут свои последние жалкие тряпки. Она узнает, что «судьба батрака — всю жизнь быть рабом, от колыбели до самой могилы». Миа хорошо понимает, что люди делятся на богатых и бедных. Правда, у нее, ребенка, понятие о богатстве довольно своеобразно: богата девочка, надевающая в будни хорошее платье, признаком богатства являются и нарядные ботинки, а уж книжная полка в доме означает, что хозяин принадлежит к числу настоящих господ. Но эти представления только лишний раз подчеркивают глубину той нищеты, в которой живет девочка.
Муа Мартинсон создала в романе выразительные, надолго запоминающиеся образы простых людей. Прежде всего — это Гедвиг, цельная, сильная своей чистотой натура. Она, мать «незаконного» ребенка, отверженная по нормам буржуазной морали, мужественно проходит через все суровые испытания и лишения, которые ждут ее на каждом шагу. Ей присуща замечательная моральная стойкость, непоколебимое чувство собственного достоинства, стремление сохранить свою свободу и независимость. Как бы тяжело Гедвиг ни приходилось, она не унывает, не жалуется, не падает духом и находит в себе силы подбодрить других, помочь им словом участия и даже оказать материальную поддержку. Ей бесконечно трудно, но она всегда держится гордо и независимо. Ни от кого не соглашается она терпеть оскорбления — ни от хозяев, ни от мужа. Гедвиг отказывается искать утешения в религии, полагаясь только на свои силы.
Чрезвычайно привлекателен образ самой Миа, от лица которой ведется повествование. Перед читателем раскрывается внутренний мир девочки, всей душой стремящейся к правде, свету, знанию. Больше всего она страдает не от голода, лишений и боли, а от унижения: «От физической боли я страдала гораздо меньше, чем от несправедливости, которую не могла переносить». Миа сердцем чувствует, что жизнь должна стать лучше, красивее, чище и справедливее. Душа ребенка, особенности детской психологии раскрыты автором очень тонко.
Композиция и стиль романа весьма своеобразны. В книге нет четких сюжетных линий, трудно говорить и об определенной фабуле. Роман как бы складывается из отдельных эпизодов и картин. Но это отнюдь не приводит к рыхлости в построении книги, ее стройность и единство не нарушаются. Повествование от лица маленькой девочки обязывало писательницу к простоте стиля и точности языка. Поэтому в книге нет отступлений, сложных описаний. Каждая сцена, каждая деталь обрисованы просто и в то же время очень четко, что является свидетельством большого художественного мастерства писательницы.
Как и в других произведениях Мартинсон, в романе слышатся отзвуки борьбы пролетариата за свое освобождение: жители Норчёпинга узнают об организации рабочих-социалистов, о заключенной в тюрьму женщине-агитаторе. Миа знакомится с новым, недавно вошедшим в употребление словом — «стачка». Все эти стороны жизни в романе подробно не освещены — задача писательницы была иной, — но Муа Мартинсон дает понять, что это только начало, только первые шаги борьбы класса, которому принадлежит будущее.
Тема активной борьбы трудящихся за свое политическое и экономическое освобождение будет развита в последующих романах автобиографического цикла. Так, в романе «Королевские розы» изображена забастовка рабочих Норчёпинга, вспыхнувшая под влиянием русской революции 1905 года.
Роман «Мать выходит замуж» явился значительным достижением Муа Мартинсон — крупной прогрессивной шведской писательницы, посвятившей свое творчество изображению жизни городского и сельского пролетариата, раскрывшей духовное богатство людей труда, их моральную красоту и стойкость.
А. ПогодинМать выходит замуж
Наши матери
«Пылает костер, сплетает венки
пламя его золотое.
Смело войду я в огненный круг,
и милый станцует со мною».
Так пели мы в переулках,
где вечер скрывал нашу бледность.
Были тихими наши танцы —
матерей мы ждали усталых.
Так бледны были наши лица,
а глаза так светлы и прозрачны,
будто смотрит чахоточный пастор.
Незаконные дети мы были,
без мужей наши матери жили.
* * *
Сквозь огонь шли матери наши
и, пройдя сквозь огонь, находили
высокую, темную стену
немецкой фабрики шерсти.
Сквозь огонь шли матери наши
и, пройдя его, находили
исправительный дом, больницу,
а иные смерть находили.
О, как часто матери наши
в переулках темных рыдали;
чтоб хозяин не выгнал из дому,
шли на улицу вечерами,
возвращались позднею ночью,
когда мы давно уже спали.
Мы — их дочери, мы их ждали
и по-прежнему пели песню:
«Пылает костер, сплетает венки
Пламя его золотое»[1]
1
Я хорошо помню тот день, когда мать вышла замуж.
Мы жили тогда у ее сестры в Норчёпинге. Была пятница. Мать не пошла на фабрику. Она надела черное платье, которое заняла у подруги. Денег на новое платье не было, все сбережения ушли на то, чтобы вылечить меня от рахита. «Благородное» происхождение моего настоящего отца, видимо, не позволило ему жениться на матери. Потому что это ведь совсем разные вещи, когда человек женится или просто становится отцом. А те деньги, которыми он «раз и навсегда» откупился от матери, она отдала дедушке, чтобы я жила у него. Но дедушка в тот же год заболел воспалением легких и умер.
С бабушкой я прожила только год, потом она ослепла и ей пришлось уйти в богадельню. Мать начала таскать меня за собой с места на место, пока наконец не устроилась на фабрику Брюкса в Норчёпинге.
«Пособие на ребенка» давно не выплачивалось, потому что дедушка еще при жизни занял под него деньги у соседа.
* * *
И вот теперь мать выходила замуж. На ней было черное платье и длинная нитка бус из продолговатых граненых стекляшек. Потом они достались мне. Они целы у меня до сих пор. Мать сидела у тетки, в ее единственной комнате, и ждала жениха. «И чего это она вырядилась в будничный день?» — недоумевала я.
Наконец пришел мой будущий отчим, потом они куда-то ушли и вернулись через час, уже мужем и женой.
— Теперь ты должна называть его папой, — сказала мать.
Отчим стоял тут же, переступая с ноги на ногу и подкручивая усы.
— Да, да, — подтвердил он. — Зови меня «папой».
Но я еще долго называла его «дядей».
Мы по-прежнему жили у тетки. Я видела, что мать располнела и подурнела, но не понимала почему. Однажды она не пошла на фабрику.
— Будем перебираться домой, — весело сказала она, усаживая меня к себе на колени.
На другой день мы потащились через весь город, а потом по Старой дороге к хутору, — до него было всего четверть часа ходьбы от Норчёпинга. Мы еле плелись, нагруженные целой кучей всякого барахла. Я несла красивую штору, которую подарили матери ее подруги с фабрики. Сколько написано и в стихах и в прозе о рисунках на старинных шторах! Не эти ли рисунки впервые разбудили мою детскую фантазию?
На шторе, которую я несла, была изображена девочка, идущая по воду через выгнутый мостик. А мне казалось, что это живая девочка идет по воду. И долго еще после этого, лежа вечерами в постели, я пыталась представить себе место, где жила девочка. Видно, она мыла полы, раз у нее юбка подоткнута. И как бы мне раздобыть такие же красивые деревянные башмаки? Я никогда не видела таких башмаков, даже когда стала взрослой и побывала на самых больших ярмарках мира.
Мы с матерью брели по старой широкой дороге, старой-старой, одной из самых древних в стране. Стоял солнечный, теплый апрель.
Отчим уже был там и работал на хуторе. Мы весь день будем с матерью совершенно одни! Вдвоем с матерью! Впервые с тех пор, как я родилась, а ведь мне вот-вот исполнится семь лет!
Почти всю мебель — комод, кровать, стол, несколько стульев — подарила нам приемная мать отчима. Добротные вещи из березы. Только диван купили новый — коричневый, с украшениями в виде желудей на спинке, всего шестьдесят четыре желудя, — он был куплен специально для меня.
И вот мы на пути к нашему первому жилищу. На пригорке стоит беленький домик с очень высоким крыльцом. В одном из окон показалось чье-то лицо, прижавшееся к стеклу, — нас с любопытством рассматривали.
Мать достала ключ и открыла в сенях первую дверь налево..
— Ух ты! — только и сказала я.
Мать, видно, уже успела побывать здесь и навести порядок. В комнате было два окна. На них висели длинные белые занавески. Занавески были старенькие: их тоже подарила бабушка, а мать заштопала и подкрахмалила. Белое покрывало на кровати, белая скатерть на столе, а на полу — новые лоскутные половики, которые мать сама шила по вечерам, после работы на фабрике. Я прежде часто плакала, когда мать таскала меня к бабушке в Вильберген, — мне трудно было ходить так далеко, — но зато теперь у нас были новые половики, а у печки — охапка можжевеловых веток.
По другую сторону сеней находилась общая кухня. Мать сказала, что там готовят и пекут хлеб те, у кого только одна комната.
— А ведь это хорошо, — добавила она, — не будет копоти.
Но старые жильцы полностью завладели кухней. Мать же была чужой и к тому же с фабрики — «фабричная косточка», как называли работниц добропорядочные деревенские женщины, — так что готовить нам пришлось в комнате.
На березовом комоде стояло несколько уже знакомых мне картинок, я не раз видела их у бабушки. Как легко мне было звать мать отчима «бабушкой» и как трудно его — «отцом»! Тут же на комоде стояли две красивые вазы, а в них ольховые ветки с маленькими черными шишечками.
(И теперь, почти сорок лет спустя, эти вазы с ольховыми ветками и черными шишечками стоят у меня на полке. Мать всегда очень берегла вещи, хотя ей так часто приходилось распаковывать и упаковывать их. Вазам, верно, больше ста лет: бабушке их подарила свекровь к свадьбе, да и тогда уже они не были новыми. Почти пять поколений бедняков пережили эти вазы.)
А вот стоит мой новый диван с желудевыми шишечками.
Весь день я молча просидела в комнате. Как все здесь непохоже на то, к чему я привыкла у тетки, — маленькая комнатка, столующиеся возчики, озорные ребятишки, постоянный шум на лестницах и ужасный грохот телег по булыжной мостовой!
Мать тоже молчала. Мы не выходили из комнаты. Я сидела на диване, который будет принадлежать мне, только мне одной, а ведь раньше я так часто спала на полу или с кем-нибудь другим.
Рядом мать, которая теперь всегда будет дома, и я смогу говорить с ней, когда только захочу что-нибудь сказать, — а это случалось довольно часто.
То был самый приятный день моего детства. Впервые я по-настоящему поняла, что значит слова «родной дом», «мать», и воспоминание об этом сохранилось на всю жизнь. Молчаливые и торжественные, пили мы кофе. Никакой кухонной посуды у нас тогда не было. Я припоминаю только жестяной кофейник за пятьдесят эре.
К вечеру вернулся отчим.
Всего полдня у нас с матерью был свой дом.
Я так и не полюбила отчима — вероятно потому, что он отнял у меня мать и был с нею очень груб, даже бил… А потом у матери стали появляться другие дети — его дети. Их я поэтому тоже не любила. Когда они умирали, — а ни один из них не прожил и года, — я горько плакала, раскаиваясь в том, что не любила их.
В день, когда мне исполнилось девять лет, я спросила у матери:
— Я помню, кто-то в фартуке с широкими красными полосами держал меня на коленях и кормил малиной с молоком. Где это было?
Мать страшно побледнела.
— Что ты говоришь, разве ты можешь это помнить?
— Конечно, помню, там был большой стол и горшок с желтыми цветами. Целое дерево с желтыми цветами. И плита, в ней листья для растопки, а около плиты шест, он подпирал потолок.
— А ты помнишь, кто держал тебя на коленях?
Нет, этого я не помнила.
— Эх ты, ведь это была я! В тот день я привела тебя к бабушке, тебе было тогда полтора года, а на столе и вправду стоял цветок — большущий олеандр, его знал весь приход. Но не может быть, чтобы ты все это помнила.
— Да как же, — упорствовала я, — я все помню, ты еще положила ногу на другой стул, если это и вправду была ты, держала меня на коленях и кормила малиной с молоком.
Мать почему-то испугалась.
Ох, уж эти маленькие противные свидетели, о которых никогда не думаешь! Правда, разговор шел только о приятном — о малине и молоке, но в жизни ведь много и других страниц…
Я заметила, что мать задумалась, и, сама не знаю почему, сказала, что больше ничего не помню, вот разве только, как однажды сидела на полу, а надо мной ходили какие-то черные мужчины. И хотя я видела только их ноги, я все равно знала, что они черные. Но мать еще больше испугалась.
— Это и было то место, куда я отвезла тебя после того, как кормила малиной, — сказала она. — Я пристроила тебя в одну семью на руднике Берсбу, а у хозяйки столовались шахтеры. Ну, что ты еще помнишь? — уже с раздражением спросила мать.
Она покраснела. Она не верила своим ушам. Должно быть, я казалась ей противным чертенком, который помнил то, чего и вовсе не должен бы знать.
— Скоро я забрала тебя оттуда, — взволнованно сказала она. — Они оставляли тебя на холодном полу, и от этого ты заболела рахитом.
— Больше ничего не помню, — схитрила я, увидев, как встревожилась мать.
Мне исполнилось три года, а я все еще не умела ходить, у меня, по словам матери, из-за плохого ухода был рахит.
Когда мать начала работать на фабрике в Норчёпинге, она обратилась к детскому врачу, доктору Л., который и вылечил меня. Моя тетка говорила, что мать два года недоедала, — все уходило на лечение.
— Сколько было возни с этой девчонкой, — ворчала тетка, — а нужно было просто заговорить ее у знахаря, как других детей.
Как раз такой знахарь жил около Кварсебу.
Доктор Л., видно, так заинтересовался моей болезнью, что даже взял меня к себе домой и продержал три недели. А ведь не часто врач с большой практикой так внимательно относится к незаконному ребенку фабричной работницы. Мало того, когда в это самое время у матери началась нервная лихорадка, доктор устроил меня в Мамрский приют, недалеко от Норчёпинга.
Мне было тогда около четырех лет. Я совсем не помню ни доктора, ни соленых ванн, которыми меня лечили, ни вкусной пищи, ни рыбьего жира. Помню только, что в приюте меня били каждый день за то, что я ругалась. И чем больше они меня били, тем больше я кричала и бранилась самыми скверными словами, какие только слышала от извозчиков и хулиганов.
В приюте хорошо кормили, и порядок там был образцовый. Но однажды в полдень мне не дали каши с вареньем, потому что за столом я давила ногтем хлебные крошки точно так, как щелкала блох женщина, у которой я раньше жила.
За это меня поставили в угол у изразцовой печки, и я стояла с ремнем на шее и смотрела, как другие дети уплетают чудесную кашу с вареньем. Все это время я так отчаянно бранилась, что им пришлось унести меня из комнаты. А доктору на другой день сказали, что больше не хотят держать меня в приюте, и он снова взял меня в город.
Я никогда не говорила матери, что помню об этом, я боялась, как бы она не подумала, будто я помню гораздо больше. На моих глазах взрослые совершали немало всяких поступков, и я уже смутно догадывалась, что мать не хочет, чтобы я помнила слишком много, даже если это ее и не касалось. Но я убеждена, что не превратилась бы в «побитый морозом цветок», узнав часть ее случайных грехов.
Выйдя замуж за отчима, мать попала в удивительную семью.
Новые родственники называли себя «состоятельными» и строили из себя благородных или, как они выражались, «образованных». Быть «образованными» значило сидеть на зеленой траве, жевать бутерброды и котлеты, запивать все это пивом и водкой и распевать «Как здесь божественно прекрасно».
Родственники, не имевшие состояния, считались пропащими, «паршивыми овцами». Мой отчим и был как раз «паршивой овцой», и вся родня вздохнула с облегчением, когда он женился на матери.
Наконец-то они избавятся от него и от всех выдумок, которыми он с дурацким видом пичкал их в чистенькой кухне только для того, чтобы выманить крону и десять эре на водку.
Но теперь с этим покончено — теперь Альберт женатый мужчина, и если он к тому же взял хоть что-нибудь в приданое за «этой женщиной», то наверняка сможет стать таким же «состоятельным» и «образованным», как они.
Насчет «образования» они позаботились сами. Мы жили так близко от города, что приходить к нам каждое воскресенье и возвращаться обратно, есть бутерброды, пить пиво и петь «Как здесь божественно прекрасно» было вполне «идиллической» воскресной прогулкой для этих «благородных» городских жителей. О нашем благосостоянии они тоже заботились: тащили к нам изношенные платья, корки сыра и куски хлеба — словом, что только могли: «в деревне ведь все может пригодиться».
Старая дева — все родственники называли ее «тетушкой» — была белошвейкой и шила почти на все аристократические семейства города. Самым близким ее другом была жена священника, всеми уважаемая «интеллигентная» дама, и тетушка считалась весьма благородной и образованной. Помню, она много говорила о том, что у нее бывает жар, частые головокружения и обмороки.
Тетушка и те из родственников, кто имел честь бывать в ее обществе, в первое лето после замужества матери приходили каждое воскресенье и съедали у нас все до последней крошки. Этой еды нам могло бы вполне хватить на целую неделю. Отчим нанялся поденщиком на хутор и получал только восемь крон в неделю.
Мать почти каждый день ходила в поле и зарабатывала семьдесят пять эре в день. Я же по мере сил вела хозяйство. Но наступало воскресенье, опять являлась «благородная» родня, а бутербродов и котлет на восемь крон можно было купить не так уж много.
Обычно они приносили с собой на двадцать пять эре печенья к кофе. Мужчины — развозчики пива и фабричные мастера — захватывали иногда литр водки. Но в таком случае они уже не приносили печенья, и матери приходилось покупать его самой.
Мне особенно хорошо запомнился день, когда тетушка пришла к нам впервые. Это было недели через две после того, как мы с матерью полдня провели вдвоем.
Тетушка подарила мне узелок лоскутков «для куклы» и пять эре.
— Бедный Альберт, ему приходится содержать чужого ребенка, — сказала старая карга, кивнув на меня знакомым, которых привела с собой.
Разумеется, ни Альберт — мой отчим, ни мать не слышали этого.
Ни один из родственников не говорил людям то, что думает, прямо в глаза — нет, в глаза все они были воплощением доброты и нежности.
Потом тетушка, словно старая злая свекровь, стала рыться в ящиках комода, понюхала что-то в буфете и провела по полкам пальцем, проверяя, нет ли где пыли.
— Гедвиг очень хозяйственная, — изрекла она, просмотрев нашу небольшую стопку полотенец, три хорошо выкатанных простыни, несколько женских сорочек и аккуратно выглаженных мужских рубашек.
Мне не было тогда еще семи лет, но и я кипела от возмущения. Никого не беспокоило, слышала ли я их разговор, видела ли этот позорный осмотр.
Наверно, они считали, что семилетняя девочка, а тем более незаконнорожденная, смыслит не больше трехнедельного поросенка. Детей ни у кого из них не было — «образованная» родня вымирала.
Тем временем мать выбивалась из сил, чтобы приготовиться к воскресным «Как здесь божественно прекрасно». В виде особой милости ей разрешили пользоваться кухней, потому что самая старая соседка знала кое-кого из наших «благородных» гостей и ей понравилось, что «фабричная косточка» имеет таких высокопоставленных знакомых. И мать готовила кушанья и прислуживала, а отчим помогал; вдвоем они быстро накрывали стол на лужайке позади дома и выставляли все, что можно было раздобыть на восемь крон. Родственники рвали цветы, пели «Как здесь божественно прекрасно» и, как рассказывала потом мать, всячески развлекались.
— Прогони этот сброд, Гедвиг, — говорила бабушка каждый раз, когда встречала мать. — Прогони их, они сожрут ваш дом. А у вас теперь каждый грош на счету.
Мать ждала ребенка, но, несмотря на это, каждый день работала в поле, а по воскресеньям прислуживала «образованным» и стряпала для них кушанья, которые мы с удовольствием съели бы сами.
— Да гони ты их в шею, Гедвиг! Еще когда Альберт был маленьким, все эти надутые дураки приходили ко мне каждое воскресенье посмотреть, как он растет. Правда, смотреть-то было особенно не на что, да они и не собирались смотреть, им бы только нажраться за чужой счет. Весь Вильберген кишел этими дурнями с букетиками, будто это был невесть какой большой город. Они становились совсем как дети, стоило им увидеть карликовые сосны на горе, а ведь всё пожилые люди-то! Советую тебе выгнать их, Гедвиг, из-за них Альберт снова начнет пить.
Но Гедвиг не была такой решительной, как бабушка. У Гедвиг был незаконнорожденный ребенок, она много и тяжело потрудилась в своей жизни и привыкла склоняться и молчать перед богатыми и «образованными». Скоро у нее будет еще один ребенок, она очень устала, и у нее не было сил для возражений. Да и вообще разве можно перечить гостям? И мать продолжала возиться с ними вплоть до рождения малютки. Часть вещей перекочевала к городским ростовщикам: отчиму все больше нравились эти «Как здесь божественно прекрасно».
Малютка родилась в субботу, и бабушка осталась у нас на воскресенье. Был август, днем, как всегда, притащились «образованные», и встреча их с бабушкой — одно из самых приятных воспоминаний моей жизни. Бабушка надела очки на свой красивый нос (несмотря на свои семьдесят два года, бабушка была еще очень красива, а в свое время считалась одной из самых красивых работниц на фабрике в Норчёпинге и приходилась «образованным» какой-то очень дальней родственницей и задала прибывшим порядочную взбучку.
— У вас разума в голове не больше, чем у бродячей кошки, — сказала она, — раз вы уселись на шею людям, которые и без того получают мало, а работают много. Гедвиг лежит в постели, постель эту ей дала я, потому что вы ничем не помогли им, хотя так радовались, что ваш Альберт наконец-то женился. Она худа, как птичка, а ребенок, которого она родила, не весит и двух кило, — и все из-за вас, потому что она работала каждый день и могла бы хорошо питаться, если бы вы не объедали ее. Но уж сегодня-то во всяком случае вам здесь нечего делать.
«Образованные» только пожали плечами. Приемная мать Альберта умела разбираться в людях, хотя и не получила ни образования, ни воспитания. Захватив кулек печенья за двадцать пять эре, они отправились обратно в город.
Так мы избавились от них в то лето, и это была большая удача, потому что после родов мать поправлялась очень медленно. Врач сказал, что она слишком переутомлена и плохо питалась.
— Эти фабричные всегда так, — говорил он. — Живут на кофейной бурде и хлебе и медленно умирают с голоду.
Доктор знал, что моя мать работала раньше на фабрике, но разве он знал про «образованных»? Можно бороться против скверного питания фабричных рабочих, поставив этот вопрос ка открытое обсуждение, но с глупыми и чванливыми людьми ничего не поделаешь, приходится отдавать последнее «образованному» гостю!
С тех пор я и возненавидела состоятельных незваных гостей.
Есть другие люди, не такие образованные, не такие состоятельные, но с ними охотно делишься последним куском.
На том же хуторе, где мы принимали наших именитых гостей, жил высокий, совершенно глухой старик с черными как смоль бородой и бровями. Он страдал запоем, и несколько раз в году у него бывали приступы белой горячки. Жил он с женой на чердаке, как раз над нами. Фамилия старика была Ионсон, но все звали его Ионом, и, когда старик запивал, батраки говорили, что Ион «справляет свадьбу».
Меня непреодолимо влекло к этому высокому старику, который в трезвом виде был молчалив, как бревно. Долгое время я ходила за ним по пятам, но совсем не потому, что любила старика или интересовалась его «свадьбами», — я достаточно нагляделась на подобные «свадьбы», когда жила несколько лет у чужих людей в старых лачугах на севере.
Нет, мне во что бы то ни стало хотелось разглядеть вблизи уши старика.
В мою жизнь вошло что-то таинственное. Рядом со мной жил глухой человек, который говорил очень тихо и никогда не интересовался ответом, потому что все равно не мог его услышать. Только жена его умела двигать губами так, что он ее понимал.
Я не испытывала к старику ничего похожего на сострадание. Скорее я завидовала его загадочному физическому недостатку и твердо решила во что бы то ни стало рассмотреть эти странные ушные раковины, торчащие из-под черных волос. Я даже сочинила целую историю об ушах Иона.
Старик привык, что я ходила за ним по пятам, иногда даже угощал меня леденцами, а его жена, худая сгорбленная старуха, такая же черная, как и он, стала чуть приветливее ко мне, лишь бы угодить старику. Он так редко бывал ласков с кем-нибудь, а тем более со своей старухой.
Однажды я случайно наткнулась на старика, когда у него был запой. Увидев меня, он залепетал:
— Девочка, девочка…
Старуха только было собралась спрятаться в сенях, потому что спьяна старик всегда грозился убить ее, но замерла от изумления.
Тут старик увидел ее, начал кричать что-то о смерти и дьяволах, и старуха моментально исчезла.
Когда Ион, шатаясь, полез наверх в свою комнату, я последовала за ним. Я рассуждала так: в ушах у старика просто-напросто нет дырочек, и теперь-то я уж увижу это чудо. Быть может, у меня даже мелькнула тогда смутная мысль предложить старику просверлить в ушах дырочки. Ведь это совсем не трудно сделать, зато он будет слышать…
Старик подошел к столу и наполнил несколько стаканов. Что он в них налил, воду или водку, я не знала. Поставив стаканы на плиту, он чокнулся с воображаемыми собутыльниками, выпил, закричал и замахал руками, потом вышел на середину комнаты и опрокинул стул. Опорожнив один за другим все стаканы, он спокойно уселся у печки.
Я решила, что пора действовать, тихо подкралась к сидевшему с закрытыми глазами Иону и заглянула ему в ухо, потом в другое.
Там были дырочки. Я увидела обычные, как у всех людей, уши, и у меня сразу пропал всякий интерес к старику, захотелось поскорей уйти. Каморка была такая мрачная и грязная. Мне вдруг страшно захотелось очутиться в нашей чистой, светлой комнате, где накрахмаленные шторы, диван с желудями и вазы, в которых стоят листья.
Но уйти с чердака оказалось не так-то просто. Только я приблизилась к двери, как старик залепетал:
— Девочка, девочка…
Он был так страшен, что я не посмела сделать и шагу дальше. Теперь только, потеряв к нему всякий интерес, я увидела какой он страшный, противный и грязный, и к тому же я не забыла, как он грозил зарезать свою старуху и какой он вообще гадкий и злой. Я очень перепугалась и заползла в угол.
Ион снова начал чокаться и шуметь.
Я слышала, как внизу, в сенях, меня звала мать: она ведь послала меня за дровами, — но ответить я не посмела. Ходить за дровами было для меня хуже всего наказания. По мне, приятнее было целый день таскать траву с пастбища, чем принести в комнату одну-единственную охапку дров. Носить дрова — что может быть скучнее? Но сейчас я поклялась себе наполнить дровами целый ящик и делать все, о чем попросит мать, только бы выйти отсюда. Мать окликнула меня еще несколько раз, но я не отзывалась. Старик мог задушить меня, а если бы мать узнала, что я была здесь, она бы непременно меня выпорола.
Старик снова уселся у печки. Каждый раз, когда он терял равновесие и падал со стула, он отчаянно ругался и так колотил кулаками в стену, что отваливались большущие куски штукатурки, а в углу надо мной столбом поднималась пыль. Так прошло несколько часов. Сгустились сумерки, и старик наконец свалился на пол и захрапел. Тогда я тихонько выскользнула на улицу, пробралась к дровяному сараю и вошла в комнату с охапкой дров как раз в ту секунду, когда мать всерьез собиралась начать поиски. Она крепко схватила меня за волосы.
— Я ходила в поле к дя… к папе, — тотчас поправилась я, пытаясь умилостивить ее.
— Зачем он тебе понадобился?
— Его там не было, я не знаю, где он, — ответила я, чтобы избежать дальнейших расспросов.
— Не смей больше уходить из дому без разрешения, а то я тебя выпорю, — лицо у матери было злое и строгое.
Остаток дня я неутомимо носила дрова и даже не заикалась о послеобеденном кофе, хотя от голода сводило живот.
— У, чертов старик с дурацкими ушами! — бормотала я.
В следующий раз, когда старик опять начал буйствовать, прибежала старуха и попросила Гедвиг «одолжить» на время девочку, которая так хорошо умеет обращаться с ее пьяным мужем.
Но Гедвиг не «одолжила» девочку, она только спросила, не рехнулась ли старуха после всех справленных Ионом «свадеб».
Глухие старики, в ушах у которых все-таки были дырки, уже больше не занимали меня.
Но однажды со мной произошло что-то и впрямь удивительное.
Случилось это все на том же хуторе, куда по воскресеньям во всей красе являлись «образованные»; мать была все такой же усталой и безответной.
Еда меня не очень интересовала, а сидеть за обедом было настоящей мукой. И, если мне давали большой кусок хлеба, я могла целый день и не вспоминать о еде, лишь бы меня оставили в покое. Кроме меня, на хуторе не было других детей, там жили только старики и батраки-сезонники. Но приходили ребята с других хуторов, и жизнь тогда снова становилась прекрасной — в нашем распоряжении была целая лужайка, а это кое-что значило для того, кто вырос на задворках городских трущоб.
Ради еды, как я уже сказала, я бы не стала особенно стараться, но было одно лакомство, которое толкнуло меня на преступление: леденцы, самое соблазнительное лакомство 1902 года, — одинаково соблазнительное для бедных и для богатых. Из всех лакомств, выставленных в витринах магазинов, леденцы были самым любимым, а за ними уже шли орехи в пакетиках. Леденцы привлекали нас своим аппетитным цветом и красивой формой.
Не было других сладостей, которые имели бы такую же форму. Граненые конфетки таинственно поблескивали, и, казалось, их можно сосать целую вечность.
Была в леденцах какая-то щедрость, которая и привлекала детей, привыкших к ограничениям и скупости.
Однажды меня послали купить дрожжей на пять эре.
До лавки, где хуторские поденщики могли покупать в долг, было довольно далеко. До города было гораздо ближе, но я не раз слышала от матери, что детям опасно ходить туда. Даже городская застава таила в себе опасность. Здесь, около заставы, был цирк, а прямо перед цирком — весы, на которых крестьяне по пути к мясникам взвешивали телят. Тут же они и выпивали.
Дорога к лавке показалась мне ужасно длинной, да я и не привыкла так далеко ходить. В городе магазин находился ведь прямо на углу. Был жаркий летний день. Теплый воздух струился над полями. От самого хутора начиналась прямая и ровная дорога без единого деревца. Она казалась бесконечной. В кармане у меня ровно пять эре, ни одного эре лишку. На четыре эре дрожжей не купишь — торговец сразу догадается, что я припрятала монетку.
Изнемогая от жары и жажды, я дошла наконец до лавки и напилась воды у насоса, под которым стояло длинное корыто для лошадей.
На прилавке красовалась большая стеклянная банка с желтыми леденцами. Не знаю, может по дороге со мной приключился солнечный удар, но я совершенно хладнокровно купила на все пять эре сладостей и без дрожжей двинулась в обратный путь.
Я чувствовала, что совершила ужасный проступок, но не сознавала этого по-настоящему. Я знала, что не могу вернуться домой без дрожжей, и не вернулась. Как выпутаться из всей этой истории, я и понятия не имела, но тем не менее жадно сосала леденцы, отложив всякие размышления на потом. Я миновала несколько хуторов, вышла на Старую дорогу и, поскольку дорога вела к городу, пошла в этом направлении, хотя мне нужно было совсем в другую сторону. Наверное, я злилась, потому что мне пришлось проделать длинный скучный путь, вместо того чтобы пойти в ближайшую лавку около городской заставы.
Что делать в городе, я не знала. Может, зайти к кому-нибудь из «образованных» или к тетке, у которой я жила раньше, и попытаться раздобыть пять эре?
Я сознавала всю безнадежность такой попытки: тетка сама все брала в долг и никогда не имела денег, ими распоряжался дядя. «Образованные» же просто прогонят меня домой. Мне ведь еще не исполнилось и семи лет.
Подходя к торговым весам, я все еще сосала конфетки; их хватило до самого цирка. Весы были закрыты, цирк тоже, качели и карусель пустовали. Жутким одиночеством веяло от пестрого циркового реквизита, от зверей на карусели и таких таинственных, закрытых сейчас весов.
Я села на мостик, ведущий через ров к цирку, и принялась за последнюю конфетку.
Из Санкт-Анна, или из Дротхема, или еще откуда-то подъехал крестьянин. Он остановился у весов, вытащил ключ и открыл дверь. Потом перебросил с телеги на площадку весов маленькие узкие сходни и, распахнув клетку, втащил туда за хвост несчастного теленка, затем втянул его — на этот раз за уши — обратно в телегу. Теленок хрипло мычал, словно чувствуя, что его роковой час пробил (как оно и было на самом деле) и городской мясник скоро зарежет его. Я немного всплакнула о бедном теленке и совсем забыла про свое горе. Но тут мне пришло в голову, что бесконечно сидеть на мосту нельзя, и слезы моментально высохли.
Я стала раздумывать, глядя вниз, в щели между досками, на валявшиеся там папиросные окурки, билеты и всякий мусор. Вдруг меня осенила прекрасная мысль. Я никогда не была в цирке и, уж конечно, не имела представления о том, что бедняки еще со времен Рима всегда находили что-нибудь там, где развлекались богачи. Богатые так небрежны, у них ведь всего много.
А здесь между досками большущие щели, и люди наверняка роняют туда деньги. Во всех городах после каждого представления дети ползают под мостами и что-нибудь находят. Но я думала, что именно мне первой пришла в голову эта великолепная мысль.
Я сползла в сухой ров и забралась под мост. Даже темная лачуга всегда внушала мне страх. Тетка никогда не могла добром заставить меня спуститься за картошкой в противный сырой погреб, пока, бывало, не отлупит как следует. Она думала, что я ленюсь, а на самом деле я ужасно боялась этой мрачной пещеры. В погребе я дрожала, как в лихорадке, едва могла набрать корзину картофеля, и всегда после этого целый день мне было не по себе. Но теперь я забыла всякий страх, хотя под мостом было темно и валялся всякий хлам. Я была поглощена своими исследованиями. Ужи и лягушки, которые мерещились мне повсюду днем и ночью, с тех пор как мы переехали в деревню, словно перестали существовать. Я ползала под мостом, осматривая все вокруг дюйм за дюймом. И нашла монетку в двадцать пять эре. Это нисколько меня не удивило. Так и должно было быть. Не хватало еще, чтобы я ничего не нашла, после того как меня осенила столь блестящая идея!
Весь день я была сама не своя. А тут мир сразу стал другим, жизнь изменилась, — оказывается, можно устраивать свои дела без того, чтобы взрослые совали в них нос или стояли над душой, требуя на каждом шагу отчета! Теперь вполне можно позволить себе купить еще немного леденцов; но какой-то внутренний голос заставил меня пойти в город и купить сперва на пять эре дрожжей, а потом уже на двадцать эре чудесных булочек с корицей и сахаром. Леденцов я больше не покупала и съела только одну булочку. Так и не придумав, что сказать матери, я со всех ног пустилась домой. Было уже далеко за полдень, а матери нужен хлеб для отчима к послеобеденному кофе. Он всегда скандалит и ругается по всякому поводу! Почти всю дорогу домой я бежала.
Мать просто кипела от бешенства. Она успела испечь несколько лепешек и уже собралась на поле к отчиму. Увидев меня, она схватила большую розгу, которая была у нее всегда наготове. Известно, что розга необходима для воспитания, ведь и ее бил отец, и вот из нее вышла порядочная женщина. Правда, незаконнорожденный ребенок — своего рода минус, но это уж, наверное, результат того, что ее все же недостаточно пороли, и потому для меня она розог не жалела. К тому же на этот раз я пошла в город по запрещенной дороге и пропадала почти пять часов…
— За что ты хочешь меня бить? Смотри-ка что я принесла! — воскликнула я.
— Вот я тебе сейчас покажу «принесла»!
Я протянула ей кулек с булочками и пакетик дрожжей.
— Где ты была, дочка?
И я сразу же рассказала историю, которая придумалась сама собой. На меня напал «сумасшедший Оскар» (Оскар был деревенским дурачком, смирным и безобидным). Он побежал за мной, мне пришлось свернуть с дороги, я потеряла пять эре и плакала так горько, что какой-то добрый дядя дал мне двадцать пять эре. Тогда я побежала к заставе и купила дрожжи и булочки, чтобы матери не надо было печь хлеба.
Мать сразу поверила мне. Когда-то она читала, как, впрочем, впоследствии и я, о добрых дяденьках, которые всегда дарят бедным девочкам монетки взамен потерянных. И как только моя бедная мать увидела лакомые булочки, у нее потекли слюнки. Не так уж много вкусных вещей можно было купить на восемь крон, а тут еще по воскресеньям приходили «образованные» гости и все съедали. Она взяла одну булочку и торопливо проглотила ее, потом дала мне корзинку и положила в нее три булочки, забыв вынуть оттуда лепешки. Я тоже получила булочку на дорогу и понесла отчиму кофе; с матерью я не только полностью примирилась, но даже оказалась у нее в большой милости. Отчим обрадовался, увидев в корзинке и булочки и лепешки.
— Кланяйся дома и не забудь поблагодарить! — сказал он. Этого я от него ни разу еще не слыхала.
Так закончился этот день, и опять пошли будни.
Удивительнее всего была монета в двадцать пять эре, которую я нашла под мостом. Когда я выросла, я не переставала думать об этом случае. Ведь не менее сотни ребятишек наверняка побывало под мостом со дня последнего циркового представления.
Может быть, ее потерял другой семилетний малыш, которого тоже послали за дрожжами, а он не отважился один полезть за ней? Это приключение еще больше усилило мою склонность к таинственному. Оно было куда таинственнее, чем глухие уши, в которых к тому же оказались дырки. Это было настоящее волшебство, дар откуда-то свыше или от какого-нибудь тролля, живущего под мостом. Однако я никогда не пробовала повторить свой опыт; напротив, пока мы жили в тех местах, я панически боялась моста. Тот день был слишком насыщен событиями, слишком сильным было чувство вины. И единственная радость — монета в двадцать пять эре, да и та неизвестно откуда взялась.
2
Не прожили мы и полугода на хуторе, как начались переезды, а мне пора было поступать в школу.
Первую свою учительницу я возненавидела с того самого дня, как мать привела меня к ней. В то время я уже довольно свободно читала и немного умела писать, и мы с матерью очень этим гордились. Но учительница, услышав о моих успехах, высокомерно спросила мать, стоит ли ее дочери ходить в школу, если она такая уж грамотная.
— Должна вам сказать, мадам, что не вижу ничего хорошего, когда ребенок дома учится читать. Меня это вовсе не радует, мадам.
Мадам! За всю жизнь никто не называл так мою мать. Это обращение давно устарело. Только очень пожилых женщин да еще уборщиц на рынке называли «мадам». А ведь матери едва исполнилось двадцать семь лет, и, несмотря на тяжелые годы недоедания на фабрике и изнуряющую работу на хуторе, она очень хорошо сохранилась. Учительница-то, верно, лет на пятнадцать старше матери!
Всю обратную дорогу, до самой бумажной фабрики, куда с осени устроился отчим, мать ругает учительницу. Я изо всех сил помогаю ей.
— Надо было послать к чертям эту школу! — говорит мать.
— Ага, — соглашаюсь я.
— Он опять начал пить, и мы все равно здесь не засидимся. Сможешь начать учиться и в другом месте.
— Ну, конечно, — говорю я.
— Понятно, это не избавит от хлопот, — спохватывается мать, получив от меня слишком горячую поддержку. — Но теперь ведь она все равно станет к тебе придираться, так что ты уж постарайся вести себя хорошо. Будь всегда вежлива, делай все, что она скажет, и учи как следует уроки! Ни в коем случае не груби!
— Ни за что не буду, — успокаиваю я ее, и мы дружно продолжаем ругать учительницу.
Мы идем домой, близкие друг другу, как никогда. Ведь мы отправились, чтобы записаться в школу и получить похвалу за мои знания, а вместо этого заработали головомойку. Не надо было спешить.
В то время я уже неплохо вязала спицами и крючком, хотя и была совсем маленькая. После замужества мать часто уходила на заработки, дни без нее казались особенно длинными, играть на улице не хотелось, и понемногу то у одной соседки, то у другой я училась всякому рукоделью, как училась читать.
Но именно мое умение вязать и уронило меня в глазах добропорядочной учительницы.
Родители большинства новичков работали на бумажной фабрике, но были и дети торпарей[2] и крестьян. Мало хорошего видели в жизни эти дети. Фабричные ребятишки считали себя слишком «благородными», чтобы водиться с ними. Я тоже причисляла себя к фабричным, хотя только что приехала с хутора, где отчим работал батраком. Настоящее дитя города, я быстро научилась городскому жаргону. И все-таки мне гораздо лучше жилось на хуторе у Старой дороги, чем в городе. Человек так неблагодарен, особенно когда дело касается природы.
Дети торпарей играли одни до самой осени, когда поспевали яблоки. Тут уж они со своими сумками, полными сочных фруктов, становились хозяевами положения, а мы вертелись вокруг и всячески подлаживались к ним, так что даже не находили для них достаточно ласковых слов.
Школа ютилась в убогой лачуге.
Каждый год фабричное начальство обещало построить новую школу, но дальше разговоров дело не шло. Я думаю, что они и до сих пор ничего не построили.
Дом — старая крестьянская изба — имел по фасаду три двери. Крайняя вела в комнату, такую же большую, как класс, где жила какая-то семья; средняя — прямо в класс; а третья — к учительнице, у которой тоже была одна комната. Всего в доме было три одинаковых комнаты.
Детей было тридцать, а класс имел шесть метров в длину и пять в ширину.
Длинные скамейки, когда-то, видимо, черные, давно потеряли свой первоначальный цвет. На каждой сидело по шесть учеников. И когда тот, кто сидел посредине, набедокурив, вставал, чтобы подойти к учительнице и получить наказание, остальным тоже приходилось подыматься и выходить из-за стола. Получалось, будто мы встаем для того, чтобы приветствовать провинившегося. Я сидела у самого края — и это было очень удобно, потому что мне приходилось довольно часто выходить, хотя отношения с учительницей поначалу у меня были хорошие. Первое время она всячески старалась примирить хуторских ребят с фабричными: матери крестьянских детишек присылали ей густые сливки к кофе, а нередко и кусок домашнего масла, фабричные «дамы» — приглашения на чашку кофе; то и другое было одинаково приятно. Вначале у нее просто не оставалось на меня времени: моя мать не посылала ей ни сливок, ни приглашений, — нам и самим всего не хватало.
Позади меня сидел мальчик по имени Альвар. И действительно, такое имя подходило ему как нельзя больше[3]. Я ни разу не видела, чтобы он улыбался. Ростом он был выше всех нас, лицо у него было мертвенно бледное, под глазами — глубокие черные круги.
На фабрике свирепствовал туберкулез.
В семье, которая жила в школьном доме, двое ребят страдали туберкулезом: у девочки был туберкулез легких, у мальчика — бедренной кости. Девочка училась с нами, так как обучение было всеобщим. Лицо у нее было скорее не бледным, а желтым, скулы обтягивала сухая кожа.
Девочка никогда не осмеливалась играть вместе с нами. А когда на уроке у нее начинался приступ сухого кашля, учительница замолкала и упорно, с раздражением смотрела на нее, пока у самой на шее не проступали два багровых пятна.
Вслед за учительницей поворачивались и мы и тоже сердито смотрели на задыхающуюся от кашля бедняжку. Надо сказать, никто из нас не был настолько великодушным, чтобы подумать о том, как тяжко страдает «желтая кляча» оттого, что мешает нам, оттого, что из-за нее на шее у нервной фрекен выступают багровые пятна. Мы следовали примеру фрекен: стоило девочке закашляться, как мы тут же поворачивались и уже не спускали с нее глаз до тех пор, пока не проходил приступ. Я никогда не оглядывалась назад, но чувствовала, что только один Альвар не поворачивает головы вслед за фрекен. Вероятно, он меньше нас беспокоился о том, что кашель мешает уроку… Вот так и получается, что одна нервная фрекен воспитывает сотни других нервных фрекен. Ведь она — единственный авторитет для человека, которому едва исполнилось семь лет.
После таких «разглядываний» больная девочка часто отсутствовала по нескольку дней. Весной она умерла. Мы хоронили ее, пели над могилой и украсили холмик венками.
Фрекен принесла две красные розы и положила их на могилку маленького истощенного создания. Розы странно напоминали красные пятна, появлявшиеся на шее фрекен всякий раз, как девочка начинала кашлять.
Но вернемся к Альвару. Он вечно ничего не знал. Даже читать он как следует не научился. Одежда его была в самом жалком состоянии, он давно из нее вырос; пуговиц вовсе не было, ворот расстегнут.
Он был удивительно добр и так простодушен, что одурачить его ничего не стоило.
Я обманула его только один раз, но и этого достаточно. До сих пор меня бросает в жар при одном воспоминании о том случае. Собственно говоря, злого умысла у меня не было, но все-таки я прекрасно знала, что моя проделка доставит ему неприятность. Почему человек так рано начинает радоваться чужим неудачам, особенно если его самого жизнь не баловала? Во всем была виновата фрекен, и моя любовь к ней с тех пор не увеличилась. Однажды она задала нам совершенно идиотский вопрос: «Как называется детеныш осла?» Мы были еще совсем маленькие, никто из нас никогда не видел осла даже на картинке, — откуда нам было знать, как называется его детеныш?
— Наверное, овца или баран, — шепнула я Альвару.
Он сразу же поднял руку.
— Неужели ты знаешь? Вот удивительно, — проговорила фрекен, кисло улыбнувшись.
С пылающими щеками я обернулась и посмотрела на Альвара. Он был бледнее обычного. Слишком поздно он понял, что я подсказала ему какую-то глупость, и невнятно что-то пробормотал.
— Говори громче, как он называется?
— Овца или баран, — сказал Альвар.
— Подойди сюда!
Альвар сидел в середине, остальным тоже пришлось встать.
Я видела, как учительница вытащила линейку и как Альвар, защищаясь, наклонил голову вниз и поднял руку. Боже мой! Если б на его месте был кто-нибудь из хорошо одетых мальчиков, тогда было бы легче признаться, а этот оборвыш… Мгновение я колебалась, но, когда учительница подняла линейку, собираясь ребром ударить Альвара, — она была слишком благородна, чтобы бить рукой, а может быть, не хотела дотрагиваться до него, — я закричала:
— Подождите, подождите! Это я ему подсказала!
На шее у фрекен выступили багровые пятна, но лицо осталось по-прежнему бледным и невозмутимым. Кажется, меня больше всего разозлила тогда именно эта невозмутимость. Я и до сих пор видеть не могу таких лиц.
— Иди сюда тоже!
Я вскочила, прижимая к себе сумку, шмыгнула к двери и со всех ног бросилась домой.
— Она хотела меня поколотить, — выпалила я матери, которая стирала белье у жены мастера.
— Я вот ей покажу! Поколотить! — разозлилась мать. Она-то сразу поняла, кто хотел это сделать.
Вошла хозяйка.
— Скажите на милость! Разве занятия уже кончились? А я еще не успела разогреть обед для Анны.
— Нет, нет, еще не кончились. Девочка прибежала потому, что учительница хотела побить ее, — угрюмо сказала мать, намыливая белье с таким остервенением, что хозяйка, верно, подумала, будто она попусту тратит мыло.
— Слыханное ли дело — побить! С нашей Анной никогда этого не случалось. И ведь фрекен Андерсен такая милая. Она часто заходит к нам на чашку кофе… Лучшей учительницы и желать нечего.
— От кофе она не становится ни лучше, ни хуже, — проворчала мать.
Я видела, как разозлилась мать. Не нуждайся мы так сильно, хозяйке наверняка пришлось бы самой повозиться со своим бельем. Но отчим приучился проводить субботние вечера в городе, в трактире «Ион-пей-до-дна», и домой не приносил ни гроша. Вот почему мать продолжала молча стирать, хотя хозяйка все не уходила и не переставала защищать учительницу. Я успела проглотить за это время пару кусочков хлеба с маслом, которые были у меня в сумке, а потом стала помогать матери (так во всяком случае мне тогда казалось).
Весь следующий день я просидела на позорной скамье, но ни слова не сказала дома, выдумав вместо этого целую историю, будто так хорошо отвечала урок, что учительница погладила меня по голове.
Мать не расспрашивала, за что накануне фрекен собиралась побить меня, поэтому обмануть ее ничего не стоило. Альвара в этот день в школе не было, он отсутствовал много дней подряд — у него горлом пошла кровь. Впрочем, это случалось с ним довольно часто.
Скоро нам снова предстояло переезжать. Разве мог отчим как следует работать, если он целыми днями торчал в трактире «Ион-пей-до-дна»?
А за две недели до переезда я окончательно поссорилась с учительницей. Два раза в неделю мы вместе со старшими девочками из так называемой народной школы занимались рукоделием. Мы, младшие, должны были вязать рукавицы, а старшие — чулки. Нитки и все необходимое для рукоделия закупала фабричная администрация. Ко второму уроку мои варежки были готовы, потому что нам разрешалось брать вязание домой, и я попросила учительницу позволить мне взяться за чулки. Все четыре месяца, которые я провела в этой школе, я ни разу не готовила уроков. Тем не менее я всегда училась хорошо, потому что была смышленой и очень честолюбивой. Всякий раз я лучше всех отвечала на вопросы с места, но учительница частенько делала вид, что не замечает моей поднятой руки. Я бегло читала, в то время как другие дети с трудом разбирали то же самое по складам. Очень уж смешно это у них получалось, и я никак не могла заставить себя читать так же. Однажды учительница, провозившись не меньше четверти часа, чтобы заставить меня читать по складам, разозлилась и ударила меня по лицу так сильно, что из носу пошла кровь. Не сказав ни слова, я подняла руку и замахнулась на нее.
Тогда она опомнилась, быстро вышла, принесла в блюдечке воды и велела мне промыть нос.
— Мать испугается, если я такая приду домой, — проговорила я и расплакалась.
Она хорошенько вымыла мне лицо, осторожно вытерла его и повернулась к классу:
— Я не думала, что этим кончится, но вы же видите, дети, какая Миа непослушная. У меня просто терпение лопается.
И тоже заплакала. Тут уж мои слезы сразу высохли. Я уселась на свое место, высоко задрав распухший нос, и не уронила больше ни одной слезинки. Фрекен продолжала плакать, а девочки укоризненно глядели на меня. Тогда я встала:
— Я ничего не расскажу маме, я скажу, что упала и расшибла нос.
Я думала, что она испугается. Но я ошиблась: ей не было дела до моей матери — она боялась общественного мнения. Встав со стула, она сказала, что я могу говорить матери все что мне вздумается, но, если я не буду впредь вести себя как следует, мне придется расстаться со школой. После этого случая она уже не скрывала своей ненависти ко мне.
На одном из уроков рукоделия, как раз накануне переезда, я подошла к фрекен и попросила ее помочь мне вывязать пятку. В школе это делали совсем не так, как учила меня мать. Взяв чулок, фрекен начала спускать петли. Я нагнулась, чтобы лучше видеть, как она это делает, и нечаянно коснулась маленького пучка волос на ее затылке.
— Как тебе не стыдно! — закричала она. — Отойди от меня!
Оставив у нее чулок, я вернулась на свою скамью.
— Подойди сюда и посмотри, как надо делать!
Я поднялась и снова подошла к фрекен. Остальные девочки усердно занимались своей работой.
— Что ты натворила со спицей? — спрашивает вдруг фрекен и вытаскивает из петель одну спицу.
— Ничего.
— Она вся в зазубринах. Смотри, как разлохматилась нитка, разве можно из такой вязать чулок?
Она показывает мне спицу, на ней действительно глубокая царапина. Я вспоминаю, что еще на предыдущем уроке петли цеплялись за эту спицу, но мне и в голову не пришло тогда посмотреть, в чем дело.
— Говори! Что ты сделала со спицей?
Я молчу, потому что ничего с ней не делала.
— Я отвечаю перед фабричной конторой за сохранность вещей, выданных нам для рукоделия. Научишься ли ты когда-нибудь говорить правду? Я с самого начала поняла, какое ты чудовище, — захлебываясь, говорит учительница, багровые пятна, расползаясь по шее, переходят на подбородок.
Меня оставили после уроков. Учительнице не удалось вытянуть из меня ни одного слова, даже лжи. Я не знала, что сказать, я не знала, что случилось со спицей. Спица стоила от силы два эре, но я была в отчаянии. Учительница запретила мне вязать чулок до тех пор, покуда я не сознаюсь, после чего мне дадут новую спицу. Я совсем растерялась, все произошло так неожиданно. Если б только я могла сочинить что-нибудь или хотя бы просто сказать, что испортила спицу, но я не могла придумать, как это случилось. Я понимала, что должна в свое оправдание объяснить, как испортила спицу, но, видно, в тот день находчивость изменила мне.
Ушла я из школы, когда совсем стемнело.
А дома все было перевернуто вверх дном. Ни мать с красным от слез лицом, ни расстроенный и жалкий отчим не обратили внимания на то, как поздно я пришла. Если бы я совсем не вернулась домой, они бы и этого не заметили. Мать, видно, забыла даже, что я не обедала, и налила мне только немного кофе.
Отчим прижил ребенка с какой-то женщиной из нашего же поселка; у нее он проводил все свободное время, а она, зная, что отчим женат, не придумала ничего лучшего, как подать на него в суд. А законы того времени гласили, что мать ребенка не может получить пособие от отца, если он женат на другой женщине.
Как раз в тот день принесли судебную повестку, и мать, не подозревавшая об этой истории, едва не сошла с ума.
Да, это был сущий ад! Моя тихая мать отпускала отчиму оплеуху за оплеухой, он отвечал ей тем же. Прибежали соседи и разняли их, но мать, потеряв свое обычное уважение к соседям, попросту выгнала их из комнаты, не стесняясь в выражениях.
— Хвастливые обезьяны! Грязнули! Пошли вон! — вне себя от ярости кричала она.
В тот же день о скандале знал весь фабричный поселок.
На суд вместо матери пошел ее брат, и оба преступных любовника — отчим и бедная женщина, имевшая уже четверых незаконнорожденных детей, — были рады, что хоть не угодили в тюрьму.
— Тебя-то следовало посадить, — заявила мать отчиму. — Скажи спасибо Альме, что избавился от тюрьмы. Я работала с ней и знаю, как ей трудно приходится. Но если ты будешь продолжать в том же духе, кончишь больницей! И уж придется тебе там поваляться! Слышишь?
— И это говорит моя жена! — воскликнул отчим, которому ничего не стоило прикинуться несчастным, когда это было необходимо.
— Да, это говорит твоя жена, — решительно повторила мать. — Подумай о том, как ты поведешь свою «благородную» тетушку, ту самую, что сидит чуть ли не на одном стуле и уж во всяком случае на одном стульчаке с женой священника, и всю свою милую родню к Альме в Южное предместье, где она живет теперь со своими детьми, — ей ведь пришлось уйти с фабрики, — и покажешь им своего последнего ребенка. Думаю, это будет полезно вам всем.
Отчим сдался и замолчал, а мать высказала ему все, что накипело у нее на душе.
На другой день мать отправилась в город за ребенком, которому исполнилось уже полгода. Но малышка не осталась у нас, потому что, как только отчим ее увидел, он стал кричать и ругаться, словно сумасшедший, опять сбежались соседи, и матери пришлось отнести девочку обратно.
Тем временем история с учительницей шла своим чередом.
Чулочная спица не давала ей покоя. Мне пришлось смириться и стать послушной. Фрекен тиранила меня целую неделю. Во время уроков я должна была стоять возле ее стола, и каждую перемену она заставляла учеников кричать хором: «Скажи правду! Скажи правду!»
Я не ела, не спала, а дома продолжались скандалы из-за суда и незаконного ребенка, и меня совсем не замечали. Каждый день я с радостью убегала от домашних ссор в школу, надеясь, что учительница забудет наконец про спицу. Но не тут-то было! Мне по-прежнему приходилось подниматься со скамьи и стоять возле ее стола.
— Признайся, и мы начнем читать утреннюю молитву!
Я молчала.
— Ну, раз так, ты не смеешь молиться с нами! Незачем тебе и складывать руки!
Ребят начало разбирать любопытство. Что же я в конце концов сделала со спицей? Может, уколола ею кота? Или взрослого человека? Они никак не могли понять, почему из-за простой спицы поднялся такой шум. Должно быть, здесь пахнет по меньшей мере покушением на убийство! А я не спешила объяснить, в чем дело, я только молчала, а дома по ночам плакала на своем диване. Тем временем в школу проникли слухи о незаконном ребенке отчима. Как-то раз на этой страшной неделе, когда я, по обыкновению, сидела во время перемены в классе, одна из девочек просунула в дверь голову и сказала ехидным тоном:
— А завтра ты останешься дома и будешь нянчить свою сестру.
Это была Анна, дочь мастера. У нее еще не выпали молочные зубы, они торчали во рту, как маленькие лопаточки; волосы ее были взъерошены. Сбоку на красной ленте висела вышитая даларнская сумочка для носового платка. Я всегда завидовала Анне, потому что у нее была эта сумка. У меня ведь такой никогда не будет. Эти красивые сумки носили почти все девочки — разумеется, если у их родителей хватало денег. Такие же сумочки были у мартышек бродячего шарманщика. Они висели прямо на черной шерсти. Мне показалось, что зубастая Анна, строившая мне в дверях гримасы, похожа на чертову мартышку.
К вечеру во рту у Анны недоставало двух передних зубов, с лентой, на которой висела сумка, было раз и навсегда покончено, а сама сумка, после того как я втоптала ее в дорожную колею, была вся перепачкана грязью и глиной.
На следующий день учительнице пришла в голову новая мысль.
К тому времени я совершенно отупела, не отвечала на вопросы, а как только кто-нибудь из ребят подходил близко, сжимала кулаки и, грозилась поколотить. Анна уже больше не решалась сплетничать — боялась, что я изобью ее еще сильнее.
Когда уроки кончились, учительница подозвала меня. Наверно, она, так же как и я, устала от бесконечной истории со спицей. Бывает, что мелочные люди устают от самих себя. А может быть, она поняла, что ей так никогда и не удастся достойно выпутаться из этой истории, если она наконец не сломит моего упорства и не заставит отвечать на ее вопросы. По-видимому, фрекен твердо решила покончить с этим делом. Она торопливо выпроваживала учеников домой, а те сгорали от любопытства и были уверены, что я получу хорошую взбучку.
Учительница даже вышла посмотреть, все ли ушли.
— Почему ты до сих пор здесь? Отправляйся домой! — услышала я.
— Не бейте ее! — Это был Альвар, и по голосу я поняла, как он напуган.
— Фу ты, — недовольно фыркнула учительница.
— Не бейте ее, я достану новую спицу! — крикнул он высоким, звонким голосом.
— Ничего ей не будет, я хочу только поговорить с ней об одном деле. Иди домой! — Фрекен еще долго стояла в сенях, дожидаясь, пока уйдет Альвар.
Неожиданное заступничество Альвара нисколько меня не обрадовало. Едва ли можно было рассчитывать на помощь больного и оборванного малыша. Вот если бы на его месте был кто-нибудь из «благородных» детей! Но, откровенно говоря, мне было все равно. Спица! Что бы такое соврать про спицу? Как все это противно, — кажется, именно так я тогда подумала. Я уже знала, что такое ложь: это когда я купила леденцов на последние пять эре, которые мать дала на дрожжи, а потом пришла домой и наврала ей. Но спица меня смущала. Все это так глупо, что даже и соврать нечего. Все равно что признаться, будто ты утащил единственную крошку хлеба у цыпленка, — да, да, это почти то же самое.
Войдя в класс, учительница подошла прямо ко мне.
Чулок со злосчастной спицей лежал на самом виду. Она вынула из стола большой острый нож, и я слегка вздрогнула. Но тут же успокоилась. Чему быть, того не миновать, и если мне отрежут голову — это в конце концов не так уж страшно: дома вечно скандалы, здесь — и того хуже.
— Ты положила спицу вот так на стол… — начала фрекен и вытащила спицу из петель.
Тут я впервые заговорила.
— Теперь и чулок испорчен! — крикнула я. — Он же весь распустится!
Это окончательно смутило фрекен. Кто бы мог подумать, что ребенок окажется такой бестией? После целой недели мучений она ожидала от меня покорности. Но вот она постепенно успокоилась, а я замерла, ожидая порки или удара ножом.
— Я вдену спицу обратно и подниму петли, которые спустятся, — сказала она тихо. — Ты положила спицу на стол и нечаянно искромсала ее ножом, который взяла у матери. Может быть, ты забыла об этом? — умоляюще добавила она.
— У мамы никогда не было такого ножа, — упрямо сказала я, но в эту секунду в голове у меня что-то прояснилось.
— Ну, попытайся, вспомни! — учительница говорила тихим хриплым голосом.
Довольно долго я молчала.
— Да, так оно и было, — вымолвила я наконец.
Тогда она влепила мне две здоровенных пощечины, и впервые за всю эту неделю я ушла домой засветло. Была уже середина апреля.
Мать была дома одна, заплаканная и жалкая. Я тоже пришла заплаканная и жалкая.
— Ну вот и хорошо, — сказала мать. — Его уволили, в теперь мы сможем уехать отсюда.
Потом она внимательно взглянула на меня.
— Ты больна? Боже мой, детка, у тебя, наверное, корь!
Я упала в обморок и несколько дней после этого прохворала. У меня повысилась температура, болела голова, а перед глазами все время плясали спицы, ножи и сумочки с яркими розами.
В тот же вечер эту историю услышал отчим. Он тотчас же взялся за дело. Ему-то известен был виновник, потому что он сам сделал зазубрину на спице, когда скреплял жестью свою трубку. Необходимо рассказать об этом фрекен, да так, чтобы она надолго запомнила. Он стал очень ласков со мною, жалел меня, обещал полное прощение. Ведь это можно хоть как-то поправить. Вот с младенцем, который появился на свет совсем некстати и теперь упорно требовал отца, — тут уж как ни крути, а ничего не попишешь. Закон на стороне отчима, хотя в законе ничего не сказано о том, как ему помириться с моей матерью и чем кормить ребенка. Но оба, и мать и отчим, устали от нищеты — уж с этим ничего не поделаешь. И если даже удастся раздобыть денег, чтобы уладить экономическую сторону вопроса, то уж моральную сторону в таких делах невозможно ни уладить, ни выяснить.
Мать понимала, конечно, что спица — только удобный повод, но ничего не сказала, когда отчим побежал сломя голову к учительнице.
Вернулся он домой, сияя от удовольствия.
— Ах, ах, ах! Учительница так огорчена, так огорчена. — Она угостила его кофе (взрослые всегда утверждали, что отчим очень недурен собой), и еще она плакала. Чулок он принес с собой; кроме того, фрекен послала мне пряников и просит у меня прощения!
Мать только фыркнула — ведь мне все равно не придется ходить в эту школу. Пряников я есть не стала.
Так закончилось мое знакомство с первой учительницей.
Эта история имела и свою хорошую сторону: в тот вечер дома было тихо. А скоро мы переедем, и я пойду в новую школу. Я решила никогда не учить в школе уроков.
3
Новая учительница славилась своей строгостью. Школа была расположена в местечке Хольмстад, в полумиле от Норчёпинга. Отчим устроился работать землекопом на соседнем хуторе. Примерно в миле от хутора находилась бумажная фабрика.
В школе учились дети грузчиков, батраков, приютские сироты, а также несколько мальчиков и девочек из состоятельных семей.
«Несостоятельных» было так много, что «благородным» приходилось подлаживаться к нам. Для меня, которая так долго была затравленным волчонком, это чувство превосходства над девочками с кружевными воротничками и розовыми даларнскими сумками было особенно приятно. Хольмстадские мальчишки были оборванные, истощенные и бледные, но не такие серьезные, как Альвар. Они овладели трудной наукой сплоченности, помогая большой шайке, расположившейся возле Сандбю. Там нашли себе пристанище бродяги, у них-то и учились десятилетние и четырнадцатилетние ребятишки английским бранным словечкам и высокому искусству свертывать папиросы. Мои новые друзья — мальчишки восьми и десяти лет — были уже ловкими разведчиками и не раз предупреждали старших о приближении полицейских, которые с наступлением темноты попарно разъезжали на лошадях по улицам Сандбю. Вначале все это поразило мое воображение.
Я приехала в Хольмстад в середине учебного года без всяких надежд и нисколько не заботилась о том, как сложатся мои отношения со злой учительницей. Ребята рассматривали меня, обмениваясь впечатлениями, — им было трудно сразу решить, что я из себя представляю. Я была храбрая и правдивая, довольно хорошо знала их жаргон, но большинство решило, что я очень уж «расфуфырена».
Мать всегда старалась одевать меня опрятно, и не хватало только даларнской сумки, чтобы перешагнуть черту, отделявшую меня от «истинно благородных». Но сумки мать так и не купила. Она терпеть не могла хвастовства. Кроме того, у меня были такие длинные и густые для моего возраста волосы, что только из-за одного этого я считалась «расфуфыренной». На девочку с длинными косами всегда смотрят одобрительно в городских предместьях.
Новая учительница была высокая худощавая женщина лет сорока. Вьющиеся каштановые волосы острижены коротко, по-мужски. Посредине белоснежный пробор. Была ли она красива? По-моему, очень. Мне она показалась красивее всех женщин на свете. Класс был довольно просторный, но с такими ободранными и закопченными стенами, что, думается мне, прежняя школа по сравнению с этой была настоящим дворцом. Штукатурка почти совсем обвалилась. Когда я стояла у карты Иерусалима и Назарета — первой географической карты, с которой начинали все новички, — казалось, она продолжается на стене, и среди трещин в известке лежат города, по которым проходил страдающий Христос.
Скамейки были сделаны на двоих, а я сидела одна, хотя здесь это вовсе не считалось привилегией. Я поняла это, когда увидела, что каждый имеет постоянного соседа и возможность пересесть к новому ученику никого не соблазняет.
Я слышала, что в этот день в школу должен прийти еще один новичок, но не знала, мальчик или девочка.
Впрочем, не все ли равно, как сидеть, с мальчиком или одной? Прежняя учительница обычно пересаживала провинившуюся девочку (разумеется, если она совершала не очень тяжкий проступок) на скамью к мальчикам. Это был один из ее методов наказания.
Но мальчиков она никогда не пересаживала к девочкам.
Почему сидеть с мальчиком наказание? Этого я так и не смогла понять за то короткое время, что ходила в прежнюю школу. Меня пересаживали дважды, и всякий раз я воспринимала это как приятную перемену, садилась возле окна и во все глаза смотрела на улицу. Должно быть, фрекен заметила, что наказание меня только радует. В последнее время, как я уже говорила, она за мои грехи ставила меня у «кафедры».
Но скоро я узнала, почему в новой школе сидеть одной считалось позором. Отдельно учительница сажала тех учеников, на которых находила насекомых. И так они сидели до тех пор, пока ей не удавалось вывести всех паразитов.
Наверно, это было жестокое, но единственно правильное средство. Что еще ей оставалось делать? В школу ходило столько вшивых детей! Вши были всюду — и в одежде и в голове. Стоило учительнице заметить на ком-нибудь паразитов, как она тут же начинала с ними борьбу. Она смазывала ученикам волосы сабадиловой мазью и давала им чистую смену белья, которую раздобывала тем или иным способом. А сколько маленьких вшивых ребятишек она притаскивала к себе домой, сажала в ванну, одевала во все чистое, а грязное белье кипятила. Поэтому-то она и писала записки родителям, начальнице богадельни и крестьянам, у которых были приемыши: «Будьте любезны, не посылайте в школу детей с насекомыми». Вот и пошла молва, что она очень строгая.
Я сидела и смотрела на новую учительницу, а она молча ждала, пока успокоится класс. Первый раз в жизни я обратила внимание на женщину. Чужую женщину. Чувство тоски и смятения охватило меня.
Должно быть, я влюбилась в темноволосую серьезную фрекен и сочла это изменой матери. В памяти тотчас всплыло рябоватое мамино лицо, обрамленное густыми светлыми волосами. Сейчас, рядом с этим новым видением, мать казалась такой обыкновенной и серой! Я еще крепче сжала в кулаке грязную, исписанную неровным почерком записку, которую мать послала учительнице. Прежде все, что бы ни сделала мать, я считала непогрешимым, но теперь я вдруг поняла, что не могу отдать записку. «Она слишком грязная», — подумала я и засунула ее в парту. И тут же на глаза навернулись слезы: я вспомнила, как однажды плакала мать.
Я видела ее плачущей много раз, но теперь мне вспомнился именно этот случай. Она сидела за столом, уронив голову на руки, маленькие волосики на шее беспомощно повисли, косы съехали набок, и когда, услышав мои шаги, она подняла голову, ее лицо было так искажено отчаянием, что я вскрикнула. И теперь я настолько отчетливо увидела полное тоски лицо матери, что мне показалось, будто я даже слышу ее всхлипывания. Я робко смотрела на новую учительницу и едва удерживалась, чтобы самой не расплакаться. Искаженное, несчастное лицо матери, такое, каким я его видела несколько лет назад, заставило меня забыть о новой любви. Я снова вытащила бумажку и пошла с ней к учительнице. В записке было сказано только, что мать не может прийти со мной, потому что стирает и ей некогда. Потом я отдала свидетельство из прежней школы, в котором холодно удостоверялось, что я действительно пять месяцев посещала занятия. Учительница прочла обе грязные бумажки, а я, как зачарованная, глядела на ее белый пробор и короткие вьющиеся волосы. И тут же твердо решила, что не отстану от матери, пока она не острижет мои косы.
Внимательно посмотрев на меня своими серьезными глазами, учительница взяла меня за руку и сказала несколько ободряющих слов. Я дрожала от блаженства и готова была тут же сделать все, о чем она ни попросит, но она попросила лишь сесть на место. Весь урок я не сводила с нее глаз. Подумать только, на следующее утро я опять увижу ее, и так будет каждый день!
Сразу забылась и история со спицей и прочие пустяки, а мать превратилась для меня в служанку, дело которой — работать, добывать пищу, крахмалить и гладить мои передники. Их у меня было три, и, как назло, самого красивого я в этот день не смогла надеть: он оказался грязным. Уходя из дома, мать всегда брала передники с собой и стирала вместе с чужим бельем. Но сегодня она наверняка забыла про них. Я упорно думала об этом, начиная все больше сердиться на мать. Почему она не приготовила мои вещи, чтобы я пришла в новую школу нарядной и красивой?
— У нас есть еще одна новенькая, — сказала учительница дивным, неподражаемым голосом. Ведь тот, кого любишь, во всем кажется неподражаемым.
— Где же ты, Ханна?! — крикнула она в коридор через открытые двери.
В дверях показалась тоненькая девочка.
Маленькая Ханна! Никогда я не забуду тебя. Ты появилась как раз в то время, когда в душе моей впервые расцвело чувство самоотверженной, бескорыстной любви. (Ведь эгоистична только любовь к матери. Мать буднична, к ней привыкаешь, а моя мать к тому же всего лишь прачка с красными, вечно заплаканными глазами и свисающими на шею космами волос. Зато моя новая любовь… Какой у нее белоснежный пробор, какие чудесные вьющиеся волосы! Вечером я горячо молила бога ниспослать мне вьющиеся волосы.) Ханна! Маленькая девочка перешагнула через порог и, опустив глаза, остановилась у двери. Я не видела ее раньше, должно быть она где-то пряталась все время, пока в класс не вошла учительница.
Волосы ее, почти совсем белые, были так туго заплетены, что крохотный хвостик стоял торчком на затылке. Бледное личико, казалось, вот-вот порозовеет, словно цветок под лучами солнца. Маленькое, худое, оно светилось каким-то внутренним светом. На Ханне была странная кофта, застегивавшаяся не менее чем на тридцать крючков: пятнадцать крючков изнутри и пятнадцать снаружи. Юбка доходила почти до пят и сзади была гораздо длиннее, чем спереди.
Из-под юбки виднелись босые ноги, маленькие и белые. Стоял конец мая, днем было по-летнему жарко, но после захода солнца слегка морозило. Остальные ребята все были обуты, а ведь в этот день Ханна в первый раз пришла в школу. Стиснутые руки она сложила на животе, если только можно назвать животом то, что скрывалось у нее под узкой юбкой. Я помню, что суставы пальцев у нее побелели — так крепко она сжимала руки. Ростом она была не более метра.
— Иди сюда, Ханна, у тебя теперь будет новая подружка, садись рядом с ней.
Но Ханна не решалась двинуться с места. Ребята начали перешептываться. Они знали Ханну. Она жила в вильбергенской богадельне. Мать ее, Метельщица Мина, торговала на рынке, а потом бегала по домам, разнося проданные метлы тем хозяйкам, которые считали унизительным для себя нести их с рынка домой.
Пока дети перешептывались, а учительница молча ждала, я во все глаза смотрела на Ханну. Потом я встала и, забыв обо всем на свете, направилась к ней. Уж не маленькая ли прекрасная волшебница передо мной?! (В то время я читала все, что подвернется под руку, и порой попадались очень странные книги.) Подойдя к ней, я взяла ее за руку, которую она протянула не очень охотно, и повела к своей скамье. Я смеялась и болтала, будто вовсе не существовало класса с незнакомой учительницей и чужими детьми, будто мы одни с Ханной. Увидев, что учительница с улыбкой смотрит на нас, я шепнула:
— Нужно показать свидетельство. Есть у тебя записка от мамы?
— Нет, — прошептала Ханна.
— Но ведь твоя мама должна была обязательно написать записку, — сказала я укоризненно.
— Она не умеет писать, — оправдывалась Ханна, и губы ее задрожали; вид у меня, должно быть, был очень строгий.
— Ну, пойдем, — сказала я решительно; и маленькое босоногое существо в рваной шерстяной кофте с тридцатью крючками, крепко ухватившись за мою руку, двинулось к учительнице.
Ребята совсем оторопели. Задержка была необычная, им уже по крайней мере четверть часа полагалось читать библию. Никогда прежде не видели они ученика, который разговаривал бы с учительницей, не спросив разрешения. Наверняка все это плохо кончится.
Подойдя к учительнице, я пролепетала:
— Мама Ханны не умеет писать, и у нее нет свидетельства. Добрая фрекен, позвольте ей все-таки остаться.
— Хорошо, — ответила учительница, — успокойся, она останется, — и погладила Ханну по туго стянутым волосам.
Кажется, для учительницы я с радостью дала бы отрубить себе руку или ногу!
Мы снова вернулись на свою скамью, и началось чтение библии. Не понимаю, каким образом Ханна могла подготовиться, но она знала урок. Крепко сжав руки, маленькая, ростом не более метра, в длинной юбке и теплой кофте с буфами на рукавах — она единым духом выпалила: «И поселился Авраам у дубравы Мамре, что в Хевроне…»
Целый день я была сама не своя. Украдкой щипала себя за руки, едва не выламывала пальцы из суставов, чтобы испытать, какую боль я могу вытерпеть. Инстинкт подсказывал мне, что, если любишь такое совершенство, как моя новая учительница, нужно уметь не моргнув переносить любые страдания. И еще долго после этого я ходила с синяками.
Первый день в новой школе прошел удачно, но я даже не заметила этого. В душе моей кровоточили глубокие раны. Внешний успех и внимание на некоторое время потеряли для меня всякую ценность. К чему внимание людей, до которых тебе нет дела? Я долго не могла заснуть в этот вечер, считала желуди на спинке дивана и так сильно щипала себя под мышками, что на глазах выступили слезы.
— Что ты там возишься, дочка? Помолись и спи, — с раздражением сказала мать. Сама она сидела, уставившись в одну точку, думая о чем-то своем.
— Уже молилась.
— Тогда спи!
Попробуй-ка засни по приказу! В глаза словно песку насыпали, и я еще сильнее принялась щипать себя. Ничего не зная о папе римском, я уже постигла учение католической церкви об умерщвлении плоти и молитве. С тех пор как в мир пришла любовь, не нужна стала церковь. Любовь сама рождает исповедь и покаяние.
Никто, даже ребенок, не может заснуть по приказу.
И, подобно всем влюбленным, я пролежала без сна эту первую ночь после случившегося со мной чуда. К утру я так измучилась, что решила не ходить в школу.
На счастье, в мою жизнь вошла Ханна, приняв на себя частичку моей пылкой любви к новой учительнице, не то наверняка стряслась бы какая-нибудь беда. Еще несколько дней я вела себя как настоящая эгоистка. Потом мать как следует всыпала мне и наставила меня на путь истинный. Это немного охладило меня, и я решила прекратить самоистязания. Однажды я задала матери несколько прямых вопросов. Почему, например, у нас в вазах нет больше ольховых шишек? Почему на единственном окне в нашей комнате она повесила такую плохую штору? Почему у нас вечно не убрано?
— Ты даже не выстирала мой лучший передник, и я хожу как какая-то…
— Как кто? — угрожающе спросила мать. — О чем ты болтаешь? Становишься на «него» похожей? И тебе не стыдно? Так вот чему тебя учат в школе — неблагодарности?
Мать не на шутку рассердилась. Она не может повесить длинную штору — окно слишком маленькое. И разве здесь добьешься такой чистоты, как в комнате у Старой дороги, когда постоянно дымит печка? Уж она ли не переживала, что у нас такая неприглядная комната! Поэтому-то мои слова и задели ее за живое. Но я мечтала о чашке кофе в уютной комнате с накрахмаленными, подсменными шторами и белой скатертью, и чтобы в этой комнате на желудевом диване, который кстати выглядел уже довольно ободранным, сидела моя прекрасная учительница.
— Что сказала учительница? — внезапно спросила мать. — Ты отдала ей записку?
— Какая она красивая! У нее короткие вьющиеся волосы, точь-в-точь как у королевы с бабушкиной картины (на картине была изображена кронпринцесса Виктория).
Несколько минут мать молчала.
— Не могла бы ты здесь прибрать немножко, чтоб стало хоть чуточку красивее? — осторожно спросила я. — А еще мне так хочется даларнскую сумочку! И я буду такая же, как…
— Я вот тебе всыплю за это «как»! — закричала мать, отвешивая мне пару здоровенных шлепков.
— Скажи спасибо за то, что есть, постыдись хоть самую малость. Я хожу по людям, работаю, как вол, из сил выбиваюсь, лишь бы у тебя был кусок хлеба.
А, вот, оказывается, в чем дело! Еда и опять еда, будто это так уж важно.
Больше ударов не последовало. Я сидела и дулась.
— Могла бы найти другого мужа, который прокормил бы нас, — сказала я наконец. Однажды я слышала, как тетка говорила это другой сестре матери.
— Замолчи! — крикнула мать, и в наступившей затем тишине прозвучала еще одна здоровенная оплеуха.
Мы вместе с Ханной любили учительницу.
Это была необыкновенная учительница. Ученики очень уважали ее. Она никогда не била нас и не ставила в угол; подобных методов воспитания для нее не существовало. И тем не менее дети слушались ее. Но не думаю, чтобы кто-нибудь любил ее больше, чем я.
Однажды мальчик, обычно приносивший учительнице дрова, прогулял, и с тех пор мы с Ханной добровольно взялись за это дело. Ханна не отличалась особой силой, но зато я была довольно крепкая и привычная ко всему. Да и чего бы я не сделала ради учительницы? Каждый раз, как мы приносили дрова, она кормила Ханну обедом. Меня она никогда не угощала. Правда, однажды она налила мне чашку кофе, но я так разволновалась при одной мысли, что нахожусь с ней наедине в ее прохладной красивой комнате, что расплакалась, а со мной это бывало не часто.
— Малютка, — ласково сказала учительница и погладила меня по щеке. — Не плачь, сегодня ты будешь читать наизусть «Весна наступила»! — Я ушла, так и не допив кофе, а она не стала меня уговаривать. Мне часто приходилось читать:
Весна наступила, цветы расцветают, Яркое солнце горит в синеве, А на лугу среди кочек играют Веселые эльфы в зеленой траве.Стихотворение и само-то было похоже на сказку, а когда темные глаза учительницы с неизменным интересом останавливались на мне, оно становилось совсем как сказка.
Некоторые девочки тоже выучили эти стихи, они даже читали их мне наизусть и уговаривали попросить фрекен, чтобы она разрешила им декламировать на уроке. Но нет уж, пусть сами просят! Другое дело, если бы на их месте была Ханна! Но Ханна стихов не любила.
В этой школе никто не заставлял меня читать вслух по складам. Наоборот, когда учительница заметила, что я бегло читаю, она похвалила меня и посоветовала упражняться дома.
— Нельзя читать небрежно, про себя, читай громко и старайся отчетливо выговаривать каждое слово.
Я послушалась ее и стала допоздна бубнить вслух. Мать думала, что нам задают очень много уроков, но однажды увидела у меня в руках бульварную книжонку под названием «Весталки». Помнится, там рассказывалось о десяти американских девушках, совершавших кругосветное плавание. Таинственные возлюбленные искали их по всему свету, а они стали жертвами индейцев и медведей и погибли, а потом снова воскресли из мертвых, и все кончилось благополучно и счастливо. В последнем выпуске возлюбленные нашли их, и они поженились. Было отпраздновано десять свадеб, а женихи, хотя и прирожденные американцы, оказались лордами.
Мать отняла у меня «Весталок», но пороть не решилась, потому что книжка была бабушкина.
На четвертый день, вернувшись из школы, я застала у нас бабушку. Ей исполнилось семьдесят четыре года. Она жила довольно далеко от города, в маленьком поселке Вильбергене, зажатом между небольшими голыми холмами. Селились там только цветочницы и рыночные уборщицы. Уже к концу мая вся зелень в поселке бывала оборвана, на холмах нельзя было найти ни единой соломинки, ни одного подснежника. Солома и трава собрана, окрашена, продана и красуется в вазах городских дам, рядом с гипсовыми статуэтками и копилками. Хвоя, еловые ветки, можжевельник — все продано. И если бы не возделанные клочки земли вокруг домов, поселок походил бы на пустыню. Маленькие домики, маленькие клочки земли, маленькие цветы.
Сажать кусты и деревья не имело смысла. У каждого домика — резеда и душистый горошек. Только они и росли в поселке. Более дорогие цветы большими возами поставляли на рынок садовники. Сосны и лиственные деревья по всей округе были так искривлены, словно застыли в муках после всех невзгод, которые им пришлось пережить.
Деревья, как и люди, подчас имеют свою судьбу. Дерево приковано к месту, на котором растет, оно совершенно беззащитно. Неимущий грабит того, кто привязан корнями к земле. Все зависит от прочности корней. Даже ветры не вполне свободны. Даже они не могут дуть, куда им вздумается. Еще иудейский царь с больной селезенкой утверждал это, и ему верили, потому что он был царем.
— Этой ночью обломали мою рябину, — сказала бабушка, накладывая мне картошку со шпиком (матери дома не было). У бабушки росла рябина и шалфей, несколько крокусов и «девица в зеленом». И каждый год, как ни сторожила она свой маленький садик, цветы воровали и увозили на рынок. Воры обламывали кусты персидской сирени, считавшейся в Вильбергене редкостью. Цветочницы просто не могли спокойно смотреть, как сирень стояла во всем своем великолепии среди всеобщего запустения. Ведь для них это был хлеб, газета, чашка кофе или что-нибудь еще, столь же необходимое. Бабушка всякий раз сплевывала через левое плечо, когда встречала торговку цветами, подозрительно косилась на ее корзину и не отвечала на приветствие.
— Обломали всю рябину, подавиться бы им ею, — ворчала бабушка, пока я ела. Но, поняв, что мне это не очень-то интересно, она заговорила уже менее воинственно:
— Ну, как твои дела в новой школе?
Я рассказала про то, как все замечательно, и про учительницу, и про Ханну.
— Это что еще за Ханна? — резко и удивленно спросила бабушка.
— Да… они… Ее мама Метельщица Мина, — ответила я смущенно.
По дряблым щекам бабушки разлилась краска, но она не сказала ни слова. Я испугалась. Господи, опять что-то не так! Как будто Ханна виновата, что ее мать продает метелки и живет в богадельне! Тут уж я рассердилась на бабушку.
— Ханна хорошая! — крикнула я вызывающе.
Никакого ответа.
— Остальные ребята тоже ее любят. (На самом деле это было не совсем так, но чего не скажешь для пущей убедительности!)
— Делай-ка лучше свои уроки, — все еще мрачно ответила бабушка.
Она всегда была добра ко мне и очень привязалась к матери. Моего отчима, а своего племянника и воспитанника, сна считала самым ничтожным существом на свете. Нет, она не была пристрастной. Но все-таки, как она говорила, своя кровь — это своя кровь.
— Бедная Гедвиг! — частенько вздыхала она. — Он и не мог стать другим при такой матери, какая была у него. А отец? Его никогда не видели трезвым.
Мать отчима работала на фабрике и приходилась сводной сестрой той самой «образованной» белошвейке, которая так дружила с женой священника. Бабушкиного брата, трубочиста, она встретила случайно, когда тот пришел навестить сестру. Вот каким образом бабушка заполучила «образованную» родню. Обе женщины жили тогда вместе в одной комнате и работали на фабрике Драга в Норчёпинге.
До чего же интересно было слушать, как бабушка рассказывала обо всем этом матери!
— Ну и красив твой братец! Какой благородный! И как добр ко мне! Ну до чего ж красив! — говорила подруга бабушке.
— Берегись моего брата! Ты слишком хороша для него, не смей принимать его, когда меня нет дома! Многие считали его благородным и поплатились за это. Поведешься с пьяным трубочистом — сама перепачкаешься в саже, — предостерегала бабушка.
Но женщины в те времена работали в ночную смену, и, очевидно, когда бабушка уходила, появлялся трубочист.
— Уже через несколько месяцев я не слышала ничего, кроме жалоб, — рассказывает бабушка.
— Твой брат куда-то исчез, ты не видела его? Почему он больше не приходит ко мне?
Бабушка замолкает и трижды сплевывает через левое плечо.
— И подумай только, Гедвиг, у него было несколько детей. Другие-то женщины были по крайней мере находчивы, они выкручивались из этого положения и выходили замуж за других мужчин. Но большей дуры, чем эта кляча, я никогда не видывала. Я тогда овдовела после смерти второго мужа, детей у меня не было, и я собиралась еще раз выйти замуж. А она как раз родила ребенка. Я возьми да и забери его к себе. Потом написала капитану (старший брат бабушки был капитаном) через консульство, объяснила ему, как обстоит дело, и он прислал мне денег на воспитание ребенка. А было бы куда лучше, если б я тогда же швырнула мальчишку в Муталу, хоть пожила бы в свое удовольствие! — Этим она обычно заканчивала свой рассказ и мрачнела.
Бабушка никогда не стеснялась в выражениях. «А иначе кто же слушать станет?» — говорила она.
— Они не придумали ничего лучшего, как посадить девочку с дочкой Метельщицы Мины! — сказала она вечером матери.
Мать смутилась и покраснела. Тогда я поняла, что здесь что-то неладно.
— Завтра пойду в школу и все устрою, — сказала бабушка.
Я совсем вышла из себя, закричала, стала бить кулаками по столу, затопала ногами.
— Ты с ума сошла, Миа? — тут мать хорошенько встряхнула меня. Но я не успокаивалась и докричалась до нервного шока или чего-то в этом роде; началась икота, а потом меня вырвало. Мать с бабушкой испугались и стали уговаривать меня: бабушка не пойдет в школу, у меня не отнимут мою Ханну.
Приступ рвоты прошел, и я, совсем успокоившись, обняла бабушку за шею и сказала:
— Я так сильно, так сильно люблю Ханну!
Тогда бабушка заплакала, а мать по-прежнему осталась холодной и невозмутимой.
Уже позже из домашних разговоров и ссор я поняла, в чем было дело. Однажды отчим ходил свататься к Метельщице Мине, и все считали, что Ханна — результат его сватовства.
Случилось это за много лет до того, как мать встретилась с ним, но бабушка очень стыдилась этой истории, о которой знали все в Вильбергене. Сразу после рождения Ханны бабушка заставила отчима завербоваться, надеясь, что в армии из него «сделают человека».
— И ведь умеет хорошо работать, когда захочет. Он стал денщиком у капитана и отбыл у него всю службу, — не без некоторой гордости говорила бабушка. Как будто в армии можно, если захочешь, бросить одну должность и перейти на другую.
— Видно, он неплохо чувствовал себя в полку, — вставила мать, — там всегда полно лентяев.
— Что правда, то правда. Когда он вернулся домой, то был довольно ленив и растолстел как свинья, но привез прекрасную характеристику. Он даже пробовал служить полицейским, — в голосе бабушки слышится гордость.
— Да, да, болтаться по городу, топтать мостовую да торчать на углах, на это он способен, — фыркнула мать.
— Нет, Гедвиг, он умеет работать, когда захочет.
— Умеет, когда есть охота. Но всякий раз, как в этом бывает нужда, охота у него пропадает. Я-то привыкла работать в любое время, хочется мне или не хочется. И все так должны, у кого за душой ничего нет.
Бабушка утвердительно кивнула.
А я поняла, что жизнь — это труд.
Поглощенные своими мыслями, они замолкли, а я возмущалась, что они так много занимаются отчимом, и чувствовала себя лишней и никому не нужной. Иногда в какой-нибудь из вечеров, когда мать бывала особенно печальной и молчаливой, бабушка начинала рассказывать про свою жизнь. В эти минуты она казалась такой большой и необыкновенной, что я понимала: бабушка старая, очень, очень старая.
Она любила поговорить о своих братьях. И начиналась сказка — нет, больше чем сказка: передо мной раскрывалась удивительная жизнь. Подумать только, у нее были такие братья! В бабушкином доме их портреты висели на стене.
На груди одного из братьев, пожилого мужчины в форме капитана американской армии, блестели четыре медали. У меня до сих пор висит его фотография; она очень старая и выцветшая, но на всех четырех медалях хорошо виден американский орел. Капитан получил их за подвиги на суше и на море, когда воевал за освобождение негров, и за то, что в течение многих лет водил суда Ост-Индской компании. Он был на двадцать лет старше бабушки.
Второй брат, в одежде трубочиста, был моложе бабушки и приходился отцом моему отчиму. И у него поверх испачканной сажей куртки висели две медали.
— Поверь мне, Гедвиг, уж что-что, а жизнь-то я знаю. Да, да. Я знаю, что такое жизнь. Тебе тоже не легко, Гедвиг, но… Однажды в городе началась холера, и мы за один год потеряли отца с матерью. Мой старший брат, капитан, уже плавал по морю. Тогда мы с младшим братом пошли к этому негодяю, нашему родственнику, который отобрал у нас все, что осталось после отца с матерью, даже хутор. А ведь он приходился родным братом нашему отцу… Да ты не раз проходила мимо хутора, Гедвиг, ты знаешь тех, кто там живет, наследники в третьем колене. Но счастья им все равно нет, сама понимаешь. (Я видела этот хутор, он находился совсем недалеко от Норчёпинга. За желтой оградой виднелись кусты калины и грушевые деревья.) У нас была такая славная сестра, Гедвиг. Ей только-только исполнилось семнадцать лет; и как-то вечером она задержалась на дворе с дружком, сыном торговца. Один-единственный раз задержалась она на дворе со своим дружком, и ее выдрали за это…
(«Один-единственный раз задержалась она на дворе со своим дружком», — шептала я своей кукле-дурнушке.)
…Крепко выдрали. Мне было тогда двенадцать лет, а брату девять. Наш дядя стегал ее розгой по обнаженной спине. Она была уже взрослая, но ей пришлось раздеться догола, потому что дьявол этот был набожный. Мы с братом услышали, как она плачет и жалуется, и стали кричать. Тогда выдрали и нас, но ее, нашу взрослую сестру, все-таки хлестали голой. «Ах ты потаскуха! Ах ты блудливая тварь! Будешь три часа стоять на коленях и читать «Отче наш», пока не очистишься… Родители твои умерли от холеры, бог разгневался на них, и ты, грешница, только приносишь несчастье нашему дому! — Передразнивая набожного дядюшку, бабушка говорила хриплым, грубым голосом. — Становись вот здесь и истекай кровью, блудница!» На весь квартал было слышно, как он орал и бесновался, но вокруг жили бедняки, и никто не посмел прийти ей на помощь, никто, никто…
Поздно ночью сестра встала.
«Пойду к реке, промою спину, так жжет и болит, что я, наверное, умру, если не промою ее». Она вылезла через окошко. Нас с братом уже выпороли, и мы не посмели пойти с ней. В таких случаях у людей всегда не хватает смелости. Она отправилась одна. Мы-то думали, она идет разыскивать своего дружка, но она замыслила другое…
(«Мы-то думали, она идет разыскивать своего дружка…» — повторяла я, когда пересказывала все это Ханне.)
Нет, она замыслила другое. Она дошла до Обакки и бросилась в воду. В отчаянье и тоске брела она целую милю до речки. Нашли ее в тот же день. Полиция внимательно следила за рекой ниже водопада, потому что именно там часто топились люди. Но, думаешь, Гедвиг, полицейские сказали что-нибудь про ее исхлестанную спину? Нет, ни слова.
(«Думаешь, полицейские сказали что-нибудь про ее исхлестанную спину? Н-е-т», — говорила я Ханне. Ханна плакала, а я придумывала, как бы получше отомстить полицейским.)
Они отнесли тело в морг, и мы пошли туда, опознать ее и подтвердить, что она наша сестра. Ее спина, Гедвиг… Никогда не забуду я этой спины, а ведь мне теперь семьдесят четыре, а тогда было двенадцать! Она была как стиральная доска: кровавая борозда, другая, третья… Но никто не видел этого. Никто не хотел видеть. Детей тогда били во всех семьях. Подумаешь, исхлестанная спина!
А сестра лишила себя жизни из-за того, что этот негодяй избил ее голую. Дружок не рискнул показаться. Так и похоронили сестру без него, но где, я до сих пор не знаю, потому что на другую ночь, после того как ее вытащили из реки, мы с братом убежали. За нами никто не гнался. Они были рады от нас избавиться. Хутор перешел в их собственность, никто ведь не знал, где находится капитан. Да, Гедвиг… Чего только не было после этого, через что только не пришлось пройти, иной раз пробежать, а порой проползти, но чаще всего я старалась втихомолку проскользнуть мимо. Правда, это мне никогда не удавалось — человек должен все пережить. Мой младший брат случайно пошел в трубочисты, да и я по чистой случайности стала ткачихой, а ведь чуть не стала еще кое-кем… С тех пор как брату исполнилось четырнадцать лет, он ни одного дня не был трезвым, а когда уехал подмастерьем в Бельгию, мне пришлось наскрести немного денег и добираться туда на какой-то старой посудине, чтобы привезти его назад. Да, водка его окончательно доконала. Он уже не мог жить без спиртного, не мог работать без выпивки. Я тоже однажды пыталась напиться, мне тогда исполнилось тринадцать лег, и работала я свинаркой в Стегеборге. Водка в те времена стоила дешево, и достать ее было совсем нетрудно. Счастье, что она не нравится нам, женщинам.
(«Счастье, что водка не нравится нам, женщинам», — поучала я Ханну.)
Кроме брата, у меня никого не было, только он один и напоминал об отце с матерью, и только он знал, что выкрашенный в зеленую краску дом когда-то принадлежал нам. Но он знай себе пил, орал песни и снова пил. Ну и хорош был он! После него остались дети. У него ничего не было за душой, кроме одежды трубочиста, но женщины, и хорошие и плохие, сходили по нему с ума. Он не раз спасал людей от смерти и получил за это две медали. Однажды случился пожар в Линчёпинге, и брат в самую последнюю минуту вынес из огня пастора.
«Было бы несправедливо, если б ты, пастор, сгорел, как горят грешники в аду», — приговаривал он, неся пастора на спине, а народ ухмылялся. «Лассе из Бровика»[4] написал о нем в газете. Тогда еще не было пожарных команд, их обязанности исполняли трубочисты. Но брат, по-моему, даже не соображал, что делает, он никогда не был трезвым. А сгорел он из-за дворняжки на пожаре в Мальмё, ему еще не было и тридцати. Собака выла и визжала внутри горящего дома; вещи почти все удалось вынести. Хозяйка собаки стояла тут же, плакала и просила брата спасти дворняжку. А брат был как воск в руках женщин, вот и сгорел вместе с собакой. Об этом тоже написали в газете. Альберту тогда уже исполнился годик. А годом раньше нас разыскал через полицию капитан. К счастью, полиция хорошо знала нас благодаря удали трубочиста, иначе капитану ни за что бы не удалось найти нас, ведь мы не состояли в избирательных списках. Об этом уж позаботился обворовавший нас дядя. Сам он к тому времени умер и не мог быть привлечен к ответственности, а опекунская бумага свидетельствовала, что все ушло на воспитание детей.
Если бы ты только видела моего брата-капитана, Гедвиг! Какой мужчина! Он был тогда уже седой, носил форму и медали, а плакал, как ребенок, когда я рассказывала ему про гибель сестры.
«Мою сестру истязали как черного раба! — кричал он. — Я участвовал в войне за освобождение негров, а, оказывается, у нас на родине тоже есть негодяи! И кто же — наш собственный дядя, которого мы в детстве прозвали «святошей» за то, что, приходя к нам, он постоянно читал молитвы! Стало быть, он и молился только затем, чтобы завладеть землей нашего отца?! Да, молился он неплохо и получил, что хотел! По его расчетам вы должны были умереть, он хорошо все обдумал, скряга. Если бы он и его трусиха жена были живы, я повесил бы их на мачте той барки, что стоит здесь возле Аркё, в назидание всему городу. Мы ведь в родстве с бургомистром, неужели он ничего не мог сделать, неужели никто не мог хоть чем-нибудь вам помочь?»
«Никто и не знал про нас толком. Мы с братом не смели выйти из дому, а во всем городе не нашлось ни одного человека, которого бы занимала судьба двух ребятишек. Ведь уважают только того, кто может грабить других. Ты это должен хорошо знать, ты сам жил в нашем городе», — ответила я капитану.
— Если бы ты только видела моего брата-капитана, Гедвиг, ты бы хоть раз в жизни поглядела на настоящего мужчину. Наверно, он давно уже умер, с тех пор я никогда больше не видела его. И пожил-то он с нами совсем недолго. Он водил корабли по всем морям, и в Америке хотели, чтобы он остался служить в их армии. Перед отъездом он оставил мне на сберегательной книжке тысячу крон на воспитание Альберта, сына нашего брата. Я воспитывала его, как могла. У него были хорошие задатки, но приходили родственники его взбалмошной матери и во все совали свой нос. Они никогда ничего не дарили мальчику, — наоборот, прядильный мастер пытался отнять у меня сберегательную книжку, которую оставил брат. Да, Гедвиг, всякие бывают люди… Альберт единственный родственник, который у меня остался, и какой бы он ни был… в нем все-таки есть что-то хорошее; его отец, трубочист, хоть и пил запоем, всегда был на редкость сердечным человеком. Водка и глупые женщины вконец сгубили его. И Альберт пошел бы по той же дорожке, но он привязан к тебе, Гедвиг. Я думаю, все у вас кончится хорошо. Ты так не похожа на тех женщин, к которым он привык, что в конце концов он остепенится. Человек должен пройти через все, хочет он того или нет, или кончить так, как кончила моя сестра. Я часто ходила к Обакке, Гедвиг, стояла на берегу и подолгу смотрела в воду…
(«Она так и не нашла своего дружка», — шептала я засыпая.)
— Молись громче, — сказала бабушка.
Но я притворилась спящей.
Я не помню, чтобы любила кого-нибудь из своих подруг больше, чем Ханну. Но все-таки играть она не умела.
Я долго приставала к матери, и когда она наконец разрешила привести Ханну к нам домой, девочка тихонько уселась в уголке и, слушая мою болтовню, осторожно трогала убогие игрушки. В моем распоряжении был целый комод, мать отдала его под кукольный шкаф.
В комоде хранились все мои сокровища: какое-то подобие куклы, не очень меня интересовавшей, и много-много открыток и ракушек, о которых я рассказывала Ханне такие удивительные истории, что она сидела как зачарованная. Почти всегда это были рассказы про моряка-капитана и трубочиста. Мать немного приободрилась, навела в комнате порядок и была очень ласкова с Ханной. Мы выбрали день, когда бабушка к нам не пришла. Разве угадаешь, как отнесется она к появлению Ханны?
Мать подарила Ханне одно из моих старых платьев, давно предназначенное на тряпки. Оно было заплатанное и сильно поношенное, из простой бумажной ткани, но по крайней мере ему хоть не тридцать лет, как кофте маленькой Ханны, которую откопали, верно, среди всякого старья в богадельне. Мать совсем недавно сшила мне белый передник, но он сразу же оказался мал, а на больший не хватило материи; его тоже отдали Ханне. Потом мать одела ее, причесала и повязала бант, а остальные волосы распустила.
Ханна стала очень миленькой. Правда, она по-прежнему осталась босая, но какое это имело значение? С наступлением жарких дней все дети ходили босиком, не только в будни, но и по воскресеньям.
Мы подвели ее к зеркалу. С минуту она молча смотрелась в него.
— Миа лучше всех в школе. Фрекен больше всех любит ее, — сказала она наконец матери. Я видела, что у нее от смущения трясутся губы.
Такова была благодарность Ханны, и мать поняла и оценила ее. Поглощенная своей первой любовью, я была так невнимательна к матери, что никогда не делилась с ней школьными новостями, и только теперь постепенно начала снова оттаивать. Доброта матери к Ханне сделала меня счастливой.
Мать угостила нас хлебом с маслом и чудесным какао, сваренным из кожуры плодов какао. Мы покупали кожуру целыми мешками возле норчёпингского порта.
На следующий день Ханна снова пришла в школу с гладко причесанными волосами, с маленькой тугой косичкой, перевязанной шерстяной ниткой, в старой кофте на тридцати крючках и длинной до пят юбке.
В перемену я спросила ее, почему она не надела мое платье и передник вместо этой ужасной одежды.
Оказалось, начальница богадельни велела спрятать новый наряд до экзаменов, а ходить с распущенными волосами, по ее словам, грешно.
Да, тут уж мы с Ханной были бессильны.
Однажды Ханна не пришла в школу, на другой день — тоже. Я осталась совсем одна. Наступили теплые дни, дрова учительнице стали не нужны — готовила она на керосинке, — и я бесцельно слонялась по школьному двору, злилась на ребят и отказывалась играть с ними. Ребята обиделись, а одна из «лучших» девочек обозвала меня «подлой» за то, что я хочу играть только с Ханной.
— Я подлая?
— Да! Ведь Метельщица Мина подлая и Ханна тоже подлая!
Произошла отчаянная схватка. Я и мои подруги в то время еще не знали, что драться подобает только мальчишкам.
А на следующий день с покрасневшими от слез глазами пришла Ханна. На ней было мое старенькое платье и белый передник, а в тугой косичке виднелась черная лента, узкая, как ботиночный шнурок. У Ханны умер брат, они с матерью хоронили его.
Братом Ханны был Альвар.
Весь день я молчала. Я никогда не рассказывала, что дружила с Альваром и однажды соврала ему, будто детеныш осла называется бараном. Но я удвоила свою нежность к Ханне. Я плакала вместе с ней, как будто умер мой брат, и ребята, не часто видевшие мои слезы, тоже стали серьезными. Альвар жил у торпаря с бумажной фабрики, куда устроило его общество помощи бедным. «Я достану другую спицу, — звучал у меня в ушах его голос. — Не бейте ее!»
И вот он умер.
В тот вечер я усердно молилась и просила бога не о курчавых волосах и не о каких-нибудь других благах. Я просила простить мне обиду, нанесенную Альвару. Кажется, я горевала о нем больше Ханны, но ведь Ханна не обижала и не обманывала его, как я. От этих мыслей становилось еще горше.
4
Белая лошадь стоит в конюшне. Упряжь, шпоры, в руке копье. Минне мака, синне вака, Яблоко, пэмпел, пилом, пафф.— Эстер вышла! Теперь давай другую считалку, Миа!
— Нет, это нечестно, считай по-старому!
— Аннику-ваннику! — Это крикнула Ханна.
Анника-ванника, Сёдервалье, Гребень-бредень, лес густой, Карл-король и генерал Входят быстро в тронный зал. Восемь дней невесте ждать, Анника-ванника танцевать.— Миа вышла! Ханна, считай!
Ханна знала только «Эне, бене, книпп, кнапп…»
— Да ну, лучше совсем не будем играть в прятки! Что за игра, когда некоторые не знают даже считалки. Ведь Ханна не умеет считать. Считай, Миа, хоть ты уже вышла!
Щеки Ханны запылали, маленький заплетенный хвостик печально опустился на затылок. Вот так с ней всегда. Прежде чем я успею придумать, как выручить ее, обязательно кто-нибудь повернет все так, что Ханне становится стыдно.
— Хватит играть в эти глупые прятки! Давайте лучше водить хоровод! — закричала я.
Когда мы водили хоровод и я попадала в центр круга, тут же оказывалась и Ханна, потому что, как только подходила моя очередь, я выбирала ее. Но играть в прятки ей было очень трудно: она никогда не могла найти спрятавшихся, а сама всегда попадалась, хотя семенила своими босыми ножонками изо всех сил, так что было видно, как бьется под кофтой ее сердце. Но у нее все равно ничего не получалось. Я очень страдала, глядя, как Ханну всегда обгоняют.
— В хоровод, в хоровод, а не то я совсем не буду играть!
— Очень уж ты зазнаешься!
— Перемена скоро кончится, мы все равно не успеем сыграть в прятки, а фрекен сердится, когда мы прячемся и не слышим звонка…
Вот уже некоторые берутся за руки, понемногу подходят колеблющиеся, только та, что обозвала меня зазнайкой, одна из «благородных», по-прежнему дуется, держась в сторонке.
— Начинай, Эстер! «Прекрасному молодцу…»
Тут Эстер не выдерживает, входит в круг и выбирает дочку торговца, тихую славную девочку, которую она считает «своей», потому что отец Эстер — старший работник на том хуторе, куда мой отчим устроился землекопом. А к какому рангу отнести землекопа — этого никто толком не знал; к тому же землекопы-дренажники считались почти квалифицированными рабочими, — так что мое положение в школе было весьма неопределенным. Все, конечно, видели, что мы очень бедные, но зато у меня не было ни братьев, ни сестер, и в школу я всегда приносила завтрак. Ребята не могли как следует разобраться, в какую же категорию меня зачислить.
Другое дело Ханна. С ней все было ясно. Ни дочь мелочного торговца, ни дочь старшего работника никогда не выбирали девочку с крысиным хвостиком на затылке, в длинной юбке и дурацкой кофте.
Когда подошла очередь дочки старшего работника, она выбрала меня.
Прекрасному молодцу нужен друг — красные розы и пионы, — ведь только розы и нежные лилии могут немного смягчить мое сердце, — красные розы и пионы.Стоило Ханне попасть в круг, как она сразу смущалась, становилась неповоротливой и неловкой. Стишок успевали пропеть почти до самого конца, прежде чем она, бывало, опомнится. А дети меж тем кричат что есть сил:
— Выбери кого-нибудь, Ханна, выбери кого-нибудь!
И только в самый последний момент, когда произносилась последняя строчка стишка, она наконец решалась и всегда тащила в круг меня.
В школе учились дети, одетые почти так же бедно, как Ханна. С какой жадностью и мольбой смотрели они на тех, кто ел хлеб с маргарином или ливерную колбасу, — например, на дочку торговца. А Ханна даже и этого не смела: она не смотрела ни на богатых, ни на бедных, ни на кого, с кем она не была так же близко знакома, как со мной. Но даже и меня она иногда побаивалась.
Однажды с ней случилось действительно что-то ужасное. В перемену она забыла сходить куда следует, и ей уже в самом начале урока надо бы попроситься выйти. Но она не посмела.
Я заметила, что у нее что-то произошло, и прошептала:
— У тебя зубы болят?
Она отрицательно мотнула головой.
— Надо писать, а не шептаться, — сказал мой кумир у доски.
Фрекен была очень строга со мной, значительно строже, чем с другими детьми, но вознаграждала меня тем, что была со мной гораздо сердечнее, чем с ними. Поэтому меня не огорчали ее выговоры. Помнится, я даже любила их: было приятно, что она обращает на меня внимание, пусть даже ругает. Больше я на Ханну не смотрела и начала прилежно писать. Вдруг Ханна вскочила, невнятно пробормотала несколько слов, и тут мы все услышали, как что-то потекло.
Фрекен покраснела.
— Выйди, Ханна, — сказала она и строго посмотрела на тех, кто посмеивался и проявлял излишнее любопытство. — Продолжайте писать.
Ханна побрела к выходу. А мы писали и писали, между рядами ходила фрекен и наблюдала за нами. Дверь осталась открытой, но, если бы Ханна снова тихонько вошла в класс, мы все равно не посмели бы взглянуть на нее.
Урок кончился, а Ханна так и не пришла.
Я сразу же побежала ее разыскивать. Никто не захотел мне помочь. Ребята стояли группками и хихикали, а один мальчик крикнул мне вдогонку, что Ханна пошла домой за сухими штанами.
— У нее нет других штанов! — злорадно заорала дочь старшего работника.
Но я даже не слышала их насмешек. Меня душило отчаяние. Я была уверена, что Ханна умерла. Я не слышала звонка и убегала все дальше от школы, шарила в кустах около уборной, ползала по глубокой канаве. Долго бродила я по проселку и кричала, а потом спросила у встречного мужчины, не видел ли он девочку в длинной юбке и с маленькой косичкой. Нет, он не видел, но если я из школы, то звонок уже давным-давно был. Я изо всех сил помчалась обратно. Может, Ханна вернулась за время перемены?
Потная, раскрасневшаяся, я вбежала в класс, когда все ребята уже сидели на местах, держа перед собой грифельные доски. Но я никого не замечала, даже учительницу, я видела только, что моя скамейка пуста и Ханны нет.
— Садись на место, Миа. Возьми доску и списывай цифры.
Я машинально повиновалась, достала свою доску и замерла, уставившись в одну точку. Учительница больше ничего не сказала. Она даже не подошла ко мне посмотреть, написала ли я что-нибудь, и ни слова не спросила о Ханне. И вдруг я начала ненавидеть учительницу. Минут через десять я уже ненавидела ее так сильно, что мне хотелось вскочить, царапать ей лицо и щипать до тех пор, пока она не попросит меня разыскать Ханну, сходить в богадельню и узнать, не пришла ли она домой. Ханна наверняка лежит мертвая у железнодорожного переезда, где однажды нашли ребенка и где как-то задавило крестьянина из чужого прихода. А может быть, ее загрызла собака из сада торговца, мимо которого ома ходит домой? Ведь собака такая огромная и злая, что о ней даже писали в газете «Эстгётен»!
Я сидела молча, все больше распаляясь ненавистью к недавно горячо любимой учительнице за ее равнодушие к несчастью Ханны. Я знала, как боялась Ханна собаки торговца, и часто провожала ее мимо сада, — я-то нисколько не боялась собак с гладкой шерстью. А эта была гладкая, как теленок. Зато как я боялась собак с длинной шерстью! Представляю, как страшно было Хание возвращаться той дорогой. А фрекен хладнокровно разгуливает по классу да еще сердится на Ханну за то, что с ней стряслось.
Я твердо решила, что, как только кончится урок, пойду снова искать Ханну и не вернусь в школу до тех пор, пока не найду ее. Прозвенел звонок, а моя грифельная доска была чистой — я не написала ни одной цифры и так спешила, что бросила доску прямо на скамью, где она и осталась, свидетельствуя о моей небрежности.
Но только я собралась бежать, раздался голос фрекен:
— Подойди-ка сюда, Миа, я хочу поговорить с тобой! А вы, дети, выйдите!
Я остановилась. Ненависть еще пылала во мне, но этому голосу нельзя было не подчиниться. Я так резко повернулась в дверях, что столкнулась с девочкой и расшибла ей нос. Девочка разревелась. Сама я даже не почувствовала боли, хотя щека еще несколько дней после этого оставалась синей и долго болела.
— Как это случилось? — спросила учительница.
Девочка только всхлипывала. Я же считала, что она сама виновата: все, кто плачет да еще жалуется, — сами виноваты.
— Кровь идет из носа? — снова спросила фрекен.
Боже милосердный!.. Я молча топталась на месте, а девочка захныкала:
— Кажется, идет…
Я подняла передник и довольно сильно провела им по ее носу.
— Не идет! — закричала я. — Пойдем к насосу, смочим холодной водой! — И я потащила ее в коридор.
Нос все-таки был в плачевном состоянии. Фрекен тоже пошла с нами — проверить, не кровоточит ли он; и мне пришлось просить у девочки извинения.
— Нужно обязательно извиняться, если сталкиваешься с человеком, — сказала фрекен серьезно.
— Извини меня, — пробормотала я, дрожа от злости и нетерпения. Всякий извинился бы на моем месте.
Мы с фрекен молча вернулись в пустой класс.
— Миа… — Фрекен посмотрела на меня и снова замолчала. Молчание длилось довольно долго.
— Я пойду, — наконец не выдержала я.
— Куда?
— Искать Ханну. Она теперь уж, наверно, мертвая. Ее переехал поезд или искусала собака Хольмста.
— Ты считаешь, что Ханна правильно поступила? И, по-твоему, хорошо, что она не вернулась в класс?
— Ханна всего боится. Она ведь такая трусливая.
— Да я и не сержусь на нее. Но тебе, Миа, следует быть послушнее.
Та-а-к. Я сразу успокоилась. Опять старая песня. Сейчас мне всыплют. Я снова начала ненавидеть учительницу. Она такая же, как все, такая же, как мать. Но мать иногда оставляет меня в покое и не колотит, хотя другой раз и следовало бы поколотить. Но что же я теперь-то сделала? Не писала цифры? Да разве можно писать, когда дрожат руки, а цифры на доске так и прыгают вверх и вниз? Разве можно писать, когда под колесами поезда лежит мертвая Ханна?
— Ты слышала, что я сказала? Надо сдерживать себя, Миа. Ты любишь Ханну, но ты должна позволить Ханне быть Ханной — она никогда не сможет стать такой, как ты.
Я не поняла, что она хотела этим сказать, но взбучки наверняка не будет. Что же тогда будет? Что-нибудь другое? Чего я прежде не знала?
— Я должна поискать Ханну, она больше никому не нужна, — сказала я.
— Ты решила уйти без разрешения. Почему? Почему не спросила меня? А я надеялась, что ты попросишь разрешения, Миа.
Тут я совсем растаяла. В самом деле, почему я не попросила разрешения?
— Разве я злая?
— Нет, нет! — закричала я.
— Тогда почему же ты не попросила у меня разрешения, прежде чем пойти? Я ведь видела, что ты задумала уйти.
— Тот, кто просит, никогда ничего не получает. Никогда, никогда! — У меня перед глазами все время стояла прежняя учительница со спицей в руке.
— Меня ты никогда ни о чем не просила.
Это было гораздо хуже побоев, этого я никак не могла понять. Что же со мной будет?
Теперь я не ненавидела и не любила ее — я просто боялась. Она напомнила мне того страшного бога, про которого я читала в бабушкином молитвеннике. Бога, который видел в темноте. Бога, который ходил по белому свету, карал всех и жил как тиран. Бога, который мог делать все, что ему вздумается, и никто не осмеливался ему перечить.
Я испугалась. И, как всегда в таких случаях, мысли начали проясняться. В самые отчаянные минуты ко мне приходили особенно ясные мысли. У меня был чрезвычайно развит инстинкт самосохранения.
— Фрекен могла сама попросить меня поискать Ханну, — сказала я покорно, хотя внутри у меня все дрожало и горело от нетерпения и страха перед тем, что должно вот-вот произойти, а также от мысли, что я все еще сижу в классе, трачу даром время и не разыскиваю Ханну.
В дверь начали заглядывать ребята — перемена слишком затянулась. А фрекен все сидела, уставившись глазами в одну точку, на лице у нее горел темный румянец. «Злится, — подумала я. — Теперь все кончено, Ханна умерла».
Я поднялась, чувствуя, как у меня похолодели щеки.
— Да, Миа, я могла попросить тебя, — услышала я голос учительницы. — Но ты должна научиться не отчаиваться заранее и не вбивать себе в голову всякие нелепицы. Ханна не умерла. Просто она очень застенчива и стесняется прийти в школу. А теперь, прошу тебя, сходи в богадельню (так назывался дом для бедных) и все о ней разузнай. На сегодня ты свободна.
Я сразу забыла сурового, карающего бога. Что у него общего с моей учительницей? Она — новый бог, которого никто прежде не знал! Но что нужно делать, когда стоишь перед новым богом? Я не знала… Мне бы надо просто уйти, но как уйти, ничего не сказав?
— Пора звонить на урок, — донесся до меня голос фрекен.
А я все медлила. Что же все-таки сказать?
— Я не знаю, я… я… прошу прощения… — смиренно пробормотала я.
— Хорошо, Миа, но это лишь простое соблюдение правил вежливости. Впрочем, я понимаю тебя. И все же не надо слишком часто просить прощения. Это так легко может войти в привычку. Ведь тот, кто часто просит прощения, очевидно часто и поступает неправильно.
Я подумала, что и раньше все это знала, и, ничего больше не сказав, низко присела. Только я успела выйти на школьный двор, как зазвенел звонок. Пробежав мимо детей, как будто их вовсе не существовало, я направилась прямо к Ханне. Теперь я была уверена, что она жива, — так сказал мой новый бог.
А в богадельне шла настоящая война.
Четыре старухи в сенях так орали друг на друга, что ни одна из них наверняка не слышала, что кричит другая. Тут была и Метельщица Мина — большая толстая женщина с розовым и гладким лицом, хотя ей давно уже стукнуло пятьдесят. Ссорились из-за Ханны.
— Может девчонка, если ей уже восемь лет, попроситься выйти за нуждой? Может или нет? Так почему же я не имею права вздуть ее? Разве она не моя дочь? — кричала Мина.
— Чучело гороховое! Хоть пожалела бы бедняжку! — орала маленькая тощая старуха. — Стыда у тебя нет! Будто не знаешь, какая у тебя тяжелая ручища! Вернется фру, она тебе покажет!
Я знала, что «фру» — заведующая. Стало быть, сейчас ее нет, а Мина избила Ханну. Я отошла немного в сторону, чтобы они не заметили меня. Нужно подумать, как выручить Ханну. Она лежит теперь где-то, ее избила Мина. Страх снова овладел мною. Мой новый бог здесь уже не властен, а старого я всегда считала только карателем и больше ничем.
— Ты и сама частенько забываешь выйти за нуждой, хоть ты и старая карга! — закричала высокая старуха и, сжимая кулаки, подошла к Мине. — Ты грязная, вонючая калоша, вот ты кто! Не понимаю, о чем только думал бог, когда послал тебе ребенка! Тебе впору быть крючником! Наверняка переломала девочке ребра.
Тут я необдуманно закричала во все горло и бросилась в дверь. Вперед, вперед, через большой зал, вверх по лестнице, снова вниз — и на кухню! А там сидела Ханна! Я сразу увидела, что она плачет, но может двигаться, она — ест! Около нее стоит женщина, держа чашку с молоком, в которую Ханна макает ломоть пшеничного хлеба.
В этот день в богадельне все шло шиворот-навыворот: на кухне, в женском отделении, где сроду не показывался ни один мужчина, стоял высокий, сутулый старик. Он тоже наклонился к Ханне, разговаривая с ней шутливым «детским» голосом. Ханна ела, время от времени всхлипывая. Кормившая ее женщина говорила как-то странно, и ее никто не понимал. У нее были белоснежные волосы, белые ресницы и брови, а глаза красные, как у кролика. Ей не было и тридцати лет.
— Ханна, Ханна! Фрекен отпустила меня и позволила пойти к тебе! Тебя она тоже на сегодня отпустила! Фрекен нисколечко не сердится, ты не бойся! — выпалила я. — Так сказала фрекен. А я теперь останусь с тобой.
Ханна покраснела и вырвала чашку из рук женщины-альбиноски. Наверно, ей стало стыдно, что я видела, как ее кормят. Старик повернулся ко мне:
— Какая добрая девочка, как это хорошо с твоей стороны. Ханне очень скверно, Мина, она… — Но тут он, видно, вспомнил, что Мина все-таки мать Ханны, и, ничего больше не сказав, вышел из кухни.
Ханна рассказывала потом, что старик явился как раз, когда Мина била ее за то, что она пришла домой мокрая.
— Все потому, что это заметил моряк Шоквистан, иначе мама ни за что не стала бы меня бить, — всхлипывала Ханна. — Но Шоквистан все время ругает маму, говорит, что она глупая и что ее дети тоже никогда не поумнеют. Поэтому-то мама так разозлилась и поколотила меня. Она бы, наверно, убила меня, но тут пришел дядя Берг и вышвырнул маму отсюда, а другие женщины помогли ему. Потому что, когда мама сердится, она может убить. Забила же она до смерти кошку, на которую разозлилась…
Меня очень заинтересовало все, что я услышала.
Здесь, видно, привыкли считать, что человек может поступать, как ему вздумается: разозлился на кошку — взял и убил ее. Вошла альбиноска и пролепетала что-то непонятное. Вдруг с нее свалился передник. Тогда она захихикала, подхватила его и сказала что-то Ханне. Та в ответ высунула язык. Я никогда не видела, чтобы Ханна так вела себя.
— Ей кажется, что мужчины только о ней и думают, потому что она все время теряет передник. Она сама развязывает тесемку десять раз на день и кричит: «Тэн-тэн-тэн, мей-мей-мей!»
Ханна со злостью передразнивала несчастную женщину с белыми, как у зайца, волосами и в самом деле очень некрасивую. В комнату вошла одна из тех старух, которые ругали Мину в сенях, и увидела альбиноску с передником в руке.
— Ты опять торчишь здесь со своей дурацкой тряпкой! Пошла вон! Ты подаешь дурной пример детям! — И маленькая кривобокая старуха вытолкала несчастную идиотку в сени.
Я не могла понять, что она сделала плохого и что тут особенного, если даже мужчины думают только о ней одной? Но Ханна хитро мне подмигнула. Я видела, что в отсутствие фру она чувствовала себя здесь совершенно свободно; это была совсем другая, новая Ханна, знавшая массу таинственных вещей, о существовании которых я и не подозревала.
— Ну как ты теперь себя чувствуешь, Ханна? — спросила маленькая старушка, выгнав приветливую альбиноску.
Да, Ханне здорово досталось, Мина жестоко избила ее. Но у меня тотчас мелькнула мысль, что она к тому же еще чуточку притворяется. Так оно и было. Как только старушка, прихрамывая, вышла из комнаты, Ханна прошептала:
— У нее водятся деньжонки, понимаешь, и она всегда дает мне монетку, когда кто-нибудь есть в комнате, чтобы позлить остальных старух, у которых нет ни гроша.
Не так-то легко было Мине воспитывать детей в богадельне. Имей она хоть малейшее представление о том, что такое воспитание, она несомненно отчаялась бы, а так она только твердила, что Ханна принадлежит ей, а это было неоспоримо. Ханна родилась в богадельне, и старухи простояли тогда всю ночь под дверью комнаты, ожидая ее появления на свет.
Все, кто был зол на Метельщицу Мину, — а таких было большинство, потому что Мина была самая молодая из них, каждую субботу ездила на рынок и ей были еще доступны некоторые радости жизни, а на долю других оставались только боль и горечь, — все эти враги Мины брали Ханну под защиту каждый раз, стоило Мине открыть рот, чтобы сделать дочери замечание.
С таких мелочей обычно и начинались самые большие скандалы в богадельне, которые не мог прекратить никто, кроме «фру».
Но сегодня «фру» не было дома.
Я повела Ханну в старый заросший сад. Деревья стояли, усыпанные еще не спелыми плодами, рвать которые было строжайше запрещено; яблоки принадлежали председателю муниципалитета.
Но Ханна преспокойно сорвала несколько зеленых яблок, и я почувствовала, как внутри у меня что-то екнуло. Никогда в жизни не посмела бы я сорвать зеленое яблоко с дерева, что росло возле нашего дома, и так небрежно отдать его подружке. Никогда еще возле тех домов, где я жила, не росло сразу по нескольку яблонь.
— Тебе очень больно? — Мне захотелось снова увидеть Ханну несчастной и зависимой от меня, хоть я и поняла уже, что у нее и без того довольно защитников.
— Не особенно. Хочешь посмотреть?
Она расстегивает свою неизменную кофту, снимает ее, задирает на голову грязно-серое белье и стоит так, освещенная солнцем, маленькая и худая. Грубый пояс юбки врезается в голое тело. На коже, туго обтягивающей ребра, видны следы каждого крючка кофты. Ханна чудовищно худа.
— Тебя что, совсем не кормят? — спрашиваю я.
— Конечно, нет. Да я никогда и не хочу есть, я ем только по субботам, когда мы с матерью бываем в городе, — говорит она небрежно и прибавляет: — Погляди сюда…
На спине у нее большущая шишка — след мощного кулака Мины, а по сторонам — синяки от старых щипков и ударов.
— Вот здесь болит, на спине. У матери такая тяжелая рука… А это один старик, он щиплет меня изо всех сил, как только увидит. Посмотри, — она поднимает маленькую худую руку — подмышка совершенно черная.
— Бабушкину сестру избили так, что вся спина была в крови, и она утопилась. Расскажи обо всем фрекен, пока они тебя совсем не убили, — говорю я, объятая ужасом. — А не то я сама скажу.
Глаза Ханны темнеют от испуга.
— Не говори, — начинает она всхлипывать. — Не говори, а если скажешь, я больше не пойду в школу.
— Нет, нет, — обещаю я, — но тогда не позволяй больше старику щипаться.
— Он тоже дает мне деньги. Все старики добрые, вот увидишь, — она снова опускает сорочку и надевает кофту, не застегивая ее.
— Не так больно, когда не застегнуто, — говорит она тоном бывалого человека.
Ханна тащит меня в угол сада, в настоящие заросли одичавших слив. Она заползает в кустарник и появляется снова с горстью монет по пять и десять эре.
— Я боюсь показать их матери. Понимаешь, старики не то, что старухи, они не сплетничают, когда дают деньги. Но я потому-то и боюсь показать монетки матери, что получила их от стариков. Старухи — те дадут что-нибудь и тут же всем разболтают. На, возьми их!
— Нет, нет! — Я испугалась этой кучи денег и отпрянула. — Нет, нет!
Такие сокровища я не смогла бы хранить. Мать стала бы расспрашивать, откуда они взялись. В худенькой руке Ханны монеты казались такими опасными! Руки ее гораздо меньше моих, но уже костлявые и грубые, потому что она помогала Мине ломать прутья для веников.
— Выбрось их, Ханна! Выбрось! — умоляла я. — Тебе попадет за них!
— Ну возьми хоть одну монетку, — прошептала она. — Одну-единственную. Я ведь взяла у тебя платье.
Я беру одну монету. Остальные Ханна опять прячет в кусты и сверху кладет камень. Мрачный, покрытый медной зеленью клад. Пахнущие табаком эре дряхлых стариков.
Жалобно вскрикивая от боли, она застегивает кофту.
— Я твой друг, — шепчу я. — Ханна, я твой друг. Бабушкина сестра пошла к своему дружку, а они избили ее так, что она утопилась. Расскажи все фрекен, Ханна.
— Ханна, Ханна! — послышалось вдруг.
— Да-а-а! — отвечает Ханна и шепчет: — Утром я приду в школу. Купи себе что-нибудь на эту монетку, — и она убежала.
Было уже поздно. Крепко зажав в руке пять эре, я перелезла через забор и вышла на дорогу. Идти прощаться в богадельню не хотелось.
Монетку я спрятала под камень у дороги. Может быть, она и теперь еще лежит там. Может быть, и клад Ханны тоже лежит в кустах и покрывается медной зеленью…
5
Даже терпеливый и сильный человек устает, копая канавы, особенно когда в июльский зной земля делается твердой как камень, а торф в канаве — жестким как еловый корень. Голубые блузы на спинах выгорают от солнца, и кажется, будто держишь в руках не лопату, а пучок только что сорванной жгучей крапивы. Не успеешь глотнуть квасу, как горло опять высохло, капли пота стекают в глаза, жгут и слепят.
А где-то рядом журчит родник. Многие крестьяне и землекопы испили из него смерть. Порой смерть проникала в людей по венам натруженных ног — день за днем мокнут в ледяной воде башмаки, пока солнце печет голову и спину.
Каждый день над равниной собираются грозовые тучи и, не пролившись дождем, уходят, грозя пожаром и гибелью, наполняя в душные ночи кошмарами сон батраков. Яркие молнии не дают людям спать, и ночь не приносит желанного отдыха. А наутро опять работа, утомительная и невыносимая.
Да, самые терпеливые могут потерять терпение, а моему отчиму нечего было терять.
В один из первых июльских дней он ушел с палимого солнцем поля, на котором велись дренажные работы. Трубы уже лежали в канавах, но сами канавы еще не были засыпаны землей.
— С меня хватит, пусть дьявол там работает, я не негр.
— Что же теперь будет?
— Что-нибудь да будет.
— Мне-то все равно, мне от твоей работы мало проку.
Говоря это, мать хочет казаться равнодушной, но я вижу, как она встревожена.
Никакого ответа. Дверь с грохотом захлопывается.
А мне не все равно.
6
В Хольмстаде я начала писать стихи. Ни мать, ни бабушка, ни соседи не верили, что я сочиняю их сама. По-своему, они были правы. Стихи были очень религиозные, и говорилось в них о том, как мне будет хорошо жить, если я стану послушной, правдивой и буду каждый вечер читать молитву, а еще о том, что птички спускаются и поют для маленьких послушных детей. Сплошные перепевы бабушкиного псалтыря.
Из ящика для сигар я смастерила гитару (страстную мечту о гитаре я пронесла через все детство) и, подбирая к стихам мелодию, пела всем, кто соглашался слушать. Конечно, струны из суровой нити не звенели, да к тому же я слишком сильно дергала их, чтобы они могли хоть как-нибудь звучать.
Однажды я пришла в страшное волнение, услышав, что мой ящик издает какие-то странные звуки: между нитей с жужжанием ползали мухи. Я пыталась потом воспроизвести поразившие меня звуки, легонько подергивая нити «гитары», но безуспешно.
В этот период моей жизни я была глубоко убеждена, что все цветы распускаются для меня. Все птицы поют для меня. Все самое прекрасное и удивительное из того, что есть в мире: луна и звезды, цветы и деревья, — существует только для меня. Даже все, что выставлено в витринах игрушечного магазина и булочной, — тоже мое, хотя мне так редко случалось купить что-нибудь из всего этого великолепия. Но ведь луну и солнце тоже нельзя купить! Нет, не могло быть сомнения в том, что все создано для меня. Да и звезды светят только для того, чтобы я видела тропинку, по которой иду.
Мне редко приходилось встречать товарищей, которые думали бы так же. Цветы они торопились собрать в букеты и отнести домой; в птиц швыряли камнями; все сколько-нибудь интересное и красивое, что попадалось на улице, они портили, прятали или тащили домой — к взрослым. Когда я играла в птицу и махала руками, как крыльями, меня поднимали на смех. Никто не хотел играть в птиц. Придя из школы, дети тут же начинали играть в дочки-матери. Эта игра им никогда не надоедала. И куда бы я ни переезжала, на север или на юг, в деревню или в город, всюду играли в дочки-матери. Мне же эта игра не доставляла никакого удовольствия: она была лишена фантазии, однообразна, глупа и скучна. Я готова была отдать все что угодно, лишь бы не стоять и не смотреть, как в нее играют.
Они всегда хотели, чтобы я изображала ребенка, а это было так неинтересно! Бог знает каких родителей имели участники игры, но, выступая в роли ребенка, я получала одни подзатыльники. Иногда добывались какие-нибудь сладости и устраивался «обед». В таких случаях я должна была сидеть в сторонке и ждать, пока «откушают взрослые».
— Ребенок должен научиться ждать, — частенько говорила мне моя игрушечная мама, — а когда кушаешь, надо стоять, — быстрей вырастешь.
И мне приходилось стоять и притворяться, что я ем камешки и песочные лепешки, а отец и мать валялись на земле, изображая послеобеденный отдых.
Часто мне приходилось заползать под юбку какой-нибудь большой девочки и потом по команде выбираться оттуда: так рождался ребенок. «Отец» нередко с полным знанием дела изображал пьяного, превосходно подражая тем пьяницам, которых мне не раз приходилось видеть, и так мастерски и достоверно воспроизводил самую изощренную брань, что теперь, воскрешая в памяти те времена, я понимаю, сколько талантливых артистов было в народной среде.
Мы играли во все, что видели вокруг себя. В пьяных мужчин и пьяных женщин, в семейные скандалы, в пастора, который надел полное облачение и говорит о судном дне, в гитаристов из Армии Спасения. Изображая богатых, мы напяливали на себя длинные юбки, которые волочились по земле, и старались как можно выше задирать нос; мальчишки запихивали в брюки охапки травы — получался большущий живот.
И все-таки, на мой взгляд, самым глупым из всего этого было залезать под юбку и изображать новорожденного. Я уже достаточно хорошо знала тогда, что ни один ребенок не появляется на свет таким образом. Я не могла бы сказать определенно, как это происходит, но, уж конечно, не так смешно. Мои товарищи были осведомлены на этот счет гораздо лучше, и, признавая их превосходство, я вынуждена была снова и снова «рождаться» таким нелепым способом, лишь бы меня не подняли на смех.
Стихи, которые я писала в возрасте восьми лет, не заслуживали, как уже было сказано, никакого внимания. Слишком уж они напоминали бабушкины молитвы и проповеди в воскресной школе. Молитвы были ужасно длинные. Иногда на их чтение уходило до трех часов. Чтение воскресных молитв устраивалось только в том случае, если у нас гостила бабушка, и тогда именно мне доставалась самая длинная и непонятная молитва.
Как ни плохо я относилась к отчиму, я искренне была ему благодарна, когда он нетерпеливо прерывал меня в самых скучных местах и объявлял, что с него хватит. Сначала, правда, он вел себя вполне благопристойно, сидел на диване возле бабушки и, сложив руки, выслушивал несколько страниц. А мать, вечно измученная и усталая, почти всегда сразу же засыпала.
Она была не слишком религиозной, но, как и бабушка, с большим уважением относилась к «слову божьему».
Ведь так много страниц написано в библии специально для утешения пролетарской женщины. Там можно найти поддержку почти во всем. Бог не любит пьянства и хвастовства, грубых мужчин и богачей, которые высасывают из человека последние соки. Правда, не раз я слышала, как мать с бабушкой говорили: «Ну что же это такое? Если и правда есть кто-то, кто может что-нибудь сделать, пусть покажет свою силу, а не только болтает попусту. Кому нужны разговоры о золоте, зеленых лесах и пророчества о наказаниях, которые все равно никогда не сбываются?» Тем не менее бабушка считала, что в воскресенье обязательно надо прослушать проповедь, к этому ее приучили еще в детстве. Мать тоже была твердо уверена, что девочке очень полезно «посидеть спокойно, с благоговением слушая слово божье, вместо того чтобы бегать по улице со всякими сорванцами». Но, очевидно, уроки, полученные в детстве, действуют не всегда одинаково, — во всяком случае в своей дальнейшей жизни я ни разу не прослушала добровольно ни одной проповеди.
Часто отчим уставал уже после первых страниц, а иногда, если накануне, в субботний вечер, он побывал в трактире «Ион-пей-до-дна», то просил и вовсе избавить его от «этого проклятого безделья». «Оставите вы меня наконец в покое?» — кричал он, укладываясь на диван. Бабушке приходилось пересаживаться на жесткий деревянный стул. Их воскресенье было испорчено. Бабушка ворчала, отчим не выдерживал больше часа — он все-таки побаивался бабушку, хоть она была совсем старая, — и в конце концов отправлялся к какому-нибудь собутыльнику. Но мое воскресенье было спасено, и я тотчас убегала играть на улицу.
Прихватив с собой кусок хлеба, я отправлялась подальше, чтобы они не могли дозваться меня к обеду.
Дружба моя с любимой учительницей и маленькой Ханной длилась недолго. Солнце палило слишком сильно, отчим потерял терпение, и нам с матерью предстояло опять готовиться к переезду.
Никогда я так не плакала, переезжая на новое место, как в этот раз.
Частые переезды были мучительны. Только-только подружишься с ребятами, построишь где-нибудь в углу двора свой игрушечный домик, который, конечно, даже отдаленно не напоминает те миниатюрные виллы с мебелью и всем что полагается, какие специально сооружают в парке барской усадьбы или около летних дач на радость богатым детям. Положенная на два камня доска, нередко украденная где-нибудь с большим трудом, несколько консервных банок и стекляшек — вот весь игрушечный домик. В нем нет ничего необычного, но нам он очень дорог. Разве миниатюрные виллы — предел мечтаний в мире, который называется фантазией ребенка? Сияющий игрушечный дворец фантазии не построишь человеческими руками.
Но едва только успеешь украсть свою доску и собрать «домашнюю утварь», как надо опять отправляться в путь.
На этот раз мне было особенно грустно. Уехать с хутора у Старой дороги было ничуть не жаль — там вечно торчали «состоятельные», да и на бумажной фабрике я никогда не чувствовала себя в своей тарелке из-за истории с чулочной спицей и других неприятностей. Но здесь ведь у меня была и Ханна, и учительница, и много других ребят, которые мне очень нравились. К тому же я успела завоевать среди них популярность, читала стихи «Весна наступила, цветы расцветают…» Меня хвалили, у меня появились свои слушатели…
Бедняжка Ханна, она не могла читать даже по книжке! Старуха из богадельни, которая помогала ей готовить уроки, так к ней приставала, что Ханна заучивала их наизусть, не зная как следует букв. Иногда ей приходилось оставаться после уроков и зубрить: а, б, в, г, писать букву за буквой. Так я никогда и не узнала, научилась ли она читать как следует.
7
Последнее время мать начала заметно сдавать, похудела и плохо себя чувствовала. Оставаясь дома, она часами болтала с соседкой, у которой было четверо детей. Двое из них были идиотами. Их собирались скоро куда-то забрать. «Вот уж тогда я смогу наконец пожить по-человечески», — вздыхала соседка. Но никто не приходил и не забирал их, по крайней мере все то время, что мы жили в Хольмстаде. Одному из них было пять лет, а другому — восемь. Несчастные дети не умели говорить, не могли как следует ходить — ноги у них разъезжались, как у новорожденных телят. А когда они бегали, головы их начинали раскачиваться из стороны в сторону. Сначала, как только мы приехали в Хольмстад, идиоты меня очень занимали, но потом меня целиком поглотила школа и мне стало не до них.
Бывало, только мы начнем играть, а они уж тут как тут. Хотя выходить на улицу им было запрещено, они ухитрялись незаметно удирать из дому. Я ни разу не видела, чтобы их мать гуляла с ними, зато часто наблюдала, как она тащит их домой, ругает и бьет. А ребятишки как-то странно кричали, уставившись тупыми глазами в небо, словно ожидая оттуда помощи. Казалось, они кричат не от боли, а от чего-то другого. Потом так же внезапно они замолкали. Мать бранилась и тащила их домой, а дети всячески пытались вырваться, — они ведь ничего не понимали. Все ребята думали, что она сама слабоумная, и пускали ей вслед всякие ругательства. Но не было случая, чтобы она увела своих детей вовремя, они все равно успевали разрушить наш игрушечный дом, сломать все собранные нами вещи. Я старалась держаться подальше от идиотов. Теперь они вызывали у меня не интерес, а скорее отвращение. Стоило мне увидеть этих ребятишек, как я тотчас гнала их домой, а мамаша их хвалила меня за это. От ее похвалы мне каждый раз становилось не по себе, и я старалась побыстрее улизнуть, чтобы не выслушивать благодарности. Я уверена, что, обращайся она получше со своими слабоумными детьми, мы наверняка последовали бы ее примеру.
На следующий же день после нашего переезда мать сказала, что соседка просто-напросто неряха. Первое время она совсем не заходила к соседке и почти не слушала ее, когда та как-то пришла и стала выкладывать все свои горести.
Но это только сначала. Уже через несколько месяцев мать, если только у нее не было поденной работы, часами болтала с «неряхой». Говорили они только о родах. Соседка родила девятерых и подолгу лежала в родильных домах. Новорожденных всякий раз клали в «паровой шкаф», как она говорила. Но спасти удалось только четверых.
— Посмотрим, может хоть младшие будут нормальные, — говорила она. Оба идиота были старшими.
Мне все это казалось очень странным. Я была твердо уверена, что она все придумывает нарочно для матери. А мать-то, глупая, развесила уши и слушает. У меня была учительница, Ханна, любимые стихи. И как только приходила соседка, я старалась убежать из дома.
Соседка была крупная, толстая, как пивовар, женщина с выпученными глазами. От нее всегда скверно пахло. Как могла мать сидеть рядом с ней? Но мать всегда очень серьезно и внимательно ее выслушивала и вздыхала — значит, соседке и вправду было очень плохо.
Но когда у нас гостила бабушка, соседка не осмеливалась приходить, видно боялась ее. Бабушка так и не узнала, что соседка приходит к нам.
— В другой раз обязательно пойду рожать в родильный дом, — сказала как-то мать соседке.
— Да ты только подумай, Гедвиг, как там хорошо. А останешься дома — тут тебе и стирка, и стряпня, и все остальное. Хотя, конечно, кто-нибудь должен присматривать за домом.
Ну, не глупо ли? Я старалась не обращать внимания на их разговоры. Мужа соседки я никогда не видела. «Он пошел в порт, — отвечала мать всякий раз, как я про него спрашивала.
Однажды вечером, уже после знакомства с соседкой, мать не вернулась из города. Есть было совсем нечего, мать обещала купить чего-нибудь. Я ждала, ждала ее, потом пошла на улицу, немного поиграла, но ребята один за другим разошлись, и я опять осталась одна. Время близилось к десяти, и я снова поплелась домой. Ключа в замке не было, он лежал под половиком — там же, где я его оставила. Мать не пришла. Я была очень встревожена и голодна. С большой перемены в школе у меня крошки во рту не было, да и в перемену я съела совсем немного.
Я постучала к соседке: у меня еще оставалась слабая надежда, что мать, может быть, зашла к ней. Обыкновенно мать покупала продукты и для соседки, та ведь не могла оставить малышей на попечение идиотов и уйти, ведь самому младшему исполнилось только полгода.
— Боже мой, да она ко мне и не заходила.
Тогда я снова пошла домой и уселась на свой желудевый диван. Я слышала, как наверху громко разговаривали, потом там что-то загремело — должно быть, раскладывали кровати. В комнату доносились голоса из соседних домов, там тоже были открыты окна. У всех были семьи, друзья, все болтали друг с другом, ужинали, собирались ложиться спать. Только я сидела в одиночестве.
Я пошире распахнула окно и выглянула на улицу.
На зеленых качелях у дороги сидели мужчина и женщина. Мужчина обнимал женщину. Они целовались. Должно быть, окно скрипнуло, потому что мужчина оглянулся. Но женщина еще крепче обняла его и продолжала целовать.
— Дженни, ребенок смотрит, — сказал он и отстранил от себя женщину.
— Подумаешь! — фыркнула падкая до поцелуев Дженни, оглянулась на меня и крикнула: — Ступай-ка спать, нечего подглядывать за людьми!
— Замолчи, карга! Я вовсе и не смотрю на тебя, — огрызнулась я и с треском захлопнула окно. Было слышно, как захохотал мужчина.
— Какие-то цыганята живут здесь, — сказала женщина; потом стало тихо.
Когда я еще раз открыла окно, они уже исчезли. Зеленые качели были пусты. Хозяйка, что жила по соседству с нами, оберегала эти качели, точно какое-то сокровище. Мы много раз пытались перехитрить ее, придумывали сотни способов, выжидали, пока она уйдет в лавку или приляжет после обеда, и забирались на качели, но она всегда поручала кому-нибудь следить за ними, и нас прогоняли. Любимым занятием мальчишек было дразнить хозяйку: они раскачивали качели, чтобы она подумала, будто кто-то только что спрыгнул с них.
Может, мать попала под фургон или пролетку? А что, если она упала в реку или ее убил бродяга? Кругом все улеглись спать, и стало совсем тихо. Я упрямо смотрела на дорогу, все еще надеялась, что вот-вот появится мать.
Недалеко от городской заставы росло несколько старых ив. Мне казалось, что мать придет именно оттуда. Но ничего, кроме деревьев, качавшихся на ветру, не было видно.
Сгущались сумерки. Ивы казались мне высокими всадниками, скачущими под темным небом. Вот они все ближе, ближе…
Я задремала на подоконнике, как вдруг в дверь постучали.
Вошла соседка. На плечах у нее была шаль, на голове — маленькая остроконечная, похожая на охотничью, шляпка. Выглядела она в ней очень глупо. Круглое лицо под шляпкой блестело, как фарфоровое блюдце.
— Я знаю, где работает Гедвиг. Если хочешь, пойдем посмотрим, не случилось ли чего. Она чистит складской подвал на пивоваренном заводе Бергмана и всегда работает одна.
Конечно, я согласилась.
— Ты ела что-нибудь?
Мгновение я боролась с собой.
— Нет.
Тогда она вышла и вернулась с куском хлеба и огрызком колбасы.
— Это немного, но надо же хоть червячка заморить.
Вдвоем мы двинулись в путь к высоким ивам, и я с наслаждением жевала хлеб с колбасой. Ивы мрачно шелестели, под иими было темно, и, когда мы проходили мимо, я придвинулась поближе к толстой, большой женщине. Вечером она выглядела довольно странно — огромная в своей шали и охотничьей шляпке. Мы шли к матери… В эту минуту соседка не казалась мне противной. Хоть мать не могла сравниться с учительницей, все-таки она мне очень нужна, и потом должна же она приносить хоть немного еды. А если ее все-таки задавило и она больше никогда не вернется домой? Что со мной будет?
— Твой отец никогда не бывает дома, — сказала соседка и взяла меня за руку, когда я тихонько прижалась к ней: мы как раз проходили мимо ив.
— Он все время торчит в трактире «Ион-пей-до-дна», — равнодушно ответила я.
— Неплохо было бы и нам зайти туда посидеть, — сказала соседка. — Женщины тоже могут ходить в трактиры.
Ну вот, как всегда, болтает глупости!
Мало кто из взрослых мог бы сравниться с моей новой учительницей. А тут еще я не в силах преодолеть неприязни к этой толстой женщине, которую терпеть не могли все жители нашего маленького поселка.
Вид у нее был действительно странный, а ее манеры невольно наводили на мысль, что она не совсем в своем уме. «Не диво, что она рожает идиотов», — говорили люди.
И хотя соседка ночью пошла со мной разыскивать мать и дала поесть, когда живот у меня сводило от голода, мое отношение к ней не изменилось. Все это я приняла лишь как случайную помощь в беде. Если бы она хоть не надевала этой шляпки! И совсем уж никак не могла я простить ей этих идиотов, которых никто не забирал.
Доктор сказал, что их возьмут сразу же, как только освободится место.
— Мне нельзя выходить замуж, — сказала однажды соседка матери. — Я чересчур рослая и толстая и поэтому никогда не донашиваю ребенка.
Она всегда говорила так, что никто ее не понимал. Одна мать прикидывалась, будто понимает. Она соглашалась с соседкой, что ей и вправду нельзя выходить замуж. Даже мать заметно глупела. Я шла и думала только о том, чтобы она не рассердилась на меня за то, что я пошла ее разыскивать.
Ворота большого пивоваренного завода Бергмана были открыты. Ночной сторож не остановил нас, и мы вошли.
— Гедвиг еще работает, она чистит подвал сдельно, наверное хочет надорваться, — сказал он.
Сгорбленный, с длиннющей бородой и фонарем в руке, старик был похож на сказочного карлика. Я даже не поверила, что он настоящий, и только хотела пощупать его, как подошла мать.
Мать была розовая, оживленная, она даже немного принарядилась. Румянец и всегда ее красил, а теперь она улыбалась, что бывало с ней совсем не часто. Сверкали белые зубы, сияли глаза, — я давно уже не видела ее такой.
— Очень мило, что ты привела сюда девочку. Я так беспокоилась за нее. Дома совсем нечего есть. Но мне очень хотелось сегодня вечером все кончить, да и оставалось совсем немного.
Вот чудеса! А я-то всю дорогу боялась, что мать рассердится за то, что я пришла к ней. Раньше она всегда сердилась. А теперь вдруг сама при всех сказала, что у нас нечего есть. Ну зачем, например, знать об этом ночному сторожу? И все-таки она сказала. Нет, это просто не моя мать, что жила когда-то в комнате у Старой дороги. Тогда можно было не бояться, что стоит ей открыть рот, как речь пойдет о всяких несчастьях. Теперь она больше не сторонится людей и ничего не желает скрывать от них. Все это ужасно неприятно.
— Как хорошо ты выглядишь, Гедвиг, не то, что я. А ведь не такая уж большая у нас разница в возрасте, — сказала соседка.
Ночной сторож поднял свой фонарь, хотя над воротами ярко горела электрическая лампа, и, чтобы получше рассмотреть мать, попытался даже выпрямить сгорбленную спину. Я подошла и взяла мать за руку.
— Да она точно такая, какой и должна быть женщина, — сказал сторож. — Ну, вам пора уходить, я запираю норота.
Домой мы возвращаемся втроем. Я крепко держусь за руку матери.
— Все уже закрыто, негде выпить даже кофе. А то бы я вас угостила, потому что неплохо заработала на заводе. Сдельная работа выгоднее всего, — возбужденно говорит мать.
— Да, подумай, я такая большая и сильная и должна сидеть дома с этими негодниками. А их все не забирают, — вздыхает соседка.
— Почему старик такой сгорбленный? Он настоящий? — спросила я вдруг у матери. Сторож не выходил у меня из головы.
— Настоящий? Ну еще бы! Это чудесный старик. У него наверняка кое-что припрятано на дне сундука. Тридцать лет простоял он у доменных печей в Лоторпе и получил за это медаль. Все доменщики такие скрюченные от долгой работы у печей, — рассказывает мать больше для соседки, чем для меня.
— Хм, да-а-а, — равнодушно подтверждает соседка.
Некоторое время мы идем молча.
— Неужели все закрыто? Я так хочу есть, — признается мать.
— Только пивные открыты, — говорит соседка.
— Да? А можно там купить бутербродов? С нами ведь девочка, так что никто худого не скажет… Если бы мы были лучше одеты, можно бы пойти в Стремхольмен, — продолжает она. (Так назывался роскошный ресторан на островке посреди реки Муталы; там всегда играл большой оркестр, а люди сидели и пили пунш.)
— Упаси бог, я там никогда не бывала, — сказала соседка.
Но я-то ходила туда однажды с матерью и отчимом, еще до того, как они поженились, и теперь просто дрожала от страха, что мать все-таки потащит туда соседку. На кого она похожа! В этой шляпке! А там так светло! Так много красиво одетых людей! И какие люди! А прислуживают такие красивые господа! В тот раз нас обслуживал очень милый господин. Он предложил нам фруктовый сок, пирожные, а мне подарил апельсин.
— За твои красивые глаза, — сказал он мне, совсем как взрослой.
— Не очень-то он умен, — заметил отчим и быстро расплатился. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Уж слишком любезен был со мной и с матерью официант.
— Нет, в Стремхольмен мы не сможем пойти, — говорит мать, украдкой поглядывая на шляпку соседки. Сама она без шляпы, косынка соскользнула с головы, и от этого она стала еще красивее.
На церкви святого Эммануила часы пробили половину двенадцатого, и соседка сказала, что надо торопиться, иначе и пивные закроются.
Наконец мы добрались до кафе у самого въезда в Салтенген.
— Сейчас здесь свободно, но в двенадцать придет смена, так что лучше садитесь в кухне, — сказала нам хозяйка.
— Мы задержались на работе и очень голодны. Можете вы нам дать что-нибудь поесть? — спросила мать.
— Конечно, у нас ведь приготовлено к приходу смены.
И началось настоящее праздничное пиршество: жареный картофель, мясо с луком, хлеб с маслом, сыр, квас, чернослив и молоко!
Толстуха соседка ела с такой жадностью, что чуть было не подавилась. Без передышки опустошала она тарелку за тарелкой.
— Надо воспользоваться случаем, — шепнула она матери, — все равно стоить будет столько же.
Мать не ответила. Она и ела немного. Теперь она побледнела и выглядела усталой. Муж хозяйки, который нам прислуживал, очевидно привык видеть голодных людей и спросил, не хотим ли мы еще чего-нибудь.
— Только попросите, — сказал он. — У нас люди могут есть сколько хотят. Портовые рабочие считают, что это правильно. И они никогда не съедят лишнего, — тут он посмотрел в сторону соседки. — Мы не распределяем еду порциями, слишком уж это казенно. Каждый сам накладывает себе. Будете пить кофе?
Соседка взяла кофе, а мы с матерью отказались.
Часы пробили двенадцать. С улицы послышались голоса, смех. Это пришли грузчики — в порту кончилась смена.
— Может быть, и твой муж с ними? — спросила мать у соседки.
— Нет, нет. Он теперь не на постоянной работе. А эти грузчики — постоянные. Они все организованы, — ну, в общем социалисты. Мой муж говорит, что хозяева не любят, когда рабочие организованы.
Мать взглянула на нее чуть насмешливо, но промолчала.
— Мы бы хотели расплатиться, — обратилась она к запыхавшемуся, вспотевшему хозяину, когда он вбежал в кухню, чтобы наполнить огромную миску.
— Сейчас! Сейчас!
— Давайте удерем, — сказала соседка. — Ты ведь предлагала заплатить? Сами виноваты, что не брали, им и сказать будет нечего.
Я готова была с ней согласиться.
Мать сделала вид, что не слышит. Соседка поднялась; она съела слишком много и то и дело икала.
Мать открыла свой кошелек, в нем лежало четыре десятки.
— Боже мой! — воскликнула соседка. — Как много ты заработала! Теперь вы сможете жить припеваючи целый месяц.
— Есть дырки, которые надо заткнуть, — сказала мать.
Подошел хозяин:
— С вас две кроны.
Соседка многозначительно покачала головой. По ее мнению, это было слишком дорого.
— Пожалуйста, — мать вытащила одну десятку, — семь крон и пятьдесят эре сдачи.
Соседка изумленно вытаращила глаза.
— Благодарю вас, вы очень, очень добры, — и хозяин кинулся разменивать деньги.
— Ты что, полоумная? Этого хватило бы на целую неделю на мясо, — не выдержала соседка.
В этот момент вернулся хозяин с деньгами:
— Не забывайте нас, и еще раз большое спасибо.
— Не стоит, вы нас превосходно накормили.
— Сюда, пожалуйста, — сказал хозяин и, открыв дверь, выпустил нас на темный двор.
— Я провожу вас и открою ворота. Нам не разрешают обслуживать случайных посетителей, но ведь вы ели на кухне, так что это не в счет. Где вы живете?
— Недалеко от Хольмстада.
— Будьте добры, захватите несколько афиш и расклейте их там, — он бежит в чулан и приносит какие-то листки.
— О чем это? — спрашивает мать.
— Ката Дальстрем и Фабиан Монссон выступят в воскресенье с речами в Оксваллене.
— Хорошо, я расклею, — и мать взяла афиши.
— Вот видишь, они не имели права нас кормить. Могла бы совсем не платить, — не унималась соседка.
— Никто не получает еду бесплатно, разве что украдет, а я не ворую. Конечно, чтобы не умереть с голоду, можно просить милостыню, но сегодня у меня есть деньги. Зачем мне просить, — отрезала мать.
Я поняла, что она начинает злиться на соседку, и изо всех сил сжала ей руку. Молодчина!
— Ката Дальстрем сидела в тюрьме, — сказала соседка, — это опасный человек.
— Вовсе она не опасная. Она друг бедняков, за это и сидела в тюрьме.
— А что она им может дать? Есть у нее деньги?
— Не думаю, друзья бедняков сами ничего не имеют. Но она считает, что люди не станут лучше, если получат деньги, она хочет чего-то другого.
— Ты знаешь ее, мама? — прошептала я едва слышно.
— Я слышала ее однажды, она хорошо говорит.
— Человек не может стать настоящим человеком без денег, — упрямо сказала соседка.
Мы шли по мосту через Салтенгу. Хорошо пахло водой, и было очень тихо. Если бы не соседка, я бы подробно расспросила мать, что это за Ката Дальстрем. Но соседка без умолку болтала всякие глупости и не переставала спорить. Мы с матерью чудесно прогулялись бы по дороге домой, обсудили бы, что нужно теперь купить, раз мать наконец заработала немного денег. Но рядом шла соседка, беспрерывно вздыхала и повторяла, что человек ничего не может сделать, если он не богат.
— Здесь недалеко, в Салтенгене, живет гадалка. Зайдем к ней. У нее можно погадать и ночью. Днем она работает в прачечной, потому что муж у нее болен, — соседка изо всех сил старалась уговорить нас.
Салтенген — это городская окраина, которая пользовалась недоброй славой; склады да несколько жалких лачуг — и ничего больше. Мать остановилась в нерешительности.
— Я знаю, каждому, кто побывал у нее, она предсказала правду.
— Да, интересно попробовать. Сколько она берет? — спрашивает мать.
— Крону с человека, но я ведь могу и просто послушать. У тебя, правда, есть деньги, но на меня не стоит тратиться.
— Ну, раз уж мы вместе, я заплачу.
Этому случаю суждено было стать одним из самых отвратительных воспоминаний моего детства.
Соседка свернула с улицы и повела нас узким проходом, мимо огромных железных складов. Где-то вдалеке горел фонарь.
— Черт знает что! — вдруг сказала мать и остановилась. — Тут ведь ночуют всякие бродяги со своими девками. Еще ограбят, здесь и такое случалось.
— Нет, я хорошо знаю дорогу. Они не посмеют прийти сюда, раз в проходе горит фонарь.
Мы молча последовали за ней. Я шла последней, держась за мамину шаль.
Все это было очень интересно. Вот уж будет что порассказать Ханне!
Мы прошли мимо маленького дома. Было слышно, как внутри кричат и ругаются. Мать дернула за рукав соседку, которая остановилась было послушать.
Вскоре мы подошли к большому дощатому складу. С залива Бровикен донесся запах воды, где-то прогудел пароход. Навстречу нам шли две женщины. Они громко и визгливо разговаривали.
— Вы к гадалке? — не поздоровавшись, спросили они.
— Да. Ее нет дома?
— Дома, но… да сами увидите, когда придете.
И ушли, не попрощавшись, словно чем-то сильно взволнованные.
— По-моему, они пьяные, — сказала мать.
Мы стояли перед лачугой, походившей в темноте на дровяной сарай. В освещенное окно было видно, что внутри лачуги есть люди. Соседка постучала в дверь.
— Войдите!
Мы вошли. Высокая худая светловолосая женщина неопределенного возраста отдирала газету, прилипшую к еще не испеченным лепешкам. Вся постель была завалена сырыми лепешками, завернутыми в «Норчёпингс тиднингар».
В лепешки прочно въелась типографская краска, кое-где к ним прилипли клочки бумаги. Судебные отчеты, объявления о свадьбах и аукционах — все это четко отпечаталось на тесте. С хлебом можно было проглотить любую сенсацию.
Но наше внимание привлекла не эта женщина с ее злосчастными лепешками, а желтый, изможденный мужчина, сидевший в одной рубашке на деревянном ведре. В комнате стояла страшная вонь. Мужчина даже не взглянул на нас, когда мы вошли, и продолжал тихонько стонать. С лица его струйками стекал пот. Мать зажала нос и кинулась к дверям.
— Фру не должна бы впускать нас, пока мужчина не ляжет в постель, — сказала она возмущенно.
— Закройте-ка дверь, милые, не умрете же вы оттого, что посмотрите на больного человека. Он так сидит часами — у него рак, и тут уж ничего не поделаешь. А в больницу его не берут.
Она швырнула в печь лепешки с отпечатавшимися на них буквами и словами и шумно захлопнула дверцу. Мужчина по-прежнему безучастно сидел на ведре.
— Мы пойдем, — решительно сказала мать.
Но соседка, оказывается, хорошо знала гадалку, даже была с ней на «ты», и удержала мать.
— Оставим дверь открытой. На улице тепло, а когда человеку уже ничто не поможет, не умрет же он от воздуха, — сказала толстуха, и зеленая охотничья шляпа подпрыгнула на ее голове.
— Хотите погадать? Это стоит крону. Деньги вперед, а не то предсказание не сбудется. Здесь бывали благородные дамы и господа, и, скажу вам, никого из них не беспокоил запах. До того ли, когда человек может узнать свое будущее? Сам бургомистр приходил сюда. Ты ведь молодая, красивая и, уж конечно, хочешь нового жениха? — спросила гадалка у матери.
Я была просто ошарашена этим потоком слов и всей обстановкой комнаты — самой неопрятной, какую я когда-либо видела: лохмотья, грязная посуда, старый войлок между рамами. Тут же спала толстая собака, даже не залаявшая, когда пришли чужие. А сидящий на ведре мужчина с закрытыми глазами! Наклонившись вперед, он уперся головой в край кровати. Простыня была черная от грязи.
— Садитесь. Мне надо сперва испечь лепешки, — сказала гадалка и начала сгребать в кучу лепешки, грязные от бумаги и типографской краски. Потом она положила тесто на стол и отправилась за новой газетой, чтобы постелить ее на кровать.
— Я покупаю макулатуру, это так дешево. А бумаги уходит много, раз он все время сидит на ведре, — и она положила новую партию лепешек, полосатых от бумаги и черной краски.
— Подложите хоть тряпку под лепешки, а то опять получится то же самое, — сказала мать. — Или насыпьте под них побольше муки. Кто же это кладет кислое тесто на бумагу? Ведь в Салтенгене валяется столько деревяшек, могли бы давно сколотить хлебную доску. Не удивительно, что в доме рак, когда вы так живете. — Мать все больше сердилась. Но на гадалку ее слова не произвели впечатления.
— Мы наворовали уже так много дров, что если я возьму еще хоть щепку, мне не миновать Тредгордсгатана. (Там находилась тюрьма.) А муки у меня и так не хватает, вот и приходится класть лепешки на кровать, — и она вывалила тесто прямо на отвратительно грязный матрац. Затем, очистив угол стола, поставила возле него два стула. Мне пришлось стоять.
— Посмотри-ка вверх, мне надо видеть твои глаза, — сказала гадалка матери.
Мать нехотя подняла глаза. Мужчина на ведре не шевелился. С улицы доносились ночные шорохи, гудки пароходов.
Женщина пристально уставилась в глаза матери, потом выложила на стол несколько засаленных игральных карт.
— Ждет тебя большая утрата, зато быть тебе при деньгах. Какая-то женщина бегает за твоим мужем, но ты найдешь нового, красивого и богатого. Через месяц ты будешь уже совсем при другом интересе… Ах черт, подгорели! — Она выбрасывает из печки две лепешки и кладет на их место новые, которые только замесила, так что они еще не успели подняться, потом продолжает:
— Твоя родня ненавидит тебя, но ты все равно поставишь на своем. Ты любила мужчину, которого не получила, зато получишь того, кого любишь теперь.
Громко застонал мужчина. Стон перешел в крик.
— Господи, он умирает! — закричала мать.
— Да нет же, это скоро пройдет.
Но мать поднялась и, положив на стол крону, взяла меня за руку. Мы вышли на улицу. Соседка замешкалась, и нам пришлось подождать ее, потому что одни мы ни за что бы оттуда не выбрались. Опять закричал, а потом застонал мужчина, но обе женщины продолжали все так же спокойно разговаривать.
— Если б мы хоть знали дорогу, мы бы сразу же ушли, — сказала мать.
Мужчина застонал еще громче.
Мать распахнула дверь и снова вошла в дом.
— Помоги же своему мужу лечь в кровать! Или ты оставишь его умирать на ведре? Так он и до утра не доживет, — услышала я голос матери. — Приготовь постель! Я не хочу дотрагиваться до этих тряпок, но надо же его уложить.
Теперь мужчина стонал жалобно, как ребенок, словно не осмеливался громче.
Я услышала какую-то возню и заглянула внутрь. Женщина стелила постель; когда она начала перекладывать тряпки, от них поднялась ужасная вонь.
— Теперь подложи газеты, меняй их почаще и не позволяй ему так долго сидеть и мучиться, — мать была очень взволнована и, казалось, вот-вот готова расплакаться, — я чувствовала это по ее голосу.
— Я справлюсь сама, — вмешалась соседка и, подняв умирающего, положила его на кровать среди лохмотьев.
Это было ужасное зрелище. Жалкий, смертельно больной человек в руках бесчувственного существа — толстой, огромной женщины в дурацкой охотничьей шляпке.
— Немедленно идем отсюда, или мы сами будем искать дорогу, — сказала мать. — Я слышу голоса людей и, если ты не пойдешь, позову их сюда.
— Вот черт, лепешки опять подгорают! — закричала гадалка.
Соседка вышла вместе с матерью. Под шалью у нее была спрятана завернутая в газету лепешка. «Хлеба и газет!» — если можно так выразиться, но это не была пародия на великого Цезаря, ибо тот, «пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в щели».
— Заходите ко мне в другой раз! — крикнула гадалка. — Только не приходите до будущего года, раньше он не умрет. А тебе не следует быть такой чувствительной! Такая красивая, еще добьешься своего! — орала она вслед матери.
Мы не ответили и молча последовали за охотничьей шляпкой, четко вырисовывавшейся в наступающем рассвете на фоне железных складов.
Под Бергенским мостом, как обычно, журчала вода; по соседству, в сыром здании, стучали ткацкие машины, и усталая ночная смена с нетерпением ожидала утра. На мосту мать велела соседке выбросить в реку взятую у гадалки лепешку.
— Правда, рыба может подохнуть от нее, — язвительно сказала она. — Но тут уж ничем не поможешь.
— Хлеб сгодится для идиотов, которые ждут меня дома, — сказала соседка и подкрепила свои слова энергичным кивком, отчего ее охотничья шляпка совсем съехала набок.
После этого мать за всю дорогу словом с ней не обмолвилась.
Когда мы наконец дошли до дому, было совсем светло. Соседка поспешила уйти к себе, даже не попрощавшись и не поблагодарив мать за угощение. Как обычно, из ее комнаты доносился детский плач. Мать, усталая и расстроенная, принялась стелить постель.
— И зачем только мы пошли к этой гадкой бабе? Больше ни за что не пойдем к ней, — пыталась я ее подбодрить.
— Жизнь — тяжелая штука. Никогда бы не поверила, что такое бывает. Да еще тебя туда потащила. Самое подходящее зрелище для ребенка! Постарайся забыть об этом — быть может, мы пришли как раз в тот момент, когда у гадалки все было особенно скверно. Но лучше попытайся совсем не думать об этом кошмаре. А завтра вечером пойдем с тобой в рабочий союз смотреть смешную пьесу, она называется «Еппе на горе».
И хотя мы ходили туда и сидели на самых высоких местах, — а может быть, именно по этой причине, — поучительная комедия мне не запомнилась. Зато все, что я видела у гадалки, до сих пор стоит у меня перед глазами. Пьесу же с тех пор мне больше ни разу не приходилось смотреть.
Ханне я рассказала только о сгорбленном ночном стороже. О гадалке я рассказать постеснялась. Умолчала я и о спектакле, не желая огорчать Ханну. Она никогда не видела ни одной пьесы. Метельщица Мина не интересовалась театром, и, кроме того, каждый вечер к восьми часам они с Ханной обязаны были возвращаться в богадельню. Даже ко мне ей разрешили сходить только один раз — она должна была «приносить пользу».
Свое посещение театра я считала изменой Ханне. Но учительнице я все-таки охотно бы о нем рассказала.
Мать заплатила долги в лавках, частично рассчиталась за квартиру, купила кусок материи, который спрятала в ящик, а потом сшила из него детские рубашечки. На соседку она все еще дулась, и та теперь не заходила к нам так часто, как прежде.
Прошло две недели, а мать все сидела дома. Она шила и каждый вечер ждала отчима. Он не приходил. Деньги, которые она заработала на пивном заводе, скоро кончились. Пришлось ей снова искать работу.
Тем временем хозяин решил выселить соседку с двумя идиотами. Даже тогда мы не увидели ее мужа. Ханна рассказала мне на перемене, что соседка живет теперь у них в богадельне и что все старухи ругаются с ней из-за ее идиотов, которые разрушают и портят все, что им попадает под руку.
8
Однажды ночью меня разбудил громкий голос отчима.
На столе я увидела ковригу ситного хлеба, соленые огурцы, кусок студня и две бутылки пива.
Заметив, что я не сплю, отчим велел матери дать мне студня, кусок хлеба с маслом и немного пива. Было два часа ночи.
— Она небось в жизни не пробовала такого масла, — сказал он с пьяной щедростью.
Студень и ситный хлеб с маслом, и правда, не часто бывали у нас в доме, и я, сидя на своем желудевом диване, с аппетитом съела все, что мне дали, запив угощение глотком пива, от которого у меня сразу закружилась голова.
Сначала я не слышала их разговора. Я думала о том, как утром поделюсь с Ханной вкусным хлебом с маслом, студнем, огурцом и расскажу ей о том, как пила пиво. Раньше мне его никогда не давали, хотя, разумеется, как и все другие дети, дома у которых частенько пьянствовали, я украдкой пробовала и пиво и водку, но нисколько не пристрастилась к ним. Наоборот, я узнала, что на вкус они отвратительны.
Я прислушалась к словам матери:
— Мы снимем мансарду у Вальдемаров, они как раз отстроились, — и она рассказала о дочери крестьянина, которую когда-то знала, — та теперь замужем за Вальдемаром, и они очень неплохо живут. Он работает на сахарной фабрике.
— Можно переехать на той неделе, а с квартирной платой месяц подождать, — закончила она.
— Ладно, тогда я договорюсь с извозчиком, — ответил отчим.
Итак, значит решено. До тех пор, пока они не подыскали квартиру, я чувствовала себя в безопасности. Теперь же надеяться было не на что. Кусок застрял у меня в горле; хлеб и студень уже не казались вкусными; пиво было горькое и противное. Внезапно меня стошнило.
— Странный ребенок, — проворчал отчим. — Видно, еда ей не впрок.
— Она не привыкла к пиву, — сказала мать.
Я забралась под одеяло, натянула его на голову, чтобы только не слышать их. Я ненавидела их обоих. «Убегу… — размышляла я. — Можно будет жить у Ханны в богадельне или…» — Тут я дала волю своей фантазии, и вскоре мне приснилось, что все хорошо и я живу в школе вместе с учительницей.
Но вышло совсем иначе. Вскоре мы переехали в «паточный» домик.
Отчим получил в городе место возчика. Ему платили, как холостяку, но он был обеспечен едой и мог спать в конюшне.
Для меня настала пора унижений (тогда я этого еще не сознавала), пора неуверенности в завтрашнем дне; и хотя так не раз бывало и прежде, я никогда столь остро не чувствовала этого, ведь для меня всегда что-нибудь да находилось. Пришла пора вшей, грязных передников и прогулов. Началась настоящая цыганская жизнь.
Бабушка была далеко, «состоятельные» нас больше не жаловали; давным-давно я уже не слышала: «Как здесь божественно прекрасно». На новую квартиру мы с матерью перебирались пешком. Правда, и в дом у Старой дороги мы тоже не приехали, а пришли, но какое тут могло быть сравнение!
Рано утром отчим повез наши вещи, а мы с матерью немного задержались, чтобы прибрать старую квартиру. Матери несколько раз пришлось отдыхать, пока она вымыла пол в маленькой темной комнате. Она так растолстела за последнее время! Я подавала ей щетку и тряпку — ей трудно было подниматься с пола, она почти не могла работать.
В день переезда есть нам было нечего. На соседей рассчитывать не приходилось, их даже не было дома — они трудились, чтобы заработать на хлеб. Да и при всем желании они не сумели бы нам помочь, потому что был четверг. А разве жители предместья Норчёпинга в состоянии помочь кому-нибудь накануне получки? Кой у кого, конечно, даже в этот день было всего полным-полно, но с такими мы не вели знакомства. К тому же никто не подозревал, как бедна моя мать. Ведь она собиралась переехать к своей знакомой, дочери крестьянина.
На подоконнике лежал сверток. Я знала, что в нем. Две простыни. Мы пройдем через весь город, а простыни доберутся только до ломбарда, и пока они туда не попадут, никакой еды не будет.
От моих нарядов не осталось следа. Я шла босиком, в грязном переднике, с распустившейся косой.
Да и мать выглядела не лучше. Стоял жаркий август, а на ней была старая шерстяная шаль. Как я ненавидела эту шаль! «Процентщик Калле» — самый известный в городе ростовщик, принимавший вещи в залог, не хотел дать за нее и пятидесяти эре. Я знала, что мать пыталась ее заложить. Теперь эта коричневая тряпка висела на ее плечах. На затылке клочьями торчали растрепанные волосы. Мать шла сгорбившись, как старуха, уставясь прямо перед собой. Я беспрерывно скребла голову, потому что в моих длинных волосах завелись вши, которые прекрасно чувствовали себя под жаркими лучами солнца. Ноги мои потрескались от зноя и пыли.
Последнее время мать так утомлялась, что вечером забывала проверить, вымылась ли я. А я с удовольствием забиралась в постель с грязными ногами, что было бы немыслимо прошлым летом, в красивой комнате у Старой дороги.
Радости моей не было границ, когда мне удавалось избежать мытья ног и вообще не мыться. Но вшей я выносить не могла. Ведь прежде мать была к ним так непримирима! Работая на фабрике, вдали от меня, она несколько раз в неделю после работы проделывала длинный путь только для того, чтобы проверить, не завелись ли у меня насекомые. В сказку о вшах, которые утаскивают людей в озеро, я свято верила. Еще бы, ведь мать рассказывала ее так убедительно!
Я медленно бреду рядом с матерью.
Мы идем по Бергенскому мосту, чугунные цепи которого свободно висят между столбами. По обе стороны от нас шумит река Мутала, с ревом и грохотом вращает она тысячи колес, чтобы дать людям работу и на множестве фабрик привести в движение машины, по валам которых скользит ткань. Я беспечно смотрю вниз, на белую пену реки, энергично скребу в голове и уже не думаю о том, что со мной может приключиться какая-нибудь беда, что насекомые затянут меня вниз в воду. Времена сказок прошли.
Мать заложила две простыни за крону, послала меня в булочную купить ковригу, и вот мы снова идем через город, на ходу уплетая хлеб. За целый день мы едим первый раз. Я давно заметила, что, когда отчима нет дома, мать может вовсе позабыть о еде. Когда же он должен прийти, мать всегда ухитряется достать что-нибудь к обеду, в крайнем случае одалживает у соседей картошку. Ведь не раз случалось, что он уходил, если матери нечем было его накормить. По-моему, не стоило его удерживать. Но мать думала иначе.
Мы вышли к заставе, где я никогда прежде не бывала. По обе стороны дороги тянутся изгороди, а за ними сады и огороды, теплицы и цветники. Оттуда доносится сильный аромат цветов. Изгородь кончается; дальше идут густые ряды елей, и я горю нетерпением увидеть, что же за ними. Но сделать этого я не могу. На деревьях висят уже красные яблоки, а деревья такие огромные, что верхушки их высятся над живой изгородью, и соблазнительно попытаться сбить хотя бы несколько яблок. Мать идет все медленнее и медленнее; на ее бледных висках появились капли пота. Наконец она уселась у обочины дороги, прижала руку к груди и ее стошнило. Я стою в пыли и почесываюсь. Мне мучительно стыдно за мать. Это ведь так унизительно: моя мать сидит у обочины и ее тошнит… Лицо ее стало мертвенно бледным, уродливая шаль соскользнула с плеч, волосы еще больше растрепались, и кажется, она уже не встанет. Подумать только, а вдруг кто-нибудь нас увидит?!
Благоухают цветы, через живую изгородь на нас смотрят яблоки, а мать все сидит у обочины, страшная, как смерть.
— Постарайся проглотить, — сказала я. — Постарайся, и мы сможем пойти дальше.
Когда у меня болел живот, бабушка давала мне водку с перцем и всегда строго приговаривала: «Ну, будь умницей, постарайся проглотить и не вырвать, иначе это не принесет пользы».
— Скорей же, — не унималась я, — ведь кто-нибудь может подойти…
Я так пристала к матери, что она вышла из себя и сказала, что я ничего не понимаю.
— Ступай-ка лучше вперед!
Нет, идти вперед у меня нет никакой охоты: тогда придется стоять и дожидаться ее. А ждать кого-нибудь… что может быть противнее? Лучше уж отойти немного назад. Тогда людям и в голову не придет, что женщина, сидящая у обочины, знакома со мной. И потом, может быть, мне все-таки удастся сбить хотя бы неспелое яблоко.
Я отошла немного назад, но яблока сбить не смогла. Ниже всего они висели как раз над матерью. Прямо как назло. Я сердилась все больше и больше. Мать стала настоящей обузой. Люди будут смотреть на нее и потешаться, как на спектакле. Я двинулась обратно. Поднимая целые облака пыли, я прошла мимо матери, даже не взглянув на нее. Она все так же сидела у края канавы, закутавшись в свою противную шаль.
Навстречу ехал старик в телеге. На меня он не обратил внимания, но, уж конечно, заметит мать. Как досадно! Может быть, я успею бегом обогнать его и предупредить мать? Я помчалась так, что опередила старика, но тут увидела мать уже на ногах у поворота дороги. Наконец-то мы можем продолжать путь! Мать поздоровалась со стариком, и они обменялись несколькими словами. Она, наверно, была с ним знакома.
И снова мы идем с ней бок о бок, как два голодных зверя к своему логову. Все наше богатство — восемьдесят эре, с ними мы собираемся начать новую жизнь на новом месте.
Сады кончились. Дорога идет теперь мимо грязных строительных участков, принадлежащих Компании индивидуального строительства. Солнце немилосердно палит, тени нет и в помине, весь лес давно вырублен. Воздух пропитан пылью, а из канав отвратительно пахнет. Единственные цветы — репейник и бутень.
В стороне виднеется группа домов, и в одном из них нам предстоит жить. Дом этот стоит на крошечном, плоском как блин, участке, без единого деревца или кустика, и совсем еще не достроен. Немного позади, сверкая новыми светло-желтыми досками, стоит маленький сарай без крыши и без петель на дверях.
Я вспоминаю теперь, что приходилось тянуть дверь изо всех сил, чтобы войти в сарай. Но дверь для восьмилетнего ребенка была слишком тяжела, иногда она меня просто валила с ног. Все это не раз доставляло бесплатное развлечение людям, проезжавшим по большой дороге. Открывать дверь было мучительно трудно, и за все время, что мы там прожили, не появилось ни крыши, ни петель.
Крылечко заменяли доски, положенные на два чурбана. На досках стояла хозяйка, вышедшая нам навстречу. Я предпочла бы, чтобы на ее месте был Вальдемар, о котором рассказывала мать, — тот самый, что работает на сахарной фабрике.
— Вы не очень-то спешили сюда. Альберт с мебелью приехал еще рано утром. Красивый муж достался тебе, Гедвиг. А это твоя девочка? Ну конечно, конечно, это она. Моей теперь девять; ты ведь помнишь, нам с Вальдемаром пришлось пожениться. А вот это, пожалуй, лишнее, — она указывает на живот матери и понимающе усмехается. — Похоже на то, что это вот-вот произойдет, а акушерка здесь такая толстуха, ей ни за что не подняться на чердак по нашей лестнице.
Стало быть, это и есть дочь крестьянина. Я пристально, во все глаза смотрю на нее, но не вижу никаких признаков волшебства или богатства. Она болтает без умолку, не давая матери вставить ни слова, и все время возвращается к тому, что мой отчим очень красивый мужчина.
Волосы у нее рыжеватые, все лицо усыпано веснушками, нижняя губа раздвоена, живот выпячен, как остроконечный холм.
Я задумчиво скребу в голове, переступая с ноги на ногу от усталости, и думаю, что быть дочерью крестьянина не так уж хорошо. Я не могу понять, почему мать так много говорила о ней. А я было поверила, что «дочери крестьянина» какие-то совсем особенные.
Мать видела в своей жизни много крестьян и крестьянских дочерей и должна бы знать кое-что. Мне же еще не приходилось их видеть. Мать часто рассказывала, как выделялись эти крестьянские дочки в школе по сравнению с детьми торпарей, как богато они выходили замуж, какие красивые бывали они на свадьбе и какие большие у них хутора.
Здесь же не видно ни одного дерева. Я всегда представляла себе крестьян среди вишен, яблок и цветов, но кругом ни цветочка, ни кустика.
Я по-прежнему стояла и чесалась, не замечая, что хозяйка неодобрительно посматривает на меня.
— Кусают? — усмехнулась она, поджав свою противную губу. — Ничего, мы их выведем серной мазью.
— Я была нездорова последнее время и не следила за ней, — сказала мать. От досады лицо ее покраснело.
На этом разговор оборвался. Хозяйка посторонилась, давая нам дорогу, и указала на маленькую винтовую лестницу. Мы поднялись наверх.
— Здесь трудно сбиться с пути, — опять усмехнулась она.
Наконец-то мы очутились в тени.
В комнате было прохладно. Окно выходило на север, но когда мать попыталась открыть его, оказалось, что оно заколочено. На нем тоже не было петель. Компании индивидуального строительства не хватило материалов, объяснил нам потом Вальдемар.
Комната была очень маленькая, но все вокруг сияло и блестело. Новые обои, дерево всюду некрашеное, но красиво отливавшее желтизной. Покатый с обеих сторон потолок такой низкий, что моя высокая мать доставала волосами до его новых смолистых досок.
Кровать не проходила по узкой лестнице, пришлось пристроить ее у пекаря, но диван с желудями кое-как удалось втащить в комнату. Мать сразу же легла на него.
Я села на стул и огляделась.
Здесь, конечно, красивее, чем в Хольмстаде, но слишком тесно. Плиты нет, только ржавый маленький камин и совсем крохотное окно. Никогда не повесим мы тут накрахмаленные длинные шторы, создающие в комнате ощущение высоты и опрятности. Но в углу стоит комод, в вазы можно поставить букеты из листьев, а в камине нетрудно будет сварить кофе.
— Куда ты запаковала ведро? Я схожу за водой и хоть что-нибудь приготовлю, — сказала я матери слегка даже надменным тоном, потому что твердо решила теперь хоть на минутку взять власть в свои руки.
Мать показала на мешок. Я заметила, что она плачет, но в то время слезы вызывали у меня почти такое же отвращение, как рвота.
— Хватит тебе плакать. — Я бы охотно подошла и приласкала мать, но кто-то словно удерживал меня от этого. Сама я не испытывала желания приласкать ее, хотя понимала, что ей это было бы приятно.
Но мать уже совсем не та, что прежде, и так далека от меня. У нее теперь столько секретов, она целиком поглощена отчимом и своим недомоганием. Мне было очень жаль мать, хотелось обнять ее, а подходить к ней не хотелось. У нее появилось что-то, чего я не понимала и к чему не имела ни малейшего отношения.
— Эта скряга могла бы предложить нам кофе, — проворчала мать.
— Я сварю кофе, только надо сходить за водой. Лежи спокойно, не то опять станет плохо.
— У нас нет ни зернышка кофе, ни куска сахара…
— Но ты же получила деньги за простыни, а здесь наверняка есть лавка. У этой тетки я не возьму никакого кофе. — Я снова стала думать о дочке крестьянина, о том, как не похожа на нее мать, и погладила ее по голове без малейшей неохоты.
До ближайшего колодца нужно было пройти с добрый километр. Хозяйка указала мне дорогу. Когда я добралась до колодца, подошла какая-то старуха и сказала, что брать воду нельзя.
— Откуда ты? — спросила она, надевая очки, висевшие на шнурке.
— Мы живем… — тут я запнулась.
— Ну, так где ты живешь?
— Мы живем у дочери крестьянина… — Я никогда не слышала имени хозяйки, но тут вспомнила самое важное и самое удивительное, то, что еще оставалось от сказки после этого печального переезда: — Ее муж работает на сахарной фабрике, его зовут Вальдемар.
Старая фру захохотала так, что живот ее заколыхался.
— Бог мой, вы живете у «сиропницы»?! (Так прозвали нашу хозяйку жители поселка индивидуального строительства.) Почему же в таком случае твоя мать сама не пришла за водой? Такое большое ведро тебе не под силу. Правда, здесь принято посылать детей, потому что взрослые прекрасно знают, что теперь засуха и воду брать запрещено. Колодец почти совсем высох.
— Мать этого не знает, она больна, а мы только-только пришли. И мы никогда не были здесь раньше. Добрая тетя, разрешите мне взять немного воды — столько, чтобы хватило для кофе.
Жизнь сразу показалась мне невыносимо тяжелой.
Я знала, что существует масса вещей, не предназначенных для таких, как я. Пестрые, яркие даларнские сумки для носового платка; красиво раскрашенные резиновые мячи, большущие, прямо сказочные; сливочное масло, ливерная колбаса и белый хлеб; куклы с закрывающимися глазами и настоящими волосами; красивые башмаки и короткие платья — они называются платьями «прэнсесс»; веревочные качели в саду; книжки с картинками, которые я видела в одном доме, куда мать ходила убирать, — все это, я хорошо знала, было не для меня.
Но ведь все это недосягаемо и для большинства моих товарищей! Зато у нас было так много других интересных вещей, что мы не очень-то горевали обо всем этом великолепии. Мысль о классовом неравенстве никогда еще не приходила мне в голову. Голодала я частенько, но это было слишком уж обычным для всех нас делом, чтобы вызвать какие-нибудь сомнения, заставить страдать или фантазировать.
Но вода… Никому в целом мире не отказали в воде так, как мне…Иисусу, правда, дали вместо воды уксусу, но ведь он потом умер. Я слышала о людях, которые умирали от жажды в пустыне, о смелых путешественниках, добывавших воду из животов своих верблюдов. Но здесь ведь нет никаких верблюдов. Здесь даже пустыни нет. Здесь есть обыкновенный колодец, но воду из него брать нельзя. Когда люди в пустыне находили наконец оазис с источником, им разрешалось брать воду, а здесь это запрещено.
Запрещено. Разве можно нарушить запрет? Тут ничего не поделаешь. Как мог бы храбрый погонщик найти воду в желудке своего верблюда, если бы верблюду было запрещено пить?
Фру в очках показалась мне страшным, опасным существом. Я затряслась от испуга. Она даже не ответила на мою просьбу и только строго смотрела на меня сквозь очки. Соблазнительно близко торчала ручка насоса, дома на диване ждала мать, а здесь происходило что-то страшное, о чем она, верно, и не слыхала никогда в жизни.
— Добрая фру, — сказала я и присела, — разрешите мне взять только один литр.
— Бери, сколько унесешь, — сказала она наконец и сняла очки.
Сколько унесу! Ну что ж, сейчас она увидит!
Я качала и качала, но потом подумала: «Стоит ли брать слишком много? Лучше набрать только полведра». Страшно захотелось пить. Бросив качать, я нагнулась к насосу и попыталась поймать языком последние капли воды.
Непредвиденные беды часто страшнее тех, которых ждешь. И все же такие горести многим дают силу жить. Они — единственное разнообразие, единственное, что побуждает к действию. Старые, привычные горести кажутся уже мелкими и ничтожными, как вдруг, точно черная грозная туча, налетает новая беда. Но вот туча уплывает, и небо опять становится ясным. Израненные ноги, больная мать, придирчивый отчим, грязный передник и вши в голове становятся тогда почти так же дороги, как старый добрый знакомый, которого ты всегда рад видеть, когда новая беда отступает прочь.
Ведро было большое, почти с меня, но я мужественно понесла его, хотя руки дрожали от напряжения. Фру прошла за мной несколько шагов. Поставив ведро на землю, я еще раз присела, снова поблагодарила и, трепеща, спросила, нет ли поблизости какой-нибудь лавки. Я приготовилась ко всему: может быть, нельзя купить ни кофе, ни сахара, ни даже хлеба?
— Лавка? Я сама содержу лавку, — и фру просияла. — А у тебя есть деньги? — Она опять стала суровой.
Я вытащила свои жалкие гроши. Мать дала мне тридцать эре.
— Сто граммов кофе и двести сахара.
— По утрам здесь бывает молоко, — сказала фру, ничуть не удивленная скромностью покупки.
Индивидуальные застройщики все свои деньги клали в банк, не получая процентов. Вся округа была заселена индивидуальными застройщиками. Поэтому в лавке к самому бедному квартиранту относились приветливее, чем к домовладельцу. У квартирантов хоть изредка бывали наличные деньги, а у домовладельцев — никогда. Бог знает на что они жили. Доходило до того, что хозяйка просила жильца принести бутылку воды, потому что, никогда не отказывая жильцам, фру всегда отказывала хозяйкам. Квартиранты были лучшими покупателями. Весь район страдал от нехватки воды. Она находилась глубоко под землей, а извлечь ее оттуда стоило дорого. Мои тридцать эре сделали свое дело — я получила разрешение раз в день брать воду.
— К твоему сведению: насос и колодец обходятся в триста крон. Но они хотят брать воду даром. Ничего — раз могут построить дом, могут выкопать и колодец! — Хозяйка лавки не была индивидуальной застройщицей, ее дом был свободен от долгов.
Когда я принесла наконец воду, кульки с кофе и сахаром, мать уже встала и даже немного прибрала в комнате — теперь можно было по крайней мере двигаться. Вытащив из мешка несколько щепок, которые она захватила с собой (переезжая на новое место, дров не бросали), мать растопила камин. В комнате стало жарко.
— Насос стоит триста, но нам разрешили брать воду раз в день; тетку, у которой мы живем, зовут «сиропницей»; и еще — мы можем по утрам покупать в лавке молоко.
Кажется, мать даже не слышала, что я сказала. Про запрет на воду я все же решила не говорить — мать все равно никогда не поймет, что мне пришлось пережить. Таких приключений взрослым не понять. Им кажется, что все очень просто. Мать, ни слова не говоря, размолола кофе, и мы выпили его без молока. Я макала в кофе хлеб, а мать ограничилась несколькими чашками этого скверного напитка. Так мы в первый раз поели на новом месте.
— Ты не должна говорить «сиропница», это нехорошее прозвище, — сказала мать; и я заметила, что губы ее слегка дрогнули.
Потом она снова стала раскладывать вещи. День кончался, прославленная августовская луна уже светила в наглухо заколоченное окно, отбрасывавшее на пол крестообразную тень.
— Интересно, придет ли он к вечеру домой? — говорит мать, устраивая на диване постель для двоих и отдельно на полу — для меня.
Я не отвечаю.
Я лежу на полу и вижу, что мать тоже не спит и считает желуди на спинке дивана, дотрагиваясь до них пальцами.
— Их шестьдесят четыре, — говорю я сонно.
— Так много? — и я слышу, как она снова шепотом пересчитывает желуди.
Я заснула, не дождавшись, пока она их сосчитает.
«Он» так и не пришел в эту ночь.
С «водяной проблемой» мать столкнулась уже на следующий день.
Утром она почувствовала себя так бодро, что решила тут же отправиться в город поискать какое-нибудь «место», — так говорили в те времена бедняки, когда им не на что было жить.
Было только семь часов, и мать велела мне поспать еще немного. Около полудня она вернулась с большим узлом белья для стирки. Все-таки ей пришлось проглотить обиду и пойти к «состоятельным». Конечно, они не отказались помочь Гедвиг и отдали ей стирать грязную одежду прядильных мастеров, кухонные передники и грубые кухонные полотенца. Тонкое белье они ей не доверяли и стирали сами.
Заходила мать и к отчиму, но не застала его. Оттуда она пошла в магазин, где покупала продукты, когда работала на фабрике, там ей кое-что отпустили в долг: жидкое мыло для стирки, пару ковриг хлеба, немного маргарина, кусочек американского шпика, дешевой колбасы и несколько килограммов картофеля.
Все это вместе с узлом белья было нелегко дотащить домой: до родов оставалось не больше месяца.
С тех пор как она родила ребенка в красивой комнате на хуторе у Старой дороги, не прошло и года, и вот теперь она снова должна родить.
Мать сварила немного картошки и поджарила колбасу. Как это было вкусно после кофейной бурды, которой мы питались последние двое суток! Впервые мать приготовила пищу только для нас двоих. Мне показалось, что жизнь снова начала налаживаться, и я весело болтала о том, как красиво мы теперь все устроим в нашей комнате.
Мать ела быстро и жадно. Представляю, какая она была голодная! Я старалась не обращать внимания на то, как она противно жует, чавкая и обжигаясь. Я знала, что сейчас ей опять станет нехорошо и начнется приступ рвоты, но теперь, когда мы вдвоем и едим такую вкусную пищу, мне захотелось быть с ней поласковее.
Вдруг раздался громкий голос хозяйки. Мать перестала есть и прислушалась. Я тоже.
— Я-то ее хорошо знаю, ей и двадцати не было, когда с ней приключился грех. Прижила ребенка с каким-то господином, а он даже и не заглянул ни разу после того, как добился своего. Теперь вот и муж ушел от нее. И не диво, такой интересный мужчина. Она ведь не следит ни за собой, ни за ребенком, у нее даже не хватает ума уберечься и не рожать каждый год. Конечно, мужчине это надоедает. Вот он и нашел себе в городе другую. Плакали, видно, наши денежки!
— Разве он больше не придет домой? — спросила я у матери. Я поняла каждое слово, доносившееся к нам сквозь тонкий дощатый потолок.
— Придет, — процедила мать сквозь зубы и помрачнела так, что я даже не посмела обнаружить свое разочарование, вызванное тем, что «он» все-таки вернется.
Болтовня внизу не прекращалась. Мать встала.
— Пойду замочу белье, потом немного уберемся. Люди стали слишком уж чистоплотными, — с горечью сказала она. А ведь совсем недавно мать считалась самой чистоплотной и опрятной из всех фабричных работниц.
Вот тут-то и выяснилось, как обстоит дело с насосом.
Как я и ожидала, матери не разрешили стирать. Она вернулась обратно с грязными рубахами и штанами прядильных мастеров. Я видела, как она шла по дороге, слышала, как она швырнула в сенях узел с бельем. Не постучав, она вошла к хозяйке. Я поняла, что мать здорово разозлилась, — не в ее привычках было так врываться к людям.
До меня доносилось каждое слово.
Мать не поздоровалась и начала переговоры без всяких предварительных любезностей.
— Ты знаешь, что у нас слышно каждое твое слово? — начала она.
Хозяйка не ответила. Кто-то из гостей все еще сидел у нее.
— Ты очень заботишься, — услышала я, — обо мне, моем грязном ребенке и моем муже. Когда ты сама стирала последний раз? Или, может быть, ты воруешь воду по ночам?
Никакого ответа.
— За милю отсюда и то воды не достанешь. Ты должна была предупредить меня об этом, когда сдавала свою лачугу. Ты сама предложила мне комнату, когда я встретила тебя и к слову упомянула, что ищу квартиру. Хвастунья! Ты ведь обещала подождать с квартирной платой две недели. Не успела я переночевать в доме, а ты уж тут как тут со своими сплетнями. Неужели ты думаешь, у меня такая плохая слава, что я не достану четыре кроны, которые должна платить тебе в месяц? Тебе нет нужды врать обо мне из-за такой мелочи и кричать так громко, что ребенок слышит каждое слово через щели в твоей «вилле»… — Мать произнесла «вилла» очень насмешливо. (Тот, кто сам ничего не имеет, может позволить себе говорить насмешливо о чужой собственности.)
— И ты еще толкуешь о чистоплотности. (Я слышала, как разозлилась мать. Хозяйки мне ни капельки не было жалко.) Ты помнишь, что сказал однажды мой отец твоему отцу? — послышался снова голос матери. — Помнишь? Об этом болтал весь приход. Твой отец пришел к нам, чтобы выгнать меня, потому что я вернулась домой беременная, а в приходе не была записана. Твой отец очень боялся за свой приход. Но кто поручился за твоего отца, когда дела его пошли плохо? Он ведь был высокомерен и чванлив, изображал из себя богатого крестьянина, пока хватало денег. Разумеется, мой отец. И ему поверили, так как думали, что он получил хорошие деньги от того господина за моего грязного ребенка. Тебе ничего не оставалось, как сдать мне комнату, ведь ты лучше других знала, что мой отец помог вам своими деньгами, когда вы разорились. Кстати, когда он умер, а кредиторы получили свое, мы с трудом наскребли денег, чтобы похоронить его.
Хозяйка начала всхлипывать и жаловаться, что Гедвиг ее осрамила, что теперь она не сможет показаться людям на глаза; а одна из ее гостей стала хлопотливо разъяснять матери, что белье можно отнести в городскую прачечную. (Это матери-то, которая только что притащила тряпки из города!)
— Здесь едва ли найдется чем вымыть посуду даже в воскресенье, — шутливо заметила гостья, стараясь показать, что сама-то она тут ни при чем.
Мать не сказала больше ни слова и, хлопнув дверью, поднялась наверх.
Она согрела те остатки воды, что у нас еще уцелели, и начала до боли скрести мне голову; потом достала из ящика чистый передник.
— Мы пойдем в Вильберген, к бабушке, я должна постирать, чтобы заплатить за квартиру этой ведьме. Слышала, как я ее отчитала?
— Так ей и надо, — ответила я, удивляясь, как это мать не захворала от картошки и колбасы, которую съела.
— А много денег отдал дедушка? Как он смел отдать мои деньги? А может, это были не мои деньги, раз я была еще такая маленькая?
Не отвечая, мать уставилась прямо перед собой. Я ждала, чрезвычайно возбужденная.
— Не знаю, — наконец сказала она, продолжая думать о чем-то своем. — Не знаю. Впрочем, здесь мы долго не задержимся, — добавила она твердо и опять принялась собирать грязные рубашки прядильных мастеров, которые только утром притащила.
— Разве мы не будем сначала распаковывать вещи и убираться?
— Нет, нужно постирать белье и заплатить за квартиру.
До бабушкиного дома было около мили.
Выстирав и погладив замасленную рабочую одежду и засаленные кухонные передники, мать пошла к родственникам, но у них не оказалось денег, чтоб заплатить за работу.
— Я же тебе говорила, — сказала бабушка, когда мать вернулась, — вот уже двадцать лет они должны мне за целую кипу половиков.
Прошло тридцать лет, а «состоятельные» так и не заплатили за стирку белья, но все-таки они «немного помогли Гедвиг работой».
По-видимому, это было постоянным кодексом «состоятельных»: бедные люди должны иметь работу, тогда они как-нибудь проживут.
Бабушка дала денег, чтобы заплатить за квартиру.
— Иначе тебя съедят заживо. Уж я-то знаю эту публику.
В тот же вечер хозяйка получила деньги. Поблагодарив мать, она, как ни в чем не бывало, принялась болтать. Видно было, что она искренне рада деньгам. Еще бы — давным-давно не видела она наличных денег. В жалком бюджете индивидуальных застройщиков эти четыре кроны кое-что значили. До сих пор они все вкладывали в дом. И вот наконец что-то получили! Квартирная плата! Наличные деньги! Мать вела себя сдержанно.
При известных обстоятельствах друзья детства могут быть очень холодны друг с другом.
В комнате ничто не изменилось с тех пор, как мы ушли: таз с грязной водой, в котором мать мыла мне голову, так и стоял на стуле, постель для двоих на диване смята и скомкана. Моя постель по-прежнему лежала в углу.
О ты, мой милый дом у Старой дороги, с белыми скатертями, новыми половиками, тишиной! Там мы были вдвоем со счастливой тогда матерью! Никогда, никогда уже не была я так близка с нею. Слишком много стояло теперь между нами: заботы, грязь, долги, отчим; к тому же мать очень подурнела и растолстела и мысли ее были заняты только отчимом.
С той первой ночи в комнате у Старой дороги, когда мать легла в одну кровать с отчимом, мы больше никогда не оставались вдвоем. И нигде уже не было так чисто и красиво, как там. Здесь на это жалкое заколоченное окно даже не повесишь простую занавеску — в комнате сразу станет темно, а для шторы с девочкой в деревянных башмаках и вовсе не было места. Да она и не нужна: солнце никогда не заглядывало в комнату, не играло на ярких лоскутках половиков.
Диван перестал быть моей собственностью, на нем теперь спала мать и по ночам считала желуди на спинке. Единственное, что еще было овеяно какой-то тайной, — это Вальдемар, но его мне никак не удавалось увидеть. Тот самый Вальдемар, который работал на сахарной фабрике. Как он, должно быть, богат! Я знала, что каждый день он приносит домой патоку, — на чердаке стояла большая четырехугольная железная банка, полная патоки.
— Они получают ее на фабрике, — сказала мать. — Это неочищенный сахар, и фабрика не может его продавать.
Бабушка говорила, что у того, кто украдет хоть капельку патоки, на носу каждый раз вскакивает веснушка. А сколько веснушек было у нашей хозяйки! Может быть, это из-за патоки? Мне необходимо было увидеть Вальдемара. Если и у него столько же веснушек, сколько у его фру, значит он и правда ворует патоку.
Душные, жаркие дни. Поникли запыленные головки репейника и бутеня. Когда мать не ходит в город мыть полы или стирать, она лежит на желудевом диване, и ее рвет. Все, что она съедает за день, идет прахом.
Вши по-прежнему плодятся в моих волосах. От покатого потолка в комнате пахнет смолой. Внизу хозяйка каждый день печет хлеб с сахарной патокой — ее употребляют вместо солода. Хлеб получается сладкий как мед, однажды мне дали попробовать кусочек. А на чердаке стоит банка, таинственная, недоступная.
Из новых стен сочилась смола, повсюду висели желтые вкусные капли. Долгие часы я простаивала на чердаке, глядя на железную банку, и однажды взяла в рот каплю смолы. Она должна быть патокой. Раз в доме есть большая железная банка с патокой, значит и сочащаяся из стен смола должна быть патокой. Но капля оказалась обыкновенной еловой смолой и вдобавок такой горькой, что у меня свело скулы.
Хозяйская дочь ходила в школу. Мне тоже надо было учиться.
— Не стоит, — сказала мать, — мы все равно скоро переедем.
Я старалась встретить хозяйскую дочку на улице, когда она возвращалась из школы, но та не обращала на меня внимания. Сидя на смолистых досках крыльца, я часами ждала, пока она выйдет, но она не показывалась. А стоило мне уйти, как она тут же выбегала и мчалась к какому-нибудь дому, где у нее были товарищи.
Ей не разрешали со мной играть, но мне такая мысль даже не приходила в голову. Я была уверена, стоит только мне заговорить с нею, и мы подружимся, начнем строить кукольные домики и устраивать куклам паточные пиры. Я верила в свою способность завоевывать новых товарищей и не привыкла к тому, чтобы они избегали меня. Но мне никак не удавалось остановить ее. Однажды я все-таки схватила ее за юбку.
— Отпусти меня, гадкая девчонка! — закричала она.
На крик вышла губастая дочь крестьянина:
— Иде надо готовить уроки, — на лице ее поблескивали веснушки.
Постепенно я начинала кое-что понимать.
Домовладельцы предпочитали сдавать маленькие комнатушки, без которых легко могли обойтись, одиноким мужчинам или женщинам. Если же в мансарду случайно попадали жильцы с ребенком, то дети, домовладельцев не дружили с ними. Поэтому я не нашла товарищей в поселке; те ребята, что жили здесь, были слишком хороши для меня.
Во всем поселке меня любила одна только лавочница. Я могла брать столько воды, сколько хотела. Мать никогда не покупала в долг в этой лавке, у нее был кредит в городе. Поэтому фру «уважала» нас и однажды даже угостила кофе.
Я так и не познакомилась ни с одним из сверстников, зато у меня появились другие товарищи: я крепко подружилась с пекарем.
Жил он прямо в пекарне, в подвале возле лавки, и я частенько торчала там до позднего вечера. Тогда за мной приходила мать и всегда получала большую ковригу свежеиспеченного, еще горячего хлеба. Уж чего-чего, а хлеба у нас было вдоволь.
Иногда пекарь напивался пьяным. Тогда он разувался, босиком залезал в большое корыто для теста, месил его ногами, пел и кричал: «Так пекли хлеб во времена моей юности». Он так усердно топтал тесто, что оно забрызгивало его до пояса.
Когда я рассказала об этом матери, она легла на диван и зажала рот руками. С матерью становилось все труднее и труднее иметь дело.
Однажды пекарь сказал мне:
— Если бы твоя мать не была беременна, я б женился на ней. Уж очень она интересная женщина.
Я думала, что женщина — то же самое, что невеста или девушка, — я слышала это не раз от мальчишек, — поэтому вечером сообщила матери, что пекарь хочет жениться на ней, потому что она интересная девушка. Я думала, мать не поймет, если я скажу «женщина».
— Как ему не стыдно, — рассердилась мать.
— Мне кажется, ты можешь выйти за него замуж, — сказала я. — Он продает так много хлеба.
— А тебе не кажется, что с меня достаточно того, что я уже имею? — спросила мать.
Я не видела отчима целую неделю и почти забыла его.
9
Ясный августовский вечер, почти ночь. Высоко над паточным домиком сияет луна. Я сижу наверху, в нашей душной комнате, жду мать и наконец засыпаю.
Проснулась я поздно ночью. В комнате светло от луны, покатый потолок отбрасывает на пол страшные тени. Мать еще не пришла. У Вальдемаров, наверно, все спят — оттуда не доносится ни звука. Если бы я не была так голодна, то залезла бы в свою постель на полу и снова уснула. Каждый вечер мать стелит желудевый диван на двоих и каждое утро просыпается одна.
В животе у меня громко бурчит от голода: за весь день я выпила только немного кофе и съела маленький кусочек хлеба. Мать обещала вернуться после обеда и велела мне помочь лавочнице в саду. Она рассчитывала, что меня там чем-нибудь покормят, но хозяйка вдруг заболела, и в лавке все было вверх дном. Целый день там толпились люди, да так и уходили ни с чем; у пекаря, обычно помогавшего хозяйке, был как раз запой, и он пропадал в трактире «Ион-пей-до-дна» или в городском парке, где гуляки пили пиво, играли в карты и валялись в траве. Так вышло, что в этот день я осталась совсем без присмотра.
С тех пор, как я поняла наконец, что хозяйская дочь и ее подружки считают унизительным играть со мной, я уж ни к кому больше не приставала со своей дружбой. Я даже пыталась уговорить себя, что без них мне только интереснее. А когда мать задерживалась в городе, я уходила в лавку и слушала, о чем болтали фру с пекарем. Они разрешали мне оставаться подольше, а фру иногда угощала хлебом с маслом. Пекарь нарочно задерживал меня, потому что хотел, чтобы за мной зашла мать.
— Оставайся, пока придет мать, а я дам ей каравай хлеба.
— Я могу сама взять хлеб, — охотно предлагала я.
Нет, пекарь должен лично передать хлеб в руки матери. Однажды вечером фру сказала, что пекарь стал бы настоящим мужчиной, «если бы заполучил такую дельную женщину, как твоя мать, Миа».
Но сегодня фру больна, а пекарь пьянствует. Впрочем, и это не так уж важно. Я привыкла оставаться одна, только бы на нашем чердаке нашлось хоть немного еды…
Продрогшая и напуганная, вышла я на дорогу, белую в лунном свете. Вокруг ни души. Я пустилась бежать к городу.
Я шарахалась, как пугливая лошадь, от темных теней, отбрасываемых елями, и старалась держаться подальше от них, на молочно-белой полосе дороги. Добежав до сада возле лавки, я почувствовала сильный запах цветов и, остановившись, с жадностью стала вдыхать его, как будто благоуханием цветов можно было насытиться.
Только пробежав почти полдороги до города, я перевела дух и осмотрелась. Я была босиком, с непокрытой головой. Нет, лучше уж подождать маму здесь. Я уселась почти на том же месте, где несколько недель назад сидела моя больная мать в своей уродливой шали. Как и тогда, высоко на деревьях висели яблоки. Но теперь, ночью, когда вокруг притаились лунные тени, у меня ни за что не хватило бы духу украсть хоть одно. К тому же желудок мой сводило от голода. По опыту я знала, что может случиться от зеленого яблока. Уже выпала роса, стало прохладнее, я сжалась в комок, подобрав под юбку черные израненные ноги, и решила ждать. Аромат цветов и лунный свет волнами захлестывали меня. Обязательно приду сюда посидеть как-нибудь вечерком, когда буду сыта, решила я. Я смотрела в бездонный океан лунного света, и мне казалось, что и дорога, и аромат цветов, и я вместе с ними уплываем куда-то вдаль. Точно так же, когда человек долго и пристально смотрит на воду, ему кажется, что земля под ногами начинает медленно двигаться.
Я посидела еще немножко, дрожа от холода, и вскоре задремала. Потом начала замерзать, а когда совершенно окоченела, решила вернуться домой и едва нашла в себе силы подняться. Мать, наверно, останется в городе на всю ночь. Я была так измучена, что уже ничем не интересовалась, даже голод прошел. Но только я выползла из канавы, как подошла мать, потная и взволнованная.
— Боже мой, Миа… — она набросила на меня свою шаль, и мы обе снова уселись на краю канавы. Мать вытащила кусок белого хлеба и протянула мне. — Придем домой, сварим хоть глоток кофе, я принесла несколько зерен. За весь день у меня во рту не было ни крошки, — говорила она. Я подползла ближе к матери и почувствовала, что она дрожит всем телом.
— Пойдем, ты ведь совсем замерзла. — Немного согревшись, я отдала ей шаль и снова вылезла из канавы.
— Вовсе я не замерзла. Нет, не замерзла. Замерзла? Да нет же, — казалось, мать сама не понимает, что бормочет.
— Боже, как пахнет! Ты чувствуешь, Миа? — говорила она, с наслаждением вдыхая аромат цветов.
Я не ответила. Мне показалось, что мать идет как-то странно, слегка прихрамывая. Правда, у нее такой большой живот, — это, наверно, из-за него. И все же… Нет, это уж совсем глупо: мать идет без туфель, в одних чулках!
— Ты просто какая-то глупая, мама, ходишь в одних чулках. А где твои туфли?
— Туфли? Я их потеряла, — по голосу я поняла, что она лжет. Что могло случиться с ее рваными парусиновыми туфлями? Взрослые люди обычно не теряют обуви, тем более сразу с обеих ног. Как бы не так. Я уже достаточно повидала, чтобы понять это. Кровь бросилась мне в голову, и, несмотря на холод, стало нестерпимо жарко. Мать идет в одних чулках! Великий боже, что с ней случилось!?
— Сними чулки, ведь они порвутся, — наконец отважилась я заговорить.
— Не все ли равно, порвутся они или нет, — по голосу матери я поняла, что она плачет.
— Ты ударила его туфлей?
— Его? Нет, я ее стукнула туфлей по носу. Она-то ведь знает, что он женат, даже знакома со мной, — мать снова умолкла.
Благоухающий лунный свет, казалось, кричал о нашей беде.
Да, кое-что я, вероятно, все-таки понимала, хотя матери понять никак не могла. Вовсе незачем так горевать, раз он ушел к другой. Это же замечательно: пускай себе та, другая, забирает его, по крайней мере мы от него избавимся.
— А его ты ударила второй туфлей? — кровожадно спросила я.
— Нет, вторую туфлю я выкинула. Не могла же я идти в одной.
Ну, ясно — отчима она не решилась ударить, а ведь мне от нее не раз доставалось.
Сады кончились, мы шли мимо некрасивых домов индивидуальных застройщиков. Тени на дороге стали угловатыми, аромат цветов исчез. Мать была похожа на нищенку; намокшая от росы пыль толстым слоем облепила чулки.
Осторожно, стараясь не дышать, мы прокрались наверх по узкой лестнице, но мать наткнулась на банку с сиропом, стоявшую у самой лестницы, и мне показалось, что она зазвенела, как церковный колокол. Мать выругалась:
— Чертова банка, чтоб ей провалиться! — Раньше я никогда не слыхала, чтобы мать ругалась.
Я досыта наелась пшеничным хлебом и больше всего хотела теперь спать, но мать не могла уснуть, не выпив хотя бы чашку крепкого кофе, потому что, как она объяснила, у нее ужасно болит голова.
— Нет ни щепки дров. И у Вальдемаров нет, — сообщила я довольно хладнокровно. Я сидела на постели, не сняв платья, и боролась со сном.
Мать собрала несколько газет, зажгла их, налила воды в жестяной кофейник (каждый день я таскала воду из насоса, принадлежавшего хозяйке лавки), закутала в полотенце кофейную мельницу, чтобы внизу не услышали, как она размалывает зерна. Но бумага моментально сгорела, а вода сделалась лишь чуть тепловатой. Я увидела, как мать разрывает плетеную корзинку, в которой отчим, работая землекопом, носил обыкновенно провизию, — и сон сразу пропал. Пламя, мигом охватившее сухие прутья, загудело в каминной трубе, но вода снова не успела закипеть. Мать совсем помрачнела. Она разделась, осталась в холщовой рубахе, тесьма юбки врезалась в располневшую талию, живот был большой и высокий.
— У меня все-таки будет чашка кофе, хоть бы для этого мне пришлось сжечь весь дом, — сквозь зубы сказала она.
Она вышла на чердак, вернулась с почти новой щеткой для мытья полов и сунула ее в камин. Туда же отправились две деревянные ложки и деревянная мешалка для белья. Наконец кофейник закипел. Я уже совсем проснулась, а кофе так хорошо пахло, что я попросила у матери глоток, и получила в придачу свежую булочку.
— Я купила несколько булочек, а там будь что будет. Какой смысл копить и голодать; голодать, когда что-то имеешь, и голодать, когда ничего не имеешь. Во всяком случае, я сварила кофе и буду пить его, — торжествующе закончила она.
От выпитого кофе и слов матери я настолько подбодрилась, что предложила сходить к забору, где так хорошо пахнут цветы.
— Может, сорвем несколько цветков или даже парочку яблок… — сказала я. Настроение матери передалось и мне. В самом деле, лучше ни о чем не думать. Но мать отказалась пойти.
— Не болтай глупостей… Все-таки я сварила кофе, — повторила она.
Удивительно, сколько она сожгла всякого хлама. Эта победа над раскалившимся докрасна камином и пустым дровяным ящиком как будто приободрила ее. Она словно гордилась тем, что из-за чашки кофе спалила деревянные ложки, щетку для мытья полов, деревянную мешалку и корзину из-под провизии. Неожиданно она открыла в себе новые возможности, о которых раньше не подозревала. Это обрадовало ее, придало уверенности. Во всяком случае, ей так казалось.
— Завтра все-таки купи где-нибудь туфли, — сказала я, боясь, как бы она не вздумала всегда ходить босиком, как цыганки, которых мне не раз приходилось видеть.
— Конечно, куплю, к чему экономить. Все равно толку не будет.
Я снова попыталась заснуть, а мать начала вытряхивать пыль из своей единственной пары чулок, в которых она притащилась от городской таможни. Постель на диване по-прежнему была устроена на двоих, а ведь мать знала, что «он» не придет домой, и могла бы взять меня к себе. Но она этого не сделала. В конце концов после всех треволнений я заснула крепким сном.
На другой день мать вернулась домой в поношенных парусиновых туфлях, купленных за пятьдесят эре у процентщика Калле. Вторую пару ботинок она принесла в пакете. Задора ее хватило ненадолго.
Как-то, неделю спустя, я засиделась у пекаря и пришла домой поздно. И тут-то я увидела наконец Вальдемара. Он шел с работы и, по обыкновению, нес большую бутыль. Я знала, что в ней патока. Это был невероятно высокий и толстый мужчина с широким, совершенно белым лицом и маленьким, почти незаметным ртом. Веснушек у него не было. Он присел на доски около порога, потому что ни хозяйки — его жены, ни дочери не было дома, а ключ они забрали с собой.
Я уселась подле него, поскребла в голове, спрятала свои черные ноги под подол юбки и попыталась завести с ним разговор. Он сразу понравился мне, и я захотела хоть немного разузнать о сахарной фабрике.
Он весело поздоровался со мной, вынул изо рта табак и, не переставая плеваться, отхаркиваться и вытирать губы тыльной стороной ладони, сказал:
— Не слишком ли поздно для такой маленькой женщины, как ты? Ступай-ка лучше наверх, твоя мать уже, наверно, дома.
Но я продолжала сидеть, пропустив его слова мимо ушей. Где-то вдалеке погромыхивал гром, собирались тучи. Вечерело, стояла удушливая жара. Мой сосед в сумерках казался таким огромным, наверняка это он изготовляет самые большие сахарные головы, которые я видела в лавке, — сахарные головы с отверстием на самой макушке, так что верхний кусочек можно повесить на рождественскую елку. У меня в комоде хранились три таких кусочка. Мать всегда покупала макушку, — она говорила, что сахар там самый твердый и потому экономный. Самый верхний кусочек с дыркой доставался мне. Теперь я хотела попросить Вальдемара делать эти дырки немного поглубже, тогда и маковки для рождественской елки станут побольше.
— Дядя, это вы делаете сахарные головы? — начала я.
— Ну что ты, нас там много, — ответил он дружелюбно.
Вот так разочарование! А я-то думала, что он один приходит в какую-то белую комнату и обтачивает там сахарные головы, а за свою работу получает сироп, который приносит домой. Теперь уже не стоит и говорить о дырках. Я чуточку отодвинулась — от него очень плохо пахло. В поселке индивидуальных застройщиков от всех людей плохо пахло — сказывалась нехватка воды. И дождя уже давным-давно не было.
— Как только пойдет дождь, твоя мать сможет прийти сюда постирать, — говорила лавочница. Но дождь все не шел, а я, разумеется, не становилась чище. От меня, вероятно, тоже скверно пахло, но от Вальдемара пахло просто ужасно, и я не стала продолжать разговор. Между нами встали грязь и зловоние. Мне не хотелось, чтобы он увидел мои ноги, но сидеть близко от него я тоже не могла. Съежившись в комочек, я примостилась на самом краю доски.
Он казался мне большой усталой горой. В сумерках он напоминал огромный темный камень. Он опустил голову на грудь и, должно быть, уснул. Я тоже очень устала, потому что торчала в теплой пекарне до тех пор, пока пекарь не отправил меня домой, собираясь лечь спать.
Молнии то и дело рассекали небо. Кругом ни души.
Вальдемар ошибся — матери не было дома. Она нашла работу на новостройке, убирала там и могла задержаться до ночи.
Вслед за Вальдемаром задремала и я, и мы услышали, что подошла мать, только когда она пожелала нам доброго вечера. В руках она держала большой пакет.
— Ты ведь не видел, как я живу, пойдем к нам, я согрею чайник.
Не так-то легко было взобраться громадному Вальдемару по узкой лестнице. Мать оставила дверь открытой. Она разожгла камин, и когда в комнате стало тепло, от Вальдемара пошел такой дух, что мать побледнела. Я тоже испугалась, но не из-за запаха: я боялась, как бы она не оскандалилась.
Она спустилась на минутку вниз подышать чистым воздухом, а меня попросила присмотреть за чайником. Ну вот, очень хорошо, что она ушла; я следила за чайником и накрывала на стол. В пакете оказался пшеничный хлеб и другие вещи, которые мать вынимала так, что Вальдемар их видел. Немного студня, несколько соленых огурцов, рассыпчатый сыр, два передника и платье, которое ей, верно, дала для меня какая-нибудь фру. Оно показалось мне очень нарядным, завтра можно будет приодеться.
— Кажется, ты не плохо обходишься и без мужа, Гедвиг, — сказал Вальдемар и обмакнул в кофе большой кусок пшеничного хлеба.
Мать промолчала.
— Вот уж не думал, когда мы работали вместе у Хольста, что ты придешь ко мне снимать комнату, — продолжал он.
Мать помрачнела.
Они поговорили немного о том о сем, и я стала уже совсем засыпать, как вдруг услышала:
— Есть у тебя банка? Давай налью патоки. У нас ведь ее много, да я еще могу принести.
Мать подала банку, и он налил в нее вязкую, серовато-черную жидкость. Наконец-то! Теперь уж я не спутаю с патокой еловую смолу! С этим я и заснула в своем углу на не убранной с самого утра постели.
Меня разбудил страшный шум. В узких дверях стояла хозяйка и так орала, что вместо одной нижней губы у нее появилось как бы целых три. Вальдемар по-прежнему молча сидел на стуле, мать тоже молчала. Из-за спины хозяйки выглядывало любопытное лицо дочери.
— Тут тебе не фабрика, отсюда ты живо вылетишь! — кричала хозяйка. — Завтра же проваливай! Нечего отбивать чужих мужей! Меня не проведешь! Тебе что, все еще мало? Вон тебя как разнесло, еле ноги передвигаешь. А ты ступай вниз, Вальдемар, и вот что я скажу: у тебя ни гроша не было за душой, но я вышла за тебя. А теперь стоило мне уйти из дому, как ты воспользовался случаем. Я все понимаю!
Вальдемар и мать молчали. Девочка начала реветь, хозяйка тоже разревелась и обозвала мать проституткой.
Тогда мать вскочила. Я видела, как она рассвирепела. Она что-то лихорадочно искала, потом схватила нож, которым резали хлеб. Тут я тоже закричала.
— Гедвиг, перестань, уж ты-то должна ее хорошо знать, — сказал Вальдемар, отнимая у матери нож. Тем временем хозяйка бросилась к столу и вдребезги разбила банку с патокой, чашка тоже полетела на пол.
— Выведи вшей у девчонки и следи за своим мужем! — крикнула она.
Тогда Вальдемар схватил жену сзади за шею и так рванул кожу на затылке, что лицо ее перекосилось. Рот растянулся до уха, глаз превратился в узкую щель, а веснушки на одной половине лица удлинились и стали продолговатыми.
— Заткни глотку, проклятая ведьма, а не то я спущу тебя с лестницы! — закричал он. — Я проработал восемнадцать часов, а ты бегаешь по своим кумушкам, да еще берешь с собой ключ. Выходит, я должен сидеть, как дурак, и ждать, пока ты соизволишь вернуться? А потом еще ругаешь людей, которые тебе ничего худого не сделали! Гедвиг тоже только что пришла домой. Две недели я оставался сверхурочно, чтобы немножко подработать! А ты? Что ты делаешь? Залезаешь в долги, за которые меня наверняка упрячут в тюрьму!
Он продолжал держать ее за шею, а девочка, перестав кричать, в ужасе глядела на перекошенное лицо матери.
— Отпусти ее, — сказала мать, — отпусти и уходите отсюда. В любую минуту может явиться Альберт, он сказал, что собирается сегодня прийти.
Стало тихо. Мужчина выпустил свою жертву, и они стали спускаться вниз по лестнице.
Я уже совсем проснулась. Патока растекалась по полу, и скоро придет он. Все сразу померкло. Так вот, значит, почему мать накупила столько вкусных вещей! Я захныкала.
Мать ничего не сказала, села на диван и уставилась отсутствующим взглядом на патоку и разбитую банку. Что-то застучало по просмоленной картонной крыше — пошел дождь.
— Не плачь, Миа, мы постараемся уехать отсюда, — сказала она наконец и, подойдя ко мне, погладила по голове. Я не ответила.
Мать соскоблила с досок сироп, который еще мог пригодиться, и вымыла пол: шел дождь, поэтому можно было позволить себе такую роскошь. Потом она постелила диван на двоих, прибрала в комнате и стала ждать. Я изо всех сил старалась не заснуть, злилась на мать за то, что она сидит и ждет, но усталость после всех волнений взяла свое, и я заснула, хотя внизу продолжали ссориться и время от времени доносился громкий угрожающий голос Вальдемара.
После полуночи пришел отчим. Он не был у нас с тех пор, как привез мебель.
Залезая по узкой лестнице, он так сильно грохотал и ругался, что я проснулась и увидела, как побледнела мать. У Вальдемаров еще не спали: наоборот, ссора была в разгаре, и до нас доносилось каждое слово.
Швырнув в угол промокшую сумку, отчим плюхнулся на стул; с него ручьями стекала вода.
— Проклятый чердак!
Мать шикнула на него. Внизу Вальдемар кричал что-то о старых грехах, о «твоем» и «моем», о хуторах и бедных батраках, о рыжих волосах и заячьей губе.
Отчим качался на стуле — он был совершенно пьян. Потом, порывшись в карманах, вытащил большой кулек и бросил его мне. В кульке были красивые карамели.
— Возьми с-сумку и выт-т-тащи пак-кет, — пробормотал он, заикаясь, потом достал из кармана губную гармошку и принялся наигрывать вальс.
— Ты что, с ума сошел? Ведь уже поздно! — Мать разворачивает пакет, и я вижу, как дрожат ее руки.
— Поздно? Они все равно лаются, как собаки. Что, великан Вальдемар не поладил со своей бабой? Из-за чего они ссорятся?
Он продолжает играть на гармошке. Играет и смотрит, как мать возится с пакетом.
— Перережь веревку, черт тебя побери!
Мать наконец развязала веревку. В пакете оказалась пара новых ботинок для меня и клетчатая ткань на платье, тоже мне. Это была так называемая шотландка, очень модная в то время.
Даже самый пропащий мужчина и тот знает путь к сердцу женщины. Мать так и просияла, но я не обрадовалась и притворилась спящей. А он потом даже не спросил, понравились ли мне его подарки. Да его и не интересовала моя благодарность. Мать тоже не заставляла меня благодарить его. Отчим смотрел только на мать, и подарок он принес для нее. Лучшего подарка и не могло быть, он это прекрасно знал.
— Не играй больше, — попросила мать. Она снова стала красивой.
— Из-за чего это внизу ругаются?
— Не знаю, чего-то не поладили.
Я завернулась в одеяло и заплакала. Я любила теперь всех людей, кроме матери и отчима. Пекарь был гораздо лучше их, а Вальдемар был лучше всех. Ханна, Ханна, а ведь ты по-прежнему живешь рядом с моим божеством! И хозяйка хорошая, она просто рассердилась на мать. Ну вот, теперь и отчима начало тошнить — оба они одинаковые. Как будто они на улице. Утром обязательно убегу к Ханне в богадельню.
А внизу ссора становилась все ожесточеннее.
— Я немного перехватил пива, надо постараться, чтобы меня вырвало, — сказал отчим. — А ты здорово растолстела, Гедвиг, когда ты ждешь? — Он постепенно трезвел.
Я снова задремала — и проснулась, когда отчим с лестницы крикнул хозяевам, чтобы они заткнулись. Разъяренная хозяйка посоветовала ему лучше смотреть за потаскухой, на которой он женат, а то к ней ходят другие мужчины. Отчим вбежал в комнату и, как безумный, бросился к матери. Хмель все еще бродил в нем.
— Это Вальдемар! — крикнул он. — Это Вальдемар!
Тогда мать тоже закричала. Я услышала, как по лестнице снова поднимается Вальдемар, и замерла. Все произошло так неожиданно. Ночь напоминала мрачный дьявольский шабаш, на котором хозяйка была самой отвратительной ведьмой из тех, что я видела на пасхальных открытках.
Отчим схватил мать за длинные волосы. Она ударила его в лицо, а он свалил ее с ног. Я заревела.
Но тут подоспел Вальдемар. Он обхватил отчима поперек туловища и, вытащив его из комнаты, подтолкнул к лестнице.
— Я честный человек, хотя моя баба рехнулась, понимаешь? Как тебе не стыдно подозревать Гедвиг, она вот-вот должна родить! (Я запомнила его слова, точно их выжгли в моей памяти раскаленным железом.) Неужели ты думаешь, что я такой негодяй? А сам-то хорош! Все время, что они живут здесь, торчал у своей девки! Думаешь, мы не знаем? Лучше не показывайся здесь больше, не то я переломаю тебе руки и ноги.
И оба исчезли во дворе.
Через несколько часов они вернулись обратно. На этот раз обошлось без криков, хозяйка не издала больше ни звука, отчим и Вальдемар, видимо, как-то поладили друг с другом, но мать чувствовала себя скверно. Хотя было только пять часов утра, мне пришлось одеться и последовать за Вальдемаром, который шел на работу. Он так и не прилег в эту ночь. По пути на фабрику он должен был показать мне, где живет акушерка, с которой мать заранее договорилась. «Добрая фрекен», на которую мать бесплатно стирала.
Я надела платье, которое мать выпросила у кого-то в городе, и чистый передник. Клетчатая материя и новые ботинки остались лежать в углу.
На улице шел дождь. Мы прошли немного по мокрой дороге, и Вальдемар взял меня за руку.
От акушерки я пойду прямо к бабушке. Так мы и шли — большой усталый мужчина и я. Когда мы добрались до места, где ему надо было сворачивать к фабрике, он вытащил из кармана маленькую черную книжечку, к которой был прикреплен огрызок карандаша, и что-то написал на листке бумаги.
— Твой отец не позаботился об этом, так вот: если фрекен не окажется дома, прикрепи эту бумажку к двери, — он порылся в своем большом грязном кошельке и дал мне десять эре, потом похлопал меня своей огромной ручищей по плечу и велел поторапливаться.
Мне очень понравился Вальдемар. Я люблю его и теперь, хотя он давно умер.
Фрекен жила у заставы, в маленьком красивом домике. На калитке я прочла: «Фрекен Франссон, акушерка».
Открыв калитку, я прошла маленький дворик, усаженный колокольчиками и душистым горошком, и постучала в кухонную дверь. Она была заперта, никто не откликнулся. Тут я заметила на двери бумажку. На ней было что-то написано, но так неразборчиво, что я никак не могла прочесть. Потом я все-таки разобрала по слогам: «…в Ютериет». Это такой пригород. Ага, значит она пошла к кому-то в Ютериет. Там должен родиться ребенок. И, вытащив засаленную бумажку, написанную Вальдемаром, я повесила ее на ржавых гвоздиках, торчавших в двери.
Дождь перестал, но я совсем промокла и не замерзла только потому, что все еще было душно и по-прежнему гремел гром. Я присела на ступеньку крыльца, усталая и измученная после бурной ночи, не в силах идти еще куда-то в Вильберген, к бабушке. Я заползла под одну из скамеечек на крыльце и заснула. Разбудила меня фрекен.
— Давно ты лежишь здесь? — в руках она держала бумажку Вальдемара.
Я не могла ответить.
— Твою мать зовут Гедвиг Стенман?
— Да-а, она сейчас больна, у нее будет ребенок.
— Вы довольно далеко живете. Сколько до вас идти?
— Это недалеко, в поселке индивидуальных застройщиков.
Она что-то забормотала о том, что остался еще по крайней мере месяц, что еще слишком рано.
— Когда ты уходила, мать лежала? Она была очень больна?
— Да, дяд… отец ударил ее, и она совсем заболела.
— Пойдешь со мной и покажешь дорогу, — быстро сказала фрекен.
— Мне надо идти к бабушке, мне не разрешают быть дома, когда мама рожает, — сказала я.
— Дойдешь до перекрестка, покажешь дорогу. Ну, пошли! — Она дала мне большую булку, собрала в сумку инструменты, вымыла лицо, торопливо съела кусок хлеба с маслом, и мы отправились в путь, оставив на двери записку, куда ушла акушерка.
Это была та самая фрекен, которая приходила к матери, когда она рожала в комнате у Старой дороги. Теперь мать жила уже не на ее участке, но она все-таки согласилась прийти. До нашей акушерки было не ближе.
У нас уже не было кофе, красивых штор, большой уютной комнаты и бабушки, всегда знавшей, что следует делать, когда рождается ребенок, — всего того, что имелось в комнате у Старой дороги. Но фрекен, должно быть, очень любила мать, потому что пришла к ней принять третьего ребенка, хотя мы жили уже совсем в другом пригороде.
Я не могла заставить себя полюбить фрекен. Я всегда ставила ее в прямую связь с болезнью матери. Стоило ей прийти, и все переворачивалось вверх дном. Меня обязательно выгоняли. Некоторые женщины говорили мне, что ребенка приносит фрекен. Но я никогда этому не верила, хотя вовсе и не задумывалась над тем, как рождаются дети. Их появление я считала естественной необходимостью, одним из тех несчастий, к числу которых я относила также злых учительниц, скверных мужчин, которые бьют жен, и женщин, которые вдруг становятся толстыми и вечно охают. Я долгое время думала, что у всех полных женщин, как бы стары они ни были, скоро появится ребенок. Я боялась женщин с большими животами. Даже полицейского, который стоял на углу в предместье, где мы жили, я ужасно боялась не столько из-за его сабли и формы, сколько из-за большого живота. Мне казалось, что полицейский с таким животом вдвое опаснее. А еще я боялась всех толстых стариков.
Я по опыту знала, что большие животы обязательно влекут за собой болезни, крики и жалобы. Там, где мы жили, я видела много новорожденных детей, и все они казались мне безобразными.
Однажды в доме тетки, еще до замужества матери, соседка родила близнецов.
— Ну точь-в-точь как две обезьянки, — сказала тетка другой соседке.
Та утвердительно кивнула, — обе они издавна терпеть не могли мать близнецов.
— Она умрет, — сказала тетка. — Лежит и бредит о крысах, будто бы они бегают по потолку. Как ужасно умереть и оставить двух сирот.
Тетка произнесла это с таким осуждением, словно мать близнецов сама виновата в том, что должна умереть из-за своих похожих на обезьянок детей. Но она не умерла. Однажды я увидела близнецов, мне было тогда около шести лет. Они лежали подле матери на большой кровати — вся семья жила в одной комнате — и показались мне в самом деле страшными. Крысы, о которых говорила в бреду их мать, и два несчастных близнеца — все смешалось в моей голове в один ужасный кошмар: крысы появились на свет вместе с детьми. Однажды бедняжек унесли в маленьком ящике, и я искренне обрадовалась этому. Пока они были в доме, я боялась темноты. Нет, я не могла хорошо относиться к тем фрекен, которые приходили, чтобы помочь появлению детей.
— Ну вот, а теперь отправляйся к своей бабушке, — сказала фрекен.
Я присела и пошла обратно.
На улицах уже появились первые прохожие, вереницы молочных фургонов, мясники и садовники. Тащились нагруженные доверху возы, которых много в любое время года. Дважды я пыталась прицепиться к ним сзади, но оба раза меня замечали и стегали кнутом. Наконец один из молочных фургонов остановился, я вскарабкалась на него и проехала через весь город. Молочнице надо было развезти молоко почти по всей Восточной аллее. Она спросила, не помогу ли я ей. Ну, конечно, я согласилась, все равно мне нечего было делать.
— Разве ты не ходишь в школу? — спросила она и строго посмотрела на меня из-под большой белой косынки.
Нет, мама рожает ребенка, у меня нет времени, — ответила я.
— Куда же ты идешь?
— К бабушке в Вильберген.
— Но ведь это совсем в другой стороне!
— Потом я вернусь обратно, мне ведь не к спеху. Бабушка не знает, что я приду. Мне нужно было позвать к маме фрекен.
— Ну, а твой отец?
— Он… он дома, но не смог пойти, потому что Вальдемар поколотил его.
— Грубияны, — сказала молочница.
— Вальдемар хороший, — вступилась я, — но мой дя… мой папа был очень злой, и тогда Вальдемар взял и поколотил его.
— Да, недаром говорят, что все они негодяи, — сказала старая молочница.
Я испытывала к ней большую симпатию. О том, что дома, в углу нашей мансарды, лежит материя на платье и пара ботинок, я совсем забыла. Наверно, я хорошо понимала, что это взятка, нужная лишь для того, чтобы помириться с матерью. А такими подарками редко дорожат. Мне никогда не нравилось, если меня одаривали мимоходом. Неискренние подарки — самое унизительное в благотворительности.
Я помогала молочнице почти до самого полудня, а она разделила со мной свой завтрак и угостила густым, как сливки, молоком. Она даже подвезла меня немножко до Вильбергена, хотя для этого ей пришлось сделать порядочный крюк, и дала мне десять эре. Теперь у меня было двадцать эре.
Я подождала, пока она не скрылась из вида, и решила до вечера не ходить к бабушке. С двадцатью эре в кармане можно обойти весь город и спокойно поболтаться без дела, а у бабушки надо сидеть на месте и мотать клубки для ее бесконечного вязания. А вопросы, на которые никогда не знаешь, что ответить! Опять она часами будет расспрашивать меня и уж обязательно заметит, если я что-нибудь пропущу или привру. Взрослые вечно задают дурацкие вопросы! Все они таковы, даже самые хорошие и добрые. Им всегда кажется, что человек должен знать, что сказала тогда-то мать и что сказал тогда-то отец, что подумал тот и что подумал другой… Разве можно все это запомнить? А если ответишь то, что придет в голову, выйдет неприятность.
Зато сейчас я совсем свободна. Никто не знает, где я. Никто меня не ждет. Есть, правда, одно «но». Что мне, собственно говоря, делать?
Я вышла на одну из длинных городских аллей. После дождя выглянуло солнце, высушило скамейки, и я присела, чтобы собраться с мыслями.
Аллея в это время дня пустовала, только иногда мимо проходили редкие прохожие — грузчики с Салтенги, но ни один даже не взглянул на меня. Покачиваясь, в сдвинутой на затылок шляпе, приближался Большой Медведь, самый здоровенный и самый страшный грузчик в городе. Он что-то мурлыкал себе под нос. Не обращая на меня внимания, он плюхнулся рядом, и я крепче зажала в кулак свои двадцать эре. Был яркий, солнечный полдень, но мало ли что может случиться. Высокий полицейский, стоявший всегда возле Северного вокзала, медленно шел в нашу сторону. Большой Медведь не видел его. Свесив голову, откинувшись на спинку скамьи и широко расставив ноги, он спал.
Полицейский остановился у скамьи, и я остолбенела от страха. Я панически боялась полицейских, особенно таких толстых и высоких. Большой Медведь был тоже высокий, но зато не толстый. Полицейский, не глядя на меня, положил руку на плечо Медведя и встряхнул его.
Великан только хрюкнул.
— Пожалуй, лучше уладить дело сейчас, — сказал полицейский.
Тогда великан поднялся, намереваясь, видимо, кивнуть полицейскому, но не смог — он был слишком пьян для этого.
— Ну, а теперь пойдем со мной, — сказал полицейский. — Да не шуми. Ответишь за то, что натворил вчера в трактире «Ион-пей-до-дна».
И Большой Медведь, которого все ребятишки предместья считали сказочным героем, безропотно последовал за полицейским, а я с тех пор навсегда потеряла к нему уважение.
Я столько слышала о страшных драках, когда полицейские нападали на Медведя десять против одного, а на самом деле все было совсем не так! Словно притягиваемая магнитом, я встала со скамьи и пошла за полицейским и Медведем. Но у полицейского, видно, были глаза на спине, потому что он обернулся и сказал:
— Ступай-ка своей дорогой, а не то сама попадешь в кутузку.
Сердце замерло у меня в груди. Я остановилась как вкопанная, не в силах сдвинуться с места, а Медведь с полицейским уходили все дальше и дальше по длинной аллее…
Над городом клубился дым фабричных труб. Все прохожие торопились по своим делам. Мои сверстники были в школе. А передо мной бесконечной лентой лежала аллея. Я ничего не могла придумать, мне некуда было пойти; весь, мир казался необитаемой пустыней — без развлечений, без игрушек, без детей. Двадцать эре? Но зачем они мне, если нет товарищей?! Я не пошла к бабушке.
Свернув к городу, я стала бродить по улицам. Я не встретила ни одного ребенка. Должно быть, все они умерли — обычно здесь во дворах всегда играли дети. Я пробовала заходить во дворы, но взрослые тут же прогоняли меня. Какая-то красивая фру обругала меня за грязные ноги.
— У меня есть дома новые ботинки, — ответила я и теперь уже с признательностью подумала об отчиме.
— Ну вот, вечная история. Что это за люди — посылают своих детей нищенствовать, хотя дома у них лежат новые ботинки, — сказала фру. Она подумала, что я пришла просить милостыню!
Я со всех ног бросилась бежать.
Страшная ночь осталась позади, но и день тоже не сулил ничего хорошего.
Меня охватила такая тоска по моей школьной парте, по учительнице, что я заплакала и погрозила кулаком, словно отчим, из-за которого мы переехали, мог это видеть.
Теперь я окончательно сбилась с пути, но, не признаваясь себе в этом, брела под палящим солнцем и плакала. Какая-то старуха поинтересовалась, что со мной стряслось, и тогда я спросила, как пройти в Хольмстад, к моей прежней школе. Эта мысль пришла мне в голову внезапно, когда она заговорила со мной.
Старуха подробно объяснила дорогу. Я сразу поняла, что она сейчас начнет расспрашивать, почему я без шапки да почему взлохмачены волосы, а лицо грязное от слез, и поспешно присев, убежала.
До Хольмстада я шла целый час и добралась туда, когда занятия в школе уже кончились. Я очень устала и хотела есть, в голове шумело. Я села на крыльцо. Может быть, фрекен все-таки придет? А если нет, пойду в богадельню к Ханне. Я должна повидаться хоть с кем-нибудь из тех, кого люблю. Но в этот день мне, видно, суждено было спать на крылечках: я опять заснула. Разбудила меня учительница.
— Почему ты лежишь здесь, Миа? Что с тобой? Ты так ужасно выглядишь.
— Мама должна родить, а я так устала и очень боялась, что полицейский заберет меня. — Фрекен, казалось, не знала, на что решиться. — Вот двадцать эре, — прибавила я, протягивая ей деньги. Но она не взяла их.
— Пойдем, — сказала она и взяла меня за руку.
Ну вот, все снова в порядке, ко мне вернулась радость, — ведь я иду и держу за руку учительницу. После сна страшно чесалась голова, но я не решилась бы почесаться, даже если бы меня кусали тысячи вшей, — мне было хорошо известно, как учительница боится их.
А наверху у фрекен сидел высокий красивый мужчина. Да, кажется, он был красивый.
— Где ты нашла эту маленькую беспризорницу? — спросил он, обнимая мою фрекен.
Мою фрекен! Я вырвала у нее руку и стремглав бросилась вниз по лестнице. Я слышала, как она звала меня, но не остановилась и бежала до тех пор, пока не выбилась из сил.
Никогда в жизни я больше не пойду к ней, никогда не пойду больше ни к кому, лучше пойду в лес, только туда. У них у всех есть мужчины, которые обязательно обнимают их. Ханне противные старики надарили кучу денег, она показала мне полную пригоршню монет. У мамы тоже есть мужчина, и он тоже обнимает ее. И лишь до меня никому в целом мире нет дела. Все они только и думают о своих мужчинах, от которых либо получают деньги, либо плачут. Но моя красивая фрекен! Что же, значит и у нее будет ребенок? Пожалуй… А бабушка? Но ее муж такой тихий и только просит, чтоб не шумели, когда он дома. И она всегда заставляет читать молитвы и мотать пряжу, а потом начинаются расспросы про Гедвиг и Альберта, который «красив, и в этом его несчастье». А по-моему, он совсем некрасивый, он уродливей всех на свете. Но разве посмеешь сказать то, что думаешь?
Усевшись у дороги, я захотела посмотреть на свои двадцать эре. Их не было.
Это немного меня отрезвило. Я вспомнила маму, патоку, смолу, сочившуюся из всех щелей, вспомнила, что стоит маме родить ребенка, как она опять станет стройной, красивой и веселой.
Я было успокоилась, но перед глазами снова встал чужой мужчина, обнимающий мою фрекен, и слезы хлынули ручьем. Усталая и расстроенная после бессонной ночи и полного впечатлений дня, я сидела у обочины и плакала от бессознательной ревности, от унижений и обид, перенесенных в паточном домике, давивших меня непосильным бременем. Я чувствовала себя все более и более несчастной, плач переходил в крик: весь мир ополчился против меня, я никому не нужна… Но тут на дороге послышались голоса, и я притихла. Голоса была знакомые. Ко мне приближались Ханна и Метельщица Мина.
— Боже мой, да ведь это Миа! Пойдем-ка с нами, мы угостим тебя кофе, сегодня в богадельне как раз кофейный день.
Ханна казалась испуганной, как всегда, впрочем, в присутствии матери. Я тут же вспомнила Альвара и снова принялась всхлипывать. Когда горе слишком велико и хочет тебя извести, на помощь ему из могил выходят мертвые.
— Что случилось? — спросила Мина.
— У мамы б-будет ребенок, она больна, — сказала я первое, что пришло в голову, но ведь это было совсем не то, из-за чего я плакала.
— Обойдется, — сказала сведущая в подобных делах Мина. — А тебе-то что? Радуйся, поживешь хоть немного у бабушки.
Всю дорогу Мина болтала без умолку, и слезы мои скоро высохли. Мы с Ханной немного отстали, и она успела мне шепнуть:
— На твоем месте никто теперь не сидит, и фрекен однажды сказала, что после твоего ухода стало пусто, потому что никто не может читать стихи так, как ты.
У меня потеплело на сердце, но стоило Ханне упомянуть про фрекен, как его снова сжало, словно тисками: перед глазами все время стоял обнимавший ее мужчина. И странно — нисколько не осуждая мужчину, я порицала фрекен, позволившую ему обнимать себя. В этом было что-то отвратительное. Чем она лучше Дженни, которая сидела на качелях и целовалась? Рассердившись на фрекен, я взяла себя в руки и к богадельне подошла с абсолютно сухими глазами.
На кухне, в большой открытой печи стояло по крайней мере двадцать кофейников, а под ними — по маленькой кучке раскаленных углей. Каждая старуха варила для себя кофе отдельно. У Мины углей не было, но она решительно выгребла большую кучу из-под других кофейников и, нимало не смущаясь руганью старух, водворила на нее свой блестящий кофейник. Хлеб она принесла из города, и мы с Ханной поели его вдоволь, макая в кофе. Старухи смотрели на нас с завистью.
— Ты купила мне табаку? — спросила Мину старуха, лежавшая на кровати в большой комнате рядом с кухней.
В комнате было четырнадцать кроватей, между которыми стояли тумбочки, и три больших окна; на подоконниках красовались горшочки с одинаковыми цветами. Мина внесла кофейник и поставила его на тумбочку возле своей кровати — они с Ханной спали вместе, — потом отдала пакетик с табаком старухе, которая была так больна, что не могла даже пить кофе.
— Она живет только на табаке и молочном супе, — сказала Мина.
До самого вечера я оставалась в богадельне и играла с Ханной. Было уже часов восемь, когда я наконец отправилась к бабушке, усталая и вконец измученная, но в приподнятом настроении. Понятно, бабушка думала, что я пришла прямо из дома, и, узнав, что мать снова рожает, отправила меня спать, а сама взялась за стряпню.
Настали печальные дни жизни у бабушки. Прежде всего она пожелала вывести из моей головы вшей, но это ей так и не удалось. Она с трудом держала частый гребень своими изуродованными ревматизмом руками, то и дело роняя его, и так рвала мои волосы, что я всякий раз плакала. Каждый вечер приходилось ложиться в восемь часов, потому что в это время укладывался ее старый, всегда усталый муж. Сгорбленный, бледный и тощий, он был так молчалив, что за все время, кажется, не сказал мне ни слова, но почти каждый день дарил два эре. Видно, он всякий раз забывал, что уже кое-что дал мне.
На дворе еще светило солнце, а мне приходилось ложиться и слушать, как жалуются и пыхтят, укладываясь в свою большую кровать, старики и как они наконец начинают храпеть. Труд и старость так согнули их, что они не переставали жаловаться даже во сне. А с улицы доносились крики ребят, спать совсем не хотелось, и жизнь казалась невыносимой.
Иногда я тихонько вставала и открывала бабушкину коробку с газетными вырезками. Целый ворох вырезок из газеты «Эстгётен»: заметки, подписанные «Лассе из Бровика», песенки Безутешного Иеремии и другие забавные вещи.
Одна очень печальная песня начиналась так: «Удел батрака — всю жизнь быть рабом, от колыбели до самой могилы…» Бабушка и ее старик были батраками, но ведь рабы, я знала, должны быть обязательно черными. Поэтому я никак не могла понять этой песни. Бабушкин брат освобождал рабов, они были черные, как сажа. Я видела рабов в воскресных газетах.
В коробке лежали также учебники моего отчима, рваные и грязные. В учебнике естествознания была нарисована стеклянная колба и описан опыт, очень меня заинтересовавший. За неимением ничего более подходящего, я попыталась сильно взболтать мыльную воду в единственном бабушкином графине, надеясь достичь обещанного в учебнике результата. Опыт не удался, а бабушка сильно отругала меня. В «Истории Швеции» — так называлась другая книжка — я прочла о короле, который «умер от дурной болезни». Да, так оно и было на самом деле. К бабушке часто приходила высокая рыжая старуха, которая все время болтала о королях. По словам старухи выходило, что все короли были ужасные люди. Все они болели страшными болезнями, а один король даже умер от «вшивой болезни». «Его завернули в простыню, — говорила она. — Фи, подумай только, в белую простыню за пять эре!»
Да, в учебнике так и было написано: «скончался от дурной болезни». Уж, разумеется, из всех болезней «вшивая» была самой дурной, ею-то и болел король. Может быть, и мне суждено схватить «вшивую болезнь», если мать не скоро поправится? «Завернули в простыню…» Я ложилась на кровать и пыталась завернуться в грубую бабушкину простыню, но ничего не выходило: наверно, нужно, чтобы кто-нибудь помог.
— Что ты там возишься? — спрашивала бабушка. Старик продолжал храпеть, а она сползала с кровати, отбирала у меня коробку с вырезками и грозила отослать домой, если я не буду хорошо вести себя. Я притворялась испуганной, хотя только об этом и мечтала. Но мне все-таки не хотелось, чтобы бабушка узнала мои мысли, это очень бы ее огорчило. Я снова ложилась в кровать и обещала сразу уснуть, лишь бы только она не сердилась и не отсылала меня домой.
Все это было не так страшно, если бы не рыжая старуха, которая приходила почти каждый день. Она советовала бабушке кормить меня заплесневелым хлебом, потому что от него человек становится сильным, и обязательно колотить один раз в день, потому что так написано в библии. А потом она принималась выкладывать истории про своих королей так, будто была хорошо с ними знакома. На стене у бабушки висели портреты нескольких королей и прекрасной принцессы с высокой «викторианской» прической. Все красивые и благородные женщины носили такую прическу, хотя рыжая старуха уверяла, что ее делают только «гулящие», которые шатаются по ночам в норчёпингском парке.
Мне такая прическа нисколько не нравилась. Она была совсем гладкая, а я всегда мечтала о вьющихся волосах.
Бабушка никогда не кормила меня заплесневелым хлебом и, как только убиралась рыжая старуха, давала большой кусок хлеба с маслом.
— Да хранит тебя бог, дитя, — говорила она, и руки ее дрожали. — Не приведи тебе господь перенести столько невзгод, сколько их выпало на мою долю.
— Почему эта тетя так не любит детей? — спрашивала я.
— У нее их никогда не было, понимаешь? Она много перенесла в жизни горя и думает теперь, что стала хорошим человеком только потому, что ей пришлось так худо. Вот почему она хочет, чтоб и детей мучили зря… От голода люди становятся злы, как собаки… Ешь-ка свой хлеб.
На стене, как раз над моим диваном, висят фотографии капитана и трубочиста. Трубочист гораздо красивее. Густые кудрявые волосы, большой нос с горбинкой и большие смелые глаза, которые смотрят прямо на меня.
— Он не был трезвым, когда снимался, — не раз говорила бабушка.
У капитана окладистая борода, ему уже много лет. Я знаю, что трубочист давно умер, но жив ли капитан, не может сказать даже бабушка. А вдруг он все-таки жив и войдет когда-нибудь на своем пароходе в норчёпингскую гавань? Пусть тогда посмотрят на меня ребята из индивидуальных домов!
С такими приятными мыслями я засыпаю. Вместе с Ханной и капитаном мы отплываем на трехмачтовом судне, очень похожем на ту большую барку, что приходит обычно в Норчёпинг с грузом какао, изюма, корицы и других лакомств, названия которых мы даже не знаем. Но на нашем пароходе — только огромные кучи апельсинов.
10
Наступил сентябрь. С холмов Вильбергена потянуло холодом. Я давно перечитала все содержимое бабушкиной коробки, а «Историю Швеции» отчима вызубрила наизусть и любила ее больше всего, хотя она была скучная, глупая и лживая.
Меня почему-то сердило, что рыжая старуха, должно быть, все-таки права и действительно существовал король, который умер от «вшивой болезни». В книге ведь так прямо и было сказано: «дурная болезнь», и дети учили это в школе.
История с дурной болезнью короля лучше всего запечатлелась в моей памяти. А еще я запомнила, как народ, оставшись без короля, избрал королем прекрасного принца, а тот упал с коня и убился до смерти. Густав Ваза и Карл XII не оставили никакого следа в моей памяти, но то, что принц так и не успел стать королем, глубоко меня тронуло. Я представляла себе, как народ стоит на поле вокруг мертвого принца и его лошади, цветы печально кивают головками, совсем как в песне про Хьельмара и Хульду. Следующего короля, удалого Карла-Иоганна, на мой взгляд, не стоило приветствовать. Он все время сражался и жил необузданно, как, впрочем, и все другие короли.
Итак, из всей истории, которую я прочла самостоятельно, я запомнила только короля с «вшивой болезнью» и мертвого принца, которого оплакивает народ.
Значительно позже, когда я попала в народную школу, «моя» история Швеции оказалась такой же глупой и смертельно скучной, как и история отчима, но все-таки только она да еще библия приносили мне радость. География оставалась китайской грамотой до тех пор, пока я не ушла из школы. Мне не было еще десяти, а я уже изъездила Швецию вдоль и поперек, но мое знание страны, вынесенное из этих поездок, никак не совпадало с тем, что преподносили нам на уроках географии.
Мне никогда не удавалось попасть в те места, о которых рассказывалось в учебнике. О Норчёпинге там, правда, кое-что говорилось, но разве это был тот город, который знала я? Упоминался в учебнике и Кольморден, но ни слова не было сказано о том, что там в лесу живет красивый человек, с которым мне суждено познакомиться.
Только из честолюбия учила я скучные уроки истории и с состраданием слушала, как спотыкаются на каждом слове мои товарищи. К тому времени (мне было тогда одиннадцать лет) я по милости судьбы прочла «Историю» Старбека. Лишь немногие ребята из бедных семей были начитанны так, как я. Я наслаждалась «Друзьями бога и всеобщими врагами», приключениями Стурарна и описаниями неурожайных годов, рассказами о рабстве, о борьбе и победе рабов, о долгом регентстве Кнутсона, о покрытых шрамами таинственных храмовниках и сотнями других интересных вещей.
То же самое произошло и с библейскими притчами. Мне не было еще двенадцати лет, когда я бросила учить уроки по скучному и глупому учебнику и стала готовиться прямо по библии, к явному неудовольствию учителя. Иногда меня даже ставили в угол только за то, что я употребляла библейские выражения. «Они не для бедных детей», — откровенно сказал мне как-то один школьный учитель. Он жив и сейчас. Еще десять лет продолжал он учить «бедных детей».
Однажды в полдень, — жить у бабушки стало совсем уж невыносимо, потому что похолодало, и босиком выходить на улицу я не могла, — пришел отчим. Он был не совсем трезв.
— Ну, Миа, собирайся домой, — сказал он и швырнул на стол большой сверток.
— Как Гедвиг и…?
— Гедвиг опять здорова и стройна, как тростинка. Она просила привести девочку домой.
— Да, но…
— Ах, он умер. Он появился слишком рано, но теперь все в порядке, а я уже три недели работаю в порту. Зарабатываю семь крон в день. В пакете тебе печенье к кофе, а для девочки — ботинки. Поторапливайся, свари кофе — в семь часов мне заступать смену.
У бабушки совсем голова пошла кругом.
— Семь крон, — выговорила она наконец. — Да ты никак с ума сошел? Зарабатываешь семь крон, а сюда и носа не кажешь? До сих пор не мог купить девочке пару ботинок? Ни разу не зашел рассказать, что случилось, а мы тут с ума сходим от беспокойства. Миа ведь ничего не знала, когда пришла сюда, вшивая и оборванная.
— Ну, с этим покончено. Гедвиг уже встала, и теперь все будет по-другому. Вот тебе, и не ворчи, — и он протянул бабушке две кроны. Она очень удивилась.
— Ну что ж, спасибо тебе, — сказала она тихо. — Кажется, это первый раз в жизни.
Я посмотрела на портрет трубочиста, на которого так похож отчим, и натянула новые ботинки, провалявшиеся в нашей комнатке почти месяц. Если бы не они, мне пришлось бы идти босиком.
— Дома увидишь кое-что новое, — сказал отчим, когда мы наспех пили кофе, обмакивая в него куски булки. Прощаясь с нами, бабушка заплакала, но мне показалось, что она все-таки не очень огорчена.
Когда заболела мать, путешествие от дома до бабушки отняло у меня целый день, но теперь мы добираемся гораздо быстрее. Новые ботинки немного жмут, но я этого не чувствую. Я без шапки, с всклокоченными волосами, потому что бабушка не успела причесать меня, в мятом и грязном платье, но отчима такие пустяки не смущают. Он крепко держит меня за руку, и я до самой заставы почти бегу за ним. Дальше нам предстоит идти через город, и мы ненадолго задерживаемся: я жду около трактира, пока отчим пьет пиво.
На Новом рынке как раз базарный день. Торгуют десятки ларьков. У одного ларька в большой сетке висит целая связка разноцветных шаров. Я не могу оторваться от шаров, но тут отчим останавливается возле торговца гипсовыми фигурками, разложившего свой товар прямо на мостовой. Меня совсем не интересуют фигурки; повернувшись к ним спиной, я с тоской гляжу на сетку с шарами.
Отчим подробно расспросил о цене каждой фигурки, но заинтересовался только одной. Это была большая группа высотой в полметра: босой мальчик в синих штанах наклонился над пнем, а между ног у него сидит лягушка. Лягушка зеленая, пень коричнево-серый, у мальчика розовое задумчивое лицо. «Лягушка лучше», — решила я и тоже заинтересовалась.
Скульптура стоила две кроны пятьдесят эре. Отчим давал за нее только две кроны. Он был на «ты» с продавцом.
— Ты все-таки заработаешь, черт тебя возьми!
Старик говорил с иностранным акцентом, и я не разобрала, что он ответил. Наконец они сторговались за две кроны. Я поняла, что нечего и мечтать о шаре, раз он купил такой дорогой подарок для матери. Мне он купил за семьдесят пять эре соломенную шляпу; с полей ее свисали две длинные, узкие ленты.
Он захотел, чтобы я сразу же надела шляпу, но я наотрез отказалась. Не к этому же платью! Уж я-то знала, что к чему подходит! И я понесла шляпу в пакете.
Все произошло так быстро, что я не успела ни в чем разобраться. Чувство одиночества еще не покинуло меня. Голова по-прежнему чесалась, и, несмотря на все покупки, я не хотела верить ни в какие перемены до тех пор, пока не увижу живую и здоровую мать.
— Пожалуй, я возьму извозчика, — сказал отчим, захмелевший от выпитого пива.
— Нам это не по карману, мать рассердится, — хмуро возразила я и решительно двинулась вперед.
Он молча побрел за мной.
11
Солнце протянуло по небу длинные дымчатые полосы: иногда ему удается пробиться сквозь облака и осветить заиндевевшую траву и шелестящий репейник. Я — и в то же время как будто не я, а кто-то другой — иду по дороге, семеня ногами и кокетливо пританцовывая, преисполненная сознания собственной красоты. Блестящие, сверкающие чистотой волосы заплетены в светлую косу. На мне новые коричневые ботинки, новые чулки, клетчатое платье из шотландки, соломенная шляпа с длинными, свисающими на спину лентами, а в кулаке зажато целых пятьдесят эре! Я иду в сад, я проникну за живую изгородь!
Наконец-то! И я появлюсь там в самом красивом наряде моего детства. Садовник, конечно, подумает, что я из благородных, не слепой же он? Мать послала меня купить на пятьдесят эре цветов для лавочницы. Фру была так внимательна к матери, пока она лежала больная. Теперь мать уже встала и понемногу ходит по комнате. На нее страшно смотреть, такая она бледная, но зато снова худая и, как прежде, красивая и опрятная. На комоде лежит сделанная из шоколада виноградная кисть, мне подарил ее отчим. Виноградинки завернуты в фольгу, а внутри — белая сладкая начинка. Я знаю это, потому что уже съела один кусочек.
Шоколад лежит возле мальчика, который наклонился к пню и смотрит на лягушку. Я несколько дней искала около дома лягушек, но, видно, они здесь не водятся. Гипсовая лягушка сидит совсем как живая и словно что-то говорит мальчику. А вдруг лягушки и вправду могут разговаривать? Во всяком случае, гипсовые наверняка могут.
— Как только появятся деньги, перво-наперво куплю такой же «бюст», — сказала хозяйка, зайдя к нам и увидев это произведение искусства. — Они прямо как живые. Даже можно испугаться. Сколько отдал Стенман за бюст? (Она упорно продолжала называть скульптуру бюстом.)
Отчим стоял и с недовольным видом теребил усы.
— Мне-то он достался по дешевке, я знаком со стариком. Вы наверняка не сможете купить так дешево. Я отдал пять.
Я заметила, как помрачнела мать, но, видно, сразу же догадалась, что он просто хвастается перед хозяйкой.
Вальдемар тоже приходил к нам посмотреть на фигурку.
— Хорошо иметь дело с такими вот мальчиками, они по крайней мере не просят хлеба, — сказал он и многозначительно перевел взгляд с отчима на гипсового мальчика.
— Да, они не просят хлеба, — подтвердил отчим, оставаясь по-прежнему невозмутимым.
— Черт возьми! До чего эта лягушка похожа на настоящую! И зачем они делают так похоже, смотреть противно, — сказал Вальдемар.
— Их зло берет, что у нас такая фигурка, поэтому у них такой кислый вид, — сказал отчим, когда Вальдемар ушел к себе.
И вот теперь я иду к садовнику, нарядная, чистая и красивая. От этого прогулка кажется особенно приятной. Наконец-то я вознаграждена за все. Хозяйкина Ида рядом со мной выглядела гадким утенком и однажды безропотно откусила маленький кусочек от моего шоколада, хотя у них на чердаке стоит большая банка с патокой. Хозяйка по нескольку раз на день прибегает к нам поделиться с матерью воспоминаниями детства. Как будто никогда и в помине не было отвратительного времени вшей и тряпок и той гнусной ночи, когда сказано было столько грубых слов.
А теперь я, пританцовывая, иду за цветами и собираюсь проникнуть наконец за живую изгородь, ту самую изгородь, которая так напугала меня в лунную ночь. С той ночи, когда мать шла по дороге в одних чулках, меня будто подменили. Теперь все позади. Забот словно не было и в помине. Отчим зарабатывает много денег и приносит их матери вместе с вкусной едой. Правда, иногда он возвращается немного под хмельком, но все-таки приходит домой каждый вечер, и мать, очень тихая и бледная, медленно бродит по комнате, пока он возится с дровами. Доставку воды он тоже взял на себя. Хозяйка лавки совершенно очарована им и разрешает брать воды сколько угодно. Я часто слышала, как он говорит матери:
— Ты такая интересная женщина, Гедвиг, но ты чертовски холодна.
Мать ничего на это не отвечала. Видимо, ее мало радовали комплименты отчима.
— Цветы? — переспросил садовник. — Это не так-то просто, ведь был уже морозец, но мы посмотрим…
И он собрал в огромный букет уцелевшие после заморозков георгины, ветки спаржи, флоксы, желтые рудбекии и большой пук душистого горошка, распустившегося в пору осенних дождей. Я ходила по саду мимо усыпанных плодами фруктовых деревьев, мимо груд паданцев с подбитыми бочками, но даже не взглянула в их сторону и, затаив дыхание, следовала за садовником. А он срезал цветок за цветком, держа во рту кусок лыка, приготовленный, чтобы перевязать букет. Слишком хорошо было в саду, чтобы еще думать о яблоках. В кармане у меня пятьдесят эре, я разодета так, что садовник не решается говорить мне «ты», не прибавив «крошка», о краже яблок не может быть и речи.
— Они еще твердые, — говорит он, связывая огромный благоухающий букет, — но ты все же возьми парочку, крошка.
Я становлюсь вдруг очень застенчивой. Стоит только нагнуться, чтобы поднять яблоко и откусить кусочек, но садовник смотрит прямо на меня. Это слишком уж просто. И тогда я придумываю целую церемонию. Я стою очень прямо, потом немного приседаю, но не нагибаюсь за яблоком и ничего не беру. Садовник сам дает мне несколько яблок.
— Где ты живешь?
— В индивидуальных домах.
— У вас там свой дом?
— Нет, мы снимаем у Вальдемаров.
— Вот оно что, значит это вы Стенманы? — Он внимательно оглядел меня с ног до головы. — Такая славная маленькая девочка, никогда бы не подумал… — Он идет в кладовую, приносит кулек и накладывает в него чудесных мягких груш. — Отнеси-ка домой, они вкусные, угостишь своих.
Я остолбенела от изумления, но вежливо присела, а внутри у меня что-то подпрыгнуло, точно так же, как подпрыгивала на комоде лягушка, когда наступала ночь. В одно прекрасное утро она, наверно, совсем исчезнет. В груди у меня стучали и прыгали маленькие веселые лягушата. Я вышла через калитку на проселок. Вот я и побывала за живой изгородью.
— Какая прелесть, — сказала хозяйка, увидев цветы. — Кому это?
— Лавочнице, — ответила я сдержанно и полезла наверх по узкой лестнице. Душистый горошек благоухал на весь чердак, дверь в нашу комнату была открыта настежь. Мальчик в синих штанах по-прежнему стоял на комоде, все так же глядела на него снизу вверх лягушка, а рядом лежал шоколадный виноград и стояли вазы с пучками сухой травы. На желудевом диване отдыхала мать. Все было спокойно и красиво; шкаф тоже не пустовал, и я знала, что в любой момент могу взять кусок хлеба с маслом.
— Какие красивые цветы! Надо бы сразу отнести их, пока они не завяли. Они такие чудесные, и как их много на пятьдесят эре!
— А вот что мне дали в придачу, — протянула я ей груши.
— В придачу? Это еще почему?
— Садовник решил, что я очень красивая.
— Хм, — только и произнесла мать, — хм…
— Да, он так сказал! Думаешь, я взяла их сама? (Я вспомнила, что прошло не так уж много времени с тех пор, как я предлагала матери украсть яблоки, — это было в ту ночь, когда она сожгла плетеную корзинку.)
— Нет, нет, ты не сама взяла их, но неужели человек должен быть хорошо одет, чтобы попробовать грушу? Или босой ребенок не разберет ее вкуса?
Ну вот, всегда она что-нибудь выдумает. Я не обратила на ее слова никакого внимания. Разумеется, люди угощают вкусными вещами только «благородных» детей, а не тех, которые плохо одеты.
Я взяла одну грушу, цветы и снова вышла.
— А ты знаешь, что нужно сказать? — крикнула мне вслед мать.
— Поклониться от мамы и поблагодарить за помощь во время болезни, — повторила я.
Мать кивнула:
— Не забудь это и обращайся осторожней с цветами… Постой, возьму-ка и я парочку, — она вытащила из букета несколько цветков душистого горошка и поставила их в стакан. Получилось очень красиво. Выйдя с цветами из комнаты, я постояла немного возле бочонка с патокой. Матери, кажется, приятно было видеть меня во всем великолепии, потому что она не торопила меня, а только задумчиво глядела вслед.
Около лавки играли ребята. Они уже не раз видели меня и всегда осыпали бранью или убегали. Если среди них была хозяйская дочка, они обязательно убегали. Она у них верховодила. Но теперь они, кажется, меня не узнали. Хозяйская дочь тоже была с ними, она вертела веревку за один конец, другая девочка за другой, а третья прыгала.
Я сразу заметила, что вертят веревку они слишком медленно, а девочка прыгает просто скверно. Не обращая на них никакого внимания, я вошла в лавку и отдала фру цветы.
— Мать кланяется и благодарит за помощь во время… во время… за то… что она… за то, что фру приходила к ней, когда она болела, — вспомнила я наконец.
— Дорогая моя, кланяйся от меня фру Стенман. Я сразу поняла, как только вас увидела… А какая красивая ты стала, девочка. Теперь уж ты, наверное, больше не захочешь помогать мне в саду? — Она накладывает в пакетик несколько леденцов и дает мне.
— Что вы! Я только сбегаю домой, надену будничное платье и опять приду!
— Нет, нет, я пошутила. Будь такой же красивой целый день. Уж сегодня-то ребята согласятся с тобой играть. Вон они стоят и ждут тебя.
Я промолчала. Фру взглянула на меня испытующе, и я ответила вызывающим взглядом.
— Не хочу с ними играть, — выпалила я, потом присела и выбежала из лавки. А на улице меня поджидала Ида и еще несколько девчонок.
— Миа! — храбро крикнула Ида, желая, видно, показать остальным ребятам, что знает, как меня зовут.
— Некогда, — кратко сказала я и пошла своей дорогой.
Дети последовали за мной. Фру вышла из лавки.
— На, поиграй моим обручем, — и одна девочка протянула мне чудесный плетеный обруч и палочку.
— Мы будем крутить веревку, а ты прыгай, — с готовностью предложила Ида.
Прыгать среди пыли в новых ботинках? Но должна же я показать им, как это делается! К тому же пыль можно потом вытереть и мать ничего не узнает.
— Ты умеешь прыгать? — робко спросила другая девочка. — Если не умеешь, не бойся, мы тебя научим.
— Подержи-ка, — решительно сказала я и отдала Иде пакетик с леденцами.
Две девочки начали крутить веревку, я подбежала и стала спокойно, даже равнодушно прыгать.
— Быстрее… быстрее! — крикнула я и закружилась на одной ножке. Теперь они увидят! Мое новое платье развевалось, коса прыгала по спине вверх и вниз, девочки покраснели от напряжения, а я все подгоняла и подгоняла их. И, честное слово, я выскочила из-под веревки, ни разу не зацепив за нее.
Я и виду не показала, что запыхалась, молча взяла у Иды свой пакетик и начала сосать леденцы.
Наступившее молчание было достаточно красноречивым. А на крыльце лавки стояла и смеялась фру.
— Ты вполне можешь пойти в цирк, Миа. Кланяйся маме и благодари за цветы! — крикнула она мне.
— Так прыгают только в городе, — тихо сказала одна из девочек.
— Я и научилась в городе, а еще мы, когда прыгали, бросали мячи. Я могу даже вальс танцевать под веревкой.
— Ты из города? — изумленно спросили они, словно видели меня впервые и ни разу не гнали прочь.
— Да, из города. (Они ведь не знали, что я ходила в хольмстадскую школу и что моя лучшая подруга жила в богадельне.)
Я медленно направилась к дому.
— Разве ты не хочешь поиграть с нами? Давай прыгать через веревку с мячом! Я сбегаю домой за мячами, у меня их два, и один дам тебе.
Девочка так горячо упрашивала меня, что даже подошла вплотную, потом несколько раз завистливо провела грязным кулаком по моему новому платью.
— Отстань, — сказала я и оттолкнула ее. Мне было противно, захотелось домой — к шоколадному винограду и мальчику с лягушкой, к худой и бледной матери, которая каждый вечер перед приходом отчима начинает беспокоиться, бродит из угла в угол и что-то бормочет. Она боится, что он опять не придет, хотя он ежедневно уверяет ее, что прошлое никогда больше не повторится.
А с ребятами что-то получилось не так. Гордость моя исчезла, я стояла на дороге, окруженная целой толпой детворы, и мне было очень грустно.
Все произошло как-то неожиданно. Они слишком долго мешкали, а я слишком долга была одна — теперь я не хотела ни с кем водиться. Прыгать через веревку я умела и раньше, еще до того, как у меня появилось красивое платье. Разве надо было надеть новое платье, чтобы получить право играть с ними? Но ведь сами-то они вовсе не такие уж нарядные. Я никак не могла понять этого, мне хотелось поскорее уйти. Какие они глупые, сопливые, завистливые!
Я знала, что могу плюнуть в них, а они и глазом не моргнут. В них воспитали почтение ко всему новому, богатому, ко всякому, кто хоть в чем-нибудь выше их. Теперь — нарядная, с леденцами в руках — я могла делать все что угодно. Но надолго ли? Как только платье и ботинки износятся, все опять станет по-прежнему. Меня снова начнут гнать. Как могут существовать дети, столь непохожие на Ханну? Почему Ханна только одна? Чего они от меня хотят? Раньше они ругались и дразнили меня, стоило мне только приблизиться. Что же им нужно теперь?
Во мне сразу проснулась безграничная любовь к матери, к нашей комнате, к привычным и милым вещам. Ведь мы с матерью так одиноки, у нас ничего нет, только вазы, комод да еще кое-какие вещи… Желудевый диван мне в тысячу раз дороже, чем вся эта ватага! Захотелось покоя, чтобы меня никто не стыдил, не подлизывался, захотелось поскорей уйти домой. Мне они не нужны. Все, чего я так горячо желала, оказалось ненужным. И девчонки, для которых главное — красивое платье, тоже не нужны. Отчим терпел меня только ради матери, ребята — ради нового платья. Одной лишь матери была я нужна; да еще образ Ханны жил в моем сердце, голос ее причинял боль и звал.
Не отвечая на их просьбы остаться поиграть, я продолжала медленно идти к дому. Они не отставали.
— Я пойду домой, я не хочу играть. Вот вам мои леденцы, — не останавливаясь, я протянула конфеты той девочке, что стояла ближе.
Они сразу отстали, сгрудились вокруг девчонки с конфетами, совсем как стая ворон вокруг кучки зерен. Я уныло поплелась дальше.
Так в первый раз узнала я то безысходное одиночество, которое охватывает человека, когда он сталкивается с людской несправедливостью и равнодушием к несчастным, с преклонением и раболепием перед счастливцами или теми, кого принимают за счастливцев. Чувство это скоро переходит в покорность судьбе, превращается в оковы, имя которым — ничтожество и беспомощность.
Наступил октябрь, а мы все еще жили у Вальдемаров, хотя давно уже решили переехать. Теперь не проходило дня, чтобы не прибегала Ида, умоляя меня выйти поиграть, а внизу дожидались ребята. Ида рассказала им о красивом «бюсте» — мальчике с лягушкой, и хотя мне пришлось снова надеть свое старое платье, то недолгое время, что мы еще жили у Вальдемаров, верховодила уже я.
Ребенок не способен долго размышлять о людском непостоянстве и легкомыслии, но где-то в глубине души все-таки остается трещинка. Кончилось тем, что я стала тиранить ребятишек поселка. Мы часто прыгали через веревку, но я никогда не снисходила до того, чтобы самой крутить ее. Я только приказывала. Их дело было повиноваться, не то я отказывалась с ними играть. Я подбивала ребят на всякие выходки, за которые дома их нещадно лупили. Даже Иде крепко досталось однажды вечером за то, что она слишком поздно пришла домой. Но никто не смел жаловаться. А меня же мать в это время не била. У нее попросту не было сил.
Я так долго вертелась среди взрослых, столько наслушалась разговоров, что теперь фантазия моя разыгралась вовсю. Лавочница рассказывала как-то про одного старого батрака, работавшего в саду у ее родителей. Он ел картошку прямо в мундире. Я знала, что сад их расположен сразу же за поселком. Много темных октябрьских вечеров подряд таскала я за собой девчонок к этому саду, и мы часами караулили под кухонным окном, надеясь увидеть, как старик будет есть картошку в мундире. Мне удалось внушить ребятам, что это — предел человеческих возможностей.
На тонких занавесках освещенного лампой окна четко выделялись тени людей. Но старика мы среди них ни разу не видели. Зато часто было видно, как два лица приближаются друг к другу. Тогда мы замолкали. Мы были прежде всего девочками.
— Они целуются, — шептала я, — они любят друг друга, — и мы замирали.
— Она не пошла к своему дружку, она утопилась в Обакке, — снова рассказывала я, когда мы в осенней темноте возвращались домой, так и не увидев старика. Девочки слушали затаив дыхание, а потом покорно сносили побои, которыми их награждали за позднее возвращение, но на следующий вечер опять тайком пробирались к лавке, и мы снова шли в сад. Мы подкрадывались к окну примерно в одно и то же время и всегда видели те же две тени; что бы те двое ни делали — ужинали или пили кофе, — в конце концов лица их непременно сближались. И всегда у меня находилось что рассказать девочкам на обратном пути.
Однажды я спросила фру, где сейчас тот батрак, который ел картошку в мундире.
— Бог мой, девочка, что ты болтаешь? — удивилась она. — Он умер ровно тридцать лет назад.
Да, это был удар. Раньше мне не приходило в голову спросить, а теперь оказалось, что с тех пор, как он ел картошку в мундире, прошло уже тридцать лет!
Ни слова не сказала я об этом своим подругам. Свалив все на мать, которая якобы заставляет меня помогать укладываться, я больше не выходила по вечерам на улицу. Хорошо еще, что мы должны были переехать, иначе история со стариком выплыла бы наружу.
Отчим лишился своей временной работы. Теперь он целыми днями торчал дома, и я часто слышала, как мать говорит, что на новом месте жалованье будет слишком маленьким.
— Что сделаешь на сто пятьдесят крон в год?
— А квартира, а дрова, а мука?
Но мать это, по-видимому, не убедило.
12
В один из последних дней октября мы с матерью, покачиваясь, ехали в одноконной рессорной коляске с полстью. Такие коляски считаются очень удобными и красивыми. Крупная, гладкая и очень ленивая лошадь останавливалась перед каждым холмиком, хотя вещей у нас было совсем немного, а пассажиры не отличались полнотой: мать, снова худая и стройная, я с ввалившимися щеками да правивший лошадью отчим, которого никак нельзя было назвать толстым. Мать и отчим опять поладили, и я, как всегда, безропотно отошла на задний план. Во всяком случае, мне так казалось.
За нами медленно двигался воз с желудевым диваном и прочим скарбом. Его тащила пара хорошо откормленных лошадей, которые норовили пуститься вскачь, встряхивая поклажу, всякий раз как наша ленивая лошадь переходила на мелкую рысь. Паточный домик уже два часа как остался позади. Проводили нас с почетом.
Вечером накануне отъезда Вальдемары угостили нас прекрасным ужином с пивом и водкой, которой было не очень много, так что никто не напился. На мне было новое платье из шотландки и новые ботинки. Вальдемар посадил меня на колени, и от него вовсе не пахло — недавно прошел дождь. А отчим усадил на колени хозяйку, сказав, что она кругленькая и симпатичная. Мать только хохотала, потому что очень уж комично выглядела на коленях у отчима хозяйка, испуганно пялившая глаза на Вальдемара и красная от шлепков, которыми награждал ее отчим. Ужин прошел очень приятно и весело.
Вальдемары подарили матери большую банку сиропа, а мать отдала хозяйке платье, которое получила когда-то от общества помощи бедным.
В день отъезда Вальдемар пришел домой днем и предложил помочь нам носить вещи, а пекарь притащил большой каравай хлеба, но был так пьян, что, наверно, и сам не понимал, что говорит. Он кричал:
— Как только фру Стенман овдовеет, я приду к ней и посватаюсь! Берегись, Стенман, как бы она не овдовела слишком скоро!
Но отчим не рассердился, а только посмеивался над пекарем вместе с Вальдемаром.
Я слышала, как Вальдемар тихо сказал матери, так, чтобы никто больше не слышал:
— Если опять станет невмоготу, знай, что здесь для тебя всегда есть комната, хоть и не ахти какая хорошая.
Два часа пути отделяло меня от паточного домика. К вечеру заметно похолодало. От равномерного покачивания слипались глаза, и я то и дело клевала носом. К тому же я немного замерзла. Отчим и мать без конца болтали, не обращая на меня никакого внимания. Бог знает о чем они только не говорили! Всего несколько раз мать оборачивалась в мою сторону и спрашивала, как я себя чувствую. Тогда и отчим оборачивался и спрашивал, не кажется ли мне, что ехать очень забавно.
Стоило только ему спросить об этом, как наше путешествие сразу переставало казаться забавным.
Когда мы наконец добрались до места, было совершенно темно. У самой дороги, по которой, видно, не часто ездили, стоял одинокий дом. В нем кто-то уже жил, несколько окон было освещено. Возле самого крыльца я заметила дерево, высокое, с голыми ветками.
Здесь отчим будет всю зиму работать возчиком. Мы вошли в пустую комнату с оштукатуренными стенами.
— Пахнет людской, — сказала мать, оставляя дверь открытой.
Откуда она взяла, что пахнет людской? Я изо всех сил нюхала воздух своим вздернутым носом, но так ничего и не почувствовала, кроме запаха табака и крыс.
— Действительно, что за черт! Не закрывай дверь, — сказал отчим, который последнее время, как эхо, повторял слова матери.
А комната была вовсе не так уж плоха.
Я почувствовала себя в ней хорошо сразу, как только вошла.
Всю переднюю стену занимала огромная шведская печь, в которую был вделан маленький железный очаг с надписью: «Емкость — 4».
Пол, выложенный широкими суковатыми досками, подметен, но не вымыт. В повозке среди других вещей лежала корзина, куда мать упаковала лампу, котелок, кофе — и вот теперь она зажгла лампу и, не снимая верхней одежды, начала возиться у печки.
Комната очень большая, с тремя окнами и низким потолком, со стен кое-где обвалилась штукатурка.
— Последнее время молодежь устраивала здесь танцы, — разъяснил нам возчик.
У новых соседей мать заняла фонарь и несколько поленьев. Меня больше всего интересовало, как будут расставлены наши вещи. Нет, здесь, конечно, станет красиво.
Но мать велела ставить мебель в беспорядке посреди комнаты.
— Наверняка в таком старом доме есть клопы, — сказала она тоном бывалого человека. Возчик засмеялся и разгладил усы; всякий раз, когда мать что-нибудь говорила, он брался за усы.
Скоро вся мебель была внесена. Мать приготовила кофе, и мы стали пить его на новом месте.
— Конечно, надо бы угостить тебя чем-нибудь покрепче, — сказал отчим, — но женщины теперь пошли не те.
Возчик бросил на мать критический, слегка укоризненный взгляд, а я тотчас почувствовала к ней огромное уважение. Подумать только, «он» даже не смеет выпить при матери! Интересно, как она этого добилась?
Задумавшись, я уснула прямо за столом, даже не допив кофе.
Когда мать достала наконец подушку и простыню, она разбудила меня: пора было ложиться. Возчик уже ушел, а отчим стоял у печки, над щелью в полу, и с кочергой в руке подкарауливал крыс. Две крысы уже побывали у нас в гостях и поздравили с приездом.
Проснулась я на рассвете с каким-то странным чувством: мне казалось, что пол качается, как повозка, и вместе с ним качается желудевый диван. Но зато как хорошо после долгого перерыва снова лежать на своем диване! Как неприятно было спать на полу. Так ведь стелют только бродягам. Зато теперь я уже не спала на полу. Много раз пересчитанные желуди как будто улыбались мне. Большая печка была словно крепость против всех холодов Южного и Северного полюса.
Мать стояла возле печки и светила маленькой жестяной лампой.
— В стене тараканы, — сказала она.
Эта новость меня не тронула. Я никогда не видела тараканов.
Сквозь незанавешенные окна было видно, как одна за другой гаснут бледные звезды, четко вырисовываются ветви дерева, а на самом кончике одной из них повисла луна.
Тут я совсем проснулась, охваченная каким-то радостным ожиданием. Дерево, звезды, луна, духовка — большая, как у бабушки. Я села на диване, который будет стоять посредине комнаты до тех пор, пока не выяснится насчет клопов.
На крыльце загрохотали шаги отчима, я услышала, как чей-то женский голос торопливо пожелал ему доброго утра и как отчим ответил. Он принес в комнату запах конюшни и свежего октябрьского утра.
— Прямо против наших окон бегает женщина в одной сорочке, представь себе, — сказал он матери.
— Должно быть, поздно проснулась и не успела одеться. А тебе нечего глаза пялить, раз она такая бесстыдница.
— Что ты мелешь! Куда этой бабе так спешить, что она не успела даже надеть юбку?
— Может, у нее совсем нет юбки… А в стене полно тараканов, — рассердилась мать.
— Ну и пусть! Лишь бы клопов не было, — сказал отчим и сел к столу. Завтрак его состоял из нескольких ломтиков шпика, мучного соуса и куска хлеба — обычный для того времени завтрак в провинции Викбуланд, который можно было увидеть как на столах хуторян, так и в богатых усадьбах. Горожане предпочитали заправленный мукой молочный суп, но сегодня мать приготовила нам сельский завтрак. Она, видимо, считала, что не обязательно начинать с молочного супа.
— Здесь есть и клопы, — сказала мать. — А я-то надеялась, что наконец у нас будет сносная квартира. Лошади-то были такие сытые. И доехали мы в коляске, а не валялись на возу, как цыгане.
— Хозяин хотел поговорить с тобой. Кажется, ему нужна доярка. По-моему, ты справишься и сможешь доить за небольшую плату.
— Я? Ты получил место, ты и работай!
— А ведь здесь не так плохо. Нужно только вымыть пол и чуть побелить стены, тогда сразу станет красиво. Во всяком случае, лучше, чем на чердаке у Вальдемаров. По крайней мере на дверях есть петли. Вставай-ка, Миа, помоги матери убрать комнату!
Я быстро вскочила и впервые подумала, что отчим прав.
Когда мы повесим крахмальные шторы и поставим ольховые ветки в вазы, здесь и правда станет красиво. Кроме того, можно будет расстелить мамины половики. В хольмстадской комнате не умещалось больше двух половичков, а здесь они все улягутся в ширину.
Когда совсем рассвело, мать погасила лампу, и комната наполнилась скупым октябрьским светом, теми утренними осенними сумерками, не темными и не светлыми, когда все выглядит серым и скучным. Комната, совсем недавно полная тепла, уютного запаха кофе и соуса, сделалась вдруг холодной и неприветливой. Сразу стало видно, что сваленная в кучу мебель старая и потертая. Прежде я никогда не замечала, что она такая некрасивая. Комод, кровать, мой диван — все стало некрасивым.
На пол, черный и грязный, невозможно ступить босыми ногами. Должно быть, мать тоже заметила это, так как она взглянула на пол, и лицо ее исказила гримаса.
— Обычно когда на полу танцуют, он становится белым, — сказала она, — а здесь, верно, собирались летом сажать картофель.
Отчим встал из-за стола, взял шапку и кнут. Из полукилограммовой пачки, откуда я заблаговременно вытащила фольгу, он переложил в свою коробочку немного табаку и отправил порядочную щепотку в рот, разговаривая во время всей этой процедуры густым басом: — Мум-мум, тебе не дали еще, мум-мум, глотка кофе, а, Миа? В первое утро, мум-мум, на новом месте не грех выпить кофе, мум-мум, в постели. Да, мум-мум, а теперь прощайте, — он смахнул с усов табачные крошки, повернулся к двери и, подойдя к матери, обнял ее.
— Ничего, Гедвиг, ты ведь у меня умница, ты отлично сумеешь устроиться в этой лачуге.
Потом он ушел.
Я сидела на желудевом диване, болтала босыми ногами и негромко передразнивала:
— Ты ведь у меня умница, ты отлично сумеешь устроиться в этой лачуге.
Мать засмеялась.
Моя будничная одежда был запакована, поэтому я надела платье из шотландки и новые ботинки. Я считала, что так и нужно: на новом месте меня сразу же должны оценить. Хотя придется все-таки сказать здешним ребятам, что на мне не будничная одежда, а, пожалуй, самая нарядная.
— Теперь больше не станем по утрам возиться с кофе, — сказала мать. — Будешь выпивать вместо него чашку цельного молока. Нам дают по два литра в день да еще четыре литра снятого, так что должно хватить…
В это первое утро я покорилась, хотя меня такая новость ничуть не обрадовала. Мать заметила, что я огорчена.
— Ты всегда делала, что хотела, и питалась одним кофе с хлебом. Вот и не выросла ни капли за лето, теперь вместо кофе будешь пить молоко с куском сахара.
Мать знала, где собака зарыта. Когда в рабочих семьях детям не давали кофе, они и не думали жалеть об этом, они просто боялись, что взрослые лишат их куска сахара, Мать, конечно, хорошо помнила это с детства.
— Какой он стал добрый, — сказала я, уплетая хлеб с молоком.
Мать только хмыкнула.
В дверь постучали. Вошла молодая женщина — наша новая соседка. Ей не больше двадцати лет. Значит, это ее видел отчим в одной сорочке. Мать окинула ее критическим взглядом. Теперь во всяком случае, кроме сорочки, была надета юбка. Но руки по-прежнему оставались голые. Сорочка — серая и грязная. Вместо блузы или кофты она надела мужской жилет без единой пуговицы. Грудь очень высокая, из выреза сорочки торчит грязная тряпка. Жилет и сорочка на груди задубели от какой-то жидкости. У нее толстые кроваво-красные губы, а зубы широкие и редкие. Нос, тонкий у переносицы, книзу сильно расширен. Большие выпуклые глаза с густыми темными ресницами. На спине длинная черная коса.
— Я решила зайти познакомиться, — сказала она, входя в комнату и протягивая матери руку. — Меня зовут Ольга.
— Ну, а меня можно называть Гедвиг, — не слишком приветливо ответила мать. Видимо, ей не понравилась небрежно одетая соседка, живот у которой торчал, как у пятидесятилетней старухи, хотя лицо было совсем молоденькое. А соседка подошла ко мне и тоже протянула руку.
— Встань, Миа, поздоровайся, — раздраженно сказала мать.
Я продолжала равнодушно сидеть, не обращая внимания на молодую женщину. Мне она тоже не понравилась, а тут еще эта неприкрытая бедность! Такой бедности я еще не видела, хоть и достаточно нагляделась, несмотря на свои восемь лет.
— Присаживайтесь, Ольга, — немного дружелюбнее сказала мать и загремела кофейником.
— Какое красивое платье! — совсем как ребенок, радостно воскликнула Ольга, глядя на мое платье из шотландки. Ведь она была всего на двенадцать лет старше меня.
Я нарочно выставила ноги в новых ботинках — пусть видит, что я вообще красиво одета.
Мать накрыла на стол, поставила кофе, покупной пшеничный хлеб и сладкую лепешку, которую всучила нам хозяйка паточного домика «для почина на новом месте». Ольга старалась делать вид, что не интересуется этими лакомствами, но глаза ее были прикованы к тарелке с хлебом и сахарнице.
— Ольга, надо привести в порядок волосы, — неожиданно сказала мать.
— Да, я пробовала, но, с тех пор как родился малыш, у меня почти все время такие головные боли…
Я поглядела на нее внимательнее: родила ребенка, а сама ходит с распущенной косой, это ведь не принято.
— Сколько малышу?
— Месяц.
— Да, и моему тоже месяц, — сказала мать, и глаза ее уставились куда-то вдаль.
Ольга внимательно посмотрела на мать, окинула взглядом комнату, потом снова взглянула на мать.
— Он умер.
Выпуклые глаза Ольги наполнились слезами. Теперь она смотрела на мать, как на человека, которому достался самый крупный лотерейный выигрыш, в то время как сама она осталась ни с чем.
— Я бы хотела, чтоб мой тоже умер, — сказала она. — Он вечно болеет, да и я тоже, и молоко течет из груди, так и хожу мокрая, а он даже сосать не может.
Тут я поняла, что ничего интересного уже не услышу. Хватит с меня рассказов о родах и тому подобных вещах. Потихоньку я выскользнула на улицу.
Ну вот, здесь по крайней мере есть крыльцо со скамейкой. Правда, над ним нет крыши, поэтому скамейка темная и мокрая после дождя, со множеством круглых следов от ведер и молочных бутылок.
Дом, на мой взгляд, чрезвычайно красив. Он оштукатурен и выбелен, у окон черные наличники и темные железные подоконники. «Он совсем не похож на деревянные лачуги индивидуальных застройщиков», — подумалось мне. Я решила, что дом построен из камня, только перегородка деревянная и с обеих сторон обмазана глиной. Единственной опорой служит огромная печь, которая тянется через весь дом. Когда-то здесь была пекарня и пивоварня большой усадьбы, которую теперь разделили на крестьянские дворы.
Со всех сторон дом окружает пустынная, мрачная равнина. Вдали виднеется темная полоска — Кольморден. Вокруг ни деревца. Только возле самого дома стоит старая яблоня, ствол которой в метре от земли разветвляется на три части.
Алая полоска на востоке становится все шире, вот-вот должно показаться солнце. Я во все глаза гляжу на небо сквозь голые ветви дерева и вдруг замечаю два яблока, чудом уцелевшие на самой макушке. Мои яблоки. В этом не может быть никакого сомнения. Как только надену будничное платье, непременно полезу за ними. А возле угла дома поникло несколько вялых ноготков, устоявших против октябрьских заморозков. Они тоже мои. Наконец-то у человека появилась хоть какая-то собственность! Мгновение я прислушиваюсь: ни звука, только каркают вороны да из дома доносятся голоса. Мать и Ольга все еще болтают.
Я не успела побывать на хуторе и знала только, что лошади, на которых мы приехали, были оттуда. Около дома начинается извилистая тропинка, потом она исчезает за косогором. Там, наверно, и хутор. Детских голосов не слышно. «Должно быть, еще слишком рано, — утешаю я себя. — Дети просто еще не встали». При этой мысли я тотчас чувствую свое превосходство над воображаемыми хуторскими ребятишками, потому что встала раньше их и приехала вчера в коляске с полстью.
Но оказалось, что на хуторе вовсе нет детей. Ни одного, кто годился бы мне в товарищи. В трех семьях хуторских батраков были дети, но мать сказала, что они грудные. А двое торпарей были уже такие старые, что их дети успели давно уехать в Америку. Я оказалась одна-одинешенька на всем хуторе, большом крестьянском хуторе. До соседнего поселка было далеко, а до школы еще дальше. Почти восемь километров. Ужасно далеко.
— Ну что ж. Ничего не поделаешь, — сказала мать.
Уже три месяца, как я перестала ходить в школу, и вот эта зима опять пропадет.
— Сможешь и здесь читать и писать, чтобы совсем не разучиться, — сказала мать.
Ни одного товарища для игр! Вместо этого я сама стала мамой. Не думайте, что мое материнство произвело сенсацию: просто я стала мамой Ольгиного ребенка.
Особой радости я не почувствовала, это была лишь печальная необходимость. Когда привезли паровую молотилку, всем взрослым пришлось идти на хутор. Ольге тоже. Грудного ребенка оставили на меня.
После переезда мать целую неделю днем и ночью возилась дома, по вечерам ей помогал отчим, и наконец комната стала очень уютной. Стены сверкали белизной, на печи красовались синие цветы: мать нарисовала их той самой синькой, которой синила шторы. На всех трех окнах висели шторы: на двух — длинные, а на третьем, ближайшем к плите, — короткая. Из упаковочных ящиков отчим смастерил скамейку и обил ее жестью.
— Для кухни длинная штора не годится, — объяснила мать.
Одна половина комнаты стала жилым помещением, другая — кухней. Здесь было почти так же красиво, как в комнате у Старой дороги, но все-таки…
Приведя комнату в порядок, мать пригласила Ольгу на чашку кофе. Я так напряженно ждала, понравится ли Ольге комната, что даже забыла о яблоках, вот уже целую неделю висевших на ветке, сопротивляясь морозу и моим попыткам их сбить. Наконец она пришла с малышом, завернутым поверх пеленок в старый мужской пиджак. На этот раз волосы у нее стянуты на затылке в огромный узел. На ней полинялая, но чистая рабочая блуза — видимо, мужская, — с обрезанными и подшитыми рукавами, старый заплатанный передник. Все стираное, но неглаженое.
Вошла она робко и неловко, едва осмеливаясь ступать по маминым половикам, ничего не говорила и только оглядывалась.
— Гедвиг, наверно, служила в богатых домах, — сказала она через некоторое время.
— Ничего подобного, — удивилась мать. — А почему ты спрашиваешь об этом? — Я хорошо видела, что мать знает, почему Ольга спрашивает, и, дрожа от любопытства, ждала, что же ответит Ольга. Наконец-то явилась восхищенная публика. Восторженная, не испорченная мирской суетой публика. Ни одна деталь не могла укрыться от глаз, привыкших к самой убогой обстановке, какую только можно себе представить. Ведь такую бедность, как в комнате у недавно вышедшей замуж Ольги, я не видала больше нигде, даже в Южном предместье.
Такую публику легко удовлетворить.
Больше всего поразили Ольгу цветы, нарисованные синькой на белой печи, и мальчик с лягушкой. От лягушки она просто не могла оторвать глаз. Мать не нашла поблизости ни одной ольхи — до леса было добрых двенадцать миль, — поэтому в вазах стояли сосновые ветки. Мать любила ольху — там, где она родилась, было большое ольховое болото. Она часто рассказывала мне про это болото. Лоси там были необычайно крупные, змеи — «ужасные»; там росло так много брусники, как ни на одном болоте в мире. Нужно было только отойти на несколько шагов от дома, чтобы за один час набрать полную корзину.
Ольховое болото навсегда осталось для меня символом неслыханного изобилия, местом, куда открыт доступ всем беднякам.
— Нет, в богатых домах я не служила, я работала только у крестьян. У меня еще до замужества родилась девочка, так что в богатых домах мне нечего было рассчитывать на работу.
Мать определенно сошла с ума. К чему она все это говорит? Мне показалось, что лицо у Ольги просияло и она сразу перестала быть безропотно-восторженной. «Девочка до замужества» — ведь именно этим постоянно кололи нам глаза «состоятельные». И вот теперь, когда нашелся наконец человек, думавший, что мы из «благородных», мать сразу же разболтала о «внебрачном ребенке», крестьянах и всем прочем.
— У вас здесь так же красиво, как там, на хуторе, — сказала Ольга. — Даже красивей, у них ведь нет таких картин.
Нет, я ошиблась, Ольга по-прежнему лежит во прахе. Пария, покорно склоняющаяся даже перед тенью брамина. Рядом с Ольгой мать в своем залатанном платье и перешитых обносках выглядела изысканной фру. На мне было платье, тоже переделанное из старого, надставленное, с заплатами на тех местах, где остались дырки от петель и карманов. Но это была настоящая роскошь по сравнению со старым, пропахшим хлевом и конюшней мужским пиджаком, в который был завернут несчастный ребенок Ольги, крошечный, весь в прыщах, с красными, гноящимися глазами.
Только самые бедные способны по-настоящему воскурить фимиам аристократизму. К нам весь этот аристократизм тоже не с неба свалился. Мать смотрела, как одеваются благородные, и по тем же фасонам перешивала платья, которые получала в домах помощи бедным. Вот почему мы были одеты не хуже других.
Но стоило матери испортить фигуру, как начинались приступы рвоты, разговоры о «фрекен с сумкой», и мы неудержимо катились вниз, к тому состоянию, в котором была теперь Ольга. Но нет, все-таки мать никогда не выглядела так ужасно. В старой мужской рубахе она никогда не ходила. Без сомнения, причина бедности — дети. То же самое сказала и Ольга.
— В городе всегда можно хоть как-то обернуться и чего-нибудь раздобыть, — сказала она так, словно вот-вот собиралась переехать в город.
— Угощайтесь, — пригласила мать. Ольга не отказывалась; она попыталась даже впихнуть немного кофе и хлеба в рот своего месячного ребенка.
— Он еще слишком мал для такой пищи, — заметила мать, — да и не нужно приучать его к кофе. Он начнет еще больше капризничать и совсем спать перестанет.
— Разве он вырастет на одних молочных помоях? — сказала Ольга. Но в этот момент малютка поперхнулся, весь посинел, даже не мог кричать и только тяжело, с присвистом дышал.
Мать взяла его на руки, перевернула лицом вниз, слегка похлопала через грязный пиджак по спине, и вот сверток заревел. Мне сразу показалось, что у нас стало уже не так уютно. Просто удивительно, как детский крик может испортить красивую комнату.
Ольга разволновалась, хотела взять свой «сверток» обратно, но мать села с ним около печки и, развернув пиджак, пощупала пеленки.
— Он мокрый, — сказала она.
— Да, но у меня нет других пеленок, — ответила Ольга, — они сохнут на печке.
Держа мальчика в одной руке и не обращая внимания на его неистовый крик, мать подошла к ящику, в который меня никогда не тянуло заглянуть. Я прекрасно знала, что там: несколько кофточек, рубашонок и чистые тряпки, вполне пригодные для того, чтобы завернуть в них дурно пахнущую живую куклу. Мать вытащила полный комплект чистого детского белья и совсем еще хорошее суконное одеяло, которое купила когда-то на бумажной фабрике.
— Лучше всего постоянно иметь это про запас, никогда ведь не знаешь, сколько будет детей, — сказала мать.
Чем дальше, тем все хуже и хуже. Вот мать наливает в тазик теплой воды. Ой, да она собирается в нашем тазу купать ребенка! А ведь в нем иногда мололи кофе!
Но в то же время меня разбирало любопытство. Я сидела как на иголках, готовая в любую минуту пуститься наутек, и смотрела, как мать разворачивает младенца, снимая одну за другой вонючие тряпки. Наконец на свет появилось маленькое жалкое тельце с содранной кожей и краснотой на спине и ножках. Вот ужас! Словно ошпаренный кипятком и такой худой — кожа да кости. Неужели матери приятно брать его в руки? Казалось, самой Ольге он не доставляет особой радости, и уж вовсе не материнская гордость блестела в ее глазах.
— Вся кожица у него слезла, — кротко сказала она. — Мне нечем его смазывать, а от картофельной муки становится только хуже.
— Ты, видно, очень редко меняешь пеленки, — сказала мать. — Но мы попробуем его вылечить, а то он никогда не даст тебе спать по ночам. А все потому, что он не умеет аккуратно есть, молоко у тебя все время течет и щиплет его, бедняжку.
Она снова поворачивает маленькое жалкое тельце лицом вниз.
— Нет, Ольга, так не годится, — говорит она и вытаскивает кусочек мыла, торчащий между маленькими ягодичками.
— У него запоры, и хозяин посоветовал лечить мылом, обычно это помогает.
Я смотрела, и настроение у меня все больше и больше портилось. Обо мне мать совершенно забыла. Я видела, как нежно и бережно берет она малютку и находит в этом удовольствие, хотя от него так скверно пахнет. Ведь прошло не многим более месяца с тех пор, как я в сопровождении Вальдемара ходила за «фрекен».
И вот теперь она держит на руках такое уродливое и гадкое существо, ну точь-в-точь как те близнецы, которых крысы притащили к фру, что жила в городе по соседству с моей теткой.
Вот мать опустила ребенка в таз с теплой водой, и я тотчас решила мыться впредь только в корыте для стирки. Впрочем, я уже не раз думала об этом, глядя, как отчим моет в тазу свои бритвенные принадлежности. Но то, что сейчас делала мать, было гораздо хуже. Окунать в наш таз этого вонючего ребенка! Мать просто спятила! А она, не обращая на меня ни малейшего внимания, плескала на малютку водой, да так, что брызги попадали на половик, а потом вытерла его моим чистым, только что выглаженным полотенцем.
День был окончательно испорчен. Обо мне совсем забыли. Ребенок уже не кричал и лежал совсем тихо, уставившись тусклыми глазенками в потолок.
— А ведь он очень славный, — сказала мать.
Тут уж я не выдержала и решительно протиснулась между матерью и деревянным ящиком, чтобы напомнить о своем существовании.
— Уйди прочь, Миа, не мешай, — сказала мать.
Мне пришлось убраться. Я покорилась, отошла, села на свой желудевый диван и принялась стучать ботинками по дереву.
— Постыдилась бы, Миа, ты ведь уже большая, — сказала мать, натягивая на ребенка рубашечку с кружевными манжетами и поверх нее фланелевую кофточку. Все новое. Все, что должен был носить ее собственный ребенок.
Фланелевую кофточку сшила бабушка. Надо будет рассказать ей, как мать распорядилась ее подарком.
— Теперь посмотрим, не найдется ли у нас чем полечить его кожицу, — сказала мать. — Ты сама можешь осенью собирать такую травку, Ольга, дома мы собирали ее очень много. Даже иногда продавали. Это — пыльца.
Ну еще бы, о ней Ольга слышала, но в здешних местах ее наверняка нет.
— Она растет повсюду, — тоном, не терпящим возражений, сказала мать, и Ольге пришлось согласиться.
Я хорошо знала, что матери пыльцу дала бабушка, но теперь выходило, будто мать сама собирала золотистую пудру, когда была еще совсем маленькая, для своих будущих детей. Право, взрослые не так уж правдивы. Они не прочь прихвастнуть. Даже мать. Теперь она, конечно, каждый день будет возиться с этим ребенком.
А он стал совсем другим, превратился в красивый, приятно благоухающий пакет, который мать протянула Ольге. Ольга поднялась, присела перед матерью, еще раз присела, взяла мать за руку и поблагодарила, потом снова присела и поблагодарила. Вся моя злость моментально исчезла.
— Таким красивым он никогда не был, — сказала Ольга, — он такой красивый, радость моя!
— Попробуй-ка, не хочет ли он пососать немного, — сказала мать. — А когда хозяин поедет в город, пусть достанет чесночного настоя. И не давай ему ничего, кроме грудного молока, тогда он сразу станет здоровым мальчиком. По крайней мере три месяца корми только грудью.
Ольга вытащила из-под синей блузы неопрятное мокрое полотенце, дала ребенку грудь, и обе женщины принялись болтать о всякой всячине. Я тихонько вышла.
Ребенку нужен чесночный настой, и непременно из города! Разве не годится тот сладкий настой, который подарила матери прежняя хозяйка? Крестьянин должен был купить настой в аптеке.
А на самой макушке дерева по-прежнему висят, насмешливо покачиваясь, два яблока. Бросить камень? Нельзя, очень уж близко от окон. Найти бы где-нибудь шест! Меня преследуют сплошные неудачи, я даже не могу достать два подмороженных яблока. Кругом пустынно и тихо. За что же приняться?
А тут еще мать…
Некоторое время я бесцельно брожу вокруг дома, потом вспоминаю, что не пила еще кофе, хотя должна была пить вместе с Ольгой. Обрадовавшись, я быстро бегу к дому. На крыльце, с корзиной в руке, стоит мать и громко зовет меня. Рядом, с ребенком на руках, Ольга. Она собирается идти к себе.
— Вечно ты где-то бегаешь! Иди-ка сюда! Живо отнеси кофе Альберту!
Вот все, что мне досталось. Даже булки не дали!
Я отправилась в путь.
— Не болтай там с ним много! — крикнула вслед мать.
Я не ответила. Мне хотелось сказать, что кофе могло постоять и до обеда, только крепче бы стало.
Но я промолчала.
Отчим возил с поля солому, и я ездила с ним до самого обеда, а потом мы вместе отправились домой, очень довольные друг другом. Мать уже начала беспокоиться и, когда я пришла, раздраженно спросила:
— Почему ты так долго не возвращалась?
— Это я ей разрешил, — сказал отчим. — Ей ведь совсем не с кем играть.
Так ей, матери, и надо.
Я никогда еще не видела, чтобы мать с отчимом жили в таком согласии, как в начале этой зимы. Даже в комнате у Старой дороги такого не было.
Ко мне он был так добр и внимателен, что я называла его только «папа» и совсем отучилась говорить «дядя». Чем было вызвано чудесное превращение отчима, я не знала. Бабушка ли тому причиной, или, может быть, полиция? Ведь когда мы жили в паточном домике, его разыскивала полиция. А еще я слышала, что ему здорово влетело от дяди за то, что он на весь город опозорил мамину родню. Но как бы там ни было, нам с матерью все это пошло на пользу, а когда мать начала доить коров и зарабатывать деньги, стало совсем хорошо.
Вечером того же дня, когда мать привела в порядок ребенка, в дверь постучали, и вошел муж Ольги.
Это был маленький мрачный мужчина, до того похожий на Ольгу, что они вполне могли бы сойти за брата и сестру. Такие же большие толстые губы, зубы совсем не видны под густыми усами, во рту — жвачка, к нижней губе прилипли табачные крошки.
— Входите, присаживайтесь, — немного удивленно говорит отчим; он смазывает маслом большую трещину на руке.
У отчима огромные некрасивые руки, вдоль и поперек покрытые трещинами, которые не заживают, даже когда он остается без работы и только пьянствует.
— Спасибо, я на минуту, — отвечает мужчина, но все же садится, а мать ставит перед ним чашку кофе.
Он озирается вокруг, совсем как это делала утром Ольга, но, видимо, комната не производит на него столь же сильного впечатления.
— У вас здесь уютно, — замечает он наконец.
— Да, мы тут немного почистили, — говорит отчим и шутит: — На ночь приходится затыкать носик кофейника от тараканов, а то как бы кофе не стал крепче, чем надо.
Муж Ольги принужденно улыбается.
— Слава богу, если удается заработать на кусок хлеба, — говорит он. — Тут уж не до тонкостей. — Карлберг в упор смотрит на мальчика с лягушкой.
— У нас нет никаких тонкостей, — обиженно отвечает мать.
— Бог видит, у нас все просто, — поддерживает ее отчим. — Давайте-ка лучше выпьем по глотку кофе.
Кофе очень крепкий и вкусный. Мать еще из города привезла килограмм поджаренных на пару зерен. Деревенские жители таких не покупают, обычно они поджаривают кофе сами.
И вот, несмотря на поздний час, мужчины пьют кофе и жуют табак. Слышно, как на крыльце тихонечко ходит Ольга. Наконец Карлберг поднимается и уже в дверях говорит:
— Я, собственно, зашел поблагодарить Гедвиг за нашего мальчонку. Ольга ведь не очень знает толк в детях. Я-то давно понял, что она неправильно ухаживает за малышом, раз он кричит днем и ночью.
Мужчина подошел к матери, взял ее за руку, точь-в-точь как это сделала Ольга, и поклонился.
— И тебе тоже спасибо, Альберт, — сказал он и протянул отчиму руку. — У тебя хорошая жена. Ольга тоже станет хорошей, ей только немного подучиться, и тогда мы сами отлично управимся.
И он ушел, еще раз поблагодарив мать.
Двое взрослых людей кланяются и благодарят только за то, что их малышу дали сухую пеленку и рубашку! Мне вдруг очень захотелось быть на месте этого мальчика.
Но отчим помрачнел, словно грозовая туча. За весь вечер он не сказал больше ни слова, даже не попросил помочь, когда перевязывал свои трещины. Он только зло поглядывал на мать.
— Ты так таращишь на меня глаза, что даже на стенах тень остается, — ядовито сказала мать.
Он не ответил, разделся, молча залез в кровать и повернулся к нам спиной, причем так разлегся, что для матери почти не осталось места.
Утром, уходя на работу, он бросил:
— Найди себе какое-нибудь другое дело, вместо того чтобы целый день нянчиться с ребенком Карлбергов.
Мать тоже рассердилась не на шутку.
— Тебя это не касается, — буркнула она вслед отчиму.
Но эта небольшая буря осталась без последствий. Вечером отчим снова был в добродушном и веселом настроении.
А через несколько дней к нам пожаловала в гости сама хозяйка. После обеда в комнату стремглав вбежала Ольга и, не осмеливаясь говорить громко, зашептала:
— Господи Иисусе! Гедвиг, хозяйка идет, она, наверно, к вам. — И Ольга выскочила на улицу.
Мать восприняла это известие довольно спокойно, а я кинулась сломя голову к бритвенному зеркалу отчима, чтобы выпустить на лоб челку и вплести в косу ленту. Тревога Ольги передалась и мне.
— А она «крестьянская дочь»? — спросила я.
— Оставь в покое волосы! Надень-ка чистый передник… Впрочем, отправляйся лучше играть на улицу.
Мать все-таки тоже слегка волнуется. Ну еще бы! Наконец-то я увижу настоящую крестьянскую дочь!
— А она настоящая крестьянская дочь?
— Она дочь землемера. Постарайся быть умницей.
Дочь землемера! Это новая каста, о которой я никогда прежде не слышала. Маленькая, полная, изящная, с круглым розовым лицом, хозяйка совсем не соответствовала тому единственному представлению о крестьянской женщине, которое сложилось у меня после знакомства с женой Вальдемара. Ни веснушек, ни раздвоенной нижней губы, одета совсем как городская, даже без передника. Стало быть, все дело в том, что она — дочь землемера! А мне-то казалось, что все крестьянские женщины должны быть обязательно похожи друг на друга. Ведь похожи же все фабричные работницы — все как одна бледные, в одинаковых, обшитых бахромой шалях. По этой шали сразу можно узнать фабричную.
— Я зашла познакомиться с вами, — сказала хозяйка, останавливаясь в дверях.
— Садитесь, пожалуйста, — пригласила мать. — Миа, подойди и поздоровайся.
Я присела и стала возле дверей, готовая в любую минуту удрать, если станет скучно.
— У вас так уютно и чисто, что можно в углу процеживать молоко, — сказала хозяйка.
— Что вы, я ведь успела только чуточку прибраться. — Было видно, что мать очень польщена. — Я должна поблагодарить вас. Вы были так добры, что послали за нами повозку, и мы привезли все вещи, — сказала мать, которая всегда знала, что и когда нужно говорить.
— Не стоит благодарности, лошади все равно стояли без дела. — Казалось, хозяйка тоже польщена. Ведь приятно разговаривать с людьми, которые умеют себя вести.
— Может быть, выпьете чашку кофе? — спросила мать. (Утром она сказала, что кофе осталось только на один раз, и теперь я ждала, не откажется ли хозяйка.)
— Благодарю вас, с удовольствием, — ответила хозяйка. И мать высыпала в кофейник последнюю порцию поджаренного на пару кофе.
— С соседями вы уже, наверно, познакомились? — спросила фру.
— Да, конечно, — ответила мать.
Фру, видно, хотела добавить еще что-то, открыла было рот, но промолчала.
Мать постелила на стол чистую салфетку.
— Может быть, пригласить Ольгу? — предложила мать. Видно, она не хотела, чтобы Ольга оставалась в одиночестве и думала, что она здесь лишняя.
— Конечно, конечно. Ольга раньше служила у нас и вышла замуж за нашего же батрака Карлберга. Она ждала ребенка, так что замужество было самым лучшим выходом.
Мать ничего не ответила и молча пошла за Ольгой.
— Пойди посиди с Ольгиным мальчиком, пока она выпьет кофе, — сказала она мне.
Вошла Ольга. На ней были юбка и кофта, которые еще в городе подарила матери какая-то фру. Одежда была того же фасона и возраста, что и «тридцатикрючковая» кофта Ханны, но из более мягкого и добротного материала; из нее собирались сшить для меня платье. Ольга была очень красива в этой старомодной одежде. Мальчика, одетого в кружевную рубашонку и завернутого в чистые пеленки и покрывало, она держала на руках. Должно быть, Ольга здорово потрудилась после того, как увидела у поворота дороги хозяйку. Она вошла, держась очень прямо, а когда показывала потом своего мальчика и спрашивала, вырос ли он, вела себя гораздо сдержаннее, чем сама хозяйка.
— Еще бы, конечно вырос. Я была уверена, что он не выживет, когда увидела его сразу после рождения, — при этом фру смотрела пристально и зло, причем больше на Ольгу, чем на мальчика. — Ольга как будто снова собирается стать невестой. Она так хорошо выглядит, что вполне сможет справиться на паровой молотилке, — сказала фру с издевкой.
— Ей надо кормить грудью, да к тому же рискованно стоять на сквозняке у молотилки, — вмешалась мать, потому что сама Ольга не нашла, что ответить.
— В таком случае, может быть, нам пригласить, хм… пригласить вас?
— Меня зовут Гедвиг. Я ведь тоже месяц назад родила малютку. Ребенок умер, а я еще не совсем окрепла. Боюсь, что не справлюсь на молотилке, — мать говорила кратко и решительно.
Хозяйка немного сбавила тон, посочувствовала матери, попыталась втянуть в общий разговор грустную Ольгу, расхвалила ее мальчика, вспомнила даже о том, как сама однажды родила и ребенок тоже умер.
Я незаметно улизнула. Вечные разговоры о родах! Как только им не надоест!
А на улице все было окутано таким плотным туманом, что два яблока, казалось, купаются прямо в облаках.
Кофе и сахар кончились, до получки оставалось еще две недели, и мать с Ольгой отправились на молотилку.
Я столько наслушалась за это время о паровой молотилке, что представляла ее себе не иначе как огромным мрачным чудовищем, которое медленно передвигается с места на место, гонит людей на работу, пылит, грохочет, ревет.
И вот однажды мать разбудила меня в шесть часов утра. Бог мой, как она была одета! Или она решила стать такой же, как Ольга? На ней была вылинявшая, заплатанная рубашка отчима, старая юбка, живот обмотан платком, а сверху надет передник из мешковины. Голову плотно прикрывала большая косынка, завязанная на затылке.
— На кого ты похожа! — проговорила я и заревела.
— Чего это она ревет? — спросил отчим.
— Ей показалось, что очень уж я странно вырядилась. Вставай-ка, Миа, у тебя тоже есть дела, ты останешься с мальчиком, — сказала мать.
Тут слезы потекли ручьем.
— Это что еще за капризы, — проворчал отчим.
Я испугалась и стала одеваться.
— Еда в буфете. Сами мы сегодня поедим у хозяина, но я на минутку забегу домой в полдень. Ольга тоже придет домой, так что поддерживай в печке огонь. Хотя нет, не стоит, уйдет слишком много дров. Ну, а теперь поторапливайся, вот твое молоко.
— Да смотри за ребенком получше. Ты такая большая, что должна уже приносить хоть какую-нибудь пользу, — добавил отчим.
Мать молчала. Раньше она ни за что не позволила бы отчиму разговаривать со мной таким тоном. Это было печальное утро. Неужели они оба против меня? Теперь я все время буду совершенно одна. Они станут уходить на работу, а вернувшись домой, вдвоем ругать меня?! Я даже не могла пить молоко и только икала.
— Ты слишком ее избаловала, — сказал отчим и громко хлопнул дверью.
А мать немного задержалась, взяла меня за руку и велела хорошо вести себя.
— Я начала работать у крестьян, когда мне исполнилось как раз столько, сколько сейчас тебе.
— Неправда, тебе было одиннадцать, ты сама говорила. А Ольга никакая не крестьянка! — крикнула я.
— Одиннадцать? Как тебе только не стыдно! Смотри у меня!
— Ты говорила, что тебе было одиннадцать лет, когда ты пошла к крестьянам, — хныкала я. — Мне-то ведь только восемь, и потом я должна вытирать за мальчишкой. Не умею я вытирать! Подумай, а вдруг он умрет, виновата тогда буду я!
— Не умрет. Нужно только укачивать его, когда он кричит. Ну, будь умницей.
Закутанная в старье, мать прижала меня к себе, но мне было противно: в таком виде вовсе незачем лезть обниматься. И все-таки она сказала неправду, что начала работать в восемь лет. Ей было одиннадцать, я слышала это и от нее и от тетки.
— Ладно, я буду смотреть за мальчишкой. Иди лучше, а не то «он» опять разорется, — сказала я и залпом выпила молоко.
— Не смей говорить «он», называй его отцом. Больно дерзкая стала! И смотри как следует за мальчиком, понятно? А не то получишь от меня взбучку, — раздраженно сказала мать, почувствовав, видимо, что я не оценила ее ласку. Потом она ушла.
В дверь сунула нос Ольга, закутанная в такое же тряпье, как и мать.
— Соска под подушкой, лампу я прикрутила. Ты пока туда не ходи, он теперь будет долго спать. Я завернула его во все чистое. До свиданья. Как только мне заплатят на молотилке, получишь от меня что-нибудь.
Она убежала. Я слышала, как, тяжело ступая, прошел ее муж. И вот я осталась одна во всем доме.
Оказалось, что это вовсе не так скучно и страшно, как я думала. Дом погрузился в тишину, наполненную целым роем воспоминаний о людях и событиях, которые уже забылись на новом месте. Вернулись мысли о Ханне, бабушке и учительнице. Я наспех умылась и старательно причесалась. Заплетать свои длинные волосы в ровную красивую косу я не умела и оставила их в том же виде, что и накануне. Потом я раскалила в печке обломок грифеля и попыталась подвить челку, как не раз у меня на глазах делала тетка, но только обожгла пальцы. Я убрала комнату и кое-как уложила тяжелое постельное белье. Я словно кого-то ожидала, и мне нравилось, что из дому ушли все взрослые. Это было совершенно новое чувство, которого я никогда прежде не испытывала.
На цыпочках (иначе я боялась ходить в темноте) пробралась я через темные, наполненные утренними сумерками сени и вошла к Ольге. Там так скверно пахло, что я торопливо загасила лампу и побежала к себе. Я решила, что в темноте мальчик поспит подольше. Было всего семь часов. Когда малыш проснется, я перенесу его через сени к нам, взрослые об этом и не узнают. А перед их возвращением отнесу его обратно. Сидеть в комнате у Ольги я просто не могла.
Как-то раз после обеда, когда Ольга ушла в лавку, я сидела возле ее мальчика и все время плакала. Даже не знаю, почему я плакала. Но в комнате было так пусто, что не плакать, на мой взгляд, я просто не могла.
Стол без скатерти, стул, кровать и больше ничего. Ничего.
На окне висела бумага с вырезанными по краям зубцами. Ничем не покрытый пол, сучковатый и грязный. Только у двери лежал мешок. Мусора, правда, не было. Ольга подметала часто, три раза в день, как принято в крестьянских семьях, где кухню подметают после каждой еды. И все-таки в комнате было очень грязно.
Кирпичи на плите черные, потрескавшиеся от пролитого молока и молочного супа. Но грязной посуды не видно. Две тарелки и две чашки Ольга мыла сразу же после еды, а другой посуды в доме не было. Печь и стены грязные. Ни одного украшения, только несколько ноготков, которые Ольга вырыла вместе с корнями и землей и посадила в банку. Они уже отцвели, но листочки еще сохранили нежный светло-зеленый цвет. И как только уцелели такие светло-зеленые листья в этой некрасивой, пустой комнате? Это было уж совсем непонятно. Весь запас белья — две простыни и три полотенца. Еще одна простыня — грязная — лежала на кровати. «Карлберг такой неряха, — жаловалась Ольга, — обязательно плюхнется после обеда на кровать».
«Мой бельевой шкаф», — показывала Ольга на ящик из-под маргарина, где у нее хранились пеленки.
У Карлбергов не было родни, никого, кто бы помог им хоть чем-нибудь. А знакомые были так же бедны, как они сами. Хозяева дали им кровать и стол, а сводный брат Карлберга из Кольмордена подарил простыни. Сидя в полутемной комнате и покачивая бельевую корзину, поставленную на полозья, неуклюжую бельевую корзину на паре круглых чурбанов с полозьями, я все время плакала, не зная почему, а потом вдруг подумала, что Ольга и ее муж сами виноваты в том, что у них так бедно.
Я рассердилась на них. Не раз я слышала, как бабы судачили друг с другом: «Каждый должен сам добиваться сносной жизни». Старые ведьмы всегда были рады посплетничать о молодоженах, которым не на что начать совместную жизнь. Сплетни сильнее проповедей, и я ненавидела Ольгу и Карлберга за их бедность. Я боялась их комнаты так же, как боялась матери, когда она переставала поддерживать у нас порядок.
В тот момент, когда в комнату, розовея в огне прикрученной лампы, начал проникать рассвет, я услышала грохот паровой машины. Я еще острее почувствовала свое одиночество. Теперь все до единого заняты только грохочущим чудовищем. И я тоже должна приносить пользу, — так сказал отчим.
Я погасила лампу, затопила печь и начала мыть посуду, то и дело прислушиваясь, не проснулся ли мальчик; несколько раз я пыталась застелить нашу большую кровать так же красиво, как мать, но получалось то криво, то косо, и сколько я ни приглаживала белое покрывало — все было напрасно. Ничего не вышло и с моим желудевым диваном. Крышка не закрывалась, постельные принадлежности топорщились. Я старалась так, что пот катил с меня градом, но все зря: выходило неровно и неаккуратно; и я почувствовала уважение к матери, умеющей так искусно застилать постели. Надо будет проследить, как она это делает.
Налив в блюдечко запретного для меня кофе, я выпила его, держа блюдечко в руке и изящно отставив мизинец. И снова со мной была Ханна. Я так явственно ощущала ее возле себя, что начала громко разговаривать с ней. Усевшись около комода, где были спрятаны кукла, открытки и ракушки, я устроила там генеральную уборку. Куклу я раздела и намочила в тазике все ее тряпки.
— А ты, Ханна, займись-ка стиркой и развесь тряпочки, чтобы они к обеду высохли, — сказала я.
Никто, конечно, не ответил, но это меня ничуть не смутило. У куклы была фарфоровая головка, даже волосы были из фарфора, но этот недостаток я быстро устранила, сплетя над фарфоровыми волосами огромный парик из синих и белых ниток, которые бабушка надергала из разных тканей. Я долго раздумывала, не отрезать ли прядь своих собственных волос, но в самый последний момент не решилась.
— «Весна наступила, цветы расцветают…»
— Как красиво, — сказала Ханна.
— А со школой теперь все покончено, я буду нянчить мальчика и получать две кроны в месяц!
Ханна обрадовалась.
— Можешь рассказать об этом фрекен.
Две кроны представлялись мне верхом богатства, целой кучей денег, и если мать, бывало, говорила: «У меня есть несколько крон», — мне казалось, что все наши заботы миновали. Но стоило ей сказать, что у нее осталось всего пять эре, как мне тотчас представлялось, что приближается зловещая туча, неся с собой голод и нестираные передники. Грязно-желтая монетка в пять эре выглядела так незначительно — не верилось, что она вообще-то имеет какую-нибудь ценность.
Где-то далеко грохотала паровая машина, время шло, но теперь со мной была моя фрекен. Она сидела на желудевом диване, и я читала ей вслух:
Мальчик Ганс ракушки как-то собирал на берегу, Он босой ходил, бедняжка, по горячему песку…Я все читала и дошла уже почти до середины книги. Воображение уносило меня все дальше и дальше. И вот я уже в хольмстадской школе, стою около учительского стола и читаю ребятам стихи.
Фрекен слушает, и, когда я начинаю читать про Пикку Матти, в глазах у нее появляются слезы.
Сама я совсем не любила Пикку Матти. Быть может, как раз потому, что мать считала его необыкновенно хорошим. Мне он казался придуманным. «Он не интересуется лакомствами и нарядами, любит бабушку и дедушку…» Это всегда звучало как укор. Но у меня ведь не было ни бабушки, ни дедушки, — бабушка-то моя не настоящая. Пикку, конечно, ничего не стоило, сопровождая генерала к королю в Стокгольм и уплетая там пшеничные лепешки, принести потом несколько штук для бабушки и дедушки и не быть таким грубым, как другие голодные дети. Я считала его глупым. Но фрекен, как и мать, любила Пикку Матти. Вот почему я прочла весь этот длинный рассказ два раза подряд.
О шестинедельном мальчике, который лежал в бельевой корзине по другую сторону сеней, я опять забыла. Мир мой вдруг стал интересным и многолюдным, полным тайн и необыкновенных возможностей — ведь впервые в жизни я осталась одна в целом доме. Совсем одна, и никто меня не слышит, никто за мной не следит, никто меня не одернет. Теперь я могу по-настоящему рассмотреть гипсового мальчика и показать его Ханне.
Я обнаружила новый мир, давным-давно уже открытый, мир, без которого люди едва ли смогли бы прожить жизнь до конца. Этот мир мы носим внутри себя. Это мир фантазии. Мир, который сливается с солнцем, луной и звездами, деревьями, голосами и картинами. Мир, в котором мы всегда можем побыть среди тех, кого любим больше всего, среди тайных друзей, которых никогда не показываешь посторонним людям. Ведь они так легко находят недостатки в тех, кого мы любим.
Грохот паровой машины внезапно смолк, и я сразу услышала крик, который тотчас разрушил мой фантастический мир и заставил меня отшвырнуть куклу и книги и стремглав броситься в комнату Ольги.
А там лежал мальчик и кричал хриплым, противным голосом. Лицо его совсем посинело, видно кричал он давно. Я кинулась обратно — посмотреть на наши стенные часы, подаренные когда-то бабушкой. Они показывали половину десятого. Слава богу, это еще не обед, просто перерыв на завтрак.
Я вернулась к мальчику.
В комнате было холодно и сыро, пахло конюшней, кислым молоком и пеленками. Она напоминала кладовую, где случайно забыли бельевую корзину с ребенком. В таком помещении обычно оставляют лопаты, ломы, лейки, держат кур и всякий хлам.
Я изо всех сил раскачивала корзину, но мальчик не умолкал. Брать его на руки мне было запрещено. Тогда я немного раздвинула пеленки, повернула маленький узел на бок и увидела, как по затылку ребенка побежало два большущих клопа. Тоненькая шейка покраснела от укусов. Как только я повернула ребенка и клопы удрали, мальчик тотчас же замолчал. Время от времени он принимался икать, но я качала и напевала так неутомимо, что у него, видно, закружилась голова, и он заснул.
Сухих дров в печке не оказалось, и я отправилась к нам за щепками. Отчим усердно заботился о дровах, когда был дома, и матери не приходилось с ними возиться. Он колол их и сам вносил в дом, а по воскресеньям ходил в лес за сучьями. Все соседи считали, что у Гедвиг удивительно хороший муж. Карлберг почти никогда не колол дрова. Ольга сама колола и носила их. В здешних местах заготовка дров относилась к разряду «женских дел».
Я разожгла огонь в старой печи, на которой тоже было выбито: «Емкость — 4». Мальчик спал. Я вышла, на цыпочках.
Я долго стояла на крыльце, приставив одну руку к глазам, а вторую — к уху, прислушиваясь, работает ли молотилка. Кажется, я даже немного выпятила живот — так всегда делали городские женщины. Оставшись хозяйкой в доме, я старательно играла роль городской дамы. Я не раз видела, как, выйдя на крыльцо, они прикладывали руку к глазам, будто им мешал дневной свет, словно они только что выползли из древних пещер. Светило ли солнце, шел ли дождь, рука была поднята к глазам, а живот, большой или маленький, все равно выпячен.
Я была так поглощена своей ролью, что не заметила прошедшего мимо меня старика и вдруг далеко впереди увидела его спину. Тут я испугалась и убежала в дом. Я всегда боялась стариков. Я по опыту знала, что старики — это табак, водка, ругань, злоба. Не говоря уже о других, еще более скверных делах. Старухи лучше, они по крайней мере иногда надевают чистые передники и выглаженные косынки, к тому же они не жуют табак.
Я заперла дверь на засов и постояла, прислушиваясь. Снова загрохотала молотилка, и я почувствовала себя спокойнее. Опасность миновала. Впереди несколько часов полного одиночества. Я совсем забыла, что мне приказано все время находиться подле ребенка. Сквозь легкий ноябрьский туман просвечивало солнце, один луч упал на мальчика с лягушкой, и я впервые увидела, что у гипсового мальчика совсем нет глаз. Это уже какое-то жульничество. Он — ничто. Я взялась за стирку кукольной одежды, вспомнила дочку мастера Анну и начала изо всех сил ругать ее:
— Эй ты, неряха! Посмотри, какая у тебя грязная кукла! Из тебя никогда толку не выйдет, ты даже детей не можешь держать в чистоте!
Потом на память пришла когда-то слышанная песенка.
Слова были такие скверные, что я ни за что бы не осмелилась петь ее при матери.
Натянув над печкой веревку для выстиранных тряпок, я во все горло запела: «Не будь печальной, малютка Лотта, этой ночью ты будешь спать со мной…» Потом я забралась на стул, чтобы дотянуться до веревки и повесить тряпки, — печку я предварительно раскалила докрасна, — и, стоя на стуле, пропела всю песенку от начала до конца. Я чувствовала себя то артисткой цирка, то актрисой из рабочего союза в Норчёпинге. Так, не слезая со стула, я исполнила много песенок. Одну из них, гвардейскую, из которой я знала только один куплет, я пропела несколько раз подряд.
Вдруг в дверь забарабанили.
— Открой, гадкая девчонка! — услышала я голос матери.
От испуга я никак не могла слезть со стула и продолжала стоять на нем, а мать все стучала и ругалась.
— Ты напугала ее, Гедвиг, — услышала я голос Ольги. — Мальчик спит, печка у меня топится — она обо всем позаботилась. Не беда, что она поет такие песни, она их все равно не понимает. Видно, наслушалась, как горланят наши батраки. Ведь этому так легко научиться!
— Такая большая, должна бы постыдиться, ведь ей восемь лет, — ответила мать все еще сердитым голосом. — Да отвори же наконец!
Я слезла со стула и открыла дверь.
— Ну и жарища! Я ведь не велела тебе разжигать печь. И что это за песенки ты тут распеваешь? До того красивые, что прямо перед людьми стыдно. Никогда не подумала бы, что ты такая скверная девчонка. Зачем ты слушаешь этот вздор, кто тебя ему научил? Отвечай, не то я тебе покажу!
Разрежь меня мать на куски, я все равно не могла бы сказать, кто научил меня этим песенкам. Многие из них распевали спьяну отчим и его товарищи. Дядя, хотя и не пьянствовал, тоже частенько пел скверные песенки. А некоторые я слышала на улицах, и мне просто понравился их мотив. Про слова я знала, что они нехорошие и при взрослых лучше их не петь, но специально меня никто не учил.
— Скажешь ты наконец?
— Они всегда так поют.
— Кто это «они»? Не вздумай врать!
— Твой брат и дя… и папа.
Мать оставила эту скользкую тему.
— Боже мой! Ты извела почти целый кусок мыла! Ну конечно, тебя только оставь одну! Я и не знала, что ты такая гадкая!
Я молчала. Только теперь я поняла, каких наделала глупостей. Мне не следовало играть. Я должна была работать, смотреть за ребенком, прибрать комнату и «быть аккуратной». Мне не следовало разговаривать с Ханной. Ах, вовсе и не было ни Ханны, ни учительницы, и попробуй объясни матери, что мне показалось, будто пришла Ханна. Мать, конечно, начнет ругаться; уж лучше бы она поскорее опять ушла.
— Машина сломалась, сегодня мы больше не пойдем работать. Принеси-ка дров!
Я надела передник из мешковины, повязала голову шерстяным платком и медленно пошла к двери. Обычно, отругав меня как следует, мать становилась особенно доброй, обязательно погладит по щеке или еще как-нибудь приласкает. Но теперь она этого не сделала. Молча расстегивала она некрасивую мужскую блузу, пристально уставившись куда-то в сторону, серьезная и огорченная. Я совсем упала духом. Было слышно, как за стеной напевает Ольга. Я осторожно открыла дверь в ее комнату.
Она сидела, мурлыча что-то себе под нос, и кормила мальчика грудью. Мне она показалась очень симпатичной. В комнате уже было не так ужасно, как прежде. Нет, теперь-то мне здесь было гораздо приятнее, чем дома.
— Он немножко покричал, потому что его кусали два клопа, а так он был бы совсем послушный, — прошептала я.
Ольга кивнула, потом сделала мне знак подойти.
— Тебе попало? — шепнула она. Я покачала головой.
Она притянула меня еще ближе и погладила по щеке.
От нее отвратительно пахло кислым молоком, но я старалась не замечать этого. Я была так расстроена, что радовалась любой ласке. Когда мир вдруг становится серым и жестоким, бываешь благодарен и собаке, лизнувшей тебя теплым языком в лицо.
— Не так уж страшно, что ты пела эти песенки, но больше ты их никогда не пой. А теперь ступай и принеси дров, — сказала Ольга.
Я отправилась к дровяному сараю. На душе стало немного легче.
Так постыдно закончился мой первый день на службе у чужих людей. Наутро молотилку исправили, и теперь уже мать сама предложила перенести мальчика в нашу комнату.
Все уже ушли, а мать в то утро еще долго оставалась дома, выводя из бельевой корзины клопов. Она тщательно осмотрела мальчика, распеленала его, словно хотела убедиться, хорошо ли Ольга его завернула. Но мальчик был такой сухой и чистенький, так обильно смазан чесночным настоем, что запах чеснока разносился по всей комнате. Ольга в точности следовала всем ее указаниям. Наверно, это польстило матери, потому что она еще несколько минут держала мальчика на коленях, не заворачивая в пеленки и осторожно подергивая его за пальчики. Она нашла, что он стал кругленьким, как маленький поросеночек. Но тут он брызнул прямо ей в лицо теплой струйкой, и она рассмеялась.
— Ну вот, теперь все в порядке, — сказала она, вытираясь передником. — Теперь он будет все утро лежать сухой и послушный. — Она запеленала его и положила в корзину.
Вот как? Ему все так просто сошло, хотя он угодил ей прямо в лицо! Мать только рассмеялась и вытерлась, даже не умывшись с мылом? А что мне было за песенки?! Неужели это только потому, что я большая?
Да, теперь я большая; правда, еще не такая большая, как мать, но уже достаточно взрослая, чтобы за все получать взбучку. Взрослые распевают скверные песенки, им за это ничего не бывает, маленькие безнаказанно брызгают в лицо… Конечно, мальчишка совсем крошечный, но все-таки матери следовало бы меньше сердиться на меня и хоть чуточку рассердиться на мальчика. Потом она опять ушла, сказав только «до свиданья», и даже не подумала приласкать меня. Вместо этого она еще раз нагнулась над бельевой корзиной: «До свиданья, маленький поросенок, спи спокойно», — и подоткнула под ребенка какую-то тряпку.
От ревности я лишилась дара речи. Я не попрощалась с матерью, чувствовала себя скверно и не могла смотреть не только на мальчишку, но и на мать. Обязательно расскажу Ольге, как она проверяла, аккуратно ли запеленат ребенок!
Но вот рассвело, лампа погасла, и в морозном ноябрьском небе засияло солнце. Оно глядело прямо в нашу комнату на белую стенку печки, и от этого нарисованные синькой цветы стали такими красивыми, а все вокруг — таким светлым и нарядным, что, позабыв все свои огорчения, я снова начала вчерашнюю игру. У меня опять появилось полным-полно товарищей, я громко болтала сама с собой, потом выбежала на улицу и попыталась сбить непокорные яблоки, а когда воображаемая Ханна полезла за ними, кричала, чтобы она не свалилась с дерева.
Мальчик проспал все утро, и когда в полдень забежали на минутку Ольга с матерью, то очень меня хвалили. Ольга отдала мне два ломтя пшеничного хлеба, которые она припрятала после утреннего кофе. Хлеб был черствый, крошился, но оказался очень кстати: в нашем буфете с каждым днем становилось все более пусто.
Мать неодобрительно посмотрела на хлеб, но промолчала.
Мое «материнство» продолжалось уже две недели, и я понемногу начала привыкать к тому, что мне надо заботиться о ребенке. Дни шли за днями; вечером, запыленные, смертельно усталые, с охрипшими от пыли голосами, приходили взрослые. Они ругали гумно, которое находилось слишком далеко от молотилки, и владельца машины, который подгонял их, как настоящий надсмотрщик. Приближалось рождество, а ему надо было поспеть еще на несколько хуторов.
На кухне хозяйского дома в бельевых корзинах лежали два запеленатых ребенка: их матери работали на молотилке. В эти дни хозяйка со своей служанкой готовили пищу почти для всего хутора и, кроме того, задавали корм скоту. Тем женщинам, у которых были коровы, приходилось доить их рано утром, перед молотьбой, и поздно вечером. Но, когда хозяин начал кормить работающих на молотилке, тут уж все изъявили желание пойти к нему на поденщину. Для жен батраков было счастьем хоть на время избавиться от приготовления вечных молочных супов и садиться прямо за накрытый стол. Это напоминало о «беспечных» временах, когда они еще не были замужем. Как ни тяжело живется крестьянской женщине, батракам еще хуже; они живут так безрадостно, в такой бедности, что им даже молотилка кажется приятным разнообразием: пусть она несет усталость и изнурение, но она сулит также накрытый стол у хозяина.
По вечерам, вернувшись домой, Ольга пела, хотя у нее из грудей текло молоко, а в висках стучало от вечной головной боли.
Для меня последние дни молотьбы стали особенно тяжкими.
Кушать было нечего. Немного молока и хлеб, намазанный сахарным сиропом — вот и все. Сиропа, который подарила матери прежняя хозяйка, осталось совсем на донышке, ведь полный стакан мать налила Ольге.
Я мечтала о караваях хлеба, студне, соленых огурцах и горьком рассыпчатом сыре, который продавался в городе по двадцать пять эре за килограмм. Все это обычно приносил с собой отчим, когда кутил в трактире «Ион-пей-до-дна» и, возвращаясь домой, хотел задобрить нас.
Когда подвертывалась выгодная поденная работа, мать тоже покупала такие деликатесы. В последние дни работы паровой молотилки я частенько угощала своих воображаемых товарищей воображаемыми же солеными огурцами и студнем. Здесь ничего подобного не бывало даже в лавке, которая, кстати, находилась за несколько километров от хутора, почти у самой железнодорожной станции.
Там, кроме американского шпика да старой, твердой как камень, колбасы, которую нельзя есть даже в жареном виде, ничего не было. Однажды Ольга купила колбасы и дала мне кусочек, но я так и не смогла его разжевать. Хлеб в лавке вовсе не продавался: ни один человек в здешних местах его не покупал.
Даже поселок индивидуальных застройщиков я вспоминала теперь с удовольствием. Там жил пекарь, который хотел жениться на матери и в знак своего к ней почтения посылал караваи хлеба. Мне очень нравилось то, что он хотел на ней жениться. Жизнь от этого казалась более прочной: удача и неудача зависели не только от отчима. Но мать и смотреть на пекаря не хотела, а узнав, что он, когда бывает пьяный, месит тесто ногами, сказала, что заявит о нем в полицию.
А еще у меня была там хозяйка лавки. Она знала мою слабость к леденцам и, когда хотела, чтобы я что-нибудь для нее сделала, давала мне несколько штук.
Здесь же люди всегда ждали получки, а когда деньги наконец выдавали, на них нечего было купить. Мать снова стала необычайно аккуратной: я ходила теперь только в чистых передниках, а в голове не было ни одной вши. Но кому все это нужно, раз здесь даже поиграть не с кем! Никто и внимания не обращал на то, как я выгляжу. В жизни всегда получается все как-то нескладно. Вот если бы я была чисто и нарядно одета, когда мы жили в паточном домике, я бы с самого начала подружилась с ребятами, а хозяйкина дочка играла бы со мной, не дожидаясь, пока у меня появится новое платье. Но тогда мать ничего не могла делать, и платье лежало несшитым почти до самого переезда в эту черную деревенскую глушь.
Последние слова я сказала вслух. Однажды я слышала, как отчим говорил Ольгиному мужу:
— Живем здесь, в этой черной деревенской глуши…
В то утро, когда паровая молотилка отправилась наконец дальше, мать не разбудила меня. Она тоже валялась в постели, хотя отчим давно уже ушел на конюшню. Он сам растопил плиту и разогрел какое-то жалкое подобие кофе. Обычно мать поджаривала рожь, но сегодня должны были выдать жалование и ей за работу на молотилке и батракам. А вечером мать с отчимом собирались в лавку. Мать лежала в постели. Увидев, что я проснулась, она попросила меня встать и подбросить в печку дров. Она так охрипла, что говорить могла только шепотом.
В сенях раздались тяжелые шаги отчима. Он принес молоко: мы получали его каждое утро в половине седьмого.
— Не надо вставать, Гедвиг, я выпью молока с хлебом, — сказал он.
Ничего другого все равно не было.
— А ты хорошенько помогай матери, она простудилась на молотилке. Ты уж совсем большая, должна приносить хоть немного пользы, — сказал он.
Мать молчала. Я тихо оделась. Очень хотелось плакать.
— Ольга обещала мне заплатить за то, что я нянчила ее мальчика, — попробовала я напомнить о том, что тоже работала последние четырнадцать дней, даром что не простудилась.
— Эта кляча? У них самих ничего нет, не по карману им платить тебе. Да за это вовсе и не стоит платить, — сказал отчим.
Стоит или не стоит, но я знала, что Ольга хоть что-нибудь мне даст. Почему я должна возиться с их мальчиком и ничего за это не получать? Ведь Ольге с матерью заплатили за молотьбу.
— Нет, нет, я знаю, — прохрипела мать с постели. — Я сама всегда платила ребятишкам, когда они сидели с моим ребенком. Их матери требовали, чтоб им платили. Не будь несправедливым, у девочки есть все основания получить деньги.
Ну вот, наконец-то снова появилась моя справедливая мать. Во всяком случае, она за меня, хотя была все время так ласкова с Ольгиным мальчиком.
— Молчала бы, раз не можешь говорить. Ох уж мне эти бабы, — сказал отчим.
— Заткнись! — прошептала мать, собираясь вскочить.
— Лежи! И не балуй больше девчонку, должна же она научиться приносить хоть немного пользы, — сказал отчим.
— Не твоя забота, — прошептала мать, а отчим снова хлопнул дверью.
Мне все это начинало нравиться: кажется, мы опять становимся близки с матерью.
— Я отдам тебе все, что получу от Ольги, — предложила я.
— Ольга очень добрая, но она ведь так бедна! Ты не должна брать у нее больше двадцати пяти эре, — сказала мать.
— Я возьму только десять эре, — ответила я.
— Нет, двадцать пять ты вполне можешь взять у нее. Как раз хватит на новую ленту.
Вечером Карлберг дал мне целую крону, а когда на следующий день Ольга вернулась из лавки и зашла к нам за мальчиком, то протянула мне маленький пакетик. В нем была широкая синяя лента. Целый метр.
Никогда в жизни не получала я такого красивого подарка и столько денег. Синяя лента была первым новым, настоящим подарком от чужих людей, хоть я имела «состоятельную» родню.
И преподнесла мне его та самая Ольга, которая вырезала шторы для своих окон из бумаги!
Развернув пакетик и увидев ленту, я расплакалась. В детстве я всегда плакала, когда со мной случалось что-нибудь хорошее. Слезы тогда лились очень легко. Зато когда случалось что-нибудь неприятное или когда меня били, глаза мои оставались сухими. Иногда мать приходила в бешенство оттого, что я не плачу, когда меня бьют, и колотила еще сильнее, приговаривая, что я обязательно попаду в тюрьму, как только вырасту, раз никакие побои на меня не действуют. Услышав свист розги, я испытывала слишком сильную злость, чтобы плакать, мне хотелось только дать сдачи.
Когда Ольга увидела на моих глазах слезы, толстые красные губы ее задрожали, она погладила меня по щеке, взяла своего мальчика и ушла. Не так уж много времени прошло с тех пор, как она сама заплетала в косы ленту. Может быть, ей никогда не дарили лент?
— Ты даже не поблагодарила Ольгу. Не понимаю, что с тобой, — прошептала мать, которая все еще не избавилась от хрипоты.
— Нет, поблагодарила, — сказала я тихо.
Отчим тоже считал, что мне прекрасно заплатили.
— Я возьму у тебя взаймы, когда останусь без табака, — пошутил он.
Мне он казался отвратительным. Да и мать, расхохотавшаяся его шутке, не лучше. Табак, обманы и вечные насмешки над другими!
Были ли они в ладу друг с другом, или дрались, против меня они всегда выступали вместе.
Но скоро я сумею сама о себе позаботиться!
13
Однажды — было начало декабря — яблоки исчезли с дерева. День выдался морозный, но бесснежный. Я обыскала все кругом, шарила даже там, куда яблоки никак не могли упасть. Яблок не было. Я посинела от холода, из носа у меня текло.
— Ты потеряла что-нибудь? — кутаясь в старую куртку, спросила Ольга, тоже посиневшая от холода.
— Не-ет!
— Что ты ищешь, потеряла что-нибудь? — спрашивает мать; она хочет, чтобы я помогла ей нарезать лоскутья для половиков.
— Не-ет!
— Тогда принеси дров и помоги мне управиться с половиками. А потом взялась бы ты лучше за книгу, смотри — разучишься читать и писать, а весной тебе снова идти в школу.
Я принесла дрова.
— У меня живот болит, — сказала я, притащив одну охапку, и снова вышла на улицу.
Я ползала по земле, раздвигала руками мерзлую траву, не обращая внимания на отчима и мужа Ольги, которые стояли у крыльца, сплевывая табак, — яблоки как в воду канули.
Дольше я уже не осмеливалась оставаться на улице, пора было возвращаться домой. Видно, кто-то заметил яблоки и украл их. Наверное, это вороны. А я-то была уверена, что яблоки достанутся мне. Они ведь росли прямо на улице: ни забора, ни лавки поблизости.
Сидя на желудевом диване, я пытаюсь заняться лоскутьями. Мать дала мне тоненький изношенный передник, его легко резать, но ножницы еле-еле движутся у меня в руках.
Время еще раннее. На плите варится картошка к обеду. На улице хмуро, холодно и пустынно, удивительно пустынно с тех пор, как исчезли яблоки. В комнате тепло от огня, на котором кипит картошка, и тоже пусто. Мать все стрижет и стрижет ножницами, как та упрямая старуха, которая даже в воде показывала, как надо стричь овес, пока старик ее не утопил.
«Ну, старуха, согласишься ты наконец, что овес жнут?» — спросил старик. «Нет, стригут», — отвечала старуха. Старик дал ей тумака. Но старуха продолжала кричать: «Стригут, стригут!» Тогда старик потащил ее к морю и опустил по пояс в воду. «Скажешь теперь, что овес жнут?» — «Стригут, стригут!» Стрик погрузил ее в море по горло. «Стригут!» — сказала старуха. Старик погрузил ее в воду с головой (бр-р! я часто пробовала в тазу, каково ей было при этом), но старуха высунула из воды два пальца и стала показывать ими, как стригут. Тогда старик обозлился и утопил старуху.
По правде говоря, чем чаще я слышала эту сказку, тем больше нравилась мне упрямая старуха. Далеко не всякий согласится скорее умереть, чем отказаться от своих слов, — это я отлично понимала.
Мать сидит напротив меня и все нарезает лоскутья, от кастрюли идет скверный запах — наверное, туда попала гнилая картошка; очищенная селедка лежит на тарелке. А на улице холодно и пустынно.
— Попробуй припаси что-нибудь к рождеству… Ему уже опять понадобились новые рукавицы и новый кнут. Табак он жует, как лошадь сено, с тех пор как мы сюда приехали, и сапоги у него износились, — говорит мать, не переставая работать.
Я знаю, что она не ждет ответа, да и не все ли мне равно, что будет на рождество.
Из-за стены доносится голос Ольги, которая укачивает сына у себя в комнате.
Отчим и в самом деле вечно жует табак. Полкило в неделю. У меня уже скопилось пять больших листов фольги, в которую обертывают пачки табака. Я их припрятала для рождественской елки.
— Получаю двадцать крон в месяц за дойку коров, а сидим на одной картошке. Даже поросенка завести не могу. Сил моих больше нет, — сказала мать, прерывая на мгновение работу, чтобы встать и слить воду с картошки. — К празднику он обязательно потребует три литра водки — это уже три кроны пятьдесят эре. Вот и придется на рождество опять есть селедку с картошкой. — И она снова принялась резать.
— Нет хуже жизни, чем в деревне: продукты дороги, а заработков никаких.
— И ребят совсем нет, — поддержала я ее.
— Да, и ребят нет… Как ты медленно режешь, Миа. Надо спешить, бабушка приедет на рождество; если мы успеем наготовить лоскутья, нам как-никак перепадет крона-другая.
— А когда будет рождество?
— Через три недели.
Это было так не скоро, что я сразу утратила всякий интерес к рождеству. На улице по-прежнему хмуро и холодно, дома прежняя бедность и неизменная картошка.
— Занавески больше не выдержат стирки, надо бы вырезать фестоны из бумаги, как у Ольги, и повесить на окна. Только здесь не сыщешь и клочка приличной бумаги. А в город босиком не поедешь. Тридцать километров — это не рукой подать.
На душе у меня становилось все мрачнее. За окном качались осиротевшие ветви, а рядом сидела мать, которая резала и резала лоскутья и не видела вокруг ничего, кроме забот и огорчений.
Ударив ножницами по желудям с такой силой, что они затрещали, я швырнула ножницы на кучу тряпья и разрыдалась.
— Что с тобой, Миа? Да не плачь же так! Оставь тряпки, поди поиграй в куклы, — в голосе матери звучало раскаяние.
— Они взяли мои яблоки, — рыдала я, закрыв лицо передником.
— Твои яблоки? Господи помилуй, какие яблоки, девочка? Уж не спятила ли ты? Впрочем, чего удивляться. У батраков всегда куча детей, а здесь, как назло, ни одного ребенка. Но тут уж ничего не поделаешь, потерпи до весны, потом пойдешь в школу. А вообще я жалею, что мы перебрались сюда, очень жалею. Что ж это за яблоки? Они тебе, наверное, приснились.
— Нет, они росли на дереве, — всхлипнула я из-под передника, — а ночью их украли.
На эти два яблока не обратил внимания никто из взрослых, и мать тоже их не заметила.
Тут вошла Ольга, чтобы попросить ложку соли.
— О чем ты плачешь, Миа?
Мать рассказала ей о причине моих слез.
— Да ведь яблоки с этого дерева нельзя есть, Миа, они совсем кислые. А свалились они потому, что сгнили. Поищи хорошенько, и ты найдешь сердцевинки. Подморозило, вот они и упали. Но зато у хозяина припасена целая бочка яблок, на рождество он раздаст их батракам, и ты тоже получишь рождественское яблоко. А до рождества всего три недели.
— Ей здесь скучно, вот она и придумывает всякую всячину, — сказала мать.
— Если бы вы позволили, Гедвиг (Ольга никак не привыкнет говорить матери «ты»), я охотно взяла бы девочку с собой в воскресенье. Мы попросим лошадь у хозяина и поедем к брату Карлберга, он живет в Кольмордене. У него одиннадцать ребятишек, и девочке будет с кем поиграть хоть денек.
Я перестала плакать. Ольга показалась мне краше солнышка, хотя это был один из ее дурных дней, когда она разгуливала настоящей замарашкой: непричесанная, неумытая, в черной от грязи сорочке. Юбку она надела, но была почти обнажена до пояса, если не считать этой грязной сорочки с оборванными рукавами. Приходилось только удивляться, как она не простудится в такой одежде. Чулок на ней тоже не было, сбитые деревянные башмаки надеты прямо на босу ногу. Коса растрепалась, как в тот день, когда я увидела ее в первый раз. Лицо изжелта-бледное, потому что сынишка быстро рос и то и дело сосал ее, а на этом лице выделялись кроваво-красные крупные губы. Можно было подумать, что это какая-то болезнь. Губы Ольги казались распухшими и точно лишенными кожицы, как будто к ним прилила вся кровь из ее изможденного тела. На этих полных, чувственных, словно окровавленных губах застыли робкие, невысказанные вопросы.
Мать и Ольга поболтали о том о сем.
— Напрасно ты ходишь в одной сорочке, Ольга. Старость придет, пожалеешь об этом. Разве можно по утрам выскакивать нагишом в холодные сени?
— Мы просыпаемся поздно, а мне надо успеть сварить кофе Карлбергу.
Тогда мать наклонилась к Ольге и сказала понизив голос:
— Не бегай в сорочке, Ольга. Ты ведь недавно вышла замуж, ты избалуешь мужа и прискучишь ему, последи за собой немножко.
— Карлберг не обращает на это внимания, — ответила Ольга вспыхнув.
— Обращает, поверь мне. Он все время видит тебя босой и с голыми руками. Если не будешь следить за собой, он станет заглядываться на других.
— Мне нечего надеть, кроме этих противных тряпок. Да и Карлберг сам тоже разгуливает все время в одной рубашке, а ночью спит и вовсе раздетый! — Ольга выпрямила сутулую спину.
— Все равно, не приучай мужа к своей наготе; я не раз видела, чем кончается дело, когда женщина не следит за собой, выйдя замуж.
— Да ведь он ничего, ничегошеньки не смыслит, он даже не замечает, надето ли на мне что-нибудь! Он засыпает, как только ложится, да и днем бродит точно во сне. А если я надену что-нибудь новое, он таращит на меня глаза и ругается, — с горечью сказала Ольга и, взяв соль, вышла.
Мне казалось, что мать поступает неприлично, говоря Ольге такие вещи. Я и сама рада бы не одеваться по утрам — очень уж это скучное занятие.
Целая бочка яблок, и еще три недели ждать, пока ее откроют! Вечно приходится ждать. Это все Иисус так медленно отсчитывает время. Хотелось бы мне знать, где у них эта бочка? Я режу и режу старенький передник, который будет выкрашен в ярко-голубой цвет и превратится в каемку на половике. Мать режет и режет, на улице сгущается туман. Ольга с шумом возится у печи. Но вот в усадьбе раздается колокол к обеду, и вскоре на крыльце слышатся тяжелые шаги мужчин.
Я уже привыкла к тому, что мы едим в полном молчании.
Отчим снова утратил хорошее расположение духа, и то еще в этот раз его хватило надолго. Он входит, швыряет старую шляпу на кровать и садится за стол. Мы с матерью тоже садимся.
Мать очищает картошку и сначала накладывает большую порцию отчиму.
Я чищу себе картошку сама. Я терпеть не могу селедку с картошкой, но не смею заикнуться об этом, чтобы отчим не начал пререкаться с матерью. Это уже случалось не раз, когда я отказывалась от еды. Запах селедки внушает мне отвращение. Каждый раз, когда я ем эту соленую гадость, у меня на носу проступает пот. Но селедка — самое дешевое блюдо, и нам приходится ее есть.
Я не переношу ничего соленого. Когда однажды на пасху мне дали яйцо, за столом разгорелась страшная ссора из-за того, что я не хотела его посолить.
— Пусть ест, как ей нравится, — сказала мать.
— Черт знает что за фокусы! Никогда такого не видывал, только еду переводит зря. Научи девчонку есть, как все люди.
— На свете еще много такого, чего ты не видывал, — раздраженно отвечает мать.
— Пусть посолит яйцо или убирается из-за стола! — кричит он.
И тут, как это иногда случается с матерью, на нее находит приступ безудержного гнева.
— Нищий скряга! — кричит она. — Ты похож на свою «благородную» тетушку! — И, схватив яйцо, она швырнула его в лицо отчиму.
Он в ярости начал было подниматься, но мать закричала на него:
— Нечего вскакивать, а не то я запущу тебе в голову чем попало! Я покупала яйца и до того, как встретилась с тобой, и сумею одна прокормить девочку!
Ссора была ужасной. Мать сунула мне бутерброд и велела уйти, а когда она выпроваживала меня за дверь, я услышала крик отчима:
— Забирай свое отродье и катись к черту!
Отродье — это относилось ко мне.
После этого скандала я не смела больше привередничать. Правда, в тех редких случаях, когда матери удавалось побаловать нас яйцами, я ела так, как мне нравилось. При этом я неизменно испытывала мучительное чувство: это было такое лакомство, что мне было жаль проглотить его сразу, как простой кусок хлеба, но, смакуя яйцо, я сидела как на иголках, поминутно ожидая окрика.
Отчим никогда не бил меня, даже пальцем не тронул ни разу за все время нашего бурного совместного житья. Свою злобу он вымещал на матери, бранясь, а иногда пуская в ход кулаки.
Эта несправедливость была мучением моего детства. От физической боли я страдала гораздо меньше, чем от несправедливости, которую не выносила. Пожалуй, мне было бы легче примириться с побоями. Когда мать, бывало, хвастала, что отчим ни разу меня не «тронул», я очень на нее сердилась.
— Тебе опять что-нибудь не по вкусу? — внезапно спросила отчима мать. Ее раздражение еще не улеглось, а у него был недовольный вид.
— Что ты пристала? Мешаю я вам, что ли? Может, мне вообще нет места за столом.
— Идиот!
На некоторое время водворилось молчание. Отчим съел целую гору картошки и выпил молоко. Теперь он принялся за хлеб с маргарином. Я не любила маргарина, да его и не хватало на всех.
«Кто работает — тому побольше и получше», — постоянно внушала мне мать. Эта мудрость так глубоко врезалась в мое сознание, и я восприняла ее так односторонне, что мне вообще казалось, будто только мужчины работают и должны получать лучшие куски.
В последующие годы эта мудрость едва не довела меня до голодной смерти. Но подобную прописную истину не так-то легко вытравить из сознания.
Мой дед с материнской стороны был суровым отцом и мужем. Мать часто рассказывала мне о нем. Если дети принимались за еду прежде, чем он сам брал в руки ложку, их прогоняли из-за стола. Если они начинали есть селедку со спинки, а не с брюшка, их секли за обжорство.
В хижинах торпарей и в крестьянских усадьбах витала тень Лютера — Лютера, который, опираясь на священное писание, объявил жестокость богоугодным делом и призывал крестьян вершить волю божию вместо священников. На воспитании и нравственном облике паствы его учение сказалось только в том, что разум и души людей выходили из подобной обработки еще более мрачными, ожесточенными и одурманенными, чем когда над ними трудились священники.
Рассказывая о суровости своего отца, мать всегда добавляла, что все-таки не следует быть таким жестоким, даже если веришь в бога. — «Я никогда не буду обращаться так с моим ребенком», — говорила она, ободряюще глядя на меня. И все же мать многое унаследовала от своего сурового отца. Бедняки так нуждаются в авторитетах.
В детстве я постоянно слышала, как, рассуждая о воспитании, взрослые твердили, что надо быть «порядочным» человеком. Никто не объяснял точно, что значит быть порядочным. Этот порядочный, потому что он умывается и причесывается, тот — содержит дом в чистоте, а вот этот — не пьет. Все «состоятельные», конечно, считались порядочными.
И вот я сижу и, обливаясь потом, жую селедку. Мать и отчим тоже молча жуют, изредка бросая друг на друга косые взгляды.
— Карлберги хотят взять девочку на воскресенье к своим родственникам, — говорит мать.
— Это еще зачем?
— Не знаю, — равнодушно, отвечает мать.
Какая она все-таки странная: только что так хорошо говорила с Ольгой, согласилась меня отпустить и вообще… Я перестала есть. У деда я, наверное, заработала бы порку, потому что на тарелке остались красноватые, с тухлинкой, кусочки селедочного брюшка.
— Это Карлберг договорился с тобой?
— То есть как это договорился?
— Очень просто. Разве не ты останешься за няньку, пока господа будут разъезжать с нашей барышней.
— Боже мой! Вечно ты что-нибудь выдумаешь! Я уж неделю не видела Карлберга. Меня об этом сегодня попросила Ольга, а малыша они берут с собой, они для того и едут к родным, чтобы его показать.
— Хм, нашли, что показывать. (Отчим терпеть не мог грудных детей.)
— Девочка поедет с ними, ей надо бывать среди детей. И довольно об этом, — решительно заявила мать.
— Что ж, мое дело — сторона. Пожалуйста, если хочешь, чтобы девчонка набралась вшей и продрогла. До Кольмордена два часа езды. Воображаю, что у них за родня. Какие-нибудь цыгане и ютятся небось в лачуге.
— Бывают люди похуже цыган, — многозначительно заметила мать.
Взяв шапку, я выскользнула из комнаты. Поездка была делом решенным, мать сама это сказала, и теперь пусть их ссорятся сколько угодно.
Но мать и отчим снова помирились.
Принарядить Ольгу и ее малыша матери оказалось гораздо труднее, чем меня. У меня все-таки было платье из шотландки, хотя я из него выросла, были ботинки, которые, правда, поизносились и стали малы; но с Ольгой дело обстояло совсем плохо, а с Карлбергом и того хуже. Целую неделю мать кроила и шила, а когда отчим начинал ворчать, заявляла, что Ольга не может ехать к зятю в грязной рубашке. Что подумает родня Карлберга о соседях Ольги, у которых не нашлось для нее приличной одежды.
Самолюбие матери проявлялось в своеобразной форме. По-моему, это было благородное самолюбие: если хочешь сберечь собственную честь, никогда не допускай, чтобы твои соседи выглядели бог знает как, — помоги им, чем можешь.
— Карлберг настоящий оборванец, но это меня не касается, — дипломатично заявила мать. — А Ольга должна быть чистой и опрятной, и малыш тоже.
— Карлберг замерзнет на козлах в дырявой шапчонке, я дам ему свою шапку, — сказал отчим.
— Делай как знаешь, мне все равно, — сдержанно отозвалась мать.
— Неужто он собирается ехать в деревянных башмаках? Тогда нельзя отпускать с ним девочку, — заявил отчим.
— Конечно, в деревянных, других-то у него нет. Был холостым, ни о чем не заботился; теперь женат, а надеть ему нечего, — с презрением сказала мать. Я понимала, что она умышленно наговаривает на Карлберга, чтобы не вызвать ревности отчима.
В воскресенье Карлберг облачился в куртку, шапку и парадные ботинки отчима. На Ольге было платье, извлеченное из узла с тряпьем и переделанное матерью, и башмаки, которые мать совсем сбила, потому что у них были какие-то странные прямые подметки. Правый и левый башмак различают только богатые люди. Ольга повертела башмаки, надела тот, который мать сбила вправо, на левую ногу, а левый — на правую, потом надела их как полагается, но они все равно были ей тесны.
— Лучше мозоль на ноге, чем морщина на башмаке, — сказала мать.
Видимо, Ольга была с ней согласна, хотя говорилось это в насмешку над дамами, которые носят слишком маленькие башмачки, чтобы ножки казались более изящными. А у Ольги башмаки были стоптанные, большие и грубые. Но Ольга и мать отлично понимали юмор висельников, как и большинство людей, познавших темную сторону жизни.
Малыш был одет в лучшее из того, что нашлось в нашем комоде, и к тому же мать дала Ольге узелок со сменой чистых и выглаженных пеленок. Волосы Ольги, заплетенные в косы, были уложены на затылке пышным узлом, держалась она совершенно прямо. В пять часов утра в предрассветных сумерках декабрьского воскресенья мы ждали Карлберга, который отправился за повозкой.
Ольга завязала в узелок ковригу хлеба и белую булку с глазурью. Спечь этот гостинец ей помогла мать.
— Они подумают, что мы обзавелись собственным хутором, — сказала Ольга. — Сами они такие благородные. Брат Карлберга похож на настоящего графа.
Мать смотрела на нас с нескрываемой гордостью, а отчим задумчиво поглаживал усы.
— А ведь Гедвиг недурная соседка, как по-твоему, Ольга? — спросил он.
— Даже моя мама не была такой доброй, как она, — ответила Ольга, прижав к груди малыша. Голос ее дрогнул.
Я вдруг почувствовала непреодолимое желание остаться дома. Мама и вправду такая добрая! Неужто она останется здесь вдвоем с отчимом, а я куда-то уеду?
Меня так закутали, что я не могла пошевельнуться. Пальто у меня не было, поэтому мать надела на меня стеганый жилет отчима, сверху обмотала коричневой шалью, а голову повязала шерстяным платком. Мне хотелось подойти к матери, которая стояла на верхней ступени крыльца, прислушиваясь, не едет ли повозка, но я не могла сдвинуться с места. Мне хотелось сказать ей, что я останусь дома, что я никогда ее не покину, что я буду хорошей и послушной и буду делать все, что она скажет.
Но как только на холме загромыхала повозка, я забыла о своем намерении. Сердце подпрыгнуло, застучало. Все на свете было забыто ради поездки.
Лошадь трусила рысцой. Это была та же лошадь и та же повозка, на которых мы приехали сюда из паточного домика.
Я снова сидела одна на заднем сиденье и жалела, что со мной рядом нет Ханны. Вот как быстро забывают мать.
14
Было темно, на небе ни звездочки, но утренняя мгла всегда прозрачней вечерней. Слабый свет брезжил над замерзшей дорогой, по которой грохотала наша повозка. Господа ехали с визитом!
— Дорога никудышная, лошадь собьет себе копыта, — сказал Карлберг.
— Что ты, ее недавно подковали, — ответила Ольга.
Это были единственные слова, которыми молодые супруги обменялись за почти трехчасовое путешествие.
Должно быть, Ольга получала от поездки огромное удовольствие. Она сидела впереди, не сутулясь, как обычно, а совершенно прямо, и, сдвинув на затылок платок и слегка склонив голову, подставляла лицо ветру. Иногда она тихонько напевала про себя. Карлберг отправлял в рот очередную щепоть табаку, сплевывал, брал новую щепоть и погонял кнутом холеную лошадь.
Светало. Темный массив леса, который я целых два месяца видела только издали, теперь надвигался все ближе. Люди, работавшие во дворах, бросали любопытные взгляды сначала на седоков, потом на лошадь. Оглядев лошадь, они здоровались с нами.
Викбуландские крестьяне не станут здороваться с первым встречным. Правда, наша лошадь не походила на лошадь каких-нибудь бродячих цыган, но все-таки черноволосую Ольгу и смуглого Карлберга трудно было безоговорочно признать уроженцами Викбуланда. Ольга и Карлберг степенно и сдержанно отвечали на приветствия грузных хуторян, непринужденно кланялись арендаторам, согнувшимся от тяжелой работы торпарям да двум-трем вставшим спозаранку ребятишкам, которые встретились по пути. Перед нами расстилалась серая и суровая равнина; серыми и суровыми казались люди, попадавшиеся навстречу. Даже фруктовые деревья, растопырившие свои обнаженные ветви, выглядели какими-то угловатыми и безжизненными в это морозное декабрьское утро. Но вдали темной и мягкой громадой тянулся лес, и путь наш лежал прямо в чащу.
Время от времени меня убаюкивало. В цоканье копыт, как в ритмичном стуке колес поезда, есть что-то усыпляющее.
Участки арендаторов и хутора стали попадаться все реже, зато замелькали сосновые рощицы — первые форпосты большого леса, и вот уже с двух сторон нас обступили гигантские сосны и ели. Рассвет теперь не был таким неприветливо-серым, воздух потеплел, стало легче дышать, и спина Ольги начала понемногу сгибаться. Казалось, все силы Ольги ушли на то, чтобы держаться прямо на холодном ветру, пока мы ехали по равнине, где нас провожали долгие взгляды местных жителей.
Вдруг Карлберг свернул с дороги на ухабистую лесную тропинку. Началась такая тряска, что мы то и дело рисковали откусить себе язык. Карлберг и Ольга по-прежнему молчали. Может быть, их волновала предстоящая встреча. Они ведь впервые в жизни отправились в гости. При этом они ехали на лошади, в щегольской, по их понятиям, одежде, они везли в узелке ржаную ковригу и пшеничную булку, и к тому же с ними была соседская дочь в модном клетчатом платье и нарядных ботинках.
А может быть, их волновала сама поездка, первая в их жизни поездка!
Коляска остановилась на прогалинке, перед небольшим, по-воскресному тихим домиком. Во дворе был сооружен маленький навес. Четыре огромные сосны служили опорами. Они образовывали неправильный четырехугольник, и потому домик был немного скошен, но мне он показался чудом изобретательности. Я решила непременно выстроить себе точно такой же. Чего легче: столбы растут прямо в лесу, потолок сложен из еловых веток, а для стен материал всегда найдется. Других построек, кроме навеса, возле дома не было.
Бледная, изможденная женщина с большими, словно застывшими глазами вышла на крыльцо, удивленно взглянула на лошадь и на повозку с полстью, потом на шапку отчима, в которой красовался Карлберг, потом на пальто Ольги, — да так и не поздоровалась с нами. Затем она снова перевела взгляд на сытую лошадь и, прижав к глазам передник, расплакалась. Ольга многозначительно подмигнула Карлбергу, точно хотела сказать, что этого она и ждала. Меня женщина, видимо, просто не заметила. Она вернулась в дом, закрывая лицо передником.
На крыльце появился мужчина с непокрытой головой.
Ольга оказалась права. Это был красивый мужчина. Самый красивый из всех, виденных мной в детстве. Может быть, окружающие не разделяли моего мнения, но в моих глазах он был прекрасней всех. За ним высыпала целая гурьба ребятишек.
Ольга поспешила освободить меня от тряпья, в которое меня закутала мать, чтобы я могла предстать во всем блеске: в платье из шотландки и уже не совсем новых ботинках, — и шесть пар детских глаз с восторгом уставились на меня. Но я смотрела главным образом на их отца. Карлберг, отчим, Вальдемар, дядя, вся «состоятельная» родня: прядильные мастера и развозчики пива — все мужчины, которых я когда-либо видела, показались мне вдруг уродливыми гномами, вроде тех, что в темноте прикидываются кустами можжевельника и еловыми ветками и подстрегают тебя, когда ты, замирая от страха, возвращаешься вечером из дровяного сарая или из лавки.
Брат Карлберга был высокий мужчина с мягкими волнистыми волосами. (У всех мужчин, которых я видела до тех пор, на лоб падал клок волос. Впрочем, может быть, мне это только казалось, потому что такой клок был у отчима.) Блестящие карие глаза казались особенно темными в сочетании со светлыми волосами. Белозубая улыбка сопровождала каждое его слово, а когда он ласково сказал нам: «Добро пожаловать!» — веселые морщинки лучиками побежали от его глаз. Он даже двигался не так, как другие мужчины. Полосатая домотканая рубаха выглядела на нем совсем иначе, чем на других. Я, как сейчас, помню это декабрьское морозное утро и красавца хозяина, который стоит на крыльце без шапки, а за ним чернеют гигантские сосны Кольмордена, сложенная из торфяных плит хижина и дровяной навес, опирающийся на стволы четырех лесных великанов. Этот навес казался более жалким, чем обычные сараи, оттого что над его крышей из еловых веток гордо поднимались сосновые кроны.
Но вся эта картина только потому и была хороша и так нравилась мне, что здесь присутствовал сам хозяин. Он взял меня за руку, другой рукой прижал к себе Ольгиного малыша, кричавшего во все горло, толкнул ногой дверь и пригласил Ольгу и Карлберга в дом.
Ольга была права. Здесь жили «благородные» господа.
Комната была большая, в три окна. На полу лежал половик, сшитый из рогожных мешков, которые когда-то в голодные годы прибыли к нам с рожью из русских степей.
Я хорошо знала историю с русскими мешками, потому что бабушка в будние дни покрывала свой нарядный коврик такой же рогожей. Бабушка и рассказала мне про русский хлеб, про то, как ликовал весь Норчёпинг, когда русские корабли вошли в порт со своим драгоценным грузом. Ведь в ту пору люди месяцами не видели хлеба.
В простенке между окнами висела книжная полка. Книжные полки водятся только у «благородных» людей, это мне было доподлинно известно. У матери сохранилось несколько старых, растрепанных книг: «Жемчужина Бровикена», «Судьба Лаури Дункана» и еще «Необыкновенные приключения мореплавателя в варварских странах», — но все эти книги валялись на чулане. На комоде лежали только псалтырь и библия. Они лежали всегда на одном месте, потемневшие, с облупившимися от времени переплетами, и напоминали по виду куски сухого дерева. Мне никогда и в голову не приходило в них заглянуть. Бабушка держала книги в сундуке. Но ни в поселке индивидуальных застройщиков, ни в Хольмстаде, ни в Южном предместье ни у кого не было книжных полок. Только у «благородных» господ в богатых домах, где мать работала поденщицей, висели такие полки. Даже «состоятельные», у которых мне несколько раз довелось побывать, не имели книжных полок. У них даже библии на комоде не было. Зато на этажерках были сложены газеты «Эстгётен» и «Хеммет». В «Хеммет» из номера в номер печатались «Сказки города и деревни». Но когда я однажды осмелилась без спроса взять газету с этажерки, чтобы заглянуть в нее хоть одним глазком, пока хозяева болтали с матерью, меня так выбранили, что с тех пор я не могла без страха смотреть на «Хеммет».
В этом доме висела книжная полка. Значит, ясно, что хозяева — важные господа.
Шкаф, упиравшийся почти в самый потолок и не прибитый к стене, еще больше убедил меня в знатном происхождении здешних обитателей. На окнах — узкие полоски белой материи, обшитые кружевом. Большой четырехугольный, покрытый скатертью стол, деревянный диван, несколько стульев, часы и две картины с изображением бога на стенах. Две одинаковые картины: длиннобородый седой господь-бог с посохом и ягненком.
В большой открытой печи виднелась куча золы. У печи, устремив взгляд в пол, стояла хозяйка. Веки у нее покраснели. Хозяин подвел меня к ней, я протянула руку и присела. Она посмотрела на меня с любопытством. «Какие у нее странные глаза», — подумала я. Лицо худое, бледное, его обрамляют пышные пепельные, точно посыпанные мукой волосы. Живот у нее большой. «Скоро сюда придет фрекен», — решила я. Ольга объяснила, кто я, и женщина взглянула на меня с еще большим любопытством.
— Значит, ты жила в городе, — сказала она, и в голосе ее прозвучала зависть. — Ты жила в городе, — повторила она и бросила на своих детей взгляд, полный такого проникновенного упрека, что они тоже уставились на меня — на девочку, которая жила в городе.
— Ничего хорошего в городе нет, — заявила я, громко и раздельно произнося слова, — ничегошеньки. — Я чувствовала, что должна была ответить именно так, и, видимо, попала в точку.
— Да, если послушать Гедвиг, ее мать, город не стоит того, чтобы о нем печалиться, — подтвердила Ольга.
— Там и живут-то только одни пропойцы, — сказала я таким тоном, точно переменила по меньшей мере трех мужей-пропойц.
Все засмеялись, но красавец хозяин посмотрел на меня почти сурово.
— Пропойца — нехорошее слово. Многие пьют оттого, что они несчастливы, — серьезно сказал он, посмотрев на меня лучистыми глазами.
Слова его меня изумили. Такого я еще ни от кого не слышала. Несчастье — это когда кто-то сломает ногу, или умрет, или ослепнет. А пьют люди оттого, что они плохие, — так меня всегда учили. Я видела, как пьяницы бьют своих жен, выгоняют их по ночам на улицу, а жены иногда бегут за полицией. И вовсе эти пьяницы не были несчастными. Я часто слышала, как многие из них хвалились, что пьют столько, сколько им вздумается, потому что имеют на это право.
Это было необыкновенное воскресенье.
Из всех ребятишек мне особенно понравились две девочки: одна из них оказалась моей ровесницей, другой было лет двенадцать.
У моей ровесницы были карие, отцовские, глаза и светлые пепельные, как у матери, волосы. Волосы свободно падали на плечи, завиваясь в локоны, и мне казалось, что передо мной настоящая принцесса. Вот это были локоны, не то что крысиный хвостик Ханны или моя собственная длинная, прямая как палка, косичка! Правда, мои волосы слегка вились на висках, но мать приглаживала, мочила и вытягивала их, чтобы не осталось ни одного непокорного завитка. В торжественных случаях мать распускала мне волосы по спине, но спереди они все равно были зачесаны гладко-гладко.
На обеих девочках были платья из той же ткани, что и рубаха на их отце. Грубая, безобразная бумажная ткань, но какой нарядной она мне казалась!
Здесь обходились без даларнских сумок. Показную роскошь заменял лежавший на всем отпечаток своеобразного вкуса. В этом домике все казалось сказочным: высокий, стройный хозяин, который держался приветливо и непринужденно, девочки с тонкими, пышными волосами.
Карлберг, сидевший на диване, выглядел по сравнению с ними каким-то бородатым троллем. А что говорить об отчиме, который, по словам бабушки, «так хорош собой, что в этом все его несчастье»! Тьфу! Подстриженные усики, прядь волос на лбу, колючие серые глазки, которые становятся белесыми и вылезают из орбит, когда он злится. Грубиян и коротышка — вот кто он такой, только и всего!
— Отец сам сшил нам платья, — объяснила девочка. — Мы их надели, потому что сегодня воскресенье.
Меня поразили ее слова. Значит, здесь, в глухом лесу, праздновали воскресенье. Надевали нарядные платья не потому, что ждали гостей, а потому что было воскресенье.
— Твой отец умеет шить? — прошептала я.
— Конечно, ведь мать все время болеет, и потом она часто расстраивается.
— Я знаю. Она заплакала, когда мы приехали. Она рассердилась на нас за то, что мы приехали?
— Нет, что ты! Она плакала из-за лошади — у них ведь были свои лошади; у дедушки много лошадей, но он сердит на мать, а отец сердит на дедушку, только отец гораздо лучше дедушки.
Я призадумалась. За всеми этими дедушками и бабушками крылась какая-то история, связанная с лошадьми. Но, будь у этого дедушки хоть двадцать тысяч лошадей, я все равно не колебалась бы в выборе ни секунды. Впрочем, я вообще была настроена скептически по отношению к дедушкам с тех пор, как узнала, что мой собственный дед отдал все мои деньги дочери крестьянина, жене Вальдемара.
Все дедушки дураки — и те, у которых есть лошади, и те, у которых есть только деньги.
Поведав мне свои семейные обстоятельства, принцесса с пепельными локонами и карими глазами занялась моей особой. Потрогав платье из шотландки, она высказала предположение, что оно стоит не меньше ста крон. Я была уверена, что оно стоит гораздо дешевле, и, кроме того, было совершенно ясно, что отныне на ближайшее время моей заветной мечтой станет платье в белую и синюю полоску, сшитое ее отцом. У бабушки было много такой материи, но когда я прежде видела грубую ткань на бабушкином ткацком станке, мне казалось, что безобразней ее нет ничего на свете. Старики и вообще беднота шили из нее будничную одежду. «Благородные» ее никогда не носили. Даже выпачканная маслом одежда прядильщиков была сшита из другого материала — из синей ткани, как раз такую только что начали носить франты из рабочей аристократии, которым средства позволяли следить за модой.
Я попрошу мать написать бабушке, чтобы она прислала такой материи мне на платье. Из синих и белых ниток этой пряжи я плела косы своей кукле. В глубине души я надеялась, что платье мне сошьет отец принцессы.
Хозяин ни минуту не сидел на месте. И он и его двенадцатилетняя дочь. Они понимали друг друга с полуслова. Я заметила, что хозяйка не принимала никакого участия в их работе. Она просидела все время с Ольгиным малышом на коленях. Женщинам было о чем порассказать друг другу. Губы Ольги, посиневшие от холода во время поездки, теперь снова кроваво заалели, тяжелая, стянутая узлом на затылке коса оттягивала голову. Крылья ее широкого носа раздувались, когда она возбужденно перешептывалась с невесткой, теребя узенькую кружевную оборочку на рукаве своего сынишки.
Хозяин и его двенадцатилетняя дочь хлопотали по хозяйству. Я старалась украдкой рассмотреть девочку. Худеньким, почти лишенным красок лицом она походила на мать. Волосы у нее были — как у Карлберга. Да и вообще в лице у нее было что-то общее с Карлбергом. Если бы не карие глаза, можно было бы подумать, что она его дочь. Впрочем, он ведь приходился ей дядей, правда не совсем настоящим дядей, потому что, по словам Ольги, ее отец был их родственником «по боковой линии». Мне не раз приходилось слышать это выражение. Когда говорили обо мне, тоже всегда упоминали «боковую линию», хотя никто не потрудился объяснить, что значит это слово в применении к людям. Когда я жила у тетки в Норчёпинге, я часто бывала на Восточном вокзале и играла там на рельсах, где стояли старые товарные вагоны. Железнодорожные рабочие называли этот путь запасной или боковой линией. «Играйте на боковой линии — говорили они нам, — но не смейте ходить по главному пути». Один из моих дядек тоже работал на боковой линии, которая связывала Южный вокзал с Викбуландом.
Когда говорили о родственниках «по боковой линии», у меня всегда возникало какое-то смутное представление о нагромождении ржавых вагонов и о железнодорожных рельсах, разбегающихся в разные стороны.
Держа на руках младшего двухлетнего сынишку, хозяин большими шагами двигался по комнате, выходил на кухню, возвращался и снова выходил, и так до тех пор, пока стол не был накрыт к завтраку. Каждый раз, когда жена делала попытку встать, он останавливал ее, улыбаясь карими глазами:
— Сиди, сиди, Элин, поболтай с Ольгой. Тебе не часто приходится принимать гостей.
Теперь мне уже больше не хотелось стать светловолосой принцессой. Мне хотелось очутиться на месте худенькой темноволосой и бледной девочки, которая помогала этому веселому, красивому человеку. Я встала, вышла на кухню, которая оказалась маленькой темной комнаткой, и сказала так, как обычно говорила мать, когда, проголодавшись в гостях, хотела поторопить хозяев с угощением:
— Не могу ли я чем-нибудь помочь? — При этих словах я вежливо присела.
— Нет. — Мне ответили, что я не должна помогать, что я устала после долгого путешествия и меня сейчас угостят чашкой кофе… И вот Ольгина булка нарезана, ржаные сухари — угощение, приготовленное хозяевами дома, — аккуратно разложены, и, хотя кофе не поджарен «на пару», да и вообще это не настоящий, а самый обыкновенный ржаной кофе, мне все-таки никогда не приходилось его пить в такой торжественной и праздничной обстановке.
У каждого из ребят был свой стул, и чем меньше ростом был владелец, тем выше был стул. Так, по росту, дети и сидели вокруг стола. В семьях торпарей это не принято. При чужих дети батраков и торпарей обычно стоят, сбившись в кучку, и, засунув палец в рот, смотрят, как гостей потчуют чем бог послал.
Хозяин сам разливал кофе, и когда, наполнив мою чашку, он погладил меня по голове, я так растерялась, что объявила, будто никогда не пью кофе с сахаром. Не знаю, почему я так сказала. Может быть, потому, что сахар был моим любимым лакомством. Я хотела принести какую-нибудь жертву на алтарь моего нового божества и для этого избрала два маленьких кусочка сахара. Тем не менее хозяин дал мне целых три куска, которые я тут же опустила в чашку, и, кроме того, положил передо мной большой кусок Ольгиной булки и два ржаных сухаря. Ольга с удивлением смотрела на меня, смущая меня своим присутствием. Она-то ведь знала, что дома я никогда не отказываюсь от сладкого, что когда у матери мало сахара, она даже запирает его от меня. Нет, если в первый раз едешь в гости к людям, которым хочешь понравиться, никогда не бери с собой старых знакомых. Они наперечет знают все твои слабости и недостатки. А это так связывает, что ты при всем желании не можешь изменить свои привычки и тебе приходится продолжать грешить просто из боязни, что тебя поднимут на смех.
Карлберг потихоньку выскользнул из комнаты. Я поняла, что ему надо сплюнуть табак. Вот оно как. В гостях у своего родного брата он выходит на улицу, чтобы сплюнуть табак. А дома он сплевывал прямо на пол у печки. Я часто слышала, как Ольга бранила его за это. Значит, не я одна чувствовала желание вести себя по-другому, хотя никто не бранился и не читал нравоучений. Все дело было в этой комнате, такой простой, что проще и быть не может, но чистой и строгой, в этой стайке кареглазых и синеглазых ребятишек, одетых в самые простые, грубые, дешевые платья, и в этом человеке, который ласково улыбался своей жене, истощенной, бледной женщине, уже слегка поблекшей, а может быть, и слегка поврежденной рассудком после всех несчастий, обрушиваемых судьбой на головы тех, кто осмеливается порвать с богатыми родителями. Она плакала при виде лошади. Она страдала из-за нищеты, вечно грозившей ее дому и детям, — ее детям, которым никогда не придется кататься на лошадях, из-за нищеты, давно бы поглотившей их всех, если бы не героические усилия мужа. При всем своем врожденном крестьянском здравом смысле она не могла постичь тайну чудодейственной власти этого человека над ее душой. В сердце женщины теснились противоречивые чувства. Обитатели маленького домика жили в атмосфере страха, любви и сострадания.
Нам с Ольгой впервые в жизни довелось увидеть мужчину, не скрывающего своей любви к жене. Ольге было девятнадцать лет, мне — восемь, но мы обе были уверены, что любовь бывает только в книгах, а брак — это скандалы, дети, нужда, пьянство, в лучшем случае — унылое совместное существование двух хмуро молчащих или ссорящихся людей, которые по привычке держатся друг за друга.
— Благослови господь наш хлеб! — прочла двенадцатилетняя девочка, прежде чем мы приступили к еде.
Дома я читала предобеденную молитву только в тех случаях, когда нас навещала бабушка. Ей очень нравился обычай, заставляющий детей благословлять еду. Еда — двойной дар для ребенка, уверяла она. Взрослые получают еду от бога, а потом дети получают ее от взрослых.
У бабушки были узловатые, изуродованные тяжелой крестьянской и фабричной работой руки. Негнущиеся в коленях ноги были покрыты буграми и шишками. Бабушка нажила ревматизм в холодной, сырой комнате.
Я убеждена, что бабушка благодарила создателя за еду просто в силу привычки. Она ведь часто призывала смерть. Восьмилетней девочкой я уже понимала, что моя любимая бабушка старается обмануть смерть, снискать ее расположение, вознося благодарность богу за еду, за его дары, за жизнь, которая была ей в тягость, потому что в этой жизни ей не на что было надеяться, разве только на смерть. А вдруг… а вдруг после смерти наступит покой. Вдруг он наступит, если не прогневить смерть, если молиться, вести себя почтительно, трепетать в ожидании высокой гостьи.
Здесь, за этим столом, никто не боялся смерти, никто не пытался выпросить что-нибудь у сурового создателя. Здесь все были молоды. На стене висел бог, окруженный золотыми облаками, с посохом и ягненком. Две одинаковые картины.
Мать никогда не читала предобеденной молитвы.
Отчим иногда вдруг вспоминал о приличиях.
— Девчонке не мешало бы читать предобеденную молитву, труд невелик, все дети так делают.
Подобные разговоры всегда вызывали спор, после которого нам было уже не до молитвы. Я хорошо помню, как закончился один из таких споров.
— Если девчонка не будет читать молитву, она вырастет грешницей. Я всегда читал молитву, когда был ребенком.
— Ну и хорош же ты вырос, — заявила мать.
При бабушке мать всегда складывала руки, когда я читала молитву.
При здешнем хозяине было как при бабушке. В его присутствии хотелось стать другим человеком, не таким, как всегда.
Почти весь день я была в центре внимания. Пожалуй, только сам хозяин посетил так много разных мест, ездил так часто, видел так много, как я. Только я, Карлберг и хозяин ездили в поезде, да и то Карлберг всего один раз по местной железнодорожной ветке. Никто из них не бывал на фабрике. Вот почему взрослые вовсе не сочли меня болтушкой. Они с благоговением слушали мои рассказы о том, что я видела на самом деле, и о том, что было просто плодом моей фантазии.
Их ничуть не смущало, что рассказчиком была маленькая девочка.
Взрослые ведь считают, что дети никогда не лгут.
Да и кого интересовало, правда это или выдумка. Этим людям хотелось услышать что-нибудь о жизни большого мира, и рассказать об этом могла восьмилетняя незаконнорожденная девочка, которую жизнь уже не раз швыряла с места на место.
Я рассказала про мост, перекинутый через Муталу неподалеку от бумажной фабрики, который до того обветшал и подгнил, что в одном месте прогнулся и стал почти отвесным.
Проходя по этому опасному месту, нужно было крепко держаться за перила и карабкаться, словно в гору. Фабричные рабочие, уходя в ночную смену, брали с собой фонари, чтобы не свалиться в реку.
— И ты тоже переходила мост?
— Еще бы! Мы каждый день ходили по нему в школу. (В ту самую школу, где случилась история с вязальной спицей.)
— Над вами витали ангелы и охраняли вас, — сказала двенадцатилетняя девочка.
Я не стала спорить.
— Однажды смоловары напились пьяными и прошли через мост, не держась за перила, и не упали. Мой дядя тоже перебрался через мост, когда был пьян, но он лег на живот и прополз по страшному месту, а смоловары шагали как ни в чем не бывало.
Я встала и прошлась, показывая, как двигались смоловары. При этом я слегка покачивалась, чтобы пояснить, какое это чудо, что они в пьяном виде перешли мост, пролет которого держался почти отвесно.
Двенадцатилетняя девочка нерешительно взглянула на отца.
— Разве ангелы охраняют пьяных?
Ольга сияла. Она была невыразимо горда, что привезла с собой такую интересную особу. Крепче прижав к груди малыша, она выпрямилась, ожидая, что кто-нибудь выскажет свое мнение о чуде.
— Пьяные — как дети, — сказал, улыбнувшись, хозяин. — Дети не думают о том, как пройдут, и пьяные тоже. Вот почему их часто оберегает судьба. — Он улыбнулся мне светлыми лучистыми глазами, но мне не хотелось сдаваться, я не желала, чтобы ангелы охраняли пьяниц.
— Юхан-Жестянка попал под поезд, — сказала я кратко. — Все говорили, что он был пьян. И он умер.
— Значит, его час пробил, — быстро вставила Ольга. Остальные кивнули.
Шестеро ребятишек, сидевшие рядком на грубо сколоченных стульях, допили кофе. Только тогда отец и мать встали из-за стола. Никогда прежде я не видала, чтобы кто-нибудь считался с детьми, чтобы отец и мать без воркотни ожидали, пока они кончат есть. Но, может быть, они не ворчали только ради воскресенья?
В пролетарских семьях, где мне приходилось бывать, у родителей не оставалось времени учить детей, как надо вести себя за столом, вернее — показывать им, как надо себя вести. Да и трудно учить тому, о чем сам не имеешь понятия.
Мне очень хотелось остаться со взрослыми, но дети завладели мной, тянули меня из дома. Ольга закутала меня в старую материнскую шаль, повязала мне голову шерстяным платком, и мы отправились на улицу.
— Ты так давно не была с детьми, поиграй уж, раз такой случай, — сказала Ольга.
Но как раз сейчас мне было совсем неинтересно с детьми. До чего непонятливы взрослые! Именно сейчас мне совсем не хотелось играть. Больше всего на свете мне хотелось остаться в комнате, сидеть и слушать спокойный голос темноглазого красавца хозяина, а потом посмотреть, что за книги лежат на полке.
Кольморден казался совсем скучным, дети меня раздражали, но пришлось покориться. Оставалось одно утешение — сарай с еловыми ветвями вместо крыши и четырьмя гигантскими соснами вместо опор.
Как только мы поселимся где-нибудь недалеко от леса, я первым делом выстрою себе такой дом, свой собственный дом. А то ведь у нас на равнине даже тень от можжевельника и та в диковинку.
— Какой у тебя благородный отец, — сказала я двенадцатилетней девочке.
— Да-а, — неуверенно протянула она, посмотрев на меня долгим взглядом.
— У нас мать из богатой семьи, наш дедушка — окружной судья, у него целых шесть лошадей. Две лошади совсем не работают и только возят парадную коляску, — продолжала она почти шепотом.
Оказывается, я ошиблась — в этом доме благородство олицетворяла мать.
— Поэтому мама и плачет, когда сюда приезжают лошади.
— Подумаешь! Лошади! — фыркнула я.
Наступило короткое молчание. Девочка постояла в нерешительности.
— Отец такой добрый, — тихо сказала она.
По-видимому, благородное происхождение не было достоинством в глазах этой девочки. Она любила отца по другим причинам. С благородными людьми трудно жить — они плачут, когда видят холеную лошадь, на которой не могут ездить и на покупку которой у них нет денег; они плачут, когда им напоминают о потерянном счастье.
— Твой отец такой красивый! — сказала я.
— Ольга говорит, что твой отец тоже красивый.
— У меня нет отца, это мой отчим, — возразила я упрямо.
Поиграть нам так и не пришлось. Мы заболтались и совсем забыли про игру. Я начертила на земле «классы», но земля промерзла и к тому же была покрыта пожелтевшей травой, поэтому линии нельзя было разглядеть. Мы стали крутить веревочку, и я показала детям, как надо прыгать. Но день был морозный, и их так закутали, что у них ничего не получалось. Несмотря на это, они, раскрыв рты, следили за всем, что я делала. Я не знала, что бы еще придумать поинтереснее. Но оказалось, что они и сами могут кое-чему научить: после того как я показала все свое искусство, они позвали меня играть в мяч.
Я очень удивилась. В мяч? Неужели у них есть мяч? И неужели они оставляют его на улице, не боясь, что кто-нибудь его унесет?
Мячи оказались деревянными шарами, вырезанными из капа[5] карельской березы. Рядом лежало шесть палок. Человек, вырезавший детям шары и палки, конечно и слыхом не слыхал об игре в гольф.
На ровной просторной площадке в разных местах были вырыты углубления. Правила игры были просты, и дети играли в нее очень ловко.
Они обыграли меня в два счета. Они обыграли бы меня и сейчас, потому что с тех пор мне ни разу не пришлось упражняться в этой древней игре, в которую, если верить многочисленным романам, вечно играют страдающие сплином английские лорды. Гольф зачастую становится их последним прибежищем накануне вызванного сплином сентиментального самоубийства.
Ели и высокие сосны Кольмордена, освещенные декабрьским солнцем, тихо шелестели над нашими головами, роняя на землю заиндевевшие иглы.
Пятеро ребят играли в старинную королевскую игру, заново изобретенную в ее простейшей форме кольморденским сапожником, который горячо любил свою жену и детей.
Вскоре на улицу вышли взрослые. Конечно, не хозяйка — она все еще отдыхала, — а Ольга и Карлберг с хозяином. Хозяин вышел с непокрытой головой, как видно собираясь тут же вернуться, но передумал, подошел к нам, взял у своей двенадцатилетней дочери палку и показал мне, как надо бить.
Карлберг решил поиграть с нами, но от удара его здоровенных ручищ шар закатился далеко в лес. Ольга тоже получила палку. Она оказалась очень способной и дважды загнала шар в лунку. Бегала она легко, словно годовалый теленок. На щеках ее расцвели розы. Деверь ее похвалил.
Я почувствовала такую зависть, что у меня слезы навернулись на глаза. Подумать только, я нянчила Ольгиного сынишку, сидела в ее грязной комнате, где на окнах висят бумажные занавески, а теперь она пришла и стала играть с нами, хотя она уже большая, да еще так ловко играет. И зачем только взрослые пришли сюда. Им тут совсем не место, ни Ольге, ни Карлбергу — никому, кроме хозяина. Он совсем другое дело. А остальные взрослые оставили бы лучше нас в покое.
— Ну, теперь пора накрывать на стол, иначе мы не успеем поболтать. Вы ведь скоро должны ехать.
К обеду подали ржаные лепешки с брусникой и патокой. Пышные лепешки, испеченные накануне. Угощение мне очень понравилось. Я решила уговорить мать печь по субботам такие лепешки, а в воскресенье только разогревать. Тогда это будет настоящее воскресенье. А то, бывало, придут «состоятельные», мать целый день суетится, возится на кухне, жарит битки, варит картошку, сбивает крем, растрачивает все деньги за один раз, а угощенье все равно не бывает таким вкусным, как здесь.
Ольга задумчиво жевала лепешки, политые патокой.
— Ты, наверное, привыкла к лучшей еде, — сказала хозяйка, которая выглядела теперь не такой усталой.
— Ничего подобного, — возразила я почти сердито, — эти лепешки вкуснее всего на свете.
— Уже два часа. Мы обедаем, как благородные господа, — пошутил хозяин.
— В два часа? Что ты, дорогой! В благородных домах никогда не обедают раньше четырех, — возразила хозяйка.
Хозяин только засмеялся в ответ.
— Ну, значит, мы самые благородные, потому что иногда совсем не обедаем, — заявил Карлберг.
Но Ольга, толкнув его в бок, сердито вставила:
— Не так уж это часто бывает.
Слова Ольги напомнили мне о матери и отчиме, которые остались одни в домике на равнине. Хорошо, что они остались дома. Матери-то, наверно, очень понравилось бы здесь, но отчиму, конечно, нет. Он сидел бы и молчал, злобно глядя на всех. А потом сказал бы, что ржаной кофе — это бурда, что в доме слишком много детей, а от лепешек только пучит живот, если к ним не подают жареного мяса. Хорошо, что они остались дома.
Мать стала бы рассказывать об ольховом болоте вокруг домика, где она родилась, описала бы ту окраину Кольмордена, где она росла и где, по ее словам, все было так прекрасно. А если бы при этом не было отчима, она рассказала бы и обо мне, о том, что я «побочная» или «по боковой линии», и о том, что она никогда не вышла бы замуж, если бы у нее не было ребенка, для которого она хотела создать семью.
Хорошо, что они остались дома.
Двенадцатилетняя девочка помогла отцу убрать со стола, а мы остались сидеть. Младшие выжидательно поглядывали по сторонам, точно знали, что за этим что-то последует. У всех были сосредоточенные лица, и я тоже притихла.
Вернувшись из кухни, хозяин снял с полки толстую книгу.
«Библия, — подумала я. — А может быть, псалтырь? Или проповеди?»
Несмотря на красивые глаза, белокурые волосы, белые зубы и прекрасное лицо, мой кумир сразу немножко потускнел.
Но это была не библия. И не псалтырь… Я это поняла, как только он раскрыл книгу. В ней были картинки и крупный новый шрифт, а не тот старинный, с завитушками, который мучил меня, когда я зубрила псалмы по бабушкиному псалтырю. Раскрыв книгу, хозяин положил ее перед собой. Это были «Странствия Христианина».
Я никогда прежде не слышала об этой книге.
Позднее, когда я стала старше, я поняла, что эта книга, если судить по впечатлению, которое она произвела на меня, должна была породить — и на самом деле породила — гораздо больше еретиков и вероотступников, чем даже произведения Мартина Лютера и великих философов-вольнодумцев.
Читал хозяин великолепно. Лучшего чтения я никогда не слышала, даже моя любимая учительница из хольмстадской школы не могла с ним сравниться. Про что только он не читал! Про великанов и троллей. Злоба, ложь и предательство — вот что, оказывается, таилось в образе троллей, драконов и разнообразных искусителей, окружавших бедного Христианина. Как интересно! Я вдруг сразу поняла: во всех уголках земли таятся тролли и великаны, которые следят за людьми и совращают их. Затаив дыхание, мы слушали больше часа; всякий раз, как отец переворачивал страницу, старшая девочка, седевшая рядом со мной, шепотом подсказывала, что будет дальше. Как видно, она знала всю книгу наизусть.
Какая толстая книга, такая же толстая, как библия на комоде у матери!
— У нас дома есть большущая библия, — шепнула я на ухо девочке.
— В библии обо всем этом тоже написано, только не так хорошо, как здесь, — прошептала она в ответ.
Я была совершенно ошеломлена. Библия вдруг ожила для меня. Как только вернусь домой, начну ее читать. Я найду в ней хоть что-нибудь из того, что написано в книге о Христианине. Если этот рассказ взят из библии, наверное в библии он тоже сохранился. А может быть, из нее вырвали самое интересное и она осталась лежать на комоде как кусок засохшего дерева.
Судьба привела Христианина в долину отчаяния, и на этом хозяин закрыл книгу.
— А теперь мы споем песню, — сказал он, улыбнувшись с таким видом, точно был убежден, что для бедного Христианина все кончится благополучно.
Я была так взволнована, что дрожала всем телом: они будут петь! Мать порой напевала дома, но только тогда, когда отчим не мог ее слышать. Он терпеть не мог «нытья», если только не был пьян. А напившись, он сам грубым голосом затягивал песню о пророке Ионе: «…Тут мимо голодный кит проплывал, и он с сапогами Иону сожрал…» Я поймала себя на том, что припоминаю слова этой старой разухабистой песни, и страшно испугалась, как бы не произнести их вслух.
— «Все цветет, и все сияет», — затянул приятным голосом хозяин, дети подхватили, за ними жена, за нею Ольга. Все знали песню, кроме меня и двухлетнего малыша. Я почувствовала себя совсем одинокой. Нет, оказывается, Карлберг тоже не поет.
За окном бесснежная зима сковывала холодом землю. Декабрьское солнце скрылось, закончив свой короткий путь, сумерки окутали домик.
Все цветет и все сияет Краткой вешнею порой. Тайну девичьего сердца Другу верному открой. О открой, покуда осень Всех цветов не унесла…Теперь и Карлберг стал подтягивать. Я заметила, что он не знает слов. Тогда я тоже стала напевать мотив, и чувство одиночества сразу исчезло. Потом наступило короткое молчание, которое нарушил крик двухлетнего малыша, сидевшего на коленях у Карлберга: булочку! Ему захотелось отведать угощенья, привезенного Ольгой. Отец охотно встал, чтобы принести ему кусочек булки, и, когда маленький лакомка успокоился, Ольга сказала:
— Миа очень хорошо читает, она знает много стихов наизусть.
Все взоры обратились ко мне. Наконец-то наступила моя очередь. Но я не знала ни одного подходящего стихотворения. Мне казалось, что среди религиозных людей неудобно читать «Весна наступила» или «У дороги старый нищий…»
— Я не могу, я ничего не помню, — отнекивалась я, ужасно покраснев.
— Вижу по лицу, что помнишь. — Карие глаза хозяина, смеясь, смотрели на меня.
— Эльза! — окликнул он старшую дочь. — Прочти сначала ты, Миа — гостья, поэтому она и стесняется, а когда ты станешь читать, она вспомнит что-нибудь.
Девочка была на кухне. Она вошла, вытирая руки, очевидно, после мытья посуды или уборки, и вопросительно взглянула на отца.
— Прочти что-нибудь наизусть, Эльза. Сначала ты, а потом Миа.
Эльза смущенно посмотрела на меня.
— Я не знаю настоящих стихов.
Я не поняла, что она считает настоящими стихами.
Она прочла стихотворение о березах, лесах, бедных хижинах и детях. Оно было немного однообразно и все-таки очень красиво. Простые слова удивительно подходили к этой девочке. Хижина, о которой она читала, вполне могла быть их собственным домиком. Окончив чтение, она сказала:
— Эти стихи сочинил отец. (Вот почему она, наверное, сказала, что не знает настоящих стихов — стихов, которые напечатаны в книге.)
Значит, он, как и я, тоже писал стихи. Впервые в жизни я встретила человека, который пишет стихи. Я старалась припомнить какие-нибудь стихи собственного сочинения, которые могла бы прочитать. Но все они казались мне слишком глупыми. Правда, в них было и про Христа, но все-таки не то, и про птичку у меня тоже был стишок, но такой путаный, что я сама никак не могла его запомнить.
Птички в лесах распевают порой. Птичку однажды взяла я домой! —повторила я несколько раз. Дальше я не помнила. Но теперь я непременно должна была что-нибудь прочитать. Все ждали, чтобы я начала.
— «У дороги старый нищий на скамье сидел», — произнесла я дрожащим голосом. Когда я кончила, все нашли, что стихи очень красивые.
— «Весна наступила, цветы расцветают», — без передышки продолжала я. Я читала с выражением, как прежде в Хольмстаде перед учительницей, так что Карлберг, который знал эти стихи, даже захлопал. Я сконфуженно взглянула на хозяина. Его блестящие глаза были серьезны.
— Какие прекрасные стихи! Они похожи на молитву, Ты и читаешь их, как молитву!
— Ей надо бы выступать в театре, — заметила Ольга.
Хозяин бросил на нее неодобрительный взгляд.
— У нее целая куча своих стихов, — сказала Ольга; и мне показалось, что взрослые онемели от изумления.
— Нет, нет, я совсем не пишу стихов. Я даже не помню, что я написала. Они глупые и плохие, — говорила я, чуть не плача.
— Мы тебя не заставляем, Миа, не бойся, — засмеялся хозяин. — Ну, а теперь чья очередь? Миа и мы с Эльзой уже прочитали, а кое-кто еще и рта не раскрывал. Ну-ка, Ольга…
Но Ольга ничего не помнила.
— Я всегда была такой глупой, даже в школе ничего не могла выучить, — смеясь уверяла она.
Хозяйка смотрела прямо перед собой тяжелым взглядом, и никому не приходило в голову попросить ее.
— Ну, тогда послушайте меня, — заявил Карлберг и пошел:
Сидит на печи старуха, Прячет бутыль с сивухой: «Черт возьми пьянчужку старика». Старик лежит и злится: «Хотелось бы напиться — Проклятая баба не дает ни глотка!..»Мне было стыдно за Карлберга. Что подумают о нем благородные, ученые хозяева. Но все только засмеялись и попросили Карлберга замолчать.
Эту популярную песню знали все, и я в том числе.
Насколько я могу припомнить, до тех пор пока мне не минуло двенадцати лет, эта поездка осталась единственным в моем детстве случаем литературного общения со взрослыми. Это был единственный случай, когда хозяева развлекали гостей чтением, сами охотно его слушали и переживали прочитанное и услышанное.
Хозяину понравилось стихотворение «Весна наступила». Учительница из Хольмстада тоже его любила, а ведь я сама его выбрала, потому что оно казалось мне самым красивым из тех, что мы читали в школе. Никто мне не разъяснял, что оно красиво, я сама это поняла. Значит, людей связывает какая-то таинственная нить, невидимая нить, которая тянется по всему миру. Может быть, об этом говорится в «Странствиях Христианина»?
— Ты читаешь стихи, как молитву! — сказал хозяин.
По дороге в гости мы все время молчали, зато на обратном пути не закрывали рта. Карлберг, который за целый день, бывало, слова не проронит, возвращаясь через Кольморден — все время болтал со мной и с Ольгой. На прощанье хозяева еще раз напоили нас кофе с ржаными сухарями.
Когда мы въехали на освещенную месяцем заиндевелую равнину, Карлберг начал мурлыкать песню. Ольга подхватила, она знала слова. Песня была очень грустная, в ней говорилось про кораблекрушение, измену и смерть. Не успели мы ее окончить, как подъехали к дому.
Я так устала, что была не в силах рассказывать.
— Ты себе не представляешь, какие это благородные люди. У них книжная полка, и потом шкаф, и потом хозяин пишет стихи, — вот и все, что я могла ответить на расспросы матери.
— Нечего сказать, доходное занятие и как раз по плечу кольморденскому сапожнику, — услышала я голос отчима и тут же заснула прямо на стуле.
15
В понедельник после обеда Ольга принесла вещи, которые ей одолжила мать, в том числе и платье, перешитое специально для нее.
— Что ты, Ольга, оставь его себе, припрячь до рождества. К нам приедет погостить свекровь, тебе будет в чем ее встретить. Я все равно в долгу перед тобой. Миа так довольна поездкой, она по уши влюбилась в твоего деверя.
Я перелистывала толстую библию, отыскивая в ней «Странствия Христианина», и, услышав слова матери, побагровела от стыда. «Влюбилась!» Так говорят про жениха и невесту: «Она в него влюбилась, он в нее влюбился!»
Ольга села на диван, а мать вышла проветрить одежду. Ольга, видимо, удивилась и даже слегка обиделась. Когда мать вернулась, она сказала:
— Я сама все почистила, чтобы вас не утруждать.
Напрасно мать поторопилась. Ведь это дело щекотливое. Платье чистят после того, как его надевал какой-нибудь вшивый бродяжка. Мать, видно, сама поняла свой промах, во всяком случае она пробормотала что-то насчет того, что всегда проветривает платье после носки.
— Не подумай, что я брезгаю тобой, Ольга, что я боюсь насекомых или какой-нибудь заразы. Просто я привыкла чистить выходное платье еще с тех пор, как была прислугой. Так это у меня и осталось.
Добродушная Ольга сразу просияла и даже объявила, что, по ее мнению, очень разумно проветривать воскресное платье.
— Когда у меня будет нарядное платье, непременно стану его проветривать, — сказала Ольга. В этот день она была в самом лучезарном настроении.
Я продолжала дуться на мать. «Влюбилась в него!» — сказала она про меня. Никогда не буду ей ничего рассказывать, раз она не умеет держать язык за зубами. Никогда. Сама небось влюблена! Влюблена в отчима! Как только вырасту большая, непременно скажу ей об этом.
— Ее отец — судья в Лонглиде, — услышала я слова Ольги.
— Господи боже! Бывают же такие несчастные! — отвечала мать.
— Они отослали ее, но это не помогло. Она плакала и чуть с ума не сошла от горя, а когда вернулась, они стали встречаться почти каждый вечер и встречались так целое лето. Говорят, когда судья узнал, что она забеременела, он ее избил, а потом пошел к Карлбергу, который чинил седла на хуторе, и сказал ему: «Забирай свою блудливую девку, от меня она не получит ни гроша, ни тряпки, бери ее в чем мать родила, проклятый голодранец!» Конюхи слышали этот разговор от слова до слова.
И в тот же вечер Карлберг увел ее из отцовского дома. На ней было платье, но он заставил ее снять с себя все, а сам стоял во дворе судьи и ждал. Дело было к ночи, все уже спали. Она, можно сказать, сбежала из отчего дома, и сбежала на самом деле в чем мать родила, — в точности, как сказал судья.
Но потом она, бедняжка, стала какая-то странная; видно, если привыкать к нужде, то с самого детства, а она чуть завидит лошадь — так в слезы.
Мать сидела задумавшись. История Карлберга была похожа на роман. Правда, в романах бедные выходят за богатых и сами становятся богатыми, а здесь вышло как раз наоборот.
— Что ж удивительного, если она плачет, завидев лошадь, — наконец ответила мать. — Не так-то легко дочери окружного судьи стать женой кольморденского сапожника да еще народить кучу детей.
— Ты не знаешь брата Карлберга, — сказала Ольга, мечтательно глядя вдаль. — Если бы ты его увидела, ты не говорила бы так.
— Все мужчины одинаковы, — возразила мать.
Но Ольга покачала головой.
— Нет, не все, разные бывают… Только чтобы заполучить такого мужа, будь он даже простой сапожник, надо родиться дочкой судьи, — сказала она с горечью. — Уж если среди бедняков и найдется хороший муж, все равно бедной девушке не видать его как своих ушей. Эти барыни все приберут к рукам, а потом еще жалуются, хнычут, как завидят лошадь.
Ах, как мне нравилась сейчас Ольга! Как умно она рассуждала!
Мать тоже с ней согласилась.
— Ты, я вижу, умница, Ольга. Спасибо, что взяла с собой девочку. Только она теперь чудит. Ни с того ни с сего засела за библию. Толку от этого не будет. Не хочешь ли выпить со мной кофе?
За то, что я пристрастилась к чтению библии, домашние преследовали меня, как католическая церковь еретиков. Стоило матери или отчиму увидеть у меня на коленях толстую книгу, как они начинали браниться.
— Эта книга не для детей, — говорила мать. — Сначала поумней, потом будешь читать библию.
— Она уже выросла, пора бы ей приносить какую-нибудь лользу, — твердил отчим.
Декабрьские дни коротки. Мне приходилось носить дрова и воду, порой присматривать за Ольгиным малышом, нарезать лоскутья. Мать доила коров в хозяйском хлеву и, кроме того, вечно хлопотала на кухне — то готовит обед, то моет посуду. У нас была восьмилинейная лампа, а керосин стоил дорого. Уже к семи часам вечера лампу тушили, и приходилось рано ложиться спать. Когда свет был нужен мне не для чтения, а для какого-нибудь другого дела, мне разрешали брать по вечерам из конюшни фонарь, в котором был хозяйский керосин. У Ольги такой фонарь горел каждый вечер. Это был не фонарь-феникс, каким теперь пользуются в деревнях, а простой фитиль, вставленный в ящичек с четырьмя стеклянными стенками, который дымил, коптил и почти не давал света. Но чего не стерпят молодые глаза! Целыми часами читала я в эту зиму при свете несчастной коптилки. Одно из стекол разбилось, и его заменили куском промасленной бумаги.
Как-то вечером, когда отчим ушел стричься к батраку, занимавшемуся парикмахерским ремеслом, а мать засиделась у Ольги, я решила воспользоваться случаем и почитать библию. Для меня это было не менее увлекательное занятие, чем для мальчишек пускать бумажные кораблики по водосточной канаве. Дойдя до главы о Юдифи и Олоферне, я так увлеклась чтением, что не заметила, как фитиль наклонился, и бумажная стенка вспыхнула и сгорела. Комната наполнилась дымом. Я уже разделась, потому что мать велела мне ложиться спать, и теперь босиком выскочила в пустые темные сени. Ступая окоченевшими ногами по полу, на котором были свалены облепленные снегом мотыги, я поставила в сенях фонарь, продолжавший дымить еще долго после того, как я его погасила. Комната наполнилась холодным воздухом и чадом, и вернувшаяся от Ольги мать страшно рассердилась.
— Что ты наделала, Миа, почему ты не спишь?
— Я хотела немножко почитать.
— Опять эту старинную библию?
В устах матери слово «старинный» звучало несколько иначе, чем в устах антикваров.
— Ей-богу, ты скоро совсем одуреешь. Только и делаешь что читаешь всякие сказки. Совсем от рук отбилась, не слушаешься. Вот возьму и выброшу книгу за окно. И лампу зря жжешь. У нас нет больше ни капли керосина.
Мать бросила взгляд на дверь.
— Теперь он подымет крик, когда вернется, — сказала она. — Где фонарь? — Она зажгла спичку и, осветив пол, стала шарить вокруг.
— Мама, это и был фонарь. Я не зажигала лампы. Это бумага загорелась. Он стоит в сенях. Мамочка, милая, вставь в фонарь какую-нибудь бумажку, а то «он» разозлится.
Мать ничего не ответила, не стала меня ругать, пошла за фонарем и вставила в него новую бумажную стенку, намазав ее края клейстером, который она тут же развела из муки. И так как в это время вернулся отчим, она объяснила ему, что уронила фонарь, когда пошла за дровами.
— Девчонка могла бы сама засветло сходить за дровами, пора уж ей приносить какую-нибудь пользу. — Он со злостью швырнул на пол шапку. Батрак совсем его обкорнал.
— Оставь девочку в покое. Вечно лезешь не в свое дело. Если хочешь знать, фонарь стоял в сенях, а я шла мимо с дровами, которые прихватила по пути, тут эта старая рухлядь и опрокинулась. Хозяева могли бы нам дать фонарь поновее. Слава богу, что дрова не загорелись.
Она помолчала.
— Ну, теперь тебе все известно, можешь спать спокойно, — буркнула она через минуту.
— Черт возьми, я похож на арестанта, — заявил отчим; он стоял перед зеркалом с лампой в руке. Его голова напоминала капустный кочан, поросший щетиной.
Не знаю, спал ли он спокойно, но я-то во всяком случае заснула сладким сном. Теперь я могла быть уверена, что отчим никогда не узнает о фонаре.
16
Отчиму платили наличными сто пятьдесят крон в год, матери — восемь крон в месяц за то, что она два раза в день доила коров. С таким заработком нелегко вести хозяйство. А дело-то ведь было совсем не в такие далекие времена. В хозяйской усадьбе уже стоял телефон, а на стокгольмских улицах громыхали трамваи. По стране во всех направлениях мчались поезда, и анархистская газета «Бранд» дошла до Норчёпинга. В ней писали о всеобщей забастовке. Писали о том, что женщины не должны рожать детей, — детей, которых не ждет ничего, кроме голода и войны. Хинке Бергегрен призывал девушек не водить знакомства с военными.
Отчим, когда-то служивший в гвардии, презрительно фыркал, завидев газету, но мать сохранила два номера, купленные еще в ту пору, когда мы жили у Вальдемара, и теперь перечитывала их вместе с Ольгой.
— Я никогда не гуляла с военными, — с торжеством заявила Ольга. — Но как же можно не рожать детей? — шепнула она матери.
— Мало ли что они болтают, а впрочем, может и есть такие средства.
Я слышала и шепот Ольги и ответ матери. Я всегда настораживалась, когда речь заходила о детях. Я ведь, так же как и Ольга, не могла взять в толк, отчего, дети появляются на свет, когда родители вовсе этого не хотят. Почему мать каждый год ожидает ребенка? Меня начинало интересовать, откуда берутся дети. — «Из живота», — отвечали мои сверстницы. Но это ничего не объясняло. Ведь теперь мать снова худая. Поэтому я всегда была начеку и с любопытством прислушивалась, когда мать и Ольга говорили о детях. Спросить мать я не решалась. Спросить, откуда берутся дети! Я не смела даже и подумать об этом.
Хозяйка усадьбы была бездетна, но зато, по ее словам, она была «порядочной» женщиной. А Ольга была «непорядочная», — так считала хозяйка. Когда женщина «непорядочная», у нее рождаются дети.
И все-таки я ничего не могла понять. Взрослые говорили всякое. «Дети — божий дар и людская мука», — говорила бабушка, а когда священник меня крестил, он прочел для матери молитву, в которой говорилось, что она должна покаяться в своем грехе. Я собственными ушами слышала, как мать рассказывала об этом бабушке.
Значит — иметь детей грешно.
Выходит, дети тоже грешники. Сколько я ни ломала себе голову, я никак не могла в этом разобраться.
Хозяйка хотела взять приемыша, иначе усадьба перешла бы по наследству к родственникам, которых хозяйка терпеть не могла. Ольга часто говорила об этом.
— Усыновила бы она моего сынишку, — добавляла при этом Ольга. — Ему не повредило бы маленькое наследство.
Двое батраков в усадьбе закололи свиней к рождеству. Каждый из них послал матери по кусочку мяса, чтобы мы могли «полакомиться», как они выразились. Ольгу они и не подумали угостить. По-моему, на них произвели впечатление занавески на наших окнах, разрисованная печь в комнате и мое платье из шотландки — поэтому они и угостили мать. «Благородные» люди всегда ищут общества себе под стать. Ну, а такие, как Ольга… Всем известно, что у нее ни гроша за душой, от нее ничего не дождешься в благодарность — разве чашечку кофе. Помню, что мать поделилась мясом с Ольгой. Конечно, отчим об этом никогда не узнал. Хозяин тоже прислал нам немного свежего мяса, но тут уж и Ольга получила свою долю. А батракам, у которых были собственные свиньи, хозяин ничего не послал. Обиженные батраки долго роптали.
Мать засолила и припрятала полученное мясо, чтобы устроить пиршество на праздник. Вяленую треску она собиралась купить у хозяев, они наготовили целую бочку. Водку хозяин должен был привезти из города, когда поедет туда за день до рождества, — словом, все было решено и условлено заранее.
Мать прибрала комнату Ольги с таким же усердием, как и свою. За это Ольга до блеска выскоблила сени и раздобыла две маленькие елочки. Обе женщины целыми днями жили настоящей трудовой коммуной, пока к вечеру не являлись домой мужья. Тогда двери запирались, и из-за них время от времени доносилась воркотня, что-де каждый должен заботиться только о своем хозяйстве. На это Ольга отвечала мужу, что сам он пускай заботится о чем угодно, а она, Ольга, без дочки Гедвиг не могла бы урвать днем время, чтобы доить коров и подрабатывать пять крон в месяц. А мать почти в том же тоне говорила своему супругу и повелителю:
— Не лезь не в свое дело.
Впрочем, между собой отчим и Карлберг отлично ладили. С женами они ссорились, во-первых, потому, что так было заведено, а во-вторых, потому, что боялись, как бы те не сидели в их отсутствии без дела и не проводили слишком много времени вдвоем. Я поняла это, услышав однажды, как мать сказала отчиму про Ольгу, которая только что вышла от нас:
— До чего она мне надоела, то и дело бегает сюда.
А Ольга заявила мужу, что мать ей совсем не нравится, что она слишком мелочна и вечно вмешивается в чужие дела. Обе женщины при мне рассказывали об этом друг другу.
Все собственники одним миром мазаны. Вечно трясутся над своим добром. Надо водить их за нос, не бояться обманывать. Они ведь завидуют радостям, которых не могут или не умеют разделять.
Вот и сочельник. Шесть твердых зеленых яблок лежат на тарелке. Такие же яблоки лежат у Ольги. Это рождественские яблоки из хозяйского бочонка.
На окнах, висят чистые занавески; у Ольги в комнате — тоже, об этом позаботилась мать. По-моему, она разрезала старую простыню, подсинила ее, накрахмалила и обшила кружевом. На полу у Ольги появились два стареньких коврика. Карлберг покрасил кровать, стол и стул.
Печка в их комнате тоже побелена и даже разрисована синькой, а на столе лежат две выдолбленные картофелины. Снизу под каждую картофелину подложена разрезанная и закрученная по краям бумажка, а сверху вставлена свеча. Комната Ольги прибрана по-благородному. Карлберг, конечно, поворчал из-за того, что его заставили красить, тем более что, пока кровать сохла, им пришлось спать на полу. Но Ольга не уступала. Она заявила, что, если старую рухлядь выкрасить, в комнате исчезнут клопы. Она не посмела и заикнуться, что тогда в комнате станет «благородно». В этом вопросе Карлберг был неумолим: он терпеть не мог ничего «благородного».
— Радуйся, если на кусок хлеба хватает, — такова была его любимая присказка.
Но так или иначе, а теперь в комнате Ольги было красиво. Однажды мать, войдя к Ольге, застала ее на стуле посреди комнаты: Ольга сидела выпрямившись и разглядывала комнату с таким видом, будто грезила наяву, не обращая внимания на малыша, который лежал в корзине и орал благим матом.
— Мне все кажется, что это не моя комната, — наконец сказала она матери. Это было днем, в сочельник.
— Ну, а теперь перемени рубашку и надень платье, хоть ради праздника, — заметила мать.
Хозяйка празднично разубранной комнаты сидела полуодетая, в старой юбке и в грязной, почти черной рубашке. Лицо ее было не умыто, коса болталась на спине, только губы алели, как окровавленные.
— Мне будет обидно, если бабушка подумает, что ты неряха, потому что это неправда, — внушительно сказала мать.
— Я всегда теперь буду ходить в платье, — сказала Ольга, — хотя Карлбергу это не нравится. Он кричит, что дома незачем «наряжаться», но, может, ради праздника он все-таки разрешит мне одеться.
— Пусть только скажет что-нибудь, — заметила мать. — Ему придется иметь дело со мной. Я ему покажу.
Но Ольга энергично замотала головой, точно желая сказать, что с Карлбергом не стоит связываться.
Разговор происходил в моем присутствии, и я решила, что мать хвастает. Чего же она в таком случае боится отчима? Лучше «показала» бы ему хоть разок.
Сочельник. Уже в три часа пополудни начало смеркаться. К этому времени отчим успел покончить с бритьем.
Обычно это была сложная процедура. Отчим занимал всю комнату. Нам приходилось сидеть не дыша. Стол отодвигался. На него ставилось зеркало, появлялась холодная и горячая вода, полотенце. Отчим усаживался перед зеркалом и, сопя и отдуваясь, точил лезвие, брился и подстригался. Он стриг себе волосы в носу и в ушах, подбривал брови. По его рассказам, этому его научил капитан, у которого он короткое время служил в денщиках. Отчиму приходилось стричь и брить этому капитану не только лицо, но и разные другие места, и когда он порой во всех подробностях описывал процедуру капитанского туалета, он так шумел, гоготал и имел такой дурацкий вид, что мы с матерью не могли удержаться от смеха. Впрочем, отчим считал, что капитан слишком далеко заходил в своей аккуратности. Вполне достаточно выстричь волосы только в носу и ушах.
Отчим разыгрывал из себя капитана каждое воскресенье. Бритье отнимало у него несколько часов. Мать иногда просто теряла терпение. Если дело было летом, она уходила из дома. «Противно смотреть на этого балбеса», — говорила она. Но мне очень нравилось наблюдать за отчимом, когда он брился. Он надувал щеки, подпирал их языком, натягивал кожу. Я никак не могла понять, отчего он так пыхтит. Наверное, просто у него дурная привычка.
С одними только усами отчим мог возиться больше часа. Сидя перед зеркалом, он выщипывал и выщипывал их до тех пор, пока у него не оставалось только маленькое круглое пятнышко под самым носом, своего рода чаплинские усики в миниатюре, хотя в эту пору Чаплин, вероятно, еще даже не начинал бриться и четырнадцатилетним подростком, с первым пушком на щеках, просил милостыню на улицах Лондона. Всей силой души восьмилетнего ребенка я верила, что на свете нет ничего уродливее рыжеватых усиков отчима.
Когда отчим, сидя перед зеркалом, выщипывал усики, он был так поглощен своим делом, что ничего не видел и не слышал. Можно было унести весь дом, запаковать вещи в чемодан и удрать — он, как заколдованный, с совершенно отсутствующим видом, продолжал бы разглядывать себя в зеркало.
На сей раз с бритьем было уже покончено. Разодетый и выбритый, отчим отправился на станцию за бабушкой. Я была причесана и наряжена. Матери еще предстояло доить вечером, поэтому она не переоделась. Она надеялась, что успеет сменить платье до приезда бабушки, потому что в сочельник коров доили на два часа раньше.
Мать одевалась, собираясь идти на скотный двор.
— Если станет совсем темно, зажги свечку на елке или пойди к Ольге, — сказала она.
Она погладила меня по чисто вымытым волосам, в которых теперь никогда не бывало насекомых.
— Как знать, Миа, может быть, на этот раз мы хорошо проведем рождество. (Я тоже на это надеялась. Но как мать могла мечтать об этом, когда она знала, что у хозяина заготовлено три литра водки для батраков, — этого я понять не могу. Впрочем, в тот момент я об этом не думала.) — Только не наделай пожара, — добавила мать и ушла.
Сумерки сгущались. Я уже разукрасила елку, принесенную Ольгой, нанизала на белую нитку четыре маленьких грязноватых кусочка сахара и повесила на ветку. Мне стоило нечеловеческих усилий сберечь эти кусочки. Не раз, когда мы сидели без сахара, мать занимала его у меня. Я повесила на ветки два зеленых яблока. На столе все равно осталось еще четыре, и он сохранил праздничный вид. На комоде сидела принаряженная кукла с серо-голубой косичкой и румяными щеками. По случаю приезда бабушки мать вторглась в мои владения, водворила на место таз и спрятала горшок на нижнюю полку. В праздничные дни я смогу распоряжаться только средней полкой. Если ночью придут гости, комод может понадобиться. Обычно вся эта утварь стоит на маленькой скамеечке у печки. Гости будут мыться у комода и вытираться нарядным полотенцем, которое висит рядом с зеркалом, а на зеркале написано: «На память». Зеркало мать получила в подарок от сестры, но оно было какое-то странное: едва до него дотронешься, стекло вываливается из рамки. В нем никак не поймаешь свое изображение. Только какая-нибудь часть лица мелькает то здесь, то там, когда пытаешься в него поглядеться. А полотенце выткала бабушка, оно очень красивое и обшито бахромой.
В доме царила необычная тишина. Ольгин сынишка заснул, а Ольга приводила себя в порядок. Карлберга не было. Ольга боязливо шепнула матери, что не знает, куда он пошел.
— Наверное, за водкой для себя и Стенмана, — добавила она.
— Надеюсь, он выпьет ее всю, прежде чем доберется до дому.
Карлберг не показывался, между тем стало совсем темно. Я зажгла одну из маленьких свечек и села с книгой у елки. Теперь я читала только Новый Завет. Там ведь было написано о Христе, а это напоминало Христианина. Христос тоже все время странствовал, но он не был похож на Христианина. Нет, в этой книге, пожалуй, ничто не напоминало Христианина. Значит, девочка из лесной хижины ошиблась.
Один только раз передо мной мелькнуло что-то похожее на «Странствия Христианина», и я вновь и вновь перечитывала эту главу, стараясь найти в ней то, о чем говорилось в другой книге. Это была глава о явлении Христа трем ученикам на пути в Эммаус. Правда, кончалась она не так, как мне бы хотелось. Иисус был занят разными делами. Он очень спешил. Сделал наспех какие-то распоряжения и снова вознесся к себе на небо. И все-таки, хоть я и не отыскала «долину отчаяния», рассказ о Христе меня очаровал. Я читала и перечитывала понравившуюся мне главу. Свечка почти догорела, и, услышав шаги матери, я поспешила спрятать библию на место. Но мать прошла прямо к Ольге.
Я зажгла вторую свечку, а спустя несколько минут появилась мать.
— Нечего сказать, веселое будет рождество. Карлберг напился и грозил избить хозяина. Все вверх дном перевернул на скотном дворе, а теперь бежит сюда. Радостный будет праздник у бедняжки Ольги. Никогда я не думала, что Карлберг такая дрянь.
Мать осеклась. Она, вероятно, вспомнила, что для таких разговоров я еще слишком мала.
Праздничное убранство нашей комнаты сразу поблекло. Она снова стала обычной лачугой батрака. Рождество явилось к нам так, как оно обычно является в такую лачугу, к испуганным женщинам и забившимся в угол ребятишкам, которые с замиранием сердца ждут праздника.
— Досадно из-за бабушки, она приедет с минуты на минуту.
Мать возилась у печки, разогревала кофе, что-то стряпала, торопилась переодеться. От кофе исходил чудесный аромат. На столе появилось угощение — хлеб и жесткая коврижка. Тесто у матери не удалось. Мать считала, что переложила в него сдобы, ей пришлось долить молока и добавить муки. В результате коврижка стала твердой как камень.
— Она полежит немного и станет мягче, — сказала мать.
Но в доме батрака и жесткая коврижка не залеживается. А мягкая вкусная коврижка, которая сама просится в рот, для такого дома вообще слишком большая роскошь.
Мамина коврижка была как раз такая, как надо: она не таяла во рту.
Вскоре мы получили первое поздравление.
Раздались вопли, точно кого-то резали. Когда нам удалось разобрать слова, мы поняли, что ожидает Ольгу:
— Я сказал хозяину, пусть забирает своего ублюдка! Я ему все кишки выпущу. Не стану тянуть лямку ради его отродья. Я ей покажу! Пусть убирается туда, где ей место.
Я отлично поняла, что он кричит. Во многих лачугах слышала я эту старую песню — недаром сегодня был праздник.
— Откройте, чертовы бабы! Опять судачите, проклятые трещотки! А ну-ка, иди сюда, Гедвиг, ты больно важная барыня, дай-ка я скажу тебе пару слов.
— Так бы и запустила ему чем-нибудь в голову, — сказала мать, которая в таких случаях никогда не сдавалась и готова была вступить врукопашную.
— Ой, не надо, он убьет тебя! — испуганно зашептала я.
Карлберг начал осыпать ругательствами Ольгу, пытаясь в темных сенях нащупать и открыть дверную задвижку.
В комнате Ольги было тихо. Отыскав запор, он распахнул дверь. Мать открыла дверь нашей комнаты.
— Посмотрим, что будет делать этот негодяй, — громко сказала она.
В комнате горела лампа, но ни Ольги, ни мальчика не было. Карлберг стоял на пороге и, пошатываясь, оглядывал комнату.
— А, сбежала! Ей не нравится, что я выпил лишний стаканчик. Я годен только тянуть лямку ради ее ублюдка, которого она прижила с хозяином. Что это за тряпки она вздумала вешать на окно? — крикнул он и, выплюнув в руку табачную жвачку, швырнул ее прямо в подсиненные и накрахмаленные занавески.
Потеряв самообладание, мать отвесила ему такой подзатыльник, что он растянулся на пороге.
— Как ты смеешь, скотина! Как ты смеешь марать занавески! Вздуть бы тебя как следует! — И мать ударила его по спине.
— Ах, так! Ну, погоди же, черт тебя побери! — Карлберг попытался встать с пола.
— Попробуй только тронь! — заявила мать. — Мне не впервой учить уму-разуму таких босяков, как ты.
— Босяков? Ну погоди же! — Он приподнялся, но мать снова повалила его на пол.
— Негодяй! Выгнал в праздник из дома жену и сына да еще плюешь на занавески. У Ольги, может, никогда в жизни не будет других, если она останется с таким болваном-мужем. И еще врешь, будто ты не отец ребенку. Да каждому дураку ясно, что ты его отец. Задать бы тебе хорошую трепку. Так руки и чешутся. Твое счастье, что праздник. — И тут мать расплакалась.
— Забирай свое отродье и не лезь в чужие дела. Ты стакнулась с Ольгой, потому что у тебя тоже растет ублюдок, вот я тебе покажу!
Он снова сделал попытку встать, но мать принялась его колотить так, что мне даже жалко стало Карлберга, несмотря на все его ругательства. Он был всегда ласков со мной. «Люди пьют оттого, что они несчастливы», — сказал хозяин лесной хижины. Это сказал родной брат Карлберга. Но потом я взглянула на занавеску, заплеванную, грязную. Пусть мать ему покажет! Если бы только она задала такую трепку отчиму — ведь он бывал иногда куда противнее!
— Вставай, нечего валяться на полу!
Мать изо всех сил вцепилась в Карлберга, стараясь перетащить его через порог.
— Альберт вот-вот вернется со свекровью. Он отколотит тебя, если ты будешь здесь валяться, — лгала мать.
Отчим никогда не стал бы бить Карлберга. Он еще помог бы ему ругать мать.
Бедняга Карлберг. Он целый день ничего не ел, а потом натощак выпил слишком много водки. Он ведь работал с четырех утра, чтобы пораньше освободиться в праздничный вечер. Силы его истощились, и, сделав последнюю попытку приподняться и ударить мать, он мешком свалился на порог и заснул. Мы с матерью выбивались из сил, пытаясь втащить его в комнату, тянули его, точно свиную тушу; и едва только нам удалось сдвинуть его с места, как мы услышали колокольчик и у наших дверей остановился возок.
В комнате у нас было холодно — дверь ведь все время оставалась открытой. Мать была вся в поту, прическа ее растрепалась, коса распустилась, платье расстегнулось, глаза покраснели от слез.
И вот тут-то подъехала бабушка.
Кое-как заправив волосы, мать шепнула мне, чтобы я поскорей снова разогрела кофе, а сама поспешила навстречу свекрови.
— Мир дому сему, — услышала я голос бабушки.
— Вы, наверное, озябли, бабушка? — спросила мать.
— Кто любит господа нашего, тот не боится холода, — отвечала бабушка. Ответ прозвучал как-то очень странно.
Мне показалось, что меня одурачили. Может быть, это вовсе не бабушка? Смутившись, я не решалась выйти в сени. Я всегда смущалась, когда люди ни с того ни с сего на каждом шагу поминали бога. Мне было стыдно за тех, кто вслух рассказывал окружающим о своей любви к Иисусу; я стеснялась — почему, не знаю, — может быть, мне казалось, что люди касаются таким образом своих задушевных тайн. Иисус вызывал у меня тогда мысли об отчиме, о постели, о белье, о всех грехах, о которых шептались люди. «Иисус явил мне свою милость», — подобные фразы звучали в моих ушах как недозволенные детские разговоры, которые ведутся по секрету от взрослых.
Странное это было рождество. Уж лучше бы мы с матерью провели его вдвоем. Карлберг, всегда такой добрый, вдруг точно с цепи сорвался, так это хоть из-за водки. Но уж бабушка-то могла бы остаться такой, как всегда.
А Ольга с малышом! Где она? Неужели просто убежала на улицу в такой мороз?
Наконец бабушка появилась на пороге комнаты, еле передвигая сведенные ревматизмом ноги. Мать сняла с нее многочисленные платки, и на голове у бабушки осталась только пушистая черная меховая шапка, новая и теплая. В этом головном уборе бабушку можно было бы принять за старую благородную даму, если бы к шапке не была пришита безобразная красная лента — широкая, длинная лента. «Спаситель грядет» — было написано на ней. Еще хуже, чем Армия Спасения. К той мы по крайней мере привыкли. А это была просто какая-то чепуха.
— Спаситель грядет, благослови тебя бог, дитя, — сказала мне бабушка.
Я смущалась все больше и больше. Приседая и здороваясь с бабушкой, я едва удерживалась от слез. Я сложила маленькое стихотворение, которое собиралась прочитать в виде приветствия бабушке. В этих стихах «бабушка дорогая» рифмовалась со словами «добрая такая», но прочитать стихи мне так и не удалось.
Мать вышла к отчиму, который возился с лошадью.
— Карлберг дома? — услышала я его голос.
— Нет, — твердо сказала мать.
— Он должен был принести чем заправиться. Куда он провалился, черт его дери?
Колокольчики звякнули. Отчим повел лошадь в конюшню.
Мать вернулась с пустыми руками. Значит, бабушка ничего не привезла, хотя приехала из города. Это на нее не похоже. Она всегда что-нибудь да принесет, даже когда, бывало, приходила к нам каждую неделю.
Я подумала, что бабушка ведет себя не лучше Карлберга. Один другого стоит. Сколько разочарований. А я-то трудилась и нарезала лоскутья так, что даже плечи у меня стали ныть, как челюсти при зубной боли. Мать заметила, что я помрачнела, и бросила на меня угрожающий взгляд, чтобы я не смела капризничать. Я поняла ее взгляд, но у нее самой тоже был не очень-то радостный вид. Этого она не замечает, а я почему-то обязана делать веселое лицо, несмотря на то, что все кругом такое противное. Например, эта история с Карлбергом. И зачем только мать разболтала всем в усадьбе, что я «незаконная». Если бы она помалкивала, Карлберг не мог бы ее обругать, но мать никогда ничего не скрывала. «Все равно это записано в метрике», — говорила она.
Но ведь Карлберг не стал бы смотреть метрику. Все на свете перепуталось. Зачем бабушка приехала сюда? Как она оставила деда в праздник одного? Он такой славный старик! Сначала я не подумала о нем. Но, увидев, что бабушка ничего мне не привезла, я вдруг поняла, что на свете много несправедливо обиженных людей. Этот старик, всю жизнь трудившийся как каторжный, был такой тихий, невзрачный, что никто не обращал на него внимания, но теперь вдруг я вспомнила о нем и спросила то, чего никогда не спрашивала:
— Как поживает дедушка?
Никогда прежде я не называла его так.
Мать бросила на меня одобрительный взгляд. У нее даже блеснули глаза. Можно было подумать, что в этот момент ей было особенно приятно убедиться, что у нас с ней родственные души. Мне-то ведь не раз приходилось слышать, как люди болтали, что бабушка плохо заботится о своем муже, и прочее и прочее. Но обычно в таких случаях мать брала бабушку под защиту. «У бабушки властный, крутой нрав, — говорила мать, — а он человек робкий, ему даже приятней, когда его оставляют в покое».
— Дедушка? Ах да, конечно. Благослови тебя бог, дитя, — ответила бабушка. — Он живет помаленьку, прислал тебе к празднику леденцов. Но я поняла теперь, что рождение Иисуса надо справлять в сердце своем, а леденцы тут не нужны. Вместо них я подарю тебе кое-что получше, — и, вынув из сумочки маленький, тонкий пакет, она протянула его мне. Это был новый сборник псалмов, «Псалмы Ударного Батальона». — Это священная книга нашего военного батальона, хвала Иисусу! — сказала бабушка.
Мать помогла ей снять пальто, и старуха осталась в черном шерстяном платье с кружевным воротничком, опрятная и нарядная. Все-таки это была прежняя бабушка, у нее по-прежнему было красивое лицо и черные волнистые волосы.
Мать успела мне шепнуть:
— Не обращай внимания на ее чудачества. Это все противные сектанты. Они опутали ее, потому что мы уехали из города и бабушке было не с кем поболтать. Это у нее пройдет.
— Какая ты нарядная, бабушка, — сказала я и, взяв ее руку, ласково погладила каждый узелок на ее старушечьих пальцах.
На этот раз бабушка ничего не сказала, даже не благословила меня. Только ее отвислый подбородок слегка задрожал. Я потянула ее к дивану. Как знать, может быть мне все-таки удастся прочесть свои стихи?
Надежда то вспыхивала, то угасала и вдруг погасла совсем, потому что, усевшись на диван, бабушка сложила руки и прочла длиннейшую молитву, в которую вставляла собственные слова, касавшиеся нашего «дома». Кроме того, она молилась, чтобы Альберт стал трезвенником и чтобы Гедвиг была здорова.
Когда она кончила молиться, мать мягко сказала:
— С тех пор как мы приехали сюда, Альберт стал меньше пить; да и на здоровье я не жалуюсь. Живем мы не худо, хотя заработок у нас невелик. По правде говоря, от такого заработка можно по миру пойти, но ведь… — По-моему, мать хотела добавить, что ведь Иисус тут не поможет, но удержалась и предложила: — Ну а теперь давайте пить кофе. Альберта пригласили к хозяину, он там должен взять… — водку, хотела добавить мать, но снова сдержалась. — У него там какое-то дело, — сказала она и стала разливать кофе.
— Вот как! Значит, Альберт бросил пить. Недаром мы молились за него в батальоне. И за тебя с девочкой мы тоже молились. Видишь, как это помогает.
Мать молча пила кофе, я чувствовала, что она начинает сердиться, что она уже рассердилась.
— Коли так, жаль, что вы раньше не начали молиться. На нашу с вами долю выпало бы меньше несчастий, — сказала она с горечью.
— Ты все еще на стезе греха, Гедвиг.
— Ничего не поделаешь. Пейте, бабушка, пока кофе не остыл. Это вам полезно, на улице, поди, градусов пятнадцать.
Мать встала и зажгла елку. Тогда старуха снова сложила руки и прочла молитву, не обращая внимания на то, что кофе стынет.
Она даже не взглянула на елку, хотя на ней были красивые звезды из фольги, два зеленых яблока, десять леденцов в бумажках и столько же маленьких свечек.
— Ну, довольно, вечер велик, пейте, мы успеем помолиться, когда вернется Альберт, — сердито сказала мать; и бабушка безропотно подчинилась.
Нет, никогда не бывает так, как тебе хочется.
Сначала эта гадкая история с Карлбергом, который буянил, точно в него дьявол вселился, а теперь вот история с бабушкой. И это было еще хуже, потому что Карлберг завтра снова станет добрым, а молитвы и прочая чепуха, наверное, будут продолжаться. Что это случилось с бабушкой?
— Она впадает в детство, — шепнула мне мать.
— Дети не бывают такими глупыми, — фыркнула я. Мы стояли в сенях, прислушиваясь, не идет ли отчим. Он не возвращался.
Он не вернулся и к ночи. Бабушка ждала, читая молитвы. Мать приготовила постели, мы наскоро поужинали, и бабушка улеглась на кровати. Мать с отчимом должны были спать на моем диване, а я на полу.
В кровати бабушка долго читала молитвы, мы с матерью молча слушали. У Карлбергов было тихо. Ольга тоже не приходила домой. Неужели здешние жители всегда теряют рассудок в рождественскую ночь?
Наконец бабушка уснула.
Тогда мать одела меня, закуталась сама, и мы пустились по снегу к хозяйскому дому. Было уже одиннадцать часов.
Хозяев мы застали дома. Хозяйка была сама любезность.
— Ну да, Стенман приходил, выпил коньяку, закусил бутербродом, угостил нас своей водкой; но это было уже давно, он, наверное, зашел еще куда-нибудь.
— А Ольгу вы не видели?
— Как же! — хозяйка указала глазами наверх. — Ольга всегда спит здесь, когда Карлберг напьется. Ольга, знаете ли, в девушках позволяла себе лишнее, вот Карлберг, напившись, всегда это ей и поминает. У него просто ум за разум заходит, он даже хозяина обвиняет в семи смертных грехах. Протрезвится, так образумится, но все же, помяните мое слово, быть беде. Когда-нибудь он вернется пьяным, Ольга не успеет убежать, и он ее убьет, вот увидите. — Хозяйка была в этом твердо убеждена.
— Нечего сказать, удачный получился праздник.
— Что поделаешь, у нас всегда так, надо же им раз в году повеселиться в свое удовольствие. Не хотите ли стаканчик глинтвейна? — предложила хозяйка.
— Спасибо, нам надо домой, к нам на рождество приехала свекровь, — сказала мать.
Мы отправились к конюшням. Ночь выдалась облачная, но было светло от снега, и мы хорошо различали дорогу. У дверей хлева мать прислушалась. Там стояла тишина, нарушаемая только легким пыхтеньем и вздохами спящих коров. У входа в конюшню мать прислушивалась долго. Я не могла различить ничего, кроме стука копыт, но мать, тихонько притворив дверь конюшни, сказала:
— Он валяется там. Должно быть, хорошенько нализался, пьян, как свинья! Пусть валяется, авось до смерти не замерзнет. Нельзя же его тащить ночью домой к бабушке. Не к чему ей видеть его пьяным и злым. — И мать пробормотала что-то еще, чего я не расслышала.
— Что ты говоришь? — спросила я, увязая в снегу и торопясь домой, потому что ужасно продрогла.
— Говорю, что от молитв Иисусу большой прок.
Мы шли молча, каждая думала о своем.
— Надо скрыть это от старухи, — сказала мать. — Если она попросит, Миа, читай с ней молитвы и пой псалмы, не стоит противиться ее причудам. Не знаю только, как быть с Альбертом. Если он утром придет пьяный, а старуха начнет молиться, у нас дым пойдет коромыслом.
Но от всех событий рождественского вечера я настолько отупела, что предстоящие беды меня уже не волновали. Мне хотелось скорей домой. Там было тепло и нарядно, отчим туда не придет. Как знать, может я смогу лечь с матерью на диване.
Лампа была прикручена. Мы увидели ее слабый свет через окно, прислушались у дверей, но в комнате Карлбергов тоже было тихо.
— Ему, наверно, холодно на полу, — сказала мать.
Мы тихонько проскользнули к себе. Бабушка спала на кровати и размеренно храпела. Было тихо. Комната выглядела уютной и красивой. Чистое белье на постели, накрытый стол, на нем свекла, маринованная селедка, кусок сыра, вяленая рыба, каша, вкусная манная каша, четыре зеленых яблока. Мне стало вдруг необыкновенно хорошо. Наконец-то наступил праздник. Мать опустилась на стул и сказала:
— Садись, Миа, и кушай вволю.
У меня уже не было сил, и все-таки я не могла отказаться. Приближалась полночь, обычно в это время мне уже полагалось спать. Мы с матерью сидели за праздничным столом, бабушка спала на кровати; как-никак это была моя бабушка, и, хотя она стала придурковатой, все-таки хорошо, что она к нам приехала.
Мать с удовольствием принялась за ужин — казалось, с тех пор как она почувствовала, что мы в безопасности, у нее появился аппетит. Она разожгла огонь под кофейником, потом подошла к ящику, где хранила пеленки и кофточки, когда ждала очередного ребенка, и вынула оттуда маленький сверток.
— Это от меня и Альберта, — шепнула она. — Рождественский подарок.
Я развернула пакет. В нем оказалась вязаная кофточка, зеленая в коричневую полоску, новая, купленная в магазине. Если не считать ботинок и шапки, мне впервые в жизни купили одежду в магазине.
— Мы хотели купить тебе и вязаную шапочку, но у нас не хватило денег, — шепнула мать.
Я была потрясена. Как это мать сумела сохранить такую тайну? А отчим?
— Кто ее покупал? — спросила я.
— Альберт.
— Но ведь это, наверное, ты…
— Я заплатила половину.
Но я не поверила ей. Мне казалось, что кофту купила она сама, но уступала эту честь Альберту, чтобы я лучше к нему относилась. Я была в этом просто уверена.
Я тихонько подошла к комоду, где лежал подаренный бабушкой псалтырь. У него был нарядный новый переплет, и когда я положила его поверх сложенной кофточки, книжка показалась мне очень красивой. Я была счастлива.
— Ольга с Карлбергом тоже купили тебе подарок, — сказала мать.
— Какой, мамочка, милая, скажи!
— Нет, нет, а то Ольга огорчится.
Там, конечно, повторится та же история. Подарок для меня купила, конечно, Ольга. Но все взрослые женщины почему-то обязательно хотят, чтобы люди думали, будто у них хорошие мужья.
— Ложись со мной на диване, — сказала мать.
17
Еще несколько дней, пока не кончилась водка, люди пили и буянили. По временам бабушка забывала, что она «обращена», и ругала отчима, как в былые дни, а потом трижды сплевывала через левое плечо.
Карлберг сидел дома, пил кофе и водку, но уже не напивался так, как в сочельник. Казалось, он забыл, что тогда произошло. Все праздники Ольга ходила с заплаканными глазами; испачканную занавеску она сняла.
— Пусть только кончится эта пьянка, пусть только он протрезвится, я покажу ему, что он наделал, — хриплым шепотом говорила она матери в сенях на второй день праздника. — Разве это люди, это звери какие-то, даже хуже зверей, те хоть не станут плеваться табаком. Так бы и подсыпала им крысиного яду.
На третий день Ольга протянула мне небольшой сверток. Я так ждала этого свертка, что едва отвечала ей, когда она по утрам здоровалась со мной. Я ведь знала, что у нее припасен для меня подарок, и уже начала побаиваться, что она решила оставить его себе.
— Мы хотели отдать тебе его в сочельник, — сказала она. — Это от нас с Карлбергом.
В свертке оказался красивый пестрый передник, купленный в магазине.
Он был такой пестрый, что у меня в глазах зарябило. Стоил он семьдесят пять эре. Примерив его, я растерялась от великолепия своего наряда. А мать еще надела на меня новую зеленую кофточку.
— Пойди поблагодари Ольгу и Карлберга, сегодня Карлберга нетрудно улестить.
Я поняла, что это означает. Семейный мир водворен, водка кончилась. Карлберг сидел на стуле бледный и изможденный, Ольга двигалась по комнате прямо и решительно. Одно из окон, на котором не было занавески, зияло черной пустотой, и моя радость сразу омрачилась: как гадко все-таки он вел себя в рождественский вечер.
— Господи, какая ты нарядная, ты сразу похорошела в этом ярком платьице! — воскликнула Ольга; я покраснела, сердцу вдруг стало тесно в груди.
Я подошла к ним, присела и поблагодарила их обоих. Но Карлберг замахал рукой.
— Мне спасибо не говори, я не заслужил. Ты, верно, думаешь, что я настоящий…
Я не знала, как ему ответить, потому что в самом деле считала, что он был «настоящий…», но теперь ведь он снова стал добрый. Отчим никогда не раскаивался, никогда не просил прощения, как бы он ни набезобразничал. Когда мать его укоряла, он только злился и кричал, что нечего поминать старое, даже если это «старое» случалось накануне.
— Что вы, дядя, большое спасибо, и вам, тетя, большое спасибо. Я буду смотреть за малышом, когда вы скажете, тетя, — великодушно предложила я, хотя в глубине души с ужасом думала, что, если Ольга попросит меня нянчить мальчика в праздник, я не смогу побыть с бабушкой.
В первое воскресенье после рождества у нас дома состоялось молитвенное собрание. Организовала его, конечно, бабушка. Как ни странно, но в этот день к нам пришли хозяин, хозяйка, их служанка и большинство батраков.
Собралось человек пятнадцать. Отчим раздобыл несколько скамеек, положил доски на стулья и в этой роли ханжи, осененного божьей благодатью, был еще противнее. Он упражнялся вместе с бабушкой в пении псалмов, так как им обоим предстояло запевать. У матери был звонкий, красивый голос, но она отказалась петь.
— Кофе варить я буду и подавать его гостям тоже буду — должна же я угостить их чем-нибудь ради праздника. Об остальном позаботьтесь уж сами. Не знаю только, кто у вас будет за проповедника: Альберт, по-моему, для этого не подходит, — сказала она с легкой насмешкой в голосе.
Но Альберт прокашливался, хмыкал и подкручивал усики с таким видом, точно нисколько не сомневался, что сумеет произнести самую великолепную проповедь.
Бабушка внушала мне теперь безграничное почтение.
Она стояла у окна. Стол был отодвинут почти к самому окну, и она оперлась узловатыми руками о его край. Эта женщина в черном платье с кружевным воротничком была совсем не похожа на бабушку, которую я знала с давних пор. Полчаса простояла она таким образом, и по мере того как в комнату входили жены батраков с грудными младенцами, бабушка предлагала им сесть и указывала куда. Для хозяина и хозяйки были приготовлены стулья. Мне стало не по себе. Мать тоже держала себя так, точно находилась в чужом доме. Когда все расселись, бабушка начала свою речь.
— Я простая старая женщина, — сказала она. — Я приехала в качестве гостьи к сыну, невестке и их дочери. (Бабушка так и сказала: «в качестве гостьи». Никогда прежде она не выражалась так изысканно. А «их дочь» — это было сказано обо мне.)
Я простая старая женщина, я в гостях у своих родных, я не умею красно говорить, убранство этой комнаты тоже неприхотливо, по сравнению с той роскошью, которую вы привыкли видеть в церкви (она так и сказала: «роскошью»), но я не могу уехать отсюда, не рассказав вам о том, как мы, простые люди из Норчёпинга, обрели господа Иисуса нашего. Нас почти сто человек, мы входим в личный батальон Иисуса, ударный батальон. Наш боевой девиз: «Спаситель грядет». А теперь (бабушка говорила дрожащим, старческим голосом, которому она старалась придать твердость и выразительность, но я видела, что она очень устала: на ее морщинистом лбу выступили капли пота), — а теперь я прошу вас, живущих в уединении, вдуматься и вглядеться в знамения, коих вы не замечаете, но кои, как предрек Христос, должны возвестить о его пришествии. Готовьтесь к пришествию Христа, он близок, он грядет, готовьтесь. Я взываю к вам: присоедините голоса ваши к моей молитве, дабы вам было даровано смирение перед грядущим пришествием Христа.
Бабушка начала молиться вслух.
Маленькая кругленькая хозяйка, одетая в городское платье, благоговейно потупила глаза, хозяин также. Ольга с малышом на руках мерно раскачивалась взад и вперед. Собственно говоря, из всех присутствующих только Ольга и мать сохраняли не слишком благочестивый вид. Мать с жалостью смотрела на бабушку, на капельки пота, блестевшие на ее висках, на дрожащие от усталости узловатые руки. Она не повторяла молитву вслед за старухой, я тоже молчала. Я была очень удивлена: каким образом все эти люди очутились здесь? Я никого из них не приглашала — никого.
Потом мать объяснила мне, что отчим повесил в конюшне записку: «Молитвенное собрание у Стенманов. Милости прошу всех».
И все пришли, даже хозяин. После всей этой пьянки и обжорства! Молоденькая батрачка с малышом на руках время от времени произносила с глубоким вздохом: «Иисус!»
Карлберг и другой молодой батрак сидели рядом, благоговейно сложив руки. Я тоже невольно сложила руки.
«Люди пьют оттого, что они несчастливы», — сказал красавец хозяин в лесной хижине. Может быть, он и был тем самым христианином, который странствовал и видел долину отчаяния? Вот бы ему очутиться здесь, особенно теперь, когда у бабушки такой торжественный вид и когда все собрались у нас и молятся смиренно и благоговейно. Наверное, это все-таки неспроста. Наверное, мы не похожи на других людей. Собрание начинало доставлять мне удовольствие. Право, мы не хуже семьи из Кольмордена, у которой была книжная полка.
Бабушка закончила молитву словами:
— Благослови нас, Иисус, яви нам знамение, чтобы мы уже нынче вечером узрели твою божественную милость.
И она села у стола, склонив на него старую голову. Я заметила, что она дрожит, как в ознобе. Мать подала ей стакан воды. Это правильно, я сама видела, как пастор пил воду во время проповеди. Вынув тонкий носовой платок, бабушка отерла им лоб, потому что в комнате было очень жарко, хотя мать варила кофе у Ольги. Мы не решались открыть дверь, так как из сеней тянуло холодом, а в комнате было трое грудных детей.
В числе гостей находился торпарь Экстрём с женой. Прежде я никогда не видала эту чету. Они были очень нарядно одеты: новые ботинки скрипели, на старухе красовалась черная шелковая шаль. Вдруг эта самая фру Экстрём встала, одним духом прочла молитву и снова села.
Тогда поднялся старик, маленький, сутулый, седобородый. Он подошел к столу, где сидела бабушка, стал перед ней, совсем заслонив ее от нас, скрестил ноги и, опершись рукой о край стола, произнес:
— Благодарю тебя, сестра, пришедшая к нам из большого города, благодарю тебя за то, что ты дала нам вкусить краткий миг божьей благодати.
Он называл бабушку сестрой и говорил ей «ты». И, кроме того, он заслонил ее от нас, и нам ее совсем не стало видно.
Я демонстративно вышла вперед и, не обращая внимания на угрожающие взгляды матери, пробралась мимо батрачек с детьми к бабушке и остановилась возле, нее. В конце концов это была моя бабушка!
Моя выходка рассердила старика, он сбился и начал снова:
— Сестра говорила здесь о знамении и о чуде. Воистину это так. Сивилла и пророки не лгут. Кареты бегут без лошадей. Благодарю тебя, Иисусе милостивый. Я не поддался антихристу, я никогда не ездил в поезде.
Я заметила, что бабушка шевельнулась и выпрямилась, желая что-то сказать, но старик продолжал:
— Никогда я не поклонялся антихристу. Сестры и братья мои, сестра из большого города ведает, что говорит, чудище бродит по земле. (Мне стало интересно слушать, уж очень складно у него получалось.) Но Иисус может прийти к нам в любой день. Господь спустится с облаков, когда мы меньше всего будем этого ждать. Готовьтесь, очиститесь, оставьте работу, не пекитесь о мамоне (он говорил мамона с ударением на «а»), берегитесь чудовища и вавилонской блудницы, будем молиться и ждать Христа.
Мать вышла, громко хлопнув дверью.
Но старик не смутился. Он начал молиться какими-то странными словами, и казалось, что он говорит что-то совершенно недозволительное.
— А теперь не спеть ли нам псалом, — сказал отчим, как только старик кончил. Бабушка уже успела открыть книгу. У меня в руках был новый псалтырь, который я получила от нее в подарок.
Тому лишь уделом вечный покой, Кто пламенно к вере стремится, За веру всегда неуклонно ты стой, Чтоб к благу душой приобщиться…Эта простая маршевая мелодия звучала у нас так, что казалось, еще немного — и рухнет потолок. Даже цветы, нарисованные на печной стенке, начали колыхаться, — право же, мне казалось, что они колышутся.
На этом собрание окончилось. Больше никто не хотел молиться.
Хозяин с женой ушли, не выпив кофе, вид у хозяина был страдальческий и бледный — наверное, от головной боли после рождественской попойки. Другие гости остались. Помню, что бабушка и старик Экстрём повздорили, потому что бабушка заявила, что не считает грехом ездить по железной дороге.
Бабушка прожила у нас еще неделю, но мать не пожелала больше терпеть такие собрания. К тому же покаянное настроение окружающих понемногу рассеялось. Как только винные пары выветрились из головы хозяина и батраков, они перестали думать о спасении души. Мать так и говорила: пройдет хмель, кончатся молитвы.
Она оказалась права. Не прошло и нескольких дней после собрания, как отчим устроил настоящий спектакль, передразнивая богомольцев и изображая, как они вздыхали и молились. Но мать передразнила его самого, заметив:
— И ты был хорош, сидел закатив глаза к небу.
Бабушка рассердилась, трижды сплюнула через левое плечо и объявила, что они оба осуждены на вечную гибель.
— Ничего не поделаешь, бабушка, будь что будет, мы тут помочь не можем. Но ведь я-то знаю соседей, потому зло и берет, когда они сидят воздев очи к небу. Лучше уж вели бы себя, как обычно. Вы — другое дело, бабушка, — добавила мать. — Вы и на самом деле верующая. Вы старый измученный человек, а под старость люди меняются, моя мать тоже стала набожной. Впрочем, в богадельне ничего другого не остается, — с горечью добавила она.
Жизнь снова вошла в обычную колею. Праздничные запасы были съедены. На столе опять появилась селедка и молочный суп. В воскресенье мы уже не получили масла, потому что бабушка, как и я, по утрам пила цельное молоко. Мать день ото дня мрачнела. Зарабатывала она всегда одинаково, подработать было негде, до ближайшей лавки — около трех километров, а кормить бабушку чем попало неудобно.
Снова потянулись серые будни. Опять появился мешок с тряпьем. Бабушка похвалила нашу работу, но даже не подумала заплатить за нарезанные и смотанные в клубки полоски материи, которую мать выпрашивала в домах, где прислуживала, а потом нарезала ножницами. Даже отчим помогал ей иногда в этой работе. Бабушка стала похожа на «состоятельных». А может быть, она решила, что мы сами стали «состоятельными»? Глядя на наше рождественское угощение, это вполне можно было подумать.
Когда натуральный кофе пришел к концу и на столе появился ржаной, бабушка выразила недовольство.
— Ничего не поделаешь, — сказала мать. — Если бы не собрание, кофе хватило бы на две недели.
Бабушка промолчала.
— Отчего это, Гедвиг, все дети, которых ты приживаешь с Альбертом, умирают? — спросила она вдруг на следующий день, когда мы с матерью сидели и нарезали лоскутья.
Мать бросила на нее предостерегающий взгляд, указав глазами в мою сторону, но старуха не обратила на это ни малейшего внимания.
— Не могу взять в толк, отчего это. У тебя ведь есть девочка, просто понять не могу, отчего другие умирают, раз один ребенок остался в живых.
— К чему эта болтовня? Вы что, боитесь, что ваш род угаснет? Что я могу поделать, если дети умирают? Вы сами, по-моему, три раза выходили замуж, а детей у вас вовсе не было, об этом вы забыли. От голода и не то еще бывает. Да и хорош отец из Альберта. Об этом можно бы не говорить при девочке, но Миа и не такое еще слышала за время, что мы живем с Альбертом. Вам, верно, кажется, что при детях можно болтать что угодно.
Швырнув ножницы на диван, мать встала и начала ходить взад и вперед по комнате. Я испугалась. Бабушка тоже. Мать ведь так страдала от бессмысленной необходимости рожать детей, обреченных на смерть. Она не выносила, когда кто-нибудь заговаривал об этом, а бабушка вдруг прямо так возьми и скажи.
— Впрочем, я даже рада, что дети умирают. Нечего сказать, хорошие задатки унаследовали бы они от Альберта. От отца, который всегда путается с другими и не дает тебе ни гроша, когда ты носишь его ребенка, — безжалостно продолжала мать.
Бабушка молитвенно сложила руки. Тогда мать пошла к двери.
— У меня нет никакой охоты молиться. Если, по-вашему, я такая грешница, можете уехать, я вас не держу. У вас есть Метельщица Мина и Ханна, дочь Альберта, они ждут вас в Вильбергене, — с горечью добавила она. Дверь захлопнулась.
Я плакала, сидя на диване. Бабушка тоже. Мы сидели и плакали вдвоем.
— И зачем только я это сказала, — рыдала бабушка.
— Да, бабушка, зачем? Мама столько плакала, — рыдала я. — Мама вовсе не грешница, она такая хорошая. Если не веришь, спроси у Ольги.
— Конечно, хорошая, это все знают, она лучше всех. И зачем только я сказала? Господи Иисусе, прости мое прегрешение!
Бабушка принялась молиться. А я стала ходить взад и вперед по комнате, как только что делала мать, отталкивая попадавшиеся мне под ноги свертки лоскутьев.
— Перестань молиться, бабушка, это гадко, очень гадко, когда молятся вслух, ты молись тихонько вечером, как я, не молись вслух. Это так противно.
Мать назвала имя Ханны, и мне страстно захотелось увидеть подругу, я просто не могла вынести бабушкиной молитвы. Я никогда не верила, что Ханна — дочь моего отчима, для этого она была слишком хороша.
Бабушка замолчала. Она сидела на диване, и слезы катились по ее старческим щекам. Но я была неумолима, я не выносила, когда люди молятся вслух.
Отправившись за матерью, я нашла ее у Ольги. У обеих были серьезные лица. Ольга отстирала занавеску и снова повесила ее на окно. Она выскоблила и вымыла пол в комнате и все время, пока бабушка жила у нас, покорно продолжала носить платье, которое ей подарила мать. Правда, стараниями малыша платье это уже приобрело довольно заношенный вид.
— Подумать только, она стала богомольной на старости лет. Вот и разбери этих стариков… Если Миа присмотрит за малышом, я сбегаю в лавку. Может, мне дадут в долг немного сахару и кофе, я скажу, что это для вас, мне они в долг не верят, а вам поверят, они думают, что у вас есть деньги. Это все потому, что Стенман такой чистый и нарядный.
Мать не могла удержаться от улыбки.
— Ну что ж, пусть думают, если хотят. У меня и в самом деле есть две кроны, только я боюсь их тратить. Боюсь остаться совсем без денег, мало ли что может случиться, — сказала она.
До сих пор не могу понять, для чего она берегла эти две кроны. Может, чтобы заплатить доктору, если понадобится. Но доктор берет пять крон.
— Как только Карлберг придет, я схожу в лавку. Ты увидишь, у нас в два счета запахнет кофе, и твоя свекровь перестанет ворчать.
— Пойдем, мама. Бабушка так расстроилась, она сидит и плачет.
Мать устало взглянула на меня, но поднялась и пошла.
— Прости меня ради Христа, Гедвиг, я не должна была так говорить.
— Я прощаю вас без всякого Христа, если тут есть за что прощать. Вы сами должны понимать, не моя вина, что дети умирают. Пока я здорова, никто из моих близких не голодает и не живет в грязи. Я-то забочусь о своем доме, — с ударением сказала мать.
Я решила, что мать дерзит бабушке.
Мать помолчала немного, бабушка по-прежнему сидела с несчастным видом.
— А теперь скажите, собираетесь ли вы купить у меня лоскутья? Мы трудились целую зиму, мне нужно подработать, вы сами знаете, каково жить в деревне, а Альберт и не думает экономить, тратит все, что попадает к нему в руки. Если вам лоскутья не нужны, здесь есть старушка, которая их купит. Самой мне шить негде, хотя это было бы очень кстати, — заявила мать, не обращая внимания на то, что бабушка еще не успокоилась.
— Старушка? — повторила бабушка. Подбородок у нее дрожал. — Ты хочешь продать их старушке? Милая Гедда…
Когда бабушка волновалась, она всегда называла мать «Геддой». Отчим говорил «Гедда», когда заводил очередную любовницу. Тогда «Гедвиг» исчезала, и появлялась будничная «Гедда». Так могли звать какую-нибудь деревенскую бабу: какая-то там Гедда, которая прислуживает, стирает, убирает и время от времени родит детей. Бабушка, правда, считала, что «Гедда» на слух как-то привычнее, чем Гедвиг, но все-таки говорила «Гедда» только по рассеянности, потому что мать не любила, когда ее так называли.
— Милая Гедда, какая старушка? Я же сказала, что сама возьму тряпки.
— Значит, вы их купите, — упрямо повторила мать.
Старуха поплелась за своей сумкой, напоминавшей по виду маленький чемодан, и вынула оттуда десятикроновую бумажку.
— Возьми, Гедда. — Ее узловатые руки тряслись, точно ей было противно притрагиваться к деньгам. — Возьми, Гедда. Да приидет скорей царствие Иисуса, да избавит нас от греховных денег, да настанет день, когда мы будем помогать друг другу, как сестры… Возьми же их.
— Здесь слишком много, бабушка, но я отработаю, — сказала мать и, взяв бабушку за руку, поблагодарила ее. — Только не стоит из-за этого называть меня Геддой. Без денег не обойдешься, бабушка, даже если на земле станет чуточку легче жить. В ожидании лучших времен без них не проживешь. Лавочнику мало имени божьего, ему надо еще кое-что.
Видно, мать очень рассердилась: никогда прежде она не говорила с бабушкой так сурово.
Ольга отправилась в лавку, захватив десятикроновую бумажку. Благодаря этой внушительной бумажке ей удалось взять продукты в долг и для своей семьи. Как она и обещала, по дому мгновенно распространился запах кофе. Но мать не повеселела. Я понимала, что ей не по душе тот способ, каким она получила деньги у бабушки.
Бабушка сидела на диване и молча нарезала лоскутья большими ножницами для стрижки шерсти, взятыми у хозяина. Узловатые пальцы бабушки не проходили в кольца обыкновенных ножниц.
Мать поджарила на плите кофейные зерна, и мы выпили по чашке чудесного натурального кофе, а потом я отнесла большую бутыль кофе отчиму и Карлбергу, которые веяли зерно на гумне.
Бабушка прожила у нас целую неделю после Нового года. Каждый вечер она пела псалом и читала молитву.
Она во что бы то ни стало хотела молиться на коленях, но ей было не под силу опускаться на пол и потом подниматься самой, — отчиму приходилось ей помогать. Поэтому она становилась на колени только в тех случаях, когда отчим бывал дома, а он не осмеливался отказать ей в помощи.
— Преклони свои колена перед господом, Альберт, — часто говорила бабушка.
Мне и матери она не решалась это предлагать с того дня, как я попросила ее не молиться вслух, а мать заявила, что бабушка не должна называть ее Геддой.
Отчим тоже никогда не становился на колени. Я чувствовала, что бабушка сердится на нас с матерью. Ей, видимо, хотелось, чтобы мы выходили из комнаты, так как она считала, что, не будь нас, Альберт бы ее послушал. Мать тоже так думала.
— Не стоит мешать им, — сказала однажды мать, когда мы были с ней в дровяном сарае.
Но в один прекрасный день, когда мать доила коров в хозяйском хлеву, а отчим ушел на конюшню, я рассказала бабушке про обитателей кольморденской хижины и про странствия Христианина.
— Ах, бабушка, если бы ты знала, какой красивый у них отец. Он похож… Он похож на Аладина.
— Кто такой Аладин?
— Это такой человек, у него была лампа, он ее потер, тогда появился дух и исполнил все его желания.
— Значит, Аладин был колдун, а тот, кто читает о Христе, не может быть колдуном.
— Он читал не о Христе, а о Христианине. Человек, который странствовал, назывался Христианином, и он поехал в долину отчаяния. Об этом должно быть написано в библии, только я никак не могу найти.
Бабушка долго молчала задумавшись.
— Ты прочла всю библию?
— Нет, не всю. Дя… то есть папа и мама сердятся, когда я читаю библию.
— Сердятся? Бедное дитя! Что же ты раньше мне не сказала? Бедное, бедное дитя! А не говорил тебе этот человек, где сказано в библии о странствиях Христианина? Может быть, это апостол Павел?
— Нет, это не Павел, про него я читала, он такой скучный.
— Да простит тебя бог, дитя, он ведь любимый ученик господа нашего.
— А откуда ты это знаешь, бабушка? Где написано, что он его любимый ученик?
— Так ведь… так ведь он был язычником, а потом обратился.
— А я однажды дала на язычников пять эре.
— Павел был не такой язычник. Ему было очень трудно спастись, потому что он поклонялся другим богам.
— У этих язычников тоже были другие боги. Учительница рассказывала, что у них деревянные идолы и живут они в Китае, в Африке и в разных других местах.
— Где их только нет, — вздохнула бабушка и снова задумалась.
— Ты читала Откровение Святого Иоанна?
— Нет, а разве об этом есть в библии?
— Ну, конечно, дай мне библию, я тебе покажу. Наверное, там как раз и написано о странствиях Христианина, потому что эту книгу очень трудно понять.
Я достала библию. И с этого дня все время, пока бабушка оставалась у нас, восьмилинейная лампа неизменно горела в те часы, когда мать уходила доить коров. Бабушка подсаживалась поближе к лампе и открывала библию.
Я показывала главы, которые уже прочла, и призналась, что не могла одолеть книги Чисел.
— Значит, ты не знаешь родословия Иисуса, — сказала бабушка.
Я промолчала. Родословие Иисуса меня совершенно не интересовало. Я хотела узнать побольше о странствиях Христианина.
— А книгу Иова ты читала?
— Да, но это скучно, и пророки все такие злые, а Навуходоносор ел траву, а Даниил овощи, и стал толстый и жирный, а этот, который сидел в печке, мама думает, что он намазался чем-то и поэтому огонь его не тронул.
— Дитя мое! В библии надо искать бога! Пожалуй, твоя мать в самом деле права, тебе незачем читать библию.
— Бабушка, милая, я буду думать о боге. Прочти мне про Иоанна. Бабушка, дорогая, не говори маме, что мне нельзя это читать: она хочет выбросить библию. Бабушка, я буду молиться каждый вечер.
«Ангел сходит в наш чертог, три златых свечи зажег, книга божия в руках, имя божие на устах, усни с именем божиим на устах», — торжественно продекламировала я для вящей убедительности.
— А ты обещаешь становиться на колени и читать молитву вслух?
— Мама рассердится, она говорит, что кто молится вслух при других, только представляется нарочно. Она говорит, что, если ты несчастлив и не умеешь молиться про себя, ты должен уйти куда-нибудь и там громко воззвать к богу.
Вид у бабушки был расстроенный. В сенях послышались шаги, и она с не меньшей поспешностью, чем я, упрятала библию на место. Вошли мать с отчимом.
Когда мы поели кашу из ржаной муки и запили ее молоком — любимым лакомством бабушки, — отчим помог старухе стать на колени с таким видом, точно спускал на землю огромную тяжесть. Мать тоже казалась угрюмой. Я нашла, что у них слишком уж сердитый вид, и во мне проснулся дух противоречия. Мне вдруг стало жаль бабушку. Я подошла к стулу, на который она уронила скрещенные руки, и, упав на колени возле старухи, громко и раздельно прочла вечернюю молитву, не думая, конечно, ни о том, будет ли моя молитва услышана, ни о самом боге, а просто желая показать, что я на стороне бабушки. Бабушка испуганно посмотрела на меня и перестала молиться.
Ни мать, ни отчим не произнесли ни слова. Они сидели, точно два деревянных идола, не обращая внимания ни на меня, ни на бабушку. Вид у них был очень странный.
Только ложась в постель, бабушка сказала дрожащим голосом:
— Я не просила девочку, она сама.
Отчим хотел что-то ответить, но мать бросила на него предостерегающий взгляд. Я решила, что они ведут себя глупо, но испугалась. Ну что страшного я сделала? Я ведь знала, что мать иногда молится, я слышала, как она шепчет что-то про себя, но после молитвы лицо ее всегда мрачнело, точно она раскаивалась в том, что молилась, точно она чувствовала себя униженной или жалела о потерянном времени. Но мне она часто говорила, что я должна читать вечернюю молитву.
— По крайней мере это заставит тебя думать о другом, — добавляла она.
Не знаю, что она при этом имела в виду, потому что вообще она никогда не объясняла, чем, по ее мнению, заняты мои мысли.
Я часто молилась, придумывая для молитвы собственные слова.
— Ты не молишься, а попрошайничаешь, — говорила мать. — Смотри, не стань попрошайкой. Это, видно, у нас в роду — твоя прабабка, а моя бабушка, ходила по приходу с нищенской сумой, хоть и была замужем за крестьянином. С ней ничего нельзя было поделать. Такая у нее была привычка, потому что в жилах ее текла цыганская кровь. Никогда не попрошайничай, у тебя нет в этом никакой нужды. И особенно остерегайся попрошайничать у бога.
Мне очень нравилось, когда мать так говорила. Я могла бы слушать ее часами, но она не любила много разговаривать.
— Слышишь, что я говорю? Заруби себе на носу. — Эти интересные слова она говорила только тогда, когда бывала стройной и ловкой.
А теперь они с отчимом сидели и молчали.
Но я ведь не попрошайничала, я просто прочла обыкновенную вечернюю молитву.
Бабушка легла, отчим тоже разделся, молча вынес в сени свои носки, от которых шел всегда отвратительный запах, и улегся на диван. Но мать расхаживала по комнате, точно злой дух. Я чувствовала, что это неспроста: что-то случилось. Я не решалась раздеться, меня знобило, и все плыло перед глазами. Что-то случилось, — дело не в том, что я стала на колени подле бабушки, совсем не в том.
Наконец мать села у бабушкиной кровати.
— Как вы себя чувствуете, бабушка? Наверно, по ночам боли усиливаются? — ласково спросила она.
— Боли меня не оставляют, но бог поможет мне их перенести.
Мать помолчала. Я сидела в напряженном ожидании на матраце, постланном на полу. Вот сейчас оно случится. Но что? Громовой удар, что-то страшное, я это предчувствовала.
— Бабушка, а кто присматривает за домом, пока вы живете у нас?
— Метельщица Мина обещала мне заходить раз в день, я… я ей за это заплатила. Я хочу жить в мире со всеми, Гедвиг, я больше на нее не сержусь.
— За что же вам сердиться на нее, бабушка? Она больше нашего хлебнула горя.
Я почувствовала, что голос матери опять стал суровым, но мне так хотелось послушать о матери Ханны, что я не обратила на это внимания.
— Ханна тоже с нею, бабушка? Как она теперь выглядит? Вытянулась, наверное? А отросли у нее волосы? А платья нового ей не сшили?
— Нет, Ханна с ней не живет. Мать отдала ее в крестьянскую семью где-то здесь, в Викбуланде.
Голос бабушки звучал устало, у матери было расстроенное лицо. Сидя на кровати, она смотрела на старуху и о чем-то размышляла. Но теперь я думала только об одном: Ханна у крестьянина. Я вспомнила Альвара.
— Сегодня хозяину звонили по телефону, — сказала мать.
Бабушка молчала. Мать ждала какого-нибудь вопроса, но она продолжала молчать.
— По телефону сказали, что дедушка очень болен. Они хотят, чтобы вы вернулись домой.
Бабушка несколько раз глубоко вздохнула, ее вздохи странно прозвучали в тишине комнаты. Отчим тоже лежал тихо, словно совсем перестал дышать.
— Это, наверное, почки? Он всегда страдал почками, — тихо сказала бабушка.
— Они ничего не сказали, только просили, чтобы вы приехали как можно скорей.
— А кто звонил?
— Управляющий усадьбой, он звонил из Норчёпинга.
Больше бабушка ни о чем не спросила. Она не молилась, не вздыхала, не поминала имя божье, она молчала.
— Мы все устроим так, чтобы вы смогли завтра уехать домой, бабушка. Альберт отпросился у хозяина. Он поедет с вами. Если бы у меня были ботинки, я бы тоже поехала, дома вам понадобится помощь.
Старуха не отвечала.
— Не горюйте, бабушка. Мы сделаем, что можно, но ведь дедушка уже очень стар.
— Я знаю, Гедвиг. А теперь ложись, у тебя и так много забот. — И бабушка повернулась лицом к стене.
Мать и отчим многозначительно переглянулись и покачали головой — получилась целая пантомима. Мать разделась. Я тоже начала потихоньку раздеваться.
Хотя наступила зима, у меня не было другой обуви, кроме полуботинок, и чтобы я могла почаще бывать на улице, мать натягивала мне поверх полуботинок старые, заштопанные носки отчима. К вечеру носки промокали, и мне с трудом удавалось стянуть их с ног. Я пыхтела и тужилась, стаскивая носки, а мать стояла в рубашке посреди комнаты и нетерпеливо ждала, чтобы погасить лампу.
Она подошла ко мне, помогла разуться, подоткнула одеяло, погладила меня по голове и, пожелав спокойной ночи, задула лампу; потом легла рядом с отчимом на диван. Оба они молчали, но я чувствовала, что они не спят. Я тоже не могла заснуть. Я понимала, что в нашей жизни произошла какая-то перемена. Я видела это по лицу матери, которое вдруг стало отчужденным. Такое выражение появлялось у матери всегда, когда почва уходила у нее из-под ног.
— Скажи правду, Гедвиг, мой муж умер? — послышался в темноте голос бабушки.
Мать ответила не сразу.
— Можешь не говорить, я и сама знаю, что умер.
— Да, бабушка, он умер, но я думала, что лучше сказать об этом утром, чтобы вы спокойно поспали ночью.
Я слышала, как мать села на диване.
— Лежи, Гедвиг, не надо зажигать свет, — сказала бабушка.
Мать снова улеглась. Опять воцарилось молчание.
Казалось, воздух в комнате был насыщен думами, страхом, беспокойством. Мрак был непроницаем. На окнах висели шторы; в январской темноте я не могла различить рисунок, но знала, что девочка в красивых деревянных башмаках с полными ведрами на плече продолжала свой бесконечный путь через мостик.
— Миа замерзнет на полу, пусть лучше ляжет со мной, — послышался снова голос бабушки.
Мать встала, зажгла лампу, натянула юбку.
Бабушка села на кровати. Теперь, когда на ней не было платья, она казалась маленькой, сморщенной старушкой. Тоненькая черная косичка свисала на морщинистую шею, но глаза были сухи, только нос как-то особенно заострился, и в лице не осталось ни кровинки.
Мать немного раздвинула кровать и перенесла туда мое белье. Я ждала и мерзла. Вдруг я увидела, что мать обняла бабушку. Не говоря ни слова, она прижала бабушку к груди, и та уткнулась лицом ей в плечо. Обе молчали. Лежавший на низком диване отчим ничего не видел, потому что ему мешал стол. Я вся дрожала от холода, но старалась не стучать зубами. Я не хотела мешать, я знала, что не должна мешать. Мать была всегда очень сдержанна в своих чувствах. Узловатая рука бабушки лежала на плече матери. Она казалась такой ужасно старой на белой, молодой руке матери. Мне стало бесконечно жаль эту старую руку. Увидев эту изуродованную, больную руку на белом плече матери и жидкие черные волосы рядом со светлой, толстой материнской косой, упавшей ей на грудь, я вдруг поняла, что бывает такое горе, когда ничем нельзя помочь, ничего нельзя сделать.
Мать что-то шепнула бабушке, и старуха опустилась на кровать. Я легла возле нее и обвила ее рукой, как это только что делала мать. Мать потушила лампу.
— Постарайтесь уснуть, бабушка.
— Верно, мать, постарайся вздремнуть немного, — сказал отчим своим рокочущим басом так ласково, как только мог. Я придвинулась к бабушке и обняла ее крепко-крепко.
— Спасибо, — тихо сказала она, — спасибо. Теперь старухи из Вильбергена начнут чесать языки.
— Что нам за дело до них, — ответила мать.
— Пусть только попробуют, — добавил отчим.
Теперь к нам снова вернулась прежняя бабушка. Нет, она совсем не была попрошайкой. Она не попрошайничала, когда пришло горе. Она боялась сплетен, но знала, что молитвы против сплетен не помогут. Она не стала читать молитву вслух, но всю ночь не сомкнула глаз. Я часто просыпалась, потому что мне передалось ее беспокойство.
На следующее утро бабушка с отчимом собрались в дорогу. Перед отъездом бабушка спорола ленту со своей шапки.
— Я не могу ходить с красной лентой, потеряв лучшего в мире мужа. Лучшего из моих трех мужей, — добавила она прежним независимым тоном.
Карлберг сидел на козлах. Уши у него мерзли, потому что шапку на этот раз должен был надеть сам отчим.
— Я пришлю с Альбертом новые ботинки, чтобы ты могла приехать на похороны, потому что хозяин не отпустит вас обоих сразу, — сказала бабушка матери. Больше она не сказала ничего, и лошади понеслись прочь от беленького домика на равнине.
18
Два дня подряд я читала Откровение Иоанна, но мать не обратила на это внимания. Она больше не запрещала мне читать. Как беспокойный дух, бродила она от Ольги к нам и обратно. На дворе шел снег, было холодно. Редкие снежные хлопья при двадцатиградусном морозе. Отчим должен был пробыть в городе два дня. На второй день к вечеру он обещал вернуться.
— Вот увидишь, я знаю, что говорю, — твердила мать Ольге.
— Зачем ты себя зря мучаешь. Он обязательно приедет, он же должен ходить за лошадьми. Никто за него работать не станет, он ведь батрак, — отвечала Ольга.
Но мать недоверчиво качала головой.
— Разве он о чем-нибудь думает, когда на него находит такой стих? Нет, я по всему чувствую, что спокойной жизни на этот раз пришел конец, надо опять складывать вещи.
— Погоди, может еще обойдется, — отвечала Ольга, но вид у нее был уже довольно неуверенный.
— Что это ты читаешь? — спросила Ольга.
— Про то, как придет зверь о десяти головах, а овцы и орлы взлетят под облака, — объяснила я.
— Ну-ка, дай посмотреть, — сказала мать. Несколько минут она читала про себя.
— Проклятые россказни! Потом будешь бояться сидеть в темноте. Оставь ты наконец эту книгу, Миа!
— Что там написано? Дай-ка я взгляну, — попросила Ольга и взяла библию.
Она тоже несколько минут читала про себя.
— Вот уж не думала, что в библии написаны такие вещи. Ужас какой!.. — У Ольги было такое лицо, точно она увидела привидение.
— Это пророчество. Все будет так, как здесь написано, — пояснила я.
— Ничего этого не будет. Никогда ни овцы, ни львы не научатся летать. Неужели тебе нравится эта книга?
Нет, мне она нисколько не нравилась. Книга оказалась ужасно скучной. Не успеет пророк разделаться с одним откровением, как сразу начинается другое, почти такое же. У меня голова шла кругом от ералаша на небесах, от всех этих чудищ и блудниц с разными головами, плывших на облаках. Чудищ я представляла себе в виде ревущей паровой молотилки: это вносило какой-то смысл в небесную неразбериху. И все же в эти дни я со страхом смотрела на облака: вдруг из снеговой тучи появятся овцы, орлы и лев. Как не похожа эта книга на «Странствия Христианина». Я не знала в точности, что такое блудницы. По-видимому, женщины, которые совершают что-то дурное, вроде бабушкиной сестры, которая утопилась у водопада в Обакке из-за того, что ее высекли. Злой дядька назвал ее блудливой девкой. Когда мать еще не была замужем, мы с ней однажды ходили к этому водопаду за ландышами. По воде было совсем незаметно, что здесь топятся блудницы… Уездный судья тоже сказал красавцу торпарю из Кольмордена, чтобы он «забрал свою блудливую девку», чтобы он «забрал ее, в чем мать родила», это слышали конюхи. Но я никак не могла представить себе дочь судьи с разными головами да еще сидящей на облаках. Эта вялая, заплаканная женщина не внушала мне ни малейшего страха. Библия утомила меня, в ней было слишком много склок и проклятий. Совсем как в батрацких семьях. Я тосковала по красивому, спокойному миру, где благоухают цветы и живут приветливые люди. А царство небесное в описании пророка было таким же дурацким, как его проклятья и видения.
Все в доме перепуталось. Мать только ходила взад и вперед, днем и ночью. Прошло уже три дня, а отчим не возвращался. Снежные хлопья падали все гуще и гуще. Дорогу, насколько хватал глаз, занесло снегом. Никто не ехал по ней в нашу сторону.
На третий день явился хозяин.
Во рту у него торчала трубка, вся одежда пропахла табаком. Мне очень нравился этот запах. Сам хозяин был маленький гладко выбритый человечек с маленькой головкой, которой он вертел во все стороны, точно сорока. Он совсем не походил на крестьянина. Говорил он быстро, отрывистыми фразами и все вертел и вертел головой.
— Как ты думаешь, Гедвиг, вернется он сегодня вечером, или… А! Читаешь беблию? (Он так и сказал «беблию».) Что ж, может с детства оно и лучше… Если Стенман не приедет, то я не знаю… Ты разве не собираешься на похороны, Гедвиг? Дорога-то плохая… Нелегко добраться до станции.
Он сел и, помолчав немного, снова заговорил о том, ради чего пришел к нам.
— Значит, по-твоему, он вернется к вечеру? А, Гедвиг?
— Нет, по-моему не вернется, — твердо ответила мать.
— Как? По-твоему — нет?
— По-моему, нет. У него, видно, начался запой, иначе он позвонил бы. С ним это бывает, чего греха таить.
— Так я и думал. Но ведь он батрак, как же это он позволяет себе такое? У нас ведь есть закон. И порядок…
— Что ж я могу поделать? Я вам говорю, что думаю. Мне самой нужны дрова — без него мне их не запасти. Не знаю, как и быть. Мне бы надо помочь свекрови в городе, она совсем одряхлела. Альберт должен был вернуться вчера и привезти мне ботинки, своих у меня нет. Но теперь все пошло шиворот-навыворот. Стоит ему попасть в город и встретить собутыльников, он тотчас теряет рассудок. Когда он уезжал, я предчувствовала, что так оно и будет.
Хозяин помолчал. Вопреки моему ожиданию он не рассердился. Он задумчиво посмотрел на мать, вздернул белесые брови почти до самых волос, придвинулся к матери и шепотом, точно боясь чего-то, сказал:
— Знаешь, Гедвиг, у меня разные люди жили, но таких аккуратных, как вы, на хуторе никогда не было. (У меня сердце запрыгало от радости.) Я хочу вернуть Стенмана, и тебя мне не хочется отпускать. Твоя комната прямо как господская. До станции ты доберешься и в старых ботинках, а там купи себе пару новых. Я дам тебе вперед десять крон, я знаю, что ты вернешься и привезешь Стенмана. По-моему, будет лучше, если ты сама за ним поедешь. Заодно поможешь свекрови. Она тоже, видно, почтенная женщина. Может, и наследство вам какое достанется, — прибавил он; он говорил с матерью совсем как с равной. — Так мы все добром и порешим. Жаль, что это стряслось сразу после рождества. Работники еще не протрезвились после праздника, их… как бы сказать… тянет опохмелиться. Но если хочешь, завтра Карлберг отвезет тебя на станцию, а ты потом позвонишь и расскажешь, как дела. Я на первый раз не хочу жаловаться ленсману, но ты припугни Стенмана. Скажи, что, если, мол, не будет выполнять свои обязанности, его могут привлечь к суду.
Право, мне нравился хозяин. Он молча ждал ответа.
— Большое спасибо, — сказала мать. — Я вам очень благодарна, постараюсь так и сделать. Только чует мое сердце — Альберт загулял, теперь с ним не так-то просто сладить.
— Ничего, они все боятся ленсмана. Припугни его хорошенько. Значит, решено, завтра ты едешь.
Хозяин пришелся мне по душе, и особенно из-за этих слов насчет ленсмана: что, мол, надо бы припугнуть отчима. Но у меня было тайное предчувствие, что мать не припугнет его так, как следовало бы.
— Упрятать бы вас обоих в тюрьму! — кричала она не раз, когда отчима объявляли отцом ребенка той или другой фабричной работницы, но не приводила свою угрозу в исполнение. Поэтому ей теперь трудно было чем-нибудь напугать отчима.
Прощаясь, крестьянин подал нам обеим руку. Мы слышали, что от нас он пошел к Ольге и очень долго пробыл у нее.
Перед возвращением Карлберга к нам заглянула Ольга и сказала, что ей надо поговорить с матерью.
Мать вышла в сени. Она вернулась красная и сердитая.
— Если Карлберг спросит тебя, заходил ли хозяин к Ольге, скажи, что не слыхала, — заявила она. (На моем лице, очевидно, отразилось удивление.) — Ничего тут странного нет. Ты знаешь, какой Карлберг сумасбродный. Ольга просила, чтобы мы ему не говорили.
Я вспомнила рождественский вечер, вспомнила, как Карлберг выплюнул табак на занавеску, которая впервые появилась у него в доме, и решила молчать. Но все-таки взрослые несправедливы. Когда лжешь, чтобы самой выпутаться, они бранятся, а если надо выручить их, тебя иной раз за твое вранье еще и конфетой угостят. Но в данном случае я должна была солгать, я ведь слышала, как хозяйка говорила, что Карлберг в один прекрасный день обязательно убьет Ольгу.
19
Почти всю ночь мать собирала и складывала вещи, разогревала утюг и гладила. Черного платья у нее не было. Когда мать венчалась, она заняла нарядное платье у подруги. Поэтому теперь она привела в порядок темную блузку и приготовила черную юбку. «Это подойдет для похорон», — сказала она. Мое платье из шотландки в красную клетку не годилось для такого случая, но мне пришлось надеть его в дорогу, хотя, по мнению матери, такой дорожный наряд тоже не подходил для тех, у кого горе. (По правде говоря, я меньше всего думала о том, что старик умер. У меня было очень смутное представление о смерти.)
— Приедем в город, заглянем к процентщику: может, удастся достать для тебя черное платье и ботинки.
Я очень радовалась нашей поездке. Все будет так торжественно. Погребение. Одетые в черное, нарядные люди. Вкусная еда. В городе, когда кто-нибудь умирает, у дверей разбрасывают еловые ветки. Но мать почему-то нисколько не радовалась, а только вздыхала, собирая вещи. Вдруг она вытащила из ящика псалтырь.
— Тебе придется читать этот псалом, — сказала она. — Выучи его.
Было уже поздно, я устала, но все-таки принялась учить. Это был псалом на случай смерти старого человека.
Мать всегда знала, что полагается делать при любых обстоятельствах.
Поезд отходил только в половине восьмого утра, но мы выехали из дома в половине пятого. Снег одел землю плотным покровом, и лошадь еле передвигала ноги. Карлберг понукал ее, осыпая проклятиями. В санях у него лежала лопата, которой он разгребал снежные сугробы, когда дорога становилась совсем непроезжей.
В кошельке у матери хранилось шестнадцать крон: шесть крон осталось от продажи лоскутьев, а остальные десять хозяин передал через Карлберга, чтобы мать купила на станции ботинки. Две кроны, которые мать еще до праздников сберегла на «всякий случай», были отданы батрачке за то, что она взялась доить коров на время нашего отсутствия.
Мы с трудом продвигались вперед. Снег валил не переставая.
— Плохо тебе придется на обратном пути, — сказала мать Карлбергу, который уже не раз слезал с саней, чтобы расчистить путь лошади.
— Ничего не поделаешь! Главное — поспеть к поезду, не то вы просидите весь день в зале ожидания. Туда идет всего два поезда.
Карлберг снова и снова расчищал дорогу, пот градом катился у него со лба, а лошадь вытягивала сани из снега. Несколько минут мы двигались по ровной дороге, но потом перед нами снова вырастал сугроб.
Мать разговаривала с Карлбергом, но звон колокольчиков мешал мне разобрать слова. Только когда лошадь остановилась, я услышала, как Карлберг, наклонившись к матери (он правил, сидя на задке саней), спросил:
— Можешь ты поклясться, Гедвиг, что хозяин не был вчера у Ольги? Я готов душу прозакласть, что он у нее был. Я это по запаху чувствую, я ведь знаю его табак.
Я замерла в напряженном ожидании: неужели мать поклянется? Ложная клятва — это ведь так страшно. Но, с другой стороны, она ведь обещала Ольге…
— Клясться я не стану, я за хозяином не слежу, но мы не слыхали, чтобы он заходил к вам, правда, Миа? Разве хозяин вчера пошел от нас к Ольге?
Карлберг недоверчиво смотрел на мать, обернувшуюся ко мне. Сани уперлись в сугроб, и лошадь нетерпеливо оглядывалась, ожидая помощи кучера.
— Не-ет, не слыхала. Он сразу пошел домой.
Карлберг больше ничего не сказал. Мать смотрела куда-то вдаль, пока он разгребал снег и вел лошадь через сугроб. Дело близилось к рассвету, метель вдруг улеглась. Карлберг снова забрался в сани.
— А он не заходил к ней перед тем, как пришел к вам? Ты не слышала, Миа? — спросил он, нахлестывая лошадь.
— Нет, не заходил. Он пришел к нам весь в снегу, мама еще помогала ему отряхнуться, — находчиво возразила я.
Карлберг, по-видимому, успокоился. Дети ведь не лгут. Мать по-прежнему смотрела вдаль, избегая моего взгляда.
Когда мы наконец приехали на станцию, до отхода поезда оставалось еще полчаса.
— Хозяин хотел, чтобы я купила ботинки на станции, но я подожду до города. Я куплю их дешевле у Процентщика Калле. Если хозяин спросит, так ему и скажи, — объяснила Карлбергу мать. Она протянула ему крону. — Купи что-нибудь своим.
— Тебе самой нужны деньги, Гедвиг, я не могу взять их у тебя.
— Бери, бери, купи что-нибудь, я всегда сумею раздобыть себе крону. И не думай плохого про Ольгу. У меня никогда не было такой славной соседки.
Карлберг повернул и поехал домой, а мы вошли в зал ожидания. Мать едва ковыляла в стоптанных башмаках. У меня поверх полуботинок были натянуты носки. Глядя на мои ноги, можно было подумать, что у меня слоновая болезнь.
На вокзале в Норчёпинге мать сняла с меня носки. Помню, какими сострадательными взглядами меня провожали прохожие, когда я шла по снегу в полуботинках. Мы с матерью решили, что их жалость глупа и никому не нужна.
— Дурачье, — сказала мать. — Полюбовались бы на самих себя.
Я щеголяла в новой зеленой кофте и считала себя достаточно нарядной для их старого города.
Путешествие подбодрило мать. Глаза у нее блестели, она выпрямилась и, несмотря, на сбитые каблуки, шагала бодро. Ноги у нас обеих промокли, потому что аллея, по которой мы шли, была покрыта толстым слоем грязного снега. Но мы ведь не привыкли держать ноги в тепле. В ту пору рваные ботинки были делом весьма обычным для простого люда. Не мы одни месили промокшими ногами снег.
Когда мать приходила в такое настроение, я всегда знала, что меня ждет что-нибудь приятное.
— Прежде чем идти к бабушке, выпьем по чашечке кофе, — сказала она, свернув в переулок.
— Кофе?
— Конечно, а почему бы нет? Нам не мешает подкрепиться.
Мать выбрала маленькое, скромное кафе, на окнах которого висели темные занавески, обшитые бахромой. Я вообразила, что это очень дорогое кафе, но мать сказала мне, что оно устроено для рабочих. — Кафе общества трезвости, — добавила она.
Хозяйка смерила нас довольно бесцеремонным взглядом, но мать, держа меня за руку, прошла во внутреннюю комнату и заказала две большие чашки кофе с бутербродами.
Вот это было пиршество!
«Бутербродами» у нас в просторечии назывались не только ломти хлеба с маслом, — и на это были свои причины: румяная горбушка хорошо выпеченного хлеба очень уж походила на задик упитанного трехмесячного малыша.
Сытным бутербродом было легко утолить голод.
— Это ведь очень дорого, — сказала я матери.
— Ничего, небось Альберт не экономит. Надо же нам перекусить. Ешь на здоровье.
Нет, мать совсем не была похожа на человека, который собирается на похороны. Никто бы не подумал, что она еле передвигает ноги в своих сбитых ботинках.
Наверное, мать была счастлива, что вырвалась хоть ненадолго с заброшенного хутора. Она ведь больше привыкла жить в городе. Она махнула рукой на все и к тому же снова была стройной. Я так давно не гуляла вдвоем с матерью, не видела ее здоровой и оживленной, без ежеминутных приступов рвоты.
Я тоже оживилась. Кофе был замечательный. Бутерброд я съела за один присест. И вдруг меня точно укололо в сердце: я подумала о нашей пустой комнате, о Карлберге, который, наверное, вернулся домой и ругается. Он всегда ругается, когда нас нет дома.
— Вот если бы Ольга была с нами! — сказала я помрачнев.
— Ольга? Да-а, — задумчиво протянула мать. — Она сделала большую глупость, не видать ей теперь города, бедняжке.
— Какую глупость, мама? Что она сделала?
— Вышла замуж за такого дуралея.
Мать подозвала хозяйку, заплатила по счету и дала на чай десять эре. Хозяйка рассыпалась в благодарностях.
— Мы приехали издалека, — сказала мать, — и не хотели покупать ботинки в деревне. Мы решили купить их в городе.
Мать приоткрыла кошелек, чтобы женщина увидела десятикроновую бумажку. Та пожелала нам счастливого пути и пригласила заходить еще. Она вполне сочувствовала нашему желанию купить ботинки в городе.
— В деревне порядочному человеку трудно найти что-нибудь подходящее.
Мать повела меня прямо на западную окраину, где была лавка Процентщика Калле.
— А! Куда иголка, туда и нитка!.. Здравствуйте, здравствуйте! И подумать только, фру Стенман приехала в город! А вчера здесь был сам Стенман.
Кругленький старичок с багрово-красным, истинно норчёпингским носом пожимает руку матери и треплет меня по щеке.
— Господи, ну и коса! Продайте мне, фру Стенман, косу вашей дочери, я за нее десятки не пожалею.
Похолодев, я бросилась к двери — скорее прочь отсюда! — но мать только засмеялась.
— Он шутит, не бойся.
Кругленький старичок тоже засмеялся, но продолжал серьезно поглядывать на мои волосы.
Я знала, что некоторые женщины покупают косы. Но я вовсе не хотела, чтобы они купили мою косу. И особенно теперь.
— Так, значит, Альберт здесь уже побывал? — усмехнулась мать, но я заметила на ее лице привычное выражение горечи.
— Побывал, побывал. У вас ко мне, верно, какое-нибудь дело? — спросил старичок, стараясь переменить тему разговора.
— Мне нужна пара ботинок. На новые у меня денег нет. У нас свекор умер, вы, наверное, слышали об этом от Стенмана, господин Карлссон?
— Нет, Стенман не сказал мне об этом ни слова.
— Он был трезвый?
— Не совсем. — Толстяк вел себя очень осмотрительно.
— Если вы подберете пару поношенных ботинок для девочки, я их тоже куплю.
Старик принес целую кучу поношенной обуви. Началась бесконечная примерка. Наконец нам попалась пара ботинок с застежками. Ботинки эти всего один раз побывали в починке и пришлись мне по ноге. Правда, они слегка жали в пальцах, но я промолчала. Мне смертельно надоела примерка. Старик сжимал носок каждого ботинка, который я надевала, и у меня под конец разболелись ноги.
— Они стоят три кроны, — сказал старик.
Сошлись на двух.
— Мне надо купить еще кое-что, — сказала мать.
— Вы ведь себе хотели купить ботинки, фру Стенман. По правде говоря, Стенман заложил вчера у меня за три кроны пару хороших дамских ботинок. Я даже подумал, что это вы прислали его ко мне.
— Покажите-ка мне их.
Старик вытащил пару грубых, кустарных ботинок. Это были бабушкины ботинки, которые стали тесны для ее изуродованных ревматизмом ног. Бабушка носила теперь войлочные туфли, в кожаных она не могла ходить.
— Я их покупаю.
— Я не могу их продать. Вы ведь знаете, фру Стенман, пока не пройдет три месяца, я не имею права продавать заложенное.
— Стенман не станет их выкупать.
— А вдруг он продаст залоговую квитанцию? Что я тогда буду делать?
— Заплатите за нее деньги. Я дам вам за ботинки пять крон.
У матери был такой вид, точно она собиралась сыграть какую-то шутку.
— Я думал взять за них дороже.
— Ну-ну, не скупитесь. Лучше подберите мне какую-нибудь старую черную юбку, чтобы я могла сшить из нее платье для девочки, не идти же ей в красном платье на похороны деда.
Никогда прежде мать не говорила таким тоном. Какой-то бесшабашный тон, точно ей все на свете трын-трава.
Тут же на скамье у Калле мы зашнуровали ботинки. Мать держала в руках сверток с юбкой. На юбке были такие глубокие складки, что мать надеялась выкроить из нее два платья.
И мать и Калле считали юбку черной, но мне она показалась скорее зеленой. Сшита она была из плотного гладкого материала, который они называли муаром. Этот противный материал потом до крови натер мне шею. Мать заплатила за юбку полторы кроны.
Процентщик вежливо распахнул перед нами дверь.
На улице мать сразу же переменилась. Она шла молча, понурив голову. Встречные уступали ей дорогу. Ее лицо постарело и поблекло. Ну конечно, она расстроилась из-за того, что отчим отнес процентщику ботинки, которые бабушка послала ей.
У меня голова шла кругом. Мать заплатила пять крон за ботинки, хотя бабушка ей их подарила, отчим заложил эти ботинки за три кроны, а кроме того, еще осталась залоговая квитанция, которую отчим может продать и за которую придется платить процентщику. Подумать только, к чему может привести один подарок!
— Куда мы идем? — спросила я через некоторое время, видя, что мать сворачивает из переулка в переулок.
— К сестре. Попрошу у нее машину, чтобы сшить тебе платье. У бабушки ведь машины нет.
Как я огорчилась! Крикливая тетка, ее злобные мальчишки, грязная комната, скандалист-дядя с длинными жидкими усами, которые вечно попадают в суп и кофе и во все, что он ест. А потом он берет концы усов в рот и с громким чмоканьем обсасывает. Я всегда содрогалась от отвращения, когда он высасывал соус или суп из этих длинных, обвислых усов.
Дядя вечно пересыпал свою речь ругательствами, а когда тетя поздно вставала по утрам, бил ее подтяжками по спине. Ему часто приходилось вставать среди ночи и ехать на рынок или в лес, потому что хозяин, у которого он служил, брал подряды на любую работу. У хозяина работало одиннадцать возчиков, четверо из них жили и столовались у тетки в ее единственной комнате. Детей у тетки было шестеро, и все мальчишки. Твердолобые мальчики, которые частенько пересчитывали ступеньки лестницы, — и хоть бы что, даже шишка не вскочит. До замужества матери мне не раз приходилось жить у тетки. Помню, как малышами мы играли на полу и возчики часто задевали нас грубыми сапожищами. Если мы поднимали рев, какой-нибудь бородатый возчик иной раз подбрасывал нас вверх (нам казалось, что до самого неба или во всяком случае до потолка), приговаривая: «Ничего, до свадьбы заживет. Я тебя не заметил. Ну как, прошло?» Но чаще в ответ раздавалась ругань: «Чертово отродье!»
Мне очень не хотелось идти к тетке. Я считала ее злой. Правда, удивляться ее дурному характеру не приходилось. Тетка злобилась потому, что дядя плохо с ней обращался и она никогда не могла как следует выспаться. Но злой человек всегда остается злым в глазах ребенка, которому трудно отличить причину от следствия.
Теперь, много лет спустя, я понимаю, что тетка по натуре вовсе не была злой. Но разве могла она сохранить добродушие, когда ей выпала такая доля. Скорее приходится удивляться, как она не сошла с ума. Она буквально не присаживалась ни на минутку. А если уж ей случалось присесть, она тут же засыпала. Голова склонялась на грудь, и порой тетка просто соскальзывала на пол. В последний раз я прожила у нее три месяца, как раз в ту пору, когда мать собиралась замуж. Мне приходилось изо дня в день, сидя в углу, качать ее младшего сына.
Тетка была родной сестрой матери. Они обе выросли в сказочном домике на болоте у восточной окраины Кольмордена. Ночи напролет они вспоминали свое детство.
Я никак не могла понять, чего ради они вспоминают такую ерунду, но все-таки старалась не заснуть, чтобы слышать разговор. Тетка обычно так уставала, что с трудом поднималась по утрам. Между тем в четыре часа по мостовой уже гремели и дребезжали колеса выезжавших со двора телег. Матери тоже надо было на фабрику. Ей приходилось вставать не позже шести, иначе она опаздывала. И, несмотря на это, они всю ночь напролет лежали и болтали, перебирая воспоминания детства. Иногда они говорили о дяде, и я слышала, как мать называла его грубияном. Как-то раз они поссорились, и тетка сказала, что не матери об этом судить, потому что она сама тоже жила с грубияном. Грубияном тетка называла моего настоящего отца.
Однажды утром тетя убирала с пола постели. На полу их было три. Дядя, не переставая, бранил жену за то, что она слишком поздно проснулась. Вдруг он схватил подтяжки и стал стегать тетку по спине. На ней была только ночная рубашка и нижняя юбка. Волосы, еще не заплетенные в косу, растрепались, к тому же тетка была на сносях. Медные пряжки содрали ей кожу, и сквозь рубаху проступила кровь. Тетя упала в обморок. Дети подняли рев, а я, раздетая, в одной короткой рубашонке, выскочила вперед и крикнула прямо в лицо длинному усатому дядьке:
— Ты грубиян, дядя, ты грубиян!.. Это сказала моя мама.
Он побелел как мел. Очевидно, тоже испугался.
— Тише, тише, — только и сказал он, сбегал за водой и стал брызгать в лицо тетке.
Но дети так громко плакали, что на их рев прибежала соседка и кинулась будить хозяйку. Хозяйка явилась в кофте из камвольной пряжи. Такой наряд носили только щеголихи, и жена хозяина целыми днями красовалась в мягкой и яркой шерстяной кофте. Она потерла тетке виски уксусом и объявила, что беременные женщины часто падают в обморок.
— Ее дядя избил; глядите, вот у нее кровь, — вмешалась я и показала на спину тетки.
Но дядя только покручивал усы и улыбался, с большим интересом поглядывая на камвольную кофту, а камвольная кофта улыбалась, с большим интересом поглядывая на усы.
— Что ты болтаешь, детка? — сказала кофта. — Эта дочка Гедвиг вечно болтает глупости! Я никогда не поверю, Янсон, чтобы вы могли это сделать.
Тетя очнулась и села на полу.
— Что вы здесь делаете, фру? — резко обратилась она к камвольной кофте.
— Меня сюда позвали. Мне сказали, что вы больны, фру Янсон, что вы упали в обморок. А теперь я пойду к себе.
— Еще бы не упасть в обморок от такого грубияна.
Ага, получила! Тетка терпеть не могла хозяйку.
— Я ей сказала, что дядя тебя побил, а она говорит, что я вру, — вмешалась я, силясь застегнуть на спине лифчик.
Мои твердолобые двоюродные братья стояли, ничего не понимая, и только икали от страха, хотя один из них был двумя годами старше меня. Они, как и отец, с восторгом таращили глаза на камвольную кофту.
— Ступайте отсюда, сударыня. Впрочем, Янне еще не пил кофе, можете поднести ему чашечку, — ядовито сказала тетя хозяйке.
Хозяйка и дядя смолчали, потому что рядом стояла соседка, у которой от любопытства даже брови подергивались.
Хозяйка ушла к себе, а дядя, натянув рубаху, отправился на конюшню.
Весь этот день тетка была особенно ласкова со мной.
— Незаконные дети всегда понятливее и добрее, не то что мои оболтусы, — заметила она вечером, рассказывая матери о том, что произошло. Мать не жила у тетки, она только приходила ко мне. Дядя уехал в Сёдерчёпинг на рынок и должен был вернуться не раньше, чем через три дня, так что никто не мешал сестрам наговориться всласть.
— Приставала бы к холостым, а то лезет к женатым, — сказала мать тетке.
Она, конечно, имела в виду камвольную кофту. Я это отлично поняла, недаром мне исполнилось шесть лет.
Мать промыла ссадины амикозом, который, по утверждению тогдашних газет, был универсальным средством от всех болезней, а потом сделала перевязку.
— Точно дикие звери какие-то, — сказала она. — Ей-богу, еще подумаешь, стоит ли выходить замуж. — Отчим был в ту пору ее женихом.
И вот теперь мы шли к тетке. Мать несла пару ботинок, выкупленных у Процентщика Калле, к которому тетке тоже не раз приходилось обращаться. По субботам она выкупала за двадцать пять эре праздничную одежду своих нахлебников, а в понедельник снова закладывала ее за ту же сумму.
На улице, где жила тетка, все осталось как было. Как и прежде, на мостовой сквозь размокший снег просвечивали неровные булыжники. Деревянная доска, уродливо подпиравшая ворота, стояла на прежнем месте, а на дворе, как обычно, лежали кучи мусора. Привязанная к телеге тощая черная корова мычала от холода. Ко всему здесь был еще постоялый двор для крестьян, которые платили хозяину за право оставлять свои пожитки, уходя в город. На телегах зачастую сидели их жены, ожидая своих повелителей, которые тем временем прохлаждались в трактире «Ион-пей-до-дна». Жены считались частью крестьянского скарба. Во всяком случае, мужьям не приходилось особо платить за то, что они сидели на возах. Так сказал однажды дядя:
— С этого мужичья надо бы брать отдельную плату за то, что их бабы торчат во дворе. Тошно на них задаром смотреть.
Мне не раз случалось видеть, как крестьянки плакали, сидя на телегах. Но в этот день на дворе не было ни души, одни только повозки, мусор да одинокая черная корова с мокрой от снега спиной.
Мать остановилась во дворе, глядя на окна второго этажа большого оштукатуренного дома.
— Что-то я не вижу старых занавесок. Наверное, она купила себе новые, — сказала мать, направляясь к входной двери.
В прихожей не было слышно детского крика. Не видно было старого теткиного раздвижного стола. На полу лежал новый ковер. Нерешительно осмотревшись, мать постучала.
Дверь открыла чужая женщина. Янсоны переехали.
— Господи, да неужто родная сестра фру Янсон ничего не знает! Подумайте только! Нет, вы только подумайте! — и пошла, и пошла…
Выяснилось, что Янсон арендовал усадьбу Хагбю. Он называет себя теперь — «домовладелец Янсон».
— Домовладелец? Что это еще за выдумки, черт его дери? — выругалась мать, забыв о том, что у нас несчастье и что мы купили траурные платья.
— Уж не знаю, так он себя называет. До Хагбю отсюда недалеко.
— Я знаю это собачье логово. Ума не приложу, что он там делает. Там ведь нельзя жить.
— Он привел в порядок комнату, купил новую мебель. У него даже две лошади, он теперь сам берет подряды.
Вот это новости! Мы обе устали, а до бабушкиного дома в Вильбергене так далеко.
— Ну, прощайте, и спасибо вам.
— Не за что. Прощайте, счастливый путь!
Мы снова вышли на улицу, слегка растерянные. Правда, ноги у нас согрелись, но мы уже давно не ели, и у обеих сосало под ложечкой. Мы долго сидели у процентщика, потом почти час добирались сюда. До бабушки тоже было километров пять… и к тому же мы не знали, расчищена ли дорога.
— Что ж, все-таки придется идти, — узнаем, что у них там. Может, они уже похоронили старика и справили поминки; хотя вряд ли они успели.
И снова в голосе матери прозвучали нотки отчуждения, точно ей было безразлично, что дедушка умер, и вообще все равно, что бы ни случилось. А ведь в ту ночь, сидя в одной рубашке, она обнимала бабушку. Я хорошо помню узловатую бабушкину руку, которая, точно сухой кусок дерева, лежала на белом плече матери. Это было так красиво, и мать была так дорога мне тогда! Почему она вдруг опять стала такая? Разве покойный дедушка виноват в том, что отчим заложил ее ботинки или что дядя переехал? Да и бабушка здесь тоже ни при чем. Мне по-прежнему было жалко бабушку.
В ту пору я еще не знала, что значит чувство омерзения.
Мать брела по грязному снегу, и все на свете внушало ей глубочайшее омерзение.
— Хочешь есть? — спросила она.
— Нет, нет, я потерплю до бабушки.
Мы вышли за городскую заставу. Все было занесено снегом, но мы хорошо знали дорогу.
Двух лет не прошло с тех пор, как мать почти каждый вечер ходила этой дорогой к бабушке, чтобы ткать у нее половики. Эти половики лежат сейчас в домике на равнине. Ольга теперь так одинока. Мать дала ей ключ от нашей комнаты, чтобы она каждый день немного протапливала там. В благодарность за хлопоты Ольга берет себе молоко, которое причиталось матери.
Дорогу, видно, только что расчистили: снег был утрамбован, стало легче идти.
— Через час доберемся, — сказала мать, ускоряя шаг.
Я не отставала от нее. Ходила я хорошо.
— Мне бы надо надеть еще пару чулок, а то ботинки спадают, они велики и натрут мне пузыри на ногах, — проговорила вскоре мать, замедлив шаги.
У меня было как раз наоборот. Ботинки были мне малы и жали. Я бы охотно сняла свои единственные чулки.
Вдруг где-то позади раздался звон колокольчиков, и, обернувшись, мы увидели пару лошадей, запряженных в телегу. Они мчались во весь опор. Мы посторонились, давая им дорогу. Но, поравнявшись с нами, телега остановилась.
— Что за черт, да это Гедвиг! — послышался пьяный голос.
Это был один из возчиков, живших у тетки.
— Вы не в Вильберген, случаем? Я вчера видел Альберта, вы как раз поспеете к поминкам. Садитесь, подвезу.
На телегу были навалены мешки с отрубями, которые надо было свезти в лавку далеко за Викбуландом.
Возчик услужливо помог нам взобраться на мягкие мешки. Он был навеселе и пытался обнять мать. Она отбивалась, но так, чтобы не рассердить его: он ведь избавил нас от необходимости идти пешком.
— Ну, ну, Франц, сиди смирно.
— Смирно! Вот еще! Чем я хуже Альберта? Ты, верно, не знаешь, что он уже завел себе новую? Плюнь на него, Гедвиг! Альберт настоящий мерзавец.
Ну вот, опять начинается!
— Ладно, ладно, все вы одним миром мазаны. Хватит болтать, поехали. Вези нас в Вильберген, в лавку ты все равно поспеешь, а нам пришлось долго тащиться пешком.
— А что я за это получу?
— У свекрови есть коньяк, — сказала мать.
Лошади рванулись, звеня колокольчиками, точно пожарная карета. Мы и оглянуться не успели, как подъехали к домику бабушки. Домик стоял, как он стоял здесь спокон века: по обе стороны от него тянулись холмы, в саду рос сиреневый куст, только теперь сад был занесен снегом, а чуть подальше был большой хлев.
Последние двадцать лет своей жизни старик проработал на скотном дворе, принадлежавшем «городскому барину», как он называл своего хозяина.
Многие считали, что последний муж бабушки был немного туповат. Он с трудом разбирал буквы, совсем не умел писать, был несловоохотлив. Люди уверяли, что бабушка пользовалась его простодушием, что он был у нее «под башмаком» и она его плохо кормила.
Но я никогда не слышала, чтобы старики обменялись хоть одним грубым словом. Правда, в последние годы, когда муж собирался на работу, бабушка не вставала по утрам, чтобы приготовить ему еду. Но ревматизм превратил ее в калеку, и для нее было сущим мучением вылезать чуть свет из кровати. У стариков не было железной печки. Бабушка не хотела заводить такую печку, потому что котелки, сохранившиеся у нее со времени первого брака, были приспособлены для плиты. Зимой, по утрам, задав корм скотине, старик сам разводил в плите яркий огонь. Раньше бабушка тоже выходила вместе с ним доить коров, но, когда ей стукнуло семьдесят, она бросила работу по хозяйству. Ей было трудно сгибать колени, садясь на низкую скамеечку, а если она и садилась, у нее не было сил встать. Вместо этого она принялась ткать, потому что скамья у ткацкого станка была высокой и удобной. Соседки часто говорили про бабушку всякие гадости, завидуя, что у нее такой покладистый муж. Три года подряд бабушка по два месяца лечилась водами в Сёдерчёпинге от своего недуга.
— Старику приходится самому вести хозяйство, — судачили соседки.
— Ничего у нее особенного нет. Старику отдых нужнее, чем ей.
Бабушка сама считала, что в теплую летнюю погоду лежать и наливаться водой можно с таким же успехом у себя дома. Вот зимой действительно хорошо бы поехать куда-нибудь, где тепло.
— И все-таки тебе стало легче, Софи. Тебе полезно немножко проветриться, — говорил добродушный скотник.
И вот он умер. Кто-то будет теперь топить печь по утрам? Кто будет помогать старухе застегивать юбку и шнуровать ботинки? Скрюченные пальцы плохо ее слушаются. Как она будет теперь жить? Мать все говорила об этом, пока мы мчались по снегу. Кучер то и дело поворачивался к нам и заигрывал с матерью.
Мы остановились прямо перед кустом сирени. Во дворе стояла лохань с бельем, а рядом — огромный котел, над которым клубился пар.
— Кто-то стирает для бабушки, — сказала мать. — Ну, езжай себе, нечего даром терять время, вот тебе двадцать пять эре за то, что подвез, — обратилась она к возчику.
— Пожалуй, я зайду поздороваюсь со старухой, может предложит закусить, — ответил он.
Матери это, как видно, не понравилось, но она постучала в дверь и вошла.
За столом, засучив рукава, пила кофе большая, ширококостная Метельщица Мина. Полупьяный, краснолицый отчим уселся напротив нее и зубоскалил. У печи сидела бабушка, лицо у нее было грустное. Я заметила, как рассердилась мать. Впрочем, она начала сердиться еще из-за ботинок, и потом, когда возчик заговорил об отчиме.
— Здравствуйте, — сказала она резко. Бабушка молча смотрела на нее, отчим разинул рот от изумления, одна только Метельщица Мина ответила на ее приветствие.
— Я вижу, здесь уже есть одна невестка, — все тем же тоном продолжала мать.
Тут в комнату ввалился кучер и, завидев отчима, тоже остановился в смущении.
— О, черт, и ты здесь! Я же видел тебя вчера утром в городе.
Бабушка побледнела. Она сделала движение, намереваясь встать.
— Сидите, бабушка, все идет как полагается, — сказала мать с горечью и подошла прямо к отчиму.
На нем был шелковый галстук в красную и желтую клетку, который я никогда прежде не видела. Он повязал его так, как это делают матросы, свободно распустив концы на груди.
Мать схватила его за галстук и сильно дернула. Она, вероятно, хотела сорвать галстук, но он был завязан свободным узлом, и отчим стал задыхаться. Он схватил мать за руки, но она продолжала тянуть. В конце концов галстук порвался, и мать бросила оторванный конец в лицо отчиму.
— Негодяй! — крикнула она, ударив его наотмашь.
Он не пошевельнулся, не дал ей сдачи, только сидел и таращил на ее глаза.
— Гедвиг, — произнесла бабушка и заплакала.
— Ну что? — спросила мать. — Остаться мне или уехать?
— Черт тебя побери, Альберт, — сказал кучер, — теперь ты не отвертишься.
Метельщица Мина вышла на улицу и занялась бельем. На дворе было не меньше десяти градусов мороза, но Мина была не из тех, кто привык стирать под крышей.
Отчим встал и попытался выскользнуть из комнаты, но мать схватила его за плечи и силой усадила на стул.
— Сиди, пока я не поговорю с бабушкой. А впрочем, может вы уже похоронили старика? — грубо спросила она.
Бабушка заплакала. Как мне было ее жалко! По-моему, возчик разделял мои чувства, потому что он стал бранить мать.
Метельщица Мина тоже начала злиться. У этой высокой, плотной женщины с сединой в волосах было удивительно гладкое, свежее лицо. Она и всегда-то слегка заикалась, а тут, выйдя из себя, стала заикаться больше обычного.
— Ш-ш-то это ты хочешь сказать? К-к-ак ты сме-е-ешь звать меня н-н-невесткой? У т-т-тебя самой растет ублюдок, и небось с Францем ты тоже не зря к-к-ка-таешься…
— Ах, вот оно что! — Обозленный отчим вскочил со стула. — Уж не потому ли ты так развоевалась? — крикнул он, наступая на мать.
— Заткнись, трещотка! — заорал возчик на Мину. — И ты не дури, Альберт! Ступай в город к своей полюбовнице.
И двое пьяных мужчин полезли в драку.
Мать и Мина старались их разнять. При этом обе они колотили их от души. Счастье, что в доме не было соседей. Я прижалась к бабушке, и мы обе молча глядели на эту безобразную сцену. Мать была права: мирному житью пришел конец.
Мине удалось выставить возчика, а мать дотащила отчима до ближайшего стула.
— Сиди смирно, иначе я не знаю, что сделаю! — кричала она.
— Сиди, Альберт, — сказала бабушка. — У тебя нет ни стыда, ни совести. В сарае лежит тело твоего отца!.. Он должен был поехать к вам еще вчера, — повернулась она к матери. — А сегодня пришел и сказал, что растратил деньги, взятые на дорогу. Говорит, что послал тебе ботинки, которые я дала. Но ты, верно, приехала не дождавшись их, потому что он говорит, будто послал их вчера поздно вечером и будто звонил хозяину.
— Ботинки на мне. Я купила их у Процентщика Калле за пять крон, — сказала мать, вытянув ногу.
Голова отчима свалилась на грудь, подбородок отвис, он исподлобья таращил на мать испуганные округлившиеся глаза. Порванный галстук валялся на полу.
У бабушки порозовели щеки. На лице у нее появилось такое странное, неожиданное выражение, точно она хотела засмеяться, — ее впалый рот подергивался и вздрагивал, ноздри прямого тонкого носа затрепетали. И вдруг она засмеялась, тихо, едва слышно.
— Ах, Гедвиг, Гедвиг, — промолвила она, качая головой.
По лицу матери было видно, что она тоже готова улыбнуться. Уж очень глупый вид был у отчима. Он все смотрел, не мигая, на грубые ботинки матери, с таким ужасом, точно это были кровожадные черные тигры.
С улицы доносился голос возчика, продолжавшего препираться с Миной. Лошади время от времени позвякивали колокольчиками, потом голоса стали удаляться, но телега по-прежнему стояла у крыльца.
Вдруг отчим сел на корточки и, подняв с полу шелковый галстук, стал рвать его на куски.
— Чертова тряпка! — крикнул он и стиснул челюсти так, что на щеках вздулись желваки. Он продолжал рвать галстук на мелкие клочья. Мы молча следили за ним. Но он даже не взглянул на нас, продолжая терзать несчастный галстук. Потом вдруг поднялся и вышел не простившись. Никто его не окликнул.
— Мина, конечно, пошла с пьяным Францем, — сказала бабушка.
— Ну, детей они не наживут, чего им бояться, — заметила мать. — Только вот котел простынет. Я сама займусь стиркой, бабушка, но сначала дайте нам перекусить, мы ничего не ели с утра.
На столе лежала жареная селедка, картошка, молоко и масло. Все было очень вкусным. Мы ели молча. Бабушка ни о чем не спрашивала и только время от времени тихонько посмеивалась.
Вдруг под окном зазвенели колокольчики, и, выглянув на улицу, мы увидели, что отчим уселся рядом с Францем и повозка выезжает на улицу.
Оба мужчины хохотали во всю глотку. Мина, как ни в чем не бывало, усердно стирала белье, пена облепила ее руки до самого локтя. Мать и бабушка переглянулись с горькой усмешкой.
А в сарае ждало погребения тело старого батрака.
Только я одна, видно, и помнила о нем. Нет, и бабушка тоже. Бабушка тоже помнила о нем.
«В сарае лежит тело твоего отца», — эти слова вновь и вновь звучали у меня в ушах, пока я осторожно заедала большими картофелинами маленькие кусочки селедки.
— Это ты хорошо придумала, Гедвиг, — услышала я голос бабушки. — Теперь ты поймала его с поличным. Подумать только, как он мне врал про эти ботинки.
«В сарае лежит тело твоего отца… В сарае лежит тело твоего отца».
— Альберт ночевал дома эти дни? — Я услышала, как дрожит голос матери.
— Нет, — тихо отозвалась бабушка.
Они замолчали. Вот опять. Вечно она такая. Всегда выходит из себя, когда не знает, где ночует отчим, будто это имеет какое-нибудь значение.
«В сарае лежит тело твоего отца…»
Я присела, поблагодарив бабушку за еду. В ушах у меня непрерывно звенело: «В сарае лежит…»
Вдруг мне стало дурно, у меня началась рвота.
— Она не привыкла ездить в поезде, — сказала мать.
20
Беспокойный день близится к вечеру.
Притихшая и испуганная, я сижу в углу у печи, прижавшись к бабушке. Я так устала, так устала от всех этих неурядиц, и так напугана! В полдень я ходила с бабушкой в сарай и видела старика. Гроб еще не привезли. Тело, накрытое простыней, лежало на крышке от дивана. Это было жуткое зрелище. В старом сарае, расположенном по соседству с хлевом, стоял смрадный запах навоза. Тело покойника четко обрисовывалось под простыней. Тело маленького старика. При жизни старик был сутулым. А теперь он лежал вытянувшись, прямой, как струна. Можно было угадать каждую косточку, а там, где был нос, простыня зловеще приподнялась.
— Он совсем не изменился, — сказала бабушка, откинув край простыни с лица покойника.
Нет, нет, он страшно изменился. Здесь лежал совсем другой старик, не тот, которого я хорошо знала, который иногда дарил мне несколько эре. Здесь лежал никто. Здесь лежало нечто такое, чего я никогда не видела, чего никогда себе не представляла, — посиневшее лицо, клочья пегой бороды, мертвенная кожа, кости, обрисовывавшиеся под простыней. Меня бил озноб. Я увидела в этом какое-то жуткое предзнаменование.
Так оно и случилось. Двадцать лет спустя мне пришлось увидеть подобное ложе смерти, и тогда я едва не лишилась рассудка. Груда досок, и на них два неподвижных тела. Такое же неожиданное, потрясающее зрелище, как за двадцать лет до этого, когда бабушка откинула край простыни с мертвого лица.
Два юных личика, лица детей, которые всего лишь за час до этого глядели на меня, говорили со мной… Да, говорили. Но тогда, двадцать лет спустя, я уже знала, что такое смерть.
А тут я стояла подле бабушки, которая спокойно гладила страшное, окоченевшее лицо, и страх и отвращение пронизали меня до мозга костей. Как могла она дотрагиваться до этого? Зачем это спрятали здесь? Зачем говорили мне, будто это тот самый старик, который на моих глазах кормил сеном коров и разводил в плите огонь по утрам?
Только противный запах навоза, который всегда сопутствовал деду, напоминал о прежнем старике.
— Ему трудно приходилось при жизни, но теперь, я думаю, он счастлив, — сказала бабушка.
Она не упомянула о боге, не заплакала, не сказала, что старик попал на небо. А ведь я слышала, что мертвые попадают на небо.
Но это не могло попасть на небо.
От навозной кучи шел смрадный запах. Новый скотник, громыхая тачкой, подошел к двери сарая и смущенно посмотрел на нас. В сарае стало темно: он заслонил дверь. Тень упала на мертвеца, и его лицо стало еще страшнее; глазные впадины чернели, точно две глубокие ямы, хотя веки старика были закрыты.
— Не пришлось даже класть монеты на веки, — сказала бабушка таким тоном, точно это была заслуга умершего.
— Теперь он отдохнет, — сказал новый скотник и, сняв потертую шапку, вошел в сарай.
В синей полосатой рубахе и грязных штанах, он стоял рядом с бабушкой, глядя на покойника, потом сложил руки и склонил голову. Бабушка повторила его движение. Ни один из них не шевелил губами. Было тихо-тихо, все молчало, как молчал лежавший на досках покойник, только коровы в хлеву позвякивали цепочками.
И то, что новый скотник, которого я уже видела днем, когда он жевал табак и бранился, застыл в этой странной позе, с шапкой в руке, напугало меня еще больше. Бабушка, видно, не собиралась прикрывать мертвеца, а мне казалось, что, пока она не накроет ему лицо, мне нельзя двинуться с места.
Минувший день был полон тягостных переживаний, и это зрелище оказалось последней каплей. Слишком много впечатлений зараз. Я покачнулась, зашаталась, сделала попытку удержаться на ногах, но не смогла, рухнула на землю рядом с покойником, увлекая за собой простыню, и дико закричала от ужаса.
— Она не привыкла к железной дороге, — объяснила бабушка скотнику, который поднял меня, вынес на улицу и стал растирать снегом виски. Я корчилась в приступах рвоты. Он снова поднял меня и отнес в дом.
— Мы ходили смотреть на деда, — сказала бабушка.
— К чему это? — упрекнула ее мать. Она сняла с меня клетчатое платье, укутала шалью и велела уснуть.
Мне и поныне иногда вспоминается эта первая встреча со смертью.
Я выспалась, и снова сижу в углу у печки, терзаясь страхом. Сколько зла творится вокруг. Какой злой вид у окружающих. Да, они и на самом деле злые. Мать бродит по комнате, страдающая, недовольная, полная страха. Бабушка нервничает. За весь день никто не обмолвился добрым словом, каждый занят своими мыслями. Ходят раздраженные, сердитые.
А теперь мать и Мина пьют кофе, сидя за столом. Бабушка, как обычно, поместилась со своей чашкой у печи. Она всегда мерзнет.
Разговор каждую минуту грозит превратиться в ссору. Мать торопит Мину. Стирка окончена, и мать хочет, чтобы Мина поскорее отправлялась домой и больше сюда не приходила. Мать может сама справиться со всем, что еще осталось приготовить к погребению. По крайней мере она пытается убедить в этом Мину.
Мина возражает. Бабушка просила, чтобы Мина помогла ей после похорон, когда Гедвиг уедет в деревню.
Наступает короткое молчание.
— Скажи-ка, — нарушает его мать, — правда, что Альберт — отец твоей младшей дочери?
— Альберт? Какой Альберт? Ах, Стенман? Вот оно что! Вон что тебе хочется знать! Я сама бы рада знать, да разве узнаешь, — хихикая, отвечает глупая Мина.
Я вижу, как потемнели от ненависти глаза матери.
Но никто не произнес ни слова. За то время, что мы оставались у бабушки, Мина больше ни разу не появлялась у нее в доме.
21
День похорон вспоминается мне смутно.
Помню только, что все страшно спешили и что был трескучий мороз. Мать не сумела достать мне пальто, и поэтому на кладбище меня не взяли.
Помню, мы еще не успели поставить на огонь картошку, как уже появились первые гости. Матери пришлось варить картошку в мундире, а потом наспех очищать ее, полусырую, и снова доваривать, чтобы гости думали, будто она с самого начала варилась без кожуры. Отваренные картофелины чистились быстрее, кожура отделялась гораздо легче.
Мы с матерью вышли за угол и на десятиградусном морозе очищали недоваренную дымящуюся картошку, а гости толпились в тесной комнате и ждали угощения, чтобы после этого разойтись по домам.
Капелла ударного батальона тоже явилась на похороны, и бабушка шепнула матери, что придется угостить и этих, хотя их вовсе не приглашали. Бабушка была очень недовольна, что они пришли. Она теперь стала неверующей.
Я была одета в новое черно-зеленое муаровое платье. Оно натерло мне шею. Матери пришлось подшить воротник кусочком мягкой материи. Она взяла чистый, выглаженный носовой платок и отрезала от него полоску. Меня это так напугало, что я пожалела о своих жалобах. Мать начинала внушать мне страх: резать покупные вещи!.. Все взрослые внушали мне страх. Они совершали такие поступки, что их просто нельзя было узнать. И потом — они ничуть не горевали об умершем. Мне казалось, что никто из них не горевал о старике.
Бабушка жаловалась на холод и суету. Она сердилась, что ударный батальон явился с гитарами и цитрами, и с негодованием сплевывала через левое плечо, вспоминая о «хозяине», который даже венка не соизволил прислать, хотя старик прослужил у него скотником больше двадцати лет.
— Мог бы дать денег на похороны, — возмущалась бабушка.
Все говорили о похоронах, но никто не говорил о покойнике. Его смерть никого не удивляла. Он был старый, измученный человек, как ему было не умереть. Беседа шла своим чередом, гости явились сюда не для того, чтобы отдать последний долг, а чтобы выполнить неприятную обязанность. Приличие требовало их присутствия на похоронах старика. По всему было видно, что это для них обуза.
— Альберту повезло: из-за похорон отлынивает от работы, — сказала мать утром в день погребения.
Отчим почти не показывался дома, но на похороны все-таки пришел. Вид у него был торжественный. Скорбящий сын, который провожает отца в последний путь. Один из «образованных» тоже пришел на похороны.
— Пожалуй, стоит напомнить ему о деньгах, что он мне задолжал за стирку, — решила мать.
Я-то не забыла, как мать мучилась и выбивалась из сил в поисках воды для стирки.
— Сегодня неудобно, — сказала бабушка.
«Образованный» гость был облачен в длинный черный фрак с фалдами и пуговицами на спине. Он выглядел представительней всех. На голове у него красовался цилиндр, которого не было ни у кого из гостей. Бабушке очень нравился такой благородный костюм. Она призналась в этом матери.
— По-моему, с цилиндром получается особенно торжественно, правда?
Мать только усмехнулась в ответ. Бабушка становилась непохожей на себя.
На отчиме был костюм из камвольной шерсти, такой грубой, что ее можно было принять за домотканую. Костюм ему купила бабушка.
Мать не поехала на кладбище. Бабушка, члены батальона и «образованный» гость отправились туда в шарабане.
Одна из сестер по батальону упрекнула бабушку, что та спорола со своей шапки ленту с надписью «Спаситель грядет».
— Ты стыдишься веры своей? — спросила она при всех, когда гости садились в экипаж. Путь был санный, но они ехали в коляске, потому что сани достать не удалось.
Бабушка промолчала, но вид у нее был такой, точно она сейчас сплюнет через левое плечо.
Впереди ехал катафалк. На гробе лежало несколько венков. Цветы померзли. На козлах рядом с кучером сидел отчим. В шарабане, следовавшем за катафалком, поместилась бабушка, члены батальона и «образованный» гость. За ними ехала повозка, в которой сидело четверо мужчин. Они должны были нести гроб.
Мы с матерью стояли на лестнице еще долго после того, как все три экипажа скрылись из виду.
Мы остались дома одни. Надо было привести в порядок комнату, пока никто не вернулся. Вернуться должны только бабушка и отчим.
— Пойдем хоть поедим досыта, — сказала мать.
В комнате творилось что-то неописуемое. Грязная посуда, мусор, затоптанные половики, слякоть от нанесенного с улицы снега. Большая плита заставлена котелками с остатками соуса, мяса, бобов, рыбы.
Скатерть, лучшая бабушкина скатерть из чистого льна, вся в пятнах от селедки и свеклы. Большинство тарелок вылизано дочиста.
Мать помешала угли в большой плите, разогрела на них котелки, освободила угол стола, и вот мы с ней вдвоем сидим и справляем поминки.
— Пусто как-то без старика, — пробормотала мать, словно обращаясь к себе самой.
— Значит, он больше не вернется?
Мать посмотрела на меня долгим взглядом.
— Неужели ты так глупа, Миа? А еще столько читаешь. Разве ты не знаешь, что значит — умереть? Смерть — это конец; тот, кто умер, никогда не вернется.
— А куда же он уходит? — упорствовала я, отправляя в рот большой биток и тушеные бобы, которые мать положила мне на тарелку.
— Если б знать, — вздохнула она, намазывая хлеб маслом. Ответ прозвучал так, словно она хотела сказать, что, знай она это точно, она сама согласилась бы умереть.
Вот как! Оказывается, неизвестно, куда они уходят! Мать продолжала молча есть. Я тоже. Но я вскоре насытилась. Неужели взрослые ничего не знают? Как это может быть? Ведь люди после смерти попадают на небо. Я покосилась на мать, не уверенная, можно ли отважиться на такой вопрос.
Она жевала бутерброд, глядя прямо перед собой. Как она изменилась за эти дни! Она была совсем другой, когда мы приехали на Восточный вокзал и она угощала меня кофе.
— Но ведь люди после смерти возносятся на небо? — тихо и неуверенно спросила я.
— На небо? О нет, Миа, на небо они не возносятся. Они никуда не возносятся. Как после смерти, так и при жизни. Люди остаются там, где они были, и остаются тем, чем они были, на веки вечные.
Я видела, что мать взволнованна, и не посмела больше расспрашивать.
Люди, которым мы привыкли верить: учительницы, педагоги воскресной школы, — рассказывали, будто после смерти человек попадает на небо. Но я не решалась спорить с матерью. У меня не было никаких доказательств, что умершие попадают туда. Я не могла бы описать, каким образом происходит это путешествие, и поэтому была склонна поверить матери и считать, что никто на небо не возносится. После смерти люди лежат в сарае, где пахнет навозом.
— А когда мы поедем домой, мама?
— Я обещала хозяину привезти «его», но похоже, что мне это не скоро удастся, — ответила мать.
Вдруг она встала и вышла из комнаты. Я услыхала, что ее вырвало.
Она, очевидно, сразу заметила мое испуганное лицо, потому что сказала успокаивающим тоном:
— Я, верно, простыла, ничего страшного нет.
Но у меня были свои опасения. Я вдруг с ужасом поняла, что теперь стройная, ласковая мать опять исчезнет и ее место займет тупое, слезливое, болезненное существо, которое я так не любила. Это повторялось все время с тех пор, как мать вышла замуж.
Я начала убирать со стола и мыть посуду, поторапливая мать, которая мне покорно подчинялась. Она двигалась точно во сне. Что-то неотвязно терзало ее душу. Страх, горечь, ненависть.
Я так усердно вытирала посуду, что на лбу у меня выступила испарина. Потом я вынесла грязную воду, подмела мусор и вообще старалась помочь матери, чем могла.
— Тебе надо отдохнуть, пока они не вернулись, — сказала я.
— Ты добрая девочка, Миа. Иди ко мне!
Она посадила меня к себе на колени, я крепко обвила руками ее шею, мы обе заплакали и потеряли счет времени.
А на холодном кладбище хоронили старика, которому пришло время умереть и о котором никто не жалел.
Ведь мать плакала не о покойнике. Она плакала от страха перед жизнью. А я? Я плакала, потому что плакала мать.
Так мы сидели долго-долго, и я шепнула:
— Поедем домой, мама, поедем без «него».
— Да, придется, — ответила она. — Он, верно, уже устроился без нас.
Наплакавшись всласть, мать умылась, заплела свои косы, причесала меня, затем повесила кофейник на железный крюк, прибитый над плитой. А потом мы долго сидели молча, глядя на тлеющую золу и полуобгорелые головешки, пока бабушка не вернулась с кладбища. Она вернулась одна. Отчима с ней не было. Но мать уже одолела свою слабость и бодро сказала бабушке, что это даже к лучшему.
Размотав свои многочисленные платки и накидки, бабушка уселась на диван.
— Ну и неделя, Гедвиг, ну и неделя! — воскликнула она. — Хоть бы умереть поскорей! Я надеялась, что уж в третий-то раз мне не суждено остаться вдовой! И подумать только, какого негодяя я вырастила! Он даже не дал себе труда проводить меня с кладбища. А я-то растила его с тех пор, как ему исполнился месяц.
Бабушка расплакалась. После смерти мужа она в первый раз плакала по-настоящему.
— Пойми, Гедвиг, — всхлипывала бабушка, и ее старческие руки дрожали, — если бы я не вступила в этот батальон, он не умер бы так рано. Мне приходилось часто отлучаться, и он должен был сам заботиться о себе. Никогда не прощу себе, что меня не было дома, когда он умер. Подумать только, я отправилась обращать вас на путь истинный, как будто богу нужны такие, как Альберт. Ах, если бы на небе был бог, он бы устроил так, чтобы бедные старики, вроде нас, умирали в одно время.
Мать утешала ее как могла, а я гладила узловатые руки старухи, сжимая их в своих руках, чтобы они не дрожали так сильно.
Это был тихий незабываемый вечер. Бабушка была такой кроткой, неожиданно помолодевшей и немного отчужденной. Мать тоже была доброй и ласковой и даже сказала, что если бы Альберт вернулся домой, она все бы ему простила. Очевидно, ее смягчил суровый приговор бабушки, которая сказала, что, по ее мнению, отчим даже богу был ни к чему.
Вечер был холодный, звездный, снег блестел, на улице царила тишина. Казалось, буря, пронесшаяся над домиком, сменилась вечным покоем. Ближе к полуночи мать разговорилась с бабушкой о моем настоящем отце. Я слушала затаив дыхание. А потом бабушка рассказала об одном хорошем человеке, которого она встретила в молодости, но за которого не могла выйти замуж.
— А теперь я осталась одна-одинешенька на старости лет.
— Дедушка теперь у бога, и ты, бабушка, тоже пойдешь к богу, когда умрешь, — решительно сказала я.
— Благослови тебя господь, дитя, — ласково прошептала бабушка. Когда рядом не было сестер по батальону, она не была безбожницей и не хотела кощунствовать.
Поняв ее настроение, мать достала псалтырь, протянула его мне и показала, что читать. Я прочла псалом «Старец в вечность отошел».
— Вот теперь только и свершились настоящие похороны, — сказала бабушка, когда я кончила читать.
Долгая зимняя ночь неслышно скользила за окном, огоньки в очаге погасли. Отчим так и не пришел, и в конце концов мы улеглись и уснули.
Все-таки в нашем доме пролились слезы о покойном.
22
Февральское солнце освещало потускневшие цветы, наведенные синькой на печной стенке. Мать чуть не стерла их пыльной тряпкой. Уезжая, она хотела навести в комнате хоть какой-нибудь порядок. Пол Ольга обещала вымыть потом. Все наши вещи были свалены в кучу посреди комнаты. Рядом с ними, морща монгольское лицо, покручивая концы длинных усов и старательно прилаживая к верхней десне щепоть жевательного табаку, стоял мой дядя — домовладелец Янсон. Летний загар еще держался на его острых скулах, злые глазки то и дело вспыхивали — дядя прислушивался к разговору. Хозяин хутора разговаривал с матерью.
Во дворе, запряженные в сани, стояли дядины лошади, тощие, злые, с торчащими ребрами. Даже жуя сечку, подвешенную в торбе к их мордам, они не поднимали ушей. Увидев этих кляч, Элин из Кольмордена не стала бы плакать от зависти. Зато дядя был теперь самостоятельным хозяином.
Да, нелегко выбиться в люди. Дяде надоело работать на других, получать жалкие гроши и иной раз по целым суткам не слезать с козел. Дальние поездки с товаром, бессонные ночи, скверная пища, захудалые лошади, которые держались на ногах только благодаря оглоблям. Хозяин дяди был человек образованный, с дипломом. Уж если ему не совестно держать плохих лошадей, отчего рабочему человеку, который довольно навидался богатых, чтобы знать, каким путем они добывают деньги, — отчего бы ему тоже не купить у цыган пару старых кляч и добрый кнут и не трудиться на самого себя? Нашлась свободная усадьба. Ее никто не хотел покупать. Про нее ходила дурная молва: говорили, что там случались убийства и самоубийства и что там был воровской притон. Никто не хотел в ней жить. Дом разрушился. Когда наступала пора боронить и засевать худосочную пашню, владелец усадьбы иногда наезжал в Хагбю со своими работниками. А если он сюда не заглядывал, все зарастало сорняком. Эту усадьбу дядя и взял в аренду. Плата за аренду была невелика: пятьдесят рабочих дней.
— Черт возьми, у меня скоро дети подрастут, — говорил дядя.
Старшему из моих двоюродных братьев исполнилось десять лет. Семилетним мальчишкой он уже возил товар вместе с отцом. Колеся по Викбуланду и Кольмордену, он каждую ночь засыпал прямо на ящиках, а измученные, забитые, тощие лошади несли его в Линчёпинг, в Сёдерчёпинг, в Финспонг или Реймире на большие ежегодные ярмарки. Дядя и жена норчёпингского торговца сукном, сидя на облучке, вели непонятные мальчику разговоры. Ярмарки обычно происходили осенью, когда наемные работники получали расчет.
Иной раз рядом с дядей восседал сам торговец или его помощник, с неизменной бутылкой в руке. Почти все торговцы Норчёпинга посылали товары на дальние ярмарки.
Дядя водки не пил. За это его и ценили торговцы, отправлявшие товары на ярмарку. Впрочем, дядя и не нуждался в водке. Что-то другое кипело в нем и подхлестывало его сильнее, чем это могла бы сделать водка. Какая-то лихорадочная сила гнала его вперед. Он бил людей и лошадей, если они мешали ему на пути.
Однажды он пнул ногой пьяного кучера, крикнув ему: «Не будешь торчать на дороге, болван!» В другой раз, по пути между Норчёпингом и Сёдерчёпингом, он сбросил с козел жену богатого торговца платьем: она слишком много выпила. «Пройдись-ка лучше остаток пути, по крайней мере протрезвишься до дома, ослица», — заявил дядя, хотя незадолго до этого пересмеивался и заигрывал с ней. Ей пришлось идти пешком двадцать километров. Разумеется, она протрезвилась, пока добралась до дома. Ее встретили дети и служанка. Муж в это время ездил с другим возчиком на другую ярмарку.
Дядя пользовался дурной славой, потому что ни с того ни с сего лез в драку и жестоко обращался с животными.
— Впрочем, дело не в том, главное — поспеть вовремя, — говорили торговцы и наперебой старались заполучить дядю в возницы.
— Нрав у него подлый, нападает без предупреждения, не угадаешь, когда ему вожжа под хвост попадет, — так говорили о дяде.
Но, несмотря на такой нрав, несмотря на то, что нельзя было заранее знать, какое слово его заденет, в работе на него можно было положиться.
И вот он стоит в нашем домике на равнине и, теребя кончики усов, прислушивается к разговору. Меня беседа матери с хозяином не занимает. Я совершенно поглощена наблюдением за дядиным лицом. На этом лице все отражается так живо, так занятно, что я не могу отвести от него взгляда и не обращаю внимания на остальных.
— А десять крон? Подарил я их вам, что ли? — спрашивает хозяин.
— Берите что угодно из нашего барахла, — устало отвечает мать.
В глазах дяди вспыхивает огонек.
— А продукты, которые я дал в счет жалованья, мука, овощи?
— Мешки с продуктами в сенях, я не собираюсь их украсть.
— Там осталось меньше половины.
— Что ж я могу поделать? У меня нет денег. А надрываться на мужской работе я тоже не могу. Да вы и сами меня не возьмете. Делайте, что хотите, я ничем не могу помочь.
— Если бы ты постаралась как следует, Стенман вернулся бы домой, — упорствовал хозяин.
— Поезжайте сами и уговорите его, если можете. Я вам дам адрес.
— Черт возьми! Гедвиг, что ли, к тебе нанималась? Слыхал, нет у нее денег. — Дядя сделал несколько шагов вперед.
— Замолчи, Янне, это не твое дело. У нас было хорошее место, и хозяин всегда поступал с нами по совести.
«Хозяин» просиял и собирался сказать что-то примирительное, — я это сразу почувствовала, — но дядя все испортил.
— Ты просто дура, Гедвиг. Кой черт ты теряешь время на болтовню? Собираешься ты ехать или нет? Катись-ка отсюда, парень, или помоги нам снести вещи.
— Тебя-то я хорошо знаю! — сказал разозленный крестьянин.
— Вот как? А ты не врешь? Если бы ты меня знал, ты давно убрался бы отсюда подобру-поздорову.
— У твоих лошадей хребты переломаны. Тебя за одно это могут засудить. Я вот пойду к ленсману насчет Стенмана, кстати скажу ему и про тебя. Проклятые бродяги, вот вы кто! Я вам покажу, как надувать честных людей! — Хозяин неустрашимо стоял на месте, ругая бродяг и мошенников.
Дядя молчал, ожесточенно дергая усы.
— Янне, — угрожающе сказала мать, — Янне! Не вздумай давать волю рукам. Хозяин прав, он все время поступал со мной по совести. А теперь уходите, прошу вас, пока он не начал скандалить, — быстро добавила она, обращаясь к хозяину.
Я и в самом деле заметила, как в длинном худом лице дяди что-то задрожало. Сухие длинные пальцы все ожесточенней дергали концы усов, а сам он придвинулся ближе к хозяину.
— Янне, подумай о том, что ты делаешь! Я стукну тебя по башке, если ты станешь безобразничать, — с угрозой сказала мать. — Уйдите, Христа ради, — обратилась она к крестьянину. — Уйдите же. Разве вы не понимаете, что это просто глупо. Идите к ленсману, делайте что хотите, только уйдите отсюда!
Но тут дядя, оставив наконец в покое свои усы, пошел к двери, отворил ее, и мы вздохнули было с облегчением. Хозяин не без гордости взглянул на мать, очевидно собираясь сесть — и продолжать разговор. Он стоял около моего дивана.
Но тут дядя вернулся, схватил хозяина в охапку, вынес его во двор и поставил на снег рядом с лошадьми.
— Попробуй сказать, что я тебя бил. Можешь теперь ругаться сколько влезет, у тебя время есть, тебе торопиться некуда.
Мать совершенно растерялась, я тоже. Дядя начал выносить вещи. Ольга не показывалась.
Постояв несколько минут на дворе, хозяин стал снова подниматься по лестнице. Услышав его шаги в сенях, мать отворила дверь, но он остановился у двери Ольги, собираясь войти к ней.
— Отложили бы до другого раза. Скоро обед, Карлберг вернется и из-за вас поколотит Ольгу, — сердито сказала мать.
— Ха, ха, ха, каков гусь! Черт возьми, Гедвиг, уж не думаешь ли ты, что его самого нельзя отколотить только потому, что он дал тебе десять крон? — Дядя кричал так громко, что Ольга наверняка слышала каждое слово.
— Я не знаю, каков он гусь, но знаю, что Ольгин муж — ревнивый дурак, а хозяину это известно, и он должен бы быть поосторожнее, — сказала мать.
Хозяин вышел, не ответив ни слова.
Вернувшись к обеду, Карлберг помог грузить самые тяжелые вещи. Дядя на каждом шагу сыпал проклятиями, и при этом такими забористыми, что Карлберг хохотал во все горло. Мать и Ольга тоже не могли удержаться от смеха. Я не понимала всех замысловатых оборотов дядиной речи, но тоже смеялась. У нас в доме уже давно никто не смеялся. Но смех этот, казалось, вот-вот превратится в слезы.
Когда нам с матерью пришлось перебраться в «паточный» домик, я еще не сознавала, что в нашей жизни наступает полоса унижения, но теперь мне все было ясно. Будущее рисовалось мне в пелене грязи, голода, ссор, насекомых, болезней, и сквозь эту пелену я отчетливо видела пьяного отчима, оскорбляющего мать.
Мы собирались переселиться в «поместье» — в пользующееся худой славой Хагбю. Вместо платы мать будет помогать дядиной семье по хозяйству.
Теперь мы никогда не сможем посидеть вдвоем. Мои двоюродные братья и тетка станут поминутно заглядывать в нашу комнату, а я буду прикована к детской люльке.
— У нас в прачечной живет несколько босяков, я их там и оставил. Прачечная едва ли не лучше, чем сама наша лачуга, — заявил дядя.
— Ты с ума сошел! — сказала мать. — Неужто ты хочешь, чтобы дети жили рядом с этим сбродом?
— Босяки уже привыкли к месту, и потом они часто помогают на поле, а денег за это не просят. А если я стану выпроваживать их с полицией, они подожгут дом, Гедвиг. Вообще-то они неплохие ребята, бояться их нечего.
Эти босяки, как их называл дядя, рисовались моему воображению плечистыми мужчинами с маленькими подстриженными усиками, жесткими волосами и большими блестящими глазами — точь-в-точь мой отчим.
Будущее открывалось мне во всей своей неприкрытой жестокости. Думаю, что даже мать не предвидела его так ясно, как я.
Дело было в конце месяца, у Ольги кончился кофе и сахар, но мать дала ей горсточку кофейных зерен, чтобы она напоила нас на дорогу.
Погрузив вещи, мы сели пить кофе у Ольги. Занавески в ее комнате давно уже закоптились и испачкались, и это было особенно заметно при свете снежного дня. В доме Ольги снова стало буднично, тоскливо и грязно. Сама Ольга выглядела в этот день еще хуже, чем обычно. Она разгуливала с распущенной косой, в грязной рубашке, кое-как заколов булавкой свою замызганную юбку.
В последние дни, готовясь к отъезду, мы ложились поздно и каждый вечер слышали, как Карлберг ругался и ссорился с ней. В такие дни у Ольги появлялось совершенно отсутствующее выражение. Она двигалась еле волоча ноги, полуодетая; губы ее кроваво рдели.
Малыш лежал в люльке. Он потолстел и вырос за это время. Его только что завернули в сухие пеленки, он был беленький и чистый. Мать взяла его на руки.
— Ах ты поросенок, поросенок! Увижу ли я тебя еще когда-нибудь?
Ольга разрыдалась. Дядя, который, в противоположность отчиму, обожал грудных детей, но начинал их тиранить как только они подрастали и могли работать, взял малыша из рук матери.
— Славный у вас мальчишка, фру, — сказал он, подбросив малыша вверх. Мальчик схватил длинный конец развевающихся дядиных усов, и дядя послушно наклонил голову, чтобы малыш мог тянуть, сколько у него хватит сил. Ольга просияла и даже засмеялась.
— Ну и страшилище эта бабенка, — сказал дядя, не успев выйти за дверь.
— У нее муж болван, не хочет, чтобы она носила платье, — ответила мать.
Дядя промолчал, но бросил на мать подозрительный взгляд.
Наконец мы собрались в дорогу. Дядя отнял у лошадей мешки с кормом, и, укутавшись как могли, мы взгромоздились на сани.
На лестнице рыдала Ольга, полуголая, несмотря на зимнюю стужу. На фоне белого снега ее рубашка казалась темно-серой, юбка сползла с бедер. Полные красные губы дрожали, слезы стекали по кончику носа и по щекам. У нее был такой жалкий вид, что я не могла удержаться от слез, мать тоже расплакалась. Но дядя нетерпеливо покручивал усы, держа кнут наготове.
— Пришли мне весточку, Гедвиг! Не забывай меня, Миа! Спасибо вам за все, за все! — Слезы бежали по щекам Ольги, и ей нечем было их вытереть. Мать обещала время от времени писать и как-нибудь приехать навестить Ольгу.
Но едва дядя занес кнут над тощими спинами своих кляч, как на тропинке, ведущей к дому, появились двое мужчин. Это был хозяин с представителем местной полиции.
— Черт возьми! — закричал дядя. — Что вам здесь надо? — Он придержал лошадей.
— Хочу посмотреть, не прихватили ли вы с собой муку.
— Мешок стоит в сенях, я не хотела оставлять его в комнате, там Ольга будет мыть полы, — вежливо ответила мать.
— Это незаконное переселение, — заявил полицейский.
— Убирайся к дьяволу! — крикнул дядя и хлестнул лошадей, которые пустились рысью, увлекая за собой доверху нагруженные сани.
Путь был чудесный, сани легко скользили. Колокольчики позвякивали, а мать все время беспокойно оглядывалась, не упало ли что-нибудь.
— Не гони ты как бешеный, — сердито говорила она.
— Буду гнать, как мне вздумается, здесь я хозяин. — И мать с дядей вступили в яростное препирательство, которое продолжалось почти до самой городской заставы.
А мальчик с лягушкой остался в комнате Ольги. Мать не захотела взять его с собой. «Пусть таскает подарки другим», — сказала она и хотела было разбить гипсовую фигурку, но потом отдала ее Ольге. Карлберг обещал выпилить для нее полку. У них ведь не было ни шкафа, ни комода.
— Как бы не так, он напьется и разобьет ее, он не любит ничего красивого, — с горечью сказала Ольга, когда улеглась первая радость от подарка, и грустно поглядела на гипсовую фигурку. Но Карлберг несколько раз поблагодарил мать и твердо обещал сделать полку. Красивую полку.
23
Пока мы жили в Хагбю, не проходило дня, чтобы мать не ссорилась с дядей. Иногда он возвращался поздно ночью, и мы слышали, как он бранил и бил жену и детей. Это означало, что они не выполнили какое-нибудь его распоряжение. Тогда мать вскакивала с кровати, накидывала первую попавшую под руку одежду, выбегала к хозяевам и ругала дядю, через каждые два слова величая его господином домовладельцем. Чаще всего мать возмущалась, что дядя морит голодом лошадей.
Тетка уверяла, что это было лучшее время в ее замужней жизни, потому что у Янне впервые появился противник, которого он не осмеливался побить.
Мать и дядя то и дело высказывали вслух, что они думают друг о друге. Они упрекали друг друга в семи смертных грехах. Стоило им очутиться вместе — все равно где, в конюшне ли, или в полуразвалившемся хлеву, где понуро стояла единственная тощая корова, — как они начинали кричать и браниться. В конце концов дядя обычно заявлял, что от идиотки, которая вышла замуж за Альберта Стенмана, можно ожидать чего угодно.
— Мы с сестрой стоим друг друга; пожалуй, еще глупее выйти за домовладельца, — отвечала мать.
В нее точно дьявол вселился.
Иногда тетка возражала матери, говорила, что даже моему отчиму далеко до такого негодяя, как ее муж.
— Тебе бы с ним пожить, — отвечала мать. — Посмотрела бы я, как бы тебе это понравилось.
— Моя баба подошла бы твоему Альберту, оба бездельники, — гремел дядя.
— Сил моих больше нет, — жаловалась мать. — Надо искать другую комнату. До города далеко, подработать негде, этак мы совсем по миру пойдем. Нам с девочкой скоро не в чем будет показаться на улице.
Тогда дядя сразу смягчался и успокаивал мать:
— Все уладится, Гедвиг, на днях я получу деньги, обожди немного.
Мать выбивалась из сил, помогая тетке по хозяйству. Она чинила детям белье, ходила за скотиной и птицей. У тетки все валилось из рук. Она постоянно пребывала в каком-то сонном отупении и к тому же отвыкла от деревенской жизни. Десять лет она прожила в городе и приспособилась к городскому быту. Она разучилась откладывать на черный день, делать запасы. Еще и теперь она нередко отправлялась за пять километров в город к Процентщику Калле, чтобы заложить у него несколько простыней и на вырученные деньги купить продукты в магазине.
— В городе ешь селедку хоть каждый день, и все ничего, — говорила она. — А на здешнюю селедку даже смотреть противно.
Я до сих пор не могу понять, как мы все-таки ухитрялись перебиваться эти два месяца с семьей в одиннадцать душ. Помню, что нам, ребятам, частенько нечего было есть, кроме овсяных лепешек, которыми кормили лошадей. Их замешивали на мякине и отбросах. Мать выпекала целую корзину таких лепешек: возчику несподручно было брать с собой в дорогу большой запас сена, потому что оно занимало слишком много места, а кормить лошадей чистым овсом не хватало средств.
Мать вставала спозаранку и весь день работала не покладая рук.
— Не хочу быть в долгу перед родней, — объясняла она мне, когда я удивлялась, зачем она выбивается из сил, если ей все равно не заплатят.
Наверное, на всем белом свете не найти второй такой трущобы, как Хагбю. Говорили, что какой-то фабрикант выстроил здесь дом для своей любовницы. Когда любовница умерла от чахотки, он забросил усадьбу. Но дом не мог превратиться в такую лачугу только оттого, что его забросили. Наоборот, любовница фабриканта потому, наверное, и заболела чахоткой, что ей пришлось жить в этом новом «дворце».
Мы жили на втором этаже. Дядина семья — в трех убогих, кое-как отремонтированных комнатушках, мы с матерью — в отдельной комнате, без плиты, с одной только изразцовой печью, вьюшку которой мы никогда не решались открыть.
Зимой на топливо растаскивали один из полуразрушенных сараев.
В первом этаже находились две огромные залы, где обитали крысы и летучие мыши. В большой комнате, прежде служившей кухней, тетка стирала белье. Здесь же она устроила кладовую.
Иногда по субботам к трем босякам, которые жили в бывшей прачечной, приходили гости. Тогда к вечеру в наш дом вваливалась странная компания: нетрезвые мужчины и женщины, старые женщины в косынках, молодые — в шляпках; они прищелкивали пальцами, насвистывали, пели и ни минуты не могли устоять на месте. Обыкновенно они просили разрешения снять нижние «залы» для танцев. Они и прежде снимали их с согласия бывшего управляющего. За это они платили пять крон.
И тогда всю ночь напролет продолжались крики и возня, и никто из нас не мог сомкнуть глаз. Часто мы слышали шум драки. Иногда грубый голос кричал: «Я вспорю тебе шкуру, дьявол!» Тогда, не успевая даже застегнуть подтяжки, дядя бросался вниз разнимать дерущихся.
Не было случая, чтобы кто-нибудь из босяков оказал дяде сопротивление. Они не предлагали ему водки, зная, что он не пьет, и беспрекословно отдавали финки и складные ножи.
— Счастье, что Янне не пьет, — говорила мать.
— Лучше бы уж пил. Тогда бы я по крайней мере знала, отчего он куражится надо мной и детьми, — отвечала тетка.
И сестры начинали долгий спор о том, какой муж лучше — злой и пьющий или злой, но непьющий.
— Будь он пьяница, мне все было бы понятно, — утверждала тетка, которая любила ясность и порядок во всем, что не касалось детей и хозяйства.
— А еще лучше, если муж и добрый и непьющий, — говорила мать.
— Где такого найдешь, разве сама сделаешь, — презрительно отвечала тетка.
— Положим, такие бывают, я сама встречала, только замуж выходишь не за них. Выбираешь — думаешь, клевер, выбрала — глядишь, крапива.
Дядя возвращался возбужденный, весь в поту. Усы у него стоят торчком, ноги разуты, подтяжки обмотаны вокруг пояса, чтобы не свалились брюки. Драки случались после полуночи, мы уже лежали в постелях, но спать в такие ночи мы не могли. Дядя бросал на стол финки и складные ножи.
— Чертовы босяки, вечно за ножи хватаются, — говорил он и, сняв брюки, забирался в постель. — А теперь тушите свет — и спать.
Но внизу не смолкали музыка и крики, и заснуть было не так-то просто.
Однажды в воскресное утро, когда внизу все уже стихло и мы наконец уснули, к нам в дверь постучали четверо полицейских, прискакавших из города верхом. Дядя поспешно натянул брюки и пошел вниз открывать.
Ни живы ни мертвы от страха, мы прислушивались к разговору, стоя в коридоре на втором этаже.
— Какого дьявола вам здесь надо? — приветствовал полицейских дядя.
Один из полицейских что-то тихо ему ответил. Несколько минут беседа продолжалась шепотом. Дядя остался внизу, а полицейский поднялся наверх.
— Я хочу поговорить со старшими детьми, — заявил он.
Одному из моих двоюродных братьев минуло десять, мне — восемь, мы и были старшими. Мать наспех одела меня.
— Не бойся, Миа, говори только то, что знаешь, не болтай глупостей. — Мать старалась казаться спокойной, но я видела, как она дрожит.
Я оделась первой, и мать повела меня на кухню, где ждал полицейский. В кухне обычно никто не спал, так как здесь было очень холодно.
Тетя вела себя как безумная, она металась и голосила.
— Успокойте ее, — сказал полицейский. Он снял каску, и у него оказалось молодое безусое лицо.
— Расскажи дяде все, что он хочет знать, а я пойду помогу сестре одеть мальчика, — сказала мать.
Полицейский удержал ее за руку.
— Ваше имя? — спросил он. Она назвала себя, ответила, как зовут тетку и ее сыновей.
— А девочки?
— Спросите у нее самой. Она у меня не бессловесная идиотка, даром что нам пришлось попасть в этот вертеп.
Мать вышла. Полицейский улыбнулся, и мой испуг как рукой сняло.
Полицейский расспрашивал меня о людях, снимавших прачечную, и о танцах, которые происходили на первом этаже.
Я рассказала все, что могла, при этом не без гордости сообщив, что все жильцы боятся дядю, отдают ему свои ножи и поэтому не могут зарезать друг друга в драке. Полицейский спросил, не бываем ли мы на этих танцах.
— Нет, никогда, из-за дяди.
— А разве Янсон… разве твой дядя там не бывает?
— У него нет времени, и вообще он не хочет. Он ходит туда, только если они дерутся.
— А дядя твой не пьет с ними?
— Что-о-о вы! Он не пьет. Тетя говорит, что лучше б он пил, а мама говорит, что это глупости.
— Вы что, собираетесь здесь всегда жить? Твой отец тоже здесь живет?
— Мы скоро уедем отсюда. У меня нет отца, а отчим ушел в город и пьет с Уличной Фридой. Он боится дяди и поэтому не приходит сюда.
Молодой полицейский посмотрел на меня, задумчиво выпятив губу.
— Бедняжка! Ну ладно, можешь идти. Позови мать.
Я подала полицейскому руку, присела и простилась.
Полицейский допросил мать и моего старшего двоюродного брата. От тетки он не мог добиться ни одного толкового слова.
Так как босяки исчезли из усадьбы, полицейские вскоре уехали.
Пока наверху шел допрос, дядя оставался с полицейскими на первом этаже.
Поднявшись наверх, дядя, против обыкновения, был молчалив. Тетка лежала на кровати, вся в слезах.
— Янне, — окликнула мать из своей комнаты. Я сидела рядом с ней и видела, что она страшно раздражена. — Что случилось, Янне? В чем дело? Чего хотела полиция?
Дядя вполголоса отвечал матери. Мать побелела как мел.
— Она умерла? — Мать повысила голос.
— Как будто да. Ну и каша заварилась. Мы-то сумеем оправдаться. Ты молодчина, Миа, — сказал он, обернувшись ко мне. — Ты отвечала правильно, как надо. И ты тоже, Гедвиг. Меня, наверно, оштрафуют за то, что я сдавал помещение для танцев, не сказавшись ленсману, но больше нам ничего не будет.
— Это какая же, из молодых? — спросила мать.
— Ей было двадцать пять лет. Они нашли ее неподалеку отсюда. Не пойму: я ведь отнял у них все ножи, наверное к ним ночью пришел еще кто-нибудь.
Кого-то убили. Полиция нашла мертвую женщину, женщину, которая ночью танцевала здесь. Вот почему полиция меня допрашивала. Пьяные мужчины убили женщину.
Это было невеселое воскресенье. Дядя молчал и даже подавал кофе жене, которая плакала и не вставала с постели. Его необычная заботливость еще больше усугубила мрачное настроение.
Когда дядя ушел на конюшню, мать молча оделась, укутала меня в то, что нашлось под рукой, и, заперев дверь, положила ключ в карман.
Мы ушли из дядиного дома не простившись.
— Пойдем к бабушке, — сказала мать, когда мы благополучно выбрались из дома. — Она взяла теперь старуху жиличку, но на одну ночь, я думаю, она сможет нас приютить. Потом я что-нибудь придумаю.
От Хагбю до Вильбергена было пятнадцать километров.
В ту пору жители окрестных мест были охвачены настоящей паникой в связи с многочисленными случаями преднамеренного отравления. Об этом писали все газеты. Стоило людям собраться вместе, и они только об этом и толковали. Статьи Бондессона, в которых подробно излагались такие происшествия и которыми зачитывались почти все крестьянские семьи в Эстергётланде, еще больше возбуждали общественное мнение, но самое большое волнение вызвало убийство в Броксвике. В народе считали, что это преступление не было по-настоящему расследовано. Суд вынес приговор, но народ слагал песни о Хельге Фегершельд и под аккомпанемент гитары напевал немудреные слова, в которых утверждал ее невиновность и оплакивал ее участь.
— Ему (или ей) подсыпали крысиной отравы, — говорили люди, когда кто-нибудь скоропостижно умирал.
Люди рассказывали десятки историй о том, как тот или иной сосед или соседка бегали к ленсману с остатками кофейной гущи в кофейнике и требовали ее исследовать, потому что были уверены, что в гуще «отрава». Одна хуторянка, обозлившись, что ей приходится в жаркий июльский день торчать на кухне и стряпать, в то время как ее муж работает на пашне в веселой компании парней и девушек, дошла до того, что истолкла стекло и положила его в кашу. Она наверняка погубила бы всех, если бы, по счастливой случайности, не забыла на дворе ступку и старая доярка, вернувшаяся с поля раньше других, не заметила в ступке осколков стекла.
Мне часто приходилось слышать, как люди говорят: «Эх, подсыпать бы ему крысиного яду!» Но я никогда не понимала, что это значит. Подлинный смысл этого старого присловья давно забыт. Люди не задумывались над тем, что говорят, когда произносили эту страшную угрозу, никому и в голову не приходило всерьез помышлять о какой-нибудь отраве.
Но, когда жизнь объясняет вдруг смысл слов, они сразу становятся понятны не только взрослым, но и детям. В этот день мне впервые пришлось столкнуться с конной полицией и убийством. Правда, я так и не увидела убитую и поэтому избегла тягостных воспоминаний. Я даже не знала, где нашли ее тело. Вот почему я думала не о ней, а о бабушкиной сестре, которая покончила с собой из-за того, что ее высекли. Этот рассказ сразу всплыл в моей памяти в связи с убийством. Обе женщины слились в моем воображении, хотя между смертью одной и другой прошло шестьдесят лет. «Она не пошла к своему дружку», — для меня это было объяснение на все случаи жизни. Если тебе плохо, обязательно иди к своему дружку, и тогда ты не погибнешь. Если уйдешь к своему дружку, тебе не придется бросаться в Обаккский водопад.
В этот же день мне довелось узнать, что означает «подсыпать кому-нибудь крысиного яду». Как легкомысленно иной раз болтают взрослые о жизни и смерти, хотя сами так боятся умереть.
Мы ушли от дяди в воскресенье; у матери не было ни гроша; впрочем, случись это в будний день, нам все равно нечего было бы отнести к Процентщику Калле. Мы брели по грязному мартовскому снегу и могли считать себя истинно свободными людьми. Никакое бремя собственности не отягощало нас, разве что мебель, оставшаяся у дяди, но и ее он мог удержать в виде платы за квартиру.
Мать обливалась потом, ей поминутно становилось дурно; мне, как и прежде, приходилось ждать, пока у нее пройдет очередной приступ рвоты. Все шло как полагается. Я начинала привыкать. Меня уже не расстраивало, что у матери рвота на улице, где то и дело проходят люди.
Комната у Старой дороги и даже домик на равнине отодвинулись в далекое прошлое. Вместо них все яснее и яснее вспоминался паточный домик, история с вязальной спицей, бумажная фабрика и Вальдемар. Видно, и мать думала о том же, потому что вдруг остановилась и сказала:
— Может, опять снимем комнату у Вальдемара?
— Там входная дверь без петель, — возразила я.
— Правда, да и вообще не хочется их просить, тошно слушать их хвастовство. Придумаем что-нибудь другое.
Мы молча пошли дальше, ломая себе голову над тем, как же нам все-таки устроиться.
— А «он» не вернется больше?
— Кто его знает, еще неизвестно, приму ли я его. — У матери было очень злое лицо, и я не осмелилась продолжать расспросы.
Наконец мы добрели до бабушки.
Бабушкина жиличка, рыжеволосая старуха, слегка поседевшая с прошлого года, устроилась на месте покойного деда с раскрытым псалтырем. Здесь праздновали воскресение. Мы с матерью давно его не праздновали. В доме дяди никто не отличал праздников от будней. Там вели счет только базарным дням.
У бабушки на видном месте лежал псалтырь, в комнате было по-воскресному прибрано, однако у старушек был далеко не праздничный вид. Они едва ответили на наше приветствие. Бабушка казалась бледной и изможденной.
— Садитесь, — сказала она. — Раздевайтесь и садитесь.
— Мы тут вроде как проповедь читаем, — осторожно сказала рыжеволосая.
— Читайте, читайте, мы не помешаем, — в тон ей ответила мать. По-видимому, она заметила в бабушке что-то необычное.
— Что ж тут такого? В эти часы люди всегда читают проповеди по воскресеньям, — ядовито заметила рыжая.
— Только не я, — отрезала мать.
Рыжая костлявая старуха залилась кирпичным румянцем.
— Софи, наверное, послала за вами? Понимаю, понимаю.
Она с шумом захлопнула псалтырь.
— Чего вы расшумелись? Разве нам нельзя сюда прийти, если бабушка послала за нами? Что она, права, что ли, на это не имеет? А кстати, она вовсе и не посылала за нами, — добавила мать, полная боевого задора.
— Видишь, Гедвиг, каково мне приходится. Да живи я с сатаной, мне и то, наверное, было бы слаще. Хорошо, что ты пришла.
Вместо проповеди началась жестокая ссора. Мы попали в самый разгар многодневной вражды. Прожив бок о бок два месяца, старухи возненавидели друг друга до такой степени, что бабушка настойчиво уверяла, будто она видела, как рыжая подсыпала яду в ее молочник.
— Бабушка милая, да ведь это неправда. Подумайте, что вы говорите! — сказала мать, испуганно поглядев на нее.
Вспомнив, как рыжая старуха потчевала меня заплесневелым хлебом, когда мать рожала в доме Вальдемара, я готова была поверить бабушкиным словам.
— Вот, вот, Софи все время об этом болтает, — с отчаянием и злобой в голосе вмешалась старуха. — Этот яд — английская соль, она и мне нужна так же, как ей. У Софи всегда был строптивый характер. Если б не ее характер, она бы не вдовела три раза. О других судишь по себе, а она сама, верно, не раз подсыпала людям крысиного яду. Уж последний-то муж, эта старая кляча, верно умер не просто от голода.
«Старой клячей» она называла покойника, который лежал тогда в сарае.
Мать онемела. Бабушка сидела на своем обычном месте у открытой печи, где тлела куча углей. Руки ее дрожали.
— Рыжий, красный человек опас… — выразительно начала мать.
— Вот, вот, и я говорю, — всхлипнула бабушка, — мне от нее никак не избавиться. Добром ее отсюда не выпроводишь. Она собирается прожить здесь целый год. Подумать только! Будь у меня сын как сын, разве мне пришлось бы якшаться с такой тварью.
— Для этого не нужен сын, бабушка. Собирайте-ка свои вещи и выметайтесь, — обратилась мать к рыжей старухе, — а я останусь здесь, пока бабушка не найдет себе другую жиличку, не такую ведьму, как вы.
— Бабушка, она хотела тебя отравить? — спросила я в ужасе.
— Ну да, один бог знает, не удалось ли ей это: я так плохо себя чувствую, ничего в рот взять не могу.
— Да ведь вы не готовили себе никакой еды, а только ругались. Вот и вся ваша отрава, — сказала мать и начала прибирать в комнате. Она отняла у рыжей псалтырь и всячески ее подгоняла.
— Уж не думаешь ли ты, что я уйду отсюда в воскресный день? — заявила рыжая, выпрямившись во весь свой громадный рост. Потом она стукнула кулаком по столу, закричав, что хоть она и не покупала раньше никакого яду, но теперь уж непременно купит, только не для бабушки, а для себя, и потом напишет в газету, что бабушка довела ее до самоубийства.
— Ну что ж, вольному воля, тетенька! Пейте на здоровье яд, только, пожалуйста, не у нас, мы не хотим возиться с похоронами, — насмешливо сказала мать.
Тогда старуха схватила в охапку свое барахло и пулей вылетела из комнаты, хлопнув дверью и не простившись, совершенно так же, как это обычно делал отчим.
— Как она попала к вам, бабушка? У нее ведь есть собственный дом.
— Мне было так тоскливо одной, — ответила бабушка. — Тридцать лет назад мы с ней вместе работали на Коппархаммарне, тогда она была простой хорошей женщиной. Но с тех пор как ее брат оставил ей дом и немного денег, ей стало легче жить, и она сделалась настоящей ведьмой. Господи, что за жизнь была у меня! Только и разговору, что о моем завещании. Подумай, Гедвиг, завещание в пользу этой твари, которая гораздо старше меня. Те крохи, что у меня есть, не стоит и завещать. Но она все твердила о старых временах, о том, как она мне помогала со шпульками на фабрике, и сказала, что люди говорят, будто у меня деньги в банке и я-де должна написать завещание, чтобы деньги достались не Альберту — этому болвану, — а ей. Она так меня замучила, что я пообещала делить с ней все, что у меня есть, если она останется со мной до самой смерти. Я-то думала до ее смерти, я ведь могу прожить дольше, чем она, а она вообразила, что до моей. Она стала меня уверять, что я худею день ото дня. Соседка слышала, как она говорила кому-то, что получит все мое добро, и с этих пор я глаз не смыкаю по ночам. Я уверена, что она подсыпала мне крысиного яду в пищу… Она ведь помнит, что я ей обещала.
Вот каковы взрослые! Если им надо чего-нибудь добиться, они готовы лишить друг друга жизни. Я начинала все лучше и лучше разбираться в их поступках.
Когда мать рассказала, что полиция нашла труп женщины неподалеку от Хагбю, бабушка посерела.
— Вот видишь, Гедвиг! — Она так дрожала, что не могла вымолвить ни слова.
— Господи, бабушка, да эта рыжая старуха не посмела бы ничего вам сделать. Ту, беднягу, убили совсем из-за другого, — ее убили из ревности, при чем здесь ваша старуха? Там все перепились. Выкиньте это из головы, бабушка.
Я видела, что мать оживилась, после того как выставила старуху (я тоже была этому рада, я-то ведь знала, какая она злюка), и освободила в доме место для нас. Мать хлебнула столько горя, что ей не приходило в голову сокрушаться о мертвых, — казалось, она даже завидовала им, хотела, чтобы ее тоже убили; в это можно было поверить, глядя, как она держала себя с дядей.
— Завтра с утра пойду в город, поищу работы на фабрике. В крайнем случае пойду на бумагопрядильню. У меня остались старые свидетельства.
— Купи заодно «Эстгётен» и городскую газету (городской газетой называли «Норчёпингс тиднингар»), узнаем, как звали убитую. Подумать только, какие негодяи!
Бабушка устремила отсутствующий взгляд на раскрытые страницы псалтыря, точно вглядывалась в свою долгую, тяжелую жизнь.
— Ты всерьез надумала уйти от Альберта? — спросила она наконец.
— Он сам ушел от меня. Два месяца не дает мне ни гроша, а я снова в положении. Он, наверное, и не знает об этом. А впрочем, знает, конечно: он всегда сматывается, как только об этом заходит речь. Мне надо достать работу, пока не стало слишком заметно.
Мать, очевидно, забыла, что я слушаю разговор. Я понимала, что означает «быть в положении». Это означает, что скоро к нам снова придет «фрекен» с сумкой.
— Где он сейчас, не знаешь?
— Говорят, с Уличной Фридой. Зять видел его, не знаю где. Я его не искала, — устало и неохотно ответила мать.
Об Уличной Фриде я слыхала не раз. Ее часто забирали в полицию.
Я видела, как дрожат сложенные на коленях узловатые руки бабушки. Руки бабушки, которая так твердо верила, что в конце концов все будет хорошо.
Я горько заплакала, не умея объяснить почему.
— Сегодня был такой тяжелый день, — решила мать и дала мне выплакаться.
Дрожь узловатых бабушкиных рук всегда вызывала во мне глубокое волнение. Слезы подступали к горлу помимо воли.
Когда я смотрела на эти руки, меня охватывала какая-то странная скорбь. Эта скорбь была не похожа на страх, который вызывал у меня слезы, когда мать не на жизнь, а на смерть ссорилась с отчимом или когда дядя угрожал матери, а она бесстрашно ему возражала. Это не были слезы бессильной злобы, которая вспыхивала во мне, когда я не могла справиться со своими братьями или когда меня наказывали. Эта скорбь была не похожа на испуг, который я ощутила, когда полицейский захотел поговорить со мной наедине.
Скорбь, которую вызывали во мне трясущиеся старческие руки бабушки, корявые руки, дрожавшие от душевной боли, и старческие глаза, высохшие от горечи и пережитых страданий, — была чем-то бесконечно большим. Это была какая-то всеобъемлющая скорбь, которая, точно волна, поднимала меня над впечатлениями будничной жизни. Эта скорбь походила на бескрайный океан, среди которого я чувствовала себя совершенно одинокой. Тепловатая черная вода засасывала меня на дно, но я никак не могла утонуть. Слезы, вызванные этим чувством, появлялись у меня при виде дрожащих старческих рук бабушки, а они дрожали тогда, когда бабушка пыталась справиться со своими глазами, со своим дыханием, стыдясь показать свое горе о бесчестном человеке, бесчестном сыне, которого она все-таки любила, несмотря на жестокие слова. Струя этой скорби била из какого-то таинственного источника, и это, на мой взгляд, отличало меня от других детей.
Властная, непонятная скорбь и заставляла меня мучительно, горько плакать, как плакала я в серый зимний день в убогой, неописуемо убогой Ольгиной комнатушке со старыми газетами вместо занавесок на окнах.
Еще и поныне случается, что в поезде или трамвае я прячу лицо за газетой, увидев чьи-то дрожащие старческие руки, сложенные на коленях.
Три дня подряд мать бродила по городу в поисках работы. Когда на третий день вечером она вернулась домой, мы с бабушкой сразу поняли, что она устроилась. Дело было в пятницу. Бабушка была очень добра к нам, дала матери денег, чтобы она могла ночевать в городе, а мне разрешила спать по утрам сколько я захочу.
После беспокойного житья у дяди мы наконец очутились в тихой пристани. Я щепала лучину, приносила в комнату сухие дрова, которые новый скотник колол в обеденные часы. Разжигать огонь в огромной бабушкиной плите мне не разрешали, но однажды утром я показала бабушке, что умею с ней обращаться, умею открывать большую вьюшку и закладывать дрова. До чего хорошо становилось в комнате, когда в большой плите разгорался огонь (дело было в марте месяце).
— Эх, Миа, ничего нет на свете лучше хорошего мужа. Я не ценила своего старика. В жизни всему учишься слишком поздно, — говорила бабушка, глядя широко открытыми глазами на вздрагивающее пламя. Она не вставала с постели, пока все дрова не сгорали. Тогда она с трудом поднималась и ставила на угли кофейник.
— Со следующей недели начну работать у Брукса, — сообщила мать. — Они меня знают, потому и взяли. Правда, станок старый, на нем много не заработаешь. Но у Драгса и Варенса и на Брукет Хольмене мне отказали. Не очень-то мне хотелось к Бруксу: туда снова нанялась Альма, у которой от «него» ребенок. На Коппархаммарне тоже было место прядильщицы, но там мастером наш «состоятельный», и я туда не пошла. Альме же я в конце концов ничего худого не сделала, я только из-за него не взяла к себе ее ребенка. Будь что будет, начну в понедельник у Брукса.
— Иди, иди к Бруксу, ты там будешь работать на шерстяной пряже, может они потом и станки сменят. Подумать только, что станки у них сохранились со старых времен, — сказала взволнованная воспоминаниями бабушка.
24
Мартовское солнце растопило вильбергенские сугробы, и апрель с мать-мачехой и анемонами вступил в свои права.
Мне следовало начать учиться, но, приходя с работы, мать каждый раз говорила:
«Подождем немного, может, я куплю тебе платье и ботинки». Или: «Может, я сниму комнату. Бабушке слишком хлопотно с нами. Ты должна помогать ей, пока мы здесь живем. Ей не под силу снаряжать тебя в школу по утрам».
При этих словах бабушка бросала на меня многозначительный взгляд. Я отлично понимала, что она хочет сказать: я ей нисколько не помогала. Целыми днями я бегала по улицам в компании ребят с городских окраин. Бабушка никогда не жаловалась матери, хотя я совершенно отбилась от рук.
Разговаривая с бабушкой, я употребляла замысловатый жаргон, на котором говорили в фабричных кварталах. Говорить так с матерью я не осмеливалась. Теперь я частенько бегала в грязных, рваных фартуках, в волосах у меня что-то подозрительно копошилось.
Мать приходила домой только раз в неделю, не считая субботы. Обычно она ночевала в городе у подруги. Не успев войти, она валилась на бабушкин диван, охала и стонала. Она побледнела, тело у нее бывало холодным, как лед, и мне очень не нравилось лежать с ней рядом, когда она оставалась у бабушки.
Однажды ночью она встала, зажгла свет и подняла меня с кровати.
— По мне что-то ползает, — сказала она. Сняв с меня белье, она обнаружила в нем платяных вшей. Мне уже давно не меняли белья: у бабушки не было сил заниматься стиркой, и к тому же я повадилась посещать довольно странные места.
В одном доме за чертой города, неподалеку от Старой дороги, вся семья спала на полу. Ни кровати, ни стола, ни стульев. Крыша дома из листового железа была видна прямо в комнате, так как потолка не было. Вместо тарелок здесь пользовались жестяными крышками от старых банок из-под леденцов. Картошку пекли на улице в углублении, вырытом в земле, — другого очага у них не было. Старик ел картошку прямо с кожурой, но я уже давно перестала обращать внимание на подобные мелочи.
— Настоящие цыгане, — говорила бабушка.
Когда однажды ребята зашли за мной, она их узнала.
— Господи помилуй, неужели этот сброд еще и сюда будет ходить? Не смей с ними играть! — И она выпроводила ребят.
Но я продолжала с ними водиться. Ребята были славные. Их семейный уклад возбуждал мое любопытство. Жаль только, что у них так много насекомых. Старик, дед ребятишек, играл на скрипке. Отца их я никогда не видела, говорили, что он сидит в тюрьме.
И вот мать принялась за вшей. Мне, вообще-то говоря, было все равно, я не обращала на этих насекомых никакого внимания. У меня была теперь такая интересная жизнь. Мне хотелось спать; я продрогла, пока мать искала чистую смену белья. Она его так и не нашла, пришлось натянуть на меня рубашку покойного деда.
— Что ты делаешь? — сонным голосом спросила бабушка.
— Я нашла у девочки насекомых.
— Надо будет завтра сменить белье. А теперь спи, уже поздно. Подумаешь, велика беда — пара вшей, — обиженно сказала бабушка. Слова матери она восприняла как упрек по своему адресу: забота обо мне лежала на бабушке.
— Я не хотела вас будить, бабушка, — примирительно заметила мать, снова укладываясь в постель.
На следующий день я отправилась на улицу без рубашки. Бабушка ничего не заметила. Застегнув на голом теле лифчик, я накинула платье, надела туфли на босу ногу, поскольку дело было в конце апреля, и вышла из дому, не выпив кофе. Бабушка считала, что чашечка кофе по утрам не может повредить ребенку. Одна только мать находила кофе вредным. Но сейчас ей было не до меня, ей все время нездоровилось.
В этот день я предприняла совершенно необычную вылазку. Я свела знакомство с девочкой из масонского приюта. Приютские дети были одеты точно так же, как дети кольморденского сапожника. Однажды я видела, как приютские ребятишки в полосатых платьях парами шли мимо школы, возле которой я играла с другими беспризорными детьми, и мне вдруг показалось, что одна из девочек — светловолосая принцесса из Кольмордена.
Подбежав к девочке, я с ней поздоровалась, но она ответила мне удивленным взглядом: значит, я ошиблась.
Тем не менее я проводила девочку до самых ворот приюта и, очевидно, понравилась ей, потому что она попросила меня подождать у калитки.
Я терпеливо ждала, и наконец девочка пришла крадучись, очень испуганная. Она показала мне отверстие, которое ребята проделали в ограде, и я пролезла в сад. Была ранняя весна, деревья еще не зазеленели, но я обратила внимание на ряды высоких растений с зубчатыми поблекшими листьями, шелестевшими на ветру. Таких растений я никогда прежде не видела.
— Что это? — спросила я.
— Это изюмовое дерево, — без запинки ответила девочка.
— А где же изюм?
— Он в земле, он растет как картошка.
Я поверила ей без раздумья.
— Давай выкопаем несколько изюминок, — предложила я.
— Что ты, разве можно?! Они поспеют только через несколько лет, а нас за это могут посадить в тюрьму.
Я поверила всему, кроме того, что надо ждать так много лет, пока изюм поспеет. Впрочем, это можно было проверить. Но девочка убежала, пригрозив, что пожалуется учительнице, если я стану откапывать изюм. Я не осмелилась остаться в саду и вылезла через ограду на улицу.
На улице я прождала довольно долго и наконец решила уйти. Девочка больше не показывалась.
Мне пришло в голову раздобыть изюм с помощью ребят, которые едят из жестяных крышек. Зайду-ка я за ними. И я отправилась в путь. Жили они далеко, но я знала кратчайший путь, который вел не через город, а прямо по аллее к заставе, где мои приятели обитали в доме без очага.
Я добралась до площади перед цирком у Старой дороги. Как и два года назад, здесь стояли большие торговые весы для телят. На площади не было ни души. Меня вдруг охватило странное чувство. Я забыла про изюм в приютском саду, забыла про своих приятелей. Я села на мостике, перекинутом через ров около цирка, потом полезла под мост. На этот раз я не нашла здесь денег. Но у меня уже пропала всякая охота воровать изюм, спрятанный в земле под мерзлыми стеблями артишоков, которые колебались на ветру. Растения в приютском саду были не чем иным, как артишоками.
Как и два года назад, на площади появился крестьянин, остановился с теленком у весов, открыл дверцу, подставил доску, втащил по ней теленка за хвост в клетку, вытащил его оттуда за ухо, снова запер клетку и поехал своей дорогой. Теленок мычал от страха, в точности как два года назад.
А я осталась на мосту, грязная, растрепанная, свободная, как птица, свободнее, чем когда-либо, но полная смятения. На душе у меня было тяжело, мне было страшно, хотя в этот раз я не истратила на леденцы последние пять эре, оставшиеся у матери. На мне не было белья, в голове у меня копошились насекомые, никто не знал, где я, и никто об этом не тревожился.
Вдруг я вспомнила Ольгиного малыша и разревелась. Вспомнила и многое другое: покойного деда, нарядную комнату у Старой дороги. Я так рыдала, что у меня началась икота. На комоде в Хагбю осталась моя заброшенная кукла. Старик играет на скрипке среди лохмотьев и вшей. Люди едят из жестяных крышек. Мать ищет вшей по ночам… И помочь этому нельзя. Никогда больше мы не будем жить спокойно. Бабушка осталась дома одна, она никогда не жалуется матери, но уже не бывает так ласкова со мной, как прежде.
А мать? Она всегда больна. Денег у нее нет. У отчима есть деньги, но он не дает их матери. В городе мужчины никогда не дают денег женам. Лучше бы нам остаться на равнине с Ольгой, тогда отчим отдавал бы матери все деньги. Я снова расплакалась.
И в школу я не хожу. Все дети, кроме цыганят, ходят в школу. Я выплакалась всласть, разбередив себе душу воспоминаниями, как это делают взрослые.
Наплакавшись, я побрела домой в унынии и раскаянии, решив, что не пойду к ребятам, которые готовят пищу под открытым небом. Пусть едят, как все люди, тогда я буду с ними водиться.
Я решила начать новую жизнь. У дороги я сорвала несколько цветов мать-мачехи. Надо чем-нибудь порадовать бабушку. В конце апреля в Вильбергене не найдешь даже крапивы у сарая. Цветочницы все оборвали. Они ухитрились украсть даже первые полураспустившиеся ветки сирени. Бабушка очень убивалась из-за этого.
— Раз они обломали почки, сирень уже не расцветет, — огорчалась она.
Меня так растрогали воспоминания, которым я предавалась на мосту, что я решила нарвать садовых цветов, посаженных вдоль аллеи: они оживят букет из полевых цветов и доставят удовольствие бабушке. Раскаяние часто приводит к новому преступлению. Но мне не удалось даже дотронуться до пышных цветов.
Мимо меня по аллее все время проходили люди. И вдруг я услышала проникновенную нежную мелодию, звуки которой доносились из сада, выходившего на аллею. Я остановилась очарованная. Музыка звучала точно манящий призыв из далекой страны. Никогда в жизни не слышала я подобной музыки. Я вошла в красивый сад. В домах, расположенных вдоль аллеи, жили только богатые люди.
В саду на мощенной камнем дорожке стоял человек в остроконечной шапке, с большим мешком за плечами. Мешок напоминал по виду коровий желудок.
Разгуливая взад и вперед, человек наигрывал заунывную, скорбную мелодию. Рядом с ним на земле стояла жестянка, люди выходили и бросали в нее деньги. Но музыкант, казалось, ничего не замечал и только ходил взад и вперед, наигрывая чарующую мелодию, которая просто приковала меня к месту. Я стояла неподвижно, пока он не кончил, а потом побрела за ним из сада в сад. Он повсюду играл одну и ту же скорбную мелодию. Под конец я хорошо ее запомнила.
Музыкант ни разу не заговорил со мной, но я упрямо продолжала ходить за ним следом. Он даже не смотрел в мою сторону, но люди, бросавшие деньги, меня замечали. Этого я и добивалась. Пусть знают, какая я интересная особа, раз я знакома с человеком, который извлекает такие прекрасные звуки из старого мешка.
Подойдя ближе, я рассмотрела, что мешок прикреплен к длинному мундштуку, в который дует музыкант. Нижняя часть раздувавшегося от его дыхания мешка была обшита бахромой.
Я совсем забыла о бабушке. Цветы завяли, я их выбросила. Вдоль всей длинной аллеи из сада в сад брела я за человеком с музыкальным мешком. В конце концов он меня заметил, но, по-видимому, ничуть не обрадовался. Однако он ничего не сказал и не запретил мне следовать за собой.
Каждый раз, как он начинал играть, мелодия вновь и вновь захватывала меня. Я едва держалась на ногах от голода, но не могла расстаться с диковинной музыкой. В одном доме музыканту бросили деньги из окна. Он их не заметил, но я подобрала их и положила в жестянку.
— Это ваша девочка? — спросила в каком-то саду нарядная барышня.
Музыкант не понял. Тогда барышня указала пальцем сначала на меня, потом на него. Он отрицательно помотал головой и смерил меня сердитым взглядом. Ему было стыдно за меня. Я была плохо одета и вдобавок замарашка.
— Вы иностранец? — осведомилась догадливая барышня.
Музыкант забормотал что-то на непонятном языке.
Конечно, он был иностранец, но барышня, не понимавшая его языка, продолжала стоять и дожидаться, пока он скажет ей об этом на норчёпингском диалекте.
Как только мы вышли из сада, музыкант показал мне кулак и угрожающим тоном прочел какую-то длинную нотацию.
И тут во мне проснулась присущая детям хитрость. Может быть, в этом проявилась моя любовь ко всему театральному. Я закрыла глаза руками и присела, присела с таким кротким видом, на какой только была способна, потом взглянула на него сквозь растопыренные пальцы и снова присела. Раз он не понимал нашего языка, я должна была объясниться с ним как-нибудь иначе.
Он смотрел на меня в полном недоумении, но я не отнимала пальцев от лица.
До чего же весело было кланяться и приводить в недоумение иностранного музыканта.
Он смотрел на мои худые, посиневшие от холода ноги в грубых деревянных башмаках (как на грех, у Процентщика Калле не нашлось для меня теплых ботинок). Видел взлохмаченную косу, измазанное лицо, платье, в пятнах и дырах. Маленькая восьмилетняя замарашка стояла перед ним, закрыв руками глаза, и, не переставая, приседала. Он никак не мог понять, что все это значит.
Он повернулся ко мне спиной. Бахрома на его инструменте всколыхнулась, и я поплелась за ним в следующий сад.
Но в тот момент, когда он снова заиграл чарующую мелодию и я уже принялась было ходить рядом с ним взад и вперед, из окна высунулась какая-то женщина и крикнула:
— Неужели это дочка Гедвиг? Миа, неужели ты?
Я сразу узнала ее голос, хотя музыка заглушала слова. Это была самая противная из всех «состоятельных»: белошвейка, — та, что жалела Альберта, которому «приходится содержать чужого ребенка».
Я поспешила выбраться из сада. Солнце стояло высоко, наверное было далеко за полдень. Я чувствовала, что уже поздно, потому что меня ужасно мучил голод.
Бабушка стирала для меня смену белья и передник. А ведь мать строго-настрого запретила ей стирать. Она неуклюже выкручивала белье своими изуродованными пальцами и даже надела очки.
Бабушка стояла у сиреневого куста, из носа у нее капало. Я долго наблюдала за ней.
Она, кряхтя, выпрямилась и тут увидела меня. Лицо у нее было заплакано. Бабушка плакала из-за меня.
— Придется все рассказать Гедвиг. Не могу я больше отвечать за тебя. Скоро месяц, как ты целыми днями шатаешься неизвестно где. Этак недолго стать воровкой.
Но бабушка ничего не сказала матери. У нас с ней было серьезное объяснение, и я обещала никогда больше не убегать из дому. Я уже пообещала это самой себе, когда плакала на мосту.
Я подобрала слова к чудесной мелодии, и бабушка стала подтягивать.
— Где ты ее выучила? — спросила она.
— У иностранного музыканта, который дул в мешок, — ответила я.
— А, шотландец! — сказала бабушка. — Он играет на волынке. Это очень красиво. А он старый, этот музыкант?
Я не могла ответить на ее вопрос, потому что просто не заметила, какой он. Бабушка знавала когда-то одного волынщика и теперь старческим, дрожащим голосом стала напевать старинную мелодию, которую он играл.
Однажды вечером матери было очень плохо, а поздно ночью кто-то постучал к нам в дверь. Дело было в апреле, ночи были еще холодные.
— Кто там? — спросила мать.
— Можно поговорить с тобой, Гедвиг? — послышалось в сенях. Это был голос отчима. Сон у меня как рукой сняло. Бабушка тоже проснулась.
— Не впускай сюда этого негодяя, — громко сказала бабушка.
Мать молчала. Он постучал снова. Никто не ответил.
— Мне надо поговорить с тобой, Гедвиг.
Мать молчала.
Вдруг мы услышали какие-то странные звуки. Можно было подумать, что кого-то мучают приступы рвоты, что кто-то икает.
Мы напряженно вслушивались. Все трое сели на кроватях и вслушивались.
Странные звуки стали учащаться. Временами казалось, что у человека за дверью спазмы в горле и он задыхается. Тихое шипенье, стон и всхлипыванье.
— Что он делает, бабушка? — шепчет мать через всю комнату.
— Плачет. Пусть поплачет. Мы с тобой немало плакали из-за него, — шепчет бабушка в ответ.
Он плакал. Мой отчим сидел под дверью и плакал.
Жаль, что так темно. Интересно, как он выглядит, когда плачет? Я пришла в такое возбуждение, что не могла усидеть в кровати, но мать шепнула мне, чтобы я легла.
Почему я должна лежать, когда мать и бабушка сидят в одних рубашках, прямые как палки, и слушают?
Рыдания стали громче, время от времени отчим что-то бормотал про себя, иной раз почти завывал, как лиса в зимнюю пору.
Я бессознательно скорчила слезливую гримасу, меняя выражение лица в зависимости от различных оттенков его плача. Сидя в темноте, я волновалась все больше и больше. Неужели они ему не откроют?
За дверью в темноте плачет человек. В темноте за дверью. Я тоже начала всхлипывать и в конце концов громко, неудержимо разрыдалась.
— Ну вот, начался концерт посреди ночи, — сказала мать.
— Зажги свет, мама, — умоляла я.
— Правда, зажги, — сказала бабушка.
За дверью продолжался вой и хрюканье.
Тогда мать встала, зажгла свечу и распахнула дверь. Холодный зимний воздух ворвался в комнату, и пламя свечи заколебалось.
— Входи. Нечего сидеть там и кривляться, — жестко сказала мать.
Я слышала, как он сморкается, прокашливается и всхлипывает.
— Входи живей, холодно. Входи, говорю, а то опять запру дверь!
Если бы я была на его месте, в таком горе, и мать говорила бы со мной таким тоном, я никогда в жизни не вошла бы в комнату. Ни за что! Я ждала, что он уйдет, что он ей нагрубит. Я была сама не своя.
Я не хотела, чтобы он вернулся, но раз он сидел в темноте и плакал — он, который, наверное, вообще никогда не плакал, — это дело иное. Тут уж мать не должна вести себя так, как в тех случаях, когда он был груб, ругался и ссорился с ней. Вот теперь мать увидит: он возьмет и уйдет. Может, еще ударит ее на прощанье.
Но он не ушел!
— Гедвиг! — это было все, что он сказал. Потом он снова начал всхлипывать.
— Говорю тебе, входи и дай мне закрыть дверь! — крикнула мать.
По ее голосу я вдруг поняла, что она только притворяется, будто очень сердита. Зачем же она притворяется? Я вся дрожала от волнения.
— Иди сюда! Мы не будем тебя обижать! — крикнула я. — Иди сюда, а то очень холодно.
Тогда он вошел, споткнувшись о половик и стаскивая с себя шапку. Мать резко захлопнула дверь и снова улеглась рядом со мной на диване. От холода и озноба у нее стучали зубы. Я видела, как она взволнованна.
Отчим сел на край низкой плиты и опрокинул кофейник. Пламя свечи освещало только часть комнаты, и он не заметил кофейника впотьмах. Рядом стояли два больших котелка, и грохот получился ужасный.
— Сразу слышно, что ты дома! — голос бабушки звучал твердо и неумолимо.
Отчим покорно молчал. Все лицо у него было в угольной пыли, на щеках образовались подтеки от слез, даже усики нельзя было разглядеть среди пятен сажи.
— Значит, ты надумал явиться сюда? — сказала мать. Ее лихорадило, она говорила с трудом, а между тем она, очевидно, согрелась: от нее веяло таким жаром, что у меня запылали щеки.
— Я две недели работал на пристани, Гедвиг. Я принес тебе немножко денег, — тихо сказал отчим.
— Я тоже без дела не сижу, и еще неизвестно, нужны ли мне теперь твои деньги.
Он вздохнул, потирая руки.
Странный все-таки человек моя мать: она ведь зарабатывает гроши, и денег у нас никаких нет.
— Куда ты дел костюм, в котором был на похоронах? — безжалостно спросила бабушка.
Он молчал.
Это становилось невыносимо. Я должна была как-то вмешаться. Я встала с постели, путаясь в длинной рубашке покойного деда.
Мать не удерживала меня. Она, очевидно, даже не заметила, что я встала.
— Ты должен хорошо себя вести, — сказала я, остановившись перед ним. Эти слова мне часто приходилось слышать от матери и других взрослых.
Он продолжал молчать.
— Знаешь, что у нас было из-за тебя? Хозяин пожаловался в полицию, а дядя сказал, что побьет тебя, когда встретит. Про нас писали в газетах — ты видел? — когда они убили эту тетю на танцах в дядином доме.
— Они танцевали у Янне? — голос отчима стал почти прежним.
— Да, но нас не посадили в тюрьму, мы ведь на танцы не ходили. А ты не читал про нас в газетах? Там было написано, что я хорошо воспитана. Это сказал полицейский. Ты не читал?
— Не-е-т, — пробормотал он с глубоким и протяжным вздохом.
Я придвинулась к нему, запачкав белую рубаху деда об его штаны, и хотела, прикрыв рот рукой, шепнуть ему кое-что на ухо, но мне мешали длинные рукава рубахи: они были засучены, но теперь спустились ниже кистей.
— Зачем ты ушел от нас, когда дедушка умер? — спросила я, приблизив свой вздернутый нос к его грязному, заплаканному лицу.
Бабушка, выпрямившись, сидела на кровати, мать на диване. Они обе прислушивались.
— Я-я никогда-а не буду больше уходить, Миа, — голос его оборвался. Грязное лицо было искажено гримасой.
Я почувствовала невыразимую тяжесть на душе. Мне больше нечего было сказать. Я безмолвно вернулась к дивану и улеглась, повернувшись спиной к матери, которая так и не произнесла ни слова.
Он никогда больше не уйдет. Разве я этого хотела? Нет, совсем не этого. Не знаю, чего я хотела. Дурной человек плакал ночью. Надо было что-то ему сказать, что-то сделать. Гораздо легче, когда плачет хороший человек. Он поплачет, а потом будет радоваться, потому что он хороший. А вот когда плачет дурной человек — дурной человек, которого ты не любишь, который позорит твою семью и который ни разу не плакал при тебе, — в этом есть что-то страшное. Приходится делать что-то против собственной воли. Злое, жестокое лицо, искаженное слезами и страхом, было так же страшно, как доброе лицо, искаженное злобой и ненавистью.
Мать встала, но я не обратила на это никакого внимания. Я уже поняла, что он останется.
На старом бабушкином диване не было желудевых шишек, спинка у него была гладкая; когда считаешь шишки, намного легче разобраться в случившемся и отвлечься. Глаза у меня щипало, точно в них насыпали песку.
Мать с отчимом тихо разговаривали. Ну и пусть. Бабушка время от времени вставляла слово. Я даже не прислушивалась. Я упорно отворачивалась от них и все теснее прижималась к спинке дивана, я хотела, чтобы они видели только мою спину — равнодушную, молчаливую, сильную спину, нечто лишенное глаз и ушей.
Почему взрослые ведут себя так непонятно? Почему они мучают себя и других? Почему они говорят, что любят друг друга, дарят друг другу подарки, ласкают друг друга, а потом ссорятся и дерутся? Чем они отличаются от детей? Мы тоже деремся и миримся на каждом шагу. Неужели это продолжается всю жизнь? Неужели все люди сначала дружат, а потом ссорятся и дерутся?
И за что люди любят друг друга? Мать любит отчима, но у нее не нашлось для него ни одного ласкового слова, когда он плакал ночью. Наверное, взрослые не могут любить друг друга в одно время. Когда один любит, другой ненавидит, а когда у другого ненависть прошла, в сердце первого возникают недобрые чувства.
Мать подошла ко мне и потянула к себе одну из перинок, на которых я лежала.
— Привстань немножко, Миа.
Ах вот как! Она стелит ему постель! Я приподнялась, продолжая показывать матери спину. Потом легла, так и не повернувшись. Но она не обратила на меня никакого внимания.
Я услышала плеск воды. Он умывался.
— Господи, ты никак сбрил усы! — воскликнула мать. В ее голосе звучала насмешка.
Я невольно обернулась. В самом деле, он сбрил усы, и мне показалось, что без усов его лицо стало еще противнее. А когда он смыл с себя сажу, обнаружилось, что он сильно исхудал и пожелтел.
— Дай мне белье похуже. Я еще не отмылся как следует. В этих угольных бараках не оберешься вшей.
Меня что-то кольнуло. Ведь это я принесла насекомых домой. Я тоже водилась с дурной компанией. И мне нравилась эта компания, хотя бабушка меня предостерегала. Даже отчим был осторожен и боялся насекомых, а я — нет. Какой стыд. Значит, я стала вроде него, даже хуже, чем он.
Примирительное настроение покинуло меня. Тот, кто согрешил, никогда не успокоится, пока праведник не совершит какой-нибудь ошибки. И тот, кто согрешил сильнее, всегда осудит другого. А тем более падший святой! Уже скатившись в бездну, он все будет винить того, кто согрешил раньше. И я ничуть не лучше этого святого.
Я заметила пять десятикроновых бумажек, лежавших на столе. Мне было легко их сосчитать, потому что они лежали веером.
Итак, все улажено. Он поплакал, дал матери много денег да еще сказал, что боится занести насекомых, и улегся на полу, не раздеваясь и положив под голову маленькую перину.
Ничего не поделаешь. Он и вправду был лучше меня!
Мать погасила свет и легла рядом со мной.
Мне надоело размышлять, и я уснула. Однако я по-прежнему лежала спиной к матери.
Проснувшись на следующее утро, я не застала дома ни матери, ни отчима. Мать пошла на фабрику. Вечером она вернулась домой, как всегда больная и разбитая. Отчима я долго после этого не видела.
Бабушка и мать вели между собой нескончаемые разговоры.
— Лучше сказать, что он в тюрьме. Так прямо и говорите, бабушка, если вас спросят. Я уже объяснила на фабрике, — сказала мать однажды вечером, забыв посмотреть, уснула ли я.
— И то правда, скажу, люди поверят, ведь хозяин на него подал в суд.
— Вот, вот. Правда, ему за это и в самом деле придется отсидеть восемь дней, но он отсидит их зимой, это никого не касается, — сказала мать.
После этого разговора я решила, что отчим в больнице и что это надо скрыть. Тут я поняла, в чем дело. Мне уже приходилось слышать подобные разговоры. Но мать и бабушка так серьезно говорили, что отчим сидит в тюрьме и попал он туда за то, что самовольно ушел от хозяина, что я не выдержала. В один прекрасный день я заявила бабушке, что все знаю: наказание свое отчим решил отбывать зимой, а пока находится в больнице.
Дети нередко бродят по краю пропасти, сами того не замечая. В образованных семьях такие неосторожные дети именуются enfant terrible[6] При посторонних эти дети могут неожиданно сказать, что папаша поцеловал горничную или что мамаша позволила «чужому дяде» себя поцеловать. На этот раз я сыграла роль такого enfant terrible в необразованной среде, и впервые за все время, что я знала бабушку, она на меня по-настоящему рассердилась.
— Ах, вот что! Значит, ты подслушиваешь наши разговоры? — сказала она, и руки у нее задрожали. — Не ждала я этого от тебя, Миа. Я думала, что ты умная девочка и будешь молчать, даже если понимаешь, в чем дело. Ты ведь знала, что мы с Гедвиг не хотим, чтобы об этом болтали. Ты, что же, стала сплетницей, Миа? Вот уж не ожидала. Если хочешь жить с людьми, надо уметь молчать. Я была гораздо моложе тебя, когда этому научилась.
Я чуть не сгорела со стыда. Я понимала, что бабушка говорит святую правду. С этого дня я научилась молчать, запомнив на всю жизнь урок бабушки, которая выругала меня за дерзкие слова.
— Болезнь — это болезнь, но люди любят чесать языки. Они и сами небось болели, но об этом помалкивают. Альберт в больнице, ему надо побыть там, чтобы вылечиться. И нечего чужим совать нос не в свое дело. Теперь тебе все ясно, вот и держи язык за зубами.
Я слышала о том, что бывают «дурные» болезни. В старом учебнике истории, сохранившемся у отчима со школьных лет, было написано, что какой-то король умер от «дурной болезни».
Я не очень ясно понимала, что это за таинственная болезнь. Я считала, что это так же дурно, как дурно быть бедным, или вшивым, или грязным. «Он умер от вшивой болезни», — говорила рыжая старуха.
А теперь отчим заболел королевской болезнью, — я это поняла и решила молчать; бабушка могла не беспокоиться.
Но еще долго после этого бабушка была молчалива и сдержанна со мной.
Бабушка, лучше матери знавшая городские обычаи, дала объявление в «Норчёпингс тиднингар»: «Сниму большую комнату». Несколько раз подряд перечитав объявление, я его вырезала. Подумать только, мы стали писать в газетах!
Мы собирались снять комнату, когда отчим выпишется из больницы. Ему обещали в сентябре работу на Вулкановском складе утиля.
— Господи, какое счастье, — сказала бабушка. — Я просто поверить не могу, что ему так везет.
В это время в нашем обиходе появилось новое слово. Слово, вызывавшее такое же чувство неуверенности и страха, как слово «безработный». Это новое слово было — стачка.
Раньше его употребляли редко. А тут летом началась стачка на бумажной фабрике.
Бабушка прочла в «Норчёпингс тидниигар», которую мать купила на улице, о том, как позорно ведут себя рабочие. О том, что они нанимают хулиганов и платят им деньги, чтобы те устраивали смуту. Здание одной из бумажных фабрик за чертой города пришло в полную негодность, и рабочие прокатного цеха отказались работать, пока его не отремонтируют. Они остановили станки, завалив их балками и бревнами. «Рабочие, очевидно, решили, что понимают больше инженеров, — добавляла газета. — Но рабочая сила всегда найдется. Каждый может научиться варить смолу и отжимать древесную массу». Это писал окружной судья. Бабушка его знала, она ткала для его жены.
— Он, поди, и рубашки сам надеть не умеет. Поглядела бы я на него, как он станет варить смолу, — смеялась бабушка.
— Если кому бастовать, так это нам, на Бруксе. Я заработала всего шесть крон за эту неделю. Пряжа никуда не годная, нитка то и дело обрывается, — серьезно сказала мать.
— Милая Гедвиг, выбрось это из головы, — предостерегала ее бабушка.
В одну из суббот, в конце июля, мы с матерью и отчимом шли по улице Бродгатан к центру Норчёпинга. Мы выкупили у Калле множество вещей и шли теперь в нашу новую комнату, снятую по бабушкиному объявлению. Сама бабушка решила еще раз попытать чудодейственную силу вод Сёдерчёпинга. Она собиралась провести там два месяца.
— Старуха разъезжает на мои денежки, на те, что получила от капитана, — заявил отчим.
— Не мели вздор. Эти деньги она давно потратила на тебя, — сказала мать.
Газеты были полны сообщений о стачке на бумажной фабрике.
— У меня теперь есть книжка, — сказал отчим и, остановившись посреди улицы, показал матери маленькую тоненькую красную книжечку.
Я поняла, что это какая-то важная книжка.
— У меня есть книжка, мне теперь все нипочем.
Книжка, могущественная книжка, которая может защитить человека! «Как изменился отчим», — подумала я. — Он совсем не такой, каким был раньше, когда я его так ненавидела. Вокруг него словно вдруг стало больше воздуха и света, чем вокруг матери. И к тому же он владел этой удивительной книжкой.
— Не вздумай только идти туда, где бастуют! Подожди, пока тебя возьмут на Вулкан, — угрожающе сказала мать.
— Спятил я, что ли? У меня ведь есть книжка.
Это была членская книжка профсоюза грузчиков. Первая увиденная мною профсоюзная книжка.
На улице столпились люди: бранилась немолодая супружеская пара.
Мы, вообще-то говоря, спешили, потому что нам предстояло забрать вещи у дяди. Мать ушла с фабрики, отчим еще не поступил на работу. Он вернулся из больницы накануне вечером.
День был теплый. Мать снова начала полнеть. Впервые в жизни отчим сопровождал мать по улицам города, несмотря на ее положение.
У нас был вид заправских франтов. Мы с матерью щеголяли в новых хлопчатобумажных платьях и голубых парусиновых туфлях. В ту пору это была самая дешевая обувь. Отчим красовался в новых молескиновых брюках и полосатой рубахе. Он купил себе большую шляпу, преобразившую его до неузнаваемости. Среди портовых рабочих была теперь мода на такие широкополые шляпы.
Мы подошли к толпе. Вблизи можно было разобрать, что происходит. Какой-то мужчина, отделившись от толпы, наступал на женщину.
— Ты купила всего на пять эре мыла для моих рубах, чертова баба! — кричал он.
Он был пьян, шляпа еле держалась у него на затылке; покачиваясь и брызгая слюной, он ходил вокруг женщины.
— Это Свен-Гармонист, — сказал отчим.
Мать тоже узнала крикуна. По субботним и воскресным дням он играл на гармошке в кафе.
— Я дал ей на мыло десять эре, а она купила всего на пять, — жаловался он развесившим уши зрителям. — А на остальные купила газету. Разве это дело для бабы? Лживая ведьма! Разве можно выстирать рубахи куском мыла за пять эре? Ей на все наплевать!
Он говорил, обращаясь то к окружающим, то к жене, которая стояла здесь же, пристыженная и сердитая, и держала в руке сумку, где поверх разных свертков лежала сложенная газета.
— Такая обманет тебя с первым встречным! Просит десять эре на мыло, а покупает на пять! — Тон у него был такой, будто он вот-вот расплачется.
Провинившаяся жена потихоньку исчезла, но пьяный даже не заметил этого.
Уходя, мы все еще слышали, как он вновь и вновь повторял зубоскалившим зевакам свои жалобы на жену.
Всю дорогу до новой комнаты, которой я еще не видела, мать с отчимом спорили о том, позволительно или непозволительно жене утаить пять эре на покупку газеты. Отчим считал, что это обман — покупать меньше мыла, чем положено, и утаивать оставшиеся деньги на газету.
— Кто солжет в одном, солжет и в другом, — строго заявил отчим.
— Вот именно, совершенно справедливо! — многозначительно сказала мать и погрузилась в зловещее и мрачное молчание.
Я чувствовала, что разговор принимает скверный оборот. Мне казалось, что отчим говорит матери страшные глупости, — говорит о лжи, когда дело идет о каких-то несчастных пяти эре. Как будто эта тетя не имела права купить за пять эре газету. Неужели им не надоест говорить о Свене-Гармонисте и его жене?
Наконец им, видно, все-таки надоело, они замолчали и до самого дома шли, углубившись каждый в свои мысли.
— Чистая комната, — сказал отчим.
— За нее надо платить шесть крон в месяц, — сказала мать.
— При хороших заработках как-нибудь выдержим.
— Да, если только ты получишь работу.
В голосе матери звучало сомнение; очевидно, несчастное мыло все еще продолжало пениться и мутить воду.
— Конечно получу, мне обещали; а в крайнем случае у меня есть книжка, я при первой возможности получу работу в другом месте.
Лицо матери немного просветлело, и она продолжала осмотр комнаты.
Впервые в нашем быту появились какие-то признаки современного комфорта. У плиты стоял столик для мытья посуды с полированной цинковой крышкой. Внутри столик был выкрашен голубой краской и заменял шкаф. Такой роскоши не было ни у кого из наших знакомых — ни у тети, ни у бабушки, ни у «состоятельных». Только в домах, где мать прислуживала, я видела на кухне столики для мытья посуды.
Стены были обиты дранкой и выкрашены в голубой цвет. Эта комната раньше служила кухней. В ней поставили печь и сдавали ее как жилое помещение. В этой части города трудно было сдать комнату с отдельной кухней: местные жители были слишком бедны.
Здесь я решила поселиться на всю жизнь. Тут есть столик для мытья посуды и вообще чудо как хорошо! Я ничему не выучилась и ничего не забыла. Ведь право решать принадлежало не мне, а взрослым.
Решено было перебраться на следующий день.
— На будущей неделе запишу тебя в школу, давно уже пора, — сказала мать.
— Правда, так не годится, ей надо ходить в школу, — подтвердил отчим.
Мы направились за вещами к дому дяди.
Ханна, Ольга! Никогда ни капли зависти к вам не было в моей душе. Если бы вы появились передо мной с прекраснейшей даларнской сумкой и с диадемой на лбу, все равно мое сердце возликовало бы, даже если бы на мне была рваная дерюга.
Мою первую любовь, учительницу, мне так и не пришлось больше увидеть. Не встречала я больше и хозяина кольморденской хижины.
Ханна и Ольга. Они исчезли в сером тумане жизни.
Ольга — молодая женщина с кроваво-красными губами. Беспросветная нищета сделала ее такой безропотной, и она приседала, благодаря за пеленку, подаренную ее малышу… Ханна… Ольга…
На следующей неделе меня должны были записать в школу. В третий раз.
В день всех святых мне исполнилось девять лет.
1
Перевод Е. Маркович.
(обратно)2
Торпарь — безземельный крестьянин-арендатор.
(обратно)3
Альвар — по-шведски серьезность.
(обратно)4
«Лассе из Бровика» — так подписывался популярный журналист, печатавшийся в газете «Эстгётен». (Прим. авт.)
(обратно)5
Кап — нарост на стволе дерева.
(обратно)6
Ужасный ребенок (франц.).
(обратно)


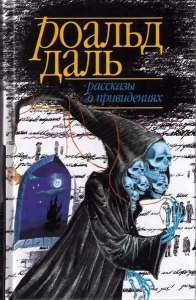
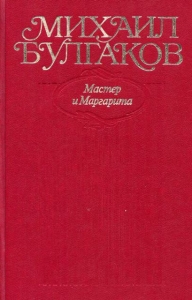
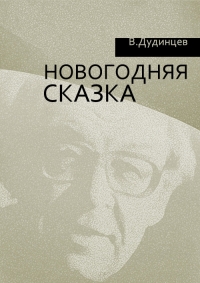


Комментарии к книге «Мать выходит замуж», Муа Мартинсон
Всего 0 комментариев