Ирвин Шоу Вечер в Византии
Irwin Shaw
Evening in Byzantium
Печатается с разрешения наследников автора и литературных агентств The Sayle Literary Agency и The Marsh Agency Ltd.
© Irwin Shaw, 1973
© Перевод. Т.А. Перцева, 2000
© Издание на русском языке AST Publishers, 2010
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
* * *
Посвящается Салке Виртелу
Старомодные, никому не нужные, почти отжившие свой век, эти вымирающие, лишенные власти и могущества бронтозавры в спортивных рубашках от Салки и Кардена восседали за игорными столиками в просторных залах дворцов, возносившихся над вечно изменчивым морем, и сдавали карты, и брали взятки, снова и снова, неутомимо, неспешно, совсем как в те блаженные распрекрасные годы в джунглях на западном побережье, где во все времена года они правили бал в банках и правлениях компаний, особняках в мавританском стиле, французских шато, английских замках, георгианских загородных домах южной Калифорнии.
Время от времени раздавались телефонные звонки; в трубке слышались приветливые почтительные голоса из Осло, Нью-Дели, Парижа, Берлина, Нью-Йорка, и игроки что-то отрывисто рычали в ответ, отдавая приказы, которые несомненно и немедленно выполнялись бы. Только в другое время и в другом месте.
Свергнутые со своих тронов короли, совершавшие ежегодное паломничество, разделившие против собственной воли участь шекспировского Лира и сумевшие сохранить лишь небольшую свиту верноподданных, жившие в пышности и показном блеске, без всякого на то права, они говорили: «джину». И «шесть без козырей». И раздавали направо и налево чеки на тысячи долларов. Иногда они вспоминали доледниковый период:
– Свою первую работу она получила у меня. Семьдесят пять в неделю. В то время она жила в Долине с парнем, который ставил актерам речь.
Или:
– Он превысил смету на два с половиной миллиона, и нам пришлось через три дня гнать его в шею, а теперь взгляните только! Эти нью-йоркские болваны провозгласили его гением! Полное дерьмо!
И они говорили:
– Будущее за видео.
А самый младший в этой комнате– ему было всего пятьдесят восемь – удивлялся:
– Какое будущее?
И они говорили:
– Пики. Удваиваю.
Ниже, на открытой солнцу и ветру террасе, в семи футах над уровнем моря, более поджарые и жадные до жизни, еще не насытившиеся тоже обменивались мнениями. Гоняя снующих официантов за кофе и аспирином, они говорили:
– Да, совсем не то что в старые добрые деньки.
И еще они говорили:
– В этом году русские не приедут. И японцы тоже.
И:
– С Венецией покончено.
Под летящими облаками, то и дело заслонявшими солнце, вокруг них крутились скользкие на вид, изворотливые молодые люди с львятами [1] под мышкой и полароидными камерами в руках. Они льстиво скалились профессиональными улыбками шлюх, спешивших заманить клиентов.
Но уже на второй день никто, кроме туристов, не обращал внимания на львят. Зато беседа по-прежнему текла плавной рекой.
– «ФОКС» в провале, – говорили они.
И:
– А кто нет?
– Здешний приз стоит миллиона, – говорили они.
– В Европе, – говорили они.
– А чем плоха Европа? – говорили они.
– Эта картина годится только для фестиваля, – говорили они, – а в прокате… зрителей на нее не заманишь.
И они говорили:
– Что будете пить?
И:
– Сегодня идете на вечеринку?
Они говорили на английском, французском, испанском, немецком, иврите, арабском, португальском, румынском, польском, голландском, шведском; говорили о сексе, деньгах, успехах, провалах, обещаниях, сдержанных и нарушенных. Среди них были честные люди и мошенники, сутенеры и сводники, были и порядочные личности. Некоторые были талантливы или более чем, некоторые проницательны или не слишком. Здесь были прекрасные женщины и восхитительные девушки, красивые мужчины или мужчины со свиными рылами вместо лиц. Камеры непрерывно жужжали, но все притворялись, будто не замечают, что их снимают.
Здесь были люди знаменитые и те, чья слава давно померкла, люди, которые приобретут известность на следующей неделе или в будущем году, и люди, которые так и умрут непризнанными ничтожествами. Люди, чье восхождение только началось, и люди, которые уже катились под гору, люди, с необычайной легкостью добившиеся победы, и люди, несправедливо отброшенные на обочину.
Все они были участниками азартной игры без правил и либо делали ставки безрассудно, полагаясь на удачу, либо потели и дрожали от страха.
В других местах и других собраниях люди науки предсказывали, что через пятьдесят лет море, лизавшее берег перед террасой, превратится в мертвую лужу и существует весьма сильная вероятность того, что это поколение последнее из тех, что имели возможность есть омаров или бросать в почву незараженные семена.
А еще где-то падали бомбы, выбирались объекты для стрельбы в цель, брались и терялись высоты, происходили извержения вулканов и наводнения, готовились войны, свергались правительства, гремела медь военных оркестров и звучали слова поминальных служб. Но здесь, на террасе, в цветущей весенней Франции, весь мир и вся вселенная в течение двух недель сосредотачивались на перфорированных полосках ацетатной пленки, проходивших через проектор со скоростью девяносто футов в минуту, а надежда, отчаяние, красота и смерть развозились по всему городу в плоских, круглых, блестящих жестяных яуфах[2].
ГЛАВА 1
Самолет трясся и дергался, пробиваясь сквозь толщу черных облаков. На западе сверкали сполохи молний. Табличка на французском и английском с просьбой пристегнуть ремни продолжала светиться. Стюардессы не разносили напитков. Вой моторов резко изменил тембр. Пассажиры не разговаривали.
Высокий мужчина, стиснутый в кресле у окна, открыл было журнал, но тут же закрыл. Капли дождя оставляли на плексигласе длинные, прозрачные, похожие на пальцы призрака следы.
Раздался негромкий хлопок, потом оглушительный треск, словно рвались ярды невидимой ткани. Огненный клубок молнии невероятно медленно прокатился по проходу, оказался снаружи и разорвался где-то над крылом. Самолет дернулся, дрогнул, и двигатель пронзительно взвизгнул.
«Самый подходящий момент, чтобы брякнуться вниз, – подумал мужчина. – И покончить разом со всем, окончательно и бесповоротно».
Но самолет, выровнявшись, прорвался сквозь облака к солнцу и голубому небу. Дама, сидевшая через проход, заметила:
– Подумать только, это уже второй раз в жизни! Такое чувство, будто смерть пронеслась совсем рядом.
Табличка «Пристегните ремни» погасла. Стюардессы деловито толкали по проходам тележки с напитками. Мужчина попросил шотландское виски с перье, и стал медленно, с удовольствием пить. Басовито рокоча моторами, самолет стремился на юг, к сердцу Франции, окутанному облачной ватой.
Пытаясь окончательно проснуться, Крейг принял холодный душ, и хотя особых признаков похмелья не испытывал, все же ощущение, что глаза не поспевают за движениями головы, его не оставляло. Как обычно в такие минуты, он давал себе слово весь день воздерживаться от спиртного.
Он наскоро вытерся, не обратив внимания на то, что с волос капала вода. Прохладная влага приятно освежала голову. Завернувшись в широкий белый махровый халат, любезно предоставляемый отелем, Крейг направился в гостиную своего «люкса» и позвонил, чтобы принесли завтрак. Накануне, ложась спать, он разбросал одежду по комнате, перед тем как выпить последнюю порцию виски, и теперь смокинг, крахмальная сорочка и галстук, донельзя смятые, валялись на стуле. Недопитый стакан с виски покрылся прозрачными капельками. Рядом стояла открытая бутылка.
Он взял почту из ящика, висевшего на внутренней стороне двери. Газета «Нис-матэн» и пакет с письмами, пересланными секретарем из Нью-Йорка. Одно от бухгалтера. Другое от адвоката. Месячная биржевая сводка от брокеров.
Он уронил нераспечатанные конверты на стол. Судя по тому, что творится на рынке ценных бумаг, маклерский отчет – скорее всего просто глас вопиющего в пустыне. Бухгалтер наверняка прислал весть о поражении Крейга в нескончаемой войне с налоговым ведомством. А послание адвоката, несомненно, касается жены. Все это вполне может подождать. Пожалуй, сейчас еще слишком рано, чтобы забивать голову мыслями о брокере, адвокате, бухгалтере и жене.
Он проглядел первую страницу «Нис-матэн». Сообщения телеграфного агентства о вводе дополнительных войск в Камбоджу. Рядом с камбоджийским репортажем – снимок итальянской актрисы, очаровательно улыбавшейся на террасе отеля «Карлтон». Несколько лет назад она получила приз в Каннах, но судя по улыбке, на новую надежд не питает. Еще одно фото: президент Франции месье Помпиду в Оверни – заверяет молчаливое большинство французского народа, что страна отнюдь не находится на грани революции.
Крейг бросил газету на пол, как был босиком, пересек устланную коврами комнату с высокими потолками, обставленную в стиле уже несуществующей русской аристократии, и вышел на балкон, с которого открывался вид на Средиземное море, плескавшееся за бетонными ограждениями набережной Круазетт. Три американских десантных судна, стоявших в заливе, ночью снялись с якоря и ушли. Дул сильный ветер, море казалось серым и взъерошенным и катило волны, увенчанные белыми барашками. Уборщики уже вычистили граблями песок и убрали надувные матрасы. Свернутые зонты трепетали на ветру. Рассерженный прибой с гулким шорохом накатывал на берег. Какая-то храбрая толстуха, не обращая внимания на приближение шторма, купалась прямо напротив отеля. Крейг подумал, что погода сильно изменилась с тех пор, когда он в последний раз был здесь.
Тогда стояла осень и сезон уже кончался. Индейское[3] лето на побережье, никогда не знавшем индейцев. Золотистые туманы, осенние цветы приглушенных тонов. Крейг вспомнил Канны тех лет, когда розовые и янтарно-желтые особняки, утопавшие в зелени садов, возвышались вдоль набережной. Теперь же безвкусные, аляповатые многоквартирные дома с оранжевыми и ярко-синими маркизами над балконами уродовали побережье. Города, словно сказочная змея, пожирающая собственный хвост, имеют пагубную тенденцию к саморазрушению.
В дверь постучали.
– Entrez[4], – отозвался он, не оборачиваясь и по-прежнему не отводя взгляда глаз от моря. Нет нужды указывать, где поставить столик. Он пробыл здесь уже три дня, и официант знает его привычки.
Но, вернувшись в комнату, он увидел вместо официанта незнакомую девушку. Невысокая, пять футов и три, возможно, четыре дюйма, машинально прикинул он. Серая трикотажная спортивная футболка, куда могут влезть трое таких, как она. Рукава, казалось, рассчитанные на лапищи баскетболиста, открывали худенькие загорелые запястья. Футболка, доходившая почти до колен, свободно болталась над видавшими виды помятыми и выцветшими голубыми джинсами в подозрительно белесых пятнах. На маленьких ногах старые босоножки. Длинные неухоженные каштановые волосы, местами выгоревшие на солнце, свисали ниже плеч неровными спутанными прядями. Узкое с острым подбородком лицо; огромные солнечные очки, скрывавшие глаза, придавали ей забавный вид мультяшной совы. Общий вид несколько нарушала итальянская кожаная сумка-мешок с элегантными медными пряжками, чересчур шикарная для такой оборванки. При виде Крейга девушка неуловимо опустила плечи и сгорбилась. У него неожиданно возникло ощущение, что, если внимательно присмотреться, можно обнаружить, что она уже неделю не мыла ноги, по крайней мере с мылом.
«Американка, что с нее взять», – подумал он с типичным высокомерием шовиниста наизнанку, и потуже завернулся в халат. Это не имевшее пояса одеяние отнюдь не предназначалось для посторонних глаз. Малейшее движение – и все вылезает наружу.
– Я думал, что это официант, – бросил Крейг.
– Мне необходимо было вас застать, – пояснила девушка. Выговор американский, можно даже сказать, всеамериканский: не поймешь, откуда она.
Внезапное раздражение охватило его. В комнате черт ногу сломит, да тут еще эта девица ворвалась без приглашения.
– Обычно люди звонят, перед тем как явиться в гости, – проворчал он.
– Я боялась, что, если позвоню, вы откажетесь со мной говорить.
О Господи, одна из этих!
– Почему бы не начать по новой, мисс? – холодно осведомился он. – Не спуститься вниз, не назвать портье свое имя, не подождать, пока он позвонит в номер, и…
– Но я уже здесь.
Похоже, она не из тех восторженных, вечно улыбающихся дурочек поклонниц, готовых растаять перед каждой знаменитостью.
– И сама могу представиться. Моя фамилия Маккиннон. Гейл Маккиннон.
– Мы где-то встречались?
В таких местах, как Канны, все возможно.
– Нет, – покачала она головой.
– Вы всегда вламываетесь к людям, когда они не одеты и еще не успели позавтракать?
Крейг неловко поежился, судорожно сжимая полы халата, то и дело норовившие распахнуться, смаргивая падавшие с волос капли. Черт, она наверняка успела заметить поросль седеющих завитков на его груди и бардак в комнате!
– У меня важное дело, – сообщила девушка. До сих пор она не попыталась подойти к нему, но и не отступала. Просто стояла как вкопанная, шевеля большими пальцами ног.
– У меня тоже дела, юная леди, – парировал Крейг, еще острее чувствуя, как неприятно липнут ко лбу мокрые волосы. – Я намеревался спокойно позавтракать, прочитать газету и в тишине и спокойствии подготовиться к ужасам грядущего дня.
– Не будьте занудой, мистер Крейг. Ничего плохого я вам не сделаю. Кстати, вы один?
Она многозначительно кивнула на приоткрытую дверь спальни.
– Моя дорогая юная дама…
«Тон у меня, как у девяностолетнего старикашки», – досадливо подумал он.
– Видите ли, я следила за вами, – пояснила она, – целых три дня, и за все время вы сюда ни разу никого не привели. То есть ни одну женщину.
Она украдкой оглядела комнату, и Крейг не преминул заметить, что ее взгляд чуть дольше, чем надо, задержался на лежавшем на письменном столе сценарии.
– Кто вы? – нехотя поинтересовался он. – Детектив?
Девушка улыбнулась, или, вернее сказать, раздвинула губы в улыбке. Определить, что при этом выражали скрытые очками глаза, было невозможно.
– Не бойтесь, – заверила она, – я кто-то вроде журналиста.
– Увы, Джесс Крейг – это вчерашний день. Ничего нового в этом сезоне, мисс. Желаю хорошо провести время, и прощайте. Он шагнул к двери, но девушка не шевельнулась.
В дверь снова постучали, и на пороге возник официант, принесший поднос с апельсиновым соком, кофе, круассанами, тостами и маленький раскладной столик.
– Bonjour, m’sieur et’dame[5], – приветствовал он, скользнув взглядом по девушке.
«Французы, – подумал Крейг. – Умеют же с совершенно невозмутимым видом залезть женщине глазами под юбку!»
Отлично понимая, какое впечатление произвел на официанта наряд девушки, Крейг отчего-то с трудом поборол желание стереть его с лица земли за этот плотоядный взгляд. Как ему хотелось бесстыдно выкрикнуть: «Неужели ты думаешь, что я не способен найти себе кого-нибудь получше?!»
– Я думать, завтрак один, – заявил официант на ломаном английском.
– Я заказывал один завтрак, – подтвердил Крейг.
– Почему бы вам не расщедриться, мистер Крейг, и не попросить принести еще одну чашку? – нагловато вставила девица.
– Еще одну чашку, пожалуйста, – со вздохом сдался Крейг. Всю жизнь он маялся оттого, что автоматически следовал правилам хорошего тона, с детства вбитым в него матерью.
Официант расставил столик и подвинул два стула.
– Один момент, – пообещал он, исчезая за дверью.
– Пожалуйста, садитесь, мисс Маккиннон, – пробормотал Крейг, надеясь, что от нее не укроется ирония, таившаяся в подчеркнуто-вежливом предложении.
Он даже отодвинул одной рукой стул, ухитряясь при этом придерживать халат другой. Девушка явно забавлялась. По крайней мере насколько можно было судить по выражению ее лица от носа и ниже. Она опустилась на стул и поставила сумку на пол рядом с собой.
– А теперь прошу простить, – извинился Крейг. – Пойду и переоденусь в более подходящий к случаю костюм.
Но прежде чем уйти, он взял со стола сценарий, бросил в ящик и, не потрудившись захватить смокинг и сорочку, направился в спальню и плотно прикрыл за собой дверь. Оказавшись наконец один, Крейг вытер голову, причесался, потер щеку, решая, стоит ли побриться, но тут же покачал головой. Обойдется. Натянул белую тенниску, синие хлопчатобумажные слаксы, сунул ноги в мокасины и мельком взглянул в зеркало. Черт возьми, до чего же противно, когда глаза такие мутные, словно пленкой затянуты!
Когда Крейг вернулся в гостиную, девушка уже разливала кофе.
Он молча выпил сок. Девушка, казалось, не спешила наброситься на него с расспросами. Интересно, со сколькими женщинами садился он завтракать, надеясь, что они не станут трещать как сороки?
– Круассан? – осведомился он.
– Нет, спасибо, – отказалась девушка. – Я уже ела.
«Какое счастье, – думал он, откусывая тост, – что хоть все зубы целы!»
– Ну, – произнесла девушка, – разве не идиллия? Гейл Маккиннон и мистер Джесс Крейг улучили спокойную минутку в бурном водовороте каннской жизни.
– М-да, – нерешительно протянул Крейг.
– Означает ли это, что мне пора начинать допрос?
– Нет, – возразил он, – это означает, что допрос начинаю я. Где вы работаете?
– Я радиожурналистка. Работаю по договорам, – пояснила она, поднося чашку ко рту. – Делаю пятиминутные зарисовки. Нечто вроде записанных на пленку задушевных бесед для синдиката, который потом перепродает их частным американским радиостанциям.
– Бесед? С кем?
– С интересными людьми, разумеется. По крайней мере синдикат на это надеется, – отвечала она невыразительным глухим голосом, словно эта тема смертельно ей надоела. – Кинозвезды, режиссеры, художники, политики, преступники, гонщики, дипломаты, дезертиры, личности, уверенные в том, что гомосексуализм или марихуана должны быть узаконены, детективы, президенты колледжей… Хотите еще?
– Нет, – покачал головой Крейг, наблюдая, как она с видом примерной хозяйки дома наливает ему еще кофе. – А что вы делаете, кроме этого?
– Пытаюсь брать интервью для толстых журналов. Так сказать, докапываюсь до сути людей. Почему такая брезгливая гримаса?
– Докапываетесь, значит, – повторил Крейг.
– Вы правы, – согласилась девушка. – Идиотский жаргон. Прилепится – потом не отвыкнешь. Больше не буду. Клянусь.
– Значит, утро не пропало даром, – констатировал Крейг.
– Интервью вроде тех, что в «Плейбое». Или у Фалаччи. Помните, в нее стреляли мексиканские солдаты?
– Я читал пару ее интервью. Она буквально расправилась с Феллини. И разделала Хичкока, как мясник – тушу.
– Может, они сами себя прикончили.
– Должен ли я считать это предупреждением?
– Как хотите.
Было в этой девушке нечто смутно его тревожащее. Отчего у него создалось впечатление, будто она хочет чего-то большего, чем пытается показать.
– В настоящее время, – заметил он вслух, – этот город просто кишит людьми, умирающими от желания прославиться. Или по крайней мере дать интервью. Людьми, о которых ваши читатели, кем бы они ни были, до дрожи, до истерики мечтают получить любого рода сведения. Я же ничто, никто и звать никак, обо мне не слышно вот уже целую вечность. С чего вдруг такой интерес?
– Как-нибудь расскажу подробнее, мистер Крейг, – пообещала она. – Когда мы узнаем друг друга получше.
– Пять лет назад, – процедил он, – я вышиб бы вас пинками за дверь сразу, как только увидел.
– Поэтому я и не подумала взять у вас интервью пять лет назад. – Она снова улыбнулась, снова на миг превратившись в этакую мудрую совушку.
– Вот что я вам скажу, – объявил наконец Крейг. – Покажите мне те интервью, которые уже успели взять, я прочту и решу, стоит ли рисковать.
– Не могу, – отказалась она.
– Интересно, почему?
– Я еще ничего не публиковала, – призналась девушка, словно радуясь этому обстоятельству. – Вы будете моей первой жертвой.
– Господи, мисс, – досадливо бросил Крейг, вставая, – не тратьте даром мое и свое время.
Но девушка продолжала сидеть.
– Честное слово, я стану задавать самые неожиданные и волнующие вопросы, а вы дадите столь занимательные ответы, что издатели станут драться за право опубликовать статью.
– Аудиенция окончена, мисс Маккиннон. Надеюсь, вы прекрасно проведете время на Лазурном берегу.
Девушка по-прежнему не двигалась с места.
– Для вас это не менее выгодно, мистер Крейг, – обронила она. – Я могу вам помочь.
– С чего вы взяли, что я нуждаюсь в помощи? – удивился он.
– За все эти годы вы ни разу не посетили Каннский фестиваль. И отвергали сценарий за сценарием. Ваше имя не появлялось на экране с 1965 года. А теперь вы вдруг прибываете, останавливаетесь в роскошном «люксе», каждый день показываетесь в Главном зале, на террасе, на всех официальных мероприятиях. Значит, в этом году вам что-то здесь понадобилось. И что бы это ни было, большая броская статья о вас могла бы стать именно той волшебной палочкой, которая поможет вам получить желаемое.
– Откуда вы знаете, что я впервые приехал на фестиваль?
– О, я много чего о вас знаю, мистер Крейг, – заверила она. – Я всегда готовлюсь на совесть.
– Вы напрасно явились, мисс, – упрямо повторил он. – Боюсь, мне придется просить вас уйти. У меня сегодня нелегкий день. Дел полно.
– А чем вы собираетесь заняться сегодня? – как ни в чем не бывало поинтересовалась она и, словно назло, с вызывающим видом надкусила круассан.
– Полежу на пляже, – начал он, – послушаю, как шумят волны, докатившиеся сюда из самой Африки. Вот пример того занимательного ответа, который я мог бы вам дать.
Девушка вздохнула, как мамаша, вынужденная сносить капризы разгулявшегося чада.
– Ладно, – смирилась она, – придется пойти против своих принципов, но я позволю вам кое-что прочитать. – Она полезла в сумку и вытащила стопку желтой бумаги, покрытую вязью машинописных букв. – Вот, возьмите.
Но Крейг демонстративно спрятал руки за спиной.
– Не ребячьтесь, мистер Крейг, – резко бросила она. – Прочтите. Это о вас.
– Ненавижу читать что бы то ни было о себе.
– Не лгите, мистер Крейг, – потеряла терпение Гейл.
– У вас на редкость оригинальная манера завоевывать доверие тех, кого пытаетесь интервьюировать, мисс, – проворчал он, но все же взял листочки и подошел к окну, где было светлее, поскольку последнее время читать без очков становилось все труднее.
– Если интервью купит «Плейбой», – размечталась девушка, – то, что вы сейчас держите в руке, станет чем-то вроде вступления, перед обычными вопросами и ответами.
Крейг подумал, что девушки из «Плейбоя» по крайней мере причесываются, перед тем как ввалиться к незнакомому человеку.
– Не возражаете, если я налью себе еще кофе? – спросила она.
– Ради Бога, – отозвался Крейг и под тихое звяканье фарфора стал читать.
«У широкой публики слово „продюсер“, как правило, вызывает не слишком приятные ассоциации. Человек непосвященный обычно представляет кинопродюсера тучным, осанистым джентльменом иудейской национальности с неизменной сигарой в зубах, своеобразным лексиконом и отвратительным пристрастием к молоденьким старлеткам.
Для тех романтиков, которые находятся под влиянием идеализированного образа покойного Ирвинга Талберга, героя незаконченного романа Ф. Скотта Фицджеральда „Последний магнат“, продюсер – гениальная, но таинственная фигура, нечто вроде великодушного Свенгали, полумага, полуполитика, странным образом напоминавшего самого Фрэнсиса Скотта Фицджеральда в самые знаменательные моменты его жизни.
Имидж театрального продюсера куда менее красочен. Его куда реже представляют евреем, да еще толстым, хотя и особого восхищения он не вызывает. Если он добивается успеха, ему завидуют как счастливчику, которому случайно попала в руки пьеса, прежде без толку валявшаяся на письменном столе, а после ему еще и повезло напасть на спонсора, который отстегивает на постановку кучу денег. Остается только ничтоже сумняшеся пожинать плоды в виде славы и богатства и карабкаться наверх, бессовестно эксплуатируя таланты актеров, чью работу продюсер чаще всего бездарно портит, пытаясь приспособить к требованиям бродвейского рынка.
Как ни странно, в родственной сфере, а именно в балете, слава достается тем, кто ее заслуживает. Дягилев, который, как известно, никогда не танцевал, не поставил ни одного па-де-де, ни разу не взял в руки кисть, чтобы нарисовать декорацию, снискал признание всего мира как гениальный новатор современного балета. И хотя Голдвин (еврей, худой как щепка, не курит), Занук (не еврей, стройный, курит сигары), Селзник (еврей, толстый, сигареты) и Понти (итальянец, полный, не курит), возможно, не те, которых журналы вроде „Комментари“ и „Партизен ревью“ называют культовыми фигурами в искусстве, которому они служат. Фильмы, которые они выпустили, отмечены отчетливым отпечатком их индивидуальности и оказали заметное воздействие на образ мыслей и жизненные позиции зрителей всего мира, что, вне всякого сомнения, доказывает: посвящая себя именно этой сфере деятельности, эти люди имели на своей стороне нечто большее чем всего лишь удачу, деньги или влиятельных родственников».
«Ничего не скажешь, – подумал Крейг, – слог у нее бойкий. И с грамматикой все в порядке. Должно быть, училась где-то». Однако раздражение, вызванное беспардонностью Гейл Маккиннон, так бесцеремонно ворвавшейся к нему сегодня утром, все еще не улеглось. Еще больше его бесило ощущение того, что он беспрекословно подчинится ей. Больше всего ему хотелось отбросить желтые странички и попросить Гейл убраться из номера. Но тщеславие его уже было задето, и, кроме того, не терпелось узнать, какое место в этом реестре героев занимает имя Джесса Крейга. Он с трудом удержался, чтобы не обернуться и не присмотреться к ней пристальнее. Нет, сначала он прочтет до конца.
«Все приведенное выше, – говорилось дальше, – как нельзя более верно по отношению к американскому театру. В двадцатых годах Лоренс Ленгнер и Терри Хелберн, основавшие театральную гильдию, открыли новые горизонты драмы, а в конце сороковых, занимаясь исключительно продюсерской деятельностью, преобразили наиболее американизированную из всех театральных форм – музыкальную комедию, поставив „Оклахому“. Клерман, Страсберг и Кроуфорд – трио, возглавлявшее „Груп тиэтр“, – иногда снисходили до того, чтобы ставить спектакли, однако прославились своим выбором весьма спорных, если не сказать – острых пьес, а также системой подготовки членов труппы к игре в ансамбле с другими актерами».
Да, ничего не скажешь, девочка не лжет. Она действительно подготовилась. Когда все это происходило, ее еще на свете не было.
Он поднял глаза:
– Могу я спросить вас кое о чем?
– Разумеется.
– Сколько вам лет?
– Двадцать два, – с вызовом бросила девушка. – А что, это имеет какое-то значение?
– Все всегда имеет значение, – кивнул он и с невольным уважением продолжал читать.
«Нетрудно вспомнить и другие, еще не забытые имена, но есть ли необходимость в дальнейших доказательствах? Почти всегда находился человек, кем бы он себя ни считал, принимавший на себя тяжелый труд открывателя талантов для фестивалей, на которых Эсхил соперничал с Софоклом. Именно Барбедж заботился о том, чтобы театр „Глобус“ процветал в те далекие дни, когда Шекспир принес ему читать своего „Гамлета“.
В этом длинном и почетном списке имя Джесса Крейга занимает не последнее место».
«Теперь держись, – подумал Крейг. – Мало не покажется».
«Джесс Крейг, – прочел он, – впервые привлек к себе внимание зрителей и прессы в 1946 году, когда ему исполнилось двадцать четыре года, представив широкой публике своего „Пехотинца“ – одно из немногих правдивых драматических произведений о Второй мировой войне. В период с 1946 по 1965 год Крейг поставил еще десять пьес и двенадцать фильмов, значительная часть которых пользовалась кассовым успехом и получила одобрение самых взыскательных критиков. После 1965 года ни на сцене, ни на экране не появилось ни одной работы с его участием».
Тишину прорезал телефонный звонок.
– Простите, – вежливо пробормотал он, взяв трубку. – Крейг у телефона.
– Я разбудила тебя?
– Нет, – коротко бросил он, опасливо поглядывая на девушку. Та неловко скорчилась на стуле: жалкая, смехотворная фигурка в мешковатом свитере.
– Надеюсь, всю эту ужасную ночь ты упивался сладострастными снами, в которых я была главной героиней?
– Что-то не припомню.
– Скотина. Развлекаешься?
– Угу.
– Наглая скотина, – обиделась Констанс. – Ты один?
– Нет.
– Ага!
– Можно подумать, ты плохо меня знаешь.
– Так или иначе, свободно говорить ты не можешь.
– Не совсем. Ну, как Париж?
– Пекло. И французы, как всегда, невыносимы.
– Откуда ты звонишь?
– Из офиса.
Тоже мне, офис! Маленькая, тесная каморка на улице Марбеф, где вечно толпятся молодые люди и девушки, похожие скорее на потенциальных самоубийц, которые только что в одиночку пересекли на шлюпках Атлантический океан, а не прибыли сюда на теплоходах, грузовых судах и самолетах, чтобы отправиться в турпоездку по стране. Это и была ее работа – устраивать студенческие экскурсии. Любого посетителя моложе тридцати и в любом состоянии Констанс приветствовала с распростертыми объятиями, но, только уловив запашок «травки», поднималась из-за стола и, театрально указав на дверь, повелевала очистить комнату.
– Боишься, что кто-то подслушает? – спросил он. Констанс, терзаемая манией преследования, постоянно подозревала, что ее телефоны прослушиваются: французской налоговой службой, американским бюро по борьбе с наркотиками, отставными любовниками, занимавшими теплые местечки в различных посольствах.
– Я не говорю ничего такого, чего не знали бы сами французы. Их недостатки – предмет их неизменной гордости.
– Как дети?
– Нормально. С успехом держат равновесие. Один ангелочек и один дьяволенок. Так что все как всегда.
Констанс была замужем дважды: один раз за итальянцем, второй – за англичанином. Мальчик был отпрыском итальянца и к одиннадцати годам имел за плечами уже четыре школы, из которых его неизменно вышвыривали.
– Вчера Джанни опять отправили домой, – с привычным смирением сообщила Констанс. – Едва не устроил групповой секс на уроке рисования.
– Брось, Констанс! Это уже слишком!
Констанс всегда была склонна к преувеличениям.
– Ну, не групповой секс, разумеется. Кажется, пытался выкинуть из окна какую-то очкастую малышку. Утверждает, что она на него глазела. Но так или иначе, все обошлось. Он сможет вернуться в школу денька через два. Похоже, что по окончании семестра Филиппу премируют «Критикой чистого разума». Подсчитали ее ай-кью[6] и теперь говорят, что она в будущем вполне может стать президентом «Ай-Би-Эм».
– Передай, что я привезу ей из Канн синюю матросскую форменку.
– А заодно и мужчину, которого можно обрядить в эту форменку, – посоветовала Констанс, убежденная, что дети, подобно ей самой, просто одержимы сексом. Филиппе было всего девять, и, на взгляд Крейга, она почти не отличалась от его собственных дочерей в этом возрасте. Если, конечно, не обращать внимания на то, что она не встает, когда в комнату входят взрослые, и иногда употребляет заимствованные из материнского лексикона выражения, которые Крейг предпочел бы не слышать из уст ребенка.
– А как твои дела? – поинтересовалась Констанс.
– О’кей.
Гейл Маккиннон вежливо встала и удалилась на балкон, хотя Крейг был уверен, что она слышит каждое слово.
– Кстати, – вспомнила Констанс, – вчера вечером я замолвила за тебя словечко твоему старому приятелю.
– Спасибо. Кто он?
– Я ужинала с Дэвидом Тейчменом. Он всегда звонит мне, когда бывает в Париже.
– Как и десять тысяч других людей, так что в этом он не оригинален.
– Не хочешь же ты, чтобы я ужинала в одиночестве?
– Ни за что.
– Кроме того, ему уже сто лет. Он тоже собирался в Канны. Сказал, что подумывает о создании новой компании. Я намекнула ему, что у тебя наверняка что-то для него найдется. Он пообещал связаться с тобой. Не возражаешь? В худшем случае он просто безвреден.
– Только не повтори это при нем! Он умрет, если услышит нечто подобное.
Дэвид Тейчмен терроризировал Голливуд вот уже более двадцати лет.
– Зато я сделала все, что могла. – Она громко вздохнула прямо в трубку. – Не представляешь, каким ужасным было утро. Я проснулась, пошарила рукой по кровати и сказала: «Чтоб его черти взяли».
– Почему?
– Потому что тебя рядом не было! Ты скучаешь?
– Да.
– Тон у тебя такой, словно говоришь из полицейского участка.
– Что-то в этом роде.
– Не вешай трубку. Мне все ужасно надоело. Ты вчера ел на ужин буйабес?[7]
– Нет.
– Ты тоскуешь по мне?
– Я уже ответил.
– Ничего себе ответ! Любая девушка посчитает его равнодушным.
– Я не хотел, чтобы ты так подумала.
– Жалеешь, что меня с тобой нет?
– Да.
– Назови меня по имени.
– Предпочел бы не делать этого.
– После нашего разговора я паду жертвой мрачных подозрений.
– Не стоит.
– Этот звонок – сплошная зряшная трата денег. Заранее ненавижу завтрашнее утро.
– Почему?
– Потому что опять проснусь, протяну руку, а тебя снова нет.
– Не будь жадюгой.
– Что делать, я очень алчная леди. Когда выставишь из номера всех незваных гостей, перезвони мне, ладно?
– Так и быть.
– Назови меня по имени.
– Надоеда.
На другом конце линии раздался смех и что-то щелкнуло. Констанс отключилась. Крейг повесил трубку. Девушка вернулась с балкона.
– Надеюсь, я вам не помешала, – посетовала она.
– Вовсе нет, – заверил Крейг.
– После звонка у вас вид куда счастливее.
– Да? Не заметил.
– Вы всегда так отвечаете на звонки?
– Как именно?
– «Крейг у телефона».
Он на минуту задумался.
– Да… по-моему. А что?
– Звучит так… так казенно, – протянула девушка. – Ваши друзья не обижаются?
– Мне, во всяком случае, об этом ничего не известно.
– Ненавижу казенщину, – призналась Гейл. – Если бы мне пришлось с утра до вечера сидеть в офисе… – Она выразительно пожала плечами и снова присела к столу. – Как вы оцениваете прочитанное?
– Еще в самом начале карьеры я взял себе за правило никогда не судить о целом по его части, тем более когда работа не закончена.
– Но все же намереваетесь дочитать до конца?
– Да, – кивнул Крейг.
– Обещаю быть спокойной, как тихая звездная ночь.
Она поудобнее устроилась на стуле, откинулась на спинку и скрестила ноги. Крейг заметил, что ступни у нее все-таки чистые, и вспомнил, сколько раз приказывал дочерям не сутулиться. А они все-таки отказывались сесть прямо. Целое поколение с плохой осанкой.
Он снова поднял желтые листочки и стал читать.
«Это интервью Крейг согласился дать Г. М. В гостиной своего „люкса“ (за который платит сто долларов в сутки) в отеле „Карлтон“, розоватой, напоминающей безвкусно украшенный торт штаб-квартире всех приезжающих на Каннский кинофестиваль VIP-персон. Крейг – высокий, стройный, медлительный костлявый мужчина с седеющими густыми волосами, длинными и небрежно зачесанными назад, ото лба, изборожденного бесчисленными морщинами. Глаза – холодные, светло-серые, глубоко посаженные камешки – бесстрастно взирают на вас сквозь полуопущенные ресницы. Ему сорок восемь, выглядит он на свои годы и производит впечатление стражника, наблюдающего в бойницу на крепостной стене за приближающимися вражескими войсками. Голос, в котором еще чувствуется его родной нью-йоркский выговор, низок и чуть хрипловат. Манеры старомодные, безликие и вежливые. Стиль одежды строго консервативен, особенно для этого города, наводненного крикливо-павлиньими нарядами, как женскими, так и мужскими. Его вполне можно принять за преподавателя литературы Гарвардского университета, проводящего летние каникулы в Мене.[8]
Он некрасив: слишком невыразительные и жесткие черты лица, а рот чересчур тонкий и плотно сжат. В Каннах, где немало собравшихся знаменитостей работали либо на него, либо с ним и где он был тепло встречен, у него, похоже, множество знакомых, но совсем нет друзей. Два из трех вечеров после своего приезда он ужинал один, и в каждом случае неизменно выпивал до еды три мартини и бутылку вина за едой без каких бы то ни было видимых последствий».
Крейг покачал головой и бросил стопку на книжную полку у окна. Три-четыре листочка остались непрочитанными.
– В чем дело? – осведомилась девушка, внимательно за ним наблюдавшая. Он ощущал ее пристальный взгляд даже через темные очки и поэтому старался ничем не выразить своего отношения к статье. – Обнаружили какой-то ляп?
– Нет, просто нахожу главного героя крайне несимпатичным.
– Доберитесь до конца, – посоветовала она, – увидите, как он изменится к лучшему.
Она встала, но не подумала распрямить плечи и по-прежнему некрасиво сутулилась.
– Я оставлю это вам. Представляю, какой напряг – читать что-то под бдительным оком автора.
– Пожалуй, захватите эту штуку с собой, – посоветовал Крейг, взмахом руки показывая на горку бумажных листков. – Я прославился своей рассеянностью. Вечно теряю рукописи.
– Ничего страшного, – заверила она. – У меня осталась копия.
Телефон снова затрещал. Крейг взял трубку.
– Крейг у телефона, – бросил он по привычке, но, взглянув на девушку, пожалел, что у него вырвалась стандартная фраза.
– Старина!
– Привет, Мерф! Ты где?
– В Лондоне.
– И как тебе там?
– Дышат на ладан, – сообщил Мерфи. – Не пройдет и полугода, как они начнут превращать студии в коровники для откорма черных быков. А как у тебя?
– Холодно и ветрено.
– Все равно лучше, чем здесь, – решил Мерфи, который, по обыкновению, так громко разорялся, что, должно быть, все, кто был рядом, его слышали. – Наши планы изменились. Летим к тебе сегодня, а не на следующей неделе. Сняли номер в «Отель дю Кап». Пообедаешь с нами завтра?
– Разумеется.
– Превосходно, – обрадовался Мерфи. – Соня передает привет.
– А я – ей.
– Только никому не говори о моем приезде, – предупредил Мерфи. – Я хочу немного отдышаться. Не собираюсь сразу рваться на фестиваль, чтобы по три раза на день сталкиваться с брызжущими слюной итальяшками.
– Могила, – заверил Крейг.
– Сейчас позвоню в отель, – пообещал Мерфи, – и прикажу поставить вино на лед.
– А я сегодня дал обет трезвости, – сокрушенно заметил Крейг.
– Только через мой труп, дружище. До завтра.
– До завтра, – повторил Крейг и повесил трубку.
– Я невольно подслушивала, – вмешалась девушка. – Это ведь ваш агент, верно? Брайан Мерфи?
– Откуда вы столько знаете? – резче, чем намеревался, бросил Крейг.
– Все на свете знают Брайана Мерфи. Как по-вашему, он согласится поговорить со мной?
– Об этом вам придется спросить его, мисс. Он мой агент, а не наоборот.
– Наверное, согласится. Он еще никому не отказывал, – решила Гейл. – Так или иначе, спешить некуда. Посмотрим, как пойдут дела. Было бы неплохо, если бы я присутствовала при вашем разговоре этак часок-другой. Но лучший способ взять по-настоящему хорошее интервью – позволить мне поболтаться возле вас несколько дней. Молчаливое восхищенное присутствие. Можете представить меня своей племянницей, секретаршей или любовницей. Я обещаю надеть приличное платье. У меня прекрасная память, так что даю слово не делать никаких заметок, чтобы не смущать вас. Буду просто слушать и наблюдать.
– Пожалуйста, не настаивайте, мисс Маккиннон, – попросил Крейг. – Я никак не соберусь с мыслями. Бессонная ночь и все такое.
– Ладно, сегодня больше не буду вам надоедать. Сейчас исчезну. Предоставляю вам прочесть все до конца и хорошенько обдумать.
Она небрежно повесила на плечо сумку, быстрыми, деловитыми, отнюдь не женственными движениями. И горбиться перестала.
– Я буду рядом. Повсюду. Куда бы вы ни кинули взгляд, узрите Гейл Маккиннон. Спасибо за кофе. И не трудитесь меня провожать.
Прежде чем он успел возразить, Гейл испарилась.
ГЛАВА 2
Он медленно мерил шагами комнату. До чего же она ему не нравится! Типичное обиталище богатых бездельников, у которых только и забот, что решать каждое утро, пойти или нет купаться и в каком ресторане пообедать.
Он закупорил бутылку виски и убрал ее в шкафчик. Сгреб свои вещи, запотевший полупустой стакан и оттащил все в спальню, бросив одежду на кровать, в которой провел ночь. Простыни и одеяла сбились. Вторая кровать осталась несмятой. Кто бы ни была та дама, для которой ее приготовила горничная, она предпочла провести ночь где-то в другом месте. Из-за этого комната казалась одинокой и пустой.
Крейг зашел в ванную и вылил все из стакана в раковину. Ну вот, некоторое подобие порядка наведено.
Он вернулся в гостиную, вынес в коридор столик с остатками завтрака и, войдя в номер, запер за собой дверь. На письменном столе громоздилась неряшливая стопка брошюр и рекламных буклетов различных фильмов. Мусор. Он одним махом сбросил все в корзину для бумаг. Чужие надежды, вранье, таланты, жадность.
Полученные утром письма лежали рядом с рукописью мисс Маккиннон. Он решил начать с них. Как ни тяни, а придется хотя бы пробежать их глазами и, конечно, ответить.
Он вскрыл первый конверт. Письмо от бухгалтера. Что может быть важнее подоходного налога?
«Дорогой Джесс, – писал бухгалтер, – боюсь, что ревизия за 1966 год даст не слишком обнадеживающие результаты. Этот ублюдок, ваш налоговый инспектор, уже пять раз шнырял по вашему офису. Я пишу это письмо дома, на своей пишущей машинке, чтобы не оставлять копий, и советую вам немедленно сжечь его, как только прочтете.
Как вы помните, мы были вынуждены уклониться от проверки ваших доходов за 1966 год в установленный трехлетний срок, поскольку этот год был последним, когда вы действительно делали какие-то реальные деньги. Брайан Мерфи провел эту сделку по счетам европейской компании, потому что большая часть фильма была отснята во Франции, и все считали эту операцию вполне законной, тем более что деньги, взятые в кредит вашей компанией под будущие прибыли, считались не столько обычным доходом, сколько приростом капитала. Но теперь налоговое управление оспаривает правомерность таких действий, а их сукин сын инспектор просто жаждет крови.
Кроме того (учтите, это строго между нами), он, по-моему, еще и проходимец. Посмел намекнуть мне, что если вы сами с ним договоритесь, он лично составит декларацию так, что комар носа не подточит. За соответствующее вознаграждение, разумеется. Обмолвился, что никто не пожалеет за такую работенку восьми тысяч долларов. Вы, разумеется, знаете, что я на это не пойду. Да и вы, насколько мне известно, никогда не пускались в подобные авантюры. Но я считаю, что вы должны знать, где собака зарыта. Если собираетесь что-то предпринять, немедленно возвращайтесь и потолкуйте с ублюдком сами. Только потом не посвящайте меня в подробности.
Мы могли бы обратиться в суд и скорее всего выиграть дело, поскольку сделка оформлена безупречно и может выдержать любую проверку прокуратуры. Но должен предупредить, что судебные издержки составили бы около ста тысяч. А учитывая ваши известность и репутацию, нетрудно представить, какой вой подняли бы газеты, обвиняя вас в уклонении от уплаты налогов.
Думаю, вполне возможно договориться с ублюдком и отделаться примерно двумя третями этой суммы. Советую не медлить и побыстрее все утрясти, тогда можно за годик-другой возместить утраченное. Если соберетесь ответить, пишите на мой домашний адрес. Моя контора слишком велика, и никогда не знаешь, кто тебя продаст, не говоря уже о том, что правительство не гнушается перлюстрировать частные письма.
Всех благ, Лестер».
Возместить утраченное за годик-другой! Должно быть, в Калифорнии теперь никогда не заходит солнце! Недаром бедняге Лестеру все представляется в радужном свете!
Крейг разорвал письмо на мелкие клочки и бросил в корзинку. Можно, конечно, и сжечь, но не слишком ли это мелодраматичный жест? Кроме того, весьма сомнительно, что налоговое управление зайдет настолько далеко, чтобы подкупать горничных по всему Лазурному берегу, требуя от них склеивать обрывки всех писем, найденных в мусорных корзинках.
Патриот, ветеран войны, законопослушный гражданин и примерный налогоплательщик, Крейг думать отказывался, на что мистер Никсон, Пентагон, ФБР и конгресс пустят его кровные шестьдесят – семьдесят тысяч. Есть предел моральным терзаниям, которым способен подвергнуть себя человек, находящийся пусть и теоретически, но на отдыхе. Может, стоило позволить Гейл Маккиннон прочитать сегодняшнюю почту. Поклонники «Плейбоя» будут в восторге: Дягилев – покорный раб почтовой марки.
Крейг потянулся было за письмом от поверенного, но, тут же передумав, взял стопку желтых страничек, взвесил на руке, нерешительно подержал над корзинкой… быстро перелистал.
«Ему сорок восемь, выглядит он на свои годы», – прочел он. Интересно, каким кажется сорокавосьмилетний мужчина двадцатидвухлетней девушке? Развалиной? Руинами Помпеи? Верденскими окопами? Хиросимой?
Крейг уселся за письменный стол и начал читать с того места, на котором остановился. Пора увидеть себя глазами окружающих.
«Он совсем не похож на сибарита, потакающего собственным желаниям, – продолжала Гейл, – и, по общему мнению, не слишком потакает ближним. Поэтому в некоторых кругах за ним укрепилась репутация человека жесткого. Он нажил много врагов, и среди его бывших союзников есть и такие, кто обвиняет его в вероломстве. Подтверждением этого можно считать тот факт, что он никогда не ставил более одной пьесы какого-либо автора и в отличие от других продюсеров так и не завел любимчиков среди актеров. Нужно признать, что, когда две его последние картины провалились (убыток составляет более восьми миллионов долларов), собратья по кинематографу отнюдь не спешили выказать ему сочувствие».
Ну и стерва! Где она все это выискала? Не то что другие журналисты, которые редко знали о нем больше того, что печаталось в рекламных буклетах студии! Девчонка и в самом деле неплохо подготовилась. Буквально ядом брызжет!
Он пропустил две странички, бросив их на пол, и продолжал читать.
«Широко известно также, что по крайней мере однажды ему предложили руководство одной из самых престижных киностудий. Говорят, он ответил короткой уничижительной телеграммой:
Я успел вовремя сбежать с тонущего корабля. Крейг.
Его поведение можно бы объяснить тем обстоятельством, что он богат или был бы богат, если бы умело распорядился заработанными деньгами.
Режиссер, с которым он делал одну из картин, рассуждает немного по-другому. „Он просто противоречивый сукин сын“, – утверждает он. Актриса Моника Браунинг как-то сказала в одном из интервью: „Тут нет никакой тайны. Джесс Крейг – обыкновенный очаровательный псих, каких у нас немало, страдающий манией величия“».
Нет, необходимо что-нибудь выпить.
Крейг посмотрели на часы. Двадцать пять одиннадцатого. Всего десять двадцать пять.
Он, прихватив бутылку, отправился в ванную, налил в стакан немного виски и добавил воды из-под крана. Отхлебнул глоточек и отнес стакан в гостиную. И, не выпуская стакана из рук, вновь обратился к статье.
«Дважды Крейга приглашали стать членом жюри в Каннах. Дважды он отказывался. Когда стало известно, что в этом году он зарезервировал номер в отеле на весь период фестиваля, многих это весьма удивило. В течение пяти лет, после краха последней картины, он старался держаться подальше от Голливуда и лишь изредка наезжал в Нью-Йорк. И хотя свой офис так и не закрыл, за новые проекты не берется. Похоже, все эти годы он бесцельно скитался по Европе. Причины его продолжительного ничегонеделания не понятны. Отвращение? Разочарование? Утрата иллюзий? Усталость? Ощущение, что работа завершена и теперь остается лишь наслаждаться плодами трудов своих в тех местах, где гарантированно не встретишь ни друзей, ни врагов? Или нервный срыв? Может, этот гость Каннского фестиваля – попросту опустошенный человек, совершивший ностальгическое путешествие туда, где каждая улочка напоминает о славном прошлом? Или это крестовый поход профессионала, вновь собравшего свои войска и полного решимости победить?
Интересно, знает ли сам Джесс Крейг, сидя в своем стодолларовом „люксе“ с видом на Средиземное море, ответы на эти вопросы…»
Фраза обрывалась на середине страницы. Крейг положил листочки на полку текстом вниз и снова приложился к спиртному. Иисусе, подумать только, ей всего двадцать два!
Крейг вышел на балкон. Солнце вышло из-за туч, но ветер так и не улегся. Ни одного купальщика. Толстуха исчезла. Отправилась к парикмахеру? Или ее унесло в открытое море?
Внизу, на террасе, появились первые посетители. Он заметил неряшливую прическу Гейл Маккиннон, мешковатую футболку, голубые джинсы. Читает газету. На столе бутылка кока-колы.
Какой-то мужчина подошел к ней и сел напротив. Гейл отложила газету. С такой высоты было невозможно услышать, о чем они говорят.
– Я видела его, – сказала она мужчине. – Он заглотит наживку. Клюнет, старый ублюдок. Я его сцапала!
ГЛАВА 3
Он уселся. Зал быстро наполнялся народом, в основном молодежью – бородатыми парнями с перехваченными индейскими ремнями волосами в сопровождении босоногих девиц в кожаных куртках с бахромой и длинных цветастых юбках. Должно быть, в офисе Констанс они чувствовали бы себя как дома. Сегодня утром в программе был «Вудсток», американский документальный фильм о рок-фестивале, и истинные фанаты рок-музыки, одетые, как приличествует великому событию, слетелись со всего города. Интересно, как они будут одеваться, когда доживут до его лет? В их возрасте он был счастлив сменить мундир на деловой костюм.
Он надел очки и развернул «Нис-матэн». Сегодня Крейг проснулся поздно. Поскольку фильм длился три с половиной часа, а сеанс начинался в девять утра, и у него не хватило времени ни позавтракать, ни просмотреть газету.
В неярком теплом розоватом свечении он просмотрел первую страницу. Четверо студентов застрелены солдатами национальной гвардии в Кенте, штат Огайо. В зоне Суэцкого канала, как обычно, продолжается резня. Положение в Камбодже неопределенно. Ракета, запущенная с французского военного судна, сбилась с траектории, повернула в сторону суши и взорвалась около Ле-Лаванду, в нескольких милях от побережья, уничтожив попутно несколько вилл. Мэры соседних городов справедливо протестуют, с полным основанием доказывая, что подобные промахи военных наносят непоправимый урон туризму. Французский режиссер дает интервью, в котором объясняет, почему никогда и ни за что не представит свой фильм на фестиваль.
Кто-то произнес «рardon», и Крейг встал, так и не отрываясь от газеты. Послышался шорох длинной юбки; какая-то женщина проскользнула мимо и опустилась в соседнее кресло. В ноздри ударил легкий запах мыла, почему-то напомнивший о детстве.
– С новым утром. – Его приветствовала поп-девушка.
Он узнал огромные темные очки, закрывавшие почти пол-лица. На голове девушки красовался узорчатый шелковый шарф. Крейг пожалел, что не успел побриться.
– Ну разве не здорово, что мы все время сталкиваемся нос к носу? – заметила она.
– Здорово, – согласился он. Ее голос, как и костюм, сегодня казался другим. Более мягким, не столь напористо-вызывающим.
– Я была здесь и вчера вечером.
– Я вас не заметил.
– Так все говорят. – Девушка заглянула в программку. – Вас никогда не одолевал соблазн снять документальный фильм?
– Как всякого другого.
– Говорят, этот – сплошное безумие.
– Кто именно говорит?
– Ну… вообще. – Она уронила программку на пол. – Вы уже успели просмотреть тот материал, что я послала?
– У меня времени не хватило даже завтрак заказать, – пожаловался он.
– А мне нравится спешить в кино к девяти. В этом есть некое извращенное наслаждение. Да, большой конверт из оберточной бумаги. Дальнейшие экзерсисы на тему «Джесс Крейг как личность и деятель кинематографа». Улучите минуту, чтобы ознакомиться.
Она вдруг зааплодировала. В проходе перед сценой появился высокий бородатый молодой человек и повелительно поднял руку, призывая к тишине.
– Это режиссер, – объяснила Гейл.
– Вы видели другие его работы?
– Нет. – Она еще энергичнее захлопала в ладоши. – Я большая поклонница режиссеров.
У режиссера на рукаве была траурная повязка. Свою речь он начал с того, что призвал остальных последовать его примеру – в знак скорби по студентам, убитым в Кенте, а в заключение объявил, что посвящает фильм их памяти.
Хотя Крейг не сомневался в искренности молодого человека, напыщенная речь и явно бьющее на эффект знамение скорби в виде повязки вызвали у него ощущение некоей неловкости. Если бы все это происходило в другом месте, он, вероятно, был бы тронут. И уж конечно, смерть ни в чем не повинных молодых людей отозвалась в нем такой же болью, как и в любом из тех, кто пришел сюда. В конце концов у него двое своих детей, которые при определенных трагических обстоятельствах тоже могут погибнуть в таком же беспримерном побоище. Но сейчас, сидя в роскошном раззолоченном зале, где публика в самом праздничном настроении ожидала начала развлечения, он не мог избавиться от неприятной мысли, что от этого выступления так и разит саморекламой режиссера и стремлением предстать перед поклонниками в наилучшем виде.
– Ну как, наденете траур? – шепотом осведомилась девушка.
– Вряд ли.
– Я тоже, – кивнула она. – Не питаю ни малейшего почтения к смерти.
Она выпрямилась, словно приводя себя в состояние боевой готовности перед долгожданным зрелищем. Крейг попытался сделать вид, что не замечает ее присутствия.
Когда огни медленно погасли и начался фильм, Крейг сделал над собой усилие, стараясь отрешиться от всех предубеждений. Он отлично сознавал, что его нелюбовь к бородам и длинным волосам по меньшей мере неумна и вызвана лишь тем, что он рос и воспитывался в другое время и привык к иному стилю. Нынешняя манера одеваться в лучшем случае негигиенична. Моды приходят и уходят, и достаточно заглянуть в старые семейные альбомы, чтобы понять, насколько смешной кажется одежда, считавшаяся в свое время в высшей степени консервативной. Его отец, выходя по воскресеньям на пляж, надевал брюки-гольф. У Крейга еще хранится его фото в этих самых брюках.
Говорили, что «Вудсток» вроде бы выражает идеи и чаяния молодежи. Если это действительно так, он готов с ними ознакомиться.
Фильм действительно оказался интересным. С первых же кадров стало ясно, что человек, создавший его, обладает истинным талантом. Будучи профессионалом, Крейг ценил это качество в других, а на экране не было ни намека на дилетантство или пошлую пустенькую игривость. Снято и смонтировано на совесть, ничего не скажешь. Каждый кадр стал результатом кропотливого труда и серьезных размышлений. Но вид четырехсот тысяч человеческих существ, собранных в одном месте, независимо от того, кем они были и с какой целью собрались, был ему неприятен. Картина с невероятной точностью передавала маниакальную распущенность и поразительную неразборчивость и угнетала его все больше, по мере того как разворачивалось действие. Музыка и исполнение, за исключением двух песен, спетых Джоан Баэз, казались грубыми, примитивными и оглушительно-громкими, словно шепот или даже нормальный тембр голоса начисто выпали из вокального диапазона молодых американцев. Фильм казался Крейгу набором безумных звуков, предшествующих оргазму, но без кульминации самого оргазма. Когда на экране появились юноша и девушка, занимавшиеся любовью, не обращая внимания на камеру, Крейг отвел глаза.
И не веря собственным ушам, он наблюдал, как один из исполнителей, словно капитан группы поддержки на футбольном матче, выкрикивал:
– Скажите «эф»!
И четыреста тысяч глоток послушно отвечали:
– «Эф»!
– Скажите «ю»!
И четыреста тысяч голосов незамедлительно откликались:
– «Ю»!
– Скажите «си»!
И четыреста тысяч выкриков повисали над полем:
– «Си»!
– Скажите «кей»!
И четыреста тысяч человек тут же повторяли:
– «Kей»!
– И что получилось?! – жизнерадостно орал заводила голосом, стократно усиленным мегафоном.
– FUCK! – разнеслось по полю хрипло и раскатисто, словно на каком-то ритуальном фашистском сборище.
И тут же хор восторженных воплей. Публика в зале разразилась аплодисментами. Только сидевшая рядом с ним девушка осталась неподвижной. Руки спокойно лежали на коленях. Пожалуй, она не так уж плоха, как показалось ему сначала.
Он не встал и не ушел, но потерял к фильму всякий интерес. Кто может объяснить истинное значение грязного ругательства, произнесенного многоголосой аудиторией? Слово как слово, не хуже других, он сам иногда им пользуется. Само по себе оно не уродливо и не прекрасно, а в последнее время его так затерли, что от непрерывного употребления оно утратило первоначальный смысл или, наоборот, приобрело столько различных оттенков, что перестало ассоциироваться с чем-то неприличным. А в этом гигантском молодежном хоре оно звучало примитивной издевкой, лозунгом, стало оружием, стягом, под которым промаршируют батальоны смерти. Оставалось надеяться, что отцы тех четырех студентов, убитых в Кенте, никогда не увидят «Вудсток» и не узнают, что в произведении искусства, посвященном их погибшим детям, есть эпизод, в котором около полумиллиона их современников почтили память своих ровесников гнусной непристойностью.
До конца фильма оставалось немногим более часа, когда Крейг покинул зал. Девушка, казалось, не заметила его ухода.
Солнце сияло над голубым морем, национальные флаги стран-участниц фестиваля весело развевались на мачтах перед кинотеатром. Несмотря на то что на набережной было довольно многолюдно, а по мостовой мчался непрерывный поток машин, здесь царило благословенное спокойствие. Наконец-то и Канны стали напоминать полотна Дюфи.
Крейг спустился на пляж и побрел по кромке воды, одинокий, замкнутый человек.
Он решил пойти в отель, побриться. В почтовом ящике лежали большой конверт из оберточной бумаги с его именем, наискосок нацарапанным четким женским почерком, и письмо со штемпелем Сан-Франциско, от дочери Энн.
Крейг бросил конверты на столик в гостиной, отправился в ванную и старательно выскреб щеки. Лосьон приятно пощипывал горевшую кожу. Он вернулся в гостиную и взялся за послание Гейл Маккиннон. На стопке желтых листков с машинописным текстом лежала написанная от руки записка.
«Дорогой мистер Крейг! Я пишу это поздно ночью в гостиничном номере, гадая, что такого во мне вам не понравилось. Всю свою жизнь я умела ладить с людьми, но весь день и вечер, стоило мне взглянуть в вашу сторону, где бы то ни было: на пляже, за обедом, в фойе фестивального зала, в баре, на вечеринке, – вы смотрели на меня с таким видом, словно перед вами ураган по имени Гейл, готовый смести этот город с лица земли. Вам, разумеется, не привыкать давать интервью, причем, готова побиться об заклад, людям куда глупее меня, среди которых было немало ваших недоброжелателей. Почему же именно я так вам неприятна?
Что ж, если не хотите сами побеседовать со мной, найдется немало таких, кто не станет молчать, так что я не трачу времени даром. Если я не могу написать портрет с натуры, создам его, полагаясь на бесчисленные взгляды и мнения посторонних людей. И если получится так, что результат вам не слишком понравится, – ничего не поделаешь, сами виноваты».
Ага, обычный прием не слишком удачливых репортеров. Этакий элегантный шантаж. Если не выложишь все как на духу, я натравлю на тебя твоих врагов, готовых вылить ушаты грязи. Вероятно, это первое, чему учат на факультетах журналистики.
«Но может быть и так, – читал он, – что я подойду к этой проблеме совершенно иначе. Как делают ученые-биологи, наблюдающие диких животных в их естественной среде, – издалека, сидя в укрытии с биноклями. Животное метит свою территорию, не любит посторонних, опасается людей, употребляет крепкие напитки, обладает не слишком сильным инстинктом выживания, часто спаривается, причем с наиболее привлекательными самками из стада».
Крейг невольно хмыкнул. Достойный у него противник, ничего не скажешь. Записка заканчивалась словами:
«Поэтому я, подобно им, тоже лежу в засаде. И не отчаиваюсь. Прилагаю очередную околесицу на ту же тему, аккуратно напечатанную. Уже четыре утра, и я отважно пронесу свое произведение по темным улицам Гоморры-у-Моря и позолочу ручку портье, с тем чтобы первым, что вы узреете, проснувшись утром, стало имя Гейл Маккиннон».
Он отложил записку и, не позаботившись проглядеть продолжение статьи, взялся за письмо дочери. Каждый раз, получая послание от одной из своих дочурок, он вспоминал невыносимо циничное признание дочери Скотта Фицджеральда, которая где-то писала, что, еще учась в колледже, вскрывала письма от отца, только чтобы поглядеть, есть ли в них чек, а потом непрочитанными швыряла в ящик стола. Крейг развернул письмо. Самое меньшее, что может сделать отец для своего ребенка.
«Дорогой папочка, – читал он слова, написанные неразборчивым почерком не слишком прилежной ученицы, – Сан-Франциско это сплошная тощища. Колледж наш скоро распустят, а обстановка такая, словно вот-вот начнется война. Повсюду одни гунны. По обе стороны. В весеннем воздухе словно разлит слезоточивый газ, и каждый тупо уверен в собственной правоте. Насколько мне известно, мои чернокожие друзья жаждут, чтобы я изучала не столько романтическую поэзию, сколько ритуальные танцы африканских племен и обряд обрезания молодых девушек, поскольку романтическая поэзия устарела и изжила себя. Преподаватели отнюдь не лучше всей здешней публики. Образование – только для тупоголовых мещан и жалких обывателей.
Я больше не даю себе труда появляться в кампусе. Если случайно оказываешься там, не менее двадцати кретинов требуют от тебя принести твое непорочное тело в жертву на алтарь Джаггернаута[9]. И что бы ты ни сделал, как бы ни поступил, все равно обзаведешься клеймом предателя. И если не считаешь Джерри Рубина[10] истинным и ярчайшим представителем нового американского поколения и образцом настоящего мужчины, значит, твой отец – президент банка, или тайный агент ЦРУ, или, упаси Господи, Ричард Никсон. Наверное, придется мне из духа противоречия вступить в „Черные пантеры“ или общество Джона Берча и показать всем что почем. Перефразируя известного писателя: ни студент, ни полисмен.
Знаю, знаю, это я настояла на колледже в Сан-Франциско, потому что после стольких лет, проведенных в швейцарских школах, один психованный суперпатриот убедил меня, что я теряю родные корни и что именно в Сан-Франциско жизнь бьет ключом. Кроме того, этим летом я собиралась поработать официанткой на озере Тахо, чтобы собственными глазами посмотреть, как существует другая половина человечества. Но теперь мне уже до лампочки, как там обстоят дела. Понимаю, это, вероятно, была временная прихоть. Ужасно неловко признаваться в полной несостоятельности и недолговечности своих идей, большинство из которых не протянут и до обеда. Но проживи я еще сто лет, все равно останусь типичной американкой, помоги мне Боже! И мечтаю только об одном (если, конечно, это не слишком тебя обременит): сесть в самолет и отправиться в Европу, чтобы провести лето. Пусть эти, которые в колледже, сами выясняют отношения до начала осеннего семестра.
Если я попаду в Европу, хотелось бы по мере возможности держаться подальше от матери. Тебе, наверное, известно, что она сейчас в Женеве. Пишет мне мрачные письма о том, как ты невыносим и с каким изощренным коварством пытаешься уничтожить ее, что ты развратник, что страдаешь от раннего климакса, и все в таком роде. А с тех пор как она обнаружила, что я принимаю пилюли[11], обращается со мной как с Фанни Хилл[12] или с персонажем одного из романов маркиза де Сада, и если я приеду к ней, то умру от тоски на берегах Женевского озера.
Твоя любимая дочурка Марша время от времени пишет из своей Аризоны. По ее словам, она счастлива, если не считать стенаний по поводу излишнего веса. Очевидно, никакие новые веяния не доходят до аризонского университета, и жизнь там течет, как в старых добрых мюзиклах про студентов, с ребяческими кражами трусиков из спален и битвами подушками, которые так часто дают в программах „для тех, кто не спит“. Марша утверждает, будто толстеет потому, что все время жует. Что-то вроде нервного стресса по причине того, что наш теплый семейный очаг навеки потушен. Фрейд, чистый Фрейд, даже в кафе-мороженом.
Письмо так и пересыпано шуточками, но на самом деле, папа, мне не так уж весело.
Целую, Энни».
Крейг тяжело вздохнул и отложил письмо. Стоило бы отправиться в какую-нибудь глушь, без почты и телефонов, и при этом не оставить адреса. Интересно, как бы сейчас подействовали на него письма, которые он писал родителям с фронта? Он сжег их все до одного, когда после смерти матери нашел в сундуке аккуратно перевязанную стопку.
Он поднял желтые странички Гейл Маккиннон. Лучше прочесть все одним махом, прежде чем остаться лицом к лицу с бесконечным пустым днем.
Он отнес листочки на балкон и уселся на солнышке. Даже если вылазка в Канны окажется бесплодной, хоть загаром обзаведется.
«Пункт следующий, – прочел он. – Человек он не слишком приветливый, держится сухо, блюдет дистанцию. Немного старомодный смокинг, в котором он присутствовал на приеме в бальном зале Зимнего казино после вечернего просмотра, придавал ему отчужденный, строго официальный вид. В несколько разнузданной атмосфере зала, где преувеличенное дружелюбие и показное добродушие стали правилами игры, где чуть знакомые мужчины обнимаются, а женщины целуются едва ли не с первым встречным, его учтивость производит поистине леденящее впечатление. Он никого не удостоил более чем пятиминутным разговором и постоянно перемещался по залу – не потому, что не находил себе места, а потому, что в мыслях был где-то далеко. На приеме присутствовало немало красивых женщин, и среди них по меньшей мере две, с кем его имя когда-то связывали. Эти дамы, великолепно причесанные и роскошно одетые, на взгляд автора, очень хотели бы удержать его рядом с собой, но после ритуальной пятиминутной беседы он неизменно удалялся».
«Связывали. С кем его имя когда-то связывали?» – рассердился он. Кто-то снабжает ее сведениями. Кто-то хорошо его знающий. Из числа недругов. Крейг видел Гейл Маккиннон на приеме и даже кивнул ей. Но не заметил, что она следила за ним.
«Отнюдь не материальное положение семьи помешало Крейгу получить образование. Родители его были людьми довольно обеспеченными. Отец Крейга, Филип, до самой кончины, случившейся в 1946 году, был казначеем нескольких бродвейских театров, и хотя, как и многие, пострадал во время Депрессии, несомненно, мог позволить себе обучать единственного ребенка в колледже. Но Крейг вместо этого предпочел пойти в армию вскоре после нападения на Перл-Харбор. И хотя он пробыл там почти пять лет и дослужился до чина техника-сержанта, не удостоился никаких наград, кроме театральных и нашивок ветерана войны».
После этого абзаца стояла звездочка, обозначавшая сноску. Он опустил глаза в конец страницы.
«Дорогой мистер К., все это отчаянная тоска, но пока вы не разоткровенничаетесь, мне остается лишь строго придерживаться фактов. Когда настанет время свести все воедино, я беспощадно отредактирую материал, чтобы читатель не умер от скуки».
Крейг вернулся к абзацу перед сноской.
«Ему сказочно повезло вернуться с войны не только невредимым, но и привезти в вещевом мешке рукопись пьесы молодого рядового Эдварда Бреннера, которую через год после своей демобилизации он поставил под названием „Пехотинец“. Старые связи отца в мире театра, несомненно, помогли обеспечить молодому начинающему режиссеру блестящий дебют.
Позднее Бреннер поставил на Бродвее еще две пьесы, с треском провалившиеся. Продюсером одной был Крейг. С тех пор Бреннер пропал из виду».
«По-вашему, юная леди, может, и так, – подумал Крейг, – но из моего поля зрения он не исчезал ни на миг. Стоит ему прочесть эту статью, как бывший рядовой мгновенно объявится».
«Говорят, как-то в разговоре, когда его спросили, почему он редко сотрудничает с авторами повторно, Крейг ответил: „В литературной среде обычно считают, будто каждый человек носит в себе по крайней мере один роман. Я обнаружил, что это не совсем так. Очень немногие женщины и мужчины носят в себе целый роман, остальные же ограничиваются дай Бог одной фразой или в лучшем случае рассказом“».
Где, черт побери, она все это выкопала?
Крейг раздраженно поморщился. Кажется, он и в самом деле однажды отпустил эту довольно обидную шутку, чтобы отбрить очередного зануду, но, хоть убей, не мог вспомнить, где и когда это было. И нужно признаться, в каждой шутке есть доля истины. Но пусть в глубине души он сам отчасти верил тому, что сказал, появись его слова в печати, вряд ли они укрепили бы его репутацию благожелательного человека.
Она дразнит его! Эта маленькая сучка подстрекает его, разжигает любопытство, пытается вызвать его на откровенность, заставить поторговаться или попросту подкупить, чтобы не будила спящую собаку и не толкала его на поле, усеянное противопехотными минами.
«Было бы интересно, – продолжала Гейл, – уговорить Крейга составить список людей, с которыми он работал, и разбить его по категориям в соответствии с вышеупомянутыми критериями. Стоит романа. Стоит рассказа. Стоит предложения. Стоит фразы. Стоит запятой. Если мне когда-нибудь удастся снова с ним потолковать, попытаюсь вытянуть из него такой список».
Она жаждет крови. Его крови.
Страница была дописана от руки.
«Дорогой мистер К. Уже поздно, и я клюю носом. Информации у меня на несколько томов, но не сегодня. Если хотите каким-то образом прокомментировать прочитанное, я полностью к вашим услугам. Продолжение следует. Ваша Г. М.».
Первым его порывом было смять листочки и сбросить с балкона. Но благоразумие перевесило. К тому же девушка сказала, что оставила себе копию. И впредь будет оставлять, что бы еще ни прислала.
В заливе на якоре лениво покачивался пассажирский лайнер, и на мгновение ему захотелось собрать вещи, взойти на борт и отправиться куда глаза глядят. Куда бы ни держал курс корабль. Но какой смысл? Она, вероятнее всего, окажется в первом же порту с машинкой в руках.
Крейг вышел в гостиную, мимоходом швырнул статью на стол и взглянул на часы. На обед к Мерфи еще слишком рано. Тут он вспомнил, что вчера обещал Констанс позвонить. Она требовала подробного отчета.
Он приехал в Канны отчасти из-за нее.
– Отправляйся туда, – требовала она. – Проверь, можешь ли снова впрячься в работу. Ни к чему тянуть.
Она была не из тех женщин, кто любит проволочки.
Крейг отправился в спальню и заказал разговор с Парижем. Потом лег на незастеленную кровать и попытался вздремнуть.
Крейг закрыл глаза, но сон не шел: слишком много выпил вчера вечером и всю ночь ворочался. В висках отдавался грохот подключенных к мощным усилителям электрогитар из только что просмотренного фильма, перед глазами возникали картины сладострастно сплетенных тел. Если Констанс ответит, он непременно скажет, что сегодня же вылетает в Париж.
Крейг встретил Констанс на благотворительном балу по сбору средств в фонд Бобби Кеннеди, когда в шестьдесят восьмом приехал в Париж. Сам он собирался голосовать в Нью-Йорке, но старый парижский приятель взял его с собой на бал. Публика собралась сплошь интересная и осаждала умными вопросами двух красноречивых представительных джентльменов, прибывших из Штатов просить денег и моральной поддержки для далекого соотечественника у оказавшихся за границей американцев, которые зачастую были лишены права голоса.
Крейг не разделял восторженных чувств присутствующих, но все же выписал чек на пятьсот долларов, немного подсмеиваясь над собой и над тем, что вынужден помогать деньгами кому-то из семейства Кеннеди. В большом роскошном салоне, стены которого были увешаны темными полотнами авангардистов, которые, как он подозревал, вскоре будут проданы по дешевке, разгоралась оживленная дискуссия. Крейг проскользнул оттуда в пустую столовую, поближе к бару, и как раз наливал себе выпить, когда вошла Констанс. Еще в салоне, краем уха слушая речи, он время от времени чувствовал на себе пристальные взгляды этой неотразимой женщины, с удивительно бледным лицом, зеленоватыми глазами и смоляными волосами, коротко, не по моде остриженными. Однако ей эта прическа очень шла. На женщине было короткое желтовато-зеленое платье, не скрывавшее на редкость красивых ног.
– Я тоже хочу выпить. Дадите? Я Констанс Добсон. И знаю, кто вы, – объявила она отрывисто, хрипловатым низким голосом. – Джин и тоник. Побольше льда.
Крейг молча выполнил просьбу.
– Что вы здесь делаете? – осведомилась она, прихлебывая джин. – Вы, скорее, походите на республиканца.
– Я всегда стараюсь выглядеть республиканцем, когда попадаю за границу, – пояснил он. – Это благотворно действует на туземцев.
Констанс рассмеялась резким, оглушительным, почти вульгарным для такой стройной элегантной женщины смехом, рассеянно играя длинной золотой цепочкой, свисавшей почти до пояса. Крейг заметил, что грудь у нее высокая и упругая. Совсем как у девушки. Интересно, сколько ей лет?
– Похоже, вы не помешаны на кандидате, как все остальные, – заметила она.
– Я вижу в нем некоторую жестокость. Я не слишком ярый приверженец лидеров, обладающих подобными чертами характера.
– Но все же выписали чек.
– Политика – как говорится, искусство неограниченных возможностей. Вы тоже выписали чек.
– Чистейшая бравада. Едва свожу концы с концами. Все потому, что молодежь за него. Может, им известно то, что нам не понять.
– Что ж, резонно, – согласился Крейг.
– Вы живете не в Париже.
– В Нью-Йорке, – уточнил Крейг, – то есть если вообще где-то живу. Здесь я проездом.
– Надолго? – спросила она, задумчиво глядя на него поверх бокала.
– Сам не знаю, – пожал плечами Крейг.
– А я специально последовала за вами.
– Правда?
– Вам ведь и самому все ясно.
– Н-ну да, – выдавил Крейг, с удивлением ощущая, как горят щеки.
– У вас хмурое, но волевое лицо. Словно под пеплом тлеет огонь. – Она усмехнулась. Волнующий, неуместно низкий звук. – И чудесные широкие прямые плечи. Мне знакомы здесь всякий и каждый. Интересно, приходилось ли вам когда-нибудь входить в комнату, осмотреться и сказать себе: «Господи, да я здесь каждую собаку знаю!» Понимаете, о чем я?
– Кажется, да, – кивнул он. Теперь она стояла совсем близко. Кажется, она буквально искупалась в духах, но запах был свежим и терпким.
– Ну что, собираетесь поцеловать меня? – внезапно спросила она. – Или еще потерпите?
Крейг поцеловал ее. Он не целовал женщин вот уже больше двух лет, и ему понравилось.
– У Сэма есть мой телефон, – шепнула она. Сэм и был тем приятелем, который притащил его сюда. – Позвонишь в следующий раз, когда будешь в Париже. Если захочешь, конечно. Сейчас я не свободна. Пытаюсь отделаться от назойливого любовника. Ну, мне пора. Дома больной ребенок.
Желто-зеленое платье мелькнуло в фойе, где висели пальто.
Оставшись один, Крейг налил себе еще виски, вспоминая прикосновение ее губ и терпкий аромат духов.
По пути домой он разузнал у Сэма номер ее телефона, задал ему несколько осторожных вопросов, но не обмолвился и словом о сцене в столовой.
– Пожирательница мужчин, – заверил Сэм. – Но при этом довольно доброжелательна. Лучшая из американских девчонок в Париже. Занята какой-то нелепой работой с детьми или чем-то в этом роде. Кстати, ты когда-нибудь видел такие ноги?
Сэм был адвокатом, солидным, не склонным к гиперболизации человеком.
В следующий свой приезд, уже после выборов и убийства Бобби Кеннеди, он набрал полученный от Сэма номер.
– Я помню вас, – обрадовалась она. – И уже турнула того парня.
Он пригласил ее на ужин. В этот вечер и все последующие до самого отъезда. Она оказалась родом из Техаса. Первая красавица, высокая, стройная, своевольная девушка с надменно поднятой маленькой темной головкой, она покорила сначала Нью-Йорк, потом Париж. «Дорогие мужчины, – словно говорила она одним своим видом, появляясь в комнате, – что вы здесь делаете? И стоите ли потраченного на вас времени?»
Только с ней он наконец увидел настоящий Париж. Этот город принадлежал ей, и она проходила по его улицам гордо, радостно, создавая атмосферу праздника. Вспыльчивая, взрывная, она умела показать зубки. Во всем, что касается работы, Констанс была педанткой, ненавидевшей бездельников и паразитов. Яростно-независимая, она приехала в Париж как модель, во время, как она говорила, второй половины правления Карла Великого. Несмотря на почти полное отсутствие образования, она была поразительно начитанной. Никто из знакомых не знал точно, сколько ей лет. Дважды Констанс была замужем. «Мимоходом», – шутила она. Оба мужа и многочисленные любовники обирали ее до нитки, но Констанс не испытывала к ним злости. Устав от подиума, она вместе с партнером, бывшим университетским преподавателем из штата Мэн, организовала туристическое бюро по обмену студентами.
– Молодые люди должны лучше знать друг друга, – утверждала она, – только в этом случае их нельзя будет заставить взять в руки оружие и убивать.
Ее любимый старший брат был убит под Ахеном, и она была ярой пацифисткой. Когда новости из Вьетнама были особенно мрачными, она разражалась солдатской бранью и грозилась переехать вместе с сыном куда-нибудь на южное побережье Тихого океана.
Несмотря на то что Констанс действительно считала каждый франк, одевалась она экстравагантно. Парижские кутюрье ссужали ей платья, зная, что, где бы Констанс ни появилась, и она, и их творения будут оценены по достоинству.
И где бы она ни проводила ночь, ровно в семь поднималась и уходила, чтобы покормить детей завтраком и отправить в школу. Какой бы бурной ни была ночь, ровно в девять Констанс уже сидела за столом. И хотя Крейг оставил за собой номер в отеле, его истинным домом стала спальня Констанс, выходившая в сад на левом берегу Сены. Ее детям он нравился.
– Они привыкли к мужчинам, – объясняла Констанс. Она давно переросла усвоенные в Техасе моральные принципы и игнорировала правила приличия и условности, принятые в тех парижских кругах, где блистала и вращалась.
Она была искренней, чистосердечной, забавной, требовательной, непредсказуемой, восхитительно созданной для любви, ласковой, порывистой, предприимчивой – и серьезной лишь в тех случаях, если этого требовали обстоятельства. До сих пор он жил как во сне. Но теперь проснулся.
Когда-то Крейг приобрел неприятную привычку не замечать и не ценить в женщине женственность, но теперь мгновенно откликался на красоту, чувственную улыбку, легкую походку. Его глаза вновь приучились по-юношески сладострастно следить за развевавшейся юбкой, изгибом шеи, изящным движением. Верный лишь единственной женщине, теперь он вновь обрел способность восхищаться всем прекрасным полом: один из бесчисленных даров, полученных от Констанс.
Она откровенно рассказывала ему о его предшественниках, и Крейг, зная, что после него будет кто-то другой, сумел подавить ревность. Лишь встретив Констанс, он понял, что страдал от глубоких душевных ран. Теперь эти раны потихоньку затягивались.
В тишине комнаты, нарушаемой лишь тихим шумом прибоя, он нетерпеливо ждал звонка, чтобы поскорее услышать неповторимый хрипловатый отрывистый голос. На языке так и вертелись слова: «Я лечу в Париж первым же рейсом». Даже если сегодня у нее и назначено свидание, она все отменит ради него.
Наконец телефон зазвонил.
– А, это ты… – неприветливо бросила она.
– Дорогая… – начал Крейг.
– Я тебе не «дорогая», продюсер! И не старлетка, которая по две недели елозит своим сучьим задом по дивану!
В трубке раздавался слитный гул голосов: должно быть, в ее офисе, как обычно, яблоку негде упасть, но Констанс никогда не стеснялась устраивать сцены при посторонних.
– Послушай, Конни…
– «Послушай, Конни», мать твою… – передразнила она. – Ты обещал позвонить вчера. Только не уверяй, будто не смог дозвониться. Я все это уже слышала.
– Я и не пытался.
– У тебя даже ума не хватает соврать, сукин ты сын!
– Конни, – умоляюще пробормотал Крейг.
– Единственный порядочный человек в Каннах. А все мое чертово везение. Почему ты не пытался?
– Я был…
– Засунь эти объяснения куда подальше. И телефонные звонки тоже. Я не обязана торчать в офисе и ждать, когда проклятый телефон соизволит позвонить. Надеюсь, ты найдешь подходящую сиделку в Каннах, потому что, клянусь Господом, в Париже твои акции больше не котируются!
– Конни, ради Бога, опомнись!
– Уже опомнилась. И с этой минуты я буду совершенно благоразумной. Считай, что этот телефон отныне выключен. И не пытайся набирать номер. Никогда!
В шестистах милях от него раздался громкий треск: очевидно, она в гневе швырнула трубку на рычаг. Крейг удрученно покачал головой и осторожно положил трубку, улыбаясь при мысли о том, как ошеломленно смолкла галдевшая до того молодежь и каким оглушительным хохотом разразился ее партнер-профессор, выведенный этой тирадой из состояния хронического сомнамбулизма. Она не в первый раз устраивала Крейгу подобные скандалы. И не в последний. Отныне он будет звонить в назначенный срок, даже если для этого придется весь день висеть на телефоне.
Крейг спустился на террасу, позволил сфотографировать себя с львенком, написал на снимке: «Я нашел тебе достойную пару», – вложил в конверт и отправил Констанс экспресс-почтой.
Пора отправляться на обед к Мерфи. Выйдя к подъезду, он спросил швейцара, где его машина. Тот был занят каким-то облезлым лысеющим стариком в «бентли» и проигнорировал Крейга. Автостоянка перед отелем была забита машинами, причем лучшие места приберегались для «феррари», «мазерати», и «роллс-ройсов». Скромная «симка», взятая им напрокат, обычно заталкивалась в самый укромный уголок, чтобы не позорить репутацию отеля, и время от времени, когда наплыв дорогих колымаг бывал особенно велик, Крейг обнаруживал свою машину в квартале от отеля, в каком-нибудь переулке. В его жизни случались периоды, когда он раскатывал на «альфах» и «лансиях», но все это давно в прошлом, и теперь ему вполне хватало и того, что мотор работает, а колеса крутятся. Однако сегодня, когда швейцар наконец соизволил сообщить, что машина припаркована где-то позади отеля, и ему пришлось долго брести вдоль теннисных кортов туда, где обычно ошивались шлюхи, Крейг ощутил нечто вроде смутного унижения. Похоже, служащие отеля успели узнать о его неудачах и, всячески издеваясь над его скромной машиной, дают таким образом понять, что он недостоин жить во дворце, стены которого они охраняют.
«Ну ничего, посмотрим на их лица, когда придет время давать чаевые», – мрачно подумал Крейг и, повернув ключ в зажигании, поехал к мысу Антиб на свидание с Брайаном Мерфи.
ГЛАВА 4
Портье сообщил Крейгу, что мистер и миссис Мерфи ожидают его в своем пляжном бунгало.
Крейг прошел к морю через парк, напоенный сосновым ароматом. Кругом стояла тишина. Единственными звуками были стук его каблуков по камням тенистой дорожки и неумолчный треск цикад.
Немного не дойдя до бунгало, он остановился. Мерфи были не одни. В маленьком патио сидела молодая женщина в весьма откровенном розовом купальнике. Длинные, блестевшие на солнце волосы падали на плечи. Стоило ей слегка повернуться, как Крейг сразу узнал знакомые темные очки.
Мерфи, в пестрых плавках, о чем-то толковал с ней. Соня Мерфи растянулась в шезлонге.
Крейгу смертельно захотелось вернуться в отель и, позвонив оттуда, попросить Мерфи приехать к нему, потому что тут собралось неподходящее общество, но в этот момент Мерфи его заметил.
– Эй, Джесс! – окликнул он, вставая. – Мы здесь!
Гейл Маккиннон не повернулась, хотя и встала при его приближении.
– Привет, Мерф, – кивнул Крейг, пожимая ему руку.
– Старина!..
Крейг наклонился и поцеловал Соню в щеку. В свои пятьдесят она едва выглядела на тридцать пять: подтянутая фигура и мягкое, почти без морщин, совершенно неголливудское лицо. Очевидно, боясь обгореть, она прикрылась купальным полотенцем и надела широкополую соломенную шляпу.
– Сколько лет, сколько зим, Джесс, – сказала она.
– И не говори.
– Эта юная леди, – вмешался Мерфи, – утверждает, что знакома с тобой.
– Мы встречались, – коротко бросил Крейг. – Здравствуйте, мисс Маккиннон.
– Здравствуйте.
Девушка стащила очки театрально-подчеркнутым жестом, каким обычно снимают маски на карнавале. Глаза оказались широко поставленными, ярко-голубыми, сверкающими, как драгоценные камни, но уклончивый, неуверенный взгляд словно говорил о том, что ей не впервые испытывать боль. Серьезное открытое лицо, еще не оформившаяся фигура, атласная кожа… на вид ей можно было дать не больше шестнадцати-семнадцати лет. У Крейга появилось странное ощущение, будто солнечные лучи сфокусировались только на ней, заливая сияющим водопадом, а сам он смотрит на нее издалека, окутанный темными тучами, предвещающими дождь. В это мгновение она казалась идеальным созданием природы, на фоне сверкавших голубых волн, певших гимны ее юности, безупречной коже, почти угловатому совершенству.
Его охватило тревожащее чувство, что все это уже было: та же сцена, девушка, застывшая в ожидании на ярком солнце, а позади безбрежная морская гладь.
Гейл наклонилась не слишком грациозно, длинные волосы взметнулись, и Крейг увидел у ее ног магнитофон. Он невольно отметил мягкую округлость живота над розовой тканью бикини, широкие бедра с по-детски выделяющимися косточками. Странно, почему вчерашним утром она всячески старалась себя изуродовать этой нелепой спортивной футболкой, черными очками-забралом.
– Она берет у меня интервью, – пояснил Мерфи. – Хотя я всячески отбивался.
– Верю, – кивнул Крейг.
Мерфи славился тем, что раздавал направо и налево интервью на любые темы. Этот рослый, тяжеловесный, несколько неуклюжий шестидесятилетний мужчина с копной черных крашеных волос и заплывшим от виски лицом обладал проницательными острыми глазками и типично ирландским, грубоватым обаянием. И при этом имел репутацию человека, которому палец в рот не клади. Он был одним из самых упрямых и несговорчивых агентов, что способствовало обогащению не только клиентов, но и его самого. Они не подписывали контракта, все ограничилось устным договором, хотя он и представлял интересы Крейга более двадцати лет. Но с тех пор как Крейг покончил с кино, встречались они нечасто. Да, они были друзьями. «Только вот, – с неожиданной злобой подумал Крейг, – прежней близости, как раньше, когда я был на коне, уже нет».
– Как твои девочки, Джесс?
– Судя по последним письмам, неплохо, – отозвался Крейг. – Насколько могут быть в порядке девицы их лет. Марша, я слышал, потолстела.
– Если они не под следствием за хранение и продажу наркотиков, – хмыкнул Мерфи, – считай себя счастливым родителем.
– Я считаю себя счастливым родителем, – подтвердил Крейг.
– А выглядишь бледновато, – покачал головой Мерфи. – Надень плавки и поджарься немного на солнышке.
Крейг покосился на стройное загорелое тело Гейл Маккиннон.
– Благодарю, не стоит. Мой купальный сезон еще не начался. Соня, почему бы нам не прогуляться и не дать им спокойно закончить интервью?
– Мы закончили, – вмешалась Гейл. – Он говорил целых полчаса.
– И надеюсь, сообщил ей что-нибудь полезное? – осведомился Крейг?
– Хочешь узнать, не злоупотреблял ли непристойностями? Ни в коем случае! – замахал руками Мерфи.
– Мистер Мерфи был крайне словоохотлив и рассказал много интересного, – вступилась за него Гейл. – Заявил, что кинематографу приходит конец. Не осталось ни денег, ни талантов, ни мужества.
– Это заявление здорово поспособствует ему при заключении очередной сделки, – вздохнул Крейг.
– Да хрен с ними, – беспечно бросил Мерфи. – Я свою долю уже имею. Можно позволить себе роскошь сказать правду, пока я в настроении. Заметь, сейчас запускается в производство фильм, который финансируют индейцы апачи. Каким дерьмом нужно заниматься, чтобы получить добро на сценарий от индейцев апачи? Кстати, мы заказали омаров. Не возражаешь?
– Нет.
– А вы? – обратился он к девушке.
– Я люблю омаров.
Ах вот как? Значит, она останется на обед?
Крейг сел на складной стул лицом к девушке.
– Она, – объявил Мерфи, ткнув толстым коротким пальцем в девушку, – все расспрашивала о тебе. И знаешь, что я ответил? Сказал, что самое плохое в этом бизнесе то, что он выталкивает, можно сказать, вышибает из обоймы таких людей, как ты.
– Не знал, что меня вышибли из обоймы.
– Он расхваливал вас до небес, – вставила Гейл. – Вы наверняка бы залились краской от удовольствия.
– Наверняка, – согласился Крейг.
Девушка потянулась к магнитофону:
– Может, включить?
– Пока не стоит, – отказался он, заметив на ее губах легкую усмешку. Она снова надела очки, словно отгородившись от него и остального мира. Они опять стояли по разные стороны баррикады.
– Гейл клянется, что у тебя каменное сердце, – объявил Мерфи, которому ничего не стоило начать запросто называть любую девушку по имени после нескольких минут знакомства. – Почему ты не сжалишься над ней?
– Когда мне будет что сказать, она первая это услышит, – пообещал Крейг.
– Ловлю вас на слове, мистер Крейг, – обрадовалась Гейл.
– Из всего, что тут наболтал мой муж за последние полчаса, – вмешалась Соня, – мне стало ясно: всего мудрее держать язык за зубами, Джесс. Будь моя воля, заткнула бы ему рот.
– Ох уж эти жены, – проворчал Мерфи, впрочем, весьма добродушно. Они прожили вместе двенадцать лет, и если когда-нибудь и ссорились, то без свидетелей.
«Вот в чем преимущество поздних браков», – подумал Крейг.
– Люди слишком любопытны, – продолжала Соня. – Задают чересчур много вопросов. – Тон у нее был спокойный, матерински-мягкий. – И почему-то им всегда отвечают. Спроси меня эта милая молодая леди, где я купила губную помаду, ни за что не сказала бы.
– Где вы купили губную помаду, миссис Мерфи? – немедленно осведомилась Гейл Маккиннон.
Все рассмеялись.
– Джесс, – предложил Мерфи, – пойдем-ка в бар и оставим дам обмениваться колкостями в предобеденном словесном поединке.
Он встал, и Крейг последовал его примеру.
– Я бы тоже не прочь выпить, – заявила Соня.
– Велю официанту принести, – заверил Мерфи. – А как насчет тебя, Гейл? Что пожелаешь?
– Я не пью днем, – отказалась она.
– В мое время журналисты были не такие, – шутливо посетовал Мерфи. – И в купальниках выглядели иначе.
– Кончай флиртовать, Мерфи, – предупредила Соня.
– Чудовище с зелеными глазами, – вздохнул Мерфи, целуя жену в лоб. – Пойдем, Джесс, выпьем по маленькой.
– Не больше двух, – напомнила Соня. – Не забывай, ты в тропиках.
– Когда речь идет о выпивке, – пожаловался Мерфи, – моя жена уверена, что тропики начинаются уже от Лабрадора.
Он подхватил Крейга под руку, и оба направились к бару по вымощенной плитками дорожке. Перед одним бунгало на матрасе загорала толстая женщина, широко раздвинув ноги.
– Ах, друг мой, – пробормотал Мерфи, беззастенчиво на нее уставясь, – здесь опасно прогуливаться.
– Я и сам это подозревал, – поддакнул Крейг.
– Эта девица нацелилась на тебя, – предупредил Мерфи. – О, чего бы я не дал за твои сорок восемь лет! Стать бы снова молодым!
– Она нацелилась вовсе не в том смысле.
– А ты пробовал?
– Нет.
– Послушайся совета дряхлого старикашки и попробуй.
– Каким образом, черт возьми, она до тебя добралась? – перебил Крейг, не выносивший слишком вольных разговоров Мерфи о женщинах.
– Позвонила сегодня утром, и я сказал, что она может прийти. В отличие от некоторых моих приятелей я чрезмерной скромностью не страдаю. А когда увидел ее, сразу спросил, не захватила ли она случайно купальника.
– И оказалось, что случайно захватила.
– Да, по какому-то странному совпадению, – засмеялся Мерфи. – Как рояль в кустах. Я налево не хожу, и Соня знает это, но люблю общество хорошеньких девушек. Невинные стариковские радости.
Они подошли к маленькому домику, где размещалось бюро обслуживания номеров, и официант в униформе, заметив их, встал.
– Bonjour, messeurs.[13]
– Une gin fizz la donna cabana numero quarantedue, per favore[14], – велел Мерфи официанту.
Во время войны Мерфи был в Италии и там кое-как выучил итальянский, единственный язык, кроме английского, которым владел. Поэтому стоило ему очутиться за границей, как он немедленно обрушивал его на местных жителей, независимо от того, в какой стране находился. Крейг восхищался напористой уверенностью, с которой Мерфи навязывал собственные привычки окружающим, где бы ни оказывался.
– Si, si, signore[15], – кивнул официант, улыбаясь то ли чудовищному акценту Мерфи, то ли мысли о возможных чаевых.
По пути в бар они миновали плавательный бассейн, устроенный в скалах над морем. Молодая светловолосая женщина учила маленькую девочку плавать. У них были волосы одного цвета. «Видно, мать и дочь», – подумал Крейг. Женщина давала наставления на каком-то незнакомом Крейгу языке. В мягком подбадривающем голосе звучали веселые нотки. Кожа обеих уже слегка порозовела от солнца.
– Датчанки, – пояснил Мерфи. – Я слышал за завтраком. Надо бы как-нибудь съездить в Данию.
Две девушки, лежа ничком на надувных матрасах в стороне от ведущей к морю лестницы, наслаждались солнцем. Лифчики валялись рядом – очевидно, они не желали, чтобы на великолепных загорелых спинах остались предательские белые полоски. Коричневые ягодицы и гладкие длинные ноги выглядели особенно аппетитно. Трусики бикини были просто символической уступкой приличиям. Они походили на две свежеиспеченные булочки, теплые, вкусные и сытные. Между ними сидел молодой человек, актер, которого Крейг знал по двум-трем итальянским фильмам. Актер, тоже успевший загореть, в узеньких плавках, больше похожих на тесемку, выставлял напоказ стройное мускулистое безволосое тело. На груди блестел образок на золотой цепочке. Темноволосый роковой красавец, великолепное белозубое животное с хищной улыбкой пантеры.
Крейг неожиданно понял, что Мерфи глаз не сводит с трио у моря.
– Если бы я выглядел, как он, тоже скалился бы, – сказал Крейг в утешение. Мерфи громко вздохнул, и они пошли дальше.
В баре Мерфи заказал мартини, не считаясь с рассуждениями жены о тропиках. Крейг попросил пива.
– Ну, – провозгласил Мерфи, подняв бокал, – за тебя, старик. Как замечательно, что мы наконец-то состыковались. Знаешь, ты не слишком подробно рассказывал о себе в письмах.
– Рассказывать особенно нечего. Хочешь, чтобы я утомил тебя нудным описанием деталей своего развода?
– Подумать только, после всех этих лет… – Мерфи покачал головой. – Никогда бы не подумал. Что ж, от судьбы не уйдешь. Если не было другого выхода… Кстати, я слышал, ты завел новую девочку в Париже.
– Не такую уж и новую.
– Счастлив?
– Ты слишком стар, Мерфи, чтобы задавать подобные вопросы.
– Самое забавное, я чувствую себя таким же молодым, как в тот день, когда покончил с армией. Глупее, но не старше. Черт, давай оставим эту тему. Она меня угнетает. Как насчет тебя? Что ты здесь делаешь?
– Ничего особенного. Убиваю время.
– Эта девчонка, Гейл Маккиннон, всячески пыталась вытянуть из меня, что, по моему мнению, привело тебя в Канны. Собираешься снова работать? – Мерфи испытующе посмотрел на него.
– Возможно. Если подвернется что-нибудь стоящее. И если найдется какой-нибудь псих, готовый меня спонсировать.
– И не только тебя, – кивнул Мерфи. – В наши дни лишь безумцы способны дать денег на фильм.
– Насколько я понимаю, люди не становятся в очередь у твоих дверей, умоляя уломать меня работать на них.
– Ну и что? – оправдывался Мерфи. – Ты сам должен признать, что в последнее время вроде как удалился от дел. Если действительно хочешь работать, есть картина, в которой я заинтересован… пожалуй, я сумел бы это обтяпать. Я подумывал написать тебе, но не хотел зря беспокоить, пока не узнаю что-то более определенное. И денег особых это не принесет. Да и сценарий – дребедень. Кроме того, снимать собираются в Греции, а я знаю тебя и твои политические принципы…
Он так пространно извинялся, что Крейг не выдержал и улыбнулся.
– Словом, все лучше некуда, – заключил он. – Как говорится, на все сто.
– Ну… – снова завел Мерфи, – я же помню, как ты, попав впервые в Европу, отказался ехать в Испанию, потому что не одобрял сложившейся там политической обстановки, и…
– Я был тогда моложе, – перебил Крейг и снова налил пива из стоявшей на стойке бутылки. – Теперь, если отказываешься снимать фильм в странах, политический режим которых тебе не по вкусу, вообще можешь остаться ни с чем. Ты, разумеется, ни за что не стал бы снимать в Америке, верно?
– Не знаю, – протянул Мерфи. – Мой принцип прост: схватил денежки и беги со всех ног. – Он жестом велел бармену подать второй мартини. – Так что? Если эта греческая история будет иметь продолжение, позвонить тебе?
Крейг поболтал пиво в стакане.
– Нет.
– Сейчас не время нос задирать, Джесс, – мрачно заметил Мерфи. – Ты так долго был вне игры, что, наверное, отстал от жизни. Кинематограф – это зона бедствия. Люди, получавшие семьсот пятьдесят тысяч долларов за картину, теперь согласны работать за пятьдесят. И не всегда находят работу.
– Ясно.
– Если тебе за тридцать, значит, ничего не светит. Все пытаются открыть новый талант: какого-нибудь неизвестного парнишку с длинными патлами, который бы сделал для них еще одного «Распутника» меньше чем за сотню. Просто помешались на этом.
– Это всего-навсего кино, Мерфи, – возразил Крейг. – Твое любимое развлечение. Не принимай его так близко к сердцу.
– Ничего себе развлечение, – буркнул Мерфи. – Но ты меня беспокоишь. Слушай, не хотелось бы вспоминать неприятное, особенно на отдыхе, но, насколько я знаю, у тебя неважно с зелеными…
– Что-то в этом роде, – признался Крейг.
– Твоя жена собрала адвокатов чуть не со всей страны, и парочка из них явилась в мой офис с судебным предписанием, чтобы просмотреть книги и убедиться, что я не перевел тебе тайком какие-нибудь денежки, которые она еще не прибрала к рукам. Кроме того, я узнал, что она требует половину твоего капитала плюс дом. А твои ценные бумаги… – Мерфи пожал плечами. – Я не хуже тебя представляю, как обстоят дела на бирже. И почти пять лет ты не получаешь никаких доходов. Черт возьми, Джесс, если я сумею пробить эту греческую штуку, обязательно заставлю тебя за нее взяться. Только чтобы перебиться, пока не подвернется что-то подходящее. Ты меня слушаешь?
– Конечно.
– С тобой говорить – все равно что вопить в пустыне, – обиделся Мерфи. – Слишком уж ты самолюбив, Джесс. Ну было у тебя несколько провалов. Подумаешь! А у кого не было? Узнав, что ты едешь в Канны, я пришел в восторг. Наконец-то, – сказал я, – он приходит в себя. Можешь спросить у Сони, она подтвердит. Но ты стоишь и смотришь сквозь меня, хотя я дело говорю. – Он залпом осушил бокал и потребовал еще. – В прежние времена стоило тебе набить шишек – и уже наутро новые идеи кипели ключом.
– Так то в прежние.
– А я скажу, что следует делать в нынешние. Не важно, насколько ты талантлив или опытен, насколько добр к своей старой матушке, – все равно не дождешься, что люди придут к тебе и на коленях станут умолять взять у них десять миллионов и сделать для них картину. Нужно самому добывать деньги и предлагать идеи. И не только предлагать, но и развивать. Сделать сценарий. Чертовски хороший сценарий. Найти режиссера. И актера на главную роль. Актера, которого еще хотят смотреть. Парочка таких еще осталась. Составить бюджет под миллион долларов. И тогда я смогу идти искать спонсоров. Не раньше. Это голые факты, Джесс. Не слишком приятные, но что делать, надо смотреть правде в лицо.
– О’кей, Мерфи, – кивнул Крейг. – Пожалуй, я готов сделать именно это.
– Вот так-то лучше. Девушка упомянула о каком-то сценарии на твоем столе.
– В этот самый момент, – пожал плечами Крейг, – такие же сценарии лежат на столах в сотнях номеров отеля «Карлтон».
– Давай поговорим о том, что у тебя, – не отступал Мерфи. – Это действительно сценарий?
– Угу.
– Она спрашивала меня, знаю ли я что-нибудь о нем.
– И что ты ответил?
– Какого черта я должен был ответить, – раздраженно фыркнул Мерфи, – если понятия ни о чем не имею? Тебя этот сценарий интересует?
– Можно сказать и так, – кивнул Крейг. – Да.
– Чей он? – с подозрением спросил Мерфи. – Если студия его завернула, плюнь и забудь. Только даром время тратишь. Слухи о неудачах сейчас разносятся со скоростью света.
– Никто его не отклонял. И никто не видел, кроме меня.
– Кто его написал?
– Парнишка один, – уклончиво откликнулся Крейг. – Ты его не знаешь. И никто о нем не слышал.
– Как его зовут?
– Предпочел бы пока не говорить.
– Даже мне?
– Особенно тебе. Согласись, ты известное трепло. Не хочу, чтобы до него добрались акулы.
– Что ж, – неохотно согласился Мерфи, – пожалуй, это имеет смысл. У тебя на него права?
– Опцион. На шесть месяцев.
– И сколько это стоило?
– Сущие гроши.
– Небось главному герою и тридцати нет, а постельных сцен хоть отбавляй?
– Нет.
– Иисусе! – застонал Мерфи. – Сразу же два очка тебе в минус. Ладно, дай мне почитать, и посмотрим, что можно сделать.
– Потерпи несколько дней, – попросил Крейг, – я хочу еще раз хорошенько пройтись по тексту и убедиться, что все на месте.
Мерфи долго пристально смотрел на него. Молча. Крейг был почти уверен, что тот почувствовал ложь. Наверное, не может сообразить, с какой целью он лжет и зачем ему это нужно, но распознал неправду, и этого вполне достаточно.
– Так и быть, – выговорил наконец Мерфи. – Когда я тебе понадоблюсь, только свистни. Ну а пока, если у тебя в голове осталось хоть немного мозгов, обязательно потолкуй с девчонкой. Что называется, по душам. И заодно с каждым газетчиком, который тебе встретится. Господи, да пусть люди узнают, что ты еще жив! – Он опрокинул очередной бокал мартини и встал. – Ну а теперь обедать!
Они обедали в бунгало. Холодные омары оказались изумительными, и Мерфи заказал две бутылки белого вина, которые прикончил почти в одиночку. Рот у него не закрывался. Гейл Маккиннон он донимал грубоватыми, но добродушными шуточками, по крайней мере вначале.
– Пытаюсь выяснить, чем дышит чертово молодое поколение, – пояснил он, – прежде чем оно перережет мне глотку.
Гейл Маккиннон отвечала прямо и чистосердечно. Какова бы она ни была, но застенчивой ее трудно назвать. Она выросла в Филадельфии. Отец до сих пор там жил. Гейл была единственным ребенком. Родители развелись, и отец женился второй раз. Он был адвокатом. Сама Гейл поступила в Брин-Мор, но на втором курсе бросила колледж, нашла работу на филадельфийской радиостанции и пробыла в Европе полтора года. Их корпункт в Лондоне, но работа позволяет ей много путешествовать. Европа ей нравится, но она намеревается вернуться на родину и обосноваться в Штатах. Предпочтительно в Нью-Йорке.
В этом она походила на тысячи других американских девушек, которых Крейг встречал в Европе: полных надежд, юношеского энтузиазма и, как правило, обреченных кануть в неизвестность.
– А приятель у тебя есть? – допытывался Мерфи.
– По-настоящему никого.
– А любовники?
Девушка рассмеялась.
– Мерф, – укоризненно покачала головой Соня.
– Не я же придумал общество вседозволенности, – отбивался Мерфи, – а вот такие, как она. Проклятый молодняк. – Он снова обратился к девушке: – Интересно, все парни, которых вы интервьюируете, пытаются вас клеить?
– Не все, – улыбнулась она. – Самым забавным был старый рабби из Кливленда, который оказался проездом в Лондоне по пути в Иерусалим. Пришлось бороться не на жизнь, а на смерть в номере отеля «Беркли». Отбивалась отчаянно. К счастью, его самолет улетал через час. У него была шелковистая борода.
Крейгу стало не по себе от таких откровений. Уж слишком девушка напоминала его дочь Энн. Подумать страшно, что и она способна вот так разговаривать со старшими в отсутствие отца!
Мерфи продолжал распространяться о кризисе в кинематографе.
– Возьмите хоть «Уорнер бразерс», – разглагольствовал он. – Знаете, кто ее купил? Похоронная компания. Ну как вам нравится такой дерьмовый символизм? А вопрос возраста? Сколько рассуждений о революциях, пожирающих молодежь? У нас здесь своя революция, только на этот раз пожирают стариков. Вам-то, конечно, это нравится, мисс Всезнайка?
Вино пробудило в нем агрессивность.
– Отчасти, – спокойно откликнулась Гейл Маккиннон.
– Едите моего омара, – упрекнул Мерфи, – и смеете говорить «отчасти»!
– Лучше посмотрите, до чего довели нас старики! – защищалась Гейл. – Хуже уже ничего быть не может!
– Слышали мы эту песню, – отмахнулся Мерфи. – Детей у меня, слава Богу, нет, но я довольно наслушался отпрысков моих приятелей. Молодые не смогут сделать хуже, даже если очень постараются. Позвольте мне заметить, мисс Гейл Всезнайка: могут, да еще как. Намного. Намного хуже. Включайте свой магнитофон, я вставлю это в интервью. Поделюсь с публикой собственным мнением.
– Помолчи немного, Мерф, и доедай, – велела Соня. – Бедняжка достаточно натерпелась твоих издевательств.
– Присутствую, но молчу, – проворчал Мерфи. – Таков мой девиз. Подумать только, что теперь таким, как они, дали право голоса! Рушатся основы!
Крейг испытал истинное облегчение, когда обед наконец закончился.
– Что же, – объявил он, вставая, – спасибо за жратву. Пора возвращаться.
– Джесс, – попросила Соня, – не захватишь мисс Маккиннон в Канны? Если она останется хоть ненадолго и Мерф выразит еще парочку своих мнений, иммиграционная служба не пустит его в Штаты, а ведь, возможно, он все-таки решит туда вернуться.
Гейл Маккиннон без улыбки смотрела на него, снова напомнив Крейгу дочерей. Они точно так же выжидали, пока он согласится заехать за ними после детского праздника.
– А как вы добрались сюда утром? – грубовато осведомился он.
– Приятель подбросил. Если вам неудобно, я могу взять такси.
– Да с вас три шкуры сдерут! Просто грешно бросать на ветер такие деньги, когда Джесс едет в ту же сторону. Идите одевайтесь, дитя мое, – заключила Соня. – Джесс вас дождется.
Гейл Маккиннон вопросительно посмотрела на Крейга.
– Разумеется, – согласился он.
– Сию минуту, – кивнула она, вставая. – Я сейчас.
– А малышка неглупа, – заметил Мерфи, нацедив в стакан последние капли вина. – Мне она нравится. Я ей не верю, но мне она нравится.
– Не так громко, Мерф, – прошипела Соня.
– Пусть знает, что я о ней думаю, – заупрямился Мерфи. – Пусть все они знают, на чем я стою. – Он допил вино. – Дай мне прочесть сценарий, Джесс. Чем скорее, тем лучше. Если он действительно хорош, пара телефонных звонков – и все улажено.
«Пара телефонных звонков, – подумал Крейг. – Хорошо ему рассуждать! После плотного обеда и двух бутылок вина вообразил, что сейчас шестидесятые, когда Брайан Мерфи еще был тем самым Брайаном Мерфи, а Джесс Крейг – тем самым Джессом Крейгом.»
Он с опаской глянул в сторону бунгало, где за хлипкой деревянной стенкой переодевалась девушка: Мерфи и в самом деле безбожно орал.
– Может, денька через два, Мерф, – пообещал он. – Только не распространяйся об этом, пожалуйста.
– Нем как могила, малыш. Гробница фирмы «Уорнер бразерс», – поклялся Мерфи и первым засмеялся собственной шутке. – Сегодня я не потратил времени даром. Старые друзья, новые девушки, омар на обед и синее-синее море. Как по-твоему, Джесс, богатые живут лучше?
– Да.
Из бунгало вышла Гейл Маккиннон. С плеча на длинном ремне свисала сумка. Она успела переодеться в белые облегающие джинсы и темно-синюю спортивную рубашку с короткими рукавами, под которой не было бюстгальтера: Крейг заметил, как маленькие круглые груди упруго натягивают хлопчатобумажную ткань. Очки она предпочла снять и в эту минуту казалась одним из морских существ – свежим, чистым и безопасным. Поблагодарив со скромной учтивостью хозяев, она нагнулась было, чтобы поднять магнитофон, но Крейг ее опередил:
– Я сам понесу.
Едва они стали подниматься по ведущей к бассейну и автостоянке дорожке, как Мерфи улегся отдохнуть. Толстуха по-прежнему лежала на животе, впитывая солнечные лучи, бесстыдно и зазывно расставив ноги. Потом с тяжким страдальческим вздохом перевернулась на спину и неприязненно уставилась на Крейга и девушку, нарушивших ее покой. Отекшее лицо было сильно наштукатурено, синяя тушь потекла на жаре. Молодость миновала, и пройденная жизнь отметила ее клеймом эгоизма, похоти, жадности, тайного разврата, бессмысленной суетности. Лицо поразительно контрастировало со здоровой крестьянской дородностью тела. Крейгу женщина показалась чудовищной, и он поскорее отвел взгляд. Не дай Бог, она откроет рот. Ее голоса он не вынесет.
Он пропустил Гейл Маккиннон вперед и пошел следом, словно охраняя. Маленькие ноги в босоножках бесшумно ступали по обветренным камням. Ветер играл длинными прядями. Крейг неожиданно сообразил, что так встревожило его, когда он впервые увидел ее в патио Мерфи в солнечном сиянии. Она напомнила ему жену Пенелопу в тот далекий июньский день на берегу Лонг-Айленда, такую же девически-юную и розовую, замершую на песчаной дюне, спиной к надвигающемуся приливу.
Датчанка, прислонившись к скалам, что-то читала; дочь сидела рядом, положив белокурую головку на плечо матери.
Опасные места для прогулок.
Последуй совету дряхлого старикашки. Попробуй.
Уже подходя к машине, Гейл Маккиннон снова спряталась за своими дурацкими темными очками.
ГЛАВА 5
Выехав с территории отеля, Крейг по старой памяти свернул не к Каннам и Жюан-ле-Пен, а в сторону Антиба. На второй год брака они снимали виллу в тех местах, и сейчас он с некоторым сожалением сообразил, что его по-прежнему туда тянет.
– Надеюсь, вы не спешите? – спросил он девушку. – Я поеду окружным путем.
– Сегодня у меня нет занятия лучше, чем ехать окружным путем рядом с Джессом Крейгом.
– Я жил когда-то неподалеку, – пояснил он, – но тогда все казалось куда приятнее.
– Здесь и сейчас приятно.
– Похоже, вы правы. Только домов прибавилось.
Он сбросил скорость. Дорога вилась по берегу моря. Россыпь небольших парусов поблескивала на горизонте. Старик в полосатой рубашке удил рыбу со скал. В небе шла на посадку «каравелла», собиравшаяся приземлиться в Ницце.
– Значит, вы бывали здесь раньше? – поинтересовалась Гейл.
– И не один раз. Впервые в сорок четвертом, когда еще не кончилась война…
– И что делали? – В голосе ее прорезалось удивление.
– А еще утверждали, что все про меня знаете, – поддразнил он. – Я-то вообразил, что мое прошлое для вас – открытая книга.
– Не совсем.
– Сидел в джипе, вместе с военными кинооператорами. Седьмая армия высадилась на южном побережье Франции, и нас послали из Парижа сюда, в самую гущу событий, – заснять боевые действия. Линия фронта проходила у Ментоны, всего в нескольких милях отсюда. Со стороны Ниццы доносилась орудийная пальба…
Но тут он подумал, что очень походит на типичного болтливого ветерана, которого хлебом не корми, только дай удариться в воспоминания, и оборвал себя на полуслове. Все это древняя история. Цезарь приказал разбить лагерь на холмах, вознесенных над рекой. Войско гельветов встало строем на другом берегу реки. Для сидевшей рядом девушки и рассказ об армии Цезаря, и описание пехотных частей американцев у Ментоны были пустым звуком, затерянным в песках времени. Да и вообще – изучают ли молодые латынь?
Он искоса взглянул на нее. Очки, ее надежное прикрытие, перед которым он беззащитен, раздражали его. Ее невежество, простодушный недостаток юности, раздражало его. Слишком много преимуществ на ее стороне.
– Зачем вы носите эту чертову штуку? – не выдержал он.
– Имеете в виду очки?
– Именно.
– Вам они не нравятся?
– Нет.
Она молниеносно сорвала очки, швырнула в окно и улыбнулась:
– Так лучше?
– Намного.
Оба засмеялись. И Крейг уже не жалел, что Соня Мерфи вынудила его взять девушку с собой.
– А как насчет вчерашней кошмарной футболки? – не успокаивался он.
– Эксперимент. Меняю обличья в зависимости от обстоятельств.
– А сегодня? Кого вы изображаете сегодня? – развеселился Крейг.
– Милая, чистенькая, невинно-кокетливая, в стиле современного феминизма девушка, – пояснила она. – Специально для мистера Мерфи и его жены.
Она раскинула руки, словно пытаясь разом обнять море, скалы, сосны, бросавшие причудливые тени на дорогу, весь жаркий полдень.
– Я никогда не была здесь раньше, но чувствую себя так, будто мне с детства знакомо это побережье.
Она устроилась на сиденье с ногами и повернулась к Крейгу:
– Я обязательно вернусь сюда. Буду возвращаться снова, снова и снова. Пока не превращусь в дряхлую старушку в широкополой соломенной шляпе и с палкой. А вы? Думали вы во время войны, думали ли, что когда-нибудь приедете сюда?
– В то время я мечтал только о том, чтобы оказаться дома, живым и невредимым.
– Вы уже тогда хотели заняться театром и кино?
– Честно говоря, не помню.
Он попытался воскресить в памяти тот давний сентябрьский день: джип, летевший на звуки артиллерийского обстрела, четверо солдат в касках и с камерами и карабинами, очутившиеся на прекрасном, пустынном побережье, где никто из них раньше не бывал. А мимо проносятся взорванные досы[16] и виллы с окнами на море, замаскированные камуфляжными сетками. Как звали остальных троих, что были с ним в джипе? Имя водителя – Харт. Точно. Малкольм Харт. Несколько месяцев спустя он был убит в Люксембурге. Фамилии остальных вылетели из головы. Они остались в живых.
– Наверное, – произнес он, – я действительно подумывал о том, чтобы после войны заняться кино. Что ни говори, а у меня в руках была кинокамера. В армии меня научили с ней обращаться лучше всяких операторских курсов, а в войсках связи было полно людей из Голливуда. Но оператор из меня средненький. Так, на скорую руку, для военных нужд. Я знал, что не пойду по этой дорожке после войны.
Он с ностальгической грустью вспоминал далекое время, когда был молодым человеком в армейском мундире своей страны, которому в тот день не грозила опасность схлопотать пулю.
– В сущности, – продолжал Крейг, – мое появление в театре – чистая случайность. Возвращаясь в Штаты из Гавра на транспортном судне, я сел играть в покер с Эдвардом Бреннером. Так мы познакомились, подружились, и он рассказал, что написал пьесу, пока ждал в Реймсе отправки домой. Я, естественно, кое-что знал о театральной кухне, потому что отец таскал меня в театр с девяти лет, и попросил Бреннера дать мне ее почитать.
– Видно, вам повезло в покер, – заметила девушка.
– Пожалуй, – согласился Крейг.
Собственно говоря, они сблизились не столько во время той партии в покер, сколько позже, на палубе, под ярким солнцем, когда Крейгу наконец удалось найти укромный уголок, где не так дуло, и раскрыть томик «Десять лучших американских пьес 1944 года», присланный отцом. Какой был у него номер полевой почты? Когда-то он был уверен, что в жизни его не забудет. Бреннер дважды прошелся мимо, бросил взгляд на книгу и наконец, присев по-крестьянски на корточки, спросил:
– Ну как? Ничего? Я о пьесах.
– Так себе, – ответил Крейг.
Вот так они разговорились. Выяснилось, что Бреннер родом из Питсбурга и до призыва в армию учился в Технологическом институте Карнеги, а заодно посещал сценарные курсы и интересовался театром. На следующий день он показал Крейгу свою пьесу.
На вид Бреннер был довольно непрезентабелен: тощий, бледный мальчишка с печальными темными глазами и не слишком грамотной речью. Говорил он нерешительно, то и дело запинаясь, и в толпе ликующих, орущих мужчин, наконец-то возвращавшихся домой с войны, выглядел белой вороной и чувствовал себя не в своей тарелке. Мешковатая солдатская гимнастерка придавала ему совсем невоенный, слегка смущенный вид, будто он постоянно удивлялся, что сумел уцелеть в трех кампаниях, и знал, что уж в четвертой ему точно не выжить. Крейг неохотно согласился прочитать его пьесу, заранее придумывая обтекаемые, утешительные фразы отзыва, чтобы не задеть Бреннера. Он оказался совершенно не готов к взрыву бурных эмоций, жестокой правде, полному отсутствию сентиментальности и четким композиционным рамкам, выгодно отличавшим первую пьесу обыкновенного пехотинца.
Хотя сам Крейг не имел никакого театрального опыта, он все же видел достаточно пьес, чтобы с присущим юности эгоизмом верить в безупречность собственного вкуса. И теперь он с восторженным энтузиазмом, не скупясь на добрые слова, превозносил пьесу Бреннера, и к тому времени, когда судно миновало статую Свободы, они уже крепко подружились и Крейг обещал Бреннеру, что упросит отца показать пьесу продюсерам.
Бреннеру пришлось ехать в Пенсильванию, чтобы демобилизоваться и возобновить занятия в Технологическом институте. Крейг остался в Нью-Йорке, делая вид, что ищет работу. Правда, они переписывались, хотя новостей почти не было. Отец Крейга, верный слову, обращался к знакомым продюсерам, но все дружно отвергли пьесу.
«Они считают, – писал Крейг Бреннеру, – что никто и слышать не желает о войне. Вот идиоты! Не отчаивайся. Уверен, что рано или поздно пьесу поставят».
Пьесу действительно поставили, но лишь потому, что отец Крейга умер и оставил сыну двадцать пять тысяч долларов.
«Понимаю, – писал Крейг, – что сама идея безумна. Я никакой не продюсер, но думаю, что разбираюсь в этом деле куда лучше тех ослиных задниц, которые зарубили твою пьесу. Я изучил ее от первой до последней буквы. И если ты готов поставить на карту свой талант, я ставлю свои кровные».
Через два дня Бреннер прилетел в Нью-Йорк и больше никогда носа не совал в Питсбург. Не имея ни цента в кармане, он был вынужден поселиться в номере отеля «Линкольн», где уже жил Крейг. Все пять месяцев, которые ушли на постановку пьесы, они практически не расставались.
До этого они переписывались целый год, выверяя и оттачивая каждую строку, так что постепенно пьеса стала их общим детищем, и оба ужасно удивлялись, когда в процессе постановки выяснялось, что их отношение к людям и идеям, с которыми они сталкивались, не всегда совпадало.
Как-то режиссер, молодой человек по фамилии Баранис, имевший некоторый опыт работы в театре и уверенный, что оба новичка должны ловить каждое его слово, пожаловался, когда какое-то его предложение было хладнокровно отвергнуто без всякого обсуждения:
– Господи, бьюсь об заклад, у вас, парни, и сны, наверное, одинаковые!
Как ни странно, предметом их единственного серьезного разногласия стала Пенелопа Грегори, позже Пенелопа Крейг. Агент рекомендовал ее на маленькую второстепенную роль, и она произвела благоприятное впечатление своей красотой и глубоким мягким голосом и на Бараниса, и на Крейга. Только Бреннер остался тверд, как скала.
– Ну да, она красива, – соглашался он. – Верно, у нее потрясающий голос, но в ней есть что-то не внушающее доверия. Не спрашивайте меня, что именно.
Они упросили Пенелопу попробоваться еще раз, но Бреннер и слышать ничего не пожелал, и в конце концов ее пришлось заменить девушкой попроще.
Во время репетиций Бреннер так нервничал, что не мог ни крошки проглотить. В обязанности Крейга входило не только кормить его, но и ругаться с театральным художником, договариваться с профсоюзом рабочих сцены и следить, чтобы исполнитель главной роли не запил. Приходилось силой тащить Бреннера в рестораны и там силой впихивать в него хоть немного еды, чтобы он не упал в голодный обморок до того, как поднимется занавес.
В тот день, когда появились афиши с названием их пьесы, Крейг увидел Бреннера на тротуаре в грязном плаще, единственном, который у него был. Он зачарованно пялился на надпись:
«„Пехотинец“. Автор Эдвард Бреннер».
При этом он трясся, как в приступе малярии, и, заметив Крейга, разразился безумным смехом.
– Это невероятно, братец, – бормотал он, – просто бред какой-то. У меня такое чувство, словно сейчас кто-то встряхнет меня как следует и я проснусь, и увижу потолок своей питсбургской комнатенки.
Все еще дрожа, он позволил Крейгу увести себя в аптеку и заказать молочный коктейль.
– Я словно раздваиваюсь, – признался он, вертя в руках стакан. – Не могу дождаться премьеры – и в то же время думать не желаю об этом. И не только потому, что боюсь провала. Просто не желаю, чтобы все это кончилось. – Он широким жестом обвел автомат с газировкой. – Репетиции. Чертов номер в отеле «Линкольн». Баранис. Твой храп в четыре утра. Я твердо знаю, что это никогда не повторится. Понимаешь, о чем я?
– Вроде бы, – кивнул Крейг. – Допивай свой коктейль.
Когда в ночь премьеры по телефону стали сообщать первые отклики, Бреннера вывернуло наизнанку прямо в номере. Он загадил весь пол, извинился, заявил: «Буду любить тебя до самой смерти», – выпил полбутылки виски и отключился. И пребывал в таком состоянии до следующего дня, когда Крейг разбудил его, бросив на одеяло вечерние газеты.
– Каким он был тогда, – нарушила его размышления Гейл Маккиннон, – Эдвард Бреннер? Когда вы впервые с ним встретились?
– Обыкновенный солдат, испытавший на себе все тяготы войны, – пожал плечами Крейг и, сбросив скорость, показал на холм, где среди сосен возвышалась белая вилла. – Тут я и жил. Летом сорок девятого.
Девушка оглядела невысокое длинное здание с террасой под оранжевой маркизой, защищавшей плетеную мебель от беспощадного солнца.
– Сколько вам тогда было?
– Двадцать семь.
– Неплохо для двадцати семи, – заметила она. – Милый домик.
– Да, – согласился Крейг, – неплохо.
Что осталось в памяти о том лете?
Разрозненные картины. Беспорядочные образы.
Пенелопа на водных лыжах в заливе Ла-Гаруп, стройная, загорелая, с летящими по ветру волосами, подчеркнуто грациозная в цельном черном купальнике, отважно разрезает волны в кильватере моторного катера. Бреннер в катере рядом с ним, снимает Пенелопу. Та дурачится, имитируя рискованные балетные трюки, и машет рукой камере.
Сам Бреннер, пробующий стать на водные лыжи. Он упорно повторяет попытку за попыткой и раз за разом плюхается в воду – неуклюжая личность, сплошные кости и суставы, большой печальный нос и сутулые плечи, сожженные солнцем. В конце концов его, порядком нахлебавшегося воды, все же выуживают, а он, отплевываясь, повторяет:
– Ни на что я не гожусь, чертов интеллектуал!
И Пенелопа целится в него камерой, как револьвером, и смеется, стараясь сохранить равновесие в неустойчивом катере.
Танцы в бархатисто-темную ночь на площади древнего, огороженного стенами города О-ле-Кань, под бренчащую французскую музыку, и фонари, раскачиваясь, отбрасывают то свет, то тени на танцующие пары. Пенелопа, миниатюрная, чистенькая, невесомая в его объятиях, целует его за ухом, обдавая ароматами моря и жасмина, и шепчет:
– Давай останемся здесь. Навсегда.
И Бреннер, сидящий за столом, слишком застенчивый, чтобы танцевать, разливает вино в бокалы и пытается общаться с мрачной жестколицей француженкой, которую подцепил накануне в казино Жюан-ле-Пен, старательно выговаривая одну из десяти французских фраз, выученных за все это время:
– Je suis un fameux ecrivain a New-York.[17]
Возвращение домой в предрассветном зеленом тумане из Монте-Карло, где они совместными усилиями выиграли сто тысяч франков (по курсу шестьсот пятьдесят за доллар). Крейг за рулем маленькой открытой машины, Пенелопа между обоими мужчинами, голова ее лежит на плече Крейга, и Бреннер орет во всю глотку своим хриплым голосом:
– Подумать только, мы здесь, на Большом Карнизе!!
И все вместе пытаются спеть хором новую песню «Опавшие листья», услышанную вчера впервые.
Обед на террасе белой виллы, под огромной оранжевой маркизой. Все трое еще не обсохли после утреннего купания. Пенелопа, такая хорошенькая в белых хлопчатобумажных брючках и синей матроске, влажные волосы подняты наверх и заколоты, буквально излучает чувственное притяжение. Она ставит цветы в вазу на белом металлическом обеденном столе, мягкими загорелыми руками касается бутылки вина в ведерке со льдом, проверяя, достаточно ли оно охладилось, пока старушка кухарка, полагающаяся в придачу к дому, шаркая, вносит холодный суп и салат на большом глиняном блюде, купленном в соседнем Валлорисе. Как ее звали? Элен? В неизменном черном платье, трауре по десяти поколениям ее семьи, умершим в стенах Антиба, она нежно хлопотала над троицей, которую называла «мes trois beaux jeunes Americains» [18]. Ни у кого из них до сих пор не было прислуги, да еще такой, которая украшала бы стол белыми, красными и голубыми цветами в праздники Четвертого июля и День взятия Бастилии.
Резкий, острый, всюду проникающий запах нагретых солнцем сосновых игл.
Долгие послеполуденные сиесты. Пенелопа в его объятиях на огромной постели в затененной комнате с высокими потолками. Полумрак то там то сям рассекают полоски света, пробивающегося сквозь щели закрытых жалюзи. Ежедневные любовные схватки, жаркие, безумные, нежные и страстные. Сплетающиеся грациозные молодые тела, чистые, чуть соленые от пота, благодарные, знакомые ласки, радость взаимного обладания, судороги экстаза, фруктовый вкус вина на губах при поцелуе, негромкий смех, шепот, наполняющие душистую комнату, медленное, легкое, возбуждающее касание длинных ногтей Пенелопы, которыми она шаловливо проводит по упругим мускулам его живота.
Та августовская ночь. Они с Пенелопой сидят после ужина на террасе. Внизу сверкает спокойная гладь моря, ветер больше не шуршит в вершинах сосен, Бреннер где-то шатается с очередной девушкой, и Пенелопа признается Крейгу, что беременна.
– Рад или жалеешь? – спрашивает она тихим, дрожащим голоском.
Он наклоняется и целует ее.
– Думаю, другого ответа не нужно, – вздыхает она.
Крейг выходит в кухню и приносит из ледника бутылку шампанского, и они пьют за будущее при лунном свете и решают купить дом в Нью-Йорке, когда вернутся, потому что их квартира в Гринич-Виллидже теперь будет тесна для увеличившейся семьи.
– Только не говори Эду, – просила она.
– Почему?
– Он будет ревновать. И никому не говори – станут завидовать.
Утренняя обыденность. После завтрака Крейг и Бреннер загорают в одних плавках. На столе между ними лежит рукопись новой пьесы Бреннера, и Эдвард спрашивает:
– Что, если во втором акте поднимается занавес, сцена во мраке, а она выходит из-за кулис, направляется к бару – но публика видит только силуэт, – потом наливает себе виски, всхлипывает и одним глотком опрокидывает стакан…
Оба щурятся от беспощадного средиземноморского солнца, представляя сцену, скользящую в полумраке актрису перед притихшим, до отказа набитым залом в холодную зимнюю ночь в гостеприимном городе над океаном…
Они не покладая рук правят вторую пьесу Бреннера, о ноябрьской премьере которой Крейг уже объявил.
После «Пехотинца» он поставил еще две пьесы, и обе пользовались успехом. Одна все еще шла, и он решил наградить себя отдыхом во Франции и заодно провести с Пенелопой нечто вроде запоздалого медового месяца. Бреннер промотал почти весь гонорар, полученный за «Пехотинца», – кстати, денег оказалось не так уж и много, – и опять остался с пустыми карманами, но они возлагали большие надежды на новую пьесу. Впрочем, этот год для Крейга выдался удачным, у него хватало денег на всех, и он постепенно учился жить в роскоши.
Где-то в глубине дома слышится негромкий голос Пенелопы, совершенствующей свой французский в беседах с кухаркой… Спокойствие изредка нарушается случайными телефонными звонками приятелей или очередной девицы Бреннера, и Пенелопа неизменно отвечает, что мужчины работают и не могут подойти. Просто удивительно, сколько знакомых узнали, где они проводят лето, и скольким девушкам Бреннер успел дать номер.
В полдень выходит Пенелопа в купальнике и объявляет:
– Пора купаться.
Они ныряют со скал перед домом в глубокую, чистую, холодную воду, обдавая друг друга брызгами. Пенелопа и Крейг, неплохие пловцы, стараются держаться поближе к Бреннеру, который однажды едва не утонул, и при этом отчаянно колотил руками по воде и отплевывался, делая вид, что притворяется, хотя, очевидно, ему было не до смеха. Пришлось тащить его на сушу. Лежа на камнях, розовый, скользкий, он негодующе провозгласил:
– Ох уж вы, аристократы, все-то умеете делать и никогда не утонете.
Мирные, приятные сцены.
Память, разумеется, обязательно подведет, дай ей только волю. Ни один временной период, даже месяц или неделя, которую позднее вы вспоминаете как самую счастливую в жизни, не была сплошным удовольствием.
Ссора с Пенелопой, случившаяся поздно ночью недели через две-три после их приезда на виллу. Из-за Бреннера. И хотя они заперлись в спальне с опущенными жалюзи, а стены были толстыми, приходилось говорить шепотом, чтобы не услышал Бреннер, поселившийся, правда, в другом конце дома.
– Он что, так и будет здесь торчать? – прошипела Пенелопа. – Мне надоело постоянно сталкиваться с ним нос к носу и видеть эту длинную унылую физиономию, которая вечно торчит за твоим плечом!
– Не так громко, умоляю.
– Я устала понижать голос из опасения обидеть бедняжку! – не сдавалась Пенелопа. Она сидела голая, на краю постели, расчесывая длинные светлые волосы. – Словно я не в собственном доме!
– А мне казалось, он тебе нравится, – удивился Крейг. Он уже почти засыпал в ожидании, пока она отложит щетку, погасит лампу и ляжет рядом. – Я думал, вы друзья.
– Мне он нравится, – пробормотала Пенелопа, яростно набрасываясь на собственные волосы. – И я понимаю: ты его друг. Но не двадцать же четыре часа в сутки быть рядом! Когда я выходила замуж, никто не позаботился предупредить, что брак будет коллективным!
– Ну какие двадцать четыре часа, – возразил Крейг, понимая, что крыть нечем. – Так или иначе, он, возможно, уедет, как только мы окончательно отработаем сценарий.
– Сценарий не будет готов, пока не кончится срок аренды! – с горечью заметила Пенелопа. – Я этого человека знаю.
– Не слишком дружелюбное замечание, Пенни.
– А может, это он не так уж дружески ко мне относится. Не думай, что мне неизвестно, из-за кого я не получила роли в «Пехотинце».
– Тогда вы даже не были знакомы.
– Ну а теперь познакомились.
Десять энергичных взмахов щеткой.
– Только не уверяй, будто, по его мнению, я самая великая актриса в Нью-Йорке после Этель Барримор.[19]
– Мы об этом не говорили, – смущенно признался он. – Только не кричи так.
– Естественно, не говорили. Бьюсь об заклад, вы о многом не говорили. И вообще, стоит вам поспорить о чем-то серьезном, вы меня не замечаете. Просто не замечаете.
– Это неправда, Пенни.
– Чистая правда, сам знаешь. Два великих ума, объединившись, решают судьбы мира, плана Маршалла, следующих выборов, атомной бомбы, системы Станиславского…
Щетка заходила в ее руках с силой поршня.
– Снисходительно выслушиваете меня, как слабоумное дитя…
– Ты абсолютно нелогична, Пенни.
– У меня своя логика, Джесс Крейг, не отрицай.
Он невольно рассмеялся, а она вторила ему. Наконец он едва выговорил:
– Бросай эту чертову щетку и иди спать.
Она тут же отшвырнула щетку, выключила свет и легла.
– Не заставляй меня ревновать, Джесс, – прошептала она, приникнув к нему. – И никогда не забывай обо мне. Никогда.
И дни потекли, совсем как раньше, словно и не было того полуночного разговора в спальне. Пенелопа обращалась с Бреннером как любящая сестра, заставляла его есть, «чтобы набрать жирка на костях», как она выражалась, и старалась не мешать, когда мужчины углублялись в беседу, незаметно вытряхивая пепельницы, принося бутылки, незлобиво подшучивая над подружками Бреннера, которые звонили, а иногда оставались на ночь и на следующее утро спускались к завтраку и просили одолжить купальник, чтобы окунуться перед возвращением в город.
– Я самый популярный секс-символ на Лазурном берегу, – утверждал Бреннер, сконфуженный, но польщенный намеками Пенелопы. – Ни в Пенсильвании, ни в Форт-Брэгге на это надеяться не приходилось.
И еще один неприятный вечер в конце августа, когда Крейг собирал вещи, надеясь успеть на ночной поезд до Парижа. Там хотел встретиться с главой киностудии и обсудить условия продажи прав на пьесу, которая все еще держалась на нью-йоркской сцене. Пенелопа вышла из ванной, кутаясь в халат; обычно мягкие карие глаза были холодно-настороженными. Она молча наблюдала, как он бросает в сумку рубашки.
– Сколько ты там пробудешь?
– Самое большее три дня.
– Захвати с собой этого сукина сына.
– Ты о ком?
– Сам знаешь, о чем я. О ком я.
– Шшш.
– И не шикай на меня в моем же доме! Не собираюсь разыгрывать няньку этого гения, которого хватило всего на одну пьесу, этакого донжуана от металлургии[20], терпеть три дня, пока ты шляешься по злачным местам Парижа…
– Нигде я не стану шляться, – запротестовал Крейг, пытаясь сохранить спокойствие. – Кому знать, как не тебе. А он сейчас на самой середине третьего акта. Поэтому и не хочу его отрывать…
– Жаль, что к жене ты не относишься так же заботливо, как к своему святому другу-прихлебателю. Вспомни, за все время, что он здесь живет, пригласил он нас на ужин? Хотя бы раз? Один-единственный?
– Какая разница, кто кого пригласит? Сама знаешь, у него сейчас туго с деньгами.
– Еще бы не знать! Он постарался сообщить об этом с самого начала! Интересно, откуда берутся деньги на каждодневные пьянки со шлюхами? Неужели ты и тут постарался обеспечить друга? Или чужие победы, пусть ничтожные и гнусненькие, так тебя возбуждают?
– У меня замечательная идея, – спокойно заметил Крейг. – Почему бы тебе не поехать со мной?
– Не позволю тебе выгнать меня из нашего дома ради сексуально озабоченного прилипалы вроде Эдварда Бреннера, – громко объявила Пенелопа, игнорируя приложенный к губам палец мужа, – и не позволю превратить виллу в публичный дом с полуголыми потаскухами! И тебе лучше предупредить его: отныне ему придется вести себя прилично. Не желаю больше разыгрывать мадам его личного борделя, записывать, кто звонил, и повторять: «Мистер Бреннер сейчас занят, Иветт, или Одиль, или мисс Большие Титьки, но он вам перезвонит».
«А ведь она ревнует, – поразился Крейг. – Кто поймет этих женщин?»
Но вслух попросил:
– Брось свои буржуазные штучки, Пенни. Они вышли из моды еще во время войны.
– Да, я буржуазка. Пусть так, – заплакала она. – Теперь тебе все ясно. Иди поплачься своему верному другу. Он тебе посочувствует. Великий Богемный Художник, который гроша медного не выложит из кармана, но зато всегда готов соболезновать.
Она метнулась в ванную, заперлась и оставалась там довольно долго. Крейг уже опасался, что опоздает. Но стоило Бреннеру нажать на автомобильный гудок, как дверь ванной открылась и вышла Пенелопа, с сухими глазами, улыбающаяся и уже одетая. Сжав руку Крейга, она попросила:
– Извини за истерику. Что-то на меня нашло. Последнее время я не в своей тарелке.
Едва поезд отошел от перрона, Крейг высунулся из окна спального вагона. Пенелопа и Бреннер стояли рядом на платформе и в сумерках дружно махали ему.
После возвращения Крейга Бреннер вручил ему готовую рукопись и предупредил, что должен ехать в Нью-Йорк. Они решили встретиться там в конце сентября и устроили прощальную вечеринку. Уже сидя в поезде, Бреннер признался, что такого прекрасного лета у него в жизни не было.
После отъезда Бреннера Крейг прочитал окончательный вариант пьесы. Пробегая глазами знакомые страницы, он все сильнее ощущал нараставшее с каждой минутой смятение, вскоре сменившееся всепоглощающей, гулкой пустотой. То, что во время совместной работы казалось забавным, живым и трогательным, сейчас безнадежно омертвело, потеряло всякие оттенки, лишилось красок. Крейг осознал, что все это время был ослеплен красотой лета, искренним восхищением талантом друга, притягательной радостью творчества. Теперь же, оценив пьесу взглядом беспристрастного читателя, он увидел, что перед ним мертворожденное дитя, воскрешать которое нет смысла. И дело не только в том, что ее неминуемо ждал кассовый провал. Будь хотя бы единственный шанс, что пьеса понравится минимальному числу зрителей, Крейг испытал бы некоторое горькое удовлетворение оттого, что в этом есть и его небольшая заслуга. Но он был твердо убежден: эта работа Бреннера обречена на полное забвение.
Если бы автор не был его другом, Крейг немедленно отверг бы пьесу. Но Бреннер… Дружба дружбой, но если спектакль провалится, Бреннеру придется плохо. Очень плохо.
Не высказывая своего мнения, он дал пьесу Пенелопе. Она, разумеется, слышала их разговоры, знала, о чем идет речь, но ни разу не заглянула в текст. Актрисой она была посредственной, но обладала безошибочной интуицией, редкой проницательностью и строгим вкусом во всем, что было связано с театром. Дочитав рукопись, она спросила:
– Не пойдет, верно?
– Верно.
– Его распнут. И тебя вместе с ним.
– Переживу.
– Что будешь делать?
– Ставить, – вздохнул он.
Больше она об этом не заговаривала, и Крейг был благодарен ей за тактичность. Однако он не признался, что боится рисковать чужими деньгами и сам профинансирует постановку.
Репетиции превратились в настоящий кошмар. Он не сумел собрать подходящую труппу, потому что ни актерам, ни режиссеру, ни даже театральному художнику, к которым он обращался, пьеса не понравилась. Пришлось иметь дело либо с давно выдохшимися рабочими лошадками, либо с зелеными новичками, и ночами Крейг мучился, пытаясь объяснить, почему так происходит, не оскорбляя самолюбия Бреннера. Такому-то понравилась пьеса, но он уже связан контрактом с Голливудом, такая-то пообещала дождаться новой пьесы Уильямса, а кто-то ушел на телевидение. Бреннер был безмятежно уверен в успехе. После первого и единственного триумфа он считал себя неуязвимым и неприкосновенным. Мало того, в самый разгар репетиций он женился. На некрасивой тихой женщине по имени Сьюзен Локридж. Черные прямые волосы, собранные в строгий пучок, придавали ей вид учительницы. Она ничего не понимала в театре и просиживала все репетиции, потрясенно глядя на сцену и, очевидно, полагая, что все спектакли репетируют одинаково.
Крейг вызвался быть шафером на свадьбе, устроил вечеринку в честь новобрачных и из кожи вон лез, разыгрывая гостеприимного, добродушного хозяина, провозглашая тост за тостом за молодоженов. Пенелопа на вечеринку не явилась. Она была на четвертом месяце, жестоко страдала от токсикоза, так что предлог был достаточно убедительным.
За неделю до премьеры Крейг отвел Сьюзен Бреннер в сторонку, объяснил, что они падают в пропасть и что единственный разумный выход – немедленно все свернуть.
– Как, по-вашему, воспримет это Эдди? – спросил он.
– Умрет, – коротко ответила она.
– Да бросьте!
– Попробуйте – и сами увидите.
– Ладно, – устало согласился Крейг, – премьера состоится. Кто знает, вдруг случится чудо?
Но чуда не произошло. К концу пьесы в зале не осталось и половины зрителей. В ресторане «Сардис», где они ждали первых рецензий, Бреннер прошипел:
– Подонок ты! Нарочно все подстроил! Сьюзен передала, что ты ей наговорил! Ты с самого начала не верил в меня, пожалел денег и старался выгадать каждый цент! Ну и вот дождался!
– Зачем мне это было нужно? – удивился Крейг.
– Сам знаешь зачем, братец, – бросил Бреннер, вставая. – Идем отсюда, Сью.
Только много лет спустя после рождения Энн и Марши Крейга осенило, на что намекал Бреннер. Уже когда отношения между ним и Пенелопой окончательно испортились, в самом разгаре ссоры после какой-то вечеринки, на которой, по ее утверждению, он бессовестно лип к молодой, скандально известной актрисе, она открыла ему тайну. Тем летом, в Антибе, пока он был в Париже, она переспала с Эдвардом Бреннером. Пенелопе хотелось ранить его побольнее, и она своего добилась.
Он сидел за рулем автомобиля на жарком послеполуденном солнце; справа внизу плескалось море, а сзади, все уменьшаясь, белела вилла. Крейг повернулся и в последний раз взглянул на дом.
Неплохо для двадцати семи…
Здесь, на этой широкой постели в прохладной спальне, с видом на море и высокими потолками, в комнате, ставшей приютом наслаждения на три волшебных месяца, была зачата Энн. Он не рассказывал Гейл Маккиннон ни об Энн, ни о Бреннере, ни об этих трех месяцах, ни о том, как умирала дружба и была предана любовь.
Что стало со всеми любительскими фильмами? Он понятия не имел, где сейчас валяются бобины старой, ломкой пленки. Погребены под ворохом ветхих театральных программок, прошлогодних журналов, сломанных теннисных ракеток в подвале дома на Семьдесят восьмой улице, купленного незадолго до рождения Энн, дома, в котором его ноги не было с тех пор, как он сказал Пенелопе, что хочет развестись, дома, в котором он с закрытыми глазами и в темноте найдет каждый уголок, каждую щепку.
Он прибавил скорости, и вилла исчезла за поворотом.
Урок номер один – не возвращайся туда, где был счастлив.
Девушка после небольшой паузы сказала с таким видом, словно знала, о чем он думает:
– Мерфи говорит, что ваша жена – настоящая красавица.
– Была, – кивнул Крейг, – возможно, и сейчас тоже. Да.
– Вы разводитесь по обоюдному согласию? Мирно?
– Насколько вообще могут быть мирными разводы.
– В моем семействе развод был тихим и благопристойным, – объяснила Гейл Маккиннон. – Чудовищно. Мать просто исчезла куда-то, когда мне исполнилось шестнадцать. Она и раньше такое проделывала, только на этот раз не вернулась. В восемнадцать я донимала отца расспросами, в чем дело. Он сказал: «Она постоянно в поисках. А я не представляю для нее интереса». – Девушка вздохнула. – Она присылает мне открытки на Рождество. С разных концов света. Когда-нибудь я попытаюсь ее отыскать.
Она снова ненадолго замолчала, откинув голову на спинку сиденья.
– Мистер Мерфи совсем не похож на типичного голливудского агента, верно?
– Хотите сказать, он не толстый коротышка с еврейским акцентом?
Девушка засмеялась:
– Рада убедиться, что вы так внимательно прочли меня. Кстати, как насчет присланного вам утром?
– И это тоже.
– Какие-нибудь замечания?
– Нет.
Гейл кивнула.
– Кстати, мистер Мерфи – человек неглупый. Пока вас не было, все объяснял, что если бы ваша последняя картина вышла на экраны сегодня, то непременно стала бы гвоздем сезона.
Крейг, не отводя взгляда от дороги, притормозил, чтобы пропустить семейство в купальниках, переходившее шоссе.
– Я с ним согласна, – продолжала девушка. – Может, гвоздем она и не стала бы, по крайней мере в такой степени, как утверждает мистер Мерфи, но люди наверняка сочли бы ее оригинальной.
– Вы ее видели? – не смог скрыть удивления Крейг.
– Да. Мистер Мерфи считает, вы сделали огромную ошибку, не став режиссером. Говорит, что не продюсер, а режиссер теперь в кино на первом месте.
– Возможно, он и прав.
– Мистер Мерфи полагает, что до шестьдесят пятого вам было бы легче легкого поставить картину…
– И это скорее всего правда.
– Но вы так и не поддались искушению?
– Нет.
– Но почему?
– Лень, вероятно.
– Вы же знаете, что это неправда.
Девушку явно раздражали его увертки.
– Ну что же, если хотите знать, – выдавил, наконец он, – по-моему, у меня просто таланта не хватает. В лучшем случае из меня получился бы довольно неплохой режиссер. Нашлось бы с полсотни режиссеров куда лучше меня.
– А разве среди продюсеров не найдется полсотни лучше вас? – с вызовом осведомилась девушка.
– Нет, это слишком много. Может, человек пять, – покачал головой Крейг. – И может, если повезет, они вымрут, или сопьются, или удача им изменит.
– Если бы пришлось все начать сначала, – допытывалась она, – занялись бы вы чем-нибудь другим?
– Ни у кого не хватит сил начать все сначала. А теперь полюбуйтесь здешними пейзажами.
– Что ж, – покорно пробормотала девушка, – обед по крайней мере удался.
После этого она уже не задавала вопросов, и остаток пути они проделали в молчании. Машина, промчавшись по берегу, проехала через разморенный жарой городок Антиб и свернула на оживленное каннское шоссе.
Он предложил подбросить ее в отель, но Гейл отказалась, объяснив, что живет всего в двух минутах ходьбы от «Карлтона» и с удовольствием прогуляется пешком.
Он нашел свободное местечко на стоянке между «ягуаром» и «альфой», поставил «симку» и заглушил мотор в полной уверенности, что в следующий раз, когда машина ему понадобится, она опять окажется где-то на задворках.
– Спасибо за то, что подвезли, – поблагодарила девушка, выходя из машины. – Мне понравились ваши друзья Мерфи. Уверена, что и вы мне понравитесь, если познакомимся поближе.
Крейг улыбнулся, оценив ее вежливость.
– Я пока никуда не денусь, – уклончиво заметил он и долго глядел вслед девушке, идущей по набережной с магнитофоном в руке. Голос Мерфи на кассете. Длинные каштановые волосы поблескивали на синей хлопчатобумажной ткани. Стоя в ярком солнечном свете, он ощущал себя покинутым. И не хотел оставаться сегодня один, вспоминая то время, когда ему было двадцать семь.
Но Крейг поборол неразумный, как он считал, порыв, зашел в бар, выпил пастис[21], нехотя побрел на улицу д’Антиб и попытался посмотреть немецкий порнофильм из жизни грудастых лесбиянок в высоких кожаных ботфортах на фоне сельских пейзажей, долин и водопадов. Зал был битком набит. Он ушел на половине и направился в гостиницу.
Две проститутки с жесткими угловатыми лицами, стоявшие на углу у теннисных кортов, оценивающе уставились на него. Может, именно это ему и нужно? Хоть что-то изменится?
Но он лишь учтиво им улыбнулся и прошел мимо. С корта доносились аплодисменты, и он решил войти. Турнир для юниоров был в самом разгаре. Парни неистовствовали, передвигаясь со скоростью звука. Крейг понаблюдал несколько минут, пытаясь вспомнить, когда сам был способен бегать так быстро.
Он вышел, завернул за угол и направился к отелю мимо террасы, на которой уже начинали собираться жаждущие выпить постояльцы.
Вместе с ключом от номера портье протянул Крейгу несколько записок, оставленных в его отсутствие. Ему пришлось расписаться в получении заказного письма от жены, пересланного из парижского отеля. Он, не читая, сунул все вместе в карман.
В лифте пузатый коротышка в оранжевой рубашке говорил смазливой молоденькой девушке:
– На худшем фестивале мне еще не приходилось бывать.
Девушка могла быть секретарем, или старлеткой, или шлюхой, а может, и дочерью этого человека.
Оказавшись в номере, он вышел на балкон и долго смотрел на море. Потом вынул из кармана записки и стал читать все подряд. Письмо жены приберег на десерт.
Мистер Томас с женой приглашают мистера Крейга на ужин. Не будет ли добр мистер Крейг сообщить о своем согласии по телефону? До семи вечера они будут ждать в отеле «Мартинес».
Брюс Томас ему нравился, хотя они были почти незнакомы. Этот режиссер снял три хита подряд. Сорокалетний Томас и был одним из тех, кого Крейг имел в виду, когда объяснял Гейл Маккиннон, почему так и не поддался искушению поставить фильм. Завтра он скажет Томасу, что вернулся слишком поздно и не успел позвонить. Ему совсем не хотелось сегодня ужинать с человеком, снявшим три хита подряд.
Звонил Сидни Грин и спрашивал, не смогут ли они с мистером Крейгом выпить перед ужином по маленькой. Он будет в баре в восемь. Сидни Грин, режиссер, поставивший три-четыре фильма и нанятый независимой компанией снять сериал. Независимая компания месяц назад прекратила существование, и Грин примчался в Канны в поисках работы, умоляя каждого встречного замолвить за него словечко. Сегодня ему придется обойтись без общества Крейга.
Звонила мисс Натали Сорель и просила мистера Крейга перезвонить. Натали Сорель и была одной из разряженных дам, которых заметила и высоко оценила Гейл Маккиннон, – довольно известной киноактрисой, венгерского происхождения, свободно говорившей на нескольких языках. Лет пять-шесть назад они были любовниками. Роман продолжался несколько месяцев, после чего она исчезла из виду. В свои почти сорок Натали по-прежнему выглядела неотразимой, и, встретив ее на приеме, он вдруг пожалел, что порвал с ней. Сейчас он вспомнил, что они как-то провели вместе уик-энд в Болье, уже глубокой осенью, и это до сих пор оставалось одним из самых светлых воспоминаний в его жизни. На приеме она сообщила, что выходит замуж. Крейг решил, что ему хватает проблем в жизни и без мисс Натали Сорель. Сегодня он не станет ей звонить.
Записка, написанная почерком Йана Уодли. Он и Уодли часто кутили вместе в Нью-Йорке и Голливуде. Уодли написал роман, имевший бешеный успех в начале пятидесятых. В то время он был громогласным, остроумным, веселым человеком, затевавшим шумные ссоры с незнакомыми людьми в барах. С тех пор он написал несколько не замеченных публикой романов, работал над множеством сценариев, сменил трех жен и стал пьяницей. Вот уже несколько лет Крейг не встречал имени Уодли ни в печати, ни на экране и сейчас с удивлением рассматривал его подпись.
«Дорогой Джесс, – писал Йан размашистым неразборчивым почерком. – Я прослышал, что ты здесь, и, возможно, захочешь опрокинуть пару стаканчиков, в память прежних времен. Я обитаю в блошиной дыре около старого порта, где такие же бедняги влачат свое короткое, жалкое, скотское существование, зато с удовольствием передадут любое поручение. Звони, если надумаешь. Йан».
Интересно, что Уодли делает в Каннах? Но все же это не настолько интересно, чтобы набрать номер, нацарапанный Йаном внизу странички.
Он вскрыл письмо жены. Она соизволила напечатать его собственноручно и сообщала, что его ежемесячный чек задерживается на два дня и она уже уведомила своего и его поверенных. И если не получит чек завтра, то поручит адвокату принять соответствующие меры.
Крейг сунул разрозненные бумажки в карман, сел и стал любоваться потемневшим морем на закате.
Небо заволокли тучи, вода приобрела стальной оттенок, воздух стал влажным. Поднялся ветер, и ветви пальм вдоль набережной сухо зашуршали, как огромные листы картона. Белая яхта, перекатывающаяся на волнах, включив ходовые огни, торопилась в убежище гавани.
Крейг ушел с балкона и нажал кнопку выключателя в гостиной. Зажегся свет, бледный и водянистый. В желтоватом сиянии комната выглядела убогой и неряшливой. Крейг вынул чековую книжку и выписал чек на имя жены. Он понятия не имел, сколько осталось на счету, и не собирался проверять. Положив чек в конверт, он написал адрес. Адрес теперь уже чужого дома, пусть по-прежнему заполненного его книгами, бумагами и мебелью, среди которой прожито полжизни.
Крейг выдвинул ящик стола и вынул сценарий, одну из шести лежавших там копий. Обложки не было. На первой странице напечатано название – «Три горизонта». Имени автора тоже не было.
Крейг вынул перо, наклонился пониже и, немного поколебавшись, написал: «Малкольм Харт».
Имя как имя, ничем не хуже других. Пусть работу судят беспристрастно, по ее достоинствам и недостаткам. Автор неизвестен – значит, и отзывы будут справедливее. Друзья не поддадутся соблазну курить фимиам, враги не получат новых поводов для нападок. Пусть во всем этом есть некое малодушие, но в здравом смысле ему не откажешь. В стремлении к точности суждений – тоже.
Он старательно вывел псевдоним на каждом из пяти остальных экземпляров, положил один в конверт из крафта и надписал на нем имя Брайана Мерфи.
Может, стоит позвонить Констанс? Она, должно быть, уже дома и немного пришла в себя после утреннего скандала. Но Крейг знал, что расстроится, если ее не окажется дома, и поэтому не протянул руки к трубке. Вместо этого он спустился в переполненный вестибюль, сухо улыбнулся знакомым, с которыми не имел ни малейшего желания вступать в беседу, и, подойдя к стойке портье, попросил отправить жене чек и доставить рукопись с посыльным Брайану Мерфи в «Отель дю Кап». Потом дал телеграмму Энн с просьбой первым же самолетом вылететь в Ниццу. Если уж он позволяет донимать себя молодым, пусть уж это будет его собственная плоть и кровь.
ГЛАВА 6
Ужинал он в маленьком ресторанчике в старом порту. Один. Хватит с него разговоров! Ресторан был одним из лучших в городе, дорогим, и обычно здесь яблоку было негде упасть. Но сегодня, если не считать его самого и двух шумных компаний англичан, розовощеких, неестественно чисто выбритых и модно причесанных мужчин и кричаще разодетых, усыпанных драгоценностями женщин, зал был пуст. Англичане, очевидно, не имели никакого отношения к фестивалю, и в Каннах просто отдыхали. Накануне он видел их в казино, где как мужчины, так и дамы играли по-крупному.
Женщины наперебой трещали о других курортах: Сардинии, Монте, как они величали Монте-Карло, Капри, Сен-Морице – любимых местах сборищ богачей. Мужчины как заведенные жаловались на лейбористское правительство, валютные ограничения, банковские проценты, девальвацию, перекрывая гулкими голосами визг своих жен.
«Англия остается Англией», – подумал Крейг, жуя салат а-ля Ницца.
Появился Пабло Пикассо в обществе пяти человек, и красивая владелица ресторана услужливо провела его за столик у противоположной стены. Крейг мельком взглянул на него, восхищаясь поистине бычьей энергией, исходившей от невысокой коренастой фигуры, с большой лысой головой и темными глазами, казавшимися одновременно нежными и свирепыми, и тут же отвернулся. Пикассо, несомненно, нравится, когда его узнают, но великий художник имеет право спокойно есть свой суп без того, чтобы за каждым его жестом следил пожилой любопытный американец, воображающий, будто имеет право претендовать на внимание мэтра только потому, что повесил литографию с голубкой в доме, которого, в сущности, уже лишился.
Англичане нехотя, мельком взглянули на Пикассо и его сопровождение и вернулись к своим стейкам и шампанскому. Позже к столу Крейга подплыла хозяйка.
– Вы, конечно, знаете, кто это? – негромко спросила она.
– Разумеется.
– Они… – Женщина пренебрежительно кивнула в сторону англичан. – Они его не узнали.
– Искусство вечно, слава преходяща.
– Comment[22]? – недоуменно пробормотала она.
– Американский юмор, – пояснил Крейг.
На десерт хозяйка подала ему к кофе коньяк за счет заведения. Если бы англичане узнали Пикассо, ему пришлось бы платить за коньяк. По пути к выходу он миновал столик художника. Их взгляды на миг встретились. Интересно, как видит его этот старик? Как абстракцию? Угловатый уродливый винтик американской махины? Как убийцу, возвышающегося над телами мертвых азиатских крестьян и подсчитывающего трупы? Как грустного, неизвестно как попавшего на чужой скорбный карнавал шута? Как одинокое человеческое создание, едва волочащее ноги по пустому холсту?
В эту минуту он возненавидел условности, которыми никогда не мог пренебречь. Каким бы счастьем было подойти к старику и сказать: «Вы обогатили мою жизнь».
Крейг вышел из ресторана и направился к пристани, чтобы еще раз полюбоваться яхтами, тихо звеневшими снастями в темноте. Почему они не выходят в море?
Приближаясь к повороту, он увидел в тусклом свете фонарей бредущую навстречу знакомую фигуру, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся Йаном Уодли. Он шел, устало опустив голову, развинченно шаркая ногами, но, в последнюю секунду заметив Крейга, мгновенно преобразился, выпрямился и широко улыбнулся. Уодли сильно растолстел, живот выпирал из неглаженого костюма. Жирная шея вся в складках морщин, галстук с ослабленным узлом болтался на помятой рубашке. Ему давно пора было постричься: густые встрепанные волосы торчали во все стороны, падая на высокий крутой лоб, что придавало ему вид вдохновенного пророка.
– На ловца и зверь бежит! – громко объявил Уодли. – Мой друг, чудо-мальчик!
Уодли и Крейг познакомились, когда последнему исполнилось тридцать, так что укол не остался незамеченным и явно попал в цель.
– Привет, Йан, – кивнул Крейг.
Они обменялись рукопожатием. Ладонь Уодли оказалась неприятно влажной.
– Я оставил тебе записку, – упрекнул Уодли.
– Я хотел позвонить завтра.
– Кто знает, где я буду завтра? – едва ворочая языком, пробормотал Уодли. Очевидно, он уже успел заложить за воротник. Как обычно. Он стал пить, когда его книги перестали пользоваться спросом. Или его книги перестали пользоваться спросом, когда он запил. Что было причиной, что следствием? Какая разница? Результат один.
– Разве ты не останешься до конца фестиваля? – спросил Крейг.
– Я в пустоте, вне времени и пространства, – промямлил Уодли. Он был куда пьянее, чем Крейгу показалось вначале. – А ты что поделываешь?
– Когда?
– Сейчас.
– Просто гуляю.
– Один?
Уодли с подозрением огляделся, словно в уверенности, что Крейг прячет своего сомнительного спутника здесь, среди перевернутых плоскодонок и рыбачьих сетей.
– Один, – кивнул Крейг.
– Одинокий продюсер на длинные дистанции[23], – снова съехидничал Уодли. – Я пройдусь с тобой. Два товарища, ветераны бегства с бульвара Сансет.
– Ты всегда выражаешься кинотитрами, Йан? – раздраженно буркнул Крейг, возмутившись тем, что писатель поставил себя на одну доску с ним.
– Искусство современности. Печать мертва. Спроси хоть любого философа. Веди меня в ближайший бар, вундеркинд.
– С меня на сегодня спиртного достаточно.
– Счастливчик, – позавидовал Уодли. – Ну все равно, я тебя провожу. Должно быть, ты выбрал дорогу надежнее.
Они пошли рядом. Уодли старался держаться прямо и шагать бодро. Когда-то красивое лицо Йана с точеными, почти скульптурными чертами, теперь одутловатое, погубленное пьянством и заплывшее жиром, выражало лишь жалость писателя к самому себе.
– Расскажи, чудо-малыш, что делаешь в этом сортире?
– Решил, что сейчас самое время посмотреть пару фильмов, – пояснил Крейг.
– Я живу в Лондоне. Ты это знал? – резко выпалил Уодли, словно хотел заставить Крейга признать, что тому наплевать на судьбу бывшего друга.
– Да, – кивнул Крейг. – Ну как Лондон?
– Город Шекспира и Марло, королевы Елизаветы и Диккенса, Твигги и Йана Уодли. Еще одна задница. Меня прислали сюда давать репортажи о фестивале в английский журнал для «голубых». Правда, никакого контракта. Оплачивается только гостиница. Если материал пойдет, бросят мне кость в виде пары фунтов. Хотят увидеть волшебное имя Йана Уодли на своей поганой обложке. Погоди, вот когда они прочтут статью, их наизнанку вывернет! Ничего, кроме последнего дерьма, я здесь не увидел. И пусть не думают, что я смолчу. Немного встряхну их голубиное гнездышко! Тот гомик, редактор из отдела искусств, по-моему, так и не научился читать, поэтому считает кино сиюминутной музыкой сфер. Искусством современности. Уверен, что Жан-Люк Годар ежегодно создает по четыре Сикстинских капеллы. Иисусе, он убежден, что Антониони – мастер, а его «Крупным планом» – шедевр на все времена! Как тебе тот бред, что здесь показывают?
– Есть кое-что неплохое, – отозвался Крейг. – Думаю, к концу фестиваля наберется не меньше шести хороших картин.
– Шесть! – хмыкнул Уодли. – Как только составишь список, поделись со мной. Обязательно включу в свой репортаж. Свобода печати. Шесть лучших фильмов, по мнению экс-великого продюсера.
– Тебе лучше вернуться в гостиницу, Йан. Ты начинаешь мне надоедать, – бросил Крейг.
– Прости, – с искренним раскаянием пробормотал Уодли. – За последние несколько лет я совершенно распустился. Манеры не выдерживают никакой критики. Впрочем, как и все остальное. Не хочу я возвращаться в отель. Ничего там нет, кроме скопления блох и незаконченного романа, которому, вероятно, так и суждено остаться недописанным. Знаю, я веду себя как последний подонок. Не стоило срывать злость на старых приятелях вроде тебя. Ты простишь меня, Джесс? – умоляюще повторил он.
– Конечно.
– Мы ведь были когда-то друзьями, правда? – продолжал скулить он. – И когда-то неплохо проводили время. Опрокинули не одну бутылочку. Что-то еще осталось от той дружбы, да, Джесс?
– Осталось, Йан, – солгал Крейг.
– Знаешь, что меня убивает? – сказал Уодли. – То, что сейчас называют манерой письма. Особенно в кино. Актеру достаточно пробурчать: «Ага», или: «Сама знаешь, крошка, я от тебя тащусь», или: «Давай трахнемся», – и это сходит за диалог. Так, по их мнению, благородное животное, считающее себя человеком, общается со своими собратьями под присмотром Господа. А люди, стряпающие нечто подобное, получают по сто тысяч за картину, «Оскаров» и всех девчонок, на которых глаз положат. А я должен писать дерьмовую статейку на две тысячи слов для «голубого» журнала, да еще, считай, задаром.
– Полно, Йан. У всякого художника бывают взлеты и падения. То ты вдруг выходишь из моды, то все вновь возвращается на круги своя. Если, конечно, сможешь этого дождаться.
– Я снова войду в моду лет через пятьдесят после смерти, – проворчал Уодли. – Любимец грядущих поколений Йан Уодли. А как ты? Что-то в последнее время совсем не вижу в воскресных приложениях панегириков тебе.
– Я в академическом отпуске, – пояснил Крейг. – Пребываю в безвестности, вдали от славы и популярности.
– Чертовски он долгий, твой отпуск, – заметил Уодли.
– Что поделать.
– Кстати, околачивается тут некая девица по фамилии Маккиннон, называющая себя репортером. Все пыталась выкачать из меня сведения о тебе. Осаждала хитрыми вопросами. О женщинах. Девушках. Твоих друзьях. Врагах. Похоже, ей известно о тебе куда больше, чем мне. Ты с ней говорил?
– Так, недолго.
– Остерегайся ее, – предупредил Уодли. – Глаза у нее как-то странно поблескивают.
– Постараюсь.
У обочины притормозил «фиат», в котором сидели две девушки. Та, что была ближе, высунулась из окна:
– Bonsoir.[24]
– Катись к черту, – буркнул Уодли.
– Sal juif, – прошипела девица.
Машина сорвалась с места.
– Грязный жид, – перевел Уодли. – Неужели у меня такой ужасный вид?
Крейг рассмеялся.
– Пора научиться быть повежливее с французскими дамами, – посоветовал он. – Все они воспитывались в монастырях.
– Шлюхи, – высказался Уодли. – Повсюду шлюхи. Среди зрителей, на экране, на улицах, в жюри. Клянусь, Джесс, этот город каждый год на две недели становится вселенским сборищем потаскух! Расставляй ноги и хватай деньги! Этот девиз следует напечатать на каждом официальном бланке города Канны. Взгляни!
На другой стороне бульвара четверо молодых людей зазывно улыбались проходившим мужчинам.
– Как тебе это нравится?
– Не слишком.
– Теперь без программы не скажешь, что за артисты играют в фильме. Погоди, вот выйдет мой репортаж, – пообещал Уодли.
– Вряд ли я дождусь, – покачал головой Крейг.
– Пожалуй, я пришлю тебе копию рукописи, – решил Уодли. – Черта с два эти педики ее напечатают. А может, мне стоит начать продаваться и писать только то, что нравится моему «голубенькому» редактору? Если статью не возьмут, на что мне жить?
– Может, именно так считают те девушки в машине и парни на углу? На что им жить, если не получат денег? – возразил Крейг.
– В тебе говорит долбаная христианская терпимость, Джесс. И не воображай, что это добродетель. Мир катится к чертям на тошнотворной волне терпимости. Грязные фильмы, грязный бизнес, грязная политика. Все сходит с рук. Все прощается. Всему можно найти с полдюжины оправданий.
– Знаешь, Йан, по-моему, тебе нужно выспаться получше.
– А по-моему, – процедил Уодли, останавливаясь, – все, что мне нужно, – пять тысяч долларов. Можешь мне их дать?
– Нет. Зачем тебе пять тысяч?
– Знакомые снимают фильм в Мадриде. Сценарий, разумеется, дерьмо и требует переработки на скорую руку. Если бы я мог добраться туда, работу почти наверняка отдали бы мне.
– Билет до Мадрида стоит не больше сотни баксов, Йан.
– А отель? – взвился Уодли. – А что я буду есть, пока не подпишу контракт? А если и подпишу, как протянуть до аванса? А эта сучка, моя третья жена? Она собирается наложить арест за неуплату алиментов на машинку и книги, оставленные на хранение в Нью-Йорке.
– Как я тебя понимаю, братец, – вздохнул Крейг.
– Если пытаешься заключить сделку, а эти подонки учуют, что у тебя в кармане шиш, они в порошок тебя сотрут, – продолжал Уодли. – Имея же деньги, всегда можно встать и объявить: «Как угодно, друзья», – и спокойно удалиться. Да ты и сам знаешь. Так что пять тысяч – это самый минимум.
– Прости, Йан, – развел руками Крейг.
– Ладно, хотя бы три сотни можешь дать? На три сотни я могу добраться до Мадрида и протянуть пару деньков, пока не разнюхаю обстановку.
Его жирные подбородки вздрагивали.
Крейг поколебался, машинально прикоснувшись к карману пиджака. В бумажнике у него пятьсот американских долларов и почти две тысячи франков. Суеверный страх снова стать почти нищим и воспоминания о том времени, когда он был беден как церковная мышь, заставляли его носить с собой наличные. Он искренне переживал, когда приходилось отказывать в деньгах даже малознакомым людям, и это свойство характера Крейг справедливо считал слабостью. Он всегда помнил, что в «Войне и мире» Толстой считал обретенную Пьером Безуховым способность отказывать назойливым просителям признаком взросления и зрелости ума.
– Так и быть, Йан, – решил он, – дам я тебе триста.
– А еще лучше – пятьсот.
– Я сказал – триста.
Крейг вынул бумажник, отсчитал три стодолларовых банкноты и протянул Уодли. Тот, не глядя, сунул их в карман.
– Ты ведь знаешь, что я никогда их не верну?
– Знаю.
– И не извинюсь, – яростно прошипел Уодли.
– Я и не прошу извиняться.
– А знаешь почему? Потому что ты у меня в долгу. Объяснить, почему? Потому что когда-то мы были на равных. А сейчас ты по-прежнему что-то значишь, а я – ничтожество. Меньше, чем ничтожество.
– Желаю удачи в Мадриде, Йан, – устало бросил Крейг. – Я иду спать. Спокойной ночи.
Он оставил Уодли у фонарного столба; вокруг крутились проститутки. Тот долго провожал глазами удалявшуюся спину Крейга.
К тому времени, когда впереди показался отель, Крейг почувствовал, что замерз и немного дрожит. Он направился к бару, почти пустому в это время суток, перед ужином и окончанием вечернего просмотра. Сев у стойки, Крейг попросил горячий грог, чтобы согреться. Пока он пил, бармен показывал ему фотографии сына, одетого в старинный мундир Escadre Noir[25] французской кавалерийской академии в Сомюре. На снимке молодой человек как раз брал препятствие, сидя на чудесном вороном коне: идеальная посадка, уверенно державшие поводья руки. Крейг похвалил снимок, чтобы доставить удовольствие отцу, думая при этом, как, должно быть, прекрасно посвятить свою жизнь чему-то такому же красивому и бесполезному, как французский кавалерийский эскадрон семидесятых годов.
Его все еще знобило – должно быть, поднималась температура. Поежившись от холода, Крейг расплатился за грог, попрощался с отцом кавалериста и пошел к портье за ключом от номера.
В его ящике лежал конверт, надписанный рукой Гейл Маккиннон. Теперь он пожалел, что не пригласил ее на ужин. Уодли не посмел бы распустить язык в присутствии девушки, а сам он был бы сейчас на триста долларов богаче, потому что Йан постыдился бы просить денег при свидетеле. По правде говоря, встреча с Уодли взволновала его куда сильнее, чем он готов был признаться себе, и теперь, как ни странно, даже разгоравшуюся простуду и озноб Крейг относил за счет встречи с писателем. Ледяной ветер из бездны Канн.
Поднявшись к себе, он натянул свитер и налил виски, опять-таки в лечебных целях. И спать еще рано, несмотря на жар. Он вскрыл послание Гейл Маккиннон и в желтоватом свете люстры прочел написанное:
«Дорогой мистер Крейг! Я опять о своем. И полна оптимизма. Сегодня днем, за обедом и в машине, я почувствовала, что в вас просыпается дружелюбие. Вы отнюдь не так неприступны, как хотите казаться. Когда мы проезжали мимо дома, в котором, по вашим словам, вы провели лето, мне почудилось, что вы собирались сказать больше того, чем позволили себе. Вероятно, вами руководила осторожность, нежелание выдать под влиянием момента что-то такое, о чем вы позже пожалеете. Поэтому я и составила список вопросов, которые вы можете не спеша прочитать, а ответить по вашему выбору в угодной вам форме. Можете отредактировать их, как считаете нужным, если опасаетесь, что нечаянная фраза или не вовремя оброненное слово будут использованы продажным корреспондентом или корреспонденткой. Вопросы прилагаются…»
Крейг прочел первый вопрос и поморщился. Кажется, совсем просто: «Зачем вы приехали в Канны?» Что ж, начало неплохое. Да и конец ничего. Умненькая девочка. Всеобъемлющий, вечный вопрос. Почему вы здесь?
Ответ на этот вопрос поможет определить ваше общее представление о предмете. На то, чтобы сдать экзамен, у вас остается тридцать минут, двадцать четыре часа или сорок восемь лет.
Почему ты именно в этом городе и ни в каком другом? Почему ты в постели именно с этой женщиной и ни с какой другой? Почему ты здесь в одиночестве, а там – среди толпы? Как получилось, что ты стоишь коленопреклоненный перед этим алтарем и именно в этот момент? Что заставило тебя отказаться от одного путешествия и отправиться в другое? Что вынудило тебя переправиться через ту реку вчера, сесть в самолет утром, поцеловать этого ребенка вечером? Что закинуло тебя в эти широты? Какие друзья, враги, успехи, провалы, ложь, истина, временные и географические расчеты, карты, какие маршруты и автострады привели тебя сюда, в этот номер, в этот вечерний час?
Честный вопрос заслуживает честного ответа.
Крейг подошел к столу, сел и достал ручку и бумагу.
«Почему я в Каннах?» – медленно вывел он и замялся. И, не задумываясь о том, что делает, написал почти автоматически:
«Я в Каннах для того, чтобы спасти свою жизнь».
ГЛАВА 7
Крейг уставился на только что написанную фразу. Это не его почерк!
Он отложил ручку, внезапно поняв, что сегодня уже ничего больше не напишет.
Все, что вы скажете, может быть использовано против вас.
Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза.
В глаза с болезненной силой ударил ослепительно яркий свет; откуда-то доносился дикий, пронзительный вой. Крейг открыл глаза.
Прямо в лицо сквозь размазанные «дворниками» грязные полукружья на лобовом стекле пялились две мокрые луны. Руки его бессильно обмякли на рулевом колесе. Он лихорадочно крутанул руль, чудом избежав столкновения с другой машиной на пустынном, блестящем от дождя шоссе. Вопль гудка замер позади звуком похоронного марша. Успокоившись, он стал вести машину осторожнее, не останавливаясь, внимательно вглядываясь через забрызганное стекло в черный бетон.
Еще несколько миль – и руки затряслись, а его проняло ознобом. Он свернул к обочине, заглушил мотор и стал ждать, пока пройдет приступ. Не понятно, сколько прошло времени, прежде чем руки перестали дрожать. Он сознавал только, что на лбу выступил холодный пот, а под мышками ползли ледяные струйки. Он вынул платок, вытер лоб, сделал четыре глубоких вдоха. В машине неприятно пахло. Где он? Ряды темных деревьев вдоль дороги ни о чем не говорили. Крейг вспомнил, что не так давно пересек границу Франции. Значит, сейчас он где-то между рекой Бидасосса и Сан-Себастьяном. Утром он выбрался из Парижа и ехал весь день, останавливаясь только на заправках, где можно было заодно выпить чашку кофе.
«Я едва не погиб в солнечной Испании».
Он собирался добраться до Мадрида без остановок, переночевать и отправиться дальше на юг, в Малагу. Знакомый, кто-то вроде приятеля, вернее, приятель друга, матадор, выступал завтра в Малаге. Они встретились в Аликанте год назад, на трехдневном празднике. Ласковое средиземноморское солнышко, парады оркестров, фейерверки, южноиспанские костюмы, море вина, длинное, бесконечное похмелье, безрассудство чужого веселья, лихая компания, мужчины и женщины, которых он знал достаточно близко, чтобы без забот провести вместе несколько дней, те, кто ничего для него не значил и кого он видел всего четыре-пять раз в год, приезжая на корриду.
Матадор состарился и уже не годился для боя с быками. Он сам знал это. Он был богатым человеком. Почему же так рвался на арену, к животным, стремившимся прикончить его?
– Что я могу сделать? – оправдывался матадор. – Это единственное развлечение, которое у меня осталось. Моя единственная игровая площадка. У большинства людей и этого нет. Не допущу, чтобы меня с нее прогнали.
Есть много способов отправиться на тот свет в Испании. Рога, сон за рулем…
Вот уже третий раз в этом году он засыпает в пути. Один раз в предместье Зальцбурга. Другой – на автостраде близ Флоренции. Теперь сегодня. Ему повезло. Или наоборот? Так или иначе, он успел открыть глаза. За последние годы он привык наматывать по девятьсот-тысяче миль без остановки. Что ему нужно было в Зальцбурге и что он хотел увидеть во Флоренции? Его друг матадор выступает за сезон в тридцати разных городах. Почему его потянуло именно в Малагу? Крейг уже не помнил. Ему нравилась ночная езда, одиночество, цепенящая гипнотическая магия летящих навстречу огней, радость от того, что он покидает город, в котором слишком засиделся; он испытывал удовольствие, когда мчал по пустынным темным улицам нового города, преодолевая расстояния.
Орудие самоубийства стояло в каждом гараже. У него хватало ума это понять.
Он завел машину, медленно въехал в Сан-Себастьян, нашел отель. Этой ночью ему не добраться до Мадрида.
Бар рядом с отелем был еще открыт. Он заказал коньяк, раз, другой. Есть не хотелось. За соседним столиком какие-то мужчины громко спорили по-испански. Он прислушался было, но они склонились над столом и стали заговорщически перешептываться. Должно быть, замышляют покушение на Франко? Хотят освободить священника? Взорвать полицейский участок? Или задумали попытать счастья в лотерее?
Какая разница? Все равно он не понимает языка. Собственное невежество успокаивало.
Он позвонил в Париж из отеля. Пока его соединяли, он успел раздеться и лечь в постель. К телефону подошла Констанс. Он оставил ее рано утром. Они занимались любовью на рассвете, и она была сонной и теплой. Но ее страсть, как обычно, была безоглядной, щедрой и не знала пределов. Она отдавалась безудержно, брала без стыда, они не оказывали друг другу милостей в постели и не платили долгов. Она никогда не допрашивала, почему он уезжает, когда Крейг ни с того ни с сего срывался в Цюрих, или в Страну басков, или Нью-Йорк. Да он и не сумел бы правдиво ответить.
Бывало, что они ездили вместе, но тогда все становилось совершенно иным. Она брала отпуск, чего с ним никогда не случалось. Если Констанс сидела рядом, он вел машину аккуратно, медленно, беспечно болтая, играя в слова, наслаждаясь пейзажами и поминутно останавливаясь что-нибудь выпить. Она тоже любила водить машину, правда, не слишком умело, но ей везло. Констанс хвалилась, что в жизни не попадала в аварии, хотя уже двадцать раз могла бы. Однажды он долго смеялся, когда она на крутом повороте выехала на встречную полосу. Констанс ненавидела, когда над ней подшучивали, и поэтому немедленно остановила машину, вышла, прошипела, что больше никуда с ним не поедет, и отправилась пешком обратно в Париж. Но Крейг терпеливо ждал. Через полчаса она вернулась, безуспешно пытаясь принять высокомерный вид, и села в машину. Он снова доверил ей руль, она остановилась у первого же кафе, и они выпили коньяку.
Утром, оставив Констанс, он вернулся в отель, уложил вещи и, влившись в утренний поток автомобилей, направился к южной трассе. Однажды она поинтересовалась, зачем он сохраняет за собой номер в отеле, если почти каждую ночь проводит у нее. Он ответил, что привык к отелям. Больше она не спрашивала.
Телефон на прикроватном столике звякнул. Номер был огромный, обставленный темной громоздкой мебелью. Он всегда выбирал лучшие отели и старался избегать других постояльцев. Не переваривал, когда приходилось сталкиваться с толпившимися в вестибюле гостями.
– Ты уже в Мадриде? – удивилась она. Должно быть, он ее разбудил, но по голосу этого не скажешь. Уже через пять минут после пробуждения тон у нее был такой, словно она, чистая и распаренная, только что вышла из душа.
– Нет, – пробормотал он. – Я переночую в Сан-Себастьяне.
– Как там, в Сан-Себастьяне?
– Говорят по-испански.
– Вот так чудо! – засмеялась она. – Почему передумал ехать дальше?
Будь он честен, наверняка признался бы: «Умирать не хотелось».
Вместо этого он сказал:
– Дождь пошел.
Еще один год. Пять лет назад. Он стоял в фойе кинотеатра в Пасадене. Закончился предварительный просмотр его последней картины. Фильм снимался во Франции. Герой – молодой американский лейтенант, отбывающий службу в Германии, – дезертировал и, прежде чем сдаться, завел роман с француженкой. Их связь оказалась роковой. Рядом с ним в фойе сидел режиссер, Фрэнк Баранис, утонувший в просторном двубортном пальто из верблюжьей шерсти. Он был мрачнее тучи: зрители в зале кашляли, громко переговаривались.
Они дружили почти двадцать лет, еще с тех времен, когда Баранис ставил первую пьесу Эдварда Бреннера. И шафером на свадьбе Крейга тоже был он. Во время съемок Крейгу пришло анонимное письмо, написанное женским почерком, в котором сообщалось, что Баранис спал с Пенелопой до свадьбы, накануне свадьбы и, вероятно, не раз после свадьбы. Крейг выбросил письмо, ни словом не обмолвившись ни жене, ни Баранису. Нельзя же придавать значение анонимке, скорее всего присланной мстительной брошенной женщиной! Допытываться у своего друга, человека, день и ночь трудившегося рядом над сложной и изматывающей задачей, спал он или не спал с Пенелопой семнадцать лет назад, за день до свадьбы, было нелепо.
Крейг неожиданно осознал, как постарел Баранис, больше всего похожий в эту минуту на испуганную сморщенную обезьянку. Несмотря на слегка рябоватое лицо, большие, влажные, темные глаза и надменно-бесцеремонная манера обращения с женщинами обеспечивали ему, как слышал Крейг, неизменный успех.
– Ну все, – вздохнул Баранис, – полный провал. Что теперь?
– Ничего, – пожал плечами Крейг. – Мы хотели сделать этот фильм – и мы его сделали.
Навстречу повалила толпа зрителей; совсем близко проходила незнакомая парочка. Женщина, маленькая, немодно одетая. Попади она на распродажу в качестве товара, пылилась бы на полках с уцененными вещами. Мужчина, плотный, распиравший швы узкого костюма, походил на футбольного тренера, чья команда только что проиграла и он готов излить злобу на игроков: лицо пылало, глаза за стеклами очков яростно сверкали.
– Дерьмо собачье, а не картина, – прошипел он, едва ли не в лицо Баранису и Крейгу. – Такие уж времена: думают, что им все сойдет с рук!
– Гарри! – воскликнула женщина с интонациями базарной торговки. – Придержи язык!
– Повторяю: дерьмо собачье! – заупрямился мужчина.
Крейг и Баранис молча переглянулись. Работа над фильмом шла два года.
Немного подумав, Баранис вяло предположил:
– Может, для Пасадены эта картина не годится. В Нью-Йорке скорее всего отношение будет другим.
– Вероятно, – согласился Крейг и, раз уж выдался такой вечер, неожиданно для себя спросил: – Фрэнк, месяца два назад я получил анонимку, в которой утверждалось, что у тебя был роман с Пенелопой до нашей свадьбы. Что ты переспал с ней накануне. Это правда?
– Да, – кивнул Баранис.
Что поделать, такой уж вечер.
– Почему же ничего не сказал?
– А ты не интересовался, – парировал Баранис. – И какого черта мне было знать, что ты решишь на ней жениться?
Он поднял воротник, спрятав в нем лицо. В эту минуту он особенно напоминал маленького, попавшего в капкан, умирающего зверька.
– Кроме того, даже если бы я и рассказал тебе, ты, все равно женился бы. Ее простил бы, а меня возненавидел. И до конца дней словом больше со мной не перекинулся бы.
– Наверное, ты прав, – признал Крейг.
– Возьми хоть себя и Эда Бреннера, – рассердился Баранис. – Вы ведь больше не встречаетесь, верно?
– Да.
– Вот видишь?
– Ты знал о Бреннере и Пенни? – глухо бросил Крейг.
– Все знали, – раздраженно пожал плечами Баранис. – И к чему бы это привело, начни я трепать языком?
Он еще глубже втянул голову в плечи.
– Ни к чему хорошему, – рассудил Крейг. – Пойдем отсюда. Я подвезу тебя домой.
В Нью-Йорке повторилось то же самое. Картина слишком рано вышла на экраны. Время, когда в моду вошли фильмы о солдатах, лишившихся иллюзий и разочаровавшихся в мифе об американской армии, еще не настало.
Он сидел в офисе за видевшим виды письменным столом под красное дерево и выписывал чеки. Офис был маленьким и убогим: всего две комнатушки, для него и секретарши. Белинда Юэн работала у него еще со времен «Пехотинца». Обстановка тоже не менялась с сорок шестого. Прошедшие годы отнюдь не повлияли благотворно ни на мебель, ни на Белинду. Когда-то Белинда была маленькой, довольно хорошенькой брюнеткой, из которой энергия так и била ключом. Она осталась все такой же маленькой энергичной брюнеткой, вот только привлекательность исчезла без следа. Лицо словно сморщилось, кожа обтянула скулы, а вместо рта оказалась щель, прорезанная тупым ножом. Что касается стола, то уже в сорок шестом он выглядел подделкой. Теперь это стало еще заметнее.
Пенелопа долго воевала за право выбрать для него помещение побольше и лично подобрать мебель. Крейг отказался. Он терпеть не мог офисы, обставленные женами владельцев: толстые ковры, картины дорогих художников. Не менее одного раза в год Пенелопа пыталась также заставить его выгнать Белинду.
– Она ведет себя по-хозяйски, будто офис принадлежит ей, – твердила жена. – И я для нее – пустое место.
Пенелопа ставила секретарше в вину даже манеру одеваться.
– Просто чудовищно, – жаловалась она. – Выглядит так, словно собралась на Кони-Айленд в компании матросов! Что, по-твоему, думают люди, когда, впервые приходя в офис, сталкиваются с этой девицей в платье всех цветов радуги?
Он даже не потрудился ответить, что люди приходят в офис работать с ним, Джессом Крейгом, а не судачить о его секретарше. Вместо этого он спокойно повторял:
– Когда Белинда выйдет замуж, возьму такую, которая перманентно носит траур.
– Замуж? – фыркала Пенелопа. – Эта женщина не выйдет замуж, пока ты жив!
– Надеюсь, ты права, – вздыхал он.
Иногда Пенелопа, в моменты гнева, обвиняла его в связи с Белиндой. Но Крейг и в мыслях ничего подобного не имел, в полной уверенности, что стоит ему коснуться щеки Белинды, как она закатит истерику. И он не видел причин, почему женщина, так добросовестно относившаяся к работе, как Белинда, должна ко всему прочему пресмыкаться перед женой хозяина.
Наконец, он был просто суеверен. В этих жалких маленьких комнатках с некрасивой, смехотворно одетой секретаршей он пережил лучшие минуты жизни, познал успех, о котором даже не мечтал в тот год, когда снял помещение за восемьдесят долларов в месяц. Не стоит искушать судьбу никчемными символами роскоши. Впрочем, сейчас, в конце осеннего нью-йоркского дня, подписывая лавину счетов, обрушившихся на него после несчастного предварительного просмотра в Пасадене и столь же неудачной премьеры в Нью-Йорке, вряд ли можно утверждать, что счастье – постоянный обитатель обшарпанного офиса, в котором он так долго работал.
Большинство чеков оплачивались им самим, а не со счетов компании. В основном это были хозяйственные расходы: еда, напитки, топливо, телефон, жалованье обеим горничным, цветы, две тысячи долларов за диван, обнаруженный Пенелопой в антикварном магазине на Мэдисон-авеню, счета за одежду от «Сакса» с Пятой авеню и «Бергдорфа Гудмена», ежемесячный счет на двести долларов от Чарлза из отеля «Ритц», парикмахера жены. Было множество других: за обучение Энн в лозаннской школе, за обучение Марши в Мэриленде, страховка и аренда гаража, в котором стоит машина Пенелопы, счет на сто восемьдесят долларов от массажистки, посещающей Пенелопу три раза в неделю, безумный счет от голливудского доктора за лечение матери Пенелопы. Теща приехала навестить дочь вскоре после свадьбы, когда Крейг снимал первый свой фильм на побережье, и немедленно слегла от какой-то таинственной болезни да так и умирала с тех пор и никак не могла умереть, хотя место для этого выбрала, прямо скажем, самое дорогое в мире.
Крейг пытался уговорить Пенелопу самой разбираться с домашними счетами, но та постоянно путалась в цифрах: то не платила за телефон, пока его вдруг не отключали, то оплачивала один и тот же счет дважды, а потом месяцами вообще не прикасалась к бумагам, – и Крейг раздражался, находя у себя на столе письма от назойливых кредиторов. Поэтому он попросил Белинду раз в месяц подбивать итоги и печатать чеки и, кипя от бессильной злости, подписывал их сам. И гадал, что думает Белинда, перебирая счета за одежду на суммы, равные или превышающие ее годовое жалованье. Должно быть, удивляется, что можно сделать с женскими волосами за двести долларов в месяц.
Разделавшись с последним чеком, он отбросил ручку, откинулся на спинку кресла и стал смотреть в размалеванное грязными разводами окно на освещенные окна офиса напротив, где под беспощадным светом неоновых ламп трудились клерки и секретарши. Узнай они, чем он занимался весь этот час, имели бы полное право ворваться к нему и разодрать в клочья чековую книжку. Как минимум чековую книжку.
Время от времени он пытался уговорить Пенелопу сократить расходы, но та неизменно разражалась слезами при малейшем упоминании о деньгах. Ссориться из-за столь низменного предмета она считала унизительным. Она и помыслить не могла, что связывает себя с человеком, способным думать лишь о долларах и центах. В ее родном доме, в Чикаго, где прошли детство и юность, о деньгах даже не упоминали. Слушая ее, можно было подумать, что она потомок старинного аристократического рода, чье богатство восходит к блестящему славному прошлому, в котором плебейские материи вроде долгов и векселей обсуждались тайком, где-то в укромных уголках, и улаживались подобострастными поверенными в старомодных сюртуках.
В действительности же ее отец был коммивояжером галантерейной фирмы, умершим в нужде. Крейгу пришлось заплатить за похороны старика.
По мере того как ссоры достигали все большего накала, Пенелопа клялась, что бережет каждый цент, сыпала именами жен приятелей, которые в месяц тратят на одежду больше, чем она за годы, что было чистой правдой, приводила в свидетели небо, что все ее усилия и затраты были сделаны лишь для того, чтобы создать ему приличный дом, выглядеть женой, с которой не стыдно появиться на людях, а также воспитать детей как подобает. Крейг не выносил сцен, особенно если речь шла о деньгах. В глубине души он чувствовал, что большие суммы заработаны не совсем честно и дались ему случайно, по капризу судьбы, ибо он делал только то, чем с радостью занимался бы даром или за сущие гроши. Он просто не мог спорить о деньгах. Даже составлять и обговаривать контракты он поручал Брайану Мерфи или своему бродвейскому поверенному. Не в силах торговаться с напористыми актерами о процентах прибыли с пьесы или фильма, он тем более не умел противиться рыданиям жены независимо от того, следовало ли оплатить телефонный счет на шестьсот долларов или новое пальто. Однако, вспоминая молодость, прошедшую в дешевых отелях, он не переставал удивляться, каким мановением волшебной палочки все переменилось настолько, что он не моргнув глазом платит ежемесячное жалованье двум горничным, работавшим в доме, где редко обедает более двух раз в неделю, а живет всего по пять-шесть месяцев в году.
Хотя Крейг уже привык, что Белинда каждый раз приносила на подпись чеки с бесстрастным выражением лица, он старался тем не менее не встречаться с ней взглядом и, притворяясь страшно занятым, ворчал:
– Спасибо, Белинда. Положите все на стол. Будет время – подпишу.
Когда он впервые встретил Пенелопу, она была очаровательной молодой актрисой, без особенных талантов, одевавшейся со вкусом и снимавшей миленькую квартирку в Гринич-Виллидже за девяносто долларов в месяц. Куда девалась та девушка? Из бережливой молодой женщины, каждую ночь стиравшей в раковине белье и чулки, она почти мгновенно преобразилась в особу, которая изо дня в день прочесывала галереи и антикварные магазины и патрулировала Пятую авеню, словно авангард грабительской армии, передоверила воспитание детей нянькам и помыслить не могла о том, что в Нью-Йорке можно жить где-то кроме как между Шестидесятой и Восемьдесят шестой улицами Ист-Сайда. Американки, по мнению Крейга, купаются в роскоши с такой же легкостью, как дельфин резвится в волнах.
Тот факт, что он виноват не меньше жены и вполне это сознает, отнюдь не облегчал процедуру возни с чеками.
Он подсчитал общую сумму расходов, аккуратно внес в чековую книжку. Всего девять тысяч триста двадцать шесть долларов сорок семь центов. Не так уж мало для человека, пережившего два провала.
Когда они работали над первой пьесой, Бреннер сказал как-то с максимализмом, присущим юности:
– Не могу принимать всерьез проблемы человека, зарабатывающего больше пятидесяти долларов в неделю.
Интересно, что сказал бы сейчас бывший друг, попади он случайно сюда в тот момент, когда на столе громоздится груда листочков с его подписью?
Повинуясь непонятному порыву, Крейг выписал еще один чек, от руки, на девять тысяч триста двадцать шесть долларов сорок семь центов, не указывая имени получателя. Потом вписал адрес больницы, в которой родились его дочери.
К чеку он приложил короткую записку попечителям больничного фонда, вложил все в конверт, надписал адрес и запечатал.
После чего еще раз подытожил расходы. Позвал Белинду. Интерком он так и не установил, решив, что это чересчур официально.
Он протянул секретарше конверт и чеки и сказал:
– На сегодня все. Большое спасибо.
Потом он спустился в соседний бар и выпил столько, чтобы все события грядущего вечера слились в неясную дымку и неразборчивый гул голосов.
Когда он добрался наконец домой, Пенелопа возмутилась:
– Интересно, доживу ли я до того дня, когда ты явишься к ужину трезвым?
Последние гости только что ушли, и по всей гостиной стояли пустые стаканы. Пенелопа вытряхивала на кухне пепельницы. Он посмотрел на часы. Половина второго. Что-то сегодня все засиделись. Он почти рухнул в кресло и сбросил туфли. За столом собралось четырнадцать человек. Еда была вкусной. Общество – скучным. Он выпил слишком много вина.
Теоретически все двенадцать гостей были его друзьями. Но настоящими он считал только двоих – Роберта и Элис Пейн. Роберт Пейн – коммерческий директор издательства, плотный, основательный, энциклопедически образованный человек, говорил неторопливо, взвешивая каждое слово, и терпеть не мог пустой болтовни. Они познакомились, когда Крейга попросили составить для издательства антологию пьес, и сразу же подружились. Его жена Элис – детский психиатр, крупная, грузная, грубовато-красивая женщина с гривой седеющих, по-мужски подстриженных волос, обрамляющих спокойное овальное лицо. Пенелопа считала их занудами и приглашала исключительно ради Крейга, чтобы тот не слишком жаловался на остальных.
За столом, кроме него, не оказалось ни одного человека, имевшего отношение к кино или театру, хотя двое время от времени вкладывали деньги в постановки Крейга. Тут, как обычно, пребывал Берти Фолсом. С тех пор как умерла его жена, он присутствовал на всех званых ужинах. И как заведенный в мельчайших подробностях рассказывал о биржевых курсах. Фолсом был на несколько лет старше Крейга – лысеющий остролицый коротышка, ничем не примечательный, безукоризненно одетый, с аккуратным круглым брюшком, глава крупной брокерской фирмы на Уолл-стрит. Крейг считал, что чем больше времени проводит Берти в деловой части города, тем сильнее его влияние. Иногда он давал советы Крейгу по части ценных бумаг. Порой Крейг им следовал. Иногда совет оказывался дельным. Став вдовцом, Фолсом посещал все приемы Крейгов. Часто он сам звонил часиков в шесть и спрашивал, что они делают. Когда заняться было особенно нечем, Крейги приглашали его поужинать вместе, в тесном семейном кругу. Фолсом помнил их дни рождения, приносил подарки Энн и Марше. Пенелопа жалела его. Крейг подсчитал как-то, что состояние Фолсома едва ли меньше двух миллионов долларов. Возможно, столь нежное сострадание к человеку, чей капитал равен двум миллионам, служит ярким свидетельством душевной доброты Пенелопы, которая находит время на столь сильные чувства. Когда же у них бывали приемы, подобные сегодняшним, Пенелопа специально приглашала для Фолсома какую-нибудь даму, обычно из разведенных, которые всегда свободны и готовы прийти на ужин в любой дом. Когда Крейг был занят или уезжал, Фолсом сопровождал Пенелопу в театр и на вечеринки. Кто-то когда-то сказал, что Фолсом – человек полезный и не помешает иметь вдовца в кругу друзей.
Если не считать наставлений Берти Фолсома по поводу биржевых курсов акций, беседа в основном велась о прислуге, о том, что в этом сезоне одна бродвейская пьеса хуже другой, о спортивных автомобилях – «феррари», «порше» и «мазератти», о нынешней ужасной молодежи. Говорили о любовных романах, открытых и тайных, об отсутствующих друзьях, о невозможности отыскать приличное местечко для отдыха на Карибах, о сравнительных достоинствах различных лыжных курортов. Почти все присутствующие катались зимой на лыжах. Все, кроме Крейга. Пенелопа месяц в году проводила в Солнечной долине и Аспене. Одна. Сидя во главе стола в своем нью-йоркском доме в Ист-Сайде, Крейг чувствовал, что, ни разу не побывав на курорте, стал специалистом по лыжному спорту. Он ничего не имел против лыж; жаль только, что в юности у него не было времени ими заняться. Однако он считал, что столь ярым любителям следует просто кататься с гор, вместо того чтобы без конца об этом болтать. В этот вечер никто не упомянул ни о его последней картине, ни вообще о его фильмах. Никто, кроме Пейнов, которые специально пришли пораньше, чтобы застать его одного и поговорить за коктейлем, пока не соберутся остальные гости. Пейнам понравилась его последняя работа. Правда, сцена насилия в парижском ночном клубе, где герой ввязывается в общую драку, несколько смущала Элис.
– Элис, – ласково заметил Роберт Пейн, – никак не может забыть, что она психиатр, даже когда смотрит кино.
Впрочем, одна из тем вызвала у Крейга неподдельный интерес. Речь зашла о феминизме, и Пенелопа, обычно не слишком разговорчивая за столом, неожиданно обрушилась на мужчин-шовинистов, защищая активисток движения. Крейг согласился с ней. Его примеру последовали другие женщины за столом. Не будь они так заняты примерками, устройством званых ужинов, посещением парикмахеров и поездками на Карибы и в Солнечную долину, вне всякого сомнения, внесли бы огромный вклад в движение.
Крейг никогда не трудился составлять списки гостей, хотя бы потому, что у него и без того было полно дел. Иногда новый знакомый ему нравился, и Крейг просил Пенелопу пригласить его, но та почти всегда находила достаточно вескую причину для отказа, объясняя, что этот мужчина (или женщина, или супружеская пара) плохо впишется в предполагаемую компанию.
Крейг вздохнул, сам не зная почему, тяжело поднялся и, как был в носках, ступая по мягкому ковру, подошел к серванту и налил себе виски. Вошедшая Пенелопа метнула взгляд на стакан в его руке, и Крейг, как всегда в таких случаях, почувствовал себя виноватым. И, словно бросая вызов, взял бутылку, добавил себе виски еще на палец, плеснул немного содовой и вернулся в кресло. Пенелопа бесшумно расхаживала по большой уютной комнате в приглушенном свете, бросавшем кремовые отблески на полированное дерево ломберных столиков, парчовую обивку кресел, медные вазы, полные цветов. Пенелопа не выносила яркого света, и поэтому в любом доме, где она обитала, даже снятом на лето, было трудно найти местечко, чтобы почитать.
Длинный свободный красный бархатный халат, изящно облегающий стройное моложавое тело, чуть натягивается, когда она поправляет букет, кладет журнал на полку, закрывает крышку серебряной шкатулки с сигаретами. У нее безупречный вкус. Вещи кажутся красивее, когда она к ним прикасается. Дом не кичится излишней роскошью, нет ничего крикливого, показушного, но как же приятно здесь жить. Недаром Крейг его любит.
Сидя со стаканом виски, он наблюдал, как жена медленно движется по теплой, приветливой комнате, и постепенно забывал о надоедливых гостях. В этот момент, молчаливо восхищаясь ею, он чувствовал, что любит жену и рад, что женился. Он знал ее недостатки. Она лгунья, мотовка, коварна и хитра, часто претенциозна, тащит в дом людей второго сорта, потому что опасается выглядеть бледно на фоне остроумных, красивых, образованных людей; она изменяет ему и в то же время донимает приступами ревности; когда случаются неприятности, непременно находит способ свалить ответственность на других, обычно на него, часто надоедает мужу. И все же он любил ее. Не бывает идеальных браков. Каждый партнер должен чем-то поступаться. Он не питал иллюзий относительно собственной безупречности и был уверен, что в душе Пенелопа хранит куда более длинный список его недостатков, чем он может предъявить ей.
Он отставил стакан, встал, подошел к ней и поцеловал в затылок. Пенелопа на миг оцепенела, словно он застал ее врасплох.
– Пойдем спать, – прошептал он.
Пенелопа отстранилась:
– Иди сам, у меня еще дела.
– Я хочу с тобой.
Она быстро пересекла комнату и выставила перед собой стул, словно защищаясь.
– Я думала, что в этом смысле между нами все кончено.
– Как видишь, нет.
– Для меня – кончено.
– Что ты сказала?
– Сказала, что для меня все кончено. Раз и навсегда. Не желаю спать с тобой и вообще с кем бы то ни было, – не повышая голоса, ответила она.
– И в чем причина? – осведомился он, пытаясь сдержать гнев. – Кто провинился?
– Ты. Все. Оставь меня в покое.
Крейг взял стакан и долго пил.
– Когда протрезвишься утром, – процедила она, – обнаружишь свою страсть аккуратно убранной в дальний угол сейфа. Вместе с кучей других вещей.
– Я не пьян, – возразил он.
– Ну да. Только пьешь каждый вечер.
– Ты это серьезно?
– Еще как.
– Ни с того ни с сего?
– Вовсе нет. – Пенелопа по-прежнему укрывалась за стулом. – Я давным-давно тебе надоела. Да ты и не даешь себе труда скрывать это. Сегодня ты разве что не зевал прямо в глаза моим друзьям.
– Признай, Пенни, – уговаривал он, – сегодня собралось не слишком блестящее общество.
– Ничего я не собираюсь признавать.
– Один Берти Фолсом чего стоит…
– Многие считают его умным, интересным человеком…
– Многие и Гитлера считали умным, интересным человеком.
Он шагнул к ней, но, увидев, как побелели костяшки ее пальцев, стиснувших спинку стула, замер.
– Брось, Пенни, – мягко попросил он, – не позволяй себе под влиянием мимолетного настроения говорить вещи, о которых завтра пожалеешь.
– Это не мимолетное настроение, – отрезала она, плотно сжав губы. Теперь даже неяркий свет не скрывал ее возраста. – Я давно об этом думала.
Он допил виски, сел, испытующе глянул на нее. Она ответила пристальным взглядом, полным нескрываемой враждебности.
– Что же, – выговорил он, – значит, дошло и до развода. За это следует выпить.
Он встал и понес стакан к бару.
– Обойдемся без развода, – предложила она. – Ты ведь не собираешься снова жениться?
Он сухо рассмеялся и налил неразбавленного виски.
– Я тоже не выйду замуж, – продолжала она.
– И что же теперь? Жить вместе, словно ничего не случилось?
– Да. Хотя бы ради Марши и Энн. Не так уж это сложно. Между нами давно уже почти ничего нет. Только когда ты не валишься с ног, не сражен очередным провалом, когда тебя одолевает бессонница, ты вспоминаешь, что у тебя есть жена, и принимаешься лизать мне пятки.
– Я запомню это выражение, Пенни, – бросил он. – «Лизать пятки».
Но она, словно не слыша, презрительно скривилась.
– Четыре-пять ночей в году – вот и все твои претензии. Думаю, мы оба вполне обойдемся без таких супружеских утех.
– Мне сорок пять лет, Пенни. Вряд ли я сумею до конца жизни хранить целомудрие.
– Целомудрие! – хрипло засмеялась она. – Для таких, как ты, есть другое определение. Можешь делать все что заблагорассудится. Впрочем, как всегда.
– Думаю, – спокойно заметил он, – пора отправляться в долгое приятное путешествие. Европа. Вот где я давно не был!
– Девочки приедут на Рождество, – напомнила она. – Самое меньшее, что ты можешь для них сделать, – встретить праздник всей семьей. Не вымещай на них злобу.
– Хорошо, – кивнул он. – Европа подождет.
Он услышал телефонный звонок и, еще не совсем соображая, где находится, едва не попросил жену взять трубку. Но тут же встряхнулся, огляделся, понял, что сидит за резным псевдоантикварным письменным столом в гостиничном номере с окнами на море, и схватил трубку.
– Крейг у телефона.
Послышалось отдаленное завывание проводов, невнятный гул американских голосов, слишком тихий, чтобы разобрать слова, прорезались ни с того ни с сего несколько фортепьянных нот, потом щелчок и тишина. Крейг нахмурился, положил трубку и посмотрел на часы. Начало первого ночи, то есть между тремя и шестью дня на американском континенте. Он подождал, но телефон продолжал молчать.
Крейг встал и налил себе виски. И вдруг ощутил влагу на щеках. Он подошел к зеркалу и, не веря собственным глазам, увидел, что плачет. Он грубо смахнул слезы тыльной стороной ладони, осушил стакан наполовину и разъяренно уставился на телефон. Кто пытался дотянуться до него через океан, чье послание сбилось с пути?
Возможно, именно этот, единственный голос мог бы все прояснить: сказать, что с ним делается, каковы его актив и пассив, велики ли долги и сколько должны ему. В какую графу невидимой банковской книги стоит внести его женитьбу, дочерей и карьеру. Раз и навсегда дать ему знать, моральный ли он банкрот или человек вполне состоятельный с точки зрения этики, объявить, растратил ли он впустую способность любить, ответить на вопрос, не было ли в эту эпоху войн и бесконечного ужаса его увлечение миром теней и грез жестоким нарушением принципов чести и благородства.
Но телефон молчал. Неведомый голос так и не долетел до него. Крейг допил свое виски.
Раньше стоило ему уехать, как Пенелопа принималась названивать почти каждую ночь, перед тем как лечь спать.
– Не могу спокойно уснуть, – объясняла она, – пока не услышу тебя и не уверюсь, что с тобой все в порядке.
Телефонные счета были чудовищными.
Порой ее звонки раздражали его, иногда же Крейга захлестывала неожиданная нежность при звуках знакомого низкого мелодичного голоса, доносившегося из далекого города, с другого континента. Ему становилось не по себе при мысли о том, что она шпионит за ним, проверяет, один ли он в номере, хотя после того, что случилось между ними, он не считал себя обязанным хранить ей верность, по крайней мере верность такого рода. Бывало, он ей изменял. И твердил себе, что делает это без малейших угрызений совести. И нельзя сказать, что, потакая своим прихотям, он не получал удовольствия. Но никогда не позволял себе длительных связей, считая, что это в какой-то степени защищает его брак. По той же причине он никогда не следил за женой и не старался подробнее узнать о ее отношениях с посторонними мужчинами. Она же втайне рылась в его бумагах, выискивала имена женщин, хотя он не вскрывал адресованных ей писем и не расспрашивал, с кем она видится и куда ходит. Не слишком вдаваясь в рассуждения о мотивах такого поведения, он чувствовал: это было бы унизительным для него и оскорбляло бы самолюбие. Он давно разгадал чисто женские уловки ночных звонков Пенелопы, но по большей части относился к ним терпимо, отчасти забавлялся, а иногда чувствовал себя польщенным. Теперь же понял, как ошибался. Они с самого начала были неискренни друг с другом, словно боялись хотя бы раз поговорить откровенно, и этим окончательно разрушили свой брак.
Прочитав утром ее письмо, он обозлился, немедленно выписал чек и долго сетовал на ее алчность и мелочность. Но сейчас, ночью, сидя в темной комнате, наедине с воспоминаниями, разбуженными видом дома на мысе Антиб, он ощущал прежнюю горечь, а неясные голоса в телефонной трубке, все еще отдающиеся в ушах, возвращали его к давним, более светлым временам.
Для Крейга лучшими часами супружеской жизни были те, когда он возвращался поздно вечером, проведя в театре бесконечно длинный день, заполненный утомительными, зачастую бестолковыми репетициями, яростными схватками характеров и темпераментов, которые ему, по долгу продюсера, приходилось улаживать. Возвращался и видел Пенелопу в красиво обставленной гостиной их уютного дома. Та неизменно ждала его, чтобы налить виски, выслушать рассказ о всех событиях очередного сумасшедшего дня с многочисленными его проблемами, маленькими трагедиями, нелепыми фарсами, о страхах за будущее, спорах, которые необходимо разрешить. Она неизменно оставалась участливой, хладнокровной, понимающей. На ее ум и интуицию можно было положиться. Она была полезным советчиком, верной помощницей, самым надежным из партнеров, всегда преданным его интересам. Воспоминаний о супружеской жизни, ее счастливых мгновениях: лето в Антибе, шумная возня с дочерьми, даже их полузабытые жаркие ласки – было немало. Но именно эти долгие, тихие полуночные беседы, когда они делились друг с другом всем лучшим, что в них было, составляли истинную основу их брака. Их-то и всего труднее забыть.
Что же, сегодня его так одолели проблемы, что не мешало бы выслушать мудрый совет. Несмотря ни на что, в душе Крейг сознавал: он истосковался по звукам ее голоса. Когда он написал ей, что решил развестись, она ответила длинным посланием, умоляя не делать этого, не разрушать их брак, страстно взывая к его разуму, приводя достаточно веские причины, чтобы оставить все как есть. Он даже не дочитал до конца, боясь, вероятно, как бы это письмо не поколебало его решимости, и ответил холодной запиской, в которой попросил найти себе адвоката.
И как неизбежное следствие, она стала игрушкой в руках этого самого адвоката и добивается денег, выгод, мести. Теперь он жалел, что не прочитал то письмо более внимательно.
Под влиянием непонятного порыва он снял трубку и заказал разговор с Нью-Йорком. И только потом сообразил, что Пенелопа, если верить дочери, сейчас в Женеве.
«Глупая женщина, – подумал он, сняв заказ, – как раз сегодня ей стоило бы оказаться дома».
ГЛАВА 8
Он подлил себе виски и со стаканом в руке принялся мерить шагами комнату, злясь на себя за то, что растравил душу воспоминаниями о прошлом. Зачем бы он ни приехал в Канны, уж точно не для того, чтобы предаваться самобичеванию. Ах, эта Гейл Маккиннон! Все из-за нее! Что ж, если замахнулся – бей. Коли начал, нужно идти до конца. Вспомнить все ошибки, неверные шаги, измены и предательство. Если сегодня в повестке дня мазохизм, наслаждайся тем, что есть. Прислушайся к привидениям, припомни, какой была погода в прежние времена…
Он отхлебнул виски, скорчился у стола и вновь позволил прошлому завладеть им.
После трехмесячного путешествия в Европу он опять сидел у себя в офисе. Дела шли ни шатко ни валко. Поездка не принесла ничего нового. Ему отчего-то нравилось жить как бы вне времени, откладывая все решения на потом.
На письменном столе громоздилась груда сценариев. Он без особого интереса пролистал их. До разрыва, или, точнее, полуразрыва, с Пенелопой он большей частью привык читать в маленькой студии, устроенной им собственноручно под самой крышей. Телефона там не было, так что никто ему не мешал. Но после возвращения он снял номер в отеле, неподалеку от офиса, лишь изредка приходил домой и почти никогда не оставался там на ночь. Он не перевез в отель ни вещи, ни книги и жил в доме, только когда приезжали дочери, что случалось крайне редко. Крейг не знал, насколько они осведомлены о разрыве: девушки никак не давали понять, что заметили перемены. Слишком уж были заняты своими проблемами: школа, свидания, диеты. Крейгу казалось, что родители вообще для них не существуют, и если бы даже разыграли сцену убийства из «Макбета» прямо в гостиной, с обнаженным кинжалом и настоящей кровью, вряд ли они обратили бы внимание. Он считал, что чисто внешне они с Пенелопой ведут себя как обычно, разве что чуть более вежливо и холодно. Ни сцен, ни скандалов. Они не спрашивали друг у друга, кто куда идет. В этот период жизни он чувствовал странное умиротворение, как человек, крайне медленно поправляющийся после тяжелой болезни и понимающий, что никаких особенных усилий от него не требуется.
Иногда они даже выезжали вместе. В день его сорокачетырехлетия Пенелопа сделала ему подарок. Они отправились в Мэриленд – посмотреть школьный спектакль, в котором Марше досталась небольшая роль, а потом ночевали в одном номере.
Ни один из представленных сценариев не казался достойным постановки, хотя, по его мнению, один-другой и снискали бы успех. Когда за такие пьесы брались другие люди и создавали шедевры, он не испытывал ни зависти, ни чувства потери.
Он давно перестал читать театральную хронику и не подписывался на специальные газеты. Избегал ресторанов вроде своих любимых «Сардис» и «Даунис», где всегда тусовалась богема, люди из мира театра и кино, многие из них были его знакомыми. После неудачного просмотра в Пасадене он не бывал в Голливуде и каждый раз, когда звонил Брайан Мерфи с сообщением, что посылает сценарий или книгу, которые могли бы заинтересовать его, добросовестно все прочитывал – и отказывался. Так продолжалось почти год. Теперь Мерфи звонил лишь затем, чтобы справиться, все ли в порядке. Крейг неизменно отвечал, что жив и здоров.
В дверь постучали. Вошла Белинда с очередной рукописью, к которой был подколот конверт. Выражение лица секретарши было на редкость странным.
– Только что принесли, – осторожно заметила она, кладя сценарий на стол. – Лично вам. Новая пьеса Эдди Бреннера.
– Кто принес? – едва выговорил Крейг, стараясь не показывать, как взволнован.
– Миссис Бреннер.
– Почему же она не зашла поздороваться?
– Я просила. Но она сказала, что предпочитает не делать этого.
– Спасибо, – поблагодарил Крейг, вскрывая конверт.
Белинда удалилась, плотно прикрыв за собой дверь.
Письмо оказалось от Сьюзен Бреннер. Крейг симпатизировал ей и сожалел, что обстоятельства больше не позволяют им встречаться.
«Дорогой Джесс, – писала она, – Эд не знает, что я решила показать вам его пьесу, а если узнает, мне придется несладко. Но это не важно. Все, что случилось между вами, уже давно в прошлом, а мне нужно, чтобы пьесу просмотрел надежный человек. Последнее время Эд имел дело с людьми недостойными, оказавшими и на него, и на его работу поистине губительное влияние, так что на этот раз я попытаюсь спасти его от них.
Мне кажется, это лучшая вещь из всего, что он написал после „Пехотинца“, по крайней мере она проникнута тем же настроением. Вы увидите сами, когда прочтете.
Пьесы Эда находили достойное сценическое воплощение исключительно в период работы с вами и Фрэнком Баранисом. Надеюсь, что вы трое сумеете и на этот раз собраться вместе.
Я верю в ваш талант, честность и желание максимально приблизить театр к реальности. Считаю вас также слишком рассудительным и порядочным человеком, чтобы позволить тяжелым воспоминаниям встать на пути стремления к совершенству.
Когда вы прочтете эту пьесу, пожалуйста, позвоните. Лучше всего утром, часов в десять. Эд снимает неподалеку маленький офис, и к этому времени его уже не будет дома. Ваша Сью».
Верная, наивная, исполненная оптимизма жена. Как всегда. Жаль, что ее тем летом не было в Антибе.
Он долго рассматривал рукопись. Напечатано плохо, а сшито еще хуже. Возможно, печатала преданная жена. Вряд ли Бреннеру по карману нанять профессиональную машинистку. «Тяжелые воспоминания», – пишет Сьюзен Бреннер. Дело уже не только в них. Они погребены под таким грузом новых воспоминаний, мучительных и не только, что теперь почти не задевают его. Так, пошлый анекдот, рассказанный о почти незнакомом человеке.
Крейг встал и открыл дверь. Белинда за своим столом читала роман.
– Белинда, ни с кем меня не соединяйте, пока не попрошу.
Белинда кивнула. В последнее время сюда почти никто не звонил. И сказал он это автоматически, лишь по привычке.
Он сел и стал читать неровно напечатанные строчки. Уже через час он перевернул последнюю страничку. Крейгу очень хотелось, чтобы пьеса оказалась удачной, но, отложив рукопись, он понял, что не станет за нее браться.
Сюжет, как и в «Пехотинце», был военный. Только не о битвах, а о войсковой части, сражавшейся в Африке и переведенной в Англию перед высадкой на европейском побережье. Крейгу показалось, что автор хотел сказать многое, но так и не сумел осуществить свои замыслы. Среди действующих лиц были ветераны, закаленные в сражениях или, наоборот, доведенные до отчаяния, сломленные ужасами войны. Они противопоставлялись зеленым новичкам, которым еще только предстояло пройти школу мужества. Молодежь, отнюдь не уверенную в собственной отваге и не знавшую, как вести себя, когда настанет время идти в бой, подвергали жестокой муштре и держали в страхе перед стариками. Кроме изображения постоянных довольно жестоких стычек между двумя группами, было еще несколько сцен с участием местных жителей, девушек, британских солдат и их родственников – Бреннер пытался анализировать природу различий между представителями двух обществ, которых столкнули вместе капризы войны.
Стилистически пьеса была крайне неровной: автор переходил от трагедии к мелодраме, а потом к грубому фарсу. В отличие от первой пьесы, простой, цельной, беспощадно-реалистично, неумолимо ведущей к неизбежной кровавой развязке, сюжет этой пьесы оказался расплывчатым, морализаторским, автор беспорядочно метался от сцены к сцене, от эмоции к эмоции. По мнению Крейга, зрелость Бреннера, если это можно назвать именно так, лишила его творчество прежней ясности. Из произведения ушла душа. Видимо, предстоит нелегкий разговор со Сьюзен.
Он потянулся было к телефону, но тут же отдернул руку. Пожалуй, лучше перечитать пьесу на свежую голову. Нужно выждать хотя бы сутки.
Но и на следующий день его мнение не изменилось. Не было смысла откладывать неизбежное.
– Сьюзен, – начал он, услышав ее голос, – боюсь, что не смогу за нее взяться. Хотите, объясню почему?
– Нет, – отказалась она. – Оставьте рукопись у секретаря. Я заберу ее по дороге.
– Зайдите хотя бы поздороваться.
– Нет. Не испытываю ни малейшего желания.
– Мне ужасно жаль, Сью.
– Мне тоже, – бросила она. – Я думала о вас лучше.
Он медленно положил трубку. Начал читать другой сценарий, но скоро понял, что не улавливает смысла. Потом вдруг схватил трубку и попросил Белинду соединить его с Брайаном Мерфи.
После положенных приветствий Крейг спросил Мерфи о здоровье и узнал, что тот превосходно себя чувствует и уезжает на уик-энд в Палм-Спрингс. Он никак не мог приступить к делу, и Мерфи выручил его, спросив:
– Чему я обязан такой чести?
– Я насчет Эда Бреннера, Мерф. Не можешь подыскать ему работу? Он не в слишком хорошей форме.
– Ты решил позаботиться о Бреннере?
– Вовсе нет. Наоборот, хочу, чтобы он не знал о нашем разговоре. Просто подбери ему работу.
– Я слышал, он заканчивает пьесу, – заметил Мерфи.
– И все же он не в форме.
– Ты ее прочел?
– Нет, – поколебавшись, солгал Крейг.
– Это означает, что все-таки читал и тебе не понравилось, – заключил Мерфи.
– Говори тише, Мерф. И никому ничего не передавай. Ты сделаешь для него что-нибудь?
– Попытаюсь, – неохотно обронил Мерфи. – Но ничего не обещаю. Здесь и так не протолкнуться. Вот для тебя я готов на все. Только прикажи. Сделать?
– Не надо.
– Прекрасно. Сам понимаешь, вопрос чисто риторический. Передай привет Пенни.
– Обязательно.
– А знаешь, Джесс… – начал Мерфи.
– Что?
– Люблю, когда ты звонишь. Ты единственный клиент, который звонит за свой счет.
– Я мот и гуляка, – вздохнул Крейг и, повесив трубку, подумал, что шансов на то, что Мерфи найдет что-нибудь для Эда Бреннера на западном побережье, почти нет.
Он не пошел на премьеру пьесы Бреннера, хотя купил билет. И все потому, что утром того дня ему позвонили из Бостона. Его приятель режиссер Джек Лотон пытался поставить там мюзикл и попросил его приехать в Бостон, поскольку спектакль на грани провала и только он способен посоветовать, что предпринять. Крейг отдал билет Белинде и улетел в Бостон дневным рейсом. До начала вечернего представления он избегал как Лотона, так и всех занятых в спектакле. Хотел увидеть и оценить шоу свежим глазом. Не желал сидеть в зале уже обремененный жалобами продюсеров на режиссера, обличениями режиссера, продюсеров, взаимными обвинениями актеров – словом, обычными людоедскими ритуалами, вызванными неудачей спектакля.
Он не спускал глаз со сцены и чем дальше, тем больше росло в нем чувство жалости. Жалости к драматургам, композитору, певцам и танцорам, солистам и исполнителям вторых ролей, музыкантам и публике. Постановка обошлась в триста пятьдесят тысяч, блестящие таланты трудились несколько лет над сценическим воплощением пьесы, танцоры буквально парили в воздухе, звезды, получившие мировое признание, превзошли себя. И ничего. Эффектные декорации появлялись и исчезали, вакханалия звуков затопила зал, актеры улыбались стоически и безнадежно, бормоча остроты, к которым зрители оставались равнодушными, продюсеры в отчаянии топтались за кулисами. Лотон, сидя в заднем ряду, сорванным, охрипшим голосом диктовал заметки секретарше, и та записывала их в блокнот карандашом, в который был вмонтирован маленький фонарик. И ничего.
Крейг ерзал в кресле, дыша воздухом, отравленным неудачей, умирая от желания встать и уйти, с тоской думая о той минуте, когда люди, собравшиеся в гостиничном номере, спросят: «Ну? Что вы об этом думаете?»
Жиденькие аплодисменты, раздавшиеся, едва занавес опустился, прозвучали как оскорбительная пощечина всем, имевшим отношение к постановке, а застывшие, словно приклеенные, улыбки актеров, выходивших на поклоны, казались гримасами подвергнутых пыткам людей.
Крейг не пошел за кулисы, а вместо этого сразу направился в отель, выпил два стакана виски, чтобы немного подкрепиться перед тяжелым испытанием, и поднялся наверх, где его уже ждал стол, заставленный блюдами с тонкими, как бумага, сандвичами с курицей, бутылками виски. Где его уже ждали измученные, злые мужчины с одутловатыми лицами людей, месяцами не бывающих на свежем воздухе.
Он так и не решился высказать свое мнение, пока в комнате были продюсеры, автор, композитор и театральный художник. У него нет никаких обязательств перед ними. Они ему не нужны. Он приехал сюда по просьбе своего друга – значит, может и подождать, пока они уберутся, прежде чем честно выскажет все. А пока он ограничился несколькими общими замечаниями: сократить тот или иной танцевальный номер, изменить ту или иную арию, иначе осветить любовную сцену. Присутствующие, поняв, что он не скажет ничего существенного, поспешили ретироваться. Последними ушли продюсеры, обозленные коротышки, кипящие наигранной нервной энергией, откровенно грубые с Лотоном и почти не скрывавшие презрения к Крейгу, который, как они считали, тоже их подвел.
– Скорее всего, – заметил Лотон, едва дверь закрылась за людьми, приехавшими в Бостон с радужными надеждами на блестящий успех, – они немедленно примутся названивать дюжине других режиссеров с просьбой приехать и заменить меня.
Лотон, высокий взъерошенный мужчина в очках с толстыми линзами, ужасно страдал от язвы, которая открывалась каждый раз, когда он ставил пьесу, независимо от того, как шли дела. Он не выпускал из рук стакана с молоком и постоянно прикладывался к бутылке с маалоксом.
– Выкладывай, Джесс.
– Думаю, нужно закрываться.
– Неужели так плохо?
– Ты и сам все понимаешь.
– Еще есть время внести поправки, – возразил Лотон, защищаясь.
– Не поможет, Джек. Не трать зря силы. Все равно что стегать дохлую лошадь.
– Господи, – вздохнул Лотон, – просто поразительно, сколько неприятностей может обрушиться сразу на одного человека.
Он был уже немолод, имел на счету больше тридцати постановок, пользовался огромной популярностью, был женат на невероятно богатой женщине – и все же сидел в гостиничном номере, скорчившись от боли, покачивая головой, как генерал, бросивший в бой последние резервы и потерявший за один вечер все.
– Иисусе, – пробормотал он, – хоть бы чертова язва отпустила.
– Джек, – спросил Крейг, – почему бы тебе не плюнуть?
– На спектакль?
– Вообще на все. Ты вгоняешь себя в гроб. Зачем тебе тянуть этот воз?
– Наверное, незачем, – согласился Лотон, очевидно удивляясь собственному признанию.
– И что же?
– А что мне делать? Нежиться на аризонском солнышке в обществе таких же старикашек?
Его передернуло от нового приступа боли. Он судорожно прижал руку к животу.
– Это единственное, что я умею делать. Единственное, что я хочу делать. Пусть хотя бы такой поганый ничтожный кусок дерьма, как сегодняшнее шоу.
– Ты спрашивал мое мнение, – заметил Крейг.
– И ты его высказал, – кивнул Лотон. – Спасибо.
– Я иду спать, – обронил Крейг, вставая. – И тебе советую.
– Разумеется, – почти с раздражением отмахнулся Лотон. – Вот только запишу пару мыслей, пока еще в голове вертятся. Я назначил репетицию на одиннадцать.
Крейг еще не успел выйти, а он уже бросился к сценарию, лихорадочно царапая ручкой на полях, словно мог волшебно преобразить все к одиннадцати часам: сделать шутки забавными, музыку – одухотворенной, танцы – самозабвенными, аплодисменты – оглушительными. Вероятно, Лотон полагал, что даже Бостон его муками и стараниями к концу следующего дня станет совершенно другим городом.
Когда Крейг наутро пришел к себе в офис, Белинда уже успела положить на стол рецензии на пьесу Бреннера. Ему не было нужды их читать. По выражению лица секретарши было ясно: дела хуже некуда. Он все же прочел рецензии и понял, что надежды никакой. Спектакль снимут уже к субботе. Даже в Бостоне было лучше.
В субботу он пошел на заключительное представление. Театр был полупустым, а зрители – в основном контрамарочники. Крейг с облегчением отметил, что Бреннера не было.
Когда поднялся занавес и актеры произнесли первые реплики, его охватило странное чувство, что сейчас произойдет нечто чудесное. Все старались как могли, играли с увлечением, свято веря в ценность и важность слов, которые вложил в их уста драматург. Казалось, они совсем не расстроены оттого, что пьеса позорно провалилась, что критики посчитали ее нудной, что сегодня занавес опустится в последний раз, декорации разберут, огни погаснут, а сами они окажутся на улице в поисках другой работы.
Было некое подлинное рыцарство в их преданности профессии, заставившее Крейга прослезиться, хотя опытным глазом он подмечал недостатки в подборе актеров, режиссуре и трактовке, исказившей тонкий, многоходовой замысел пьесы и навлекшей гнев критиков на голову Бреннера.
Сидя в темном зале за рядами зиявших пустотой кресел, наблюдая то, что он считал слабым, сереньким спектаклем, Крейг неожиданно понял, что ошибочно судил о работе Бреннера. Впервые за долгое время его захватила чья-то пьеса. В его голове почти помимо воли стал складываться список тех поправок, которые могут вытянуть постановку. Устранить недостатки, высветить достоинства…
Когда спектакль закончился, в разных концах зала послышались недружные хлопки, но Крейг поспешил за кулисы, тронутый и взволнованный, надеясь отыскать Бреннера. Похвалить и ободрить.
Старик сторож у служебного входа узнал Крейга и, пожимая ему руку, грустно вздохнул:
– Ну разве не позор, мистер Крейг?
Бреннер, по словам сторожа, был на сцене, прощался с труппой и благодарил за все, и Крейг, не показываясь ему на глаза, подождал в боковой кулисе, пока Бреннер произнесет прощальную речь и актеры, шумно переговариваясь, не начнут расходиться по своим грим-уборным в тусклом свете лампочек.
Крейг не двигался, наблюдая за Бреннером. Он одиноко стоял среди декораций, изображавших угол убогой армейской казармы в воюющей Англии. Лицо Бреннера оставалось в глубокой тени, и Крейг не различал его выражения. С тех пор как они в последний раз виделись, Бреннер еще сильнее похудел, и твидовый пиджак висел на нем мешком. Вокруг тощей шеи был обмотан длинный шарф. Он выглядел немощным стариком, которого может ветром унести. Волосы совсем поредели, на макушке поблескивала лысина.
Занавес медленно раздвинулся. Бреннер поднял голову и посмотрел в пустой темный зал. За спиной Крейга послышался шорох: мимо протиснулась Сьюзен Бреннер. Она подошла к мужу, взяла его руку, поднесла к губам и поцеловала. Он обнял ее за плечи. Так они и стояли, молча прижавшись друг к другу, пока Крейг не обнаружил своего присутствия.
– Привет, – произнес он.
Мужчина и женщина, не отвечая, смотрели на него.
– Я смотрел сегодня пьесу, – продолжал он. – И хочу сказать, что был не прав.
Бреннеры по-прежнему не произнесли ни слова.
– Прекрасная вещь. Лучшая твоя работа.
Бреннер засмеялся сдавленным, захлебывающимся смехом.
– Сьюзен, – заторопился Крейг, – вы были правы. Мне следовало взять пьесу и показать Баранису.
– Спасибо, что вспомнили, – обронила Сьюзен. Усталая, ненакрашенная, в беспощадном свете ламп она выглядела совершенно изможденной.
– Послушайте меня, пожалуйста! – горячо воскликнул Крейг. – Пьеса поставлена бездарно, и в таком виде публика ее не приняла. Но это еще не конец. Подожди год, доработай ее, тщательно подбери исполнителей и художника: нечего было и надеяться на успех с такими безвкусными вычурными декорациями. Ведущий актер слишком стар и словечка просто так не скажет. Через год мы можем выпустить ее где-нибудь в другом месте – не на Бродвее, здесь она все равно не пойдет. Изменим освещение, сведем декорации к минимуму, добавим музыку – она просто просится в спектакль, – раздобудем записи речей политиков, генералов, радиокомментаторов и будем давать их между сценами, для создания атмосферы того времени…
Он осекся, сообразив, что слишком спешит, не давая Бреннеру вдуматься в смысл его предложений.
– Ты понял, о чем я? – смущенно пробормотал Крейг.
Бреннеры тупо уставились на него. Потом Эд снова сдавленно усмехнулся.
– Значит, через год, – иронично повторил он.
Крейг понял, какие мысли вертятся в мозгу у Бреннера.
– Я дам тебе аванс. Достаточно, чтобы прожить, пока…
– Надеюсь, Эд получит еще один шанс переспать с вашей женой, мистер Крейг? – осведомилась Сьюзен. – Это тоже входит в аванс?
– Помолчи, Сью, – устало велел Бреннер. – Наверное, ты прав, Джесс. Мы наделали кучу ошибок, готовя этот спектакль. Я согласен, на Бродвее пьесу ставить нельзя. Думаю, Баранис понял бы, что я хочу сказать. Вероятно, мы трое могли бы кое-чего добиться… – Он шумно вздохнул. – Но я считаю также, что тебе стоит убраться отсюда, Джесс. Отсюда и из моей жизни тоже. Пошли, Сью. – Он взял жену за руку. – Я оставил портфель в туалете. Сюда мы больше не вернемся, так что лучше забрать его сейчас.
Бреннеры рука об руку покинули сцену. Крейг только сейчас заметил длинную дорожку на чулке Сьюзен.
Элис Пейн ждала его в полупустом баре. Крейг удивился, когда она позвонила и, объяснив, что находится по соседству с его офисом, спросила, не найдется ли у него время выпить с ней. Раньше они почти всегда виделись в присутствии мужа, и обычно она не пила больше порции спиртного за вечер. Кроме того, она была не из тех женщин, кого можно встретить в баре в три часа дня.
Когда он подходил к ее столику, она допивала мартини. Крейг нагнулся и поцеловал ее в щеку. Элис улыбнулась – как показалось Крейгу, немного нервозно. Он устроился рядом на банкетке и жестом подозвал официанта.
– Шотландское с содовой, пожалуйста. А вам, Элис?
– Пожалуй, еще мартини.
Крейгу на мгновение показалось, будто Элис Пейн все эти годы скрывала что-то от него и остальных друзей. Она машинально теребила перчатки сильными пальцами, без следов лака на ногтях.
– Надеюсь, я не помешала вам, – начала она.
– Вовсе нет, – заверил Крейг. – Боюсь, последнее время у меня нет никаких особенных дел.
Она положила руки на колени.
– Я не пила днем с самой моей свадьбы.
– Хотел бы я сказать о себе то же самое.
Она метнула на него изучающий взгляд.
– Вы сейчас много пьете, Джесс?
– Не больше обычного, то есть слишком много.
– Не стоит никому давать повод называть вас алкоголиком, – торопливо пробормотала она каким-то странным голосом.
– Почему? Вам уже кто-то говорил, что я алкоголик?
– В общем, нет… то есть… Пенелопа. Иногда она слишком…
– Что поделаешь, таковы все жены, – вздохнул Крейг.
Подоспевший официант принес заказ. Они подняли стаканы.
– Ваше здоровье, – объявил Крейг.
Элис, поморщившись, отпила мартини.
– Наверное, мне никогда не понять, что люди находят в подобных вещах.
– Храбрость, – пояснил он. – Забытье.
Теперь ему окончательно стало ясно, что Элис не случайно оказалась в здешних местах.
– Что случилось, Элис? – напрямик спросил он.
– О Господи, – выдохнула она, вертя в руках стакан, – понятия не имею, с чего начать.
Крейг был уверен, что Элис также не произносила имя Господне всуе с самой своей свадьбы. Не такая она женщина. И не из тех, кто не знает, с чего начать.
– Лучше всего с середины, – посоветовал он, – а дальше видно будет.
Она так волновалась, что ему стало не по себе.
– Вы верите, что мы ваши друзья? То есть я и Роберт?
– Разумеется.
– Я хочу сказать, это очень важно. И не желаю, чтобы меня считали злобной ехидной и сплетницей, вечно сующей нос в чужие дела.
– Вы не смогли бы стать такой, даже если бы очень старались.
Теперь он уже жалел, что ее звонок застал его в офисе.
– Вчера мы ужинали в вашем доме, – резко бросила она. – Я и Роберт.
– Надеюсь, все прошло хорошо.
– Идеально, как всегда, если не считать того, что не было вас.
– Последнее время я не часто бываю дома.
– Я так и поняла, – кивнула Элис.
– А как общество?
– Не слишком.
– Как всегда, – повторил теперь уже Крейг.
– И Берти Фолсом был.
– Как всегда.
Она снова покосилась на него.
– Люди начинают всякое болтать, Джесс.
– Люди вечно всякое болтают, – отмахнулся он.
– Не знаю, какого рода отношения у вас с Пенелопой, – робко заметила Элис, – но ее повсюду видят с Фолсомом.
– Я сам не знаю, какого рода отношения у нас с Пенелопой, – пожал плечами Крейг. – Думаю, скорее это полное отсутствие всяких отношений. Именно затем вы и пришли, Элис? Объявить, что Берти и Пенелопу видят вместе?
– Нет, – запротестовала она. – Не совсем. Прежде всего я хочу сказать, что ноги нашей больше не будет в вашем доме.
– Жаль. Почему?
– Давняя история. Это длится уже четыре года.
– Четыре года? – нахмурился Крейг.
– Как по-вашему, ничего, если я закажу еще мартини?
В эту минуту она как никогда походила на маленькую девочку, выпрашивавшую еще одну порцию мороженого.
– Конечно!
Крейг вновь подозвал официанта.
– Вас не было в городе, – пояснила Элис, – а мы с Робертом устраивали небольшой ужин. Ну и пригласили Пенелопу. И поскольку мужчин не хватало, позвали еще одного. Почему-то этим мужчиной оказался Берти Фолсом.
– Не вижу ничего необычного, – беспечно отозвался Крейг.
– Беда рослых мужчин вроде вас, – сурово заметила Элис, – в том, что они никогда не принимают коротышек всерьез.
– Верно, – кивнул Крейг, – он настоящий карлик. Итак, за столом он сидел рядом с Пенелопой.
– И проводил ее домой.
– Какой ужас! Проводил ее домой!
– Вы в самом деле считаете меня глупой сплетницей…
– Не совсем, Элис, – мягко возразил он. – Просто…
– Шшш, – прошипела она, показывая на подходившего официанта.
Они молча подождали, пока тот не вернулся за стойку.
– Ладно, – решилась Элис. – Вот как все было. На следующее утро я получила дюжину красных роз. Без карточки. Неизвестно от кого.
– Это могло означать все что угодно, – вырвалось у Крейга, хотя теперь он был убежден в обратном.
– Каждый год, пятого октября, я получаю дюжину красных роз. Конечно, он знает, что мне известно, кто их посылает. Мало того, он хочет, чтобы я знала. Это так вульгарно. Я чувствую себя замаранной каждый раз, когда прихожу к вам и вижу, что он ест вашу еду, пьет ваше спиртное. Словно я его сообщница. И ощущаю себя последней трусихой, потому что словом не обмолвилась – ни ему, ни вам. А прошлым вечером, увидев, как он восседает во главе стола, точно хозяин, наливает вино, провожает гостей, я… я решила потолковать с Робертом, и он согласился со мной. Больше я молчать не могу.
– Спасибо, – выдохнул Крейг и снова поцеловал ее в щеку.
– Не знаю, по каким моральным законам мы сейчас живем, – продолжала Элис. – Похоже, адюльтер больше всерьез не воспринимается. Мы смеемся, когда слышим, что кто-то из наших друзей изменяет жене или мужу направо и налево… Я и о вас слышала всякие сплетни.
– Естественно, – согласился Крейг. – И большая часть этих историй, вне всякого сомнения, правда. Мою супружескую жизнь уже давно нельзя назвать образцовой.
– Но то, что творит она, – срывающимся голосом бросила Элис, – я не могу ни понять, ни принять. Вы человек, достойный всяческого восхищения. Порядочный. Верный друг. И я не выношу этого ужасного коротышку. И по правде говоря, невзлюбила Пенелопу. Под маской очаровательной, приветливой хозяйки дома скрывается что-то фальшивое и жесткое. Кстати о принципах: по-моему, некоторые люди вовсе не заслуживают выпавших на их долю испытаний, и я считаю долгом чести помочь другу, которого ни за что обливают грязью. Жалеете, что я вам все это рассказала, Джесс?
– Сам не знаю, – протянул он. – Но так или иначе, позабочусь о том, чтобы вам больше не навязывали никаких роз.
На следующий день он послал жене письмо с известием о том, что начинает бракоразводный процесс.
Еще один бар. На этот раз в Париже. В отеле «Крийон», напротив американского посольства. У него вошло в привычку встречаться здесь с закончившей работу Констанс. Эти встречи придавали хоть какую-то цель пустому, монотонному существованию. Остальное время он бродил по городу, заходил в галереи, прогуливался по открытым рынкам и в Латинском квартале, практиковался во французском в магазинах и лавчонках, сидел за столиками уличных кафе, читая газеты, иногда обедал вместе с кем-нибудь из тех, кто работал вместе с ним над снимавшейся во Франции картиной. Все эти люди оказались достаточно тактичны, чтобы не спрашивать, чем он занят теперь.
Ему нравился этот бар, битком набитый компаниями английских и американских журналистов, затевавших горячие споры, нравилось наблюдать за неиссякающим потоком вежливых, хорошо одетых пожилых американцев, говоривших с новоанглийским акцентом, которые останавливались в этом отеле еще до войны. Кроме того, он любил подмечать восхищенные взгляды мужчин при появлении в зале Констанс.
Он поднялся ей навстречу, поцеловал в щеку. Удивительно, но, проведя весь день в душном офисе, где прикуривала одну сигарету от другой, она по-прежнему была неотразима. И пахло от нее так, словно она полдня гуляла по лесу.
Она заказала бокал шампанского, чтобы, по ее выражению, «смыть привкус молодости».
– Я всегда удивляюсь, – призналась она, пригубив шампанского, – когда вхожу и вижу, что ты меня ждешь.
– Я же сказал, что буду здесь.
– Знаю. И все же удивлена. Каждый раз, покидая тебя утром, я мучаюсь от мысли, что именно в этот день ты встретишь свою роковую любовь, или услышишь об актере или актрисе в Лондоне, Загребе или Афинах, игру которых тебе просто позарез нужно посмотреть, причем сегодня же вечером.
– Ни в Лондоне, ни в Загребе, ни в Афинах нет никого, с кем бы я хотел иметь дело; единственная роковая любовь, которую я встретил за весь день, – это ты.
– Какой ты милый, – просияла Констанс. Она по-детски любила комплименты. – А теперь расскажи, что ты делал, пока я трудилась.
– Три раза занимался любовью с женой перуанского оловянного магната…
– Ага! – засмеялась она. Ей нравилось, когда ее поддразнивают. Но не слишком зло.
– Подстригся. Обедал в маленьком итальянском ресторанчике на улице Гренель. Читал «Монд». Зашел в три галереи, едва не купил три картины. Выпил пива в «Флер», вернулся в отель и…
Он осекся, поняв, что она не слушает. Констанс уставилась на молодую американскую пару, проходившую мимо их столика в глубь зала. Мужчина был высок, с приятным открытым лицом, на котором так и читалось, что он в жизни не знал ни сомнений, ни бед и представить не мог, что кто-то где-то может быть ему врагом и желать зла. Девушка, бледная высокая красавица с черными как вороново крыло волосами и огромными темными глазами, верным признаком ирландских или испанских предков, двигалась с неторопливой грацией. Мех темной собольей шубы переливался на свету. Улыбаясь каким-то словам мужа, она коснулась его руки и повела в проход между стойкой и столиками, расставленными вдоль окон. Похоже, они не замечали окружающих, и это вовсе не выглядело намеренной грубостью. Просто они были так поглощены друг другом, что даже беспечный случайный взгляд, необходимость увидеть, а возможно, и узнать чье-то лицо казались непростительным расточительством, потерей драгоценного мига общения друг с другом.
Констанс продолжала смотреть вслед, пока они не скрылись в той части зала, что отводилась под ресторан.
– Прости, – извинилась она. – Боюсь, я тебя не слушала. Видишь ли, я когда-то знала этих людей.
– Красивая пара.
– Ничего не скажешь, – согласилась Констанс.
– Сколько лет девушке?
– Двадцать четыре. Из-за нее умер мой друг.
– Что?!
Такого он не ожидал услышать, особенно в баре отеля «Крийон».
– Что это ты встрепенулся? – хмыкнула Констанс. – Можно подумать, это единственный случай. Подобное происходит гораздо чаще, чем ты воображаешь.
– Не слишком она похожа на заурядную убийцу.
– О, какая там убийца! – рассмеялась Констанс. – Просто мой знакомый был в нее влюблен, прочел в газетах, что она вышла замуж, и через три дня скончался.
– Какая старомодная история, – покачал головой Крейг.
– Он и сам был старомоден. Восемьдесят два года, – пояснила Констанс.
– Откуда ты знала восьмидесятидвухлетнего старика? – удивился Крейг. – Тебе, конечно, нравятся люди постарше, но это уж слишком.
– Старика звали Кеннет Джарвис.
– Железные дороги.
– Железные дороги, – кивнула она. – Помимо прочего. В числе многого другого. Один мой поклонник работал с внуком Джарвиса. Не хмурься, дорогой. Это было до тебя, задолго до тебя. Старик любил окружать себя молодежью. Он владел огромным чудесным домом в Нормандии. Когда-то у него были и скаковые лошади. Он давал роскошные приемы, и по уик-эндам к нему съезжались сразу по двадцать – тридцать гостей. Веселились как могли: теннис, купание, катание на яхтах, выпивка, флирт – словом, что пожелаешь. Компании подбирались на диво веселые. Если не считать старика. Когда я впервые его увидела, у него уже начинался маразм. Ронял еду, обливался, забывал застегивать ширинку, засыпал прямо за столом и храпел так, что мухи дохли, ухитрялся за десять минут рассказать одну и ту же историю три раза.
– За удовольствия нужно платить, – наставительно заметил Крейг.
– Люди, давно его знавшие, ни на что не обращали внимания. Утверждали, что когда-то он был обаятельным, щедрым, воспитанным человеком. Страстным коллекционером книг, картин, хорошеньких женщин. Он овдовел совсем молодым и больше не женился. Мужчина, с которым я туда ездила, как и ты, говорил, что нужно платить за те радости, которые старик всю жизнь дарил людям, и что видеть, как он брызжет слюной, или слушать один и тот же рассказ три раза подряд – совсем уж не такая высокая цена. Особенно еще и потому, что дом, развлечения, еда и напитки ничуть не изменились и по-прежнему оставались великолепными. Так или иначе, только дураки смеялись за спиной старика.
– Не дай мне, Господи, – взмолился Крейг, – дожить до восьмидесяти.
– Дослушай до конца. Как-то на уик-энд приехала бывшая любовница Джарвиса со своей дочерью. Той девушкой, которую ты только сейчас видел.
– Не дай мне, Господи, дожить до семидесяти!
– Он влюбился в нее. Настоящая старомодная любовь. Каждый день цветы, приглашения на яхту матери и дочери и тому подобное.
– Но чего добивались мать и дочь? – допытывался Крейг. – Денег?
– Вряд ли. У них было свое состояние, и немаленькое. Думаю, они просто проникли в те круги общества, где иначе никогда бы их не приняли. Мать держала дочь в узде. Ее единственный козырь. В то время девушке было девятнадцать, а вела она себя как пятнадцатилетняя. Так и казалось, что, знакомясь с кем-то, она сделает реверанс. Встреча с Джарвисом помогла ей повзрослеть. Кроме того, согласись, лестно разыгрывать роль хозяйки на званых обедах, быть центром всеобщего внимания, отделаться от материнской опеки. Стать предметом обожания человека, который в свое время знал весь свет, рассказывал обо всех анекдоты, крутил романы с известными красавицами, управлял сотнями людей. Кроме того, он ей нравился, возможно, она даже по-своему его любила и была в восторге от своей власти над ним. А он словно по волшебству переменился, помолодел, ожил, больше ничего не забывал, выпрямился, перестал шаркать, не сипел и не храпел, одевался безупречно, проводил всю ночь на ногах, а утром был свеж как роза.
Люди, разумеется, все подмечали и злорадствовали. Впечатляющее зрелище: восьмидесятидвухлетний человек тает от любви к девятнадцатилетней девушке, словно она его первая любовь и он приглашает ее на первый бал… Но я своими глазами видела все это и была тронута. Время для него словно повернуло вспять. Он снова вернулся в свою молодость. Разумеется, двадцати– или тридцатилетним назвать его было нельзя, но пятьдесят пять – шестьдесят вполне можно было дать.
– Но ты сказала, что он умер, – напомнил Крейг.
– Да. Она встретила того молодого человека, с которым ты ее видел, и забыла о Джарвисе. Даже не сообщила о своем замужестве. Он узнал обо всем из светской хроники. Уронил газету на пол, лег на постель, повернулся лицом к стене, и через три дня его не стало.
– А по-моему, чудесная, трогательная история, – объявил Крейг.
– Верно. На похоронах один из его приятелей сказал: «Ну разве не прекрасно? В наше время умереть от любви в восемьдесят два года!»
– В наше время.
– Мог ли этот старик желать лучшего? – задумчиво вздохнула Констанс. – Он пережил напоследок восхитительные, легкомысленные, веселые восемь месяцев или около того и так благородно, так возвышенно ушел. Ни кислородной подушки, ни докторов, топтавшихся у больничной койки, ни трубок, ни аппарата искусственной почки, ни переливаний крови – только безграничная любовь. Естественно, девушку никто ни в чем не винил. Только завидовали ее мужу. И старику. Обоим. У тебя глаза как-то странно блестят.
– Я думаю.
– О чем?
– Если бы кто-то пришел ко мне с пьесой или сценарием, основанными на истории этого старика, – признался Крейг, – наверное, я поддался бы искушению поставить его. Только никто ничего не принесет.
Констанс допила шампанское.
– Почему бы тебе самому не попробовать написать? – неожиданно спросила она.
Впервые за все время их знакомства она пыталась подтолкнуть его к какому-то решению, а Крейг впервые осознал: она знает, что так жить, как живет он, больше невозможно.
– Над этим нужно поразмыслить, – пробормотал он и заказал выпивку.
Утром он прогулялся по набережной Сан-Себастьяна. Дождь прекратился. Но ветер дул штормовой, в воздухе пахло морем; большая скала, возносившаяся в заливе, походила на осажденную крепость, о которую разбивались волны-захватчики. Когда он пересек мост, у берега реки пенился свирепый прилив, словно здесь кипела схватка между океаном и сушей у самых врат суши.
Припоминая по предыдущим поездкам, куда нужно свернуть, он зашагал в направлении большой арены для боя быков. Сезон уже кончился, и арена, огромная, пустая, выглядела заброшенным храмом давно забытого кровавого божества. Ворота были открыты. Слышался стук молотков – звук эхом отдавался в темных пустотах под трибунами.
Он поднялся по проходу, облокотился на barrera[26]. Посыпанный песком круг казался не золотистым, как на других аренах, а пепельно-серым. Цвет смерти. Он вспомнил слова матадора: «Это единственное развлечение, которое у меня осталось. Моя игровая площадка».
Слишком старый для жестокой корриды, его друг, со шпагой в руках и в окровавленном костюме, с застывшей восторженной улыбкой на красивом, изборожденном шрамами старом и одновременно молодом лице, сегодня, в сотнях миль к югу отсюда предстанет разъяренным быком с острыми рогами. Нужно послать ему телеграмму:
«Желаю много ушей. Abrazo[27]».
Телеграммы – поздравления с премьерами. Разные клише для разных культур.
Следовало бы отправить телеграмму Джеку Лотону, страдающему в Бостоне от язвы, Эдварду Бреннеру, обнимающему жену на темной сцене в Нью-Йорке, Кеннету Джарвису, покупающему цветы девятнадцатилетней девушке, всем сражающимся на своих аренах, выступающим против своих быков, на своих единственных игровых площадках.
На противоположной стороне арены появился сторож, одетый в какое-то подобие униформы, и принялся угрожающе размахивать руками, показывая свою не слишком великую власть, словно подозревал Крейга в намерении перепрыгнуть через барьер и учинить беспорядки. Как бы этот сумасшедший пожилой spontaneo[28] не нарушил призрачного спокойствия арены, не вызвал быка, который не должен появляться здесь по крайней мере еще два месяца.
Крейг отвесил легкий поклон в его сторону, давая понять, что он любитель fiesta brava[29], соблюдающий правила игры и совершающий паломничество ко святым местам, затем повернулся и вышел из-под трибун на беспощадное солнце.
К тому времени как он вернулся в гостиницу, все было решено.
Назад, во Францию, он ехал медленно, осторожно, не остановившись на том месте, где едва не погиб накануне. Добравшись до Сен-Жан-де-Люз, тихого, особенно в межсезонье, городка, он остановился в маленьком отеле, вышел и купил пачку бумаги.
«Теперь я вооружен, – думал он, относя бумагу в отель. – И снова возвращаюсь на свою площадку. Только через другие ворота».
Он прожил в Сен-Жан-де-Люз два месяц и все это время работал медленно и мучительно, пытаясь воссоздать историю Кеннета Джарвиса, умершего в возрасте восьмидесяти двух лет, через три дня после того, как он прочел в газетах, что его возлюбленная, девятнадцатилетняя девушка, вышла замуж за другого. Крейг начал было писать пьесу, но постепенно история сама собой обрела другую форму, и он вернулся к самому началу и стал писать сценарий. С первых дней работы в театре он сотрудничал с драматургами, предлагая изменения, добавлял темы и сюжеты целых сцен, но одно дело развивать идеи других людей, и совсем другое – положить перед собой чистую страницу, в которую только ты способен вдохнуть жизнь.
Констанс дважды приезжала к нему на уик-энды, но все остальное время он держался подальше от людей, часами просиживая за письменным столом, в одиночестве гуляя по берегу у гавани, и даже обеды просил приносить в номер.
Только Констанс он рассказал о том, чем занимается. Она никак не выразила своего отношения к его работе, а он не показал ей уже написанное. Даже через два месяца показывать было, в сущности, почти нечего: так, несвязные отрывки, разрозненные сцены, нераскрытые идеи, наброски дальнейшего развития сюжета и характеров персонажей.
К концу второго месяца он сообразил, что недостаточно просто рассказать историю старика и молоденькой девушки. Недостаточно, потому что в ней не оставалось места для него, Джесса Крейга. Не настоящего Крейга, разумеется, не повести о человеке, сидевшем день за днем в тихом гостиничном номере. Не было места для его убеждений, темперамента, надежд, суждений о времени, в котором он жил. Он понял, что без этого его сценарий не будет цельным, останется фрагментарным, бесплодным, отрывочным.
Поэтому он ввел в сценарий еще несколько персонажей – влюбленных пар, – чтобы оживить и населить воображаемый большой дом на северном побережье Лонг-Айленда, где и будут происходить главные события фильма, уложившиеся в одно лето. Он перенес место действия из Нормандии в Америку просто потому, что не настолько хорошо знал этот уголок Франции, чтобы писать о нем. Зато Лонг-Айленд он объехал вдоль и поперек. Кроме старика, в доме жил еще и восемнадцатилетний внук, сраженный первой любовью к расчетливой, не слишком разборчивой девице, к тому же на три-четыре года его старше. Кроме того, основываясь на собственном опыте, чтобы не терять связи с современностью, он включил в число персонажей еще и супружескую пару, не считавшую адюльтер грехом: сорокалетние муж и жена жили каждый своей жизнью и были вполне довольны таким положением дел.
Используя все, чему научился, свои собственные наблюдения за друзьями, врагами и просто знакомыми, переворошив гору книг, работая над чужими пьесами и сценариями, Крейг попытался как можно естественнее переплести судьбы своих героев, попавших в драматические обстоятельства, с тем чтобы к концу фильма они без прямого участия автора, лишь своими словами и поступками доносили до зрителя его, Джесса Крейга, суждения о том, что значит любовь для американцев, живущих во второй половине двадцатого века: молодой женщины или мужчины, пожилой женщины или умирающего старика. Любовь со всеми ее поворотами, интригами, компромиссами, болью и душевными ранами. Любовь, зачастую так жестоко зависящая от денег, моральных принципов, власти, положения, принадлежности к тому или иному классу, красоты или отсутствия таковой, чести и отсутствия таковой, иллюзий или отсутствия таковых.
Через два месяца в город стали прибывать первые туристы, и Крейг решил, что пора складывать вещи и отчаливать. Между ним и Парижем лежало немало миль, и по дороге, вспоминая, как он провел это время, Крейг отчетливо понял: хорошо, если он сумет закончить сценарий через год. Если вообще закончит.
Он оказался прав. Работа заняла ровно двенадцать месяцев. Он писал сценарий частями: в Париже, Нью-Йорке и на Лонг-Айленде. Каждый раз, доходя до определенной точки, из которой казалось совершенно невозможным двинуться дальше, он собирался и, подстегиваемый тоской и нетерпением, мчался куда глаза глядят. Но больше никогда не засыпал за рулем.
Готовый сценарий он никому не показал. Ему, столько лет судившему работы сотен людей, была невыносима сама мысль о том, что чужой человек прочтет его рукопись. Его детище. А чужаком он считал любого читателя. Отсылая сценарий машинистке, он не поставил на титульном листе имени автора, просто написал: «Все права принадлежат Джессу Крейгу».
Джессу Крейгу, когда-то бывшему чудо-мальчиком Бродвея и Голливуда, считавшемуся непогрешимым судьей как в мире театра, так и в кинематографе, Джессу Крейгу, не имевшему понятия, стоит ли его годичный труд хотя бы двухчасового чтения, смертельно боявшемуся услышать «да» или «нет».
Звонок. Крейг ошалело тряхнул головой, как внезапно разбуженный от крепкого сна человек, и в который раз напомнил себе, где он находится и где стоит телефон.
«Я в своем номере, в „Карлтоне“, а телефон – на столе, с той стороны кресла».
Снова звонок. Крейг взглянул на часы. Тридцать пять минут второго. Крейг поколебался, не в силах сообразить, стоит ли брать трубку. Не хватало второй раз слушать какие-то бессвязные звуки. Наконец он все же решил подойти.
– Крейг у телефона.
– Джесс, это я. Мерфи! Надеюсь, не разбудил?
– Нет.
– Только что прочел твой сценарий.
– И как?
– Этот малыш Харт умеет писать, ничего не скажешь, но насмотрелся старых французских фильмов. Кому, черт побери, интересен восьмидесятидвухлетний старикашка? Ничего это тебе не даст, Джесс. Забудь. Я на твоем месте это вообще никому не показывал бы. Поверь, добра от этого не будет. Откажись от опциона, позволь мне договориться насчет той греческой штуки, а потом подыщем что-нибудь подходящее.
– Спасибо, Мерф, за то, что не поленился прочитать. Завтра поговорим, – обещал Крейг и, повесив трубку, долго не сводил глаз с немого телефона. Потом медленно вернулся к письменному столу, взглянул на перечень вопросов, присланных Гейл Маккиннон, перечитал самый первый: «Зачем вы приехали в Канны?»
Сухо усмехнувшись, он подхватил листки, разорвал их на мелкие клочья и выкинул в корзину. Снял свитер, натянул пиджак и вышел. У самого отеля поймал такси и велел везти себя в казино, где всю ночь открыт бар. Купил несколько фишек, сел за столик, где играли в девятку, заказал двойное виски. Он пил и играл до шести утра. И выиграл тридцать тысяч франков, почти пять тысяч долларов, в основном у тех англичан, с которыми сидел в ресторане, когда пришел Пикассо. Не повезло Йану Уодли. Сегодня он не шатался по набережной, когда Крейг почти твердым шагом добирался до отеля в лучах наступающего рассвета. Попадись ему Уодли, наверняка бы получил свои пять тысяч на поездку в Мадрид.
ГЛАВА 9
Полицейские, вооруженные электрическими фонариками, показывали водителям, где можно поставить машину. Открытая площадка была уже наполовину забита автомобилями. Погода выдалась сырая и промозглая. Крейг выключил мотор и вышел. Туфли скользили по мокрой траве. Он направился по тропинке к большому, напоминавшему замок дому, откуда неслись звуки оркестра. Дом стоял на холме за Муженом и царствовал, словно небольшая крепость, над окружающим пейзажем.
Жаль, что Энн еще не приехала! С каким бы удовольствием она вошла в дом под руку с отцом под мелодию французской песни, в сопровождении полицейского, заботливо освещавшего гостям путь, вместо того чтобы кидать в демонстрантов перед зданием правительства бомбы со слезоточивым газом.
В кармане у него лежала телеграмма Энн. Как ни удивительно, сначала она собралась навестить мать в Женеве и только завтра приедет в Канны.
Сам хозяин, Уолтер Клейн, встречал гостей в вестибюле. Он снял этот дом на месяц, рассудив, что здание вполне подходит для приемов и вечеринок. Клейн был низеньким, коренастым моложавым человечком с обманчиво-добродушными манерами. В эти тяжелые, сумбурные времена, когда агентства в мгновение ока либо исчезали, либо сливались с другими агентствами, он ушел из такой дышавшей на ладан конторы, уведя с собой лучших клиентов – актеров и режиссеров; и в то время как другие агентства и кинокомпании разорялись, он сумел приспособиться к новым условиям рынка, да так ловко, что почти все фильмы, снимавшиеся в Америке или Англии, создавались при участии его клиентов. Во всех ключевых точках у него были свои люди либо должники, обязанные ему финансированием, а подчас и прокатом очередной картины. Пока другие впадали в панику, он лишь благодушно повторял: «Друзья, вы ошибаетесь. Дела идут как нельзя лучше».
В отличие от Мерфи, сколотившего состояние в более счастливые времена и с презрением относившегося к псевдосердечной атмосфере, царившей в Каннах эти две недели, Клейн мог часами беседовать по душам с продюсерами, прокатчиками, финансистами, актерами. Он интриговал, уговаривал, заключал сделки, что-то обещал, что-то подписывал. В помощники он набирал спокойных, надежных молодых людей, не знавших обильных, благодатных былых времен, зато, как и босс, честолюбивых и алчных, умевших, подобно ему, скрывать под внешним обаянием и дружелюбием повадки хищного зверя.
Встретив как-то Крейга в Нью-Йорке, Клейн с деланной небрежностью осведомился:
– Джесс, когда вы наконец отделаетесь от этого старого динозавра Мерфи и перейдете ко мне?
– Скорее всего никогда, – честно признался Крейг. – Мы с Мерфи скрепили наш договор кровью.
– Такая преданность делает вам честь, – засмеялся Клейн. – Но я тоскую по вашему имени на добром старом серебристом экране. Если когда-нибудь захотите вернуться в строй, дайте знать.
Теперь Клейн, одетый в черный бархатный пиджак и сорочку с жабо и ярко-красным галстуком-бабочкой, стоял в отделанном мрамором вестибюле, разговаривая с вновь прибывшими гостями. Рядом находилась чем-то взволнованная женщина, заведовавшая в его фирме отделом рекламы. Именно она рассылала приглашения от имени Клейна и едва заметно поморщилась при виде Крейга в слаксах и синем блейзере. Почти все гости были в вечерних костюмах, и, судя по выражению лица женщины, Крейг совершил непростительную ошибку, явившись сюда столь небрежно одетым.
Клейн тепло пожал ему руку и улыбнулся:
– А вот и наш гений! Я уже боялся, что вы не придете.
Он не объяснил причины своих опасений и вместо этого представил Крейга людям, с которыми беседовал:
– Вы, разумеется, знаете Тонио Корелли, Джесс.
– Только визуально.
Корелли и был тем красивым актером-итальянцем, которого Крейг видел у бассейна в «Отель дю Кап». Сейчас он выглядел совершенно неотразимым в черном смокинге от итальянского портного. Они обменялись рукопожатием.
– Познакомь нас с дамами, дорогой, – попросил Клейн, – Простите, милочки, я не запомнил ваших имен.
– Это Николь, – пояснил Корелли, – а это Ирен.
Николь и Ирен растянули губы в заученной улыбке. Такие же хорошенькие, загорелые и изящные, как и девушки, которые были с Корелли у бассейна. Очень похожи, но не те.
«Должно быть, Корелли никуда не ходит без такого сопровождения. Завел для каждой пары свое расписание», – с легкой завистью подумал Крейг. Да и кто не позавидовал бы?
– Солнышко, – обратился Клейн к заведующей отделом рекламы, – проводите их в бар и дайте выпить. Девушки, если хотите танцевать, постарайтесь не подхватить воспаление легких. Оркестр играет во дворе. Так и не смог договориться с небесами насчет погоды, и зима вновь вернулась. Ничего себе, веселый месяц май!
Трио во главе с рекламщицей грациозно удалилось.
– Только итальянцы умеют жить, – заметил Клейн.
– Я вас понимаю, – кивнул Крейг. – Хотя, по-моему, вам и так неплохо живется.
Он обвел рукой окружающую его роскошь. Кто-то говорил ему, что Клейн заплатил за аренду пять тысяч.
– Я и не жалуюсь. Плыву по течению, вот и все, – ухмыльнулся Клейн. Он был из тех, кто искренне наслаждается своим богатством. – Это не какая-нибудь убогая берлога. Что же, Джесс, рад снова повидаться. Как идут дела?
– Прекрасно, – заверил Крейг. – Лучше некуда.
– Я приглашал Мерфи и его фрау, – объявил Клейн, – но они поблагодарили и отказались. Не желают общаться с простыми смертными.
– Они приехали сюда отдохнуть, – солгал Крейг в защиту друга. – Недаром говорили, что всю эту неделю будут рано ложиться спать.
– В свое время он был великим человеком, этот Мерфи, – кивнул Клейн. – Вы, разумеется, по-прежнему с ним?
– По-прежнему.
– Как я уже говорил, такая преданность делает вам честь. Он и сейчас работает на вас? – с беспечным видом поинтересовался он, оглядывая гостей, проходивших под арочным входом в большую гостиную.
– Насколько я знаю, нет, – пожал плечами Крейг.
– Значит, сами что-то замышляете? – допытывался Клейн.
Крейг помялся.
– Возможно, – наконец выдавил он. Никто, кроме Констанс и Мерфи, пока не знал, что он задумал ставить картину. Кроме того, Мерфи уже высказал свое отношение к его планам. Более чем откровенно. Так что теперь Крейг намеренно обронил намек. Из всех, кто приехал на фестиваль, Клейн, с его энергией и разветвленными связями, мог оказаться наиболее полезным. – Подумываю кое о чем.
– Вот это да! – с почти искренним энтузиазмом обрадовался Клейн. – Слишком долго вы были в добровольном изгнании, Джесс! Если нуждаетесь в моей помощи, знаете, где меня искать, не так ли? – Он дружески положил руку на плечо Крейга. – Ради вас я готов на все. Мы сейчас проворачиваем такие комбинации, что даже у меня голова кружится.
– Да, я слышал. Может, я и позвоню вам на днях, тогда поговорим подробнее.
Мерфи обидится, если услышит. Он гордился своей проницательностью и терпеть не мог, когда клиенты и друзья не слушались его советов. Мерфи искренне презирал Клейна, считая его «жалким маленьким пролазой».
«Через три года о нем и не вспомнят», – всегда утверждал Мерфи. Но сам он уже не был способен выдумать такую головокружительную комбинацию.
– В саду есть бассейн, – сообщил Клейн. – Приходите в любое время, даже без звонка. В этом доме вам всегда рады.
И, в последний раз похлопав его по плечу, Клейн направился к группе новых гостей, а Крейг вышел в гостиную. Тут было слишком много народа, потому что никто не хотел танцевать на холоде, и по пути в бар Крейгу то и дело пришлось извиняться, протискиваясь сквозь толпу гостей. Он попросил у бармена бокал шампанского. Вечером он будет возвращаться в Канны на машине, и если пить виски, поездка по извилистым, темным горным дорогам может плохо кончиться.
За стойкой уже сидел Корелли со своими девицами.
– Нужно было пойти на вечеринку к французам, – жаловалась та, что говорила с британским акцентом. – Здесь одни дряхлые развалины. Средний возраст, по-моему, сорок пять!
Корелли улыбнулся, предоставляя окружающим любоваться его ослепительными зубами. Крейг повернулся спиной к бару и оглядел комнату. В дальнем углу сидела Натали Сорель, погруженная в разговор с мужчиной, примостившимся на подлокотнике ее кресла. Крейг вспомнил, что она близорука, и подумал, что на таком расстоянии она ни за что его не узнает. Но его зрение было еще достаточно хорошим, чтобы понять: что бы там ни говорила англичанка, Натали Сорель никак не похожа на старуху.
– А я столько наслышалась о каннских вечеринках, – продолжала девушка. – Говорят, здесь черт-те что творится! Бьют посуду, танцуют голыми на столах, устраивают оргии в бассейнах. Словом, Римская империя времен упадка.
– Это все было в прежние времена, cara[30], – пояснил Корелли с сильным итальянским выговором.
Крейг видел его в нескольких английских фильмах и только сейчас сообразил, что озвучивал Корелли другой актер. Вполне возможно, что и зубы у него не свои.
Эта мысль несколько утешила Крейга.
– Ничего себе оргия! – продолжала ворчать девушка. – Столько же разврата, сколько на чаепитии у священника. Почему бы нам не откланяться и не исчезнуть?
– Это неучтиво, carissima[31], – возразил Корелли. – Кроме того, здесь полно влиятельных людей, которые не потерпят такого оскорбления от молодых актеров.
– Ты просто зануда, дорогой, – фыркнула девушка.
Крейг продолжал осматривать комнату, выискивая взглядом друзей, врагов и нейтралов. Кроме Натали, он узнал французскую актрису Люсьен Дюллен. Словно следуя безошибочному инстинкту, она уселась в самом центре зала, окруженная постоянно сменявшимся почетным караулом из молодых людей. Крейг считал ее одной из самых красивых женщин, которых он когда-либо встречал: простое белое открытое платье, волосы уложены в узел на затылке, не затеняя тонких черт лица, изящных линий длинной шеи и прелестных голых плеч. Неплохая актриса, но с такой внешностью нужно быть по крайней мере Гарбо. Крейг не был знаком с ней и не хотел знакомиться, но испытывал огромное удовольствие, разглядывая ее.
Был здесь и огромный жирный англичанин, лет около сорока, – как и Корелли, в компании двух девушек, истерически хохотавших над какой-то его шуткой. Кто-то показал его Крейгу на пляже. Он был банкиром, и передавали, что всего месяц назад в своем лондонском банке он лично вручил Уолту Клейну чек на три с половиной миллиона долларов. Можно понять, почему девицы просто виснут на нем и смеются над каждым его каламбуром.
Стоявший у камина Брюс Томас беседовал с грузным лысым мужчиной. Крейг узнал его. Хеннесси, режиссер фильма, показ которого назначен на конец недели. Томас снял картину, она уже полгода шла на экранах Нью-Йорка, идет и сейчас, да и фильм Хеннесси, настоящий хит, собирает полные залы в экспериментальном кинотеатре на Третьей авеню. На фестивале ему прочат одну из главных наград.
Йан Уодли, так и не уехавший в Мадрид, со стаканом в руке беседует с Элиотом Стейнхардтом и еще одним мужчиной, представительным, в темном костюме, с бронзовым загаром и шапкой седеющих волос. Крейгу он показался смутно знакомым. Как же его зовут? Сразу и не вспомнить. Уодли прямо-таки вываливался из смокинга, явно купленного в лучшие времена, когда сам владелец был куда стройнее. Он еще не был пьян, но раскраснелся и говорил слишком быстро. Элиот Стейнхардт вежливо слушает с легкой улыбкой на губах. Маленький, тощий человечек лет шестидесяти пяти, с узким лисьим лицом и ехидно-злобными глазками. Начиная с тридцатых он сумел снять десятка два фильмов, по сию пору считающихся шедеврами, и хотя современные критики пренебрежительно именовали его старомодным, он спокойно продолжал снимать один хит за другим, словно успех сделал его неуязвимым и он не боялся ни клеветы, ни смерти. Крейг любил его и почитал. Не будь Уодли, он наверняка подошел бы к Элиоту поздороваться. Ничего, время еще есть.
Мюррей Слоун, кинокритик, человек на удивление авангардных вкусов, переживающий самые сильные эмоции в темном зале, сидел на большом диване рядом с каким-то незнакомцем. Слоун, кругленький, красноватый от загара, улыбающийся человечек, беззаветно предан своей профессии. Однажды он рассказал Крейгу, как порвал со своей любовницей, подобранной на венецианском фестивале, только потому, что она недостаточно ценила талант Бюнюэля.
Что ж, умна английская красотка Корелли или нет, но зато, несомненно, права: на упадок Римской империи это не похоже. Приятный вечер в роскошно обставленной гостиной, все по высшему разряду, но, какая бы подковерная борьба здесь ни происходила, какие бы пороки ни скрывались за модной одеждой, все надежно спрятано. Любимые и нелюбимые, богатые и нищие соблюдают вечернее перемирие, амбиции и безысходность вежливо сосуществуют.
Как эта вечеринка отличается от прежних, голливудских, когда те, кто зарабатывал по пять тысяч в неделю, не приглашали в свои дома тех, кто имел несчастье получать меньше. Новое общество, словно феникс, возникшее из пепла старого.
Он заметил, что человек, говоривший с Уодли и Элиотом Стейнхардтом, посмотрел в его сторону, улыбнулся и, помахав рукой, двинулся навстречу. Крейг нерешительно улыбнулся в ответ, стараясь вспомнить, как же все-таки его зовут.
– Привет, Джесс! – воскликнул тот, протягивая руку.
– Здравствуй, Дэвид. Веришь, я тебя не узнал.
– Это из-за волос, – хмыкнул Дэвид. – Меня никто не узнает.
– Еще бы!
Дэвид Тейчмен был старым знакомым Крейга, еще с первого приезда в Голливуд. Тогда на его голове не было ни единого волоска.
– Это парик, – пояснил Дэвид, самодовольно приглаживая шевелюру. – С ним я помолодел на двадцать лет. Даже пошел по второму кругу с женщинами. Кстати… я недавно ужинал в Париже с твоей девушкой. Она и сказала мне, что ты здесь, а я пообещал ей тебя поискать. Сам я только утром прилетел и весь день играл в карты. Поздравляю, неплохой у тебя вкус! Приятельница твоя – высший класс.
– Спасибо, – поблагодарил Крейг. – Не возражаешь, когда люди любопытствуют, откуда у тебя внезапно появилась такая грива?
– Ничуть. Видишь ли, не так давно я перенес небольшую операцию на черепушке, и доктор оставил мне на память пару дырок. Не слишком удачный косметический эффект, скажу я тебе. Не расхаживать же мне, старику, в таком виде, пугая детей и юных девственниц. Студийные парикмахеры вылезли из кожи и сотворили мне лучший во всем Голливуде парик. Это единственная приличная вещь, которая вышла из чертовой студии за пять лет.
Вставные челюсти Дэвида Тейчмена громко негодующе клацнули, как всегда, когда разговор заходил о студии. Его вытеснили с президентского кресла больше года назад, но он по-прежнему говорил о ней как о своем личном владении. Он правил железной рукой более двадцати пяти лет, а избавиться от привычки властвовать было нелегко. Лысая голова, напоминавшая пушечное ядро, придавала ему внушительный вид, лицо было одновременно грубым и мясистым, то ли как у римского императора, то ли как у шкипера торгового судна, с обветренной круглый год кожей, словно он все время проводил либо с войсками на поле битвы, либо на палубе в штормы и бури. И голос соответствовал внешности – резкий, отрывистый, повелительный. Во времена расцвета его студия выпускала добрые, исполненные грустного юмора фильмы – еще один сюрприз в этом удивительном городе. Теперь же, в парике, он выглядел совершенно другим человеком, мягким и безвредным, да и голос, словно в дополнение к внешности, стал тихим и вкрадчивым.
Оглядевшись вокруг, он тронул Крейга за рукав.
– Ой, Джесс, мне здесь не по себе. Стая стервятников, расклевывающих кости гигантов, – вот во что превратился нынешний кинематограф. Огромные старые кости с остатками мяса, которое мало-помалу отрывают хищные птицы. И во что они превращаются в погоне за Всемогущим Долларом? Пип-шоу. Порнография и кровавые бойни. Ехали бы в Данию, там все позволено. Да и театр не лучше. Пакость. Что такое нынешний Бродвей? Сутенеры, шлюхи, пушеры[32], фигляры. Не виню тебя за то, что устранился от всего этого.
– Ты, как обычно, преувеличиваешь, Дэвид, – усмехнулся Крейг. Он сам работал на студии Тейчмена в пятидесятых и давно усвоил, что старик подвержен приступам риторики обычно в те моменты, когда хотел переспорить вооруженного логикой оппонента. – И сейчас делаются чертовски хорошие фильмы, а на Бродвее и вне его есть немало молодых многообещающих драматургов.
– Назови! – заупрямился Тейчмен. – Назови хоть одного. Одну приличную картину.
– Я сделаю лучше: назову две. Даже три, – заверил Крейг, наслаждаясь перепалкой. – И сняты они людьми, находящимися здесь, в этой комнате. Последние картины Стейнхардта, Томаса и того парня, Хеннесси, что говорит с Томасом.
– Стейнхардт не считается, – возразил Тейчмен. – Осколок прежних времен. Скала, оставшаяся стоять после того, как прошел ледник. Остальные двое… – Тейчмен пренебрежительно фыркнул. – Пустышки. Калифы на час. Да, время от времени кто-то становится победителем. Всякое бывает. Да они сами не соображают, что делают, – просто просыпаются в одно прекрасное утро и обнаруживают, что напали на золотую жилу. Я говорю о профессионалах, малыш. Об истинных профессионалах. Не случайных людях. Чаплин, Форд, Стивенс, Уайлер, Капра, Хокс, Уайлдер, хотя бы ты, если угодно. Правда, на мой взгляд, ты выбиваешься из общего ряда и слишком необычен. Извини, если я тебя обидел этими словами.
– Конечно, нет. Слышал я о себе и кое-что похуже, – заверил Крейг.
– Как и все мы, – кивнул Тейчмен. – Как и все мы. Мы – живые мишени. Но если быть честным, и я наснимал кучу дерьма. Не настолько я горд, чтобы не признать это. Четыреста – пятьсот картин в год. Нельзя выпускать шедевры целыми партиями, но я этого и не требовал. Дрянь – согласен, масс-культура – согласен, но свою службу она сослужила. Создала налаженный механизм, готовый к услугам заправил: актеры, массовка, рабочие, художники, публика, наконец. Да и другая цель достигнута: Америка завоевала с нашей помощью весь мир. Судя по твоей физиономии, ты считаешь меня психом. Не важно, что несут модные критики-интеллектуалы, – весь мир видит и любит, как своих героев и возлюбленных. Думаешь, я стыжусь этого? Ни секунды. Я скажу тебе, чего стыжусь. Того, что мы все это просрали. И если хочешь, я назову ту минуту, когда это произошло. Впрочем, я сделаю это, даже если ты слушать не пожелаешь.
Он ткнул жестким пальцем в плечо Крейга:
– В тот день, когда мы поддались этим олухам в конгрессе, в тот день, когда покорно твердили: да, сэр, мистер конгрессмен, мистер ФБР-мен, я стану лизать вашу задницу, вам не нравятся политические взгляды этого писателя, или моральные принципы той актрисы, или герой десятка моих будущих картин, да, сэр, как угодно, сэр, мы всех выкинем, всех отменим. Стоит вам пошевелить мизинцем, как я перережу глотку лучшему другу. Раньше мы были удачливыми людьми, элитой двадцатого века, над нашими шутками смеялся весь мир, мы любили так, что весь мир завидовал, мы давали приемы, на которые хотел попасть весь мир. А после этого превратились в жалкую кучку хнычущих евреев, надеющихся лишь на то, что при очередном погроме прикончат не нас, а соседа. Публика помешалась на телевидении. И я их не сужу. На телевидении вам прямо говорят, какой хотят продать товар.
– Дэвид, – предупредил Крейг, – у тебя лицо побагровело.
– Еще бы! – буркнул Тейчмен. – Успокой меня, Джесс, успокой, мой доктор спасибо скажет. Я жалею, что вообще пришел сюда. Нет, вру. Рад, что удалось потолковать с тобой. Со мной еще не все кончено, каким бы жалким я ни выглядел. Сейчас я кое-что затеваю… большое дело. – Тейчмен заговорщически подмигнул. – Требуются талантливые люди. Старая гвардия. Дисциплинированные. Капитаны, а не капралы. Вроде тебя, например. Конни проговорилась, будто ты что-то замышляешь. Я просто должен был поговорить с тобой. Или не стоило?
– Почему же? Кое-что у меня есть.
– Давно пора. Позвони мне утром. Потолкуем. Деньги не вопрос. Дэвид Тейчмен не из тех, кто снимает грязные фильмы. А теперь мне пора, уж не обижайся, Джесс. Последнее время стоит мне рассердиться, как тут же начинаю задыхаться. Доктор твердит, чтобы я не волновался. Не забудь наш разговор. Утром. Я остановился в «Карлтоне».
Он пригладил свой дорогой седоватый парик и зашагал прочь, стараясь держаться прямо.
Крейг проводил взглядом его негнущуюся спину, плывущую к выходу, и покачал головой. Доблестный защитник проигранных битв, летописец эпохи распада. Но так или иначе, а он позвонит Тейчмену утром.
Крейг увидел, как мужчина, беседовавший с Натали Сорель, поднялся, прихватил ее стакан и направился к бару, протискиваясь сквозь толпу. Крейг немедленно отошел от стойки и уже хотел было присоединиться к Натали, но тут ведущая во внутренний дворик дверь открылась и вошла Гейл Маккиннон с каким-то низеньким желтолицым мужчиной, лицо которого показалось Крейгу смутно знакомым. Лет тридцати пяти, тонкие редеющие волосы, нездоровые зеленоватые мешки под глазами. Он был в смокинге, Гейл Маккиннон – в дешевом, не доходившем до колен ситцевом платье. Только на ней оно смотрелось роскошным. Она улыбнулась Крейгу. Теперь было поздно делать вид, что он ее не заметил. По какой-то не вполне понятной ему причине он не хотел, чтобы она увидела его рядом с Натали Сорель. Он не встречал ее с того самого обеда с Мерфи, что и неудивительно: все это время он почти не выходил из номера.
– Добрый вечер, мистер Крейг, – приветствовала Гейл Маккиннон. – Похоже, мы с вами бродим по одним дорожкам.
– Похоже, – подтвердил Крейг.
– Могу я представить… – начала она, обернувшись к своему спутнику.
– Мы встречались, – недружелюбно буркнул мужчина. – Правда, очень давно. В Голливуде.
– Боюсь, память меня подводит, – извинился Крейг.
– Меня зовут Рейнолдс.
– Ах да, – вспомнил Крейг. Он узнал фамилию, верно, но виделся ли он когда-нибудь с этим человеком? Сомнительно. Рейнолдс писал кинообзоры для одной лос-анджелесской газеты. – Ну конечно.
Он протянул руку. Рейнолдс, казалось, не слишком спешил протянуть свою.
– Пойдем, Гейл, – велел он. – Я хочу выпить.
– Иди один, Джо, – отказалась Гейл Маккиннон. – Мне нужно кое-что сказать мистеру Крейгу.
Рейнолдс, что-то проворчав, пошел к стойке.
– Что это с ним? – удивился Крейг, озадаченный нескрываемой враждебностью Рейнолдса.
– Слишком много виски, – пояснила Гейл Маккиннон.
– Достойная эпитафия для надгробий всех, кто здесь собрался, – кивнул Крейг, потягивая шампанское. – Что он делает в такой дали от Лос-Анджелеса?
– Вот уже два года живет в Европе, как собкор одного телеграфного агентства. Он мне очень помог.
Интересно, почему она его защищает? Может, у них связь? Странно, такой невзрачный серый человечек. Правда, в таком месте, как Канны, все возможно. Теперь он припомнил, откуда знает Рейнолдса. Именно он тогда подсел на террасе отеля «Карлтон» за столик Гейл Маккиннон.
– Он помешан на фильмах, – продолжала Гейл Маккиннон. – помнит все картины, когда-либо вышедшие на экран. Настоящее сокровище. Видел все ваши фильмы…
– Может, поэтому так груб, – вставил Крейг.
– Ну что вы, – улыбнулась Гейл. – Они ему нравятся. По крайней мере некоторые.
Крейг рассмеялся:
– Иногда ваши суждения выглядят так же молодо, как вы сами.
– Вон та дама машет вам, – сообщила девушка.
Крейг посмотрел в уголок, где сидела Натали Сорель. Она жестами подзывала его к себе: очевидно, он наконец попал в поле ее зрения. Крейг помахал в ответ.
– Старая приятельница, – пояснил он. – Прошу извинить.
– Вы прочитали вопросы, которые я ставила в отеле?
– Да.
– И что же?
– Порвал.
– О, как это низко! С такой низостью мне еще не приходилось сталкиваться, – охнула девушка. – Я много плохого слышала о вас, но никто не говорил, что вы злой!
– Я с каждым днем меняюсь. Иногда с каждой минутой, – сообщил Крейг.
– Недаром Джо Рейнолдс предупреждал меня насчет вас! Не хотела говорить вам, но теперь мне все равно. У вас немало врагов, мистер Крейг, и лучше вам об этом знать. Кстати, вы так и не поняли, почему Джо Рейнолдс был груб с вами?
– Не имею ни малейшего представления. Я впервые увидел этого человека несколько дней назад.
– Возможно. Хотя он утверждает, что вы встречались. Но однажды вы кое-что сказали про него.
– Что именно?
– Он написал о вашей картине очень благожелательную рецензию, а вы заявили: «Этот человек так плохо пишет, что меня тошнит, даже когда он рассыпается в похвалах».
– И когда я это сказал? – допытывался Крейг.
– Восемь лет назад.
Крейг усмехнулся:
– На свете нет животных, более чувствительных, чем критики, верно?
– Вы не слишком-то старались их обаять, – отрезала девушка. – Нам лучше распрощаться. А то эта милая леди сломает руку, пытаясь привлечь ваше внимание.
Она резко повернулась и принялась проталкиваться сквозь толпу к бару, где ждал наблюдавший за ними Рейнолдс.
Как легко вызвать чью-то ненависть на всю жизнь! Всего одной неудачной фразой.
Он постарался выбросить из головы Рейнолдса и направился к Натали. Та встала при его приближении. Светловолосая, голубоглазая, с изумительной фигурой, стройными ногами и маленькими ручками, совсем как дорогая кукла, слишком белая, розовая и изящная, чтобы иметь какое-то отношение к действительности. Но Крейг знал ее как женщину отважную, решительную и чувственную.
– Проводи меня в другую комнату, Джесс, – попросила она, протягивая руку. – Самый противный зануда в мире вот-вот вернется с выпивкой для меня.
Она говорила по-английски так безукоризненно, что человек, не знающий о ее венгерском происхождении, мог различить лишь легчайший, почти неуловимый акцент. Немецким, французским и итальянским она владела не хуже. И выглядела ничуть не старше, чем в тот день, когда они виделись в последний раз. Расстались они почти случайно, без взаимных обид и упреков. Ей пришлось сниматься в двух английских фильмах. Ему нужно было возвращаться в Америку. Он так и не видел этих фильмов. Слышал только, что она закрутила роман с каким-то испанским графом. Насколько он помнил, они с Натали не давали друг другу ничего, кроме наслаждения. Может, поэтому и расстались так легко. Она никогда не признавалась ему в любви – еще одна черта ее характера, которой он восхищался.
Держа Крейга за руку, Натали поплыла к библиотеке. На ее пальце сверкал огромный бриллиант. Когда они встречались, у нее вечно не было ни гроша, она закладывала драгоценности, а он одалживал ей деньги.
– Ты, как обычно, блистаешь, – улыбнулся он.
– Знай я, что здесь будет Люсьен Дюллен, – пожаловалась она, – в жизни не пришла бы. Всякой, кто награжден такой внешностью, как она, следует мешок на голову надевать, когда она появляется среди пожилых женщин.
– Чушь, – отмахнулся Крейг. – Тебе-то чего бояться? Ты еще повоюешь!
Они уселись на кожаный диван. В комнате больше никого не было, шум голосов, музыка и разговоры слились в невнятный гул.
– Дай мне глоточек твоего шампанского, – попросила она.
Он вручил ей бокал, и она жадно осушила его. Крейг вспомнил, что у нее всегда был неуемный аппетит.
Натали отставила бокал.
– Ты так и не позвонил, – упрекнула она.
– Слишком поздно вернулся.
– Я очень хотела поговорить с тобой! А на следующий вечер вокруг было слишком много народа. Как ты?
– Жив еще.
– О тебе совсем ничего не слышно. Я справлялась.
– Веду растительную жизнь.
– Не похоже на того Джесса Крейга, которого я знала.
– Просто остальные слишком уж деятельны. Если бы мы месяцев шесть в году оставались в бездействии, результат был бы куда лучше. Я решил на некоторое время слезть с карусели. Вот и все.
– Я каждый раз тревожусь, когда думаю о тебе, – вздохнула она.
– А ты часто думаешь обо мне?
– Нет, – засмеялась она. У нее были маленькие, ровные, очень белые зубки и узенький розовый язычок. – Только когда в голову лезут непристойные мысли.
Он вспомнил, что в постели, перед тем как кончить, она всегда просила: «Трахай меня, трахай же!»
Он всегда находил ее неправильный выговор очаровательным.
Она многозначительно стиснула его руку.
– Сколько же лет прошло… пять?
– Скорее шесть-семь.
– Ах, не напоминай мне. Ты такой же проказник, как всегда?
– О чем ты?
– Я видела, как ты разговаривал с той прелестной девушкой. Она буквально висла на тебе.
– Она репортер.
– Нынче всякая женщина опасна, – объявила Натали. – Даже репортеры позволяют себе та-а-ак выглядеть!
– Это просто неприлично, – возразил он. Шутки Натали отчего-то больно царапнули его, вызвав чувство неловкости. – Она так молода, что годится мне в дочери. А как ты? Где твой муж?
– Он пока мне не муж. Я все еще стараюсь захомутать его.
– Ты же сама сказала, что выходишь замуж.
– И поверю в это, лишь когда он наденет мне кольцо на палец. Подумать только, не нужно вставать в пять утра, чтобы сделать прическу и загримироваться! Никаких оскорблений со стороны слишком темпераментных режиссеров. Никакого любезничанья с продюсерами.
– Я был продюсером, – напомнил он, – и ты любезничала со мной.
– Не только потому, что ты был продюсером, дорогой. – Она снова сжала его руку.
– Так или иначе, где же твой будущий супруг? Если бы я намеревался на тебе жениться, не позволил бы разгуливать одной в таком месте накануне свадьбы.
– Только ты вовсе не намеревался на мне жениться, не так ли?
Тон ее впервые за весь вечер стал серьезным.
– Наверное, нет, – признался он.
– Как и множество других мужчин, – вздохнула Натали. – О, ладно, малышка Натали исчерпала отпущенную ей долю развлечений. Пора вести себя прилично. Или мы снова поддадимся прекрасному порыву и удерем и проверим, свободен ли тот номер в Болье у самого моря?
– Я никогда не был в Болье, – хладнокровно сообщил Крейг.
– Какое совпадение! Я тоже. Как бы там ни было, времени все равно нет. Он прибывает завтра.
– Кто именно?
– Нареченный. Филип. Мы должны были лететь вместе, но в последнюю минуту ему пришлось задержаться в Нью-Йорке.
– Так он американец?
– Говорят, из них выходят самые лучшие мужья.
– Сомнительно. А чем он занимается? – поинтересовался Крейг.
– Делает деньги. Ну разве не прелесть?
– Прелесть. Каким же образом он делает деньги?
– Что-то производит.
– Сколько ему лет?
Она поколебалась, высунув кончик языка. Все признаки налицо.
– Только не лги, – предупредил он.
Натали рассмеялась:
– Умница! Впрочем, как всегда. Скажем, он старше тебя.
– Намного?
– Значительно. – Она понизила голос: – Он ничего о тебе не знает.
– Надеюсь. Мы не особенно рекламировали себя в прессе.
Им приходилось осторожничать. В то время у нее был официальный любовник, иногда оплачивающий ее счета, а он все еще пытался избегать сцен ревности с женой.
– А что, если бы он и знал обо мне? Надеюсь, он не считает, что женится на девственнице? – удивился Крейг.
– Не совсем, – грустновато улыбнулась она. – Но и многого другого он не представляет. – Она совсем по-ребячески поморщилась. – Даже половины. Даже четверти.
– А кому известно все?
– Надеюсь, никому.
– Просто из любопытства, – спросил Крейг, – сколько их в соседней комнате?
Натали капризно надула губки:
– Тебя устроит, если я отвечу: пятеро?
Крейг ухмыльнулся и покачал головой.
– В таком случае шесть. Что ты хочешь? Твоя малышка Натали слишком долго была в этом бизнесе, а это все равно что прожить много лет на острове в компании таких же изгоев. Леди приходится всячески изворачиваться. Впрочем, как и джентльменам, мой друг.
Она легко коснулась кончиком пальца губ Крейга.
– Nolo contendere[33], – кивнул он.
Натали рассмеялась, опять блеснув белыми зубками.
– Ну разве не мило? Мне так редко приходилось тебе врать.
– А будущему мужу?
Она снова рассмеялась:
– Ему я почти слова правды не сказала. – И, став серьезной, пояснила: – Он респектабелен. Очень консервативен. Баптист из Техаса. Такой пуританин, что еще ни разу со мной не переспал.
– Господи! – ужаснулся Крейг.
– Именно, – поддакнула Натали. – Господи, когда он появится здесь, мне придется делать вид, что мы едва знакомы. Если он пронюхает, что я из тех дам, которые способны удрать на уик-энд с женатым мужчиной, страшно подумать, что сделает.
– А самое страшное?
– Не женится на мне. Ты ведь будешь осторожен, правда, Джесс? – умоляюще прошептала она.
Такой он ее никогда не видел. Только сейчас до него дошло, что ей уже за сорок.
– Если он и узнает о нас, то, во всяком случае, не от меня, – заверил Крейг. – Но советую увезти его из Канн как можно скорее.
– Он пробудет здесь всего несколько дней, – заверила она. – Потом мы летим в Венецию.
– Мы с тобой никогда не были в Венеции вместе?
– Разве не помнишь?
– Нет.
– Значит, мы никогда не были в Венеции вместе, – заключила Натали и, посмотрев ему в глаза, улыбнулась.
Мужчина, с которым она беседовала в салоне, появился на пороге с двумя стаканами в руках.
– А, вот где вы! – воскликнул он. – Я везде вас искал!
Крейг встал. Натали нехотя представила их друг другу. Имя мужчины было не знакомо Крейгу. И лицо у него было незапоминающееся, маленькое, озабоченное. Крейг наугад предположил, что он имеет отношение к прокату фильмов какой-нибудь крупной кинокомпании. Мужчина протянул стакан Натали и торжественно потряс руку Крейга.
– Так и быть, – кивнул Крейг, – оставляю вас, дети мои. Умираю от жажды.
Он ободряюще коснулся плеча Натали, вышел из библиотеки и вернулся к бару, ловко избежав встречи с Йаном Уодли.
В столовой, где был устроен буфет, Крейг заметил Гейл Маккиннон и Рейнолдса, ожидавших, пока их обслужат. У стойки, разглядывая гостей, стоял Мюррей Слоун, этакий круглолицый живчик. Он добродушно улыбался, хотя глаза оставались настороженными.
– Привет, Джесс! – воскликнул он. – Присоединяйтесь к рабочим лошадкам прессы, пока еще можно выпить на дармовщинку!
– Здравствуйте, Мюррей, – кивнул Крейг и попросил бокал шампанского.
– Это общество вам не по нраву, верно, Джесс? – спросил Слоун, с удовольствием жуя маленький сандвич с огурцом, взятый с подноса с закусками.
– Трудно понять, что это за общество. Вавилонское столпотворение, Ноев ковчег, сборище мафии или утренник в школе для девочек.
– Я скажу вам, что тут происходит. Бал в Версале во времена правления Людовика Шестнадцатого, тринадцатого июля тысяча семьсот восемьдесят девятого года, в ночь накануне взятия Бастилии.
Крейг невольно хмыкнул.
– Смейтесь-смейтесь, – позволил Слоун, – но помяните мое слово: так оно и есть. Кстати, видели картину «Лед», которой прочат приз за лучшую режиссуру?
– Да, – кивнул Крейг. Фильм был создан группой юных революционеров. Крайне серьезная работа, где рассказывалось о начале вооруженного восстания в Нью-Йорке в ближайшем будущем. Леденящие кровь сцены кастрирования, убийств представителей власти, терроризма, взрывов, уличных драк, все снято в стиле cinema verite[34], что глубоко тревожило душу.
– И что вы об этом думаете? – вызывающе бросил Слоун.
– Такому человеку, как я, трудно решить, имеет ли фильм истинную ценность. Такого рода парни мне не знакомы. Возможно, все это – стремление эпатировать публику. Чистый домысел.
– Это не домысел, – покачал головой Слоун. – И обязательно произойдет в Америке, причем очень скоро. – Он небрежно обвел рукой собравшихся. – И все эти жирные коты окажутся на свалке.
– А где окажетесь вы, Мюррей? – поинтересовался Крейг.
– Там же, – мрачно бросил Слоун. – Эти парни будут стричь всех под одну гребенку.
К стойке приблизился Уолтер Клейн:
– Привет, мальчики. Веселитесь?
Крейг предоставил отвечать Слоуну.
– Наслаждаемся каждой минутой, – вежливо ответил Слоун, соблюдая все правила приличия.
– Как насчет вас, Джесс? – допытывался Клейн.
– Каждой минутой, – подтвердил Крейг.
– Неплохо сидим, – самодовольно хмыкнул Клейн. – Идеальная пропорция красоты, таланта и мошенничества. Взгляните-ка на тех двоих! – Он показал на Хеннесси и Томаса, углубившихся в беседу у камина. – Они на самом гребне. Греются в лучах славы. Кстати, оба мои клиенты.
– Естественно, – кивнул Крейг, беря второй бокал с шампанским.
– Пойдите перекиньтесь словечком с обоими гениями, – посоветовал Клейн. Он неуклонно следовал своему правилу знакомить всех со всеми. Как он любил твердить своим помощникам, никогда не знаешь, в какое место ударит молния и из какого колодца придется пить. – И вы тоже, Мюррей.
– Я уж лучше останусь на своем посту у бара, – отказался Слоун.
– Не хотите познакомиться с ними? – поразился Клейн.
– Не хочу. Я собираюсь задать им жару. Разнести их фильмы в пух и прах и не позволю сбить себя с толку личным симпатиям.
– А вы видели их фильмы? – допрашивал Клейн.
– Нет, зато знаю их стиль.
– Смотрите-ка, – съехидничал Клейн, – какая редкость! Честный человек! Пошли, Джесс.
Он подхватил Крейга под руку и повел к камину.
Крейг пожал руку Хеннесси и извинился перед Томасом за то, что не перезвонил. Томас, стройный, мягкий на вид человек, имел репутацию невыносимого упрямца на съемочной площадке.
– Что вы делаете? – поинтересовался Клейн. – Хвалитесь победами?
– Рыдаем, не осушая слез, – запротестовал Хеннесси.
– По какому поводу?
– По поводу продажности низших слоев общества, – пояснил Хеннесси. – И о том, как трудно остаться незапятнанным в этом грязном мире.
– Хеннесси – новичок в игре, – вмешался Томас. – Не может смириться с тем ужасным фактом, что пришлось подкупить не только шерифа, но и его помощников в каком-то техасском городишке во время съемок.
– Я не возражаю против того, чтобы немного смазать колеса машины, позолотить ручку и тому подобное, – вставил Хеннесси. – Но не так же открыто! Хотя бы сделали вид, что понимают, как это нехорошо, когда представители власти берут взятки. Но эти парни расселись в моем номере, пили мое виски и требовали по три тысячи каждому, угрожая, что иначе не дадут мне даже расчехлить камеру. – Он сокрушенно покачал головой. – И никакой трепотни насчет того, что неплохо бы такой большой компании, как наша, внести небольшое пожертвование в фонд помощи полицейским и тому подобное. Просто выкладывайте денежки, мистер, и вся недолга. Согласитесь, не так просто парню, бывшему первым учеником в воскресной школе, отслюнить шесть тысяч наличными парочке копов в номере мотеля и внести такую уйму денег в графу «непредвиденные расходы».
– Вы еще легко отделались, – утешил Клейн, человек практичный и приземленный. – Так что не жалуйтесь.
– А потом, – продолжал Хеннесси, – у них хватило наглости арестовать исполнителя главной роли за курение травки, и у меня вылетело еще две тысячи, чтобы его освободить. Верно говорит вице-президент: закон и порядок – вот что требуется нашей стране.
– Вы сейчас во Франции, не помните? – подсказал Клейн.
– Я в кинобизнесе, – сурово ответил Хеннесси, – где бы при этом ни был. И просто с ума схожу при мысли о том, сколько денег нужно пустить на ветер, прежде чем тебе позволят снять фильм.
– Легко нажито – легко прожито, – философски заметил Клейн.
Ему хорошо говорить, после того как получил чек на три миллиона долларов!
– В будущем году я веду семинар по искусству кино в Калифорнийском университете, – сообщил Хеннесси, издевательски протянув слово «кино». – И все сказанное войдет в мою первую лекцию. Эй, Крейг, хотите стать моим гостем часа на два и рассказать деткам о том, какие неприятные истины кроются за блестящей мишурой целлулоидного мира?
– Боюсь на всю жизнь лишить их иллюзий, – отозвался Крейг.
– Прекрасно! – обрадовался Хеннесси. – Все что угодно, лишь бы сократить число конкурентов. Впрочем, я серьезно. Вы действительно могли бы кое-чему их научить.
– Если буду свободен, – осторожно заметил Крейг, – и если к тому времени окажусь в Штатах, тогда возможно…
– Где я смогу вас найти? – обрадовался Хеннесси.
– Через меня, – поспешно вставил Клейн. – Мы уже беседовали с Крейгом о его возможном возвращении в кино и постоянно будем держать связь.
Крейг подумал, что Клейн не так уж и лжет. Просто толкует события по-своему, приспосабливая правду к своей, а возможно, и его выгоде.
Оба режиссера мгновенно вскинулись и пристально воззрились на Крейга.
– О чем идет речь, Джесс? – спросил Томас первым. – Или не хотите говорить?
– Пока ничего определенного. Одни планы, – отговорился Крейг.
Мечты Мерфи…
У входа началась небольшая суматоха, и в гостиной появились Френк Гарланд с женой и еще одной супружеской парой. Гарланд играл главную роль в одном из ранних фильмов Крейга. И хотя был несколькими годами старше Крейга, выглядел лет на тридцать пять: темноволосый, атлетически сложенный, красивое мужественное лицо. Он считался не только хорошим актером, но и предприимчивым бизнесменом и владел компанией, ставившей не только его, но и чужие фильмы. Природа наградила этого веселого, жизнерадостного, открытого человека железным здоровьем и хорошенькой женой, с которой они мирно прожили более двадцати лет. В картине Крейга он сыграл безупречно. Они стали друзьями, но сегодня Крейгу не хотелось снова видеть его. Ему были отчего-то неприятны и удивительное здоровье, и здравомыслие, и неизменная удача, и неподдельная сердечность Гарланда.
– Увидимся позже, приятели, – сказал он Клейну и режиссерам. – Что-то душно тут. Выйду на воздух.
Он выбрался во внутренний дворик и зашагал по мокрой траве сада к плавательному бассейну. Оркестр играл «В такой ясный день тебе дано увидеть вечность».
Крейг загляделся на голубую воду. Бассейн был с подогревом, и на поверхности колебался легкий туман. Оргии в бассейне – вспомнил он слова англичанки. Только не сегодня, Николь.
– Привет, Джесс, – раздался чей-то голос. Крейг поднял глаза. Из тени кустов, с другого конца бассейна, появился человек. Когда он подошел ближе, Крейг узнал его. Сидни Грин. Крейгу пришло в голову, что Грин ищет уединения в этом холодном сыром саду по той же причине, что и он. Проигравшие, пожалуйте наружу. Скоро возникнет Йан Уодли.
– Привет, Сид, – поздоровался Крейг. – Что ты здесь делаешь?
– Там для меня чересчур роскошно, – пожаловался Грин мягким, грустным голосом человека, постоянно ожидавшего удара судьбы. – Вот вышел и помочился на дорогую газонную травку Уолтера Клейна. Нужно же получить хоть какое-то удовлетворение. – Он беззвучно засмеялся. – Не выдашь меня Уолту? Не хочу показаться неблагодарным. С его стороны было так мило пригласить меня. Представляешь, столько знаменитостей в одной комнате! Столько власти, столько денег!
Грин медленно покачал головой, словно желая подчеркнуть уважение к могуществу тех, кого собрал сегодня вечером Уолт Клейн.
– Вот что я тебе скажу, Джесс, – продолжал он. – Там есть люди, которым ничего не стоит одним движением пальца начать съемки фильма с бюджетом в десять миллионов. И выглядят они совсем как я или даже хуже, носят такие же смокинги, сшитые, возможно, у того же портного, но Боже, какая разница! А ты как, Джесс? Люди говорят о тебе, все гадают, чем ты занимаешься. Вроде бы ты вот-вот начнешь съемки и здесь для того, чтобы подписать контракт.
– Пока ничего определенного, – отмахнулся Крейг.
Мерфи выразился вполне определенно, но чего добьется Крейг, сказав Грину правду?
– Я видел, ты говорил с Дэвидом Тейчменом, – заметил Грин. – В свое время он давал жару!
– Еще бы!
– Конченый человек, – бросил Грин.
Крейга покоробило. Он терпеть не мог таких безапелляционных заявлений.
– Я не стал бы это утверждать.
– Он больше не снимет ни одной картины, – уверенно заключил Грин, словно вынес приговор.
– Может, он просто не желает раскрывать тебе свои планы, Сид?
– Если собираешься иметь с ним дело, лучше забудь. Он не протянет до следующего года.
– О чем ты? – резко бросил Крейг.
– А я думал, все уже знают. У него рак мозга. Мой кузен оперировал его в «Сидерс». Просто чудо, что он еще на ногах держится.
– Бедный старик, – вздохнул Крейг. А Тейчмен еще говорил, что с париком помолодел на двадцать лет!
– О, я бы не стал растрачивать на него жалость, – возразил Грин. – Он прожил долгую и совсем не плохую жизнь. Я с удовольствием согласился бы на такую судьбу, пусть даже и с опухолью в конце. Зато его земные тревоги почти закончены. Ну а ты, Джесс?
Разговор о мертвых и умирающих завершен. Пора переходить к живым.
– Возвращаешься?
– Вполне возможно.
– Если все же определишься, не забудь про меня, хорошо, Джесс?
– Обязательно.
– Меня как режиссера недооценивают. Трагически недооценивают, – горячо убеждал Грин. – И не только я так считаю. Я тут встретил одного парня из «Кайе дю Синема». Он хотел познакомиться со мной только для того, чтобы высказать свое мнение о моей последней картине, той, что снималась для «Коламбиа пикчерз». Говорит, это настоящий шедевр. Кстати, ты ее не смотрел?
– Боюсь, что нет, – покачал головой Крейг. – Последнее время я не слишком часто бываю в кино.
– «Фанфара для барабанов». Так она называлась. Уверен, что не видел?
– Абсолютно.
– Если хочешь, я представлю тебя этому парню. Из «Кайе дю Синема». Умен, мерзавец. И не испытывает ничего, кроме презрения к большинству тех, кто здесь собрался. Презрения.
– Как-нибудь в другой раз, Сид. Сегодня я хотел лечь пораньше.
– Только свистни. У меня есть его адрес. Черт, – грустно продолжал Грин, – я-то думал, что этот год в Каннах принесет мне удачу. Представляешь, у меня был контракт на две картины с правом выбора в «Апекс энд Истерн». Один из этих больших концернов. Три месяца назад мне казалось, у них денег куры не клюют. Думал, что я в полном порядке. Снял новую квартиру в Шестнадцатом округе, там и до сих пор еще обшивают стены панелями. Обошлось мне это в пятнадцать тысяч баксов, которые я так и не выплатил. Кроме того, мы с женой решили, что можем позволить себе еще одного ребенка, и в декабре она родит. И тут все летит к чертям. «Апекс энд Истерн» разоряются, и теперь мне не по карману даже апельсиновый сок утром. Если в ближайшие две недели что-нибудь не подвернется, можешь навеки попрощаться с Сидом Грином.
– Обязательно подвернется, – утешил Крейг.
– Твои бы слова да Богу в уши.
Крейг оставил его у бассейна: голова понуро опущена, отчаянный взгляд устремлен на туман, поднимающийся от теплой зеленоватой воды.
«Я по крайней мере, – думал Крейг, входя в дом, – не должен пятнадцать тысяч за деревянные панели, и моя жена не беременна».
Остаток вечера он пил. Пил и вступал в разговор со множеством людей, но к тому времени, когда нужно было возвращаться в отель, помнил только о том, что искал Натали Сорель, возгоревшись внезапным желанием взять ее с собой в номер, но не нашел, зато проговорился Уолту Клейну о сценарии, пообещав показать, а Клейн заверил, что утром пришлет за рукописью одного из своих мальчиков.
Крейг стоял в баре, расправляясь с последней порцией виски, когда в гостиную ворвалась Гейл Маккиннон с перекинутым через плечо плащом. Он не заметил, как она уходила. Остановившись в дверях, она обвела взглядом комнату и подбежала к нему.
– Я надеялась, что вы еще здесь, – выдохнула она.
– Выпейте на дорожку, – предложил он. Спиртное несколько смягчило его.
– Мне нужен человек, который мог бы отвезти меня и Джо Рейнолдса домой, – объяснила она. – Он расшибся. И к тому же пьяный. Поскользнулся и свалился с лестницы.
– Получил то, что заслужил, – проворчал Крейг, гнусно радуясь несчастью ближнего. – Выпейте.
– Полицейский на стоянке не дает ему сесть за руль.
– Хитроумная. Хитроумная французская полиция. Коварные ищейки закона. Выпьем за доблестную жандармерию Приморских Альп, – продолжал веселиться Крейг.
– Вы что, тоже надрались? – резко спросила она.
– Не слишком. А вы? Почему сами не отвезете критика домой?
– У меня прав нет.
– Совершенно неамериканский стиль. Только не проговоритесь какому-нибудь конгрессмену, если вдруг спросит. Выпейте.
– Пойдемте, Джесс, – умоляюще попросила она. Крейг отметил, что она впервые за все время их знакомства назвала его по имени. – Уже поздно, и сама я не справлюсь с этим чирьем на заднице. Он там все залил кровью, орет и угрожает полицейскому, и если его немедленно не увезти отсюда, окажется в тюрьме. Понимаю, вы считаете меня назойливой, но сжальтесь, прошу.
Она огляделась. Комната почти опустела.
– Вечеринка кончилась. Довезите нас до Канн, пожалуйста!
Крейг осушил стакан и улыбнулся:
– Ладно, доставлю тело в целости и сохранности.
Он торжественно взял ее под руку и подвел к Уолтеру Клейну попрощаться, прежде чем выйти в сырую моросящую ночь.
Рейнолдс уже не орал на полицейского. Он уселся на нижнюю ступеньку каменной лестницы, с которой перед этим сверзился. Лоб располосовала рваная рана, глаз начал заплывать. Рейнолдс прижимал к носу окровавленный платок. Он устремил на Гейл и Крейга мутный взгляд и хрипло выдавил:
– Чертовы лягушатники! Уолтер Клейн и его мордовороты.
– Все в порядке, месье, – сказал Крейг по-французски полицейскому, маячившему рядом с Рейнолдсом. – Я его друг. Сейчас отвезем его домой.
– Он не в том состоянии, чтобы вести машину, – вежливо заметил полицейский. – Это видно невооруженным глазом, что бы там месье ни утверждал.
– Совершенно с вами согласен, – кивнул Крейг, стараясь держаться подальше от полицейского. Не хватало еще, чтобы тот учуял, как от него несет! – Ну, Джо, раз, два, три!
Он схватил Джо под мышки и рывком поставил на ноги. Рейнолдс отнял платок от носа, и кровь хлынула на брюки Крейга. От Рейнолдса смердело так, словно его прямо в одежде неделями вымачивали в виски.
С помощью Гейл он оттащил Рейнолдса в свою машину и запихнул на заднее сиденье, где тот мгновенно заснул. Крейг с преувеличенной осторожностью вывел машину со стоянки под мокрые деревья, опасаясь, что полицейский все еще за ними наблюдает.
Если не считать булькающего храпа Рейнолдса, в машине стояла тишина. Крейг сосредоточился на дороге, внезапно возымевшей тенденцию расплываться в лучах фар, особенно на поворотах. Ему было стыдно, что позволил себе распуститься и столько выпить. Он мысленно пообещал себе, что в будущем станет вести жизнь трезвенника, особенно когда предстоит сесть за руль.
Когда впереди показались предместья Канн, девушка назвала Крейгу отель Рейнолдса, находившийся примерно милях в шести от «Карлтона», довольно далеко от моря, за железной дорогой. Как только машина остановилась, проснувшийся Рейнолдс выговорил, едва ворочая языком:
– Всем спасибо. Не трудитесь идти со мной. Все лучше некуда. Доброй ночи.
Они долго смотрели, как он, держась неестественно прямо, бредет к темному отелю.
– Ему больше не следует сегодня пить, – заметил Крейг, – но мне просто позарез необходимо.
– Мне тоже, – согласилась Гейл.
– Разве вы живете не здесь? – удивился он.
– Нет.
У него почему-то стало легче на душе. Дурацкое чувство.
Все попадавшиеся по пути бары были закрыты. Он и не представлял, что уже так поздно. Все равно в таком виде – забрызганному кровью Рейнолдса, – вряд ли стоило показываться на глаза ночным посетителям. Крейг остановил машину перед «Карлтоном», но мотор не заглушил.
– У меня в номере бутылочка, – сообщил он. – Хотите подняться?
– С удовольствием.
Он припарковал машину, и они отправились в отель. К счастью, в вестибюле никого не оказалось. Портье, у которого Крейг брал ключ, едва ли не с детства был приучен не выказывать никаких эмоций, кто бы перед ним ни появлялся.
Оказавшись в номере, Гейл Маккиннон первым делом сбросила плащ и устремилась в ванную, пока Крейг разливал виски и содовую. Из ванной доносился уютный, какой-то домашний шум льющейся воды, знак чьего-то присутствия, временного избавления от одиночества.
Гейл скоро вернулась. Крейг заметил, что она причесалась и выглядела чистенькой и свежей, словно ничего такого не произошло. Они отсалютовали друг другу стаканами и выпили. В отеле было тихо, город за окном спал.
Они уселись лицом к лицу в большие, обитые парчой кресла.
– Вот вам и урок: никогда не садиться в машину к пьяным. Если бы у него не хватило ума скатиться с лестницы, вы, вероятно, уже давно бы врезались в дерево.
– Вероятно. – Она пожала плечами. – Издержки века автомобилей.
– Вам следовало с самого начала попросить отвезти вас домой, – наставительно продолжал Крейг, забывая, что сам был пьян не меньше Рейнолдса.
– Я решила никогда ни о чем вас не просить, – обронила она.
– Ясно.
– Ну и обливал же он вас грязью, как раз в тот момент, когда птицей нырнул вниз, – хихикнула девушка.
– И все это за единственный несчастный укол восемь лет назад?
Крейг покачал головой, поражаясь неистребимому людскому тщеславию.
– За это и еще кучу всего.
– Чего именно?
– Однажды вы увели у него девушку. Еще в Голливуде.
– Разве? А я ничего и не знал!
– Для таких, как Джо Рейнолдс, это еще худшее преступление. Он ударил ее, а она назло ему стала расписывать, какой вы замечательный, умный и веселый, и еще добавила, что другие женщины от вас в восторге. И после всего этого ожидаете, что он будет вас обожать? Тем более что тогда вы были важной шишкой, а он прыщавым юнцом, начинающим репортеришкой.
– Но сейчас он должен чувствовать себя отмщенным, – предположил Крейг.
– Что-то в этом роде, – признала девушка. – Но ему этого недостаточно. Он сообщил мне множество сведений о вас, которые и легли в основу статьи. И предложил заголовок.
– Какой же? – с любопытством спросил Крейг.
– «Человек, который иссяк».
Крейг кивнул:
– Вульгарно, но броско. Последуете его совету?
– Пока не знаю.
– От чего это зависит?
– От вас. Каким вы мне покажетесь, когда я поближе вас узнаю. Если, конечно, узнаю. От того, сколько мужества у вас еще осталось. Или воли. Или таланта. Конечно, мне было бы намного легче, если бы вы дали мне прочесть тот сценарий, что обещали показать Уолту Клейну.
– А об этом вы откуда знаете?
– Сэм Бойд – мой друг.
Сэм Бойд был одним из вундеркиндов Клейна.
– Он сказал, что заедет завтра утром за сценарием. Мы завтракаем вместе.
– Попросите его явиться после завтрака.
– Обязательно, – пообещала она, протягивая стакан. – Он пустой.
Крейг поднялся, отнес стаканы к столу, где стояла бутылка, и снова налил виски.
– Спасибо, – поблагодарила она, спокойно глядя на него.
Он наклонился и осторожно поцеловал ее в мягкие несопротивляющиеся губы. Но тут она отстранилась. Крейг отступил.
– Довольно, – пробормотала Гейл. – Иду домой.
Он попытался было коснуться ее руки.
– Оставьте меня в покое! – почти взвизгнула она и, схватив плащ, метнулась к двери.
– Гейл… – начал он, шагнув к ней.
– Жалкий старик! – прошипела она. Дверь с шумом захлопнулась.
Он не торопясь допил виски, потушил свет и прошел в спальню. Лежа голым на простынях в теплом мраке, он прислушивался к случайному шороху шин проезжавших по набережной автомобилей и неумолчному шуму прибоя. Сон не шел: слишком много всего случилось сегодня. Выпитое отзывалось болью в висках. В голове калейдоскопическим вихрем крутились и складывались обрывки вечера: Клейн в бархатном пиджаке, знакомивший друг с другом всех и каждого, Корелли с девушками, Грин, в одиночестве орошающий дорогую газонную траву, кровь Рейнолдса…
И среди этой мешанины… игра (было ли это игрой?) Гейл Маккиннон. Ее временами вспыхивающая юношеская и одновременно зрелая чувственность. Приглашение и отказ. Вспомни и пожалей об утерянной красоте Натали Сорель, постарайся забыть Дэвида Тейчмена, смерть, таившуюся под студийным париком.
Крейг неловко заерзал. Похоже на традиционную рождественскую вечеринку в офисе. С той разницей, что в обыкновенных конторах такие вечеринки не устраивают дважды в неделю.
Послышался тихий стук в дверь. Стук, которого он почти ожидал. Крейг встал, накинул халат и открыл дверь.
В тускло освещенном коридоре стояла Гейл Маккиннон.
– Входите, – сказал он.
ГЛАВА 10
Он смутно понимал, что за окном уже рассвело, но никак не мог проснуться. Кто-то мерно дышал рядом, где-то разрывался телефон.
Не двигаясь и не открывая глаз, в тщетном старании оттянуть начало дня, он пошарил по прикроватному столику и ощупью нашел трубку.
Далекий голос, едва пробившийся сквозь помехи, произнес:
– Доброе утро, дорогой.
– Кто это? – невнятно пробормотал он.
– А что, так много людей называют тебя «дорогой»? – пропел тонкий, едва слышный голос.
– О, прости, Констанс, – сообразил он. – Такое впечатление, словно ты в миллионах миль отсюда.
Крейг наконец разлепил глаза и повернул голову. По соседней подушке разметались каштановые волосы. Гейл не мигая смотрела на него: глаза с синими искорками были серьезными, почти мрачными. Простыня почти сползла, и Крейг обнаружил поистине чудовищную эрекцию. Он уже не помнил, когда так возбуждался, и теперь едва подавил идиотский порыв поскорее прикрыться.
– Ты все еще в постели? – удивилась Констанс. Едва слышный упрек, донесшийся по неисправному кабелю через шестьсот миль. – Уже начало одиннадцатого!
– Разве? – глупо выдавил он. Его плоть все больше набухала с каждым мгновением и угрожающе вздымалась. Он ощущал на себе бесстрастный взгляд с соседней подушки, украдкой любовался очертаниями ее тела под простыней, сознавая, что вторая кровать по-прежнему аккуратно застелена. В ней по-прежнему не спали. Жаль, что у него с языка сорвалось имя Констанс!
– Здесь все поздние пташки, – объяснил он. – Как дела в Париже?
– Хуже некуда. А у тебя?
Крейг поколебался.
– Ничего нового, – наконец выдавил он.
Выражение лица Гейл осталось таким же серьезным. Ни тени улыбки. Взгляд почти ощутимо давил на его вздыбленный фаллос, возвышающийся в золотистом утреннем свете, словно неотъемлемая и бесстыдная деталь окружающей обстановки. Гейл медленно протянула руку и оценивающе провела пальцем от самого основания до рубиново-пылающей головки. Крейга немедленно скрутило конвульсией, как от прикосновения к проводу высокого напряжения.
– Святой отшельник, – шепнула она.
– Прежде всего, – продолжал дрожащий, механический, почти неузнаваемый голос на другом конце линии, – я хотела бы извиниться…
– Я едва тебя слышу, – перебил он, делая над собой сверхъестественное усилие, чтобы говорить спокойно. – Может, лучше повесить трубки и попросить телефониста снова нас соединить и…
– Так лучше? Теперь ты слышишь? – неожиданно прорвался сквозь помехи голос. Теперь он звучал так отчетливо, будто Констанс сидела за стенкой.
– Д-да, – нерешительно отозвался он, отчаянно пытаясь сообразить, что такое сказать Констанс, чтобы она дала ему передышку, позволила одеться, перейти в гостиную и подождать, пока она перезвонит. Но в эту минуту он был способен лишь отделываться междометиями.
– Я сказала, что хочу извиниться, – повторила Констанс, – за то, что вела себя как последняя стерва. Ты ведь знаешь, на меня иногда находит.
– Да, – повторил он. В нижней части его тела все оставалось по-прежнему.
– И поблагодарить за снимок со львенком. Как мило с твоей стороны.
– Да.
– У меня хорошие новости, – продолжала Констанс. – По крайней мере я надеюсь, что ты посчитаешь их хорошими.
– Какие новости?
Он осторожно, по миллиметру, подтягивал край простыни, ухитрившись прикрыться почти до пояса.
– Завтра или послезавтра я, вероятно, буду в твоих краях. Марсель.
– Марсель? – тупо повторил он, не в силах вспомнить, где находится Марсель. – Почему Марсель?
– Это не телефонный разговор.
Ее недоверие к французской телефонной сети ничуть не уменьшилось.
– Но если все уладится, я буду там.
– Прекрасно, – машинально ответил Крейг, думая совсем о другом.
– Что «прекрасно»? – переспросила Констанс, постепенно начиная раздражаться.
– Я хотел сказать: может, нам удастся увидеться…
– Что значит «может»? – В голосе явно слышалось приближение бури.
Он ощутил, как дрогнул матрас. Гейл встала и, не оглядываясь, направилась в ванную, голая, с неправдоподобно тонкой талией, перламутрово-поблескивающими бедрами, точеными загорелыми икрами.
– Видишь ли, тут кое-что изменилось…
– Еще один чертовски бесполезный разговор, парень, – вздохнула Констанс.
– Сегодня приезжает моя дочь Энн, – пояснил Крейг, радуясь, что Гейл нет в комнате. Эрекция неожиданно исчезла, и этому он тоже рад. – Я послал ей телеграмму с приглашением.
– Все мы зависим от этой чертовой молодежи, – констатировала она. – Привози ее с собой в Марсель. Каждой девственнице полезно повидать Марсель.
– Позволь мне хотя бы поговорить с ней сначала, – взмолился Крейг, не заостряя внимания на значении слова «девственница». – Позвони мне, когда определишься со своими планами. Может, лучше тебе приехать в Канны? – неискренне добавил он. И услышал шум воды в душе. Интересно, доносится ли он и до Констанс?
– Ненавижу Канны! – вырвалось у Констанс. – Там я решила развестись с первым мужем. Господи, неужели тебе так трудно сесть в машину и потратить часа два на то, чтобы увидеться с женщиной, в которую ты якобы влюблен…
– Не накручивай себя, Констанс, – посоветовал Крейг, – не доводи до истерики. Ты еще даже не знаешь точно, окажешься ли в Марселе, и все же…
– Я хочу, чтобы ты дрожал от нетерпения, – перебила она. – Мы целую неделю не виделись. Самое меньшее, что ты можешь сделать, – сгорать от желания.
– Я и сгораю, – заверил он.
– Докажи.
– Я примчусь к тебе, куда и когда пожелаешь, – громко пообещал он.
– Вот это пойдет, парень, – объявила она со смешком. – Господи, говорить с тобой – все равно что зубы рвать. Ты пьян?
– С похмелья.
– Дебоширил?
– Можно сказать и так.
Хотя бы один камень в фундамент истины.
– Никогда не любила трезвенников. Ладно, телеграфирую, как только что-то прояснится. Сколько твоей дочери лет?
– Двадцать.
– Думаю, у двадцатилетней девушки найдется более интересное занятие, чем целыми днями не отходить от папаши.
– Мы любящие родственники.
– Я это заметила. Веселись, дорогой. Мне тебя не хватает. И все-таки, львенок – прекрасная идея.
Она повесила трубку.
«Постыдная, глупая комедия», – неприязненно подумал он, вскакивая с постели и принимаясь поспешно одеваться. Он уже успел натянуть рубашку и брюки, к тому времени как вернулась Гейл, все еще голая. Она была стройная, совершенная; на смуглой коже переливались последние капельки воды, которые она не позаботилась вытереть.
Гейл стояла, чуть расставив ноги, уперев руки в бедра, пародируя позу модели, и широко улыбалась.
– Господи, ну и дел у нашего малыша, верно?
Подойдя к нему, она притянула его голову к своей и поцеловала в лоб. Но едва он обнял ее за талию и тоже хотел поцеловать, как она резко отстранилась и объявила:
– Умираю с голоду! Как тут вызвать официанта?
В аэропорт Ниццы он прибыл слишком рано. Самолет из Женевы должен был совершить посадку только через полчаса. За годы своей супружеской жизни он привык повсюду появляться загодя. Его жена никогда и никуда не успевала вовремя, и их совместное существование осталось в памяти как ряд неприятных сцен: он орет на нее, требуя поторопиться, она в слезах, с силой хлопает дверями, в отместку за упреки, а потом не раз пережитые унизительные объяснения с друзьями которых заставили ждать, опоздав на ужин, самолет, поезд, в театр, на свадьбу, или похороны, или футбол. Поэтому теперь, избавившись от жены, он мог позволить себе роскошь повсюду приезжать заблаговременно, спокойно и не тратя нервы.
– Развод с твоей матерью, – сказал он как-то Энн, которая, насмотревшись на Пенни, выработала в себе чудовищную пунктуальность, – прибавил мне десяток лет жизни.
Поднявшись наверх, он устроился на балконе, откуда были видны взлетные полосы и море, и заказал виски с содовой. Хотя солнце еще не село, в воздухе повеяло прохладой, а ветер взбивал на верхушках волн белые барашки.
С чувством раскаяния потягивая виски, он попытался собраться перед встречей с дочерью. Но рука, державшая стакан, едва заметно дрожала. Он никак не мог расслабиться и чувствовал свинцовую усталость. И хотя попытался сосредоточиться на снижавшемся самолете, который был еще примерно в миле от конца взлетной полосы, глаза его за солнечными очками неожиданно заслезились. Он почти не спал ночью. Причем по совершенно дурацкой причине. Гейл Маккиннон пришла к нему в номер, легла рядом, но не позволила заняться с ней любовью. Причем без всяких объяснений. Просто сказала «нет» и заснула в его объятиях, невозмутимая, душистая извращенка с шелковистой кожей, уверенная в себе, неотразимая, манящая юностью и красотой.
И теперь, дожидаясь, пока его дитя спустится с ясного неба, Крейг сгорал от стыда при мысли о безумии этой ночи. Мужчина его лет позволил впутать себя в глупую детскую игру! И кому! Девушке настолько юной, что годилась ему в дочери! Ему следовало включить свет, выгнать ее из номера, принять снотворное и лечь спать. Или по крайней мере натянуть пижаму, устроиться в соседней кровати, а утром объяснить девчонке, что больше не желает ее видеть. Вместо этого он прижимал ее к себе, утопая в меланхоличной нежности, раздираемый желанием, бессонницей, лаская ее шею и затылок, втягивая носом аромат ее волос, прислушиваясь к ее ровному, спокойному дыханию, до тех пор пока серое предрассветное утро не проникло в щели между жалюзи.
А за завтраком, раздраженный реальными или воображаемыми похотливыми взглядами официанта, он пообещал ей встретиться днем в баре. Подумать только, из-за нее он оскорбил Констанс, лгал или почти лгал по телефону, рисковал тем, что до вчерашнего вечера считал настоящей любовью к зрелой, опытной женщине, которая не играла с ним в недостойные игры, а, напротив, принесла ему счастье, любовью к прекрасной, умной, самостоятельной женщине, державшейся с ним на равных, чья привязанность… почему бы не назвать это чувство настоящим именем… чья страсть помогла ему пройти через самые черные полосы в его жизни. Он всегда гордился тем, что и в хорошие, и в дурные времена сохраняет умение контролировать себя и свои действия. И вдруг, всего за несколько часов пьяного дурмана, он показал, что способен на такие же бессмысленные шаги и опрометчивые поступки, как любой безмозглый, романтически настроенный болван.
Пьяный дурман. Он лжет самому себе. Да, он пил, но не так уж много. И знал, что, если бы не выпил и капли, все равно вел бы себя так же.
Во всем виноваты Канны, оправдывался он перед собой. Город, созданный, чтобы потакать всем ощущениям: свобода, яркое солнце, пиршество плоти. И в темных зрительных залах по всему городу на людей влияет будоражащая терпкая сексуальность фильмов, полных восхитительных слияний, многоцветья порока, молодого разврата, – слишком пьянящая атмосфера для одинокого стареющего человека без серьезных привязанностей, скитающегося без компаса по этому невеселому году.
И в довершение всех бед – приезд дочери. Кой черт дернул его послать эту телеграмму?
Крейг громко застонал, но тут же огляделся, не услышал ли кто, и поднес ко рту платок, притворяясь, что закашлялся. Потом выпрямился и заказал еще виски.
Он приехал в Канны в поисках ответов. А получилось так, что за эти несколько дней умножил и без того бесчисленные вопросы. И все усложнил. Может, лучшим выходом было бы немедленно отправиться в кассу и взять билет до Парижа, Нью-Йорка, Лондона или Вены? Он, как северянин, чувствует себя комфортно только в более суровом климате, белые, исполненные языческого духа южные города не для него. Будь он мудрее, навсегда покинул бы пагубные затягивающие соблазны Средиземноморья. Разумная идея.
Но Крейг не двинулся с места. Никаких билетов он не купит. Пока.
Помощник Клейна Бойд позвонил из вестибюля во время завтрака, и Крейг отослал рукопись «Трех горизонтов» с посыльным. Если сценарий Клейну не понравится, значит, пора уезжать из Канн. Это решение успокоило его. Дало что-то вроде цели, на которую следует ориентироваться. Теперь выбор зависит уже не от него. От судьбы.
Ему сразу стало легче. Поднимая стакан с виски, он заметил, что пальцы больше не дрожат.
Колеса самолета замерли на бетонном покрытии. Из открытого зева посыпались легко одетые пассажиры; подолы шелковых платьев парусили на ветру. Крейг различил в толпе Энн. Длинные белокурые волосы хлестали ее по лицу. Девушка энергичным шагом направилась к балкону, выискивая глазами отца. Крейг помахал рукой. Она махнула в ответ и почти побежала. В руках ее болтался туго набитый брезентовый мешок цвета хаки, похожий на те, которые продаются в армейских магазинах. Он отметил, что походка у нее по-прежнему неуклюжая, немного расхлябанная, словно девушка не стремится претендовать на женственную грацию. Может, предложить ей брать уроки художественной гимнастики?
На Энн были помятый голубой плащ и темно-коричневые слаксы. Ни одного яркого пятна, если не считать волос. Среди ярких летних платьев, цветастых сорочек и полосатых пиджаков остальных пассажиров она казалась настоящей Золушкой. Интересно, кому она подражает сейчас?
В противовес всякому здравому смыслу Крейг раздраженно поморщился. В те времена, когда деньги лились потоком, он основал два трастовых фонда для Энн и Марши. Доходы с них были не бог весть какими, но на новую одежду, несомненно, хватило бы. Придется как можно тактичнее намекнуть ей на необходимость посетить здешние магазины. Хорошо еще, что она по крайней мере чисто умыта, носит туфли и не кажется одурманенной гашишем индейской скво. Возблагодарим Господа и за малые милости.
Он заплатил за виски и спустился вниз.
Когда Энн вышла вслед за носильщиком, тащившим ее чемоданы, Крейг придал лицу соответствующее случаю радостное выражение. Она совершенно по-детски бросилась к нему, обняла и с размаху чмокнула куда-то в шею.
– О, папа! – вскрикнула она, уткнувшись ему в грудь.
Он погладил плечо изжеванного голубого плаща и невольно вспомнил другой поцелуй и другое юное тело в своих объятиях сегодняшним утром.
– Дай-ка взглянуть на тебя, – попросил он. Энн чуть отстранилась, чтобы он смог получше ее рассмотреть. Она не пользовалась косметикой, да и не нуждалась в ней. Типично калифорнийская девица: ясноглазая, загорелая, цветущая, с выгоревшими на солнце волосами и легкой россыпью веснушек на переносице изящного прямого носика. Судя по оценкам, училась она превосходно, но трудно поверить, что она вообще берет в руки книги, а не проводит все время на пляжах, водных лыжах, досках для серфинга и теннисных кортах. Будь он на ее месте, вряд ли стал бы корячиться над учебниками.
Он не видел ее полгода и теперь заметил, как она округлилась и налилась, а ничем не стесненные груди под темно-зеленым свитером сильно отяжелели. Зато лицо осунулось, заострилось, став почти треугольным, с чуть заметными впадинками под высокими скулами. Она всегда была здоровым ребенком и теперь превратилась в настоящую женщину.
– Ну и как? Нравится то, что видишь? – спросила она улыбаясь. Старый стереотипный вопрос, придуманный Энн в давнем детстве.
– Более-менее, – поддразнил он. Разве можно облечь в слова ту нежность, охватившую его, безрассудное теплое ощущение самодовольства, которое неизменно доставляла она, плод его чресел, свидетельство жизнеспособности и родительской мудрости. Он сжал ее руку, втайне поражаясь, что всего несколько минут назад досадовал при мысли о ее приезде.
Рука об руку они последовали за носильщиком через пассажирский терминал. Он помог носильщику забросить ее вещи в багажник. Брезентовый мешок, раздувшийся от книг, оказался очень тяжелым. Одна книга выпала на асфальт. Крейг поднял ее. «Воспитание чувств», на французском. Крейг не смог сдержать улыбки. Ну и предусмотрительная же путешественница его дочь: рассчитывает встретиться здесь с прошлым веком.
Они направились по шоссе, ведущему в Канны. Поток машин был такой плотный, что приходилось буквально плестись. Время от времени Энн наклонялась к нему и гладила по щеке, словно легким прикосновением пальцев убеждая себя, что отец здесь, совсем рядом.
– Какое синее море, – протянула она. – Поверишь, это было самое сумасбродное приглашение в моей жизни. – Она засмеялась какой-то своей мысли. – Кстати, твоя жена утверждает, что ты покупаешь мою привязанность.
– А ты? Ты тоже так считаешь?
– Если это верно, продолжай в том же духе.
– Как твоя швейцарская поездка? – осторожно осведомился он.
– Средней паршивости.
– Что мать делает в Женеве?
– Консультируется с частными банками. Ее приятель ей помогает. – Голос Энн неожиданно стал жестким. – С тех пор как ты стал давать ей столько денег, она заделалась настоящим асом инвестиций. Заявляет, что американская экономика не кажется ей достаточно стабильной, и намеревается отныне иметь дело только с немецкими и японскими компаниями. Велела передать тебе, чтобы последовал ее примеру. Говорит, это просто смехотворно – получать всего пять процентов годовых. Ты, мол, никогда не был деловым человеком, и она заботится о твоих интересах. – Энн слегка поморщилась. – Кроме того, в твоих же интересах немедленно бросить ту парижскую дамочку.
– Она и об этом тебе рассказала? – процедил Крейг, стараясь не выказать гнева.
– Да, и еще о многом.
– А что она знает о моей парижской приятельнице?
– Понятия не имею. Слышала лишь то, что она мне сказала. Будто эта дама бессовестно молода для тебя, выглядит как маникюрша и охотится исключительно за твоими деньгами.
– Маникюрша? – рассмеялся Крейг. – Очевидно, она никогда не видела мою приятельницу.
– Ошибаешься, видела. И даже устроила ей скандал.
– Где?!
– В Париже.
– Она была в Париже? – недоверчиво переспросил Крейг.
– Совершенно верно. Исключительно ради тебя. Высказала даме все, что думает об авантюристках, которые охмуряют старых дураков и разрушают счастливые браки.
Крейг восхищенно покачал головой.
– Подумать только, Констанс мне ни слова не сказала.
– Знаешь, есть вещи, о которых женщины предпочитают не распространяться, – пояснила Энн. – Кстати, ты познакомишь меня с Констанс?
– Конечно, – неловко пробурчал Крейг. Обнимая дочь в аэропорту, он и помыслить не мог, что их беседа примет такой оборот.
– Зато в Женеве я здорово позабавилась, – продолжала Энн. – Пришлось обедать в «Ричмонде» с мамочкой, ее дружком и со всеми прибамбасами.
Крейг ничего не ответил. Не хотел обсуждать с дочерью любовника своей жены.
– Этакий помпезный осел, – продолжала дочь. – Бр-р-р. Расселся, как у себя дома, заказывает икру, орет на официанта. Вино, видите ли, не то, а потом удостаивает галантной беседой пять минут мамулю, а пять – меня. Строго по очереди. Теперь я понимаю, почему уже с двенадцати лет ненавидела мамочку.
– Это не так, – мягко возразил Крейг. Он во многом виноват. Только не в отчуждении дочерей от жены.
– Так, папа. Так. О, почему ты столько лет покорно выносил этого жалкого зануду, который притворялся твоим другом, почему ты все им спускал?
– За все надо платить, – вздохнул Крейг. – Я тоже не ангел. Ты уже взрослая, Энн, и надеюсь, давно сообразила, что наши с мамой пути много лет как разошлись…
– Разошлись? – нетерпеливо перебила Энн. – Ладно, пусть разошлись. Это вполне можно понять. Но как ты мог вообще жениться на этой стерве…
– Энн! – резко воскликнул он. – Не смей так говорить!
– И еще не могу понять, почему ты позволил ей угрожать тебе иском за адюльтер и под этим предлогом выманить все деньги! А дом! Не проще ли денька на два нанять детектива, чтобы последил за ней и увидел, что она творит?
– Я на такое не способен.
– Почему? Она же пустила за тобой ищейку!
Крейг пожал плечами:
– Не рассуждай как адвокат. Не могу – и баста.
– Ты слишком старомоден, – заключила Энн. – В этом твоя беда.
– Давай не будем больше говорить об этом, – попросил он. – Только помни: если бы я не женился на твоей матери, тебя и твоей сестры не было бы на свете. Я иногда думаю, что вы – самое главное, что у меня есть, а все остальное ломаного гроша не стоит. Поэтому, как бы ни поступала ваша мать, я благодарен ей за вас. Ты будешь помнить это?
– Попытаюсь.
Голос Энн задрожал, и Крейг испугался, что она сейчас заплачет. Странно, она даже в детстве не была плаксой.
– Но скажу только одно, – с горечью продолжала она. – Больше я не желаю видеть эту женщину. Никогда. Ни в Швейцарии, ни в Нью-Йорке, ни в Калифорнии. Нигде.
– Ты когда-нибудь передумаешь, – тихо возразил он.
– Хочешь пари?
О Господи! Семьи и семейные дрязги!
– Я хочу, чтобы вы с Маршей знали: Констанс не имеет никакого отношения к нашему разрыву. Я оставил твою мать, потому что мне все это надоело до чертиков и я был на грани самоубийства. Наш брак потерял всякий смысл, а продолжать бесцельную жизнь я не собирался. Я виню вашу мать не меньше, чем самого себя. Наступил конец, вот и все. Констанс – просто совпадение.
– Ладно, – согласилась Энн, – верю.
Она примолкла, и Крейг, облегченно вздохнув, благодарный за передышку, миновал каннский ипподром. Южные скачки… Незамысловатые победы, незасчитанные поражения. Включенные разбрызгиватели изливались мириадами водяных дуг-фонтанчиков по всему зеленому полю.
– Ну, – резковато спросила Энн, – а как насчет тебя? Веселишься?
– Можно сказать и так.
– Я беспокоилась о тебе, – сообщила она.
– Беспокоилась? – с невольным удивлением повторил Крейг. – Я всегда считал, что современная молодежь не волнуется за родителей, по крайней мере так утверждают модные теории.
– Не настолько я современна.
– А почему ты тревожилась?
– Твои письма, – коротко пояснила Энн.
– Что же в них такого?
– Вроде ничего особенного. Ничего странного. Но общий настрой… Не знаю… у меня такое ощущение, что ты недоволен собой и не уверен в том, что делаешь. Даже почерк… – Она осеклась.
– Почерк?
– Выглядит совершенно иным. Не таким четким. Словно ты разучился писать буквы.
– Может, следует отныне печатать письма на машинке? – попытался отшутиться Крейг.
– Все не так просто, – серьезно ответила она. – На факультете психологии есть преподаватель, специалист-графолог, и я показала ему два твоих письма: одно – полученное четыре года назад, а второе…
– Ты хранишь мои старые письма?
Поразительный ребенок! У него не осталось ни одного письма от родителей.
– Естественно! Ну, в общем, тот преподаватель как-то заметил, что зачастую задолго до того, как что-то случится, прежде чем появятся какие-нибудь симптомы или сам человек что-то почувствует, его почерк… вроде того как… предсказывает перемены… болезнь, даже смерть.
Крейг был потрясен ее словами, но постарался этого не показать. Энн всегда была искренней, откровенной девочкой, ничего не скрывала и выпаливала все, что приходило в голову. Он гордился и немного забавлялся этой неумолимой честностью, считая ее неопровержимым доказательством силы духа. Но теперь ему было не до смеха, ибо на этот раз правда оказалась беспощадной.
– И что же этот умник изрек насчет писем твоего папочки? – иронически осведомился он.
– Смейся, смейся! Он сказал, что ты изменился. И изменишься еще больше.
– Надеюсь, к лучшему.
– Нет, – вздохнула она. – Не к лучшему.
– Господи милостивый! Посылаешь своих деток в модный колледж за солидным образованием, а они выходят оттуда с головой, набитой всякими средневековыми суевериями. Интересно, твой графолог и хиромантией занимается?
– Как бы там ни было, – возразила Энн, – я дала себе слово сказать тебе – и сказала. А увидев тебя сегодня, я была потрясена.
– Чем, интересно.
– Ты плохо выглядишь. Очень плохо.
– О, не будь глупышкой, Энн, – рассердился Крейг, хотя был уверен в ее правоте. – Пара бессонных ночей, только и всего.
– Не только, – настаивала она. – И дело не в бессонных ночах. Тут что-то более серьезное. Не знаю, сознавал ты это или нет, но я присматриваюсь к тебе с самого детства. И как бы ты ни пытался скрыть от меня свое настроение, я всегда знала, когда ты злишься или волнуешься, когда болен или напуган…
– А сейчас? – с вызовом бросил он.
– Сейчас… – Она нервным жестом пригладила волосы. – Ты странно выглядишь. Какой-то неухоженный… Да-да, это, пожалуй, лучшее определение. Выглядишь как человек, который скитается по отелям.
– Я действительно живу в отелях. Лучших отелях мира.
– Ты знаешь, о чем я.
Он и в самом деле понимал, что она хочет сказать, но не желал вслух признавать ее правоту. Разве что мысленно.
– Получив твою телеграмму, я решила подготовить речь, – объявила Энн. – И сейчас ее произнесу.
– Лучше полюбуйся пейзажем, Энн, – посоветовал он, – речь произнесешь попозже.
Но она, не обращая на него внимания, сказала:
– Единственное, чего я хочу, – жить с тобой. Заботиться о тебе. Если пожелаешь – в Париже. Или Нью-Йорке. Где угодно. Где скажешь. Не вынесу, если ты превратишься в одинокого старика, а по вечерам будешь уныло жевать свой ужин, как… как отбившийся от стада дряхлый буйвол.
Он невольно рассмеялся, услышав столь оригинальное сравнение.
– Не хочу хвастаться, Энн, но пока я не испытываю недостатка в общении. Кроме того, тебе еще год учиться в колледже…
– Я покончила с образованием, – перебила она. – А образование покончило со мной. По крайней мере этого рода образование. Ни за что не вернусь назад.
– Обсудим это как-нибудь в другой раз, – пообещал Крейг. По правде говоря, после всех лет скитаний мысль об упорядоченной жизни с Энн вдруг показалась весьма привлекательной. Кроме того, выяснилось, что он все еще придерживается старых взглядов, недостойных и постыдно-несовременных, убежденности, что для женщин образование совсем не так уж и важно.
– И еще одно, – добавила Энн. – Тебе следует вернуться к работе. Просто смешно: такой человек, как ты, сидит сложа руки.
– Это не так легко, как кажется. Никто особенно не рвется дать мне работу.
– Тебе?! – недоверчиво вскричала она. – Это тебе? Не может быть!
– Еще как может. Кстати, здесь Мерфи. Поговори-ка с ним о нынешнем состоянии дел в кино.
– Но другие все же снимают картины.
– Другие. Но не твой отец.
– Невыносимо! Ты рассуждаешь как неудачник! Если бы ты только собрался с духом и сделал что-то, вместо того чтобы гордо взирать на все со стороны! Я недавно говорила с Маршей, и она согласна со мной: это пустая, бессмысленная, позорная трата сил и таланта!
Казалось, еще минута, и Энн забьется в истерике. Крейг поспешил ободряюще погладить ее по руке:
– Собственно говоря, я тоже так считаю. Последний год я трудился не покладая рук!
– Ага! – торжествующе воскликнула она. – Вот видишь! С кем?
– Ни с кем. Сам с собой. Писал сценарий. Только что закончил. Кое-кто читает его прямо сейчас.
– А что сказал мистер Мерфи?
– Сказал, что это дерьмо, и посоветовал выбросить.
– Глупый старик! Не стоит его слушать!
– Глупым его никак не назовешь.
– Но ты все-таки сделал по-своему, правда?
– Сценарий я пока не выбросил.
– Можно мне его прочесть?
– Если хочешь.
– Разумеется, хочу. Могу я потом честно сказать, что думаю?
– Естественно.
– Даже если мистер Мерфи прав, – заключила Энн, – и окажется, что сценарий недостаточно хороший, или не слишком кассовый, или что еще им там требуется, ты всегда можешь взяться за что-то другое. То есть на кино свет ведь клином не сошелся! Если хочешь знать, по-моему, ты был бы куда счастливее, если бы навсегда с ним распрощался. Подумай, с какими ужасными людьми тебе приходится общаться! Это такая жестокая, капризная штука: сегодня ты кто-то вроде национального героя, а завтра никто о тебе не вспомнит. А люди, перед которыми ты пресмыкаешься, эта Великая Американская Публика… Боже мой, папочка, да зайди ты в кинотеатр, в любой кинотеатр в субботу, и посмотри, над чем они смеются и плачут… Помню, как много ты работал, как изводил себя до полусмерти, к тому времени, когда фильм был наконец снят. И для кого? Для ста миллионов кретинов!
В негодующей тираде дочери он распознал отзвук собственных мыслей, но это отнюдь его не обрадовало. Особенно неприятно это слово – «пресмыкаться». Одно дело – слышать такое от человека его лет, трудившегося, не раз выигрывавшего и терпевшего поражения на арене беспощадных битв. Иногда, в минуты уныния, невольно усомнишься в плодотворности своих усилий. И совсем другое – выслушивать столь беспощадное суждение из уст неопытного, избалованного ребенка.
– Энн, – попросил он, – не будь так строга к своим соотечественникам-американцам.
– Пусть мои соотечественники-американцы идут… – пробормотала она.
Еще один пункт в повестке дня. Узнать, что случилось с дочерью на ее родине за последние полгода. При следующей встрече.
Крейг поспешил сменить тему.
– С каких это пор тебя волнует моя карьера? – спросил он с легкой иронией. – В таком случае, может, посоветуешь, что мне делать?
– Да что угодно! Преподавать, устроиться редактором в издательство. Разве не этим ты занимался почти всю жизнь? Редактировал чужие сценарии. Мог бы сам стать издателем. Переехать в уютный маленький город и открыть собственный театр. Писать мемуары, в конце концов!
– Энн! – укоризненно воскликнул он. – Я, разумеется, стар, но не настолько же!
– Есть тысячи разных вещей, – упрямо настаивала она. – Умнее тебя человека я не знаю. Было бы настоящим преступлением, если бы ты позволил сбросить себя со счетов только потому, что бизнесмены от кино или театра так глупы. Ты ведь не женат на кино. И Моисей никогда не сходил с горы Синай, чтобы провозгласить: «Именем Господа повелеваю: развлекай!»
Крейг рассмеялся:
– Энн, дорогая, ты безбожно смешиваешь две великие религии.
– Я знаю, о чем говорю.
– Может, и так, – признал он. – Может, в твоих словах есть доля правды. А может, и нет. Я отчасти для того и приехал в Канны, чтобы решить, что делать, посмотреть, стоит ли игра свеч.
– И что же ты увидел? – вызывающе бросила она. – Что узнал?
Что он увидел и узнал? Увидел фильмы всех сортов, хорошие и плохие, в основном плохие. Был ввергнут в вихрь карнавального безумия, называемого кинематографом. В залах, на террасах, на пляжах и вечеринках – повсюду обнажалась голая суть этого искусства или индустрии, какого бы названия оно ни заслуживало. Здесь были все: художники и псевдохудожники, бизнесмены и мошенники, покупатели и продавцы, сплетники, шлюхи, порнографы, критики, прилипалы, герои года, неудачники года. И квинтэссенция всего, ради чего затевалась эта суматоха, – фильмы Бергмана и Бюнюэля, чистые и потрясающие.
– Итак, – повторила Энн, – что же ты узнал?
– Боюсь, понял, что я навек опутан паутиной, называемой кино. Как наркоман. Когда я был маленьким, отец часто брал меня в бродвейские театры. Я сидел не шевелясь, ожидая, пока погаснут люстры и зажгутся огни рампы. И все время боялся: а вдруг этого не произойдет и рампа так и не зажжется. Но все шло своим чередом, и всегда наступал великий момент. Я стискивал кулаки от счастья и тревожился за людей, которых увижу на сцене, как только поднимется занавес. Только однажды в жизни я нагрубил отцу. Именно в такую минуту. Не помню, что он мне сказал, бесцеремонно вернув на землю, но я прошипел: «Папа, помолчи, пожалуйста!»
Наверное, он понял, потому что слова больше не сказал, а тут и огни начали медленно гаснуть. А теперь… теперь я ничего подобного в театрах не испытываю. Зато чувство это возвращается каждый раз, когда я покупаю билет в кино. Знаешь, для сорокавосьмилетнего человека совсем неплохо сохранить те же эмоции, что и в далекой молодости. Может, потому я и придумываю для кино всяческие извинения. Пытаюсь разумно объяснить все его омерзительные недостатки, низкопробность, отвращение, с которым я подчас выхожу из зала, убеждая себя, что одна хорошая картина оправдывает сотню плохих. Что игра стоит свеч.
Он не сказал вслух, хотя хорошо знал, что хорошие фильмы не создаются для тех зрителей, которые ходят в кино по субботам. Они снимаются потому, что их нельзя не снимать, потому что они необходимы тем, кто их снимает, совсем как любое произведение искусства. Он знал, что такое муки творчества и то, что Энн именует жестокостью и капризами, то есть неотъемлемой частью процесса, включающего в себя бесконечное лавирование, уговоры, лесть, деньги, критику, беспощадные драки, несправедливость, трату нервов, имеющего конечным результатом безмерное наслаждение плодами рук своих. И даже если ты во всем этом играешь лишь ничтожную роль, все равно разделяешь это наслаждение. Теперь он понял, как эти пять лет наказывал себя, лишая этого наслаждения.
Не доезжая до мыса Антиб, он свернул на прибрежное шоссе.
– Наркоман, – повторил Крейг. – Это уже диагноз. Но довольно обо мне. Позволь мне высказать радость по поводу того, что в семье появился еще один взрослый человек.
Искоса глянув на дочь, он заметил, как она вспыхнула от удовольствия.
– Как насчет тебя? Если не считать того, что ты уже достаточно образованна и собираешься позаботиться обо мне. Каковы твои планы?
Энн пожала плечами:
– Пытаюсь сообразить, как выжить в шкуре взрослого человека. Взрослого по твоему определению. Кроме этого, единственное, в чем я уверена, – замуж пока не собираюсь.
– Что же, многообещающее начало карьеры, – кивнул Крейг.
– Не смейся надо мной! – вскинулась она. – Ты всегда меня дразнишь!
– Дразнят только тех, кого любят, – засмеялся он. – Но если тебе не нравится, больше не буду.
– Не нравится. Не такая я стойкая, чтобы выносить все это.
Он понял, что это упрек. Если двадцатилетняя девушка не обладает достаточной стойкостью, кого винить, как не отца? На отрезке пути между Ниццей и мысом Антиб он узнал о своей дочери много нового, но не слишком обнадеживающего.
Скоро они проедут мимо дома, который он снимал летом сорок девятого, дома, в котором была зачата Энн. Она никогда не приезжала сюда раньше. Интересно, заставят ли ее воспоминания о внутриутробной жизни поднять глаза и заметить высокое белое здание в саду над дорогой?
Энн не подняла глаз.
«Надеюсь, – подумал он, когда дом остался позади, – у нее хотя бы будут в жизни такие же три месяца, какие я провел в то лето с ее матерью».
ГЛАВА 11
Они подъехали к отелю как раз в ту минуту, когда Гейл Маккиннон выходила из дверей. Ничего не поделаешь, пришлось познакомить девушек.
– Добро пожаловать в Канны, – сказала она и, отступив на шаг, хладнокровно оглядела Энн.
«Нагло», – подумал Крейг.
– Вижу, семья ваша все хорошеет.
Чтобы положить конец дальнейшей дискуссии о степени совершенства семьи Крейг, он спросил:
– Что нового у Рейнолдса? Он в порядке?
– Насколько мне известно, жив, – небрежно отмахнулась Гейл.
– Вы его не проведали?
– Зачем? – пожала плечами Гейл. – Если он нуждается в помощи, кто-нибудь наведается. Увидимся. – Она обратилась к Энн: – Не гуляйте одна по ночам. Может, вам удастся убедить отца пригласить нас на ужин.
И, едва взглянув на Крейга, ушла, беззаботно размахивая сумкой.
– Какая своеобразная красота, – заметила Энн, входя в вестибюль. – Ты хорошо ее знаешь?
– Познакомились несколько дней назад.
Хоть это по крайней мере правда.
– Она актриса?
– Что-то вроде журналистки. Дай мне паспорт. Его придется оставить у портье.
Он зарегистрировал Энн и пошел за ключом. Портье протянул ему телеграмму. От Констанс.
«БУДУ МАРСЕЛЕ ЗАВТРА УТРОМ. ОСТАНОВЛЮСЬ ОТЕЛЕ СПЛЕНДИД. НАДЕЮСЬ, ПРИДУМАЕШЬ ЧТО-НИБУДЬ РОСКОШНОЕ. ЦЕЛУЮ, К.».
– Что-то важное? – спросила Энн.
– Нет.
Он скомкал телеграмму, сунул в карман и пошел за служащим, который должен был показать Энн ее номер. Управляющий не смог освободить комнату, смежную с «люксом» Крейга, и Энн пришлось поселиться этажом выше. Впрочем, какая разница?
Вместе с ними в лифт вошли толстый коротышка, которого Крейг уже видел раньше, и хорошенькая девушка. Сегодня на толстяке была ярко-зеленая рубашка.
– В Испании это ни за что не пойдет, – объяснял он как раз в тот момент, когда лифт тронулся, и смерил оценивающим взглядом сначала Энн, потом Крейга.
Уж не мелькнула ли на его губах заговорщическая ухмылка? В более обыденной обстановке Крейг просто врезал бы ему в нос, но сейчас вместо этого просто сказал служащему:
– Я сойду на своем этаже. Проводите мою дочь в ее номер, пожалуйста. Энн, как только устроишься, спускайся ко мне.
Мужчина в зеленой рубашке отвел глаза и отнял руку от локтя хорошенькой девушки. Крейг ехидно усмехнулся и вышел.
Усевшись в гостиной, он просмотрел программу сегодняшних показов. В три часа шел итальянский фильм, который он хотел посмотреть. Крейг поднял трубку и попросил соединить его с Энн.
– Энн! Сегодня днем идет неплохая картина. Хочешь, посмотрим вместе?
– О, папа, я как раз надеваю купальник. Вода просто манит…
– Так и быть, – согласился он, – желаю хорошо поплавать. Я вернусь в начале шестого.
Он повесил трубку, перечитал телеграмму Констанс и покачал головой. Отказаться от встречи в Марселе невозможно. И Энн никак нельзя брать с собой. Есть же пределы приличия даже в обществе, где позволено все! Но и оставить дочь в Каннах сразу же после того, как она преодолела пять тысяч миль, чтобы быть с ним, просто немыслимо. Придется под каким-нибудь благовидным предлогом пробыть в Марселе не более одного-двух дней. Придумать что-нибудь «роскошное»…
Недовольный собой, он подошел к камину и посмотрелся в зеркало. Энн сказала, что он плохо выглядит. И была права. Откуда взялись непривычно глубокие складки под глазами, вечно нахмуренный морщинистый лоб? Лицо бледное, словно одутловатое, а над верхней губой испарина. Наверное, просто день жаркий. Лето наступает, только и всего.
Тот калифорнийский графолог считает, что по тому, как ложатся на бумагу слова, можно предсказать будущее. «Перемены, – сказала Энн, – болезнь и даже смерть…»
Во рту мгновенно пересохло; он вспомнил, как в последнее время слегка кружилась голова, стоило резко подняться со стула, а есть совсем не хочется…
– Х… с ним! – громко сказал он. Прежде он никогда не разговаривал сам с собой. Что это означает?
Крейг отвернулся от зеркала. «В нем есть некая суховатая элегантность», – написала про него Гейл Маккиннон. Она не консультировалась с преподавателем Энн.
Он отправился в спальню и всмотрелся в аккуратно застеленную постель, которую прошлой ночью делил, если можно так выразиться, с этой девушкой. Придет ли она сегодня? И окажется ли он настолько глуп, чтобы снова открыть ей дверь? Он вспомнил, какая шелковистая у нее кожа, какие душистые волосы и округлые бедра. Если она постучит, он ее впустит.
– Идиот, – выругался он вслух. Возможно, это симптом скрытых отклонений в психике, признак грядущего маразма, но звук собственного голоса в пустой комнате отчего-то успокоил его. – Чертов идиот, – добавил он, не сводя глаз с постели.
Он плеснул в лицо холодной водой, сменил влажную от пота рубашку и пошел смотреть итальянское кино.
Фильм разочаровал его, оказавшись чересчур серьезным, скучным и малодинамичным. В нем рассказывалось о группе эмигрантов-анархистов, приехавших в начале века в Лондон во главе с сицилийским революционером. Вероятно, сценарист и режиссер добивались максимально возможного правдоподобия, и очевидно было, что люди, снимавшие фильм, питали похвальную ненависть к нищете и несправедливости, но Крейг нашел бесконечную череду сцен насилия, перестрелок и убийств мелодраматичной и безвкусной. Странно, что так много фильмов на этом фестивале посвящено революциям того или иного рода и что миллионы долларов, вложенные банкирами-республиканцами, идут на пропаганду насилия и призывы взорвать существующий строй. Что движет этими чистенькими процветающими людьми в белых сорочках и дорогих костюмах, сидящими за большими пустыми столами?
Если бы деньги делались на мятеже, взрывах в судебных залах, поджогах гетто, неужели эти благородные стяжатели посчитали бы своим долгом предложить золото, полученное такими способами, держателям акций, независимо от последствий? Или их цинизм заходит еще дальше, и эти люди, считающие, будто они куда мудрее обычных смертных, потому что держат руки на рычагах власти, знают, что ни один фильм подобного рода пока не послужил причиной переворота и, что бы там ни болтали в зале, какие бы длинные очереди ни тянулись в билетные кассы на самые подстрекательские картины, ничего не изменится, не прозвучит ни единого выстрела? Смеются ли они в своих привилегированных клубах над взрослыми детьми, играющими в свои «туманные картины» на целлулоидной пленке? Да ведь и он не испытывал никакого желания идти на баррикады, после того как в зале вспыхивает свет. И чем же он отличается от других?
Возможно, все дело в надвигающейся старости, и именно поэтому авторы фильма не только его не убедили, но и укрепили уверенность в том, что безрассудные призывы к действию способны породить только куда худшие пороки, чем те, которые они так стараются искоренить.
Будь ему двадцать, как Энн, или двадцать два, как Гейл, возможно, его и подмывало бы восстать против сытого общества, радоваться и торжествовать, замышляя разрушение и гибель городов.
Он вспомнил остроту Мюррея Слоуна. Версаль накануне взятия Бастилии. Чью сторону он принял бы, когда телеги с осужденными покатились бы по его улице? Телеги, в которых сидела бы Энн? Констанс? Гейл Маккиннон? Его жена?
Нет, этот итальянский фильм вреден для человека, несколько часов назад сказавшего своей дочери, что помешан на кино. Мертворожденное дитя кинематографа, бесполезное или, скорее, убийственное для искусства и, наконец, просто скучное. В нем отсутствует даже подлинный трагизм, позволяющий отнестись к собственным проблемам, маленьким бедам и невзгодам, запутанным отношениям с женщинами, профессиональному кризису как к чему-то ничтожному и не имеющему особого значения.
Он поднялся с места, не дождавшись конца, и, выйдя из кинотеатра, попытался для собственного успокоения восстановить в памяти, кадр за кадром, просмотренные на этой неделе работы Бюнюэля и Бергмана.
* * *
Солнце все еще стояло высоко над горизонтом, и Крейг на всякий случай, если Энн еще купается, спустился на пляж поискать дочь. Она сидела за столиком у бара, широкоплечая, с пышной фигурой, в крайне легкомысленном бикини, которое Крейг, как отец, предпочел бы видеть на ком-нибудь другом. Рядом устроился Йан Уодли в плавках, а напротив – Гейл Маккиннон, в том же розовом купальнике, который был на ней в пляжном бунгало Мерфи. Крейг почувствовал угрызения совести за то, что бросил Энн, не подыскав ей приличной компании.
Уодли, очевидно, не тратил много времени на просмотр фильмов. И успел загореть не хуже девушек. В своем мешковатом, плохо скроенном костюме он выглядел бесформенным, почти обрюзгшим, но выяснилось, что под одеждой тело у него упругое, а сам он казался сильным и властным. Он смеялся, размахивая стаканом, который держал в руке. Никто из троицы пока не заметил Крейга, и на мгновение он почти поддался искушению повернуться и уйти: слишком уж неприятно напомнила ему эта компания итальянского актера, вечно скалившего зубы, и двух девиц, ловивших каждое его слово.
Но, отнеся свой порыв за счет дурного настроения и ребячества, Крейг все же приблизился к столу. Гейл возилась со своим диктофоном, и Крейг вдруг с испугом подумал, что она берет интервью у его дочери. Совсем забыл предупредить Энн, чтобы та держала рот на замке!
Но он тут же услышал, как Гейл говорит:
– Спасибо, Йан. Уверена, что в Штатах это пойдет. Однако совсем не уверена, что вам позволят еще раз вернуться в Канны.
– Хватит двуличия! – провозгласил Уодли. – Долой политес. Обличай во всеуслышание этих продажных тварей и их ничтожные потуги на творчество! Таков мой девиз.
О Господи, он опять оседлал любимого конька!
– Добрый вечер, друзья, – приветствовал Крейг.
– А, это ты, Джесс! – прогремел Йан голосом таким же могучим, как его бронзовое тело. Общество девушек буквально его преобразило! – Я только сейчас объяснял двум очаровательным юным дамам некоторые закулисные механизмы кинофестивалей. Кто что продает, кто кого покупает, какие гнусности и пакости вытворяются ради получения «Золотых Пальмовых Ветвей». Садись, папаша. Что будешь пить? Официант! Гарсон!
– Спасибо, ничего, – отказался Крейг. Слово «папаша» прозвучало довольно язвительно. Он сел рядом с Гейл, напротив Энн.
– Что ты пьешь? – спросил он у дочери.
– Джин-тоник.
Он никогда не видел, чтобы она пила спиртное. Когда за обедом он предлагал ей вино, Энн неизменно отказывалась, утверждая, что ей не нравится вкус. Вероятно, джин более соответствует пристрастиям молодых.
– С твоей стороны весьма любезно, папаша, – продолжал Уодли, – импортировать моих поклонниц за собственный счет через континенты и океаны.
– О чем это ты? – удивился Крейг.
– Я читала его романы, – пояснила Энн. – Они включены в курс современной литературы.
– Только послушайте! – воскликнул Уодли. – Я важная фигура современной литературы! Прилежные студенты от одного побережья до другого жгут по ночам электричество в честь Йана Уодли! В унылой и бесплодной пустыне Канн я нашел своего читателя.
– Я тоже читала парочку, – вставила Гейл.
– Воздайте им хвалу, дорогая, воздайте хвалу.
– Они ничего, – признала Гейл.
– Бедняжка моя, – жизнерадостно фыркнул Уодли, – боюсь, вы завалили экзамен.
Уодли был совершенно невыносим, но Крейга оскорбила легкость, с которой Гейл разделалась с делом всей жизни этого человека.
– Думаю, вам следовало бы перечитать его книги, Гейл, – заметил он. – Когда повзрослеете. Может, тогда ваше суждение будет куда более точным.
– Спасибо, – поблагодарил Уодли. – А то спасу нет от этой молодежи!
Гейл улыбнулась:
– Не знала, что вы такие близкие друзья. Простите, Джесс, мне нужно задать мэтру еще пару вопросов, а потом можете получить его в полное распоряжение…
– Простите, – извинился Крейг, вставая. – Не хотел вам мешать. Просто искал Энн. Пойдем, дорогая. Становится прохладно.
– Я хочу дослушать до конца, – запротестовала Энн. – И совсем не замерзла.
– Оставайся и ты, Джесс, – предложил Уодли. – В присутствии равных себе я особенно красноречив.
Крейг, по какой-то непонятной причине не желая оставлять Энн с Гейл Маккиннон, кивнул.
– Благодарю за приглашение, – отозвался он, вновь садясь. – Раз уж я здесь, можно выпить виски.
– Еще два, – потребовал Уодли, протягивая официанту пустой стакан. – Валяйте, Гейл.
Гейл включила диктофон.
– Мистер Уодли, в начале интервью вы заявили, что положение сценариста становится с каждым годом все более шатким. Не будете ли так любезны пояснить свои слова?
Крейг заметил, с каким восхищением взирает Энн на занятую работой Гейл. Он сам был вынужден признать, что действует она профессионально, а голос у нее приятный и естественный.
– Видите ли, – начал Уодли, – с одной стороны, сценарист сейчас как никогда становится лицом влиятельным. Я говорю о тех, кто ставит свои же сценарии и таким образом ответственен за конечный результат. Такой человек попадает в поле зрения критики и в то же время получает соответствующее финансовое вознаграждение. Просто же сценарист остается незамеченным.
Теперь он говорил серьезно, не стремясь позабавить или изобразить великого человека перед двумя неопытными девушками.
– Возьмите хотя бы этот фестиваль: учреждены премии для актеров, режиссеров, композиторов, операторов и так далее. Только не для сценаристов. Это новейшая тенденция, возникшая в основном из-за принятия критиками теории авторского кинематографа.
Крейг был совершенно уверен, что Уодли написал свою речь заранее, возможно, для статьи, отвергнутой дюжиной журналов.
Гейл выключила диктофон.
– Помните, Йан, – предупредила она, – что говорите для американских слушателей. Не считаете, что нужно объяснить подробнее?
– Тут вы правы, – согласился Йан, глотнув виски, принесенного официантом.
– Сейчас задам вам вопрос, – пробормотала Гейл, снова нажимая кнопку. – Не будете ли так добры объяснить нам эту теорию, мистер Уодли?
– Принципы авторского кинематографа очень просты. Теория основана на убеждении, что фильм – детище одного человека, режиссера. Что в конечном счете человек, стоящий за камерой, – истинный автор работы, что фильм, в сущности, создается камерой.
– Вы согласны с этой теорией?
«Очередная игра, – подумал Крейг. – Маленькая девочка в мамином платье, или, вернее, в бикини, приходит в кабинет отца, садится за его стол и говорит по интеркому».
– Нет, – покачал головой Уодли. – Конечно, есть немало режиссеров, ставших одновременно авторами своих фильмов, но это означает лишь, что они не только режиссеры, но и сценаристы, и, следовательно, если и заслуживают премии за свое произведение, то не одну, а две – за сценарий и режиссуру. Правда, многие из них настолько склонны к самообману, что мнят себя писателями и пытаются навязать свои «шедевры» публике.
«Старая песенка», – подумал Крейг.
– Нам повезло, – преспокойно объявила Гейл в микрофон, – встретить на пляже известного продюсера мистера Крейга. Дозволено ли нам будет спросить: мистер Крейг, вы согласны с мистером Уодли? А если нет, то почему?
Крейг судорожно стиснул стакан.
– Оставьте ваши шутки, Гейл!
– Ну же, папочка, вперед! – попросила Энн. – В машине ты целых полчаса распространялся о кино. Не порть Гейл интервью!
– Заткните вашу чертову машинку, Гейл! – потребовал Крейг.
Но Гейл не шевельнулась.
– Ничего страшного. Я вырежу все, что сочту нужным, и склею пленку. Может, – дружелюбно улыбнулась она, – если не заполучу вас, выпущу в эфир Энн. Признания дочери короля, отрекшегося от престола. Жизнь и любовные романы преемника Последнего магната[35] чистыми молодыми глазами ближайшего и самого дорогого существа.
– Только позови, – вставила Энн.
– Уверен, что ваши слушатели где-нибудь в Пеории, – заметил Крейг, стараясь сдержаться и говорить как можно небрежнее, – затаив дыхание ждут именно этой программы.
Ничего, он еще сотрет эту порхающую улыбочку с ее лица! Впервые в жизни он понимал писателей, относившихся к своему пенису как к орудию возмездия.
– Будем иметь это в виду, Энн, – пропела Гейл. – Верно? Ну а теперь, мистер Уодли…
Опять этот сдержанный тон профессионала!
– Несколько дней назад, беседуя с мистером Крейгом на ту же тему, я спросила, почему он не поставил ни одного фильма из тех, продюсером которых был, и он ответил, что не считает себя достаточно компетентным и, по его мнению, в Голливуде найдется человек пятьдесят, которые справятся с этой задачей куда лучше его. Можно ли, – продолжала она, невозмутимо взирая на Крейга, так что и ему, и, вероятно, остальным была совершенно ясна та злая игра, которую она ведет в расчете на его молчание в присутствии посторонних, – утверждать, что именно та же достойная восхищения скромность препятствует вам стать за камеру?
– Дерьмо все это, – сорвался Крейг. – Дерьмо! Так и можете передать в каждый американский дом.
– Папа! – потрясенно охнула Энн. – Что это с тобой?
– Ничего. Просто не люблю, когда мне расставляют капканы. Я даю интервью, только когда хочу. Не когда меня загоняют в предлагаемые обстоятельства.
Он вспомнил заглавие статьи, которую собиралась написать о нем Гейл, – «Человек, который иссяк». Жаль, что нельзя рассказать об этом Энн. Как и то, что прошлой ночью он спал с этой невозмутимо улыбавшейся особой в розовом купальнике и, если получится, будет спать и этой.
– Повторяю вопрос, мистер Уодли, – сказала Гейл. – Не может ли быть так, что вы из той же скромности не поставили ни одного своего сценария?
– Черт побери, конечно, нет! Не знай я, что способен на большее, чем девяносто девять процентов этих олухов, мнящих себя режиссерами, просто застрелился бы. Но эти ублюдки, которые правят киностудиями, ни за что не возьмут меня.
– На этом можно и закончить программу, – объявила Гейл в микрофон. – Большое спасибо, мистер Уодли, за откровенное и компетентное обсуждение проблем сценаристов. Жаль, что мистера Крейга неожиданно отвлекли и мы лишились возможности услышать мнение опытного человека, долгое время проработавшего в этой области. Надеемся, что нам повезет и в ближайшем будущем мы сумеем провести с мистером Крейгом, человеком чрезвычайно занятым, побольше времени. С вами была Гейл Маккиннон. Репортаж с Каннского фестиваля.
Выключив диктофон, она улыбнулась широко и невинно:
– Будет день – будет пища. Забавный у вас папа, верно, Энн?
Она принялась укладывать диктофон в футляр.
– Не понимаю тебя, папа, – вторила Энн. – Мне показалось, вы друзья.
Ничего себе друзья!
– Не вижу, какой может быть вред от нескольких слов, – продолжала Энн.
– Молчание – золото, – коротко бросил Крейг. – Когда-нибудь ты это поймешь. Йан, что, по-твоему, хорошего в том, что ты сейчас пел соловьем? И зачем тебе это нужно?
– Как зачем? – удивился Йан. – Тщеславие. Черта, к которой нельзя относиться легко. Ты, разумеется, выше человеческих слабостей.
– Ничего подобного, – рассердился Крейг. Он вступил в спор не ради себя, а ради Энн, чтобы показать ей, что к чему. Он не хотел, чтобы и дочь захватило безумное стремление американцев к рекламе, самовосхвалению, лести, пустой бойкой трепотне по телевидению, трепотне, истинная и крайне серьезная цель которой – продать автомобили, дезодоранты, моющие средства, политиков, лекарства от несварения желудка и бессонницы.
– Йан! – воскликнул он. – Понятно, почему Гейл занимается всей этой бессмыслицей…
– Осторожнее, осторожнее, – издевательски вставила Гейл.
– В конце концов, она этим зарабатывает себе на хлеб, и, вероятно, это ничуть не постыднее нашего способа делать деньги…
– Благослови вас Бог, папочка, – кивнула Гейл.
Крейг твердо решил запереть на ночь дверь и, если понадобится, заткнуть уши ватой. Он с трудом заставил себя оторвать взгляд от прелестного насмешливого лица и вновь обратился к Уодли:
– И зачем тебе понадобилось нести этот бред? Чего ты достиг? Я серьезно. Объясни, может, сумеешь меня убедить?
– Ну, – пожал плечами Йан, – прежде всего до твоего прихода добрая старушка Гейл расхваливала мои книги. Благородная маленькая лгунья нашла для каждого романа доброе слово. Может, ее программа подвигнет хотя бы одного человека зайти в книжный магазин и купить одну или две, а может, и все. А поскольку они вряд ли есть в продаже, может, какой-то издатель решит издать собрание моих сочинений в мягкой обложке? Не будь святее самого папы, Джесс. Ты ведь делаешь картину затем, чтобы люди ее увидели, так?
– Да, – признал Крейг.
– И чем же ты отличаешься от меня?
– Не хотите, чтобы я включила диктофон, Джесс? – вмешалась Гейл. – Всего минута! Можем прямо сейчас начать интервью.
– В последнее время я не продал ни единого фильма, – буркнул Крейг. – Оставьте диктофон в покое.
– А вдруг программу случайно услышит какой-нибудь продюсер или режиссер, – продолжал Уодли, – и воскликнет: «Эй, а я думал, что этот парень давно дал дуба! А раз это не так, может, именно он и напишет сценарий моей следующей картины!» Все мы полагаемся на удачу: ты, я, Гейл, даже эта милая девушка, оказавшаяся твоей дочерью. Одно движение стрелки по шкале приемника может означать жизнь и смерть для кого-то вроде меня.
– И ты действительно этому веришь? – удивился Крейг.
– А во что, по-твоему, я верю? – с горечью бросил Уодли. – В то, что меня вдруг оценят? Не смеши меня!
– Я запоминаю каждое слово, – пригрозила Гейл. – Уверена, это на что-нибудь пригодится. Например, для статьи о вас, Джесс. Известный человек, уклоняющийся от известности. Обязательно спрошу, искренний ли это порыв или хитрый замысел, стремление возбудить к себе интерес, якобы отвергая все предложения, отказываясь от всяких возможностей так называемой рекламы? Не привлекает ли лицо, скрытое вуалью, больше внимания?
– Мистер Уодли прав, – неожиданно решила Энн. – Он написал прекрасные книги, а о нем забыли. И я слушала всё интервью. Он сказал много интересного, это людям следует услышать.
– Я говорила Энн, что вы не желаете ни с кем беседовать, – пояснила Гейл.
– Вижу, вы, девушки, за два часа успели все обсудить, – кисло буркнул Крейг.
– Мгновенная и взаимная симпатия, – улыбнулась Гейл. – В один миг уничтожили пропасть между поколениями двадцати– и двадцатидвухлетних.
– Люди твоего возраста, па, – наставительно начала Энн, – вечно жалуются, что молодежь вас не понимает. Ну вот, ты получил идеальную возможность добиться того, чего хочешь, рассказав ордам людей всех возрастов обо всем, что у тебя на душе, и все-таки отказываешься.
– Я привык самовыражаться в фильмах, а не стирать свое грязное белье на людях, – сухо возразил Крейг.
– Иногда, мистер Крейг, – бесстрастно заметила Гейл, – мне кажется, что вы не слишком хорошо ко мне относитесь.
Крейг встал.
– Я иду в отель. – И, вытащив из кармана несколько банкнот, осведомился: – Сколько ты выпила, Энн?
– Забудь! – величественно взмахнул рукой Уодли. – Я заплачу!
– Спасибо, – кивнул Крейг. Ну да, из тех трехсот долларов, что он дал на поездку в Испанию! – Идешь, Энн?
– Хочу еще раз окунуться.
– Я тоже, – поддержала ее Гейл. – У меня был жаркий день.
– И я с вами, девочки, – присоединился Уодли. – Спасете меня, если буду тонуть. Кстати, Джесс, – добавил он, допивая виски и вставая, – я предложил поужинать сегодня вместе. Встретимся в баре в восемь?
Крейг заметил умоляющий взгляд Энн.
«Все что угодно, – подумал он, – лишь бы не ужинать наедине с папочкой».
– Разве тебе не нужно написать в своем обзоре о вечернем показе? – спросил он Уодли.
– Я прочел пресс-рекламу. Что-то насчет выращивания соколов в Венгрии. Вполне можно пропустить. Не думаю, чтобы мои педики интересовались венгерскими соколами. Если фильм действительно ничего, могу процитировать «Монд». Ну что, увидимся в восемь?
– Посмотрю, что там в программе, – пробормотал Крейг.
– Обязательно придем, – пообещала Энн. – Пойдем нырнем напоследок.
Он смотрел вслед девушкам – высокой и маленькой, энергичным, юным, чьи стройные силуэты четко обрисовались на фоне вечернего неба. Они быстро пробежали по песку и бросились в море. Он с удивлением отметил, что Уодли почти не отстал от них и, вздымая пенные брызги, тоже плюхнулся в воду.
Крейг медленно поднялся с пляжа на набережную и только успел ступить на мостовую, как его едва не сбила машина. Раздался скрежет тормозов, и полицейский заорал на него. Крейг вежливо улыбнулся ему, словно извиняясь за то, что его едва не прикончили.
Беря у портье ключ, он спросил, нет ли ему писем. Ни одного. Клейн не звонил. Крейг твердил себе, что еще слишком рано. В прежние времена, когда Джесс Крейг посылал кому-то сценарий, ответа не приходилось ждать и трех часов.
По дороге к лифту он встретил Рейнолдса со свежей повязкой на голове. Огромный желто-зеленый отек почти закрывал глаз, вся щека в порезах, на которых запеклась кровь, будто его тащили физиономией вниз по битому стеклу.
– Я ищу Гейл, – не здороваясь, выпалил он. – Вы ее видели?
– Плывет в направлении Туниса, – сообщил Крейг. – Как вы себя чувствуете?
– Примерно так же, как выгляжу.
– В кинобизнесе лишняя осторожность никогда не вредит, – посоветовал Крейг и ступил в лифт.
ГЛАВА 12
В любой компании, пусть и самой маленькой, бывает один человек, становящийся ядром притяжения, центром всеобщего внимания, причиной существования этого общества как живого организма, а не просто сборища не связанных между собой эго. В эту ночь таким центром, по мнению Крейга, стала Гейл Маккиннон. Энн, не скрывая, восхищалась ею, живо реагируя на каждое сказанное слово, и обращалась к Гейл куда чаще, чем к остальным, и, даже говоря с Крейгом или Уодли, посматривала на Гейл, словно ожидая ее одобрения или осуждения.
По дороге из отеля в ресторан Крейга забавляло и отчасти раздражало то очевидное обстоятельство, что Энн сознательно или бессознательно подражала деловитой размашистой походке Гейл. Так или иначе, это все же лучше, чем плестись ссутулившись, как обычно делала Энн.
Для Уодли Гейл представляла благодарную аудиторию. Последнее время он явно испытывал недостаток в слушателях и теперь вовсю распустил хвост.
Что же до самого Крейга, он ни за что не пришел бы сюда, если бы не Гейл. Вот так. Именно. Наблюдая за ней, он все отчетливее сознавал, что кино не единственная вещь, к которой его влечет. Он считал, что пришел сюда освободиться раз и навсегда.
Сегодня он в основном молчал, предоставляя беседовать другим. Когда в разговор вступала Гейл, он втайне прислушивался, ожидая намека, понятного лишь им двоим сигнала, осторожного обещания на грядущую ночь, недвусмысленного отказа. Но не дождался ничего.
Он пообещал себе, что завтра же забудет ее в объятиях Констанс.
Уодли по собственному желанию разыгрывал хозяина стола, заказывал вино, советовал девушкам, какие блюда выбрать. Они приехали в старый порт, в тот ресторанчик, где Крейг как-то видел Пикассо. Крейг подумал, что если Уодли и счет оплатит, то вряд ли доберется до Тулона, не говоря уж о Мадриде.
Уодли, как всегда, неумеренно пил, но внешне пока это никак не сказывалось. Сегодня, как ни странно, он был хорошо одет: в безупречный серый костюм, рубашку «оксфорд»[36], туго застегнутую под двойным подбородком. Дополнял наряд полосатый галстук.
На Гейл были розовые обтягивающие чесучовые брюки и тонкая шелковая блузка. Волосы она забрала наверх, и теперь ее головка казалась очаровательно-взрослой, что совершенно не вязалось с хрупкой юной шеей.
Бедняжка Энн напялила отвратительное широкое платье из желтого органди, чересчур короткое для ее длинных ног, что придавало ей неуклюжий, нелепый вид школьницы, неудачно вырядившейся на первый бал.
Ресторан еще не был полон, но Крейг, заметивший таблички на пустых столиках, понял, что скоро здесь будет битком набито. Он надеялся, ради Энн, что один из столиков зарезервирован для Пикассо.
В ресторане появились двое молодых людей, с львенком и «Полароидом», одни из тех, которые работали на набережной Круазетт и в ближайших кафе. Они приблизились было к столику, но Крейг взмахом руки велел им удалиться.
– За такие деньги могли бы избавить нас от львов, – проворчал он.
Но Уодли взял львенка и поставил на стол между Гейл и Энн.
– Снимите их с царем зверей, – велел он. – Я всегда питал слабость к укротительницам львов. Грезил о том, как занимаюсь любовью внутри клетки в кресле с женщиной, обтянутой расшитым блестками трико.
Типичный Уодли! Не постесняется поставить человека в неловкое положение перед собственной дочерью!
Фотограф делал один снимок за другим. Вспышки блица нервировали львенка, и тот тихо рычал. Гейл, забавляясь его детской яростью, погладила малыша.
– Приходи, когда подрастешь, сынок, – попросила она.
– Я где-то слышал, – заметил Крейг, – что они через месяц-другой погибают. Не могут вынести такого обращения.
– А кто может? – вставил Уодли.
– Ну, папа! Не порть веселья! – заныла Энн.
– Я сторонник экологов, – настаивал Крейг. – И хочу сохранить баланс львиного населения во Франции. Каждый год львы должны съедать определенное количество французов.
Фотограф протянул им снимки. Цветные. Темные волосы Гейл и светлая грива Энн составляли пикантный контраст, а рыжеватый львенок, скалившийся между бокалами, смотрелся весьма эффектно. На глянцевитом фото Энн, если не считать цвета волос, казалась поразительно похожей на мать. У Крейга защемило сердце.
Помощник фотографа подхватил львенка, и Уодли, щедро расплатившись, отдал один снимок Энн, а другой – Гейл.
– Когда я окончательно поседею, одряхлею и буду дремать на солнышке в какой-нибудь особенно паршивый день, подзову одну из вас к своему креслу-качалке и попрошу показать мне снимок. Чтобы вспомнить о той счастливой ночи, когда я был молод. Ты заказал вина, папаша?
Уодли как раз наливал вино, когда Крейг увидел входившую в зал Натали Сорель под руку с изысканно одетым мужчиной с серебристой шевелюрой. На взгляд Крейга, спутнику Натали было лет пятьдесят пять – шестьдесят, и это при всех стараниях парикмахера, массажиста и лучших портных. Натали, в платье, специально сшитом, чтобы подчеркнуть ее тонкую талию и изящные бедра, выглядела рядом с ним хрупкой и беззащитной.
Владелица ресторана повела парочку вглубь зала, так что им волей-неволей пришлось пройти мимо столика Крейга. Крейг заметил, как Натали, метнув на него взгляд, поспешно отвела глаза, словно колеблясь: останавливаться или нет. В последнюю минуту она все же решилась.
– Джесс, – выговорила она, удерживая своего спутника. – Рада видеть тебя.
Крейг встал. Уодли последовал его примеру.
– Это мой жених, Филип Робинсон. – Крейг от души понадеялся, что только он один расслышал предостерегающие нотки в слове «жених». – Мистер Джесс Крейг.
Крейг пожал Робинсону руку и представил остальных. Энн встала. Гейл продолжала сидеть. Крейг снова пожалел, что на Энн такое бесформенное платье. Рука мужчины оказалась сухой и гладкой. Он расплылся в неспешной, теплой, типично техасской улыбке человека, большую часть жизни проведшего на свежем воздухе. Совсем не похож на бизнесмена, занятого производством каких-то штучек, как описала его Натали.
– Похоже, Натали в этом городе знает всех и каждого, – покачал головой Робинсон, нежно касаясь руки Натали. – Не успеваю запоминать имена. Я, кажется, видел ваши картины, мистер Крейг.
– Надеюсь, – кивнул Крейг.
– «Два шага до дома», – немедленно напомнила Натали. – Это его последняя картина.
Добрая душа, ей всех хотелось защитить!
– Ну разумеется! – воскликнул Робинсон.
Какой глубокий, уверенный голос!
– Мне очень понравилось.
– Спасибо, – поблагодарил Крейг.
– Я не ослышался? – обратился Робинсон к Уодли. – Вы действительно писатель?
– Был когда-то, – буркнул Йан.
– Не представляете, с каким наслаждением я читал вашу книгу!
– Которую? – безжалостно допытывался Уодли.
Робинсон немного смутился.
– Ну… – промямлил он, – ту, что про мальчика… который вырос на Среднем Западе, и…
– Мой первый роман, – вздохнул Уодли, садясь. – Я написал его в пятьдесят третьем.
– Пожалуйста, садитесь, – торопливо разрешила Натали.
Энн села, но Крейг остался стоять.
– Нравится вам в Каннах, мистер Робинсон? – осведомился он, переводя опасный разговор о литературе на банальную тему туризма.
– Видите ли, я уже бывал здесь, – пояснил Робинсон, – но впервые вижу, так сказать, фестивальную кухню. И все благодаря Натали. Совершенно другое впечатление. – Он отечески похлопал ее по руке.
«Ты даже не представляешь, насколько прав, братец», – подумал Крейг, учтиво улыбаясь.
– Нам пора, милый, – смешалась Натали. – Дама нас ждет.
– Надеюсь, еще увидимся, – пообещал Робинсон. – С вами, мистер Крейг, и вашей прелестной дочерью. С вами, мистер Уодли, и вашей…
– Я не его дочь, – сообщила Гейл, жуя листик сельдерея.
– Она не поддается определению, – враждебно уколол Уодли.
Робинсон, очевидно, не был глуп, потому что лицо его вмиг посуровело.
– Желаю приятного ужина, – обронил он и последовал за Натали к столику, приготовленному для них.
Крейг наблюдал за Натали, проходившей между рядами легким, танцующим шагом, который он будет помнить до конца жизни. Тонкая, элегантная, созданная для того, чтобы радовать мужской глаз, возбуждать мужские желания. Отважная и лукавая.
Неудивительно, что в подобном месте перед глазами всплывают сцены из прошлого, с новой силой возвращается ностальгия, чтобы стать, пусть и ненадолго, частью настоящего. Глядя на Натали Сорель, прелестную и незабываемую, навсегда уходившую от него с другим мужчиной, Крейг гадал, какой каприз судьбы повелел, чтобы сегодня на него предъявила права часть его прошлого, воплощенная в Йане Уодли вместо Натали Сорель?
Садясь, он почувствовал на себе понимающий насмешливый взгляд Гейл Маккиннон.
– «Я не ослышался?» – передразнил Робинсона Уодли, подражая тягучему техасскому выговору. – «Вы действительно писатель?»
– Потише, – предупредил Крейг. – Зал слишком маленький.
– «Не представляете, с каким наслаждением я читал вашу книгу», – с горечью повторил Уодли. – Я пишу вот уже двадцать лет, накропал восемь книг, а он, оказывается, любит мою книгу!
– Успокойся, Йан, – повторил Крейг.
Но вино уже ударило Йану в голову.
– Почему всегда вспоминают о первой? Той, которую я, видите ли, создал, едва научившись писать собственное имя! Мне так осточертело слышать о ней, что, пожалуй, в следующий день рождения устрою ее публичное сожжение на площади.
Он налил полный бокал, расплескивая вино по скатерти.
– Если вам станет от этого легче, – вмешалась Энн, – мой преподаватель английского сказал, что, по его мнению, ваша вторая книга – лучшее из всего, что вы написали.
– Провались он, ваш преподаватель, – отмахнулся Уодли. – Что он понимает?!
– Многое! – вызывающе бросила Энн. Крейга обрадовало, что его дочь обладает одним из редчайших качеств – не пасовать перед авторитетами. – А еще он сказал…
– Что же именно? – полюбопытствовал Уодли. – Умираю от желания поскорее услышать.
– Он считает, что книги, написанные вами после отъезда за границу, довольно неудачные. – Энн вздернула подбородок знакомым с детства движением, когда еще совсем ребенком она упрямилась и своевольничала. – Что вы зарываете свой талант в землю, работаете вполсилы, и вам следовало бы вернуться в Америку…
– Он так и сказал?
– Так и сказал.
– И вы с ним согласны? – ледяным, мертвенно-спокойным голосом вопросил Уодли.
– Абсолютно.
– Ну и провалитесь с ним заодно, – прорычал Уодли.
– Если будешь разговаривать в подобном тоне, – взорвался Крейг, – мы немедленно уходим!
Он знал, что Уодли невыносим во хмелю и в пьяном виде предается самоуничижению, что Энн коснулась самого больного места, но не желал подвергать дочь приступам безрассудной ярости чужого человека.
– Бросьте, Йан, – прошипела Гейл. – Нельзя же воображать, что мы вечно сможем тонуть в любви окружающих! Да будьте же взрослым мужчиной, черт возьми! Оставайтесь писателем, профессиональным писателем, или зарабатывайте на жизнь чем-то еще!
Крейг был уверен, что, произнеси такие слова он, бури бы не миновать. Но Уодли моргнул, тряхнул головой, словно выбираясь на берег из прибоя, и ухмыльнулся.
– Устами детей, – пробормотал он. – Простите, друзья. Надеюсь, вы хорошо проведете время… Хочу еще рыбы. Официант…
Он вежливо махнул рукой официанту, пробегавшему мимо с исходившей паром супницей.
– Закажем суфле на десерт? – спросил он, на глазах превращаясь в гостеприимного хозяина. – Насколько я знаю, против здешнего суфле никто не может устоять. «Гран Марнье» или шоколадное?
* * *
Крейг увидел, как в зал ворвался Мерфи с обычным видом вышибалы, бросившегося разнимать драчунов. Сзади маячили Соня Мерфи, Люсьен Дюллен и Уолтер Клейн.
Ну вот, кочующие племена сошлись, и вожди собрались на переговоры. Слишком долго он жил в Голливуде, чтобы удивиться дружеской встрече людей, которые в обычное время костерят друг друга на чем свет стоит. В этом узком мирке самой жестокой конкуренции нельзя обрывать каналы связи. Можно биться об заклад, Мерфи словом не обмолвится Клейну о том, что читал «Три горизонта», а Клейн не проговорится Мерфи, что сценарий лежит у него на столе. Принцы – народ скрытный и осуществляют рокировку войск только под покровом ночи.
Тем не менее он с облегчением увидел, что хозяйка посадила вновь прибывших у самого входа, довольно далеко от его столика. Давным-давно, когда Уодли еще был в моде, Мерфи согласился стать его агентом. Но когда наступили плохие времена, Мерфи без сожаления бросил Йана, и тот, как нетрудно предположить, не питал к нему с тех пор особой любви. Если бы эти двое сидели рядом, атмосферу вряд ли можно было бы назвать дружеской, тем более что Уодли уже на ногах не держался.
Но к несчастью, Мерфи, имевший привычку обшаривать взглядом любое незнакомое помещение, как корабельный радар, узрел Крейга и, пока остальные устраивались за столом, колобком выкатился в центральный проход.
– Добрый вечер всем, – провозгласил он, улыбаясь девушкам и каким-то непостижимым образом исключая Уодли из сферы своего внимания. – Я звонил тебе сегодня пять раз, Джесс. Хотел пригласить на ужин.
В переводе на обычный язык это означало, что Мерфи позвонил один раз, дождался второго гудка и, не имея что сказать, положил трубку, не потрудившись передать телефонистке, кто звонил. А вполне возможно, он и вовсе не звонил.
– Я ездил в Ниццу, – пояснил Крейг. – Встречать Энн.
– Господи, – охнул Мерфи, – так это Энн! А я все удивлялся, где ты отыскал такую красотку! Стоит только на месяц-другой расстаться с тощей веснушчатой малышкой, и ее не узнать!
– Здравствуйте, мистер Мерфи, – мрачно приветствовала его Энн.
– Соня будет рада на тебя взглянуть, – заявил Мерфи. – Вот что я скажу: почему бы вам с отцом и мисс Маккиннон не поужинать завтра у нас?
– Меня здесь завтра не будет, – признался Крейг. – Уезжаю. – И, заметив вопросительный взгляд Энн, добавил: – Всего на пару дней. Обязательно соберемся, когда я вернусь.
– Зато я не покидаю Канн, Мерф, – вмешался Уодли. – И завтра вечером готов прийти на ужин.
– Как интересно, – бесстрастно заметил Мерфи. – Увидимся, Джесс.
Он повернулся и направился к своему столу.
– Великодушный благодетель богатых, – прошипел Уодли. – Брайан Мерфи, ходячий справочник «Кто есть кто». Слушай, Джесс, – издевательски усмехнулся он, – я рад, что ты еще на коне, то есть еще не вычеркнут из этого справочника.
Он явно собирался распространяться на эту тему, но, увидев, что Мерфи возвращается, заткнулся.
– Джесс, я кое-что забыл сказать. Ты читал сегодняшнюю «Трибюн»?
– Нет, а что?
– Эдвард Бреннер умер вчера. Если верить репортеру, сердечный приступ. Совсем короткая заметка. Все как обычно: «После первого оглушительного успеха его имя исчезло с театральных афиш» и тому подобное. Упомянуто и о тебе.
– И что же пишут обо мне?
– Только что ты вместе с ним ставил его первую пьесу. Достань газету и прочитай сам. У тебя есть его адрес? Я хотел бы послать телеграмму родным.
– Только старый. Утром дам.
– О’кей, – кивнул Мерфи и отошел.
– Он был твоим другом, па? Эдвард Бреннер? – спросила Энн.
– Когда-то.
И снова он ощутил испытующий, внимательный взгляд Гейл.
– Смахните слезу, – призвал Уодли. – Еще один писатель почил. Официант! Encore une boutelle[37]! Выпьем за несчастного ублюдка!
Старый друг… старый враг… теперь всего лишь имя в давно заброшенной адресной книжке… А сам он умер где-то на другом берегу океана. Осталось только соблюсти ритуал, отметить мрачное событие… но Крейг ограничился тем, что поднес к губам бокал с вином, когда Уодли поднял свой и лихо провозгласил:
– За мертвых писателей всего мира.
Наблюдая за собой словно со стороны, Крейг отметил, что ничуть не потерял аппетита и с удовольствием ест суфле. Будь на его месте Бреннер, наверняка проявил бы больше участия, пусть и показного.
Интересно, изменился ли почерк Бреннера за несколько месяцев до кончины?
К концу ужина Уодли окончательно набрался. Он расстегнул воротничок под предлогом, что в ресторане слишком душно, медленно, трижды проверил счет и долго возился с помятыми стофранковыми бумажками, которые по одной доставал из кармана. Вставая, он опрокинул стул.
– Выводите его на свежий воздух, да поскорее, – шепнул Крейг Гейл. – Мы с Энн пойдем поздороваемся с Соней Мерфи.
Но когда они подошли к столику Мерфи, Уодли, несмотря на все усилия Гейл, встал как привязанный за стулом Брайана. Соня радостно приветствовала Крейга и Энн, а Клейн представил их мисс Дюллен, которая с певучим французским акцентом заверила, что давно хотела встретиться с месье Крейгом. Пока Соня расписывала, как счастлива видеть Энн после стольких лет, и приглашала ее в любое время воспользоваться их пляжным бунгало, Уодли, ритмично раскачиваясь на каблуках, громко запел: «Слава вождю!»
Клейн дипломатично притворился, что это его позабавило.
– Не знал, что у вас такой тонкий слух, Йан.
– О, у меня куча талантов, – заверил Уодли. – Мистер Мерфи собирается протолкнуть меня на следующий сезон в «Ла Скала». Не так ли, мистер Мерфи?
– Позвони мне утром, Джесс, – попросил Мерфи, игнорируя Уодли, и снова занялся едой.
– Пойдем, Йан, – прошипел Крейг.
Но Уодли не двинулся с места.
– Мистер Мерфи – великий старый лапочка-антрепренер, верно, мистер Мерфи? Все, что от вас требуется, – выдать бестселлер номер один и фильм, который соберет сорок миллионов долларов, и мистер Мерфи почти наверняка добудет вам контракт на сценарий картины типа «Лесси» или телевизионную рекламу аспирина. Вам не хотелось стать таким же преуспевшим торговцем живым товаром, мистер Клейн?
– Еще бы, Йан! – примирительно воскликнул Клейн. – И вы можете звать меня Уолтером.
– Прекрати, Йан, – резко бросил Крейг.
Уодли почти кричал, и люди за соседними столиками, забыв о еде, стали оборачиваться.
– Так я помогу вам, мистер Клейн, – неспешно и зловеще продолжал Уодли, по-прежнему раскачиваясь. – Подскажу вам секрет ошеломляющего успеха мистера Мерфи. Вы тоже можете разбогатеть и прославиться и приглашать девушек в пляжные бунгало. Дело не столько в том, кого вы представляете, сколько в том, чтобы успеть вовремя отделаться от мертвого груза. Вы должны бросить ненужного человека, пока другие не узнали, что он вышел в тираж. Одна плохая рецензия – и гоните его в шею. Только вы никогда не станете таким экспертом в подобных делах, как мистер Мерфи, потому что у того это в крови. Он настоящий гений в этих вопросах, никому не позволит стать у него на пути. Никому и ничему. Ни дружбе, ни верности, ни таланту. Он словно библейский боевой конь – нюхом чует провал. Телефон разрывается, а его нет. Вот в этом и секрет. Телефон звонит, но вы знаете, что звоню я, поэтому вас никогда нет дома. И то, что вы сделали на мне тысячи и тысячи долларов, тут ни при чем. Вас нет дома, ясно? Помните это простое правило, мистер Клейн, и далеко пойдете. Очень далеко. Не правда ли, мистер Мерфи?
– Убери его, Джесс, – коротко велел Мерфи.
– Пойдем, Йан. – Крейг попытался увести Уодли. – Все тебя поняли, – уговаривал он.
Но Уодли сбросил его руку.
– Видишь ли, я никак не могу застать мистера Мерфи по телефону, поэтому приходится говорить с ним в ресторанах. Мне хотелось бы потолковать с мистером Мерфи о его профессии… о всех сделках, которые он мог бы предложить мне, но не предложил…
Мерфи наконец повернулся.
– Не смеши меня, Уодли, – спокойно ответил он. – Судя по тому, что ты пишешь последние десять лет, я не мог бы тебя даже на собачий корм продать!
Уодли замер. Губы его дернулись. Весь ресторан словно оцепенел. Соня Мерфи наклонила голову, уставясь в тарелку. Люсьен Дюллен слегка улыбалась, будто происходившее ее забавляло. Вероятно, она не совсем разбирала пьяную болтовню Йана и принимала ссору за обычную дружелюбную, хоть и несколько шумную, перепалку. Клейн, ни на кого не глядя, играл с бокалом. Энн оказалась единственной, кто тронулся с места. Охнув, она вылетела из ресторана. Уодли шагнул вперед, словно намереваясь последовать за ней, но неожиданно развернулся и ударил Мерфи. Он целился в голову, но промахнулся и угодил Мерфи в плечо. Тот не шевельнулся. Крейг обхватил Уодли и попытался оттащить.
– Убери этого олуха, Джесс, пока я его не прикончил, – пригрозил Мерфи.
– Я иду домой, – едва ворочая языком, пробормотал Уодли. Крейг осторожно разжал руки. Уодли, двигаясь как механический болванчик, зашагал к двери.
– Сейчас найду такси, – пообещала Гейл, – и отвезу его в отель.
Она поспешила за Уодли.
– Милые у тебя друзья, – заметил Мерфи.
– Он пьян, – смущенно пояснил Крейг.
– Я так и понял.
– Мне очень жаль, – извинился Крейг.
– Ты не виноват, – вступилась Соня. – Так уж вышло. Когда-то он был таким славным.
Выходя на улицу, Крейг услышал, как шум в ресторане вновь поднялся до обычного уровня. Жизнь вернулась в нормальное русло.
ГЛАВА 13
Уодли едва добрался до причала, как его начало выворачивать прямо в воду. Гейл стояла рядом, готовая подхватить его, если он начнет падать в темные волны. В нескольких ярдах от нее переминалась Энн, старательно отводя взгляд. Но Крейг был уверен, что, как бы ни был пьян Уодли, рвет его вовсе не из-за количества выпитого.
Наблюдая, как конвульсивно сотрясаются плечи приятеля, Крейг чувствовал, как остывает его гнев. Он обнял Энн за плечи, чтобы утешить хотя бы ее, и ощутил, что она дрожит.
– Прости, Энн, – прошептал он, – за то, что втравил тебя во все это. Не стоило приходить. Думаю, это последний ужин в обществе мистера Уодли.
– Бедный, бедный, отчаявшийся человек, – вздохнула Энн. – Все так несправедливы к нему.
– Он сам напросился, – возразил Крейг.
– Знаю. Но все равно.
Уодли выпрямился и обернулся, вытирая губы платком.
– Пропал мой стофранковый ужин, – пробормотал он, пытаясь улыбнуться. – Что ж, вечер прошел неплохо. Стоил каждого потраченного франка. Ладно, Джесс, выкладывай, что у тебя на уме.
– Ничего у меня нет, – покачал головой Крейг.
Гейл махнула рукой шоферу такси, делавшему разворот у ресторана.
– Я отвезу вас в отель, Йан, – мягко сказала она.
Уодли послушно позволил увести себя к такси. Дверца захлопнулась, и машина рванулась прочь. Ни намеков, ни тайных знаков.
– Ну, – заключил Крейг, – вот и все.
И тут Энн расплакалась; сухие, тяжелые рыдания словно раздирали ее.
– Полно, полно, – беспомощно повторял он. – Постарайся не думать об этом. Сам он к утру наверняка забудет все, что случилось.
– Не забудет, – выдавила Энн между всхлипами. – Ни за что не забудет. Как могут люди быть так жестоки друг с другом?!
– Еще как могут, – спокойно уверил Крейг. Он не хотел выказывать излишнего сочувствия, боясь вызвать новый приступ слез. – Не принимай близко к сердцу, дорогая. Уодли бывал и не в таких переплетах.
– Никогда бы не подумала, что человек может так себя вести, – удивленно произнесла. Энн, перестав всхлипывать. – Человек, который способен так чудесно писать, который кажется таким уверенным в себе, если судить по книгам…
– Книга – это одно, – возразил Крейг, – а человек, который ее пишет, – совсем другое. Чаще всего книга – маска, а не портрет автора.
– «Когда звонит телефон и вы знаете, что это я, вас никогда нет дома», – повторила Энн. Слезы иссякли, и она вытерла глаза тыльной стороной ладони, как маленькая одинокая девчушка. – Что за ужасная вещь – знать такое о себе. Ненавижу кино, папа! – яростно выкрикнула она. – Ненавижу!
Крейг опустил руки.
– Бизнес как бизнес, никакой разницы. Просто немного более специфичен.
– Неужели никто ничего для него не сделает? Мистер Мерфи? Ты?
Крейг от удивления рассмеялся.
– После сегодняшнего… – начал он.
– Именно из-за сегодняшнего, – настаивала Энн. – Сегодня на пляже он рассказывал, какими хорошими друзьями вы были, как весело проводили время, каким прекрасным человеком он тебя считал…
– Это было сто лет назад. С тех пор много воды утекло. Люди иногда надоедают друг другу. И расходятся. И я впервые слышу, что он считал меня прекрасным человеком. По правде говоря, боюсь, это не совсем точное определение твоего отца.
– Уж хоть ты себя не изводи, – попросила Энн. – Почему только такие люди, как мистер Мерфи, вечно уверены в себе?
– Ладно, – вздохнул он, подхватил ее под руку, и они медленно побрели по набережной.
– Знаешь, ты тоже слишком много пьешь, – заметила она, приноравливаясь к его походке.
– Кажется, да, – признал он.
– Почему люди, которым за тридцать, намеренно стараются себя уничтожить?
– Потому что им за тридцать.
– Не смешно, – резко сказала она.
– Когда не знаешь, что ответить, поневоле приходится шутить.
– В таком случае нечего шутить при мне.
Некоторое время оба молчали; упрек Энн, словно грозовое облако, повис между ними.
– Господи, – наконец пожаловалась Энн, – а я-то думала, что хоть отдохну здесь! Средиземное море, чудесный город, талантливые люди… И ты рядом. – Она печально качнула головой. – Никогда не стоит загадывать заранее.
– Подумаешь, всего один вечер, Энн. Все еще переменится.
– Но ты завтра уезжаешь! И даже не сказал мне! Можно, я поеду с тобой?
– Пожалуй, не стоит.
– Не стану спрашивать почему.
– Меня не будет всего день-другой, – смущенно пробормотал он.
Они снова замолчали, прислушиваясь к тихому плеску волн о борта лодок, пришвартованных к причалу.
– Вот было бы здорово, – заговорила Энн, – сесть в такую лодочку и поплыть не зная куда.
– Тебе-то от чего бежать?
– О, на это есть много причин, – тихо призналась она.
– Хочешь, поговорим?
– Позже. Когда вернешься.
«Женщины любого возраста, – подумал он, – обладают способностью дать мужчине понять, что он гнусно их бросил, даже если бедняге всего-навсего понадобилось выйти на угол за пачкой сигарет».
– Энн, – оживился Крейг, – у меня идея. Пока я буду в отъезде, почему бы тебе не перебраться на мыс Антиб? Пляж там куда лучше, и ты можешь пользоваться домиком Мерфи, и…
– Я не нуждаюсь в опекунах, – отчеканила Энн.
– Я вовсе не это имел в виду, – возразил он, хотя только теперь сообразил, что именно это и было у него на уме. – Просто думал, тебе там больше понравится и будет с кем поговорить…
– Я сама найду, с кем поговорить, – перебила дочь. – Кроме того, я хотела посмотреть как можно больше фильмов. Странно, что я люблю кино. И ненавижу то, что оно творит с людьми, которые его делают.
Автомобиль, проезжавший по набережной, сбавил скорость. В нем сидели две женщины. Одна, та, что была ближе, призывно улыбнулась. Крейг никак не отреагировал, и машина набрала ход.
– Это проститутки, верно? – заинтересовалась Энн.
– Да.
– В храмах Древней Греции, – пояснила она, – проститутки отдавались незнакомым мужчинам перед алтарями.
– С тех пор алтари сильно изменились, – пробурчал Крейг. Гейл предупреждала, что Энн не следует ходить по улицам ночью одной. Ей следовало бы добавить: «Не ходите и с отцом». В конце концов даже проститутки обязаны соблюдать какие-то правила!
– Ты когда-нибудь ходил к проститутке? – не отставала Энн.
– Нет, – солгал он.
– Будь я мужчиной, пожалуй, поддалась бы соблазну попробовать.
– Зачем?
– Только раз, чтобы узнать, каково это.
Крейг вспомнил книгу, прочитанную в молодости. «Юрген» Джеймса Бранча Кабелла. Прочел потому, что в обществе она считалась верхом неприличия. Герой любил повторять: «Меня зовут Юрген, и я пробую каждый напиток всего лишь раз». Бедняга Кабелл, он так уверен в собственной непреходящей славе!
«Скажите черни, я Кабелл бессмертный!» – провозглашал он с высоты, как ему казалось, вечного и надменного величия. Бедняга Кабелл, мертвый, забытый, сброшенный со счетов еще при жизни, теперь мог бы найти утешение в том, что много лет спустя целое поколение живет согласно губительному кредо его героя, пробует любой напиток лишь однажды, любой наркотик лишь однажды, любое политическое убеждение, любую женщину. Любого мужчину…
– Может, – кивнула Энн на удалявшиеся габаритные огни машины, – это помогло бы мне кое в чем разобраться.
– В чем именно?
– В любви, например.
– Ты считаешь, что любовь нуждается в определении?
– Разумеется. А ты так не считаешь?
– В общем, нет.
– Значит, повезло, – констатировала она, – если только ты действительно в это веришь. Как по-твоему, у них роман?
– У кого? – спросил Крейг, прекрасно понимая, кого она имеет в виду.
– У Гейл и Йана Уодли.
– Почему ты спрашиваешь?
– Сама не знаю, – пожала плечами Энн. – По тому, как они ведут себя друг с другом. Словно между ними что-то есть.
– Нет, не думаю.
По правде говоря, он просто отказывался так думать.
– Она современная девушка, эта Гейл, правда, папа?
– Уж и не знаю, что теперь подразумевается под словом «современный», – покачал головой Крейг.
– Сама выбрала себе дорогу, ни от кого не зависит, – перечислила Энн. – Красива – и при этом не задается. Конечно, я только сегодня познакомилась с ней и могу ошибаться, но у меня такое чувство, словно она может заставить людей плясать под свою дудку.
– Думаешь, она мечтала, чтобы Уодли вывернуло наизнанку, и все потому, что он вел себя как последний дурак?
– Возможно, – кивнула Энн. – Подсознательно. Он ей небезразличен, и она хочет, чтобы он сам увидел, в какой зашел тупик.
– По-моему, ты чересчур высокого о ней мнения.
– Вероятно. Все же мне хотелось быть похожей на нее. Видишь ли, «современная» означает, что она знает, чего хочет. И умеет этого добиться. Причем на собственных условиях, – выпалила Энн и, немного помолчав, добавила: – У тебя с ней роман?
– Нет! Откуда ты взяла?
– Просто показалось, – уклончиво обронила она и поежилась. – Становится холодно. Пожалуй, вернемся-ка в отель, и я пойду спать. Слишком насыщенный день.
Но когда они вернулись в отель, Энн решила, что спать слишком рано, и поднялась в номер к отцу, выпить на ночь. Кроме того, она хотела взять у него экземпляр сценария. Крейг, разливая виски с содовой, иронически подумал, что, если Гейл постучит именно в этот момент, они смогут уютно посидеть по-семейному. Можно было бы начать веселье с таких слов: «Гейл, Энн хочет задать вам несколько интересных вопросов».
Гейл, возможно, ответила бы на каждый, и во всех подробностях.
Энн недоуменно разглядывала титульный лист рукописи.
– Кто этот Малкольм Харт? – удивилась она.
– Человек, которого я знал на войне. Он погиб.
– Ты, кажется, сказал, что сам написал сценарий.
– Так и есть.
Он уже жалел, что проболтался по дороге из аэропорта. Теперь приходится объясняться.
– Почему же здесь стоит другое имя?
– Можешь назвать это моим nom de plume.[38]
– Зачем тебе nom de plume?
– По деловым соображениям, – пояснил он.
Энн скорчила гримаску.
– Стыдишься его? – поддела она, постучав пальцем по рукописи.
– Не знаю. Пока не знаю.
– Мне это не нравится, – решительно заявила Энн. – Что-то тут не так.
– По-моему, ты преувеличиваешь.
Он был смущен оборотом, который приняла беседа.
– Это старая и благородная традиция. Вспомни, прекрасный писатель по имени Сэмюел Клеменс подписывал свои работы «Марк Твен».
Судя по неодобрительно поджатым губам, он ее не убедил.
– Я скажу тебе правду, – снова начал он. – Все происходит от неуверенности в себе, а если еще откровеннее – от страха. Я никогда ничего не писал раньше и не имею ни малейшего понятия, хорошо получилось или плохо. Пока кто-то не выскажет своего мнения, я чувствую себя в безопасности, скрываясь под чужим именем. Неужели не понимаешь?
– Понимаю, – кивнула Энн, – но все же считаю, что это неправильно.
– Позволь мне самому судить, что правильно и что неправильно, Энн, – деланно-твердым тоном оборвал он. В конце концов, на этом этапе жизни он не собирается жить по указке своей двадцатилетней дочери, с ее негибкой, стальной твердости совестью.
– Ладно, – обиженно бросила Энн, – если не хочешь, чтобы я говорила все, что думаю, мне лучше заткнуться.
Она положила сценарий на стол.
– Энн, дорогая, – мягко сказал он, – разумеется, я хочу, чтобы мы говорили по душам. В таком случае и я имею право высказать свое мнение. Справедливо?
– Ты считаешь меня наглым отродьем? – улыбнулась Энн.
– Иногда.
– Наверное, так и есть. – Она поцеловала его в щеку. – Иногда. – И, подняв стакан, пожелала: – Будем здоровы.
– Будем здоровы, – эхом отозвался Крейг.
– Ммм, – оценивающе промычала Энн, сделав большой глоток виски. Крейг вспомнил, как любил наблюдать за дочерью в детстве, пока та пила перед сном молоко.
Энн оглядела большую комнату.
– Этот номер, должно быть, ужасно дорогой.
– Ужасно, – согласился он.
– Мамуля все твердит, что ты кончишь дни в богадельне.
– И вероятно, права.
– Она говорит, ты безобразно расточителен.
– Кому и знать, как не ей.
– Она донимает меня расспросами, употребляю ли я наркотики.
Энн, очевидно, ждала подобного вопроса и от него.
– Судя по тому, что я видел и слышал, – объяснил Крейг, – стоит считать само собой разумеющимся, что каждый студент каждого американского колледжа рано или поздно хоть раз да выкурит косячок. Наверное, ты тоже в их числе.
– Наверное, – согласилась Энн.
– Кроме того, я полагаю, ты достаточно умна, чтобы экспериментировать с чем-то более опасным. Вот, собственно, и все. А теперь давай наложим мораторий на упоминание о мамуле, согласна?
– Знаешь, о чем я думала за ужином, глядя на тебя? – неожиданно спросила Энн. – Я думала, какой ты у меня красивый. Густые волосы, ни капли жира и избороздившие лицо следы прожитых лет. Совсем как удалившийся на покой гладиатор, правда, слишком чувствительный, потому что старые раны все ноют.
Крейг рассмеялся.
– Но это благородные морщины, – поспешно заверила она. – Словно весь твой жизненный опыт отражен на лице. Ты самый привлекательный из всех мужчин, которых я здесь встречала…
– Да ты здесь и дня не пробыла, – отмахнулся он, хотя в душе был доволен. Совершенно по-дурацки доволен.
«Погоди, – предостерег он себя, – неизвестно, что будет дня через два!»
– И не только я, – продолжала Энн. – Все женщины в ресторане многозначительно на тебя поглядывали: эта коротышка мисс Сорель, потрясающая француженка-актриса, даже Соня Мерфи! Даже Гейл Маккиннон!
– Должен признаться, я ничего такого не заметил.
Он не рисовался. И до ужина, и после голова была забита совершенно другими проблемами.
– В этом самое главное! – горячо воскликнула Энн. – Ты этого не замечаешь. Я так люблю входить с тобой в комнату, когда все женщины обожающе пялятся на тебя, а ты их будто не замечаешь! Должна признаться… – Она с наслаждением развалилась в мягком кресле. – Никогда не думала, что повзрослею настолько, чтобы разговаривать с тобой в подобном тоне. Ты рад, что я приехала?
Вместо ответа он подошел к ней, наклонился и поцеловал в макушку.
Энн улыбнулась, вдруг став похожей на хорошенького мальчишку.
– В один прекрасный день из тебя получится чудесный отец для одной девушки.
Зазвонил телефон. Крейг глянул на часы. Почти полночь. Он не пошевелился. Снова звонок.
– Не хочешь отвечать? – осведомилась Энн.
– Вряд ли я стану счастливее, если отвечу, – буркнул он, но все же взял трубку. Звонил портье. Он хотел знать, не у него ли в номере мисс Крейг. Ей звонят из Соединенных Штатов.
– Это тебя, Энн. Из Штатов.
Лицо Энн мгновенно погасло.
– Хочешь говорить здесь или в спальне?
Энн, поколебавшись, встала и осторожно поставила стакан на столик у кресла.
– В спальне, пожалуй.
– Переключите на другой телефон, пожалуйста, – попросил Крейг портье.
Энн вошла в спальню и закрыла за собой дверь. Минуту спустя послышались звонок и ее невнятный голос.
Захватив с собой стакан, Крейг вышел на балкон, чтобы ненароком не подслушать, о чем говорит Энн. На набережной было еще полно людей и машин, но холод прогнал завсегдатаев с террасы. Море катило длинные валы, тяжело разбивающиеся о берег; белая пена призрачно светилась в отраженных огнях города.
«Давным-давно Софокл слышал такое на Эгейском море, – подумал Крейг. – И на память ему пришли тяжкие превратности судьбы, властители страданий человеческих».
О каких превратностях судьбы вспомнил бы Софокл сегодня, слушая шум прибоя в Каннах? Кто радуется, кто страдает? Интересно, Софокл – это настоящее имя или он тоже пользовался nom de plume? «Эдип в Колоне» Малкольма Харта, ныне почившего.
Читала ли Пенелопа сегодняшнюю «Трибюн»? Что почувствовала, если вообще способна чувствовать, когда наткнулась на имя Эдварда Бреннера, еще одного умершего писателя?
Уловив стук двери, Крейг вернулся в гостиную. Лицо Энн было по-прежнему мрачным. Она молча подняла стакан и одним глотком осушила.
«Видимо, – заключил он, – не я один в нашей семейке много пью».
– Что-то серьезное? – выдавил он.
– Не совсем, – отнекивалась она, хотя выражение ее физиономии противоречило словам. – Просто парень из моего колледжа.
Она налила себе виски, почти не разбавляя содовой, как заметил Крейг.
– О Господи, ну почему они от меня не отцепятся!
– Не хочешь объяснить подробнее?
– Он воображает, что влюблен в меня. Хочет жениться. – Она со злостью плюхнулась на стул, все еще сжимая ладонями стакан, и вытянула длинные загорелые ноги. – Приготовься принимать гостей. Он заявил, что летит сюда. В наши дни авиабилеты так безобразно дешевы, что просто кошмар. Каждый, кому взбредет в голову, может тебя преследовать. Я просила позволить мне приехать еще и поэтому. Хотела слинять от него. Надеюсь, ты не возражаешь?
– Причина как причина, не хуже остальных, – равнодушно бросил он.
– Мне казалось, я тоже его люблю, – продолжала Энн. – Целый жаркий месяц. Накал страстей и все такое. Мне нравилось с ним спать, возможно, нравится и сейчас. Но замуж… Господи помилуй!
– Я сознаю, что безнадежно отстал от жизни, – возразил Крейг, – но что такого ужасного в желании парня жениться на любимой девушке?
– Все! Вот Гейл Маккиннон не рванула под венец с зеленым недоучкой спортсменом! И не собирается сидеть дома и разогревать в печи полуфабрикаты, дожидаясь, пока дорогой муженек прибудет из офиса пятичасовой электричкой!
– Верно, – признал Крейг.
– Прежде всего я должна стать самостоятельной, – объявила Энн. – Как она. А если потом пожелаю выйти замуж, то выйду за человека, который примет мои условия.
– Неужели замужняя женщина не может сохранить самостоятельность?
– Только не с этим олухом, – отрезала Энн. – И спортсмен-то он никудышный! Ему дали стипендию от футбольного клуба, в старших классах он играл то ли в сборной штата, то ли в какой-то другой кретинской команде или что-то в этом роде, и на первой же тренировке в университете он повредил коленку и даже в футбол теперь играть не способен! Милый мальчик, ничего не скажешь! Ах, может, я и вышла бы за него, будь он умен или хотя бы честолюбив и собирался бы чего-то достичь в жизни. Но его отец торгует зерном и фуражом в Сан-Бернардино. О Боже, Сан-Бернардино! Не дам похоронить себя в какой-то пыльной прерии! Он твердит, что не имеет ничего против, если женщина работает. Пока не появятся дети, естественно. Подумать только, в наше время, когда в мире ежедневно происходит столько всего: войны, революции, безумства с водородной бомбой, убийства негров… женщины наконец решили возмутиться и потребовать, чтобы с ними обращались, как с людьми. Понимаю, я кажусь наивной и глупой, и не знаю, какого черта мне предпринять, но уверена в одном: не собираюсь кончить свои дни, обучая малышей умножению, только потому, что какой-то калифорнийский болван втрескался в меня. Говорю тебе, папа, секс – самая большая ловушка, изобретенная человечеством, и я постараюсь ее избежать. Хуже всего то, что, когда я услышала по телефону его голос: «Энн, я этого не вынесу», – мои внутренности мгновенно превратились в сладкий вязкий сироп. Дерьмо! Мне плевать, даже если он последний нищий, если ходит босиком, лишь бы стремился к чему-то: вступить в коммуну, выпекать соевый хлеб, выставить кандидатуру в конгресс, стать физиком-ядерщиком или путешественником. Конечно, крыша у меня еще не едет, но и не такая уж я мещанка. – Она осеклась и глянула на отца: – Или все-таки мещанка? Ты как думаешь?
– Не похоже, – успокоил Крейг.
– Просто не хочу жить в девятнадцатом веке. Ну и денек! – горько вздохнула она. – Нужно же было ему подсесть ко мне в читалке! К тому же он припадает на ногу из-за своего проклятого колена! Длинные волосы и светлая борода. В наше время по внешности трудно судить о человеке. И теперь он явится сюда и начнет есть меня своими голубыми глазищами, играть чертовыми бицепсами и слоняться по пляжу с видом человека, место которого на мраморном пьедестале где-нибудь во Фракии. И что, по-твоему, мне делать? Бежать?
– Это зависит только от тебя, – пожал плечами Крейг. – Не так ли?
Значит, вот что происходило с ней последние полгода.
Энн почти бросила стакан, расплескав виски по столу, и встала.
– Не удивляйся, если, вернувшись в Канны, увидишь, что меня здесь нет.
– Только оставь записку с адресом, – предупредил он.
– У тебя есть снотворное? – спросила она. – У меня нервы так натянуты, что, пожалуй, не усну.
Современный отец, весь вечер накачивавший дочь спиртным и без всяких комментариев, не моргнув глазом выслушавший ее описание плотских игрищ с молодым человеком, за которого она считает ниже своего достоинства выйти замуж, Крейг безропотно направился в ванную и вернулся с двумя таблетками секонала, гарантировавшего крепкий сон. Сам он в двадцать лет и без всяких таблеток дрых без задних ног даже под бомбежкой и артиллерийским обстрелом. Кроме того, тогда он был девственником. Бессонница – неотъемлемая спутница свободы.
– Возьми. И спокойной ночи, – сказал он, вручая ей таблетки.
– Спасибо, папа, – поблагодарила она, бросая снотворное в сумку и беря сценарий. – Разбуди меня утром перед отъездом. Позавтракаем вместе.
– Это было бы прекрасно, – кивнул он, не упоминая, что за завтраком, кроме них двоих, будет кто-то еще. Или что официант может наградить ее многозначительным взглядом.
Он проводил Энн до двери и смотрел ей вслед, пока она не исчезла в лифте вместе со своими таблетками и проблемами. Даже сейчас она чуть подражала походке Гейл.
Спать ему не хотелось. Он налил себе виски, задумчиво оглядел стакан, прежде чем сделать первый глоток. Неужели Энн права и он действительно много пьет? Ах эта придирчивая молодежь!
Он взял «Три горизонта» и принялся читать. Прочел тридцать страниц, но не увидел в них особого смысла. Вероятно, он слишком часто читал рукопись, и мозг уже отказывается ее воспринимать. Теперь уж совсем трудно сказать, должен он стыдиться своей работы или нет.
Возможно, в этот самый момент Уолтер Клейн в своем замке и Энн наверху, в одноместном номере, читают те же тридцать страниц. Судят его. От этой мысли ему сделалось не по себе.
Крейг заметил, что, пока читал, допил виски. Он снова взглянул на часы. Почти час. А спать по-прежнему не хочется.
Крейг вышел на балкон и поглядел вниз. Вода все прибывала, а шум волн становился громче. Движение на набережной значительно уменьшилось. До него донеслись голоса с американским акцентом, женский смех. Крейг подумал, что женщинам следовало бы запретить смеяться в полночь под окнами одиноких мужчин.
Но тут он заметил Энн, выходившую из подъезда в накинутом на платье из органди плаще. Крейг увидел, как она пересекла улицу. Двое-трое мужчин взглянули на нее, но не остановились. Энн спустилась по ступенькам на пляж. Темная фигурка приблизилась к краю воды, отчетливо видная на фоне освещенных волнорезов. Потом она медленно побрела вдоль берега и исчезла во мраке.
Крейг подавил порыв немедленно броситься за ней. Если бы она хотела быть с отцом, наверняка дала бы знать. Существует определенный предел, за которым нечего и надеяться уберечь свое дитя.
Молодые говорят о себе искренне, бесконечно, с шокирующей откровенностью, но в конце концов оказывается, что ты знаешь о них не больше, чем твой отец в свое время знал о тебе.
Крейг вернулся в номер, взялся за бутылку с виски, и тут в дверь постучали.
На следующее утро он проснулся один, на смятой постели. На столе в гостиной лежала записка, написанная почерком Гейл:
«Ну и какая же подстилка лучше: я или моя мать?»
Он позвонил ей в отель, но телефонистка сообщила, что мисс Маккиннон вышла.
Все эти великие писатели-мачо врут, решил Крейг. Истинным инструментом мести на самом деле является вагина. Женщина делает с мужчиной все, что хочет, а не наоборот.
Он снова поднял трубку и попросил Энн спуститься. Когда она появилась, еще в купальном халате, он так и не сказал, что видел, как она вчера выходила из отеля.
Явившийся с завтраком официант окинул Энн именно тем взглядом, которого и ожидал Крейг. За это он не получил чаевых.
ГЛАВА 14
На повороте «пежо», набитый детьми и идущий со скоростью девяносто миль в час, чуть не столкнулся лоб в лоб с его машиной. Крейг успел увильнуть, едва не влетев в канаву на обочине дороги. После этого он ехал медленно и осторожно, опасаясь всех французов на колесах и уже не любуясь виноградниками и оливковыми рощами, мимо которых проходила дорога, или случайными проблесками моря с левой стороны.
Он не спешил попасть в Марсель. Еще не решил, что сказать Констанс. Если вообще что-нибудь скажет. Не такой уж он хороший актер, чтобы успешно притворяться, будто ничего не произошло. И он совсем не уверен в том, что притворяться так уж необходимо.
Прошлая ночь потрясла его. На этот раз не было ни кокетства, ни отказа. Гейл приняла его нежно, безмолвно, в темноте, под шум моря за окном. Мягкие руки, сладостные губы, легкие неспешные прикосновения. Он совсем забыл, какая кожа у молодых девушек. Ожидал, что она попытается взять над ним верх, алчно высосет силы, начнет грубо командовать, что еще хуже – насмехаться. Вместо этого она была… лучшего определения не подберешь: она отдалась безоглядно. Именно безоглядно.
Где-то в глубине сознания мелькнула мысль: «Лучшего я не испытывал. За всю жизнь».
Он немедленно распознал грозящую опасность. Но все же в какой-то момент среди ночи сказал:
– Я люблю тебя.
И ощутил на ее щеках влагу.
И вдруг утром эта шутка дурного тона, бесцеремонная записка на столе. Кто, черт побери, ее мать?
Подъезжая к Марселю, он еще сбросил скорость.
В отеле его ждала записка от Констанс. Она пообещала вернуться после пяти, она зарезервировала ему соседний номер, она любит его. Портье передал, что звонил мистер Клейн и просил связаться с ним.
Он поднялся вслед за коридорным в свой номер. Смежная дверь между их номерами была открыта. После того как швейцар внес чемодан, а коридорный удалился, он отправился в номер Констанс. На бюро лежали знакомые расческа и щетка, полотняное платье повешено на двери шкафа, чтобы скорее разгладилось. Сами комнаты слишком темные, душные и сплошь заставлены мебелью. Несмотря на закрытые окна, уличный шум доносился и сюда.
Крейг вернулся в свой номер, сел на постель и потянулся к трубке. И уже хотел дать номер отеля Гейл, но тут же спохватился и попросил соединить его с Клейном.
К телефону подошел сам Клейн. Он был из тех людей, которые не отходят от телефона дальше чем на пять шагов.
– Ну, как наш гений? – осведомился он. – И что он делает в Марселе?
– Это всемирный героиновый центр, – сообщил Крейг. – Разве не знали?
– Слушайте, Джесс, – попросил Клейн, – подождите немного, пока я перейду к другому аппарату. Тут полно народу, и…
– Хорошо, – согласился Крейг. У Клейна вечно толчется народ.
Секунду спустя раздался щелчок – Клейн поднял трубку.
– Теперь можно и поговорить, – объявил он. – Вы ведь вернетесь в Канны?
– Вернусь.
– Когда?
– Через пару дней или около того.
– Надеюсь, еще до того, как все начнут сворачивать лагерь?
– Если понадобится, – осторожно откликнулся Крейг.
– Думаю, так будет лучше всего. Послушайте, я прочитал сценарий этого парня, Харта, который вы мне послали. Мне понравилось. Думаю, я смогу кое-что придумать. Прямо сейчас. На этой неделе. Вы заинтересованы?
– Смотря в чем.
– То есть?
– Зависит от того, что вы собираетесь придумать.
– Думаю, у меня есть подходящий актер на главную роль, – сообщил Клейн. – А заодно и режиссер. Не назову его имени, потому что он еще не дал окончательного ответа. Но он читал рукопись. И заметьте, пока никто не заговаривал о деньгах. Кроме того, еще многое нужно обговорить и тому подобное… Словом, вы понимаете.
– Разумеется. Понимаю.
– Итак, я считаю, что игра стоит свеч, если вы поторопитесь с приездом. Но никаких обещаний. Вам и это, надеюсь, понятно?
– Да.
– И еще одно, – продолжал Клейн. – Полагаю, что сценарий требует доработки.
– В жизни еще не видел сценария, который не нуждался бы в доработке, – усмехнулся Крейг. – Бьюсь об заклад, что первый же человек, к которому Шекспир обратился бы с рукописью «Гамлета», наверняка заявил бы, что пьеса требует доработки.
– Не знаю, кто такой этот Харт, но он уж точно не Шекспир, – отрезал Клейн. – И чувствую я, что на этой работе он весь выложился. То есть какой бы режиссер ни согласился ставить картину, наверняка потребует нанять другого сценариста для подготовки второго варианта рукописи. Прежде чем заводить разговор с режиссером, я хотел бы знать, что вы об этом думаете.
Крейг поколебался. Может, сейчас самый подходящий момент признаться, что Малкольма Харта не существует в природе? Но вслух он сказал:
– Мне самому нужно все обговорить с тем, кто согласится ставить картину. Ознакомиться с его идеями.
– Вполне справедливо, – согласился Клейн. – Да, вот еще что: хотите, чтобы я сам сказал Мерфи, что займусь этим дельцем, или возьмете сию нелегкую миссию на себя? Он так или иначе узнает. И скоро.
– Я скажу сам, – вызвался Крейг.
– Прекрасно, – почти обрадовался Клейн. – Но вам нелегко придется.
– Это уж моя забота.
– Ладно, заботьтесь. Смогу я связаться с вами в Марселе, если что-нибудь прояснится?
– Если я куда перееду, то дам вам знать, – пообещал Крейг.
– Не пойму, что вы все находите в Марселе, черт побери, – удивился Клейн. – А мы тут веселимся вовсю.
– Не сомневаюсь.
– Постучите по дереву, чтобы не сглазить, малыш, – велел Клейн и повесил трубку.
Крейг долго смотрел на телефон.
«Кто телефоном живет, от телефона и погибнет», – ни с того ни с сего подумал он. Кажется, ему следовало быть на седьмом небе после такого известия. Но не терять головы. Даже если из этого ничего не выйдет. Все равно рукопись – вещественное доказательство того, что он не зря тратил время.
Он снова поднял трубку и попросил соединить его с «Карлтоном». Энн, должно быть, уже успела прочесть сценарий. Неплохо бы узнать ее мнение. Да и он хорош: бросил ее наедине с проблемами, дожидаться приезда молодого калифорнийца. Тоже еще, любящий отец! Но может, он хотя бы сейчас даст ей полезный совет. Если, конечно, она попросит.
В ожидании звонка он успел побриться и принять душ. Нужно предстать перед Констанс во всем блеске и благоухающим. Это самое меньшее, что он мог сделать.
К телефону пришлось бежать прямо из ванной. Даже вытереться не успел, и вода стекала с него ручьями. Глядя на мокрые отпечатки на выношенном ковре, Крейг подумал, что по крайней мере хотя бы плоскостопия у него нет. Черт, до чего же в неподходящие моменты может прорезаться тщеславие человеческое!
Номер Энн не отвечал. Если она и просит совета, то не у него. Скорее всего у Гейл. Интересно все-таки, что Гейл способна порассказать его дочери?
А если ничего не утаит? И что произойдет, если Энн узнает все? Впрочем, нечего создавать себе трудности заранее.
Он вернулся в ванную и встал под холодную воду, чтобы смыть мыло. Потом наспех вытерся и оделся. И сказал себе, что неплохо бы выпить. Он не позаботился захватить с собой бутылку, так что придется идти в бар. Крейг признался себе, что делает это отчасти из трусости: не хочет встретиться с Констанс в номере. Она наверняка ожидает, что он немедленно потащит ее в постель. «Немедленно» совершенно исключено, по крайней мере сегодня.
Бар был отделан в темно-красных, кровавых тонах. Два маленьких японца в одинаковых черных костюмах, проглядывая толстую пачку отпечатанных на ксероксе бумаг, что-то тихо, серьезно обсуждали на родном языке. Странно, как яростно ненавидел он этих аккуратных вежливых коротышек в молодости. Банзай!
Он допивал вторую порцию виски, когда в баре появилась Констанс. Красный явно не был ее цветом. Он поднялся и поцеловал ее. Волосы Констанс немного взмокли от жары, но ему не следовало бы это замечать.
– Ты ослепительна, – заметил Крейг. Остальное вполне может подождать.
– Добро пожаловать, добро пожаловать, – приветствовала она. В словах прозвучал намек, которого он предпочел бы не понять.
– Хочу «Том Коллинз», – заявила она. – Он знает, как это готовить.
Она показала на бармена. Значит, уже бывала здесь? С кем? Кажется, у нее на щеках дорожки от слез?
Крейг заказал «Том Коллинз» и виски себе.
– Которое по счету? – беспечно поинтересовалась она.
– Всего третье.
Значит, не только Энн волнует, что он слишком много пьет. В следующем месяце придется дать обет трезвости. Ничего, кроме вина.
– Так и знала, что найду тебя в баре, – сообщила она. – Даже не потрудилась спрашивать у портье.
– Ты разгадала меня до конца. Никаких тайн не осталось. Дурной знак.
– У тебя еще полно тайн, – заверила она, – так что не бойся.
Оба были не в своей тарелке. Констанс подняла было сумочку, но тут же поставила и принялась теребить застежку.
– Кстати, что ты делаешь в Марселе? – вспомнил он. Тот же вопрос задал ему Клейн. Неужели все миллионное население города каждое утро спрашивает друг у друга, что они тут делают?
– Один из моих милых Юношей попал в беду. – Слово «Юноша» она почему-то всегда произносила как бы с большой буквы. – Полиция арестовала его в Старом порту с двумя фунтами гашиша в рюкзаке. Я задействовала кое-какие связи, и в Париже мне сказали, что если приеду сама и постараюсь обаять здешних копов, то, вероятно, сумею вызволить идиота из французской кутузки еще до конца века. Я старалась целый день. Расточала улыбки и строила глазки. Отец Юноши пообещал также перевести из Сент-Луиса некоторую сумму в фонд французского управления по борьбе с наркотиками. Господи, мне нужно выпить. И, Господи, как я рада видеть тебя!
Она подалась вперед и стиснула его руку. Какие сильные у нее пальцы! И ладонь гладкая. Сама такая изящная, но сильная и нежная, даже с влажными волосами. Смелое, умное лицо, проницательный, прямой взгляд насмешливых зеленых глаз, казавшихся темными в красном освещении бара. Мужчины готовы на все ради нее – друзья часто твердили это Крейгу. Да и она сама этого не скрывает. И настоящая рабочая лошадка. Тяжелый характер, сияющая улыбка, обидчива и скора на расправу. Рядом с ней мужчине есть о чем призадуматься. Она ничего не принимает как должное. Скольких мужчин уже бросила? Когда-нибудь он обязательно спросит. Когда-нибудь. Но не в Марселе.
Они чокнулись и выпили.
– Ох, сразу полегчало, – выдохнула она после первого глотка. – А теперь расскажи все.
– Не могу, – отказался он, – видишь, кругом японские шпионы.
Пусть хоть шутка поможет отсрочить неизбежное.
Констанс расплылась в улыбке.
– Рад, что приехал? – шепнула она.
– Всю свою жизнь я мечтал встретиться с женщиной в Марселе. Теперь, когда мечта сбылась, давай отправимся куда-нибудь. Если придется торчать здесь два дня, все равно нет смысла оставаться в отеле. Если деньги придут, тебе позвонят.
– Наверное, – нерешительно протянула она.
– Этот отель – настоящая душегубка. И так шумно, что мы ночью не уснем.
– Не знала, что ты еще и спать собираешься.
– Ты прекрасно поняла, о чем я.
– Куда же мы поедем? – улыбнулась Констанс. – Только не в Канны.
– Забудь о Каннах. Я слышал об одном местечке. Деревушка Мейраг. Кто-то мне о ней рассказывал. Замок на холме, превращенный в гостиницу. Можем добраться туда часа за два.
– Ты там бывал уже с кем-то?
– Нет, – честно ответил он.
– Тогда в Мейраг, – решила Констанс.
Они поспешно собрались. На любовь времени не оставалось – и без того они доберутся до Мейрага уже в темноте. Крейг все время боялся, что телефон зазвонит до того, как они успеют уйти. Но опасения оказались напрасными. Гостиничный кассир был не слишком доволен, но не спорил. Привык к внезапным отъездам постояльцев.
– Надеюсь, вы понимаете, – сказал он по-французски, – что мне придется взять с вас за сутки.
– Разумеется, – кивнул Крейг и оплатил оба счета. Самое меньше, что он может сделать для Юноши, попавшего в лапы французской полиции.
Движение было уж очень оживленным, шоссе забито машинами, так что Крейг сосредоточился на дороге и поговорить не представилось возможности, пока они не выбрались из города на северную автостраду, ведущую в направлении Экс-ан-Прованса.
Крейг пытался справиться с терзавшими его мыслями. Верность, родительский долг, карьера, его жена, его дочь, Клейн, Гейл Маккиннон. Мать Гейл Маккиннон. Можно в любом порядке.
Констанс молча сидела рядом. Короткие волосы развевал ветер, на губах играла легкая довольная улыбка, кончики пальцев касались его бедра.
– Люблю путешествовать с тобой, – заметила она. Они вместе побывали в долине Луары, в Нормандии и Лондоне. Недолгие восхитительные поездки. И все было куда проще, чем сейчас. Он сам не понимал, радоваться или огорчаться тому, что она отказалась ехать с ним в Канны.
– Ты говорил с Дэвидом Тейчменом?
– Да.
– Милый человек, верно?
– Очень.
Крейг не сказал ей, что узнал про старика. На марсельском шоссе о смерти упоминать не стоит.
– Я пообещал, что мы еще увидимся. Планы у него пока не определились. – Он поспешил сменить тему: – Знаешь, кое-кто еще заинтересовался сценарием. Я все узнаю поточнее, когда вернусь в Канны.
Он заранее продумывал отходной маневр. Констанс сняла руку с его бедра.
– Ясно, – обронила она. – Что еще? Как твоя дочь?
– Ночи не хватит, чтобы рассказать о ней. Пытается заставить меня бросить кино. Раз и навсегда. Считает, что это изменчивый, жестокий мир, населенный ужасными людьми.
– И как? Удалось ей убедить тебя?
– Не совсем. Хотя в целом я с ней согласен. Это действительно жестокий, изменчивый мир, и люди по большей части в самом деле ужасны. Только этот бизнес не лучше и не хуже других. В армии, например, тебе приходится всего за один день лизать куда больше задниц и напропалую врать, чем за весь год во всех голливудских студиях, вместе взятых. А уж в политике, да что в политике – в торговле мороженым мясом куда больше двуличия, лицемерия и грызни, чем на съемочной площадке. В конце концов, фильм, каким бы он ни был, не может причинить больше вреда, чем генералы, сенаторы и готовые обеды.
– Насколько я поняла, ты сказал ей, что пока не имеешь намерения уйти из кино?
– Что-то в этом роде. Если, конечно, мне позволят остаться.
– И она, наверное, не слишком этим счастлива?
– В ее возрасте, кажется, считают, что быть счастливым – значит предать свое поколение.
Констанс грустно рассмеялась:
– Господи, то же ожидает и меня с моими детишками.
– Не сомневайся, – пообещал он. – Кроме того, моя дочь сообщила, что успела навестить мать. – Он заметил, что Констанс слегка напряглась. – А ее мать, в свою очередь, доложила, что успела навестить тебя.
– О Боже! – пробормотала Констанс. – У тебя, случайно, нигде не припрятано бутылочки?
– Нет.
– Может, остановимся по дороге и выпьем?
– Не стоит.
Констанс чуть отодвинулась от него.
– Не хотела тебе говорить.
– Почему?
– Думала, ты расстроишься.
– Уже расстроился.
– Она красивая женщина, – признала Констанс, – твоя жена.
– И совершила очень некрасивую вещь.
– Наверное, ты прав. Молодежь в моем офисе много чего наслушалась. – Констанс пожала плечами. – Не знаю, что бы сделала на ее месте, если бы прожила с мужем больше двадцати лет, а он бросил меня ради другой женщины.
– Я бросил ее не из-за другой женщины, а из-за нее самой, – уточнил Крейг.
– Женщине трудно в это поверить, – возразила Констанс. – На ее месте и в ее возрасте трудно рассуждать здраво. Она хочет снова заполучить тебя и сделает для этого все.
– У нее ничего не получится. Она оскорбляла тебя?
– Естественно. Давай побеседуем о чем-нибудь другом. В конце концов, мы на отдыхе.
– Мой адвокат говорит, что она угрожает назвать тебя соответчицей на бракоразводном процессе. Вряд ли это случится, поскольку я заплачу ей за молчание, но все же лучше, чтобы ты знала.
– Не стоит тратиться из-за меня, – возразила Констанс. – Мою репутацию уже не испортить.
Крейг ухмыльнулся.
– Как подумаю о бедном французском детективе, который всю ночь проторчал под моим окном, пока мы стонали и бились в порывах жгучей, хотя и не слишком молодой страсти! – с горькой насмешкой выпалила Констанс.
Значит, устроив скандал, его жена все-таки частично достигла цели.
– Ты еще совсем молодая, – заверил он.
– И чувствую себя молодой. Особенно сегодня.
Они миновали дорожный указатель.
– Экс-ан-Прованс, – обрадовалась она. – Придворные менестрели, поющие под звуки лютен. Турниры Любви.
– Я сообщу тебе, если что-то случится, – пообещал он.
– Обязательно. Держи меня в курсе.
Как это ни безрассудно, но она, кажется, во всем винит его. Нет, вполне обоснованно. В конце концов Пенелопа – его жена. За двадцать лет он мог бы научить ее быть вежливой по отношению к его любовницам.
С боковой дороги вывернула машина, и Крейг едва успел нажать на тормоз. Констанс уперлась рукой в приборную доску, чтобы не удариться лицом.
– Хочешь, я поведу машину? – предложила она. – Ты весь день за рулем и, должно быть, устал.
– Я не устал, – коротко бросил он и прибавил скорость, сознавая при этом, что и без того едет слишком быстро. Ощущение отдыха куда-то улетучилось.
Отель располагался в бывшем замке, построенном на лесистом холме. Погода была настолько теплой, что они смогли поужинать под открытым небом, при свечах, на выложенной каменными плитами террасе с видом на долину. Еда оказалась изумительной. Они выпили две бутылки вина и завершили ужин шампанским. В таком месте и после такого ужина начинаешь понимать, почему определенный период жизни нужно обязательно провести во Франции.
Встав из-за стола, они добрели по лесной тропинке, испещренной лунными бликами, до самой деревушки и выпили кофе в крошечном кафе, владелец которого выставил на улицу грифельную доску с меловыми записями результатов футбольных матчей за неделю.
– Даже кофе превосходный, – заметил Крейг.
– И все остальное тоже, – поддакнула Констанс. Она надела голубое полотняное платье, потому что знала, как нравится ему в голубом. – Рад, что оказался здесь?
– Угу.
– Со мной?
– Ну, – протянул он, притворяясь, что тщательно обдумывает вопрос, – раз уж приходится ехать в такое место с женщиной, чем ты хуже любой другой?
– Подумать только, самый милый комплимент, который я слышала за весь день!
Оба рассмеялись.
– Скажи «Мейраг» по буквам, – попросил он.
– Д-ж-е-с-с К-р-е-й-г.
Они снова рассмеялись. Констанс взглянула на доску с цифрами.
– Ну разве не замечательно, что команда Монако выиграла?
– Вот счастье-то.
– Мы, пожалуй, слишком много выпили, не находишь?
– Нахожу.
Крейг жестом подозвал хозяина, возвышавшегося за стойкой.
– Deux cognacs, s’il vous plait.[39]
– Помимо всех прочих добродетелей, ты еще и по-французски говоришь.
– Помимо всех прочих, – согласился Крейг.
– Сегодня ты выглядишь двадцатилетним.
– В будущем году собираюсь голосовать.
– За кого?
– За Мухаммеда Али.
– Пью за это! – воскликнула Констанс.
Они выпили за Мухаммеда Али.
– А за кого будешь голосовать ты? – осведомился он.
– За Кассиуса Клея.[40]
– Пью за это.
Они выпили за Кассиуса Клея.
– Ну не дураки мы? – хихикнула Констанс.
– Выпью-ка я, пожалуй, за это, – решил он и снова подозвал хозяина. – Еще два коньяка, пожалуйста, – попросил Крейг по-французски.
– Красноречиво, красноречиво, – кивнула она.
Крейг пристально посмотрел на нее. Лицо Констанс мгновенно стало серьезным. Она потянулась к его руке, словно стараясь ободрить. Крейг был готов сказать: «Давай останемся здесь на неделю, на месяц… а потом целый год будем странствовать под солнцем по всей Франции». Но он ничего не сказал, только чуть сильнее сжал ее руку.
– Я правильно произношу слово «Мейраг»?
– Никто и никогда не произносил лучше, – заверил он.
Когда они стали подниматься на холм, он попросил:
– Пройди немного вперед.
– Зачем?
– Хочу полюбоваться твоими изумительными ногами.
– Любуйся, – велела она, выполняя просьбу.
Кровать была гигантской. Через открытые окна проникал лунный свет и запах сосен. Крейг лежал на спине в серебристом полумраке и прислушивался к шагам Констанс в ванной. Она никогда не раздевалась при нем.
Хорошо еще, что Гейл не из тех девушек, которые в порыве страсти полосуют ногтями спину мужчины. В свое время ему пришлось походить с такими метками.
Крейг рассердился на себя за подобные мысли. Предательская память, разрушающая радости плоти. Сейчас он был исполнен решимости не поддаваться чувству вины. Сегодняшняя встреча и вчерашняя – вещи разные. Каждой ночи – свое оправдание. Он и Констанс не клялись друг другу в верности.
Она бледной тенью проплыла по комнате и скользнула в постель. Ее тело, знакомое и щедрое… такое драгоценное…
– Наконец-то дома, – прошептал он, отгоняя ненужные воспоминания.
Но позже, когда они отдыхали, она вдруг сказала:
– На самом деле ты не слишком хотел, чтобы я приехала в Канны.
– Верно, – поколебавшись, признал он.
– И не только из-за дочери.
– Не только.
Значит, Гейл все-таки оставила на нем свое клеймо.
– У тебя там есть кто-то.
– Да.
Она немного помолчала.
– Что-то случайное или что-то серьезное?
– Скорее случайное. Правда, не уверен. Во всяком случае, все произошло случайно. Я хочу сказать, что не из-за нее приехал в Канны. И еще несколько дней назад не знал о ее существовании.
Теперь, когда она первая затронула опасную тему, он испытал облегчение оттого, что может выговориться. Слишком она дорога ему, чтобы лгать.
– Сам не пойму, как все вышло, – признался он. – Именно вышло, и все.
– Я тоже не сидела вечерами одна, с тех пор как ты покинул Париж, – вздохнула Констанс.
– Не стану уточнять, что это означает.
– Означает то, что означает, – бросила она.
– О’кей.
– Нас ничто не связывает, – продолжала она, – если не считать того, что мы испытываем друг к другу в данный момент.
– Ты права.
– Не возражаешь, если я закурю?
– Я всегда против, если кто-то курит.
– Обещаю сегодня не заболеть раком.
Она встала, накинула халат и шагнула к комоду. Коротко вспыхнула спичка. Констанс вернулась и села на край кровати. Стоило ей затянуться, как огонек сигареты выхватывал ее лицо из мрака.
– У меня тоже есть новость для тебя. Приберегала ее на потом, но сегодня на меня нашло желание поболтать.
Крейг засмеялся.
– Чему ты смеешься? – удивилась она.
– Сам не знаю. Просто так. Что за новость?
– Я покидаю Париж.
Против всякой логики ему показалось, что удар направлен на него.
– Почему?
– Мы открываем филиал в Сан-Франциско. Последнее время много молодых ездит с Востока к нам и обратно. Обмен стипендиями и все такое. Несколько месяцев мы вели переговоры с местной организацией, и наконец все уладилось. Выбор пал на меня. Стану этаким неофициальным окном на Пробуждающийся Восток.
– Париж без тебя будет уже не тот.
– Как и я без Парижа.
– И как ты к этому относишься?
– К жизни в Сан-Франциско? Красивый город, и, я слышала, культурная жизнь в нем бьет ключом, – иронически пояснила она. – Да и детям это пойдет на пользу. Хотя бы английский подтянут. Должна же мать время от времени заботиться, чтобы дети совершенствовали свой английский!
– Вероятно, – вздохнул он. – Когда собираешься перебраться?
– Этим летом. Через месяц-другой.
– Я потерял еще один дом, – заключил Крейг. – Придется вычеркнуть Париж из своих маршрутов.
– Какая верность! – насмешливо воскликнула Констанс. – А Сан-Франциско, значит, включишь? Говорят, там есть неплохие рестораны.
– Слышал, – отозвался он. – Буду наезжать туда. Иногда.
– Иногда, – повторила она. – Что ж, не может ведь женщина требовать всего сразу, правда?
– Основы продолжают меняться, – вместо ответа сказал Крейг.
Позже, гораздо позже Констанс призналась:
– Не стану притворяться, будто безумна рада тому, что ты сегодня сказал. Но мы уже не дети. Не можешь же ты ожидать, что я устрою тебе сцену или выброшусь из окна и тому подобное, верно?
– Нет, конечно, нет.
– Как уже сказано, особой радости я не испытываю. Но я безумно рада многому другому в наших отношениях. Можешь сделать мне одолжение?
– Разумеется.
– Скажи: «Я люблю тебя».
– Я люблю тебя, – повторил Крейг.
Она затушила сигарету, уронила халат на пол, легла рядом и положила голову ему на грудь.
– Хватит разговоров. Приступ болтливости прошел.
– Я люблю тебя, – прошептал он в ее спутанные волосы.
Они спали едва ли не до полудня и проснулись под звуки птичьего пения. Солнечные брызги расплескались по комнате. Констанс позвонила в Марсель, выяснила, что деньги из Сент-Луиса на выкуп Юноши еще не прибыли, а начальник отдела по борьбе с наркотиками будет только завтра. Они решили остаться в Мейраге еще на день, и Крейг не позвонил в Канны, чтобы сообщить, где находится. Этот день принадлежит им одним.
На следующее утро оказалось, что денег по-прежнему нет. Им было хорошо вместе, и они пробыли в деревушке еще сутки.
Расставаясь с ней в марсельском отеле, Крейг пообещал, что в понедельник поведет ее обедать в Париже. Констанс обнадежила его, что есть все шансы к вечеру вытащить Юношу из тюрьмы. Если же ничего не получится, она вернется в Париж и предоставит беднягу его судьбе. Достаточно она бездельничала на юге. Для работающей женщины такое баловство недопустимо.
ГЛАВА 15
– Черт возьми, Джесс! – орал в трубку Клейн. – Я десять раз пытался до вас дозвониться. Где вы сейчас?
– В Касси, – устало пояснил Крейг.
На обратном пути он решил пообедать и позвонил из портового ресторанчика. Гавань была голубая, нарядная, как игрушка. Сезон еще не начался, и во всем облике городка было нечто сонное, заторможенное, яхты накрыты брезентовыми чехлами. Кажется, все жители отправились обедать.
– Касси, – повторил Клейн. – Как только тебе понадобится кто-то, он тут же оказывается в Касси. Где это чертово место?
– На полпути между Марселем и Каннами. О чем вы хотели со мной поговорить?
– Кажется, я все для вас устроил. Именно об этом и хотел потолковать. Когда вы будете в Каннах?
– Через три-четыре часа.
– Я буду у себя. Весь день с места не тронусь.
– Не сделаете мне одолжение? – спросил Крейг.
– Какое именно?
– Позвоните Мерфи от моего имени и попросите приехать к вам в пять часов.
Крейг почувствовал, что Клейн колеблется. Даже, похоже, поперхнулся: на другом конце провода послышалось нечто вроде кашля.
– Зачем вам понадобился Мерфи? – допытывался Клейн.
– Хочу, насколько это возможно, пощадить его чувства.
– Это что-то новенькое! Клиент, желающий пощадить чувства агента! – фыркнул Клейн. – Мне бы такого клиента.
– Я щажу чувства не агента, а друга, – возразил Крейг.
– Мерфи, разумеется, читал сценарий.
– Разумеется.
– И сказал, что не будет с ним возиться.
– Да.
– Что ж, – нерешительно согласился Клейн, – если вы настаиваете.
– Думаю, так будет лучше для всех. Впрочем, если вы не хотите говорить о делах в присутствии посторонних…
– Черта с два! Да я бы говорил о делах в присутствии хоть самого папы! Я позвоню Мерфи.
– Вот и молодец.
– Конечно, молодец! Несмотря на все злобные сплетни.
– Буду в пять, – пообещал Крейг и повесил трубку.
Он не солгал, утверждая, что хочет позвать Мерфи только из дружеских чувств. Он желал также, чтобы тот присутствовал при начале переговоров. Крейг знал, что он плохой защитник собственных интересов: не любит и не умеет выговорить для себя условия повыгоднее, а Мерфи всегда обеспечивал ему надежную защиту. Кроме того, на этот раз переговоры будут нелегкими. Да, он написал «Три горизонта», вовсе не имея в виду личную выгоду или желание обогатиться, но по собственному опыту многолетней работы в кино знал, что чем больше тебе заплатят, тем легче добиться своего в других вопросах. Хотя старое правило «деньги против искусства» продолжает действовать, Крейг давно обнаружил, что в кино, особенно в его случае, часто применимо другое: «деньги умножают искусство».
Крейг вышел на улицу и сел за столик с видом на гавань. Он оказался единственным посетителем. Как хорошо, спокойно, уютно быть единственным посетителем, смотреть на залитую солнцем голубую воду, думать об обеде и Клейне, который весь день с места не сойдет. Попросив анисовой водки в честь рыбаков и виноделов Касси, он не спеша принялся просматривать меню.
В конце концов он заказал дораду, бутылку белого вина и пригубил водку. Ее лакричный вкус напоминал о близости Средиземного моря, о сотнях таких же томительно-жарких, ленивых дней. Время, проведенное с Констанс, словно исцелило душу, и сейчас Крейг с нежностью думал о ней, хотя знал, что, если когда-нибудь упомянет об этом в ее присутствии, она придет в ярость. Ну и пусть. Люди недостаточно нежны друг с другом. И хотя часто твердят, что любят друг друга, но на самом деле пытаются лишь использовать друг друга, следить друг за другом, довлеть друг над другом, терзать друг друга, уничтожать друг друга, оплакивать друг друга. Они же с Констанс наслаждались друг другом достаточно часто, и слово «нежность» в применении к ним ничуть не хуже любого другого.
Он старался отгонять мысли о Сан-Франциско.
Он сказал Констанс: «Я люблю тебя», – и сказал Гейл Маккиннон: «Я люблю тебя». И в обоих случаях не лгал, и, возможно, испытывал это чувство и к той и к другой одновременно. Сейчас, в солнечном свете и одиночестве, за рюмкой молочно-белого холодного южного напитка все казалось достижимым. И постижимым.
Крейг также не мог не признать, что приятнее всего лениво сидеть на берегу пустынной гавани и сознавать, что такой занятой человек, как Уолтер Клейн, готов звонить десять раз, чтобы застать его, и сейчас с нетерпением ожидает его приезда. Крейг уже думал было, что навеки распрощался с радостью сознания собственной власти, но сейчас с некоторым удовлетворением понял: это не так.
Что ж, после всего случившегося ясно: он не зря приехал в Канны. Оставалось надеяться только, что к тому времени, как он вернется, Гейл уже покинет город.
К дому Клейна он подъехал в начале шестого и сразу увидел стоявшую во дворе машину с водителем. Значит, Мерфи уже здесь. Он не любит водить сам. Три раза попадал в аварии. И как любит говаривать, намек понял.
Мерфи и Клейн сидели у бассейна с подогретой водой. Мерфи что-то пил. В ночь вечеринки, когда Крейг был здесь в последний раз, тут был Сидни Грин, режиссер, которого хвалила «Кайе дю Синема» и который теперь не мог получить работу. Тот, что, помочившись на дорогую газонную траву Уолтера Клейна, вышел из кустов, чтобы поздороваться с Крейгом. «Только для проигравших», – подумал тогда Крейг. Сегодня он еще не стал победителем, но и побежденным себя тоже не чувствовал.
– Привет, парни! – воскликнул он, подходя ближе. – Надеюсь, я не заставил вас ждать.
Он поскорее сел, чтобы им не пришлось решать, подниматься ли ему навстречу.
– Я только что добрался сюда, – возвестил Мерфи. – Пол-унции шотландского назад.
– Я взял на себя смелость вкратце объяснить ему ситуацию по телефону, – вмешался Клейн.
– Ну, – проворчал Мерфи, – если нашелся дурак, готовый вложить миллион баксов в этот сценарий при нынешнем состоянии рынка, флаг ему в руки!
– Откуда ты взял такую сумму? – удивился Крейг. – Миллион долларов!
– Прикинул, во сколько обойдутся съемки. Миллион как минимум.
– Я еще ни с кем не обсуждал финансовые вопросы, – заметил Клейн. – Все зависит от того, как и с кем вы собираетесь его ставить.
– Вы упомянули, что его прочитал режиссер, – сказал Крейг. – Какой именно?
– Брюс Томас, – сообщил Клейн, переводя взгляд с одного собеседника на другого и наслаждаясь минутой своего торжества.
– Если сам Брюс Томас… – немного растерялся Мерфи, – под него получите любые деньги. – И, покачав головой, добавил: – В жизни бы не поверил! Почему ему приспичило делать именно этот фильм? Он никогда ничего подобного не ставил!
– Именно поэтому, – разъяснил Клейн. – Так он и сказал мне. Но, Джесс, он тоже считает, что сценарий требует доработки, и немалой. Как по-вашему, Мерф?
– Точно. Немалой, – подтвердил Мерфи.
– И Томас хотел бы пригласить другого сценариста. Чтобы поработал над ним один. Но если уж так необходимо, можем привлечь и этого парня, Харта. На чем вы с ним порешили, Джесс?
– Ни на чем, – поколебавшись, признался Крейг.
Мерфи испуганно охнул.
– То есть как это «ни на чем»? – удивился Клейн. – Права у вас или нет?
– Сценарий мой, – подтвердил Крейг.
– И?
– Я его написал, собственной старой авторучкой. Малкольма Харта просто нет. Я просто поставил на титульном листе первое попавшееся имя.
– Какого черта ты это сделал? – разозлился Мерфи.
– Слишком сложно объяснять. Так или иначе, что сделано, то сделано. Давайте исходить из этого.
– Томас сильно удивится, когда узнает, – мрачно предсказал Клейн.
– Если ему понравился сценарий некоего Малкольма Харта, понравится и сценарий, подписанный именем Крейга, – рассудил Мерфи.
– Наверное, – с сомнением протянул Клейн. – Но это может повлиять на ход его мыслей.
– Каким образом? – поинтересовался Мерфи.
– Сам не знаю. Каким-то.
– А где Томас? – спросил Крейг. – Может, стоит позвонить ему и пригласить приехать?
– Ему пришлось утром вылететь в Нью-Йорк, – буркнул Клейн. – Поэтому я и названивал вам. Господи, терпеть не могу, когда люди внезапно исчезают из виду.
– Вам еще повезло, – вставил Мерфи. – Не смогли связаться с ним всего один день. Я, бывало, терял его на три месяца подряд.
– Что же, – решился Клейн, – пожалуй, расскажу все как есть. Во-первых, как я уже упоминал, он желает другого сценариста. Ну а теперь держитесь, мальчики. Он требует Йана Уодли.
– О черт, – пробормотал Мерфи.
Крейг рассмеялся.
– Смейся, смейся! – окончательно рассердился Мерфи. – Только сначала представь себя рядом с Уодли!
– Трудно, – согласился Крейг. – А может, и нет. Что побудило Томаса выбрать именно Уодли?
– Я сам его спросил, – развел руками Клейн. – Случайно встретил его, разговорились. Знаете, как это бывает, особенно здесь. Уодли подарил ему свою последнюю книгу. Как-то Томас не мог заснуть и стал ее просматривать. И что-то его зацепило.
– Последняя книга Уодли! – фыркнул Мерфи. – Знаю я ее. Худшие рецензии были разве что на «Гайавату».
– Ты ведь знаешь Томаса, – объяснил Клейн. – Он не читает рецензий. Даже на свои фильмы.
– Идеальный читатель, – пробормотал Крейг.
– Что вы сказали? – переспросил Клейн.
– Так, ничего.
– Так или иначе, – продолжал Клейн, – Томас считает Уодли единственным, кто способен сделать сценарий именно таким, каким он его видит. Уж и не знаю, что ему нужно. Только не вините меня, Джесс. Я тут ни при чем. Я книгу Йана Уодли и за миллион лет не одолею. Вообразите мое положение: клиент желает Уодли, я стараюсь раздобыть Уодли. Откуда, черт возьми, мне было знать, что вы – это и есть Малкольм Харт?
– Понимаю, – кивнул Крейг, – и не виню вас.
– Вопрос в том, что мне теперь сказать Томасу. Может, вы хотя бы потолкуете с Уодли? Пусть прочтет сценарий и выскажет свои соображения.
– Конечно. На этот счет у меня нет возражений, – согласился Крейг. Постепенно идея сотрудничества с Уодли стала казаться привлекательной. Неуверенность, побудившая его прибегнуть к псевдониму, отнюдь не развеялась, даже после того как Томас одобрил сценарий. Не так уж плохо разделить с кем-то ответственность. И Уодли, что ни говори, так и не сумел окончательно пропить и растратить свой талант. По собственному опыту Крейг знал: лишь в крайне редких случаях над сценарием работает всего один человек от начала и до конца.
– Ничего не обещаю, – заявил он, – но с Уодли поговорю.
– И еще одно, – выдавил Клейн. Вид у него почему-то сделался смущенным. – Я, пожалуй, выложу все сразу. Видите ли, Томас сам был продюсером двух своих последних картин. Ему ни к чему второй продюсер, и…
– Если он хочет делать эту картину, – резко перебил Крейг, – ему понадобится второй продюсер. И этот продюсер – я.
– Мерф… – умоляюще начал Клейн.
– Вы слышали, что он сказал, – отрезал Мерфи.
– О’кей, – вздохнул Клейн, – все равно я ничего тут поделать не могу. Думаю, единственный выход – лететь в Нью-Йорк и все обговорить с Томасом. Взять с собой Уодли. Посмотрим, как он сумеет справиться.
Мерфи покачал головой:
– Мне нужно на следующей неделе быть в Риме, а еще через неделю – в Лондоне. Попросите Томаса подождать.
– Можно подумать, вы не знаете Томаса! – воскликнул Клейн. – Он не станет ждать. В январе у него запускается новый фильм, и вся команда должна пахать день и ночь, чтобы к этому времени пленка оказалась в яуфе. Помимо всего, Джесс, ваш сценарий нравится ему еще и потому, что постановочная часть совсем несложная и его можно легко впихнуть в рабочий график.
– Ну как, Джесс? – осведомился Мерфи. – В конце концов, это тебе придется вести все переговоры. Я могу подъехать позже.
– Не знаю, – покачал головой Крейг. – Нужно подумать.
– Я собираюсь звонить Томасу вечером, – сказал Клейн. – Что ему сказать?
– Так и скажите, что я должен подумать.
– Вот уж он обрадуется, – кисло промычал Клейн и встал. – Кто-нибудь хочет выпить?
– Нет, спасибо.
Крейг тоже встал.
– Пора возвращаться в Канны. Поверьте, Уолт, я ценю все, что вы для меня сделали.
– Всего лишь пытался заработать честный доллар для себя и своих друзей, – откликнулся Клейн. – Только никак не возьму в толк, какого черта вы не воспользовались собственным именем.
– Когда-нибудь расскажу, – пообещал Крейг. – Мерф, почему бы тебе не проехаться со мной до Канн? Пусть водитель захватит тебя у «Карлтона».
– Ладно, – со странной покорностью кивнул Мерфи.
Клейн вышел с ними во двор. Мужчины обменялись церемонными рукопожатиями, но тут в доме зазвонил телефон, и Клейн поспешил уйти. Крейг и Мерфи отъехали. За ними следовал водитель в «мерседесе» Мерфи.
Мерфи долго молчал, разглядывая буйную загородную растительность.
Близился вечер, и деревья отбрасывали на землю длинные тени. Крейг тоже не проронил ни слова. Он видел, что Мерфи встревожен и заранее готовится к неприятному разговору.
– Джесс, – тихо выговорил он наконец, – я должен извиниться.
– Не за что извиняться.
– Я просто лошадиная задница. Старая лошадиная задница.
– Брось, – поморщился Крейг.
– Совсем нюх потерял. Гроша ломаного не стою.
– Да перестань ты, Мерф! Всякий может ошибиться. Если бы ты знал о моих промахах!
Он вспомнил Эдварда Бреннера в пустом театре, ночью, после заключительного представления его последней и лучшей пьесы.
Мерфи грустно покачал головой:
– Подумать только, сценарий был у меня в руках и я советовал тебе забыть о нем, а этот чертов сопляк Клейн одним телефонным звонком раздобыл тебе самого крутого режиссера во всем бизнесе! Зачем ты меня вообще держишь, черт побери?
– Ты мне нужен, – бросил Крейг. – Этого тебе достаточно? Мне следовало сказать, что это моя рукопись.
– Какая разница! Хотя это, конечно, свинство – так со мной поступить. После стольких лет!
– У меня своих проблем полно, – отбивался Крейг, – и некоторые тебе известны.
– Угу, – хмыкнул Мерфи. – Особенно одна, с которой я мог бы тебе помочь. Должен был помочь, еще давным-давно. И ничего не сделал.
– Ты о чем?
– О твоей проклятой жене.
– И что бы ты сделал?
– Мог хотя бы предупредить. Я знал, что происходит.
– Я тоже, – пожал плечами Крейг. – В общих чертах. Не сразу. Но знал.
– А пробовал догадаться, почему она это делала? – наскакивал Мерфи. – Ведь она не нимфоманка какая-нибудь, не шлюха. И вполне способна держать себя в руках. Не из тех женщин, которые готовы запрыгнуть в постель к первому попавшемуся парню, который развозит продукты.
– Разумеется, она не такая.
– До тебя еще не дошло, каким образом она выбирала любовников?
– В общем, нет.
– Если тебе это неприятно, Джесс, я заткнусь.
– Неприятно, – подтвердил Крейг, – но продолжай.
– Она всегда спала с твоими друзьями. С людьми, которые восхищались тобой, работали с тобой. С людьми, которыми восхищался ты.
– Не могу сказать, что я в восторге от ее последнего партнера, – буркнул Крейг.
– А ты подумай, – настаивал Мерфи. – Он человек удачливый. Добился успеха как раз в той области, где ты полный профан и к тому же этого стыдишься. Ты обращался к нему за советом. Доверял свои деньги. Понимаешь?
– Некоторым образом, – признал Крейг.
– И все эти люди всегда хотели видеть тебя, слушать тебя. Именно ты был в центре внимания. Она же неизменно оставалась в тени. Существовал только один способ выйти на первый план, и она им воспользовалась.
– И она им воспользовалась, – кивнул Крейг.
– Я давно заметил это, – продолжал Мерфи, – и Соня тоже. Но когда еще можно было что-то предпринять, я держал язык за зубами и оставил тебя наедине с твоими трудностями. И чем я искупил свою вину? – Он снова скорбно покачал головой. – Вместо этого я становлюсь твоей очередной проблемой.
Он выглядел усталым, обмякшим, будто из него выпустили воздух. Съежился на потертом сиденье старого автомобиля и опустил веки, словно вот-вот отключится. Даже голос измученный, а тени пролетающих деревьев еще больше омрачали лицо.
– Никакая ты не проблема, – заверил Крейг. – Ты мой друг и партнер, в прошлом творил для меня чудеса и, надеюсь, еще не раз сотворишь. Не знаю, что делал бы без тебя!
– Агент – вечное посмешище, – жаловался Мерфи. – Я шестидесятилетнее посмешище.
– Никто не считает тебя посмешищем, – отмахнулся Крейг. – Во всяком случае, не я и, уж конечно, не те, кому приходилось вести с тобой дела. Так что оставь это самобичевание.
Он не мог видеть Мерфи в таком состоянии. Мерфи, властного, энергичного, считавшего своим жизненным кредо и смыслом существования решительность, твердость и уверенность в себе.
– Если хочешь, Джесс, – предложил Мерфи, – я отменю встречи в Риме и Лондоне и полечу с тобой в Нью-Йорк.
– Ни к чему, – отказался Крейг. – Пусть подождут, уважать больше будут.
– Только не иди ни на какие уступки, пока я не появлюсь, – предупредил Мерфи уже увереннее. – Не уступай и гребаного дюйма. Дай мне все обдумать до утра. Завтра точно объяснишь, чего хочешь, и мы прикинем, как и сколько можно будет добиться.
– Вот это дело другое, – обрадовался Крейг. – Поэтому я и просил Клейна пригласить тебя.
– Иисусе! – завопил Мерфи. – Меня тошнит при мысли о том, что придется делить комиссионные с этим выскочкой!
Крейг рассмеялся. Мерфи вторил ему, выпрямившись на сиденье. Смех гулким эхом отдавался в маленькой машине.
Но когда они остановились перед «Карлтоном», Мерфи сказал:
– Джесс, у тебя есть еще один экземпляр сценария? Хотелось бы перечитать его. Просто понять, почему я оказался таким дураком.
– Завтра пришлю, – пообещал Крейг. – Передай привет Соне.
Когда Мерфи вышел из «симки» и направился к своему автомобилю, Крейг отметил в нем поистине разительные перемены. Важная походка, повелительный вид… он казался властным, огромным, грозным… горе тому, кто перейдет ему дорогу.
Крейг невольно ухмыльнулся, увидев, как друг втискивается в большой черный «мерседес».
В вестибюле отеля толпился народ: мужчины в смокингах и дамы в вечерних платьях, одетые для вечернего показа в зале фестиваля.
Крейг, по привычке проталкиваясь к стойке портье, огляделся в поисках Гейл Маккиннон. То и дело попадались знакомые лица, и среди них Джо Рейнолдс, но Гейл не видно. Синяки Рейнолдса местами пожелтели, что отнюдь его не украсило. Он что-то горячо говорил Элиоту Стейнхардту. У лифта стоял здоровенный светлобородый парень, и Крейг почувствовал его взгляд. Пока Крейг забирал почту и ключ от номера, парень подошел ближе.
– Мистер Крейг?
– Да.
– Я Бейард Патти.
– Да?
– То есть… я приятель Энн. Из Калифорнии.
– А, здравствуйте!
Крейг протянул руку, и она тут же утонула в медвежьей лапище Патти.
– Очень рад знакомству, сэр, – скорбно пробормотал Патти.
– Где Энн? – осведомился Крейг. – Сейчас отыщем ее и пойдем выпьем.
– Именно об этом я хотел с вами поговорить, мистер Крейг. Энн уехала.
– То есть как это уехала? – встрепенулся Крейг.
– Уехала, и все. Сегодня утром. Оставила мне записку.
Крейг обернулся к портье:
– Моя дочь съехала?
– Да, месье. Сегодня утром.
Крейг просмотрел почту. От Энн ни слова.
– Она оставила свой новый адрес?
– Нет, месье.
– Патти, может, вам она написала, куда едет?
– Нет, сэр. Зовите меня Бейард, пожалуйста. Она просто исчезла.
– Подождите меня здесь, Бейард, – попросил Крейг. – Может, она оставила записку у меня в номере.
Но и там он ничего не обнаружил. Пришлось снова спуститься вниз. Патти торчал около стойки, как огромный, лохматый, верный ньюфаундленд.
– Ну что? – выдохнул он при виде Крейга.
Тот покачал головой.
– Она особенная, – заверил Патти. – Я только вчера приехал. Летел через полюс.
– Думаю, неплохо бы нам выпить, – решил Крейг. Рядом с этим гигантом, шагавшим рядом с ним по коридору, он чувствовал себя настоящим карликом.
На Патти были голубые джинсы, футболка и легкая коричневая ветровка. Он действительно немного прихрамывал, отчего еще более бросался в глаза среди смокингов и драгоценностей.
– Вижу, вы все хромаете, – заметил Крейг.
– О, вы и об этом знаете, – обрадовался Патти.
– Энн сказала.
– А что она еще говорила обо мне? – спросил Патти с детской обидой, совершенно невероятной для мужчины таких размеров и роста.
– Ничего особенного, – дипломатично промямлил Крейг. Не стоит повторять высказывания Энн о бородатом ребенке из Сан-Бернардино.
– Говорила, что я хочу на ней жениться?
– Кажется, да.
– Надеюсь, вы не считаете, что в желании мужчины жениться на любимой женщине есть нечто ужасное или порочное?
– Нет.
– Полет через полюс стоил мне целого состояния, – признался Патти. – А виделся я с ней всего несколько часов: она даже не позволила мне остановиться в том же отеле. И тут – бах, наутро записка, мол, уезжаю, прощай. Как по-вашему, она вернется?
– Понятия не имею.
Все столики были заняты, поэтому пришлось стоять у бара, среди орд жаждущих посетителей. И тут знакомые лица.
– Поверьте, – утверждал какой-то молодой человек, – британский кинематограф подписал себе смертный приговор.
– Наверное, мне следовало надеть костюм, – встревожился Патти, смущенно озираясь. – Такое шикарное место. Костюм у меня есть.
– Совершенно не обязательно, – успокоил его Крейг. – Теперь никто не обращает внимания на одежду окружающих. Всего на две недели здесь собирается истинно свободомыслящее общество.
– Ну да, так я и поверил, – мрачно буркнул Патти и заказал мартини. – С моей ногой одно хорошо: можно пить мартини.
– То есть как?
– Теперь не приходится следить за спортивной формой и тому подобной чушью. Вот что я скажу вам, мистер Крейг: когда я узнал про свое колено, сразу легче стало. Намного. Хотите знать, почему?
– Если вы не против.
Крейг, потягивая виски, заметил, что Патти одним махом ополовинил стакан с мартини.
– Сразу понял, что больше не придется играть в футбол. Зверская игра. А я-то с моими габаритами просто не набрался духу уйти добровольно. И еще: когда я почувствовал, что колено хрустнуло, подумал: «Теперь и во Вьетнам не загребут». Думаете, это непатриотично?
– В общем, нет.
– Когда я вышел из больницы, – продолжал Патти, вытирая тыльной стороной ладони мокрую бороду, – решил, что наконец имею право просить Энн выйти за меня. Теперь между нами уже ничего не стояло. Кроме нее самой, – с горечью добавил он. – Какого дьявола она так настроена против Сан-Бернардино, мистер Крейг? Она вам не говорила?
– Что-то не припомню, – солгал Крейг.
– Она дала мне доказательство своей любви, – воинственно объявил Патти. – Самое убедительное, которое только может дать девушка. Не далее как вчера днем.
– Да, она мне говорила, – промямлил Крейг, хотя упоминание о вчерашнем дне неприятно укололо его. Очень неприятно. Самое убедительное доказательство. А какое доказательство дал он сам вчера днем в Мейраге? Мальчик выражается так, словно принадлежит викторианской эпохе. Почему-то это его тронуло. Энн не была так осторожна в выборе слов, когда затронула эту тему.
– Мне придется вернуться в Сан-Бернардино, – неожиданно выпалил Патти. – Я единственный сын. У меня четыре сестры. Младшие. Мой отец всю жизнь работал как вол, чтобы создать свой бизнес. Он один из самых уважаемых жителей города. И что же, я должен заявить ему: «Ты всю жизнь колотился впустую»?
– Я нахожу ваши суждения совсем неглупыми, – заверил Крейг.
– А Энн другого мнения, – скорбно сообщил Патти.
Он прикончил коктейль, и Крейг повторил заказ, гадая, как лучше избавиться от мальчишки. Если музыка – пища для любви, то Патти – школьный оркестр, играющий школьный же гимн в перерыве футбольного матча. Он невольно усмехнулся.
– По-вашему, я глуп, мистер Крейг? – спросил Патти, заметивший, как дернулись его губы.
– Вовсе нет, Бейард. Просто у тебя и Энн, по-видимому, разные системы ценностей.
– Думаете, она изменится?
– Все люди меняются, – уверил Крейг. – Только не знаю, станет ли она на твою точку зрения.
– Угу. – Патти повесил голову, так что борода веером легла на грудь. – Не хотелось бы говорить это ни одному отцу, но, видите ли, я застенчив и никогда не полезу к девушке первым. Ваша дочь сама со мной заигрывала.
– Вполне возможно, – согласился Крейг. – Вы красивый молодой человек и, насколько я успел заметить, очень приятный…
– Угу, – без особой убежденности подтвердил Патти.
Чтобы немного развеселить его, Крейг добавил:
– Она даже сказала мне, что когда вы гуляете по пляжу, то похожи на мраморную статую из Фракии.
– Что это означает? – с подозрением спросил Патти.
– Это весьма лестный комплимент, – поклялся Крейг, вручая ему второй мартини.
– Что-то мне так не кажется, – фыркнул Патти, сделав глоток. – Дела красноречивее слов, я всегда это говорил. А поступки вашей дочери весьма загадочны, чтобы не сказать больше. А, какого черта… я знаю, как она воспитывалась…
– И как же она воспитывалась, Бейард? – заинтересовался Крейг.
– Модная школа в Лозанне. Уроки французского. Знаменитый отец. Куча денег. Всю жизнь – среди птиц высокого полета. Я для нее, должно быть, мистер Ничтожество. Наверное, мне давно надо было поумнеть. Только стоит мне подумать о ней, и всякое благоразумие куда-то девается. Вы должны, мистер Крейг, иметь хоть какое-то представление: вернется она или нет?
– Даю слово, не знаю, – поклялся Крейг.
– Через неделю мне надо быть в Калифорнии. Еще одна операция на колене. Обещают, что через три месяца смогу ходить нормально. Так что ей не придется выходить за жалкого калеку или что-то в этом роде. Скажи мне кто год назад, что я, Бейард Патти, пролечу шесть тысяч миль над полюсом, чтобы провести неделю с девушкой, я ответил бы, что он спятил. Послушайте, мистер Крейг, кажется, я не могу без нее жить. – В ярко-голубых глазах стояли слезы. – Я чересчур драматизирую, верно?
Он шмыгнул носом и провел по щекам огромной ручищей.
– Немного.
– Но это чистая правда. Она ведь свяжется с вами, верно?
– Рано или поздно.
– Скажете ей, что она должна мне позвонить?
– Обязательно.
– Что вы думаете обо мне, мистер Крейг? Честно. Вы многое успели пережить. Всяких людей повидали. Неужели я так плох?
– Разумеется, нет.
– Да, я не самый умный парень на свете. Но и не последний болван. И не то чтобы я собирался тащить ее вниз. Я бы уважал ее воззрения. И был бы счастлив уважать. Вы были женаты, мистер Крейг. Сами знаете, каково это. Почему брак обязательно должен быть тюрьмой, черт возьми? Это она так говорит.
– Боюсь, мой брак не послужил моей дочери примером, достойным подражания.
– Я знаю, что вы с женой разъехались, – вставил Патти, – и что у вас не слишком хорошие отношения…
– И это еще слабо сказано, – кивнул Крейг.
– Но это еще не означает, что каждый брак должен обязательно развалиться, – не сдавался Патти. – Черт, у моих родителей тоже всякое бывало. Да и сейчас бывает. Послушали бы, что у нас иногда творится в доме! Но и это меня не пугает. Даже появление четырех сестер не испугало…
– Храбрый вы человек, Бейард.
– Мне не до шуток, сэр, – нахмурился Патти.
– Да я и не шутил, – примирительно сказал Крейг. До него только сейчас дошло, как страшен в гневе может быть Патти.
– Так или иначе, – немного успокоившись, буркнул Патти, – если вы замолвите за меня словечко Энн, когда она объявится, буду крайне благодарен.
– Замолвлю, – пообещал Крейг. – Но только время покажет, как она к этому отнесется.
– Вот поговорил с вами, мистер Крейг, и немного легче стало, – вздохнул Патти. – Как будто… как будто рядом с Энн побывал. Не хотел навязываться, но вы оказали бы мне большую честь, поужинав со мной.
– Спасибо, Бейард, – поблагодарил Крейг, чувствуя себя обязанным заплатить давний фамильный долг. – Буду очень рад.
Кто-то тронул его за плечо. Крейг обернулся. Сзади стояла Гейл в том же цветастом платье, которое надевала на вечеринку Клейна. Несколько мгновений они молча смотрели друг на дуга.
– Купите мне чего-нибудь выпить, – попросила она.
– Вы знакомы с Бейардом Патти? – осведомился Крейг. – Гейл Макки…
– Мы встречались, – перебила Гейл. Мужчина, сидевший рядом, сполз с высокого табурета, и Гейл устроилась на его месте, положив сумку на стойку.
– Добрый вечер, мисс Маккиннон, – произнес Патти. – Нас Энн познакомила, – объяснил он Крейгу.
– Понятно, – промямлил Крейг, от всей души желая, чтобы Патти немедленно испарился. – Гейл, что будете пить?
– Шампанское, пожалуйста.
Сейчас Гейл выглядела юной скромницей, никогда в жизни не пробовавшей шампанского и, уж конечно, не способной допрашивать мужчину, перещеголяла ли она свою мать в его постели.
Крейг заказал шампанского.
– Бейард сказал, что Энн сегодня утром уехала. Вы, случайно, об этом ничего не знаете?
Гейл как-то странно посмотрела на него и нервно передвинула сумку по полированному дереву стойки.
– Нет, – выдавила она наконец. – Ничего. Хорошо провели время в Марселе?
– Откуда вы знали, что я был в Марселе?
– Все ваши передвижения отмечены на карте, – сообщила она. – Уолтер Клейн бился в истерике из-за того, что никак не мог разыскать вас.
– Марсель – очаровательный город. Рекомендую обязательно побывать. И время я провел прекрасно.
Гейл пригубила шампанское.
– Собираетесь остаться в Каннах, мистер Патти?
– Просто Бейард, пожалуйста. Не уверен. Я больше ни в чем не уверен.
– Мы с Бейардом ужинаем вместе, – объявил Крейг. – Не хотите к нам присоединиться?
– Жаль, но я жду Ларри Хеннесси. Сегодня показ его картины, и он слишком волнуется, чтобы высидеть до конца. Я пообещала поужинать с ним и позволить поплакаться в жилетку. Может, в другой раз? – спокойно, с намеренным вызовом объясняла она.
– Может, – обронил Крейг.
– После показа он устраивает вечеринку в своем номере. Уверена, что он будет в восторге видеть вас, джентльмены.
– Посмотрим, как сложится, – буркнул Крейг.
– Я готовлю статью о нем. Из той первой, что я пыталась написать, кажется, ничего не выйдет. Ларри такой милый. И искренне рад помочь. – Она снова отпила глоток. – Не то что другие. Их и силой не заставишь слово выдавить. А вот и он! – Она помахала Хеннесси. – О Господи, его уже осадили какие-то зануды. Пожалуй, пойду-ка выручу его. Спасибо за вино.
Она соскользнула с табурета и устремилась к двери, где Хеннесси оживленно беседовал с какими-то дамами и при этом вид имел отнюдь не скучающий.
– Не хотелось бы говорить это, мистер Крейг, – заметил Патти, – и к тому же я только вчера познакомился с этой девушкой, но, мне кажется, она дурно влияет на Энн.
– Они едва знакомы, – отрезал Крейг. – Послушайте, мне нужно принять душ и переодеться. Встретимся в вестибюле через полчаса.
– Как по-вашему, мне тоже надеть костюм? – осведомился Патти.
– Да, – кивнул Крейг. Не одному же ему страдать сегодня. Пусть повесит на свою бычью шею галстук-удавку.
Он заплатил за выпивку и вышел через террасу, чтобы не проходить мимо двери, где Хеннесси весело болтал, обняв Гейл Маккиннон за плечи.
В вестибюль он спустился только через час. Прежде чем начать одеваться, он еще раз просмотрел «Три горизонта». Теперь, зная, что другие люди читали сценарий и он понравился им настолько, что они готовы начать сложный, утомительный процесс воплощения его на экране, он решил взглянуть на свою работу по-новому. И читая, невольно ощущал прежнее волнение. Теперь эти слова больше не были мертвы: совсем скоро они обретут жизнь. В голове вихрем проносились идеи относительно подбора актеров, сценарных изменений и вставок, указаний оператору, определенного музыкального сопровождения некоторых сцен.
Он нехотя оторвался от работы, чтобы побриться, принять душ и переодеться. Нельзя же заставить беднягу Патти, жалкого и несчастного в своем костюме, прождать его всю ночь.
Поведение Энн раздражало его, но не более. Не стоит придавать этому слишком уж большое значение. Она взрослая девушка и вполне способна сама о себе позаботиться. Сам по природе человек нежестокий, Крейг не одобрял жестокости Энн по отношению к Патти. При встрече он обязательно все ей выскажет. Переспать с парнем и исчезнуть на следующее утро! Ну что за чудовищная выходка! Правда, она не первая, кому нравится водить парней за нос. Поддаться соблазну, а потом смыться. Да и мужчины тоже такое проделывают. Если уж на то пошло, и в их семействе такое бывало и до нее.
Он позвонил Клейну и взял у него нью-йоркский адрес Брюса Томаса. Довольный собственным нетерпением, он сообщил, что вылетает на следующий день.
– Вот это я и хотел услышать, – обрадовался Клейн. – Запускайте машину, да побыстрее. Все равно фестиваль почти выдохся. Ничего особенного вы не пропустите.
В трубке слышался нестройный гул голосов – Клейн давал прием. Всеми силами оправдывает пять тысяч долларов арендной платы.
Крейг испытывал невольное благожелательно-дружелюбное чувство к этому человеку. Мир полон полезных людей, и Клейн – один из них. Нужно запретить Мерфи обзывать его маленьким выскочкой.
Он набросал телеграмму Томасу, где сообщал, что вылетает в Нью-Йорк и позвонит, как только самолет приземлится. Он подумал было о том, чтобы телеграфировать и Констанс и отменить назначенный на понедельник обед, но решил позвонить ей утром и все объяснить. Она обязательно поймет и одобрит. Кроме того, от Нью-Йорка до Сан-Франциско ближе, чем от Парижа.
Спустившись в вестибюль, где уже стоял Бейард Патти в синем костюме и галстуке, Крейг отдал телеграмму портье и попросил забронировать на завтра одно место в самолете Ницца – Нью-Йорк.
Слушая их разговор, Патти совсем загрустил.
– Вы улетаете так скоро? А что, если Энн вернется?
– Вы о ней позаботитесь, – улыбнулся Крейг.
– Угу, – без особой убежденности согласился Патти.
Они уселись в машину, и Крейг поехал в Гольф-Жюан, где они поели в рыбном ресторанчике, притулившемся на самом берегу. Море было неспокойным, и волны алчно грызли сваи, на которых был построен ресторан. Патти выпил куда больше, чем следовало, и с каждой минутой становился все более воинственным. К концу обеда Крейг узнал все о его семье, политических взглядах, суждениях о любви и студенческих волнениях.
– Не такой уж я олух-спортсмен, мистер Крейг. Жалобы ребят во многом справедливы. Только я против, когда они захватывают здания, взрывают банки и творят всякие безобразия. Тут мы с Энн полностью согласны. Мой отец считает меня красным психом, но он ошибается. Что мне нравится в отце – так это то, что можно спокойно высказать ему свое мнение и он выслушает и попытается стать на твою точку зрения. Обязательно познакомьтесь с ним, если будете в Калифорнии. Если хотите знать, мистер Крейг, мне повезло с отцом.
Интересно, но он ни разу не сказал, что Энн повезло с таким отцом, как Крейг. Патти видел два фильма Крейга, но отделался учтивыми фразами. Он вообще был вежливым молодым человеком. Крейг уже успел убедиться, что политика политикой, а женитьба на его дочери погубит Бейарда Патти. Но стоит ли говорить об этом мальчику?
Кофе был выпит, а к Хеннесси ехать еще рано. Все равно гости соберутся только к полуночи. К тому же Крейг совсем не был уверен, что хочет туда ехать и что Патти будет чувствовать себя там непринужденно.
– Сколько вам лет? – спросил он, когда они вышли из ресторана и направились к машине. (Патти настоял на том, чтобы заплатить за ужин.) – Чуть больше двадцати одного?
– Ровно двадцать один. А что?
– У вас есть паспорт?
– Зачем он вам? – вспылил Патти. – Хотите проверить?
– Конечно, нет, – засмеялся Крейг. – Просто подумал, что мы могли бы отправиться в казино. Нужно же вам посмотреть местные достопримечательности. Там при входе спрашивают паспорт.
По крайней мере хоть за игорными столами часа на два он будет избавлен от излияний брошенного мальчишки.
– О, простите. Конечно. Он у меня в кармане.
– Хотите пойти?
– А что мне терять?
– Деньги. Только и всего.
В казино Крейг наскоро объяснил парню правила игры в рулетку и, посадив около крупье, отошел к столам, где играли в девятку. С самого приезда в Канны он играл всего однажды. В ту ночь, когда одолжил Уодли триста долларов. В ту ночь, когда Мерфи посоветовал ему не связываться с «Тремя горизонтами». Даже сейчас, вспоминая речь Мерфи, Крейг хмыкнул.
Садясь за стол, он подумал, что, имея в кармане тридцать тысяч франков, можно подурачиться.
Время от времени перед новой партией Крейг подходил к Патти. Перед ним лежала внушительная стопка фишек; видимо, поэтому его глаза напряженно поблескивали. Кажется, он привил парню новый порок! Ну что же, увлекшись прихотями чисел и ставя на красное и черное, он хотя бы на время забудет о тоске по Энн.
На освободившееся место напротив Крейга уселась женщина в белом шелковом платье, обнажавшем плечи и пышную, внушительную грудь. Парикмахер, должно быть, немало потрудился над ее прической, а глаза были сильно подведены. Тонкие, не соответствующие ее комплекции губы на круглом, покрытом толстым слоем косметики лице выкрашены вульгарной ярко-красной помадой. Загорелые дочерна плечи и грудь блестели, словно смазанные жиром. Пальцы с хищными загнутыми алыми ногтями были унизаны бриллиантами, которые Крейг, не будучи специалистом в этой области, принял за настоящие. Она принесла с собой груду фишек с другого стола и, разложив геометрическими узорами перед собой, властно постукивала по ним своими длинными накрашенными ногтями. Потом подняла глаза на Крейга и улыбнулась хитро и холодно.
Теперь он узнал ее. Та самая загоравшая толстуха, мимо которой они с Мерфи проходили по пути в бар. Он вспомнил расплывшийся от пота макияж, неприкрыто-порочное выражение лица, признаки испорченности, себялюбия и, как он тогда подумал, грубости и алчной похоти. Обратная сторона монеты по имени чувственность. Жаль, что она вообще села за его стол.
И разумеется, сейчас начнет выигрывать.
Так и произошло.
После нескольких партий он выбрался из-за стола, прихватив свой выигрыш. Горка фишек перед Патти выросла еще больше. Сам он скорчился на стуле, вперив зачарованный взгляд в вертящийся шарик.
– С меня хватит, Бейард, – окликнул Крейг Патти. – Пойду обменяю фишки. А вы?
Патти ответил не сразу, словно возвращался откуда-то издалека.
– Да-да… – пробормотал он. – Пожалуй, лучше закруглиться, пока я еще не проигрался.
У кассы Крейг увидел, что Бейард выиграл чуть больше тысячи франков.
– Сколько это в долларах? – поинтересовался Патти.
– Около двухсот пятидесяти.
– Вот это да! – пораженно протянул Патти. – Как с неба упало. Что ж, недаром говорят: кому везет в любви…
– А, бросьте, Бейард, – перебил Крейг.
– Так или иначе, хоть поездка частично окупится.
Он тщательно сложил банкноты и спрятал в бумажник из страусовой кожи с золотыми уголками.
– Мне его Энн подарила, – пояснил Патти. – В лучшие времена. На нем мои инициалы.
Они вернулись в отель. По дороге к ним несколько раз приставали шлюхи.
– Омерзительно, – прошипел Патти. – Так открыто, нагло!
Он заявил, что не желает идти к Хеннесси.
– Вы отлично знаете, мистер Крейг, что такие сборища не для меня.
Он проводил Крейга в вестибюль, чтобы узнать, нет ли чего от Энн. Ничего.
– Если я узнаю что-то перед отъездом, – пообещал Крейг, – обязательно позвоню.
Он чувствовал себя неловко в присутствии парня, словно собирался его предать.
– Вы настоящий друг, – неожиданно выпалил Патти. – Я считаю вас своим другом, мистер Крейг.
Крейг долго смотрел вслед гигантской унылой фигуре любовника своей дочери, пока тот, прихрамывая, не исчез в ночи.
«Я исполнил свой отцовский долг, – подумал он. – Вернее, часть долга».
Дверь в «люкс» Хеннесси была распахнута, а нестройный шум голосов доносился даже до вестибюля. Безошибочный признак успеха. Фильм Хеннесси приняли на ура. Кроме того, через открытые двери плыл тоже безошибочно узнаваемый запах марихуаны.
«В мое время, – подумал Крейг, – мы просто напивались». Не это ли профессора социологии именуют современными моральными критериями?
В комнате толпился народ. Мюррей Слоун, критик из киногазеты, отирался у большого стола, уставленного бутылками. Он не курил марихуану и, верный старым традициям, накачивался бесплатным виски. На большом диване в дальнем конце комнаты рядом с героем дня сидела Гейл. Хеннесси, в рубашке с закатанными рукавами и подтяжках, потный, раскрасневшийся, сиял от счастья. Он делил косячок с Гейл, которая выглядела спокойной и отстраненной, словно шум и веселье ее не касались.
– Ну как прошел показ, Мюррей? – спросил Крейг.
– Как видишь. – Слоун обвел стаканом болтавших без умолку гостей. – Просто слюни пускали.
– Именно так и напишешь?
– Ну уж нет. Напишу, что фильм так и лучится неподдельным грубоватым американским юмором и что реакция публики оправдала все надежды продюсеров. И что Хеннесси – бесспорный кандидат на высшую премию.
Слоун картинно пошатнулся, и Крейг понял, что выпито больше чем достаточно.
– И уж конечно, умолчу о том, что денег, потраченных сегодня на гашиш, вполне хватило бы на малобюджетный порнографический фильм. И о том, что, если бы не дармовая выпивка, ноги бы моей не было ни на одном фестивале. А как ты, друг мой? Соизволишь сообщить мне новости, достойные моего пера?
– Нет, – отмахнулся Крейг. – Ты не видел Йана Уодли?
– Нет. Мой старый собутыльник. Встревожен его отсутствием. Кстати, слышал о его неприятностях. Насчет стычки с Мерфи в ресторане. Наверное, уполз в какую-нибудь дыру и заткнул за собой лаз.
– Кто тебе рассказал? – резко спросил Крейг.
– Сорока на хвосте принесла, – сообщил Слоун заплетающимся языком. – Мистраль нашептал.
– Ты что-нибудь успел написать? – не унимался Крейг.
– Я не веду светскую хронику, – с достоинством сообщил Слоун. – Таких писак и без меня сколько угодно.
– А что-нибудь появлялось в колонках светской хроники?
– Насколько я знаю, нет. Правда, я ее не читаю.
– Спасибо, Мюррей.
Он отошел от критика. Не для того он пришел сюда, чтобы тратить время на Слоуна.
Крейг стал протискиваться туда, где сидели Гейл и Хеннесси, и едва не наткнулся на итальянского актера Корелли, по-мальчишески усевшегося на пол вместе со своими неизбежными спутницами и щерившего зубы в улыбке. Крейг так и не припомнил, видел ли он раньше именно этих девиц. Корелли пустил свою сигарету по кругу. Одна из девушек пробормотала, затягиваясь:
– Настоящий марокканский рай.
Крейг споткнулся о вытянутую ногу Корелли, и тот, мило улыбаясь, предложил:
– Присоединяйтесь к нам, мистер Крейг. Пожалуйста. У вас лицо simpatico[41]. Правда, девушки?
– Molto simpatico[42], – подтвердила одна из девиц.
– Извините, – кивнул Крейг, боясь наступить на кого-нибудь и продолжая пробираться к Хеннесси и Гейл Маккиннон.
– Поздравляю, Хеннесси, – сказал он. – Я слышал, вы сегодня всех убили.
Хеннесси просиял, попытался встать, но тут же свалился обратно.
– Сегодня я обессмертил себя. Раздвиньте ряды, дайте место новому Сесилу Б. де Миллю. Ну разве не чудесная вечеринка? Выпивка, гашиш и слава вместе с поздравлениями дирекции.
– Привет, Гейл, – сказал Крейг.
– Как, сам Малкольм Харт, чтоб мне провалиться! – обрадовалась Гейл. Крейг так и не понял, пьяна она или обкурилась.
– Что-что? – воинственно вскинулся Хеннесси. – Разве я приглашал кого-то еще?
– Это мы с Гейл так шутим, – пояснил Крейг.
– Классная девка! – объявил Хеннесси, похлопав Гейл по руке. – Пила весь вечер со мной наравне, пока на Лазурном берегу решалась моя судьба. Интересовалась моей прежней жизнью. Начиная с доисторической эпохи. Боксер-любитель, водитель грузовика, каскадер, вышибала в бильярдной, бармен, рекламный агент… кем еще я был, дорогая?
– Гаражным механиком, рабочим на ферме…
– Верно, – расплылся в улыбке Хеннесси. – Узнала всю мою подноготную. Идеальная американская посредственность. Я знаменит, и она собирается сделать меня еще более знаменитым, не так ли, дорогая?
Он передал сигарету Гейл, и та, прикрыв глаза, глубоко затянулась.
«Такое веселье не для меня», – подумал Крейг.
– Спокойной ночи, – пожелал он, когда Гейл, открыв глаза, медленно выпустила сладковатый дым. – Хотел только сказать вам, что завтра улетаю в Нью-Йорк.
– Непоседа путешественник, – хмыкнула Гейл, отдавая сигарету Хеннесси. – Доброй ночи, путешественник.
Утром его разбудил телефонный звонок. Крейгу показалось, что он вовсе не спал или видел один из тех снов, когда человеку кажется, что он бодрствует, хотя на самом деле он спит. Он нашарил в темноте телефонную трубку.
– Я стучала и стучала, – прошептала Гейл, – но никто не ответил.
Судя по голосу, она тоже явилась ему во сне.
– Который час?
– Три часа утра, и все прекрасно. Я сейчас поднимусь.
– Не стоит.
– Я плыву, плыву, – пропела Гейл. – И умираю от похоти. Жажду прикосновения губ моей единственной любви.
– Ты просто обкурилась, – возразил он.
– Восхитительно обкурилась, – хихикнула Гейл. – Восхитительно похотлива. Оставь дверь открытой.
– Иди домой и ложись спать, – велел он.
– У меня с собой косячок. Восхитительное марокканское зелье. Оставь дверь открытой. Мы вместе уплывем в восхитительный марокканский рай.
Крейг поколебался. Он уже успел прийти в себя. Знакомый мечтательно-ласкающий голос волновал, тревожил, вкрадчиво проникая в электрическую сеть его нервов.
Гейл снова хихикнула:
– Ты поддаешься! Моя истинная любовь смягчилась. Я уже иду.
Послышался щелчок.
Крейг на минуту задумался, вспоминая, как любил ее в ночи. Нежная молодая кожа. Мягкие дерзкие руки. В первый и последний раз он узнает о наркотиках то, что уже успел узнать весь мир. И как бы там ни было, Гейл в эту минуту, несомненно, счастлива. И если он сумеет разделить с ней этот секрет и ослепительное счастье, пусть всего на час-другой, кому от этого будет хуже?
Через двадцать часов он окажется на другом континенте. И никогда больше не увидит ее. Завтра для него начнется другая, упорядоченная жизнь. Всего одна ночь, чтобы насладиться прелестями хаоса. Если он не откроет дверь, его ждет злая бессонница.
Крейг встал с постели, подошел к двери, повернул замок. И, как был обнаженный, вновь растянулся поверх простынь. Выжидая.
Наконец он услышал шум. Услышал шаги.
– Шшш, моя истинная любовь, – прошептала она.
Крейг лежал неподвижно, прислушиваясь к шелесту одежды. И на миг увидел ее лицо, когда вспыхнула спичка.
Она подошла к кровати, легла, не касаясь его, но тут же села, подложила под спину подушку. Крошечная точка света становилась все больше по мере того, как она втягивала дым восхитительного марокканского зелья. Она протянула ему сигарету.
– Задержи дым, сколько можешь, – прошептала она своим мечтательным, дремотным голосом.
Он бросил курить больше десяти лет назад, в один день, но еще не разучился затягиваться.
– Восхитительно. Мой восхитительный мальчик.
– Как звали твою мать? – вырвалось у него. Он должен узнать, прежде чем травка подействует. Уже первая затяжка затуманила мозг.
– На пяти саженях глубины моя мать[43], – хохотнула она и, потянувшись за сигаретой, коснулась его руки. Ему почудилось, что тело овевает ласковый теплый ветер. Слишком поздно для вопросов.
Вместе они медленно прикончили косячок. Комнату заволокло дымом. Шум прибоя за окном звучал ритмичной, успокаивающей музыкой, соборным органом. Она легла рядом, коснулась его, и они стали любить друг друга, бесконечно, неустанно. Она вдруг стала всеми девушками, всеми женщинами этого южного побережья: той похотливой толстухой с бесстыдно расставленными ногами, лежавшей ничком на солнце, молодой блондинкой-матерью у бассейна, всеми подружками Корелли, золотистыми и теплыми, как свежеиспеченный хлеб, танцующей белогрудой Натали Сорель и Констанс, произносящей по буквам слово «Мейраг».
Потом… после они не спали. Не разговаривали. Просто лежали бок о бок в некоем чудесном волшебном трансе. Но когда сквозь жалюзи проникли первые рассветные лучи, Гейл пошевелилась.
– Мне нужно идти.
Голос ее звучал почти нормально. Если бы ему пришлось что-то сказать, его голос звучал бы словно из невероятного далека. Сейчас ему было все равно, уйдет она или останется. Кто бы ни ушел и ни остался. Сквозь наплывающую дымку он наблюдал, как она надевает платье. Ее нарядное платье.
Она наклонилась и поцеловала его:
– Спи. Спи, моя истинная любовь.
И она исчезла. Он помнил, что должен задать ей вопрос, но забыл, какой именно.
ГЛАВА 16
Он почти закончил сборы. Вещей он привык брать мало и мог уложиться в четверть часа. Он заказал звонок в Париж, но телефонистка предупредила, что все линии заняты. Он попросил, чтобы она все же попробовала пробиться.
Когда телефон все же зазвонил, он без особого энтузиазма поднял трубку. Ему не очень-то улыбалось объяснять Констанс, что он все-таки не сумеет повести ее обедать в понедельник. Но это оказалась не Констанс, а Бейард Патти, говоривший таким сдавленным голосом, словно кто-то душил его.
– Я в вестибюле, мистер Крейг, – сообщил он, – и должен немедленно поговорить с вами.
– Я как раз укладываюсь, и к тому же…
– Говорю же, что это необходимо, – выдохнул Патти. – У меня новости об Энн.
– В таком случае поднимайтесь, – сдался Крейг и назвал номер своего «люкса».
За одну ночь с Патти произошли удивительные перемены: вид у него был дикий, волосы и борода всклокочены, глаза налиты кровью, будто он несколько суток не спал.
– Ваша дочь! – завопил он тоном обвинителя. – Знаете, что она натворила? Сбежала с этим жирным старым пьяницей Йаном Уодли!
– Погодите, – пробормотал Крейг, садясь. Бессознательная реакция, попытка соблюсти хотя бы видимость здравомыслия и приличия. – Этого не может быть. Невозможно.
– Это вы так говорите. – Патти стоял над ним, конвульсивно сжимая и разжимая кулаки. – Вы же словом с ней не обмолвились.
– Откуда она звонила?
– Не сказала, хоть я и спрашивал. Заявила только, что между нами все кончено, посоветовала забыть ее. У нее, мол, другой. Этот старый жирный пьянчуга…
– Погодите минуту.
Крейг встал и направился к телефону.
– Кому вы звоните?
Крейг попросил телефонистку дозвониться до отеля Уодли.
– Успокойтесь, Бейард, – велел он, ожидая, пока его соединят.
– Легко вам говорить! Вы ее отец! И что, тоже спокойны?
Патти устремился к нему и встал рядом, словно не доверяя тому, что может наговорить Крейг, и желая собственными ушами услышать все, что будет сказано.
Когда телефонистка в отеле Уодли ответила, Крейг попросил:
– Monsieur Wadleigh, s’il vous plait.[44]
– Monsieur Wadleigh n’est pas la[45], – ответила женщина.
– Что она говорит? – громко осведомился Патти.
Крейг жестом велел ему замолчать.
– Vous etes sure, madame?[46]
– Oui, oui, il est parti[47], – нетерпеливо бросила телефонистка.
– Parti ou sorti, madame?[48]
– Parti, parti, – зачастила она, повышая голос. – Il est parti hier matin.[49]
– A-t-il laisse une adress?[50]
– Non, monsieur, non. Rien! Rien![51]
К этому времени женщина уже кричала. Фестиваль весьма отрицательно действовал на гостиничных телефонисток. Эта просто бросила трубку.
– Ну и что все это значит? – допытывался Патти.
Крейг глубоко вздохнул.
– Уодли съехал вчера утром, не оставив адреса. Это весь твой урок французского на сегодня.
– И что вы намерены делать? – не отступал Патти. Вид у него был такой, словно сейчас набросится на кого-то.
«Наверное, на меня», – подумал Крейг.
– Собираюсь уложить вещи, – объяснил он, – заплатить по счету, добраться до аэропорта и улететь в Нью-Йорк.
– Вы не станете искать ее? – ошеломленно охнул Патти.
– Нет.
– Да что же вы за отец в таком случае?
– Отец как отец. Насколько я понимаю, вполне типичный для нашего времени.
– Будь я ее отцом, нашел бы гада и удавил собственными руками.
– Должно быть, у нас разные взгляды на родительский долг, Бейард, – возразил Крейг.
– Это вы во всем виноваты, мистер Крейг! – с горечью бросил Патти. – Вы разлагали ее. Собственным примером. Бросаете деньги налево и направо, словно они на деревьях растут. Бегаете за молоденькими девчонками… думаете, я ничего не знаю об этой цыпочке Гейл Маккиннон…
– Довольно, Бейард, – велел Крейг. – Конечно, сам я не могу с тобой справиться и выкинуть отсюда, но, думаю, за меня это охотно сделает полиция. И даже очень маленький французский полисмен может сделать жизнь очень большого американца не слишком приятной.
– Не стоит угрожать мне, мистер Крейг. Я ухожу. Не беспокойтесь, я вас не потревожу. Вы мне отвратительны. Как и ваша дочь. – Он шагнул было к порогу, но круто развернулся. – Еще один вопрос. Вы счастливы, что она удрала с этим старпером?
– Нет. Отнюдь нет.
Пожалуй, не стоило напоминать Патти, что Йан Уодли намного моложе Джесса Крейга.
– И мне вас жаль, Бейард. Честное слово. Думаю, лучше всего последовать совету Энн и забыть о ней.
– Забыть о ней… – Патти грустно покачал головой. – Легко сказать. Я не сумею это сделать, мистер Крейг. Слишком хорошо знаю себя. Просто не сумею. Не знаю, смогу ли жить без нее.
Его лицо исказилось, из груди вырвалось нечто вроде рыдания.
– Как вам это нравится, – пристыженно прошептал он, – я плачу.
Он вылетел из комнаты, с силой хлопнув дверью.
Крейг устало провел рукой по глазам. Он гляделся в зеркало, пока брился, и видел, что выглядит ничуть не лучше Патти.
– Сукин сын! – громко произнес он. – Жалкий сукин сын!
Он имел в виду не Бейарда Патти.
Крейг вернулся в спальню и возобновил сборы.
При регистрации в аэропорту служащий сообщил, что отправление самолета задерживается на час. При этом он любезно улыбался, словно преподносил Крейгу величайший дар. Лишних шестьдесят минут в условиях французской цивилизации.
Крейг подошел к телеграфному окошечку и послал Констанс телеграмму с извинениями. Он как раз составлял телеграмму своей секретарше с просьбой встретить его в аэропорту Кеннеди, когда за спиной раздался голос Гейл:
– Доброе утро.
Он обернулся. Она стояла рядом, в голубой рубашке с короткими рукавами и белых облегающих джинсах. Лицо скрыто за неестественно огромными зелеными очками, похожими на те, что она носила в первое утро и выбросила в окно машины, когда они возвращались из Антиба. Наверное, она закупает их оптом.
– Что ты здесь делаешь? – удивился он.
– Провожаю друга, – улыбнулась Гейл и, сняв очки, принялась беззаботно крутить их за дужку. Такая свежая, ясноглазая. Должно быть, только выкупалась в море. Превосходная реклама достоинств марихуаны.
– Портье сказал, когда улетает твой самолет. Времени у тебя осталось немного.
– Портье ошибся. Вылет откладывается на час.
– Единственный драгоценный час, – издевательски обронила она. – Добрая старая Франция. Всегда дает время попрощаться. Выпьем?
– Если хочешь, – кивнул он. Уехать оказалось куда труднее, чем он ожидал. Крейг едва справился с порывом немедленно вернуться к стойке для регистрации, забрать багаж и сказать служащему, что раздумал лететь. Но вместо этого он отдал бланк телеграфисту и расплатился. Сунув под мышку кожаную папку с «Тремя горизонтами» и перебросив через плечо плащ, он направился к лестнице, ведущей в бар. Жаль, что Гейл пришла. Встреча с ней после сцены с Патти испортила впечатление об их ночи вдвоем. Он шагал быстро, но Гейл не отставала.
– Ты странно выглядишь, – заметила она.
– У меня была необычная ночь.
– Я не об этом. Просто никогда раньше не видела тебя в шляпе.
– Я надеваю шляпу только в дорогу, – пояснил он. – Почему-то всякий раз, как я схожу с самолета, начинается дождь.
– Мне это не нравится, – закапризничала она. – Добавляет новые грани к твоему характеру. Довольно огорчительные грани. Делает тебя похожим на окружающих. В ней ты совершенно такой же, как остальные.
Крейг остановился.
– Думаю, вчера ночью мы уже попрощались. Вряд ли сегодня сумеем сказать друг другу что-то новое, – заметил он.
– Согласна, – спокойно откликнулась она. – Обычно я терпеть не могу торчать в залах ожидания и на перронах. Все равно что тянуть уже давно растянутую старую резинку. Но у нас случай особый. Не согласен?
– Согласен.
Они двинулись дальше и, добравшись до балкона, выходившего на летное поле, уселись за маленький столик. Крейг заказал бутылку шампанского. Всего несколько дней назад он сидел на этом же балконе, ожидая прибытия дочери. Она прилетела.
Он вспомнил книгу «Воспитание чувств», выпавшую из брезентового мешка. Вспомнил, как его раздосадовала ее манера одеваться.
Крейг вздохнул.
Гейл, сидевшая напротив, не спросила, почему он вздыхает.
Когда возник официант с бутылкой шампанского, Гейл сказала:
– Это поможет нам скоротать время.
– А я думал, ты днем не пьешь, – заметил он.
– По-моему, уже стемнело.
Они молча выпили, глядя на синеву моря, простиравшуюся за краем бетонного поля. Двухмачтовая яхта, кренясь на ветру и разрезая пенные волны, неслась на надутых парусах к итальянским берегам.
– Беззаботная страна, – сказала Гейл. – Уплывешь туда со мной?
– Может, как-нибудь в другой раз, – пообещал он.
– Как-нибудь в другой раз, – кивнула Гейл.
– Прежде чем я улечу… – он налил себе еще шампанского, – тебе придется ответить еще на один вопрос. При чем тут твоя мать?
– А, моя мать… Наверное, у тебя есть право спросить. Моя мать женщина разносторонних интересов.
Она рассеянно повертела бокал, глядя на белые паруса, маячившие за посадочной полосой.
– Она недолго училась в художественной школе, занималась керамикой, ставила пьесы для маленькой труппы, год изучала русский язык, шесть месяцев жила с югославским танцовщиком. Единственное, что ее не интересовало, – мой отец. Она все твердила, что у него торгашеская душонка. Потом выяснилось, что я ее тоже не интересую.
– Боюсь, она ничем не отличается от сотен женщин, которых я встречал в жизни, – пожал плечами Крейг. – Но какое отношение это имеет ко мне? Никогда не был ни югославом, ни танцовщиком.
– Можно мне еще шампанского? – попросила Гейл, подвинув свой бокал. Он наполнил его. Мышцы ее шеи двигались почти незаметно, пока она глотала. Крейг вспомнил, как целовал ее шею. – Она когда-то у тебя работала. Давно. И насколько я знаю свою мамашу, ты с ней спал.
– Даже если это и так, – рассердился он, – нечего воображать себя жертвой инцеста.
– О, я совсем об этом не думала, – невозмутимо заявила Гейл. – Так, шуточка для внутреннего употребления. Между мной и мной же. Не тревожься, дорогой, я не твоя дочь.
– Мне это и в голову не приходило, – отмахнулся он.
На бетонном покрытии группа механиков усердно возилась с шасси самолета, который должен был унести его в Нью-Йорк. Возможно, ему не суждено покинуть землю Франции. Неужели он умрет на ней?
Гейл сидела против него в ленивой, непринужденной позе.
– Ладно, – сдался он, – как ее зовут и когда она работала на меня?
– Глория. Глория Талбот. Это о чем-то тебе говорит?
Крейг надолго задумался, прежде чем покачать головой:
– Нет.
– Я так и думала. Она работала на тебя месяц-другой. Когда ставилась твоя первая пьеса. Тогда она только окончила колледж, ошивалась в театре, потом устроилась в твой офис, вклеивать в альбомы вырезки с рецензиями и рекламными статьями о тебе и участниках спектакля.
– Господи, Гейл, – взорвался Крейг, – да с той поры я нанял и уволил не менее пятисот женщин!
– Не сомневаюсь, – спокойно кивнула она. – Но ты, похоже, произвел особое впечатление на мою бедную старую мамулю. После этого она всю жизнь продолжала заниматься этим благородным делом. Не думаю, что остальные пятьсот дам выскочили замуж и все же продолжали собирать каждое слово, написанное о тебе, и каждую фотографию с сорок шестого по шестьдесят четвертый год.
«В этом сезоне Джесс Крейг представляет новую пьесу Эдварда Бреннера… Джесс Крейг подписал контракт на одну картину с „Метро-Голдвин-Мейер“… Завтра состоится свадьба Джесса Крейга… На снимке Джесс Крейг и его жена перед отлетом в Европу… Джесс Крейг…»
– Довольно, – перебил Крейг. – Все ясно. – Он пораженно покачал головой. – Зачем ей все это было нужно?
– Мне так и не удалось узнать у нее. Возможно, она запуталась в своих привязанностях. Я наткнулась на вырезки только в шестнадцать лет, после того как она сбежала с археологом. Я получала открытки со всех концов света. Турция, Мексика, другие страны. Представляешь, двадцать два альбома в кожаных обложках на чердаке! Она так спешила смыться, что почти ничего с собой не взяла. Отец уехал всего на два дня, ей пришлось шевелиться. Я разбирала хлам на чердаке: отец решил, что дом больше ему не нравится, и мы собирались переехать. Сколько счастливых часов я провела, знакомясь с историей Джесса Крейга!
Гейл криво улыбнулась.
– Так вот почему ты столько обо мне знаешь!
– Вот почему. Хочешь вспомнить, где провел лето пятьдесят первого? Хочешь вспомнить, что сказала о тебе «Нью-Йорк таймс» одиннадцатого декабря пятьдесят девятого года? Спроси меня. Я отвечу.
– Не стоит, пожалуй. Значит, ты считала мой роман с твоей матерью само собой разумеющимся?
– Знай ты мою мать, нисколько бы этому не удивился. Вполне естественное предположение для шестнадцатилетней девочки, проводившей целые дни на чердаке и оставшейся без матери, которая сбежала с археологом в какие-то дебри. Если хочешь освежить в памяти ее образ, могу прислать тебе фото. Говорят, я очень похожа на нее, когда она была в моем возрасте.
– Не нужен мне никакой снимок, – проворчал Крейг. – Интересно, какой ты воображаешь мою жизнь в те годы?
– Думаю, ты вел самую завидную жизнь. Я видела выражение твоего лица на фотографиях.
– Возможно. Но самой завидной была моя любовь к женщине, на которой я потом женился. Я верил, что и она в меня влюблена, и ни на кого не смотрел, кроме нее. И что бы ты ни вообразила себе после того, что случилось за эту неделю, я никогда не был неразборчив в связях и, уж конечно, помню имена всех женщин, с которыми…
– И мое имя вспомнишь через двадцать лет? – улыбнулась Гейл.
– Обещаю.
– Хорошо. Теперь ты понимаешь, почему я рвалась увидеть тебя, когда обнаружила, что ты в Каннах. Я, как говорится, выросла с твоим образом.
– Как говорится.
– Так что с нашей встречей связаны сентиментальные воспоминания. Ты был частью моей семьи, как говорится. – Она потянулась к бутылке и налила себе шампанского. – Даже если ты и пальцем не притронулся к моей матери и имени ее не знаешь, все равно оказывал на нее какое-то безумное и постоянное воздействие. Она была явно зачарована твоей жизнью. И так же явно недовольна своей. И каким-то идиотским образом одно было связано с другим. Не можешь же ты винить меня в том, что я испытывала к тебе некоторую неприязнь. И вместе с тем любопытство. Всегда знала, что мы обязательно встретимся. В один прекрасный день. Вспомни, мне было всего шестнадцать.
– Но теперь тебе уже не шестнадцать.
– Нет. Признаюсь, я была оскорблена. Тебе все удавалось. Слишком ты был удачлив. И всегда окружен нужными людьми. Купался в славе и похвалах. Никогда не допускал неверных высказываний. Старел, но, судя по фотографиям, ничуть не толстел…
– Но все это штучки репортеров, неужели не понимаешь? – нетерпеливо отмахнулся Крейг. – Какое отношение они имеют к реальности?
– Но я больше ничего не знала о тебе. Пока не шагнула в твой номер. Подумай, какой ужасный контраст между твоим блеском и моей дурой мамашей с ее керамикой и югославским танцовщиком, и моим отцом, влачившим жалкое существование в убогом филадельфийском офисе. Сначала я просто хотела увидеть, какой ты на самом деле. Потом – ранить тебя как можно больнее. И мне это почти удалось, верно?
– Да. А теперь…
Но в этот момент послышался серебристый перезвон системы оповещения и женский голос объявил о начале посадки для пассажиров рейса Ницца – Нью-Йорк. Механики, крутившиеся возле самолета, исчезли как по волшебству. Гейл нежно коснулась его руки.
– А теперь, я думаю, тебе пора идти к самолету.
Крейг расплатился, и они, миновав бар, спустились в центральный зал. Крейг остановился у будочки паспортного контроля.
– Я еще увижу тебя?
– Если приедешь в Лондон. Разумеется, начнутся всякие сложности.
– Разумеется, – кивнул он, пытаясь улыбнуться. – Когда будешь писать матери, передай привет.
– Обязательно, – заверила она и, порывшись в сумке, извлекла толстый конверт. – У меня кое-что для тебя. Портье дал, когда я упомянула, что собираюсь тебя проводить.
Крейг взял конверт. Почерк Энн. Судя по штемпелю, письмо пришло из Ниццы. Подняв глаза на Гейл, он спрятал конверт в карман.
– Ты знала об Энн?
– Да. У нас был долгий разговор.
– Ты пыталась остановить ее?
– Нет.
– Но ради Бога, почему?
– Вряд ли я имела на это право. Ведь я нахожусь в таком же положении.
– Кажется, ты права. – Он притянул ее к себе и быстро поцеловал. – Прощай.
– Прощай, моя истинная любовь, – прошептала она.
Крейг смотрел, как она идет к выходу из терминала, быстрой, решительной походкой: сумка раскачивается в такт шагам, длинные волосы развеваются, и каждый проходящий мужчина оборачивается и провожает ее взглядом. Он заметил, что уже перед дверью она вытащила и нацепила солнечные очки. И почувствовал себя старым и измученным.
Когда он проходил паспортный контроль, объявили о вылете его самолета. Он нащупал в кармане толстый конверт. Что ж, будет что почитать над Атлантикой.
Кроме него, пассажирами первого класса были высокий, красочно одетый африканец с племенными клеймами-шрамами на щеках и его хорошенькая полногрудая жена, завернутая в роскошные цветные шелка. Крейгу всегда было совестно платить такие деньги за билеты в первый класс, но он всегда платил. Африканец с женой говорили на каком-то непонятном языке. Крейг надеялся, что они не знают ни английского, ни французского. Он не хотел ни с кем разговаривать до самого Нью-Йорка.
Спутник вежливо ему улыбнулся. Крейг выдавил ответную улыбку, скривив неподатливые губы, и отвернулся к окну.
Не так уж маловероятно, что через двадцать лет они встретятся снова, в последней схватке между расами, и мужчина или его сын или дочь заявит:
– Я помню тебя. Ты тот белый путешественник, который отказался ответить на дружескую улыбку в самолете, вылетавшем из Ниццы. Ты расистский колонизатор, и я осуждаю тебя на смерть.
Ты беспомощная мошка, затерянная в случайных и непредвиденных событиях истории. Сам того не подозревая, ты не раз переходил дорогу людям из твоего прошлого. Ты имел наглость зло подшутить над человеком, с которым даже не был знаком: безразличный к его присутствию, пригласил его любовницу на ужин. Неудивительно, что он всю свою последующую жизнь старался причинить тебе зло. Глупая, помешанная на театре девица забрела в твой офис, получила работу у твоей секретарши и стала безымянным, никем не замечаемым придатком на месяц-другой, когда ты был еще совсем молод. Более чем двадцать лет спустя ты пострадал (или извлек пользу?) от последствий своего поступка, совершенного или не совершенного в молодости.
Человек, который изобрел первый компьютер, просто положил в его основу принцип памяти, которую и организовал в систему проводов и электрических импульсов. Не замечаемые тобой прохожие наблюдают за твоей орбитой и фиксируют каждый поступок в собственных вечных перфокартах. Хорошо это или плохо, но ты внесен в файл и информация сохранена для последующего использования. И от этого нет спасения. Процесс этот бесконечен. Что говорит о нем Сидни Грин в своей квартире с неоплаченными деревянными панелями в Шестнадцатом округе Парижа? Каковы будут последние наставления Дэвида Тейчмена Джессу Крейгу перед смертью? Как Натали Сорель будет отзываться о нем в техасском особняке? Какова будет реакция на его имя дочери Гейл Маккиннон, когда той исполнится двадцать?
Он с надеждой глянул на высокого африканца, сидевшего через проход, но тот смотрел в другую сторону. Двигатели взревели; звуконепроницаемый корпус приглушал демонический вой. Прежде чем самолет покатился по дорожке, Крейг принял две таблетки транквилизатора. Если он и разобьется, то без лишних волнений.
Он подождал, пока разнесут обед, прежде чем развернуть письмо Энн. Знал, что написанное отнюдь не добавит ему аппетита.
На письме не было ни даты, ни обратного адреса. Только «Дорогой папочка…».
Дорогой папочка надел очки. У Энн и без того неразборчивый почерк, а тут просто каракули какие-то. Можно было подумать, что она писала на бегу, спускаясь с крутого холма.
«Дорогой папочка, – писала она. – Я трусиха. Знала, что ты станешь возражать и спорить, и боялась, что попытаешься переубедить меня. Страшилась, что тебе это удастся. Поэтому и пошла по самому легкому пути. Как всякая трусиха. Но ты прости меня. Только люби и прости меня. Я с Йаном. Долго думала, прежде чем решиться…»
Интересно, как долго? Три дня? Пять? Что же, возможно, в двадцать лет пять дней кажутся целой вечностью, совершенно достаточным сроком, чтобы сообразить, как лучше испортить себе жизнь. Вполне возможно. Он просто не помнит, каково это – быть молодым.
«Не буду вдаваться в детали. Скажу только, что в тот вечер, в ресторане, когда мистер Мерфи так ужасно обошелся с Йаном, я почувствовала к нему то, что не испытывала ни к кому в жизни. Считай это любовью, если хочешь. Мне все равно, как это назвать. Я это ощущаю, вот и все. И не думай, что это всего лишь преклонение перед писателем, чьими книгами я восхищаюсь. И это не детское увлечение. Что бы ты там ни думал, я уже достаточно взрослая для подобных вещей. И я не ищу в возлюбленном человека, обладающего качествами, которые хотела бы видеть в отце, как ты, конечно, стал бы утверждать, если бы я осталась и поговорила с тобой. У меня прекрасный отец. Так или иначе, Йану всего сорок. Стоит ли упоминать о тебе и Гейл Маккиннон?»
«Так мне и надо. Вот уж получил по заслугам. Полной мерой», – подумал Крейг. Он попросил у стюардессы виски с содовой. Такое письмо без спиртного не переварить.
Он выглянул в окно. Долина Роны скрыта облаками, такими плотными, что кажется, если выпрыгнешь из самолета, то сможешь зашагать по ним.
Отпив виски, он вернулся к письму.
«Ни на минуту не думай, что я против твоих отношений с Гейл. Я полностью за. После того, что тебе пришлось вынести с мамулей, я не винила бы тебя, если бы ты сошелся с бородатой леди из цирка. И, Господи, Гейл – одна из лучших женщин, которых я встречала в жизни. Более того, она призналась, что влюблена в тебя. Я, разумеется, ответила, что в тебя влюблены все. И это почти правда. Как ты поступишь с той дамой в Париже – дело твое. Так же как Йан – мое.
Я знаю наперед все твои аргументы. Все. Он слишком стар для меня, он пьяница, он беден, он вышел из моды, он не первый красавец в мире, он был трижды женат».
Описание человека, в которого влюбилась его дочь, было настолько точным, что Крейг кисло усмехнулся.
«Поверь, все это я учитываю, – продолжала Энн. – У нас был серьезный разговор на эту тему».
Когда? В ту ночь, когда она ушла из отеля и бродила по пляжу? Или когда вылезла из постели после того, как предъявила Бейарду Патти самое убедительное доказательство любви?
Крейг поморщился от боли в затылке. Может, принять аспирин?
«Прежде чем я согласилась уехать с ним, – читал Крейг, так и не выпив аспирин, – я поставила ему условия. Хоть я и молода, но отнюдь не идиотка. Прежде всего я взяла с него слово бросить пить. И вернуться в Америку. Эти обещания он намерен выполнить. Он нуждается в том, чтобы его ценили. Он гордый человек и больше не может жить, терпя от других унижения и презрение к себе. Сколько подобных сцен в ресторане способен вынести человек за свою жизнь?»
«О моя бедная дочь, – подумал Крейг, – сколько женщин за все эти столетия погубили себя, поддавшись таким же иллюзиям, вообразив, что они, и только они, могут спасти писателя, музыканта, художника! Смертельная хватка искусства. Убийственное воздействие на женское воображение».
«Ты совсем другой, – убеждала Энн. – Тебе не нужно ничье преклонение. Ты в двадцать раз сильнее Йана, и я прошу тебя быть к нему милосерднее. И зная тебя, уверена, что так и будет.
Секс путает, сбивает с толку, заманивает в ловушку, кому, как не тебе, об этом знать».
Крейг кивнул. Верно. Только одно дело – изрекать избитые истины в сорок восемь лет и совсем другое – в двадцать.
«Знаю, что поступила подло с беднягой Бейардом, и тот наверняка уже успел добраться до тебя и рыдает на твоем плече. Но то был всего лишь зов плоти…»
Крейга покоробило. Плоть. Странно, что Энн так выразилась. Уж не Йан ли помогал ей писать письмо?
«А одной плоти мне мало, – уже совершенно неразборчиво дописывала она. – Если ты уже поговорил с Бейардом, должен знать, что ничего иного между нами быть не может. Так или иначе, я никогда не просила его приехать в Канны. Если бы я вышла за него, как он все время просил (так настаивал, что я готова была завыть), то рано или поздно превратилась бы в его жертву. Не желаю стать ничьей жертвой».
Крейг решил в один прекрасный день составить для нее список. Сто один легкий способ превратиться в жертву.
«Не злись на бедного Йана за то, что мы вот так ускользнули. Он хотел остаться и все рассказать. Я из кожи вон лезла, убеждая его не делать этого. Не ради него. Ради меня. Пока он сам не свой. От счастья, по его словам. Он считает меня чем-то сверхнеобыкновенным и утверждает, что влюбился в первый же день, на пляже. Все повторяет, что я разительно отличаюсь от всех женщин, которых он знал. И еще говорит, будто даже не мечтал о том, что я когда-нибудь погляжу на него. Вот уже два дня как он не выпил ни капли. Даже пока мы еще были в Каннах. Он клянется, что для него это мировой рекорд. Я прочла ту часть книги, которую он успел закончить, и это чудесно. Если не начнет пить, это будет лучшая его вещь. Я в этом убеждена. Я найду работу, и на деньги из трастового фонда мы прекрасно протянем, пока он не допишет последнюю главу».
Крейг застонал. Африканец с племенными шрамами с вежливым видом уставился на него. Крейг поспешно улыбнулся, давая понять, что все в порядке.
«Прости, если причиняю тебе боль, – продолжала Энн, – но уверена, что потом ты и сам будешь за меня счастлив. Так же, как счастлива я сама. Кроме того, у тебя есть Гейл. Хотя тут куда сложнее, чем ты думаешь».
«Не я, а ты думаешь», – едва не сказал вслух Крейг.
«Она рассказала мне долгую и неприятную историю о своей матери, но сейчас нет времени вдаваться в подробности. Правда, она пообещала сама тебе все объяснить. Я уверена, что для тебя тут нет ничего компрометирующего, как бы там это ни выглядело на первый взгляд. Я в самом деле уверена, папа.
Но все еще, хотя Йан и рядом, слишком трушу, чтобы сказать, куда мы едем. Страшусь мысли о том, что встречусь с тобой и ты начнешь читать мне нотации в своей обычной суровой, рассудительной манере. Но как только мы устроимся в Штатах, я дам о себе знать и ты сможешь приехать и своими глазами увидеть, что все в порядке. Пожалуйста, папа, люби меня, как я люблю тебя.
Энн.
P.S. Йан передает тебе привет».
Привет. Если бы не чета африканцев, Крейг снова застонал бы. Он аккуратно сложил письмо и сунул в карман. Пожалуй, не мешает его перечитать.
Он представил себе Йана Уодли в постели с Энн.
– Мисс, – обратился он к проходившей мимо стюардессе, – у вас есть аспирин?
ГЛАВА 17
Белинда Юэн, верная секретарша, уже ждала Крейга у стойки таможенного досмотра. Он сразу же заметил, что она не утратила пристрастия к крикливым цветам, с тех пор как они виделись последний раз. За все двадцать три года, что они работали вместе, она, казалось, не состарилась и на день. Крейг поцеловал ее в щеку. Она, похоже, искренне ему обрадовалась. Крейгу стало совестно за то, что он не ответил на два ее письма. Если женщина отдала тебе двадцать три года жизни, как можно при встрече с ней не испытывать угрызений совести?
– Нас ждет лимузин, – сообщила она. Ей не хуже Крейга было известно, что особенных доходов не предвидится, однако она была бы шокирована, если бы он намекнул, что такси ничем не хуже. Во всем, что касалось их престижа, она была неукротима. Горе агенту, приславшему уже кем-то прочитанный сценарий! Он получал по полной программе. Даже по телефону Белинда не стеснялась в выражениях.
Погода была сырой и давяще душной. Пока водитель подгонял лимузин, начало моросить. Крейг мрачно коснулся полей шляпы. Голоса пассажиров, грузившихся в свои машины и такси, казались неприятно-резкими. Вопли какого-то ребенка действовали на нервы. На Крейга навалилась свинцовая усталость. Даже аспирин не помог.
Белинда с тревогой всмотрелась в него.
– Вы плохо выглядите, Джесс, – заметила она.
Он был так молод, когда она пришла к нему, что не посмел потребовать, чтобы она называла его «мистер Крейг».
– Я-то думала, что вы хотя бы загорите.
– Я же ехал в Канны не затем, чтобы на пляже валяться, – чуть раздраженно бросил он.
Тут подкатил лимузин, и Крейг с облегчением рухнул на заднее сиденье. Стоять не было сил. Он весь взмок, пришлось вытереть платком лицо и шею.
– Здесь все время так жарко? – спросил он.
– Не настолько уж и жарко, – отрезала Белинда. – А теперь, может, объясните, почему, во имя Господа, велели поселить вас в «Манхэттене»? На Восьмой авеню, подумать только!
Обычно он останавливался в тихом дорогом отеле в Ист-Сайде. Очевидно, в глазах Белинды перемена отеля означает унизительную попытку сэкономить.
– Я подумал, что это намного удобнее. Ближе к офису, – пояснил он.
– Повезет, если вас не будут грабить каждый раз, когда вы выйдете из двери, – проворчала Белинда. – Вы не представляете, что творится на Восьмой авеню.
У нее был резкий, напористый голос. Всегда. Всю жизнь. Некоторое время назад он едва не поддался соблазну предложить ей брать уроки дикции, но так и не набрался мужества. А теперь, разумеется, слишком поздно. Он не сказал, что решил остановиться в «Манхэттене» буквально в последнюю минуту и дал ей телеграмму из аэропорта Ниццы. «Манхэттен» – шумный доходный отель, где всегда полно народу, и в обычных обстоятельствах Крейг не вспомнил бы о нем, но на память вдруг пришло, что он жил там, когда ставил первую пьесу Эдварда Бреннера. Вместе с Эдвардом. Который теперь уже не пишет пьес. Тогда отель назывался «Линкольн». Теперь президенты не слишком-то ценятся. Но в отеле «Линкольн» к нему пришла удача. Жаль, что он забыл, в каком номере жил тогда.
Однако Белинде об этом говорить нельзя. Слишком она здравомыслящая особа, чтобы потакать предрассудкам хозяина.
– И предупредили вы меня в последнюю минуту, – раздраженно выговаривала она. – Я получила вашу телеграмму всего три часа назад.
– Так уж получилось, – покаянно пробормотал он. – Простите.
– И тем не менее… – Она всепрощающе улыбнулась. У нее были маленькие острые зубки, совсем как у щенка. – Тем не менее я рада, что вы вернулись, а то в офисе тишина как в морге. От скуки я просто на стену лезла. Даже к рому пристрастилась. То и дело прикладываюсь днем, чтобы не рехнуться. Неужели наконец снизошли до того, чтобы снова взяться за работу?
– Что-то в этом роде.
– Аллилуйя! – воскликнула она. – В каком именно роде?
– Брюс Томас хочет ставить фильм по сценарию, которым я владею.
– Брюс Томас? – благоговейно переспросила Белинда. – О-ля-ля!
Крейг заметил, что в этом году все произносят имя Брюса Томаса каким-то особым тоном. Непонятно, то ли радоваться, то ли ревновать.
– Какой сценарий? – с подозрением осведомилась Белинда. – Я вот уже три месяца ничего вам не посылала!
– Тот, что я нашел в Европе. По правде говоря, я сам его написал.
– Давно пора! Наверняка лучше, чем тот мусор, который мы перелопачиваем. Могли бы хоть написать, – обиженно заметила Белинда. – Или даже прислать экземпляр.
– Простите, – вздохнул Крейг и погладил ее руку.
– У вас пальцы ледяные. Вы здоровы?
– Конечно, – коротко ответил он.
– Когда мы начинаем? – загорелась Белинда.
– Скажу точно, после того как повидаюсь с Томасом. Контракт еще не подписан.
Он поглядел в окно на низко нависавшие над равниной облака.
– Кстати, я все хотел спросить. Вы знали женщину по имени Глория Талбот? Она, кажется, работала у нас.
– Всего пару месяцев в самом начале, – немедленно протараторила Белинда, которая всегда все помнила. – Абсолютно ни на что не способна.
– Она была хорошенькой?
– По мнению мужчин, вероятно, да. Господи, да с тех пор прошло почти двадцать пять лет! С чего это вы вдруг о ней подумали?
– Так. Получил от нее что-то вроде привета.
– Она с тех пор, должно быть, пять мужей сменила, – сухо процедила Белинда и поджала губы. – Я таких, как она, за сто шагов вижу! Что ей было надо?
– Трудно сказать. Возможно, просто захотелось пообщаться.
Разговор отчего-то потребовал от него невероятных усилий.
– Если не возражаете, Белинда, я попробую вздремнуть. Вконец вымотался.
– Слишком много мотаетесь по свету. А ведь уже не мальчик.
– Наверное, вы правы.
Крейг закрыл глаза и откинул голову на спинку сиденья.
Ему отвели номер на двадцать шестом этаже. За окном разлилась туманная дымка, капли дождя скользили по стеклу. Башни небоскребов сверкали стеклянными гранями, ярусами тусклых огней в серой сумеречной полумгле. Комната была безупречно чистой, безликой, совсем не во вкусе русской аристократии. С Гудзона доносились корабельные гудки. Ничто в этом номере не напоминало ему о счастливых временах работы над пьесой Бреннера. Ему пришло в голову, что нужно бы узнать, где похоронен Бреннер, и возложить цветы на его могилу.
Он с огромным трудом развесил вещи. Легкие костюмы, которые он носил в Каннах, казались неуместными в такую дождливую погоду. Следовало бы сделать несколько звонков, но Крейг решил отложить это на завтра. Все, кроме одного. Брюс Томас ждал его звонка.
Он дал телефонистке номер Томаса. Бодрый, деловой американский голос телефонистки приятно контрастировал с усталыми визгливыми модуляциями французских standardistes[52]. Томас сердечно приветствовал его.
– Вот так сюрприз! – воскликнул он. – В жизни не предполагал, что вы напишете сценарий, да еще такой! Приятный сюрприз.
Видимо, Клейн уже поговорил с ним.
– Пока не знаю, на чем мы договоримся, но договоримся непременно. Вы сейчас заняты? Хотите приехать?
Томас жил на Восточной Семидесятой улице. Сама мысль о том, что придется ехать через весь город, была невыносимой.
– Если не возражаете, давайте лучше завтра. Никак не отойду после полета.
– Разумеется, – согласился Томас. – Десять утра вас устроит?
– Обязательно приеду, – пообещал Крейг. – Кстати, у вас нет лондонского телефона Уодли?
Он почувствовал, что Томас колеблется.
– Знаете, – наконец выговорил тот, – я предложил Уодли еще до того, как узнал, кто автор сценария.
– Понимаю, – заверил Крейг. – Вы уже говорили с ним?
– Нет. Я, естественно, хотел сначала выяснить ваше мнение. Но после того как Клейн сказал, что вы не возражаете, пытался с ним связаться. Бесполезно. Его нет в Каннах, лондонская квартира не отвечает. Я послал ему телеграмму с просьбой немедленно позвонить. Погодите, сейчас дам номер.
Продиктовав цифры, Томас добавил:
– Если все-таки отыщете его, передайте, что я пытался его найти. Не возражаете, если я пошлю ему копию рукописи? Я велел отксерить сценарий. Если Йан по какой-то причине откажется работать с нами, ему нет смысла приезжать.
– Я где-то слышал, что он в любом случае планирует перебраться в Штаты, – сообщил Крейг.
Где-то… Пролетая над Францией, в сторону Ла-Манша, в бравый Новый Свет. Дорогой папа…
– Интересная новость. Ему давно пора вернуться на родину, – обрадовался Томас. – Ну что же, увидимся утром. Спокойной ночи.
Хороший он человек, этот Томас, вежливый, предупредительный, воспитанный.
Крейг попросил телефонистку соединить его с лондонской квартирой Уодли и прилег в ожидании звонка. Стоило ему перекатить голову по подушке, как голова закружилась, а комната словно медленно поплыла перед глазами. Белинда считает, что он слишком много разъезжает. Мудрая женщина. Двадцать три года верной службы.
Он умирал от жажды, но не мог заставить себя подняться и сходить в ванную за стаканом воды.
Телефон зазвонил, и Крейг с трудом поднялся, боясь, что комната снова завертится перед глазами. Телефонистка сказала, что в Лондоне никто не отвечает, и спросила, не хочет ли он повторить заказ через час. Крейг отказался.
Он сидел на краю кровати, пока комната не стала на свое место, потом вышел в ванную и выпил два стакана воды. Но пить все равно хотелось. И кондиционер слишком мощный попался. Крейг почему-то замерз. Он попытался открыть окно, но оно было наглухо забито. Крейг посмотрел на часы. Половина седьмого. В Каннах половина первого. Он слишком долго на ногах, слишком большое расстояние перекрыл с утра. Господи, он в жизни так не хотел пить! Стакан ледяного пива мог бы совершить чудо. Или два стакана. В следующий раз он пересечет океан на пароходе. К Америке нужно приближаться осторожно, не спеша, постепенно.
Он спустился в гриль-бар, увешанный театральными афишами. Наконец-то он на знакомой арене!
Крейг вспомнил бой быков, цвет песка в Сан-Себастьяне. Он сел у стойки, взял бутылку пива и одним глотком осушил половину стакана. Боль в горле внезапно ослабла. Он понимал, что не мешало бы съесть что-нибудь, но не мечтал ни о чем, кроме пива.
Он заказал другую бутылку и пил мелкими глотками, стараясь растянуть наслаждение. Вскоре он ощутил легкое, но приятное опьянение. Гриль-бар постепенно наполнялся посетителями, и шансы встретить знакомых, с которыми придется разговаривать, возрастали. Приходилось взвешивать «за» и «против». Стоит ли риск удовольствия от третьей бутылки?
Все же он решился и попросил еще одну.
К тому времени, когда он вернулся к себе, было уже около восьми. Слава Богу, не пришлось ни с кем любезничать. Его счастливый отель!
Крейг разоблачился, натянул пижаму и выключил свет. И долго лежал, прислушиваясь к приглушенному невнятному шуму большого города, расстилавшегося внизу. Вой сирены напомнил ему, что он на родине.
«Жаль только, – подумал он, засыпая, – что сегодня никто не постучит в дверь».
Разбудила его боль. Желудок спазматически сжимался. Белье промокло от пота. Приступы сильной режущей боли то утихали, то нарастали. Господи, должно быть, женщины именно это чувствуют, когда рожают!
Ему нужно в туалет.
Крейг включил свет, осторожно спустил ноги с кровати, медленно поплелся в ванную и сел на унитаз. И тут же из него хлынул поток горячей жидкости. Боль ушла, но он боялся, что не хватит сил добраться до постели. Наконец он с трудом поднялся. Однако был вынужден схватиться за полку над раковиной. Жидкость в унитазе казалась черной. Крейг дернул за цепочку, и вдруг ощутил, как по ногам ползет что-то теплое. Черновато-красная кровь. И ничего нельзя сделать.
Крейг брезгливо поморщился. Он понимал, что следовало бы испугаться, но не испытывал иного чувства, кроме отвращения к своему телу, предавшему его.
Он схватил полотенце и сунул между ног. Оставив запачканные пижамные штаны на полу, он кое-как доплелся до кровати и упал на нее. Он сильно ослабел, но боли больше не было. На какое-то мгновение ему показалось, что все это кошмарный сон.
Крейг взглянул на часы. Половина пятого по нью-йоркскому времени. Часовой пояс крови.
В такой час вряд ли прилично кого-то будить. Если к восьми кровотечение не прекратится, он позвонит доктору.
Но тут Крейг сообразил, что не знает в Нью-Йорке ни одного врача. Расплата за здоровье. Ничего, сообразит утром.
Он выключил свет, закрыл глаза и попытался уснуть.
Если же усну я навеки, прими, Господи, душу мою…
Детские молитвы…
Профессор психологии, если верить Энн, что-то увидел в его почерке. Видел ли он эту ночь в Нью-Йорке?
И тут он заснул. Крепко. Без снов.
Проснулся невероятно усталым. Измученным до мозга костей. Но кровотечение прекратилось. На часах было около десяти. За окном сияло бледное, в пелене смога солнце. Город мерцал в жарком мареве.
Крейг вытащил полотенце. Очевидно, во сне кровь продолжала идти: на полотенце остались высохшие сгустки. Старый, неумолимый, неуловимый убийца.
Осторожно передвигая ноги, он пошел в ванную и долго стоял под душем, но так и не набрался храбрости ополоснуться холодной водой. И чувствовал себя разбитым, словно вывалился из окна.
Крейг спустился вниз и позавтракал в кафе в обществе туристов и коммивояжеров. Химический привкус ледяного апельсинового сока на губах. Ни Средиземного моря за окном, ни дочери, ни любовницы напротив, ни плотоядной ухмылки официанта.
Он заставил себя съесть два тоста, чтобы подкрепить силы. Ни круассанов, ни бриошей. Может, он попал не в ту страну?
Он пролистал «Нью-Йорк таймс». Потери во Вьетнаме уменьшились. Вице-президент произнес безграмотную возмутительную речь. Крушение самолета. Не один он путешествует так много. Критик, о котором он не слышал, разносил в пух и прах роман, который он не читал. Команды, которых не существовало, когда он еще ходил на бейсбол, выигрывали и проигрывали. Подающий, которому столько же лет, сколько Крейгу, до сих пор зарабатывает себе на жизнь, бросая мячик. Извещения о смерти незнакомых ему мужчин и женщин.
Вооружившись новостями, он был готов начать новый день.
Крейг вышел из стерильно-кондиционированного мира в нью-йоркскую жару и окинул взглядом тротуар. Помня предупреждение Белинды, он ежеминутно ждал нападения. Интересно, если он объявит, что ночью едва не истек кровью, вызовется ли какой-нибудь бойскаут найти ему такси?
У него не нашлось четвертака для швейцара, так что пришлось отдать доллар. Он еще помнил те времена, когда швейцары кланялись и за дайм.[53]
Сесть в такси было все равно что взобраться на скалу. Он дал адрес на Восточной Семидесятой улице. Таксист оказался стариком с зеленоватым лицом умирающего. На правах, прикрепленных к спинке водительского кресла, Крейг прочел русское имя. Жалеет ли этот человек, что он или его отец когда-то покинул Одессу?
Такси то ползло как черепаха, то рвалось вперед, то замирало, визжа тормозами, выигрывая дюйм за дюймом у других машин, пересекавших город из конца в конец. Умирающему водителю было нечего терять. Восточная часть Сорок четвертой улицы – его родная стихия. И шансы на Гран-при огромны. Если он доживет до осени, несомненно, разбогатеет.
Брюс Томас жил в солидном особняке со свежевыкрашенными оконными рамами.
У двери висела маленькая табличка, гласившая, что дом находится под присмотром частной охранной службы. Крейг бывал здесь и раньше, на больших приемах. Он вспомнил, как беззаботно веселился тогда. Однажды он забрел в кабинет Томаса на втором этаже. Полки ломились от статуэток, памятных табличек, почетных значков, грамот – награды за фильмы.
Когда-то Крейга тоже награждали статуэтками, табличками, значками. Где это все сейчас?
Он позвонил. Томас сам открыл дверь. На нем были вельветовые брюки и тенниска с открытым воротом. Опрятный, грациозный, худощавый человек с приветливой улыбкой.
– Брюс, – едва выговорил Крейг, входя в переднюю, – похоже, вам придется вызвать мне доктора.
И рухнул на ближайший стул, не в силах пошевелиться.
ГЛАВА 18
Три дня спустя он все еще был жив. Лежал в светлой палате хорошей больницы, и Брюс Томас нашел ему старого доктора с негромким голосом, не слишком разговорчивого, но обладающего удивительно успокаивающим воздействием на пациентов. Главный хирург, жизнерадостный кругленький человечек, часто заглядывал к нему, будто бы поболтать о кино и театре, но Крейг видел, что тот наблюдает за ним в поисках симптомов, свидетельствующих о необходимости срочной операции. Когда Крейг спросил, каковы шансы на выздоровление после подобных операций, хирург не колеблясь ответил:
– Пятьдесят на пятьдесят.
Будь у Крейга родственники, с которыми доктор мог бы поговорить, возможно, первыми узнали бы они. Но пока больного навещали только Томас и Белинда.
Ему кололи обезболивающее, так что боли он не чувствовал, если не считать синяков на руках после пяти переливаний крови и внутривенных вливаний глюкозы и физиологического раствора. По какой-то неизвестной причине трубки то и дело забивало, а иглы выпадали. Вены становилось все труднее найти, и наконец на помощь призвали главного специалиста, прелестную скандинавскую девушку. Она немедленно выгнала из комнаты всех, даже сиделку, стойкую пожилую даму, бывшего капитана медицинской службы, ветерана корейской войны.
– Терпеть не могу посторонних, – объяснила она Крейгу. Талант, как он давно заметил, хоть в больнице, хоть в ином месте должен иметь определенные привилегии. Скандинавка, покачивая аккуратно причесанной белокурой головкой, долго трогала и ощупывала его руку, прежде чем одним ловким движением безболезненно ввела иглу в вену и отрегулировала поток раствора.
Больше он ее не видел. И жалел об этом. Она напомнила ему юную мать-датчанку у бассейна в Антибе.
«Пятьдесят на пятьдесят, – поразился он, – и при этом какие только мысли в голову не лезут!»
Хуже всего были приступы головной боли после каждого переливания. Но ему сказали, что это нормально. Наверное, те, кто работает в больнице, действительно считают боль вполне обычной вещью.
Томас вел себя безупречно. Он приходил дважды в день, не навязываясь при этом со своим сочувствием.
– Есть все шансы, – объявил он на третий день, – что вы покинете эти стены менее чем через две недели, и тогда мы возьмемся за работу.
Он не тратил времени зря. Получил согласие кинокомпании «Юнайтед артистс» и пытался договориться о бюджете в полтора миллиона долларов. Он уже успел найти прекрасный старый дом на Сэндс-Пойнт для натурных съемок. Брюс принял как должное желание Крейга стать вторым продюсером. Если он и знал о прогнозе хирурга, то не подавал виду.
Он сидел в палате Крейга и на третий день, когда дверь распахнулась и в комнату ворвался Мерфи.
– Какого дьявола тут происходит? – громко осведомился он.
– А какого дьявола ты тут делаешь? – в свою очередь, спросил Крейг. – Я думал, ты в Риме.
– Как видишь, нет. Привет, Брюс. Вы уже ругаетесь, парни?
– Естественно, – улыбнулся Томас. – Искусство вечно, язвы быстротечны.
Крейг чувствовал себя слишком измученным, чтобы справиться, откуда Мерфи узнал, что он в больнице. Но он был рад старому другу. Мерфи все уладит. А сам он может уплыть в полные дурмана и не такие уж неприятные сны, в которых день перетекает в ночь и наоборот, а боль и наслаждение становятся безликими абстракциями. Теперь он в надежных руках и может сосредоточиться исключительно на усмирении мятежа своей крови.
– Меня пустили только на пять минут, – объяснил Мерфи. – Хотел проверить, жив ли ты. Если пожелаешь, вызову своего доктора из Голливуда. Говорят, он лучший в стране.
Все, с чем имел дело Мерфи, – лучшее в стране.
– Не стоит, Мерф, – отказался Крейг. – Здесь доктора не хуже.
– В таком случае поправляйся и ни о чем не думай. К тому времени, как тебя отсюда выкинут, у меня уже будет готов на подпись такой контракт от «Юнайтед артистс», что кое-кто взвоет от тоски. Пойдем, Брюс. Нам нужно обсудить вещи, не предназначенные для ушей больного.
Мерфи грубовато похлопал Крейга по плечу.
– Не смей так пугать старых друзей, – почти нежно пробормотал он. – Соня шлет свою любовь. Ухожу, сестра, ухожу.
Экс-капитан медицинской службы многозначительно посматривала на часы и мрачно хмурилась.
Мужчины поспешили удалиться. Сиделка поправила подушку.
– Бизнес, – вздохнула она, – убивает людей быстрее пули.
По мнению Крейга, человеку, начавшему свою трудовую жизнь в театре, лучше всего закончить ее в больничной палате. Разительно похоже на сцену. Герой – в центре, все прожекторы направлены на него. Доктор – режиссер и одновременно один из участников спектакля. В основном он наблюдает за действием из-за кулис, готовый в любую минуту вмешаться, шепчет другим актерам, что им пора на выход, а выходя, непременно нужно улыбаться и не задерживаться без нужды на публике. Сестры, словно рабочие сцены, расставляющие декорации, бегают с термометрами, подносами, суднами, шприцами, инструментами для переливания и забора крови. Самая длинная роль у героя: действие выстроено вокруг него, он никогда не покидает сцену, у него контракт на все спектакли. Правда, он, неблагодарный, иногда жалуется на свою известность, вечно критикует манеру игры других актеров и наверняка заменил бы их или вырезал роли, если бы мог.
И прежде всего убрал бы Белинду Юэн. К концу четвертого дня она уверилась, что он непременно поправится и процесс выздоровления можно ускорить, если заставить больного отрешиться от мрачных, как она выражалась, мыслей и заняться повседневными делами. Она доложила, что выписала его из отеля и забрала вещи. Ради экономии чемоданы теперь хранятся в офисе. Почту и письма она принесет. Все нужные люди извещены. Она звонила в «Таймс».
Когда Крейг попытался слабо запротестовать, она, как всегда, руководствуясь собственными понятиями о приличиях, порядке, заявила, что друзья, родные и публика имеют право знать. Он так и не решился спросить, каких именно друзей и родных она имеет в виду.
Телефон в офисе разрывался от звонков. Крейг поразился бы, узнав, сколько людей интересуются им. При ее деловитости неудивительно, если скоро в палату начнут ломиться толпы доброжелателей. Он умолял докторов выпустить его, строил планы побега.
По правде говоря, к этому времени он уже достаточно окреп, чтобы принимать посетителей. Из расковырянных вен вынули иглы, переливаний крови больше не делали, он уже садился и мог принимать жидкую пищу. И даже побрился. Собственное отражение в зеркале потрясло его. Такая же изжелта-зеленоватая кожа, как у русского таксиста.
Он решил, что, пока не выйдет из больницы, попросит мисс Белиссано, свою военизированную дневную сиделку, брить его.
В почте, принесенной Белиндой, оказался счет от адвоката жены на пять тысяч долларов. Решив наконец разводиться, он – от облегчения и в первом порыве великодушия – согласился оплачивать услуги ее поверенного, сообразив, что с помощью денег будет легче добиться развода.
Письмо от бухгалтера с напоминанием о том, что пора принять решение относительно семидесяти тысяч долларов, которые требует от него налоговое управление. Бухгалтер предупреждал: дело не терпит отлагательства, поскольку налоговики перешли к прямым угрозам.
Белинда нашла в его номере экземпляр «Трех горизонтов» и прочитала. Сценарий, очевидно, ей понравился, потому что она захватила с собой большие альбомы с фотографиями голливудских и нью-йоркских актеров в надежде, что Крейг их просмотрит и подумает о распределении ролей. Он лениво полистал альбомы, чтобы угодить Белинде.
Она притащила также и чековую книжку. Поступили счета, требующие срочной оплаты. У него не было медицинской страховки, поэтому больничная администрация, всячески расшаркиваясь, тактично попросила его об авансе. Белинда выписала чек на тысячу долларов, и Крейг послушно поставил подпись. Далее последовали чеки на оплату аренды за офис, счетов телефонной и телеграфной компаний, членских взносов в «Дайнерс-клаб», и по «Эйр-тревел кард». Мертвый или живой, он должен всячески поддерживать рейтинг своей кредитоспособности. Оставалось надеяться, что профессор психологии из колледжа Энн никогда не увидит его подписи.
Теперь, когда, по мнению Белинды, он вновь вернулся в бизнес, она подсунула ему рукописи двух пьес известных авторов, присланных в офис на прошлой неделе. Она прочла их, была не в восторге, но выдающиеся авторы хотели бы получить его личный отзыв. Завтра она принесет свой блокнот и все запишет под диктовку. Крейг пообещал прочитать произведения двух выдающихся драматургов. Она восхищалась цветами, присланными четой Мерфи, супругами Томас и Уолтом Клейном – роскошными цветочными композициями из самых дорогих магазинов на Пятой авеню, – и была ужасно шокирована, когда он сказал:
– Из-за них я чувствую себя так, словно присутствую на собственных похоронах. Отправьте их в детское отделение.
Белинда с мрачным видом предостерегала его относительно мисс Белиссано, утверждая, что последняя жестока и бессердечна и в то же время маниакально бдительна. Белинде якобы каждый раз приходится брать палату штурмом. Фанатическая бдительность опасна. И всему этому причиной негативное мышление. Крейг пообещал не предаваться негативному мышлению и подумать о замене мисс Белиссано.
В этот момент в комнате возникла мисс Белиссано, и Белинда процедила:
– Вижу, мое время истекло.
Тон при этом был такой, словно ее с размаху ударили по лицу. Она поспешно удалилась, и Крейг впервые за все время искренне обрадовался мисс Белиссано.
Той оказалось достаточно одного взгляда на рукописи и альбомы, громоздившиеся на столике, чтобы свалить их на пол, подальше от его глаз. Видно, она все же кое-чему научилась в Корее.
Когда вошла Энн, Крейг лежал с термометром во рту. Серый денек клонился к вечеру, и в комнате было темно. Энн нерешительно приоткрыла дверь, словно готовясь упорхнуть при первом его слове. Крейг молча махнул рукой и показал на градусник. Она робко улыбнулась, подошла к постели и, нагнувшись, осторожно чмокнула его в лоб. Он взял ее руку.
– О, папа, – пробормотала она и тихо заплакала.
Тут вошла мисс Белиссано, включила свет, вынула термометр и сделала отметку в температурном листке. Она наотрез отказывалась говорить, какая у него температура.
– Это моя дочь, мисс Белиссано, – представил Крейг.
– Мы знакомы, – мрачно буркнула сиделка. Впрочем, она всегда пребывала в мрачном настроении. Не обращая внимания на слезы Энн, она поправила подушки, сказала: – Доброй ночи. Хорошего вам сна. Не задерживайтесь долго, мисс.
И строевым шагом вышла из комнаты под не слышные никому, кроме нее, звуки воображаемой артиллерийской канонады. Скоро ее сменит медбрат – молодой пуэрториканец, студент Сити-колледжа. Все ночи он просиживал в углу палаты, штудируя учебники при свете тщательно затененной лампы. Его единственной обязанностью было вызвать дежурного врача, если ему покажется, что Крейг умирает. Пока ему не довелось исполнить эту самую обязанность.
– О, папа, – дрожащим голосом пролепетала Энн, – не могу видеть тебя таким.
Юношеский эгоизм ее слов вызвал у Крейга легкую улыбку. Я, я, я…
– Это ведь не из-за меня, папа?
– Конечно, нет.
– Если тебе трудно говорить, лучше молчи.
– Мне не трудно, – раздраженно бросил он. Раздражала его не Энн, а болезнь, но, судя по глазам дочери, она во всем винила себя.
– Мы приехали, как только Йан получил телеграмму мистера Томаса. Мы были в Лондоне.
Крейг едва не спросил ее, у кого Уодли занял денег на поездку, но решил промолчать.
– Хорошо, что приехала, – только и сказал он.
– Вчера я разговаривала с доктором Гибсоном. Пошла к нему сразу, как прилетела. Они разрешили навестить тебя только сегодня, а когда я спросила о тебе, доктор Гибсон не сказал ничего определенного. «Только время покажет» – вот и все, что я от него услышала. Ненавижу докторов!
– Он прекрасный врач, – возразил Крейг. Он испытывал огромную симпатию к доктору Гибсону. Спокойный, знающий, скромный спасатель людей. – Просто не любит, когда от него требуют пророчеств.
– Ну и что? – по-детски обиделась она. – Мог бы по крайней мере хоть чуточку обнадежить.
– Видимо, он считает, что это не по его части.
– Не нужно так стоически ко всему относиться, – заявила Энн. – Йан говорит, что ты именно такой, настоящий стоик.
Крейг отметил, что она уже цитирует своего любовника.
– Он утверждает, будто в наше время такая позиция совершенно бесполезна и никому не нужна.
– Налей мне стакан воды, пожалуйста, дорогая, – попросил Крейг. Он больше не желал слушать изречения из сборника мудрых мыслей Йана Уодли. Пить ему вовсе не хотелось, но Энн казалась смущенной и пристыженной, и просьба о крошечной услуге, даже такой ничтожной, как налить воды из термоса, пробьет брешь в разделившей их стене отчуждения. Кажется, обращение «дорогая» ее обрадовало.
Он отпил несколько глотков из поднесенного стакана.
– У тебя будут еще посетители, – сообщила она. – Завтра приезжает мамуля, и…
– О Боже! – простонал Крейг. – Откуда она знает?
– Я позвонила ей, – вскинулась Энн. – Она ужасно расстроилась. Ты ведь не против, что я ей сказала?
– Нет, – солгал он.
– В конце концов это простая человечность, – настаивала Энн.
– Согласен, – нетерпеливо отмахнулся Крейг, – простая человечность.
– Гейл тоже едет.
– Ты и ей звонила?
– Да. Я всего лишь поступила, как считала правильным, папа. Ты не сердишься на меня?
– Нет.
Крейг, смирившись с неизбежным, поставил стакан, лег и обессиленно закрыл глаза, пытаясь показать Энн, что он устал и хочет остаться один.
– Мне нужно кое за что извиниться, папа. Я так спешила, когда писала письмо, что даже не упомянула о твоем сценарии. Не уверена, значит ли что-нибудь для тебя мое мнение, но я была в восторге, и следовало бы сказать тебе об этом…
– У тебя на уме было совсем другое, – перебил он.
– Думаю, у тебя есть полное право иронизировать, – почти униженно признала Энн. – Но так или иначе, а мне сценарий ужасно понравился, и Йану тоже. Он просил меня так и передать.
– Прекрасно.
– Он уже поговорил с мистером Томасом. Их мнения во многом совпадают. Оба надеются на успех.
– Прекрасно, – повторил Крейг.
– Правда, мистер Томас пока ничего обо мне не знает. – Энн замялась. – Йан опасается, что из-за меня ты будешь против него. То есть против его работы над сценарием.
Она явно ждала ответа, но Крейг молчал.
– Я все твержу Йану, что ты слишком благороден, чтобы становиться ему поперек дороги только потому, что… – Она осеклась.
– Я теперь далеко не так благороден, как на прошлой неделе, – буркнул Крейг.
– Йану позарез нужна эта работа. Он говорит, что она поможет обрести себя. Ему пришлось так худо… Ты ведь не откажешь ему, папа? – умоляюще прошептала она.
– Нет, – вздохнул он, – не откажу.
– Я так и знала! – оживилась она, вновь превратившись в его счастливую малышку, ждущую обещанного лакомства, безразличную к миру больниц, крови, боли. – Йан внизу, – сообщила она. – Он хотел бы подняться сюда, поздороваться с тобой. Он ужасно тревожится за тебя. Можно, я позову его? Хотя бы на минуту?
– Передай, пусть идет на… – выругался Крейг.
У Энн перехватило дыхание. Если ему не изменяет память, он никогда не выражался при ней.
– О, папа! – охнула она. – Как ты можешь быть так несправедлив?!
Она повернулась и выбежала из палаты.
«Что ж, Энн уже взрослая, – подумал Крейг, устраиваясь поудобнее, – и уже знает все грязные ругательства. Нет, нужно немедленно перебираться в общую палату, куда посетителей не пускают».
В ту же ночь его оперировали. Анализы показали, что кровотечение возобновилось, не такое обильное, как тогда, в отеле, а медленное, внутреннее, источник которого так и не смогли определить, опасное и подтачивающее, уносящее жизнь.
Пока ему брили грудь и живот, еще до того, как сделать предоперационную инъекцию морфия, он с удивлением сознавал, что совсем не боится. Пятьдесят на пятьдесят. Так пообещал доктор. Условий справедливее просто быть не может.
Лица появлялись и исчезали, быстро, безмолвно, почти неразличимые сквозь застилавшую глаза дымку. Томас, доктор Гибсон, ничего не объяснявшие, ни о чем не предупреждавшие, его жена, дочь Марша, безобразно располневшая и плачущая, Гейл Маккиннон, свежая, словно только что из моря, Констанс, почти неузнаваемо строгая, Эдвард Бреннер…
Но Эдвард Бреннер мертв. Может, и остальных он видит во сне?
Крейг заговорил только однажды.
– Марша, – выдохнул он, – ну и разнесло же тебя.
Боль злобно грызла его, но Крейг старался не стонать. Тот африканец с ритуальными шрамами на щеках в салоне первого класса не понял бы его. Бремя Белого Человека. Он стоически держался, ждал прописанного каждые четыре часа укола морфия и не просил больше. Кто сказал, что стоицизм в наше время неуместен? Уж точно не его друг.
Рабочие сцены, все в белом, вносят реквизит: шприцы, пластиковые контейнеры с кровью. В освещенном центре сцены производят перестановки. В ушах Крейга эхом отдается шум прибоя. Он просыпался и снова засыпал. Лица появлялись и исчезали, что-то от него требуя. Где Йан Уодли, этот распущенный лгунишка? Куда исчезла Белинда Юэн в платье цвета электрик? Какие чеки приготовила ему на подпись?
Новые доктора. Лучший специалист в стране. Тихие, осторожные голоса медиков. Та скандинавская блондинка с волшебными руками больше не появилась. Увы.
Сколько дней прошло с тех пор, как он покинул Мейраг? Что пил на террасе маленького ресторана с видом на гавань Касси? Что рассказывала та девушка о своей матери?
Он уже мог садиться в постели и даже понемногу есть, но температура держалась. Утром – около ста одного, вечером – до ста трех с половиной[54]. У кровати постоянно стояла капельница с раствором антибиотиков, медленно проникавшим в вену. То ли лекарства, то ли жар держали его в полубессознательном состоянии. Постепенно он начал терять представление о времени и уже не помнил, сколько пробыл здесь. И хотя ни он, ни доктора внешне не выражали особого беспокойства, Крейг знал, что они встревожены, уж не подцепил ли он совершенно новый вид больничной инфекции, против которой все средства бессильны.
Доктор Гибсон снова запретил все посещения, и Крейг был благодарен ему за это. Гибсон пообещал также, что его выпишут, если нормальная температура продержится трое суток подряд. А пока Крейг слипающимися глазами смотрел на экран телевизора, установленного в изножье койки. В основном его интересовали бейсбольные матчи. Ему доставляло удовольствие наблюдать за молодыми людьми, быстро бегавшими по зеленой траве, под ясным солнышком, явно выигрывавшими и так же бесспорно проигрывавшими. Он вспомнил, что читал как-то об одном осужденном из штата Массачусетс. Об убийце, приговоренном к смерти. Тот тоже любил смотреть по телевизору бейсбольные матчи и жалел только о том, что никогда не узнает, станет ли чемпионом «Доджерс».[55]
Интересно, доживет ли он до того, когда станет известно, кто выиграет чемпионат в этом году?
Наконец Мерфи удалось убедить доктора Гибсона пропустить его к больному. Крейгу вот уже два дня как стало лучше. Температура упала до девяноста девяти по утрам и ста двух по вечерам. Мисс Белиссано по-прежнему отказывалась называть ему цифры, но доктор Гибсон был более снисходителен.
По лицу Мерфи Крейг не хуже, чем по отражению в зеркале, понял, что выглядит ужасно. Он не смотрелся в зеркало с самой операции.
– Я должен был увидеть тебя, Джесс, – заявил Мерфи. – Придется завтра лететь на западное побережье. Дела все копятся. Кому-то надо разгребать.
– Конечно, Мерф.
Собственный голос показался ему тонким и старческим.
– Больше трех недель в Нью-Йорке мне не высидеть, – продолжал Мерфи.
– Это столько я здесь пролежал? – спросил Крейг.
Мерфи как-то странно посмотрел на него.
– Да, – кивнул он.
– Долго.
– Очень. И доктора не могут сказать, когда отпустят тебя.
– Они просто не знают.
– Гибсон утверждает, что ты не сможешь работать… пальцем пошевелить… не меньше чем полгода. Даже если выйдешь завтра.
– Знаю. Он мне говорил.
– Томасу нельзя ждать, – убеждал Мерфи. – Чтобы закончить фильм в этом году, нужно начинать съемки через месяц, не позже. Из-за погоды.
– Из-за погоды, – согласился Крейг.
– Они с Уодли работают по восемнадцать часов в сутки. Томас говорит, что Уодли вытянет. Говорит, ты просто обалдеешь, увидев окончательный вариант.
– Наверняка.
– Хочешь знать, кого они взяли на главные роли?
– Не слишком, Мерф.
Снова этот странный взгляд.
– О деньгах не беспокойся, – заверил Мерфи. – Получишь кругленькую сумму сразу, а потом пять процентов с прибыли.
– Как-нибудь в другой раз расскажешь подробнее, – попросил Крейг.
– Томас оказался настоящим джентльменом.
– Я в этом уверен.
Крейг закрыл глаза. Мерфи казался очень далеким, словно был на другом конце длинного зала, и это его беспокоило.
– Ты устал, – посочувствовал Мерфи. – Не буду больше тебя волновать. Позвони, если что-нибудь понадобится.
– Обязательно, – пообещал он, не открывая глаз.
– Соня шлет привет.
– Спасибо, Мерф.
– Не бери в голову, малыш. Все обойдется, – сказал на прощание Мерфи, едва не столкнувшись в дверях с мисс Белиссано.
– Включите телевизор, пожалуйста, – попросил Крейг.
Услышав рев зрителей, Крейг открыл глаза. В Сент-Луисе было солнечно.
В тот день, когда температура впервые упала до нормальной, доктор Гибсон позволил Пенелопе навестить больного. Насколько Крейг знал, доктору не сказали, что они разводятся, так что тот сделал вполне естественную, на его взгляд, вещь. Вероятно, посчитал, что приготовил пациенту приятный сюрприз.
Вошедшая Пенелопа жалко улыбалась. Она сделала новую прическу, и волосы по-девичьи падали на плечи. На ней было темно-синее платье: когда-то он сказал, что больше всего любит ее в синем. Как давно это было.
– Здравствуй, Джесс, – тихо, дрожащим голосом выдавила она, опустив голову. В последний раз они виделись в адвокатской конторе. Он никак не мог вспомнить, сколько месяцев прошло с тех пор.
Она наклонилась и поцеловала его в щеку. Десятитысячный поцелуй.
– Привет, Пенни. Ну как твоя пряжа?[56]
Их собственная старая шутка.
– Что? – нахмурилась она. – Какая пряжа?
– Не важно, – бросил он. Она не поняла.
– Как ты себя чувствуешь?
– Прекрасно. Разве не видишь?
И чтобы не думать о ней, постарался вспомнить о ее адвокатах. Пенелопа поджала было губы, но тут же опомнилась, стараясь сдержать гнев.
– Доктор Гибсон говорит, что есть обнадеживающие признаки. Очень обнадеживающие.
– Это весьма окрыляет.
– А ты нисколько не меняешься! – выпалила она. Гнев все-таки на мгновение прорвался наружу.
– Я человек постоянный, – сообщил Крейг, стараясь не поддаваться ее жалости, которую она, вероятно, считает любовью.
– Доктор Гибсон считает, что после выписки ты должен долго отдыхать. Нужно, чтобы кто-то присматривал за тобой. Хочешь вернуться домой?
Он вспомнил просторное кирпичное здание на тихой, обсаженной деревьями нью-йоркской улице, маленький садик позади, с пыльной листвой, письменный стол в кабинете, книги на полках. Они согласились поделить мебель, но руки не доходили. Да ему и некуда было ее ставить: нельзя же возить письменный стол из отеля в отель.
Она ждала ответа, но Крейг молчал.
– Хочешь отозвать адвокатов и остановить бракоразводный процесс? Я хочу.
– Я подумаю.
У него не хватает сил противостоять ей сейчас.
– Что заставило тебя пойти на это? Ни с того ни с сего прислал мне это ужасное письмо с просьбой о разводе. В конце концов, мы неплохо ладили. Ты делал что в голову взбредет. Месяцами не бывал дома. Я даже не знала, в Штатах ты или нет. И никогда не задавала вопросов о твоих… кто бы там они ни были. Может, мы и не воплощали собой светлую юношескую любовь, но мы все же уживались.
– Уживались, – повторил он. – Да мы по пять месяцев не спали.
– А по чьей вине? – почти взвизгнула она.
– По твоей.
У нее весьма избирательная и очень услужливая память. Он не удивится, если она будет все отрицать с полным сознанием собственной правоты. Но к его удивлению, она вдруг заявила:
– А чего ты еще ожидал? Все эти годы ты ясно давал понять, что я тебе надоела. Ты приглашал чуть не весь свет, только бы не ужинать наедине со мной.
– Включая Берти Фолсома.
Пенелопа покраснела.
– Включая Берти Фолсома. Насколько я понимаю, твоя потаскушка дочь проболталась тебе о Женеве.
– Именно.
– Он по крайней мере внимателен ко мне.
– Браво. Молодец, ничего не скажешь. Да и ты тоже.
– Еще одна жертва, которую можешь добавить к своему счету, – прошипела она. Все сдерживающие барьеры куда-то исчезли. Ее уже не останавливали ни пластиковый сосуд, изливавший бесполезные лекарства в его вену, ни больничная палата, ни белые стены. – Толкнул ее в объятия этого пьяницы.
– Он бросил пить, – вырвалось у него. Слишком поздно Крейг сообразил, как по-идиотски это звучит.
– Зато не бросил других развлечений. Женился три раза и все-таки ищет чего поновее. Больше я с этой девчонкой слова не скажу. А твоя вторая дочь! Бедняжка Марша! Мчится сюда из самой Аризоны, чтобы утешить отца, – и что ты ей сказал? Неужели других слов не нашлось, кроме «Марша, ну и разнесло же тебя!»? Она несколько дней проплакала. Знаешь, что она мне сказала? «Даже истекая кровью, он все-таки издевается надо мной. Он меня ненавидит». Я попыталась уговорить ее приехать сюда со мной, но она отказалась.
– Я извинюсь перед ней, – устало пообещал Крейг. – Как-нибудь потом. Я вовсе ее не ненавижу.
– Зато ненавидишь меня.
– Я никого не могу ненавидеть.
– Даже сейчас ты готов на все, чтобы меня унизить.
Крейг холодно отметил привычные мелодраматические интонации, которые появлялись в ее голосе при упоминании о муках, которые она терпит.
– Что и говорить, прямо сейчас эта особа бесстыдно слоняется внизу, готовая броситься к тебе, как только ты меня вышвырнешь отсюда.
– Не знаю, о какой особе ты толкуешь, – отбивался он.
– О твоей парижской шлюхе. Прекрасно знаешь. И я тоже.
Пенелопа стала нервно расхаживать по комнате, очевидно, пытаясь взять себя в руки. Он закрыл глаза и вжался в подушку.
– Я пришла сюда не затем, чтобы спорить, Джесс, – уговаривала Пенелопа прежним рассудительным тоном, – а затем, чтобы сказать: твой дом открыт для тебя. Буду рада. Более чем.
– Я же сказал, что подумаю, – повторил он.
– Сделай одолжение, – допытывалась она, – раз и навсегда объясни, зачем тебе понадобился развод.
Ну что же, сама напросилась. Он открыл глаза, чтобы видеть ее реакцию.
– Однажды в Нью-Йорке я встретил Элис Пейн.
– При чем тут Элис Пейн?
– Она рассказала мне забавную историю. Каждый год пятого октября она получает дюжину роз. Без карточки. От неизвестного.
Судя по тому, как внезапно окаменело ее лицо, как напряглись плечи, удар попал в цель.
– Ни одна женщина, – продолжал он, – имеющая какое-то отношение к дюжине роз по пятым числам октября, не получит меня ни живым, ни мертвым.
Он снова лег и закрыл глаза. Она сама полезла на рожон и получила, и теперь его захлестывало огромное облегчение оттого, что правда наконец вышла наружу.
– Прощай, Джесс, – прошептала она.
– Прощай.
Он услышал, как тихо закрылась за ней дверь. И впервые заплакал. Не от гнева, не от горечи потери. А потому, что, прожив с женщиной двадцать лет и имея от нее двоих детей, не испытывал при расставании никаких чувств, даже ярости.
Немного погодя он вспомнил, что Пенелопа говорила о Констанс.
– Внизу ждет леди, – сказал он мисс Белиссано. – Не попросите ее подняться? И дайте мне щетку, расческу и зеркало.
Он зачесал волосы назад. За три недели они сильно отросли. Густые, длинные, они словно отвергали болезнь. И седины не прибавилось. Глаза на осунувшемся лице казались неестественно огромными и блестящими. Он сильно похудел и от этого выглядел помолодевшим. Правда, сомнительно, чтобы Констанс понравился такой способ омоложения.
Но дверь открылась, и на пороге появилась Белинда. Крейг едва скрыл разочарование.
– Белинда, – сердечно приветствовал он, – как я рад вас видеть!
Она чмокнула его в щеку. Похоже, Белинда плакала: грусть облагородила маленькое личико с резкими чертами, сделав его более женственным. На ней было все то же платье цвета электрик. Особый наряд для визитов к умирающим.
– В этой больнице сплошные чудовища, – пожаловалась она. Голос тоже стал мягче. Должно быть, его болезнь благотворно на нее подействовала. – Я приходила каждый день всю неделю подряд, и меня не пускали.
– Мне очень жаль, – солгал он.
– Но я в курсе всех дел. И уже поговорила с мистером Мерфи. Вам не придется работать над этой картиной.
– Боюсь, что так.
Она нервно сцепила руки. Узкие и огрубелые. Двадцать три года за пишущей машинкой. Ярко-красный лак на ногтях. Просто талант безошибочно выбирать неудачные цвета.
Белинда подошла к окну, поправила жалюзи.
– Джесс, – начала она, – я хочу уволиться.
– Не верю.
– Лучше поверьте.
– Нашли другое место?
– Конечно, нет! – оскорбленно вскинулась она, поворачиваясь спиной к окну.
– Зачем же увольняться?
– Вы все равно не сможете работать, даже когда выпишетесь отсюда.
– Какое-то время – да.
– Очень долго. Джесс, не будем себя обманывать. Вам не нужна ни я, ни этот офис. Вам следовало бы закрыть его пять лет назад. Вы держали его из-за меня.
– Вздор, – отмахнулся он, стараясь говорить как можно резче. Она знала, что он лжет, но ложь была сейчас необходима.
– Я просто совершала привычные телодвижения, – тихо призналась она. – Спасибо, но с меня хватит. Так или иначе, я давно хотела уехать из Нью-Йорка. Больше мне не вынести. Здесь какой-то сумасшедший дом. Только в этом месяце ограбили двух моих друзей. Средь бела дня. Моего племянника ударили ножом в грудь за пачку сигарет, и он едва выжил. Я не смею выйти из квартиры вечером. Уже год как не ходила ни в театр, ни в кино. На моей двери четыре замка. Каждый раз, когда на моем этаже останавливается лифт, я трясусь от страха. Джесс, если им так нужен этот город, пусть забирают.
– Куда вы поедете? – мягко спросил он.
– Моя мама все еще живет в нашем доме, в Ньютауне, – пояснила она. – Последнее время она сильно болеет. Буду ухаживать за ней. Это красивый, спокойный маленький город, где можно без опаски гулять по улицам.
– Может, я тоже туда переберусь, – заметил он полусерьезно.
– Это еще не самое худшее.
– А на что собираетесь жить?
Неизбежный тягостный вопрос.
– Не так уж мне много и нужно. Удалось порядочно скопить. Благодаря вам, Джесс. Вы невероятно великодушный человек, и я хочу, чтобы вы знали, как я это ценю.
– Вы же работали.
– Мне нравилось работать на вас. Повезло. Лучше всякого брака, а уж я этого насмотрелась.
Крейг рассмеялся:
– Не так-то много этим сказано, правда?
– Для меня много, – возразила она. – Кстати, договор на аренду офиса кончается в этом месяце. Сказать, что мы не продлеваем его?
Она ждала ответа, рассматривая кроваво-красные ногти.
– Мы хорошо потрудились вместе, Белинда, верно? – почти нежно выдохнул Крейг. – Долгий славный путь.
– Верно. Долгий славный путь.
– Передайте, что мы не возобновим договор.
– Они не удивятся, – кивнула она.
– Белинда, – попросил он, – подойдите и поцелуйте меня.
Белинда церемонно поцеловала его в щеку. Он так и не смог ее обнять: мешала трубка капельницы.
– Белинда, – прошептал он, когда она выпрямилась, – кто теперь будет печатать мне чеки на подпись?
– Сами напишете. Вы уже большой, взрослый мужчина. Только не разбрасывайтесь ими направо-налево.
– Попытаюсь, – пообещал он.
– Если задержусь хотя бы на одну минуту, – пробормотала она, – просто взвою от тоски.
И вылетела из комнаты.
Он откинулся на подушку и уставился в потолок. Ну вот, двадцать три года долой. Прибавь к этому двадцать один год супружеской жизни. Отбыл сразу два срока небесного приговора.
Не такой уж плохой итог дня.
Когда в палату вошла Констанс, Крейг спал и видел во сне, что какая-то смутно знакомая женщина его целует. Открыв глаза, он увидел, что Констанс стоит рядом и серьезно смотрит на него.
– Привет, – сказал он.
– Если хочешь спать, поспи. Я посижу рядом, посмотрю на тебя.
– Не хочу спать.
Она стояла с того бока, где не было трубки, так что он сумел сжать ее руку. Прохладная жесткая ладонь.
Констанс улыбнулась ему:
– Тебе давно следовало отпустить волосы. Очень идет.
– Еще неделя, – усмехнулся он, – и я смогу выступать на следующем Вудстокском фестивале.[57]
Пожалуй, шутливый тон здесь уместнее всего. Нужно постараться и дальше выдерживать нужную тональность. Констанс – не его жена и не Белинда Юэн. Им лучше не обижать друг друга и не вспоминать о чудесных мгновениях, проведенных вместе.
Она придвинула стул и села рядом с кроватью. На ней было черное платье, не выглядевшее, однако, траурным. Констанс казалась безмятежной и прекрасной; волосы, зачесанные наверх, открывали красивый широкий лоб.
– Произнеси по буквам «Мейраг», – попросил он, но тут же пожалел о вырвавшихся словах. Так уж получилось. Машинально.
Но Констанс рассмеялась, и все встало на свои места.
– Сразу видно, что ты поправляешься.
– Причем молниеносно.
– Молниеносно. Я боялась, что так и не удастся повидать тебя. Должна завтра лететь в Париж.
– Вот как…
Повисло молчание.
– Чем собираешься заняться, когда выйдешь отсюда?
– Какое-то время придется отдохнуть.
– Знаю. Обидно, что так вышло с картиной.
– Все не так плохо. Она свою службу сослужила. По большей части.
– Ты вернешься в Париж?
– А когда ты оттуда уезжаешь?
– Недели через две.
– Я скорее всего туда не вернусь.
Констанс снова помолчала.
– Мне сняли дом в Сан-Франциско, – выдавила она наконец. – Говорят, оттуда можно видеть залив. Но наверху есть большая комната, где мужчина может спокойно работать. Туда не доносятся вопли детей. Или почти не доносятся.
Крейг улыбнулся.
– Похоже на подкуп, да? – спросила она и сама же ответила: – Кажется, похоже. – Она засмеялась, но тут же вновь стала серьезной. – Ты уже подумал о том, что собираешься делать после того, как выпишешься? И куда поедешь?
– В общем, нет.
– Но не в Сан-Франциско?
– Думаю, я немного стар для Сан-Франциско, – мягко отказался он, зная, что имеет в виду вовсе не город и она тоже это понимает. – Но я приеду погостить.
– Я буду ждать, – кивнула она. – Во всяком случае, какое-то время.
Предупреждение прозвучало недвусмысленно, но что тут можно было поделать?
– Возьми город штурмом, – посоветовал он.
– Попробую так и сделать. – Она снова помрачнела. – Жаль, что наши биочасы, в сущности, не совпадают. Но все равно, если устанешь от гостиничных номеров, вспомни о Констанс.
Она нежно погладила его по лбу. Прикосновение Констанс было приятным, но не будило плотских желаний. Истощенное болезнью тело было целиком поглощено недугом. Болезнь – высшее проявление эгоизма.
– Последние дни я занималась тем, что ненавижу больше всего, – призналась она, отнимая руку. – Все подсчитывала, кто кого больше любит. И сюрприз получился ошеломляющий: я люблю тебя больше, чем ты меня. Такое со мной впервые. Что ж, в жизни все бывает.
– Не знаю… – начал он.
– Я знаю, – резко перебила она. – Я знаю.
– Но я еще не сравнивал, – оправдывался Крейг.
– И не надо. Кстати, только что вспомнила: я встретилась с твоей милой молоденькой подружкой из Канн. Как-то вечером нас познакомил доктор Гибсон. Мы очень подружились и несколько раз обедали вместе. Она очень умная. Но волевая. Завидно волевая.
– Я не настолько хорошо ее знаю.
Как ни удивительно, он говорил правду. Ему действительно неизвестно, волевая Гейл или нет.
– Она, разумеется, все знала обо мне.
– Только не от меня.
– Нет. Наверняка не от тебя, – улыбнулась Констанс. – Знаешь, она ведь возвращается в Лондон.
– Я ее не видел.
– Бедный Джесс, – иронически бросила Констанс, – все трудящиеся дамы бегут от него. Рекомендую тебе на будущее держаться какого-нибудь одного города и выбирать праздных женщин.
– Терпеть не могу праздных женщин, – проворчал он.
– Я тоже, – призналась Констанс и, порывшись в сумке, вытащила листок бумаги.
Он узнал почерк Гейл.
– Я обещала передать номер ее телефона, если увижу тебя первой. Она сейчас в Филадельфии, живет у отца. Из экономии. Она сказала мне, что разорена вчистую.
Крейг взял листок. Адрес и номер телефона. Больше ни слова. Он положил бумажку на прикроватный столик.
Констанс встала.
– Твоя сиделка велела не утомлять больного.
– Я увижу тебя снова?
– Только не в Нью-Йорке, – ответила она, натягивая перчатки. В этом городе уже через час перчатки ни на что не похожи.
Она раздраженно стряхнула что-то с перчатки.
– Не стану притворяться, будто на этот раз поездка в Нью-Йорк доставила мне удовольствие. Прощальный поцелуй. – Она наклонилась над ним и поцеловала в губы. – Ты ведь не собираешься умирать, правда, дорогой? – прошептала она.
– Не собираюсь. По крайней мере не думаю.
– Я бы не вынесла твоей смерти. Пришлю тебе открытку с видом Золотых Ворот, – пообещала она, выпрямляясь.
И ушла.
Ушла. Лучшая из женщин, с которыми ему довелось встретиться. Теперь и она ушла.
Он позвонил в Филадельфию только наутро. Мужчина, поднявший трубку, сказал, что он отец мисс Маккиннон, и спросил, кто звонит. Когда Крейг назвался, голос мистера Маккиннона мгновенно стал ледяным и он с видимым удовольствием сообщил Крейгу, что мисс Маккиннон накануне улетела в Лондон.
Что же, все справедливо. Вряд ли он обошелся бы с Йаном Уодли более любезно, если бы тому вздумалось позвонить.
Неделю спустя его выписали из больницы. Температура оставалась нормальной три дня подряд. Вечером доктор Гибсон долго с ним беседовал. По крайней мере ему казалось, что разговор был достаточно долгим.
– Вы счастливчик, мистер Крейг, – объявил он. Он сидел перед пациентом, худощавый, аскетичного склада старик, делавший получасовую гимнастику каждое утро и глотавший по десять дрожжевых таблеток в день. Теперь он вещал непререкаемым, не допускающим возражений тоном. – Большинство людей на вашем месте не отделались бы так легко. Но теперь следует быть осторожным. Очень-очень осторожным. Придерживаться диеты. Ни капли алкоголя. В течение года ни глотка вина. А может, и навсегда.
Доктор Гибсон был фанатичным трезвенником, и Крейгу показалось, что при этих словах в его голосе сталью прозвенело злорадное удовольствие.
– И забудьте о работе на шесть месяцев. У меня сложилось впечатление, что вы вели весьма непростую жизнь. Слишком сложную, если быть точным.
Впервые доктор Гибсон намекнул, что вывел кое-какие заключения из списка людей, посещавших его пациента.
– Если бы меня заставили установить точный диагноз вашего заболевания и причину приступа, я посмел бы предположить, что дело не в функциональном расстройстве, пороке развития или дурной наследственности. Вы, разумеется, понимаете, что я имею в виду, мистер Крейг.
– Понимаю.
– Живите проще, мистер Крейг. Проще, – посоветовал доктор Гибсон. – И ешьте дрожжи.
«Ешьте дрожжи, – подумал Крейг, глядя вслед удаляющемуся доктору Гибсону. – Это действительно проще всего».
В вестибюле больницы Крейг пожал мисс Белиссано руку и вышел на улицу. Он сказал мисс Белиссано, что пришлет кого-нибудь за вещами.
Он ступил в ослепительное солнечное сияние медленно, щурясь от яркого света. Одежда болталась на изможденном теле. День выдался ясным и теплым. Он не сообщил никому, даже Белинде, что выписывается сегодня. Боялся сглазить. Даже открывая дверь, он все боялся, что мисс Белиссано вдруг догонит его, скажет, что произошла ужасная ошибка и его следует немедленно уложить в постель и поставить капельницу.
Но никто не гнался за ним. Крейг бесцельно побрел по солнечной стороне улицы. Прохожие казались ему прекрасными. Стройные девушки шли, гордо подняв голову, слегка улыбаясь, словно вспоминая невинные, но бурные удовольствия прошлой ночи. Молодые люди, бородатые и безбородые, шагали решительно, уверенно глядя встречным в глаза. Малыши, чистые и смеющиеся, в красивых костюмчиках, с неустанной энергией сновали взад-вперед. Старики, опрятные и подобранные, с явным фатализмом воспринимали будущий неминуемый конец, особенно в такой солнечный денек.
Он не заказал номера в отеле. Он один, живой, способен идти, и каждый шаг тверже предыдущего, один, без адреса и дома, бродит по улицам родного города, и ни одной живой душе в мире не известно, где он сейчас: ни другу, ни врагу, ни возлюбленной, ни дочери, ни деловому партнеру, ни адвокату, ни банкиру, ни налоговому инспектору. Никто не может предъявить ему претензий, добраться до него. Коснуться.
По крайней мере в этот момент, в эту минуту он освободил для себя жизненное пространство.
Проходя мимо магазина, торговавшего пишущими машинками, он остановился и стал изучать витрину. Машинки были чистенькими, новенькими, так и манили к себе. Он вошел в магазин. Услужливый продавец показал ему различные модели. Он вспомнил о своем приятеле матадоре, выбиравшем шпаги в мадридской лавке, и сказал продавцу, что вернется и сделает заказ.
Он вышел из магазина. В ушах звучало уютное стрекотание машинки, которую он непременно купит.
Крейг оказался на Третьей авеню, перед салуном, в котором когда-то считался завсегдатаем. Он взглянул на часы. Половина двенадцатого. Самое время выпить.
Он вошел. Салун оказался почти пуст. Двое беседуют у дальнего конца стойки. Мужские голоса.
Подошел бармен, здоровенный верзила в фартуке, розовый и жирный, с перебитой переносицей и бровями, испещренными шрамами. Бывший боксер. Бармен был прекрасен.
– Шотландское с содовой, – заказал Крейг и с огромным интересом стал наблюдать, как бармен наливает виски в мерный стаканчик, выплескивает его в стакан поверх кубиков льда и открывает бутылку содовой. Крейг сам налил содовую, осторожно, наслаждаясь холодком бутылочного стекла, леденившим руку, и долго задумчиво смотрел на выпивку. И наконец с наслаждением ленивого школьника, сбежавшего с занятий, сделал первый глоток.
С другого конца стойки донесся громкий голос:
– И тогда я сказал ей… Знаешь, что я сказал? «Вали отсюда в…» Так и сказал.
Крейг улыбнулся. Он все еще жив.
Все еще живой, он снова отпил из стакана. Ничего вкуснее он в жизни не пил.
Примечания
1
Символ Каннского кинофестиваля. – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Коробка для пленки.
(обратно)3
У нас – бабье лето.
(обратно)4
Войдите (фр.).
(обратно)5
Добрый день месье, мадам (фр.).
(обратно)6
Коэффициент умственного развития.
(обратно)7
Рыба в белом вине.
(обратно)8
Историческая провинция во Франции.
(обратно)9
Одно из имен бога Вишну, требующего жертвы во имя избавления от греха.
(обратно)10
Один из основоположников философии хиппи; культовая фигура молодежных движений 60–70-х годов.
(обратно)11
Имеется в виду противозачаточное средство.
(обратно)12
Героиня одноименного эротического романа.
(обратно)13
Добрый день, господа (фр.).
(обратно)14
Джин с шипучкой для дамы в бунгало сорок два, пожалуйста (ит.).
(обратно)15
Да, да, синьор (ит.).
(обратно)16
Долговременное огневое сооружение.
(обратно)17
Я известный писатель в Нью-Йорке (фр.).
(обратно)18
Мои три прекрасных молодых американца (фр.).
(обратно)19
Знаменитая американская актриса (1879—1959 гг.).
(обратно)20
Намек на Питсбург, центр металлургических заводов.
(обратно)21
Французский ликер.
(обратно)22
Что? (фр.)
(обратно)23
Намек на роман Д. Апдайка «Одинокий бегун на длинные дистанции».
(обратно)24
Добрый вечер (фр.).
(обратно)25
Черный эскадрон (фр.).
(обратно)26
Первый ряд мест для публики (исп.).
(обратно)27
Обнимаю (исп.).
(обратно)28
чудак (исп.).
(обратно)29
шумные празднества (исп.).
(обратно)30
самая драгоценная, дражайшая (ит.).
(обратно)31
дорогая (ит.).
(обратно)32
Мелкие торговцы наркотиками.
(обратно)33
Не стану спорить (лат.).
(обратно)34
Правдивое, реалистичное кино, течение во французском кинематографе конца 50-х годов.
(обратно)35
Речь идет о герое одноименного романа Ф. С. Фицджеральда.
(обратно)36
Рубашка из специальной ткани типа рогожки.
(обратно)37
Еще бутылку! (фр.)
(обратно)38
псевдоним (фр.).
(обратно)39
Два коньяка, пожалуйста (фр.).
(обратно)40
Кассиус Клей, чемпион мира по боксу, перейдя в мусульманство, взял себе имя Мухаммед Али.
(обратно)41
симпатичное (ит.).
(обратно)42
Очень симпатичное (ит.).
(обратно)43
Перефразированные слова Ариеля из пьесы Шекспира «Буря».
(обратно)44
Будьте любезны, месье Уодли (фр.).
(обратно)45
Месье Уодли нет (фр.).
(обратно)46
Вы уверены, мадам? (фр.)
(обратно)47
Да-да, он уехал (фр.).
(обратно)48
Съехал или уехал, мадам? (фр.)
(обратно)49
Съехал, съехал. Съехал вчера утром (фр.).
(обратно)50
Он оставил адрес? (фр.)
(обратно)51
Нет, месье, нет. Ничего! Ничего! (фр.)
(обратно)52
телефонисток (фр.).
(обратно)53
Десять центов.
(обратно)54
По Фаренгейту. Приблизительно 38—39 градусов по Цельсию.
(обратно)55
Знаменитая бейсбольная команда.
(обратно)56
Намек на жену Одиссея Пенелопу, которая, чтобы отделаться от назойливых женихов, сказала, что выйдет замуж в тот день, когда соткет покрывало на гроб своего сына Лаэрта. По ночам она распускала все, что соткала за день.
(обратно)57
В Вудстоке в 1969 году состоялся первый фестиваль рок-музыки.
(обратно)
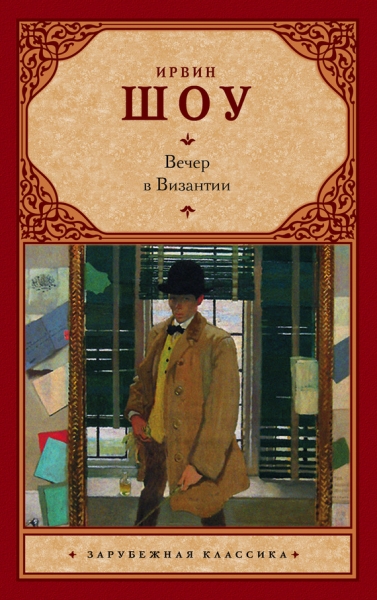


Комментарии к книге «Вечер в Византии», Ирвин Шоу
Всего 0 комментариев