Мигель Анхель Астуриас
― ГЛАЗА ПОГРЕБЕННЫХ ―
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
— Сосут и сосут эти гринго!
Не сдержалась Анастасиа — да, просто Анастасией звали ее, эту женщину без роду, без племени, неопределенных лет и без особых примет; впрочем, как все люди улицы, ничего она не скрывала. Заглянула она в таверну «Гранада» — здесь и дансинг, и бар, и ресторанчик, где продают мороженое, отдающее парикмахерской, шоколадки в оловянной фольге, многослойные сандвичи, прохладительные с пеной в тысячу расцветок, заграничное спиртное — и вместо привычного «доброе утро» бросила:
— Сосут и сосут эти гринго!
Распахивались двери в огромный, вместительный зал, заставленный круглыми приземистыми столиками и массивными неуклюжими креслами, обитыми рыжеватой кожей (такие кресла удобны для бездельников и выпивох); столики из пористого дерева ежедневно оттирали шкуркой, не прибегая к мокрой тряпке, оттого они выглядели всегда свеженькими, новенькими, будто только что внесены сюда.
Все здесь блистало чистотой — будто только-только обновили все, — если, конечно, не брать в расчет чистильщиков обуви, жалких, грязных, оборванных ребятишек, похожих на старичков с детскими голосками:
— Почистить!.. Кому почистить?… Почистим, клиент?… Одним махом, клиент!..
Все здесь блистало, как новенькое, в десять часов утра. Впрочем, почему в десять — стрелки уже подступали к одиннадцати!..
Новым казался и цементный пол, отливавший глазурью; как новые, искрились свежепротертые оконные стекла и зеркала, в которых цветастыми сполохами отражались сверкающие автомобили, проносившиеся по Шестой авениде. Новыми в это утро представлялись и прохожие, высыпавшие на тротуары; они сталкивались друг с другом, обгоняли друг друга, на ходу приподнимая шляпы, рассыпаясь в любезностях, обмениваясь взглядами, поклонами, рукопожатиями. Новыми казались и стены таверны, расписанные по тропическим мотивам, и алебастровый потолок, и лампы отраженного света — хрустальные гусеницы, превращающиеся по ночам в дивных бабочек с флюоресцирующими крыльями. Новое время показывали часы. По-новому красовались официанты в черных брюках и белых курточках — совсем как тореро на бое быков. Новыми были и пропойцы — белобрысые гиганты, тупо созерцавшие хмельными голубыми глазами кишащий муравейник гватемальской столицы. И вновь слышался голос Анастасии:
— Сосут и сосут эти гринго!
Спозаранку расквартировались в «Гранаде» офицеры и солдаты в зеленоватой форме, потягивая whisky and soda, пережевывая чикле, смакуя ароматные сигареты, лишь кое у кого торчали в зубах трубки, и всем им было наплевать на все, что происходило вокруг — в этой столице, в этой стране. В высшей степени были безразличны ко всему эти парни, одуревшие от угара надконтинентального величия своей Америки.
Утренние клиенты расположились за соседними столиками. Коммивояжеры не расставались и здесь с неразлучными своими компаньонами — чемоданчиками, набитыми образцами товаров; машинально проглатывали они завтрак, пожирая глазами яства, рекламируемые на глянцевитых страницах иллюстрированных журналов. Не хлебом единым… но и рекламой жив buisness man [1]. Порой в таверну заглядывали местные завсегдатаи, горевшие желанием с утра пораньше пропустить глоточек. А осушив стопку, сплевывали на улице: не по вкусу им было, что чужеземная солдатня тут торчит. Конечно, это союзники, но так и жди от них пинка в зад. Кое-кому, правда, не претило сидеть у стойки или за столиком рядом с янки, и вовсе не волновал их престиж родины; может, потому, что воспитывались они в Yunait Esteit [2] или когда-то работали в Yunait, они не только разговаривали по-английски, но, казалось, даже рыгали по-английски — во всю глотку. Попадались и такие, что выдавали себя за бывалых, много ездивших по свету людей, — и хотя по-английски они не говорили, да и не понимали ни слова, это им не мешало то и дело восклицать: «O'kay! O'kay, America!»
Солдаты чувствовали себя здесь как дома: одна нога вытянута под столом, другая закинута на подлокотник кресла. Расправившись с очередной дозой whisky and soda, они с размаху ударяли пустым бокалом о стол и принимались бормотать. Помолчат, побормочут, еще побормочут и опять помолчат. Будто телеграфируют друг другу. Иногда кто-нибудь, оторвавшись от сигареты или трубки, выдавал соленую остроту под громкий одобрительный хохот собутыльников. И рыжие, голубоглазые, белорукие парни, рассевшиеся у стойки бара, спиной к тем, что сидели в зале, тотчас поворачивались на крутящихся высоких табуретах и, не расставаясь с бокалом, пытались разглядеть, кто это так здорово рубанул, а потом разражались аплодисментами. И отовсюду сверкали, как у гренадеров императорской гвардии, золотые кольца на пальцах, золотые браслеты с золотыми часами на толстых запястьях…
— Сосут и сосут эти гринго!
— Тетенька, осторожней! Еще услышат!.. — подал голос худенький мальчуган, тенью следовавший за мулаткой.
— А пусть услышат… Говорю, что на душе лежит… Пусть слышат, ежели хоть единое слово разберут по-испански!..
Бармен принимал от клиентов заказы и, почесывая затылок, цедил сквозь зубы:
— Могло бы их принести и попозже… Подумать только, с самого рассвета окопались тут… эти — с военной базы…
Косоватые глазки, большой тонкогубый рот под жидкими отвислыми усами — бармен удивительно походил на акулу, притаившуюся в тени.
Из ящиков и корзин он выбирал бутылки и, вытаскивая каждую, словно шпагу из соломенных ножен, выстраивал их, как солдат, в боевом порядке. В авангарде шли бутылки виски, за этими ударными частями шествовали бутылки импортного и местного — подслащенного и тошнотворного — рома, а за ними — бутылки джина, точно прозрачные кирпичи, пылавшие белым огнем, бутылки коньяка с кичливыми призовыми медалями на этикетках, бутылки марочного вина, обернутые золотистой бумагой, бутылки ликера, напоминавшие сирен, запутавшихся в сетях…
И пока бармен выстраивал ряды бутылок, его помощник, обслуживавший посетителей, изливал душу:
— А оттого, что полынь растираю, сеньор Минчо, у меня лиловеют ногти, но что еще хуже — порой в голову бьет, бьет и бьет…
Резкий запах болеутоляющего эликсира, полынной — собственно, даже не полынной, а перно — кружил ему голову, а ногти его лиловели потому, что пальцами он крепко-крепко сжимал бокалы с кусочками льда, выжидая, пока капелька эликсира не придаст нужный колер белесовато-мутной жидкости.
— Тетенька, я пойду-у-у… — тянул мальчуган, устало переступая с ноги на ногу перед дверьми таверны.
— Ну, иди, иди… — подтолкнула мальчика мулатка.
Сразу как-то перекосившись и начав прихрамывать, скривив рот и приподняв одно плечо, чтобы вызвать больше жалости, мальчуган со шляпчонкой в руках вошел в таверну. Донельзя грязный, испещренный лишайными пятнами, в лохмотьях и босой, он приблизился к столикам, за которыми восседали белобрысые гиганты — рядом с ними мальчуган казался еще более черным. («Аи, — вздыхала мулатка Анастасиа на пороге, — совсем негритеночком выглядит мой мальчонка среди этой публики!») Солдаты, занятые жевательной резинкой, не переставая двигать челюстями — в такт жвачке они даже ушами шевелили, — бросили ему несколько монеток. Кто-то предложил мальчику виски, кто-то отпугнул горящей сигаретой. Официанты чистыми салфетками отмахивались от него, как от мухи.
Седеющий розовощекий сержант, обращаясь к кассиру, выглядывавшему из-за витрины с сигаретами, шоколадом, карамельками и другими сластями, кричал:
— Не пугат! Убиват надо, один щелчок… насекоми… Убиват… убиват… вес hispanish [3] насекоми!
И, довольный своей, как ему казалось, остротой, он разразился хохотом, а малыш спешно ретировался к двери — почти бежал под резкими взмахами салфеток в руках официантов.
— Сколько собрал-то… — вымолвила Анастасиа, зачерпнув в горсть монетки и прикинув на вес.
А мальчуган, оставив у нее шляпчонку, уже понесся выпрашивать афишку с львиными и конскими мордами, с портретами каких-то людей и неведомыми ему буквами — такие афишки раздавали прохожим около кинотеатра. Как бы ему хотелось быть одним из тех, кто распространяет эти афишки, — если бы разрешила тетя! Тогда можно будет смотреть кино задаром…
«Дева Мария, сидеть в темноте, да еще платить за это?… — обрывала мальчика Анастасиа всякий раз, как он просился в кино. — Дома у нас электричества нет, так зачем же нам, беднякам, деньги еще платить? Стемнеет — вот и начинается наше кино. Нет, сыночек, жизнь и так дорога, зачем еще тратить… зрение на темноту!»
— Значит, hispanish — насекомые? — откликаясь на слова сержанта, спросил по-английски юноша, сидевший со своими друзьями за ближайшим столиком. — Вот вы называете нас насекомыми, а сами в нас нуждаетесь!
— Мексике — насекоми, кусат очен крепко, — все громче ораторствовал по-испански сержант. — А Сентрал Америка — насекоми маленки, безумии… Антиллы — нет, не насекоми, только гусеница… а Южная Америка — таракан с претензиями!
— И все же в Латинской Америке вы нуждаетесь!
— Мы в Миннесота не нуждаемся, приятел. Миннесота — это не Вашингтон, не Уолл-стрит!
Из-за соседнего столика раздался звонкий голос:
— Скажите-ка ему, пусть убирается в…!
Гудят клаксоны автомобилей последней модели, проезжающих по Шестой авениде. Спешат прохожие. Полдень. Жара. «Гранада» полным-полна. Все столики заняты. Бармен — маг и волшебник напитков — берет бутылки не глядя, на ощупь, и, ловко перебросив с руки на руку, наполняет бокалы. Официанты сбиваются с ног. Неумолчно звякает касса. Телефон. Газеты. Автомат-проигрыватель «Рокола». Анастасиа…
— Сосут и сосут эти гринго!
На улицах громкоговорители рекламируют спектакли и фильмы: «„Великий диктатор“ Чарли Чаплина!.. „Великий диктатор“! „Великий диктатор“!..» Но человеческие глотки заглушают радио: шоферы такси зазывают громче, красноречивее. Выкрикивают продавцы лотерейных билетов — богатство рука об руку с нищетой. Племянник мулатки снова в «Гранаде» — торопливо перебегает от столика к столику, пользуясь тем, что официантам, занятым посетителями, некогда оглянуться на букашку.
Однако в полдень ему не повезло. Много тут было расфранченных кабальеро, много дам, разодетых и полураздетых, напудренных и накрашенных, причесанных и надушенных, — и однако едва-едва удалось выклянчить две-три монетки. Одни сеньоры прикидывались глухими, другие — рассеянными. Подгоняемый голодом, мальчик набирался храбрости и даже притрагивался грязными ручонками к господам, но те как ни в чем не бывало продолжали беседовать, не обращая на него никакого внимания. Попадались и такие, что на его просьбы отвечали бранью, а то и грозили вызвать полицию. Кто-то грубо и пренебрежительно спросил у него: «Почему твои родители тебя не кормят?» Малыш не знал, как ответить, — он упивался ароматами яств, его глаза следили за блюдами, которые официанты расставляли на столиках между бутылок и пепельниц; он провожал взглядом каждый кусок, глядя, как эти люди из «общества» брали еду с тарелок руками и отправляли в рот, запивая вином.
— У тебя должны быть родители…
— Папа, может, и есть… — промямлил мальчуган.
— А мама?
— Нет, мамы нет…
— Она у тебя умерла?
— Нет…
— Ты ее помнишь?
— Нет… у меня не было мамы…
— Как же так? У каждого есть мать…
— А у меня нет… Я родился от моей тети…
На мальчика обрушился шквал смеха, шуток, острот, каких-то непонятных словечек… «Незаконнорожденный… подкидыш… гомункулюс из реторты!..»
А оборвыш, босой, грязный, протянув шляпчонку, продолжал жалобно выпрашивать монетки. От дразнящего запаха ветчины и сыра, тостов и воздушной кукурузы, жареного картофеля, приправленного дольками острого перца и оливками, у него текли слюнки.
С того дня посетители стали подзывать мальчугана и охотно бросали ему монетки, заставляя его повторять под взрывы хохота: «Я родился от моей тети…»
Около двух часов пополудни, а то и раньше местное общество покидало таверну. Пустела Шестая авенида. Парусиновые маркизы, растянутые над тротуаром, охраняли сьесту заведения, где бармен и белобрысые гиганты по-прежнему занимались своим делом: бармен наливал, солдаты пили. Пили они все подряд: whisky and soda, полынную, пиво, джин, коктейли, а также напиток, который они прозвали «подводной лодкой», — ром, смешанный с пивом, или пиво, смешанное с ромом. Порядок составных частей не имел никакого значения для выпивох.
— Сосут и сосут эти гринго!
Забрел в таверну длиннорукий карлик-горбун, предлагавший бумажные салфетки. Когда он говорил, в уголках его рта пузырилась слюна — будто для того, чтобы он мог продемонстрировать достоинства салфеток, которые вытаскивал из черной кожаной сумки. Напрасно расхваливал горбун свой товар — искоса посмотрев на уличного торговца, эконом съездил его по горбу пачкой лотерейных билетов.
— К трем подходит, а у меня еще крошки во рту не было. Эх, что за проклятая жизнь!.. — проворчал карлик, поспешив, однако, унести свой горб, свою сумку, свою слюну и салфетки.
Уже очутившись на улице, он добавил:
— Что за проклятое заведение! Эти паршивые двуногие козлы даже за человека меня не принимают!
Эконома в дверях таверны атаковал было сборщик рекламных объявлений, но и ему повезло не больше, чем горбуну.
— У меня битком набито этих гринго, за каким дьяволом расходовать деньги на рекламу?… — отмахнулся эконом.
— Чтобы посещали соотечественники…
— Пусть лучше не посещают! Для этого рекламы не нужно. И так не оберешься скандалов между гринго и нашими…
К четырем часам пополудни поток горожан устремлялся в кинотеатры, а к дверям «Гранады» подъезжали сверкавшие на солнце такси с новыми пополнениями солдат. Они прибывали с военной базы, расположенной за пределами города, или, как указывалось в официальных сообщениях, «где-то в Америке». На какой-то миг они задерживались, чтобы рассчитаться с шофером; обычно платил кто-нибудь один, а остальные гурьбой — вчетвером, вшестером, ввосьмером, сколько влезет в дверь одновременно — врывались в помещение. С порога они требовали виски, пиво, джин, коньяк, ром. По пути они хлопали друг друга по спине, не скупились на боксерские клинчи и другие силовые приемы, и тогда солдаты, засевшие за бутылки еще утром, снимались со своих караульных постов у стойки и, грузно переваливаясь, отходили, уступая место очередной смене.
За столиками чайного салона, неподалеку от бара, собирались сеньориты и кабальеро. К пяти часам. Без пяти минут пять пополудни. Каждая из сеньорит мечтала быть элегантной и потому старалась подражать какой-нибудь знаменитой звезде экрана — той, которая больше ей импонировала. Вместе с сеньоритами молодые кабальеро вновь и вновь переживали то романтические, то авантюрные эпизоды просмотренных кинофильмов. Таинственный полумрак, мягкий свет, гавайская музыка. Среди столиков с влюбленными находили столик для себя и подружки, выскочившие замуж еще в легкомысленном возрасте и теперь озабоченные лишь тем, чтобы не потерять фигуру и не потерять свою служанку — индеанку с глиняным лицом, которая с младенцем на руках и с пеленками в вышитой сумке повсюду следовала за хозяйкой. Замаривая алкогольного червячка или утихомиривая колики в желудке, здесь даже убежденнейшие противницы спиртного потягивали анисовку с водой.
Засунутые в чашки окурки дорогих сигарет со следами губной помады, словно экслибрис послеобеденного чая, попадали на кухню, где судомойки под командованием сеньора Бруно придавали зеркальный блеск посуде, не переставая ни на минуту судачить:
— Смотрите, из чайного салона гости уже расходятся, а солдаты с базы так и приклеились к бару. Никакой ураган их не сдвинет с места! Один — со свекольной мордой и выпученными глазами — нагрузился так, что вот-вот пойдет ко дну. А другой все в стопку вглядывается да вглядывается — с каждым глотком, наверное, видит все дальше и дальше. А вон тот тип — говорят, он летчик, — молчит и озирается вокруг, а сейчас в кого-нибудь вцепится…
— А клиентки… из чайного… разве лучше? Как они грязнят посуду!.. Мусору столько… хоть лопатой разгребай… чем не свин…арник!
— Не то что чая, даже водички не оставят, — прошамкал старик, — только чашки и остаются, их не сгрызешь…
— Как бы не так, дедушка! Ждите! Оставят вам кокосовое пирожное, крем да слойки с шоколадной глазурью! Черта с два!..
Сеньор Бруно не выдерживает:
— Хоть за работой помолчали бы! Замололи языками! Вам-то что, грызут сеньоры свои чашки или не грызут, грязнят посуду или не грязнят… Посуда грязная, так на то и вода, и мыло, и рабочие руки… А работа здесь надежная, платят хорошо. И нечего беднякам совать нос туда, куда не следует…
— Э, дон Бруно Сальседо, вы все по старинке считаете, что бедняк — бессловесный вол. По-вашему, раз у богатого в кармане деньжата, так он и значит больше…
— …больше, чем двое… чем трое!.. Да что говорить, старина… То, что богатый жует, бедняку и понюхать нельзя…
Бренные останки жареного цыпленка и отварной курицы, оставленные на засаленных тарелках, обещали судомойкам ужин.
— Гринго только это и жрут… — проговорил зеленоглазый паренек, подымая куриную ножку и вонзая в нее свои острые зубы; не отерев замасленные губы, он добавил: — Только вместо того, чтобы сказать — курица, они говорят — chicken…
— Эти типы с базы все цыплят едят. Без ножа, без вилки, прямо руками. Кто знает, может, дома они по мусорным кучам рыщут, а здесь мистеров из себя корчат…
— Дома… дома у себя никто не пророк. А вот тебя, черномазый, хоть ты в Китай поезжай, мистером никто не назовет!
— Мистером — нет, а вот доном буду, где-нибудь да буду!
— Вот подхлестнут тебя бичом, ты и будешь дон!
— Дон?… Дон… донесешь груз, так не подхлестнут. Но из индейцев в доны все равно не попадешь, — вмешался третий.
Под струей воды в смуглых руках мелькают белые фарфоровые тарелки, разрисованные цветочками чашки, хрустальные бокалы, стаканы и стопки разных форм и размеров, посеребренные ножи и вилки, исчезающие и появляющиеся в мыльной пене.
— К счастью! К счастью!.. — хором кричат судомойки, если тарелка случайно выскользнет из рук и разобьется.
Тогда на сцену выходит Хуан Непомусено Рохас, обычно счищающий лучшие остатки пищи с тарелок до того, как они поступят к судомойкам; вооружившись щеткой, он сметает с пола осколки. Метет и брюзжит:
— Бьют, ломают, бьют, будто это их собственность! Прежде такого не бывало. С чужим добром обращались бережней, чем со своим. И стыд был, и совесть была. А нынче? Нынче одно бесстыдство…
Продолжая брюзжать, он выметает щеткой фарфоровые осколки — нет, не выметает, а священнодействует Хуан Непомусено Рохас, верховный жрец разбитой посуды, если, конечно, не считать самого главного здесь — хозяина таверны. Не раз обрезал он руку, собирая мусор с осколками бокалов и стаканов, если, Конечно, не удавалось виновникам, улучив подходящий момент, скрыть следы преступления. Ничего не поделаешь: убирает тот, кому это поручено. Недаром ему идут лучшие остатки от обеда. Было бы, ей-богу, справедливей Хуана Непомусено Рохаса — а именно так звали этого доброго христианина, никогда не щадившего свой желудок, — перекрестить в Хуана Не-помню-ужина-также-завтрака-полдника-обеда Рохаса.
Около десяти вечера Анастасиа возвращалась из Конкордии — парка, пользующегося столь же печальной славой, что и чистилище. Прежде чем выйти из парка, она оправилась между деревом и какой-то статуей. А мальчик караулил, чтобы вовремя предупредить о появлении полиции или прохожих. Он свистел, глядя на звезды, свистел и пританцовывал босыми ногами на сыром от ночной росы песке.
— Чего ногами-то вытворяешь! Слушаешь одно, а делаешь другое! Стоило мне присесть, как ты начал выплясывать. Свисти, ежели кто появится, а не просто так…
— А чтобы вас никто не слышал, тетенька…
— Ну и грубиян же ты! Вот грубиянить ты умеешь!
Направляясь к «Гранаде», мулатка и мальчик медленно проходили по улице, которая была столь оживленной днем, а теперь — словно пустая скорлупа былого оживления, и широко открытыми глазами поглощали выставленную в витринах всяческую снедь — черные бобы в сухом растертом сыре, обернутые тонкой маисовой лепешкой, лепешки с маринованными острыми овощами и листиками салата, лепешки с копченой колбасой, с фаршированным перцем, бананы в сахарной пудре…
Зажмурила глаза Анастасиа и, схватив мальчугана за руку, поспешно пересекла улицу, стараясь как можно скорее уйти от освещенных витрин, особенно ярко выделявшихся на фоне торжественного мрака ближнего собора святого Франциска. Бежала она от искушения, крепко зажав в своей старой, изможденной руке холодную детскую ручонку. Маленькие ножки мальчугана шлепали по мокрым от ночной росы каменным плитам; шелестела на ветру потрепанная бумазейная юбка мулатки. Анастасиа не останавливалась, пока не поравнялась с церквушкой святой Клары, расположенной по соседству с огромным францисканским собором; здесь она перекрестилась и, перекрестив заодно ребенка, произнесла какие-то таинственные и грозные заклинания против богачей, призывая в свидетели самого господа — в церкви, освещенной масляными лампадами, был виден образ Иисуса с крестом на плече.
Из «Гранады», к которой они вскоре подошли — их неумолимо подгоняли пустые желудки, — доносилась музыка. Быть может, этот косматый дон Непо даст им чего-нибудь поесть. Подойти к дверям, заглянуть в таверну и пустить в ход язык — для Анастасии одно мгновение. И снова не смогла она промолчать, снова сказала то же самое:
— Сосут и сосут эти гринго!
— Тише, тетенька, еще арестуют!
— Это их надо арестовать — за все попойки, танцульки, за музыку эту ихнюю… В старое время, еще в Бананере, всегда они кутили… Ох, лучше не вспоминать те годы — вспомнишь и подумаешь: а была ли я когда-нибудь молодой?… Нет ничего горше в старости, как сомневаться, была ли ты молодой…
— Тетенька, хотите, я зайду…
— Уже говорила тебе, сыночек, говорила…
Мальчик — маленький, грязный, темнокожий — покрутился возле таверны, проскользнул в зал и начал обходить столики. Посетителей было много, и официанты смотрели сквозь пальцы на попрошаек, надеявшихся выклянчить монетку, сигарету или что-нибудь съестное.
Белобрысые гиганты, все более пьянея, покупали газеты на испанском языке и водили носом по строкам, которых они не понимали; покупали лотерейные билеты, журналы на английском языке, букеты фиалок, жасмина, камелии, магнолии. Цветы из корзинки, прикрытой зеленым мхом, выкладывала женщина среднего роста, которая в молодости, должно быть, была хороша. Она заигрывала с солдатами, даже щипала их. «Может, купят у меня еще», — приговаривала она, но это был только предлог. Женщина хотела растормошить этих мужчин, похожих на целлулоидные куклы, рассчитывая, что кто-нибудь из них загорится и пойдет с ней, с ней или с девушкой, которую она им предложит.
— Есть у меня девица… такой букетик и не приснится!.. Замужняя тоже есть… фиалки разве можно перечесть?… Пошли, дон мистер, надо только добраться до комнатки — здесь недалеко, за углом, в переулке!.. Там для вас есть девушка!..
Анастасиа стерегла корзинку Ниньи Гумер — так звали продавщицу цветов — всякий раз, когда кто-нибудь из гигантов, дошедший до скотского состояния после проглоченной спиртной мешанины, вылезал вслед за Ниньей из таверны — полакомиться живым товаром.
— А почему мистер этот не хочет пойти подальше, на Двадцатую улицу, раз есть возможность выбрать?… — спрашивала цветочница у сопровождавшего их случайного толмача — «американизированного» земляка, готового на любые услуги ради хорошей сигареты или глотка дарового виски.
— Нет, нет, my god [4], сеньор очень спешит, — пояснял толмач.
Карауля корзинку цветов, стоявшую у ее ног, мулатка Анастасиа размышляла вслух:
— И чего это мужчины не любят платить, когда их за нос водят в течение часа, — платят же они, если их обманывают на протяжении всей супружеской жизни?… Но хуже всего этим несчастным девицам — нужда заставляет ложиться с кем попало… Эх!.. Иметь дело с мужчиной, которого не любишь или который тебе не по нутру?… Пусть меня лучше черти заберут! Хвастаться не буду, но никогда не жила я с теми, кого не любила!.. Взять хотя бы отца моего малыша… Как родился мой мальчуган, я приучила его называть меня тетей — и он привык. Никакой матери… тетя — и все… А каково несчастным девицам, да, впрочем, и этой горлинке цветочнице! Вид у нее такой, будто и мухи не обидит… Букетики! Букетики!.. А сама расставила ловушки на мужчин… Охотница… а я, значит, сообщница, раз стерегу ее корзинку!..
И внезапно пинком ноги, обутой в рваную туфлю, она опрокинула корзину с цветами — камелии, жасмин и фиалки рассыпались по асфальту.
С электрических проводов срывались капельки ночной росы, сверкавшие при свете фонарей. А еще выше мерцали бесчисленные звезды.
Юноша с покатыми плечами, высокий и тощий, очень походил он на бутылку, остановился поглазеть: что тут произошло?
— Бедная сеньора! У вас упала корзинка? Я помогу вам собрать цветочки…
— Это не мои, и корзинка не моя… — поспешно сказала мулатка, но юноша уже бросился подбирать цветы и укладывать их в корзинку.
— Ах, это корзинка Гумер?… Как же, только сейчас я ее узнал… — И, продолжая подбирать букетики фиалок и жасмина, юноша, дохнув сен-сеном, шепнул Анастасии на ухо: — А вы не знаете, Гумер уже достала «морскую игуаниту»?
— Мне она ничего не говорила. Оставила вот корзинку постеречь, а ее ветром опрокинуло. Господь вознаградит вас за то, что помогли мне…
— И похоже, гвоздику она тоже не достала. Как вернется, напомните ей, пусть не забудет для меня гвоздику и «морскую игуаниту».
Не подавая вида, что поняла намеки порочного юнца, мулатка сухо отрезала:
— Вернется — скажу…
— А далеко она отправилась?
— Не знаю…
— Передайте ей, пусть поищет меня в «Гранаде». Я буду в баре или в коридорчике возле туалета.
Анастасиа присела на край тротуара и прислонилась к столбу — так легче дожидаться.
— Упаси нас, господь, от этого омута… — пробормотала она, глядя на букетик жасмина, напомнивший ей о свадьбах, о первых причастиях и похоронах. А вот фиалки ни о чем ей не говорили; запах… будто запах тех духов, которыми любил обливать себя один из ее старых чернокожих поклонников, вонючий, как стервятник. — Упаси нас от омута… Ага, значит, Гумерсиндита эта, на вид дамочка дамочкой, а вот, оказывается, не только охотится за мужчинами, но и торгует «морской игуанитой». Почему, кстати, так ее называют? Маригуана… марихуана? Игуана, игуанита — ага, должно быть, потому, что она тоже зеленая. Или вот, наверное, почему: когда игуаны дышат, кажется, что они накурились марихуаны, — тяжело дышат. Скользкие, кожа искрится на солнце от росы, висят они на сучьях, как недозревшие плоды… Что за скверный народ пошел!.. Торговать «морской игуанитой», когда можно с успехом прожить и на цветы — торговать цветами да женщинами! Ах, как ловко эта Гумер все обстряпала прошлой ночью!.. Да-а, какой-то начальник, весь в галунах, с пьяных глаз решил жевать цветочные букеты, чтобы перегаром не разило. Подумать только, двадцать три букетика сжевал один за другим. Уже на ногах не мог держаться — так надрызгался, — а все продолжал жрать цветы; чтоб невеста, дескать, не догадалась, что он вдребезги пьян, хотя, по правде сказать, от него уже не перегаром, а перегноем несло. «Забудь невесту, у меня есть прелестная девица, нежный цветочек!» — ворковала Нинья Гумер, подставляя, как быку, корзинку офицеру, чтобы ему удобнее было пожирать и гвоздики, и фиалки, и жасмин. Начальничек тут же заснул, так и не дошло до него предложение Ниньи Гумер. А его приятель с морковно-красной рожей до слез хохотал над этим цветочным банкетом, хлопал в ладоши, стучал каблуками о пол, бил кулаками по столу, а потом все же оплатил эти пахучие витамины. Долгонько его начальника рвало потом лепестками…
Почесала затылок мулатка. Лучше не думать ни о чем, иначе совсем изведешься. Поднялась, похлопала себя обеими руками по окоченевшему заду — хотела согреться да заодно пыль с юбки отряхнуть. Оторвавшись от раздумий, она поглядывала то на корзинку, то на дверь «Гранады» — как там племянничек? Потянулась, зевнула и снова не удержалась, только на этот раз голос ее был пронзителен, видимо от зевка:
— Сосут и сосут эти гринго!
Вдруг ей стало страшно. В полуночной тишине ее слова отдались звонким ударом. Она быстро оглянулась. Никого. Улица пуста. Шоферы спят в своих машинах, будто мертвые индейцы, захороненные в стеклянных урнах. Лишь полицейские в желтых плащах с шарфами на шее бродят, точно лунатики.
Нинья Гумер вернулась, подхватила корзинку и исчезла в ночи, даже не попрощавшись. Какая неблагодарная! А может, она просто не заметила Анастасию… Впрочем, это и к лучшему: за соучастие в преступлении могут притянуть, если узнают, что караулила корзинку, в которой среди душистых цветов, видать, была и «морская игуанита». Хуже то, что Гумер ушла, не выполнив своего обещания. Поэтому-то, конечно, и прикинулась, что не заметила Анастасию. А ведь она просила у Ниньи всего только таблетки хины против лихорадки. Приступы малярии изводили мулатку после недавнего ливня. Ливня? Да это потоп настоящий был! Когда они с мальчонкой возвращались домой, будто плыли в воде…
А в баре пьянчуги продолжали усердно угощать друг друга, тост следовал за тостом, и в конце концов чуть не каждый норовил пить из бутылки друга, когда доходил черед ставить свою бутылку. Подальше, в дансинге, неутомимо гудела «Рокола». Из светящегося чрева огромного и ярко раскрашенного проигрывателя вырывалась какая-то не то визжащая, не то верещащая утробная музыка, и под эти звуки извивались пары, cheek to cheek [5]. Гринго не давали ни одной женщине присесть — разумеется, к вящему удовольствию дам, не особо привлекательных и на других праздниках или домашних вечеринках чаще остававшихся без партнера. Здесь танцевали все женщины: старые и молодые, хорошенькие и безобразные, и пусть за танцы с гринго их прозвали «грингухами», что за важность!..
А кое у кого буги-вуги кончались чуть ли не адскими мучениями. Протанцевав, они спешили исчезнуть в туалете: от виски с содовой да еще после таких «модерных» танцев здорово достается мочевому пузырю. И не только мочевому пузырю… поэтому-то, быть может, а может, и без быть может столь дели… эти буги… более дели… к примеру, чем блю… хотя блюзы так же дели… да, да (обо всем этом щебетали в дамском туалете)… блюзы более дели… чем буги, да, да, более дели… катны — кто не согласится с этим? Но вот буги — более дели… чем блюз, разве можно это отрицать, ведь они более дели… катесны…
— Ой, сколько набрал, племянничек, сколько!.. — с восхищением воскликнула Анастасиа, как только мальчик появился в дверях «Гранады», держа шляпчонку, полную монет. — Ей-ей, тебе больше повезло, чем свояченице, когда мистер решил съесть у нее цветы…
— Свояченице? Разве она наша родственница, тетя?
— Нет, конечно, но, раз она тоже бедная, это все равно что родня…
По субботам и воскресеньям «Роколу» задвигали в дальний угол. Джаз и маримба в эти дни и ночи наибольшего наплыва людей гипнотизировали, электризовали публику. Маримба растягивалась на полу, словно толстая змея с ножками. Джаз располагался наверху, как на церковных хорах. И с высот по мановению дирижерской палочки — а точнее, пальца толстощекого серафима с фосфорическими волосами, творца нового геологического возмущения, — струны, дерево и металл оглушали всех шумами, восходящими еще ко временам сотворения мира, — от грохота каменного обвала до томного стенания прилива, замершего на мгновение в паузе перед отливом. В этом хаосе то слышится и рождение и гибель каких-то островов, то воцаряется немота силурийских глубин. Джаз подхватывает звуки, разрывает их, сбивает в адском ритме, и они сливаются в неистовое хрипение, в завывающий ураган, в остро-пронзительный свист, который внезапно обрывается, низвергаясь в пропасть глухого молчания, и только новые, еще более дикие, еще более бешеные столкновения молекул огненно-расплавленного металла и конвульсивно вздрагивающего дерева заставляют подняться из бездны новую джазовую бурю в неведомых, безумных сочетаниях звуков.
Два часа ночи. Не хватает столиков. Больше столиков! Не хватает стульев. Больше стульев! Больше столиков! Больше стульев! Площадка для танцев все сокращается. Больше столиков! Больше стульев! Больше стульев! И все меньше, все меньше площадка для танцев. И все больше и больше танцующих пар. Они уже, правда, не танцуют, а кружатся, топчутся на одном месте, одурманенные алкоголем и табачным дымом, тесно прижавшись, словно приросшие друг к другу; они что-то шепчут друг другу, целуют друг друга, ласкают друг друга, как первые создания на заре сотворения мира, воплощением которого был сам джаз. Они уже не танцевали. Не двигались. Не говорили. Ощущалось лишь дыхание нежных творений. Все сливалось в какую-то туманность: и этот буйно неудержимый разлив пылающей магмы саксофонов, и чокающие лунные литавры, и перекличка цимбал, и жужжание струн, и самодовольный рокот рояля, и трескотня телеграфных сигналов марак…
Отовсюду несутся аплодисменты, восклицания, голоса, смех… Больше виски! Больше содовой! Больше джина! Коньяка! Рома! Еще пива! Шампанского!..
Зал в полутьме. Блюз или танго? Танго… Широко, свободно растянулись аккордеоны, словно распахнулись просторы пампы… аргентинской пампы… пампы, которую можно обнять руками… А за танго следует болеро.
Все хором, кто знает и кто не знает, подхватывают слова болеро — не слова, а «словоблудие», как сказал о них один местный поэт.
Закончилось болеро, и вслед за оркестром прозвучала маримба. Три такта — широких, медленных — отбивает тот, кто играет на басовых.
Пон!.. Пон!.. Пон!..
Дон Непо Рохас — так звали его дома и в таверне, сокращая полное имя Хуан Непомусено Рохас Контрерас, как окрещен он был после рождения, — услышав эти глухие удары, вздымающиеся из глубин звучащего деревянного ящика, благословил аккорды вальса «Три утра уж наступило». Чудесный вальс. Конец работе!
Непо Рохас кончил работу и собрался идти домой: весь мусор собран в ящики от продуктов, которые выстроились вдоль стены. И точно скот, клейменный тавром, заклеймены эти ящики таинственными словами — Калькутта, Ливерпуль, Амстердам, Гонконг, Шанхай, Сан-Франциско… На скамейке в прихожей, через которую снуют служащие, под плащом лежит сумка с остатками пищи: лучшее — для себя, остальное — для Анастасии. Больше всего мулатке нравятся сосиски, кусочки курицы или куриные косточки с рисом, остатки бифштексов по-гамбургски с острым соусом, жареная картошка и майонез. А вообще-то она брала все, иногда даже перепадали откусанные пирожные для ее сопливого мальчишки.
После первых трех тактов вальса — как только прозвучали все клавиши маримбы — гуляки хором запели:
Три утра уж наступило…А Анастасиа все твердила свое:
— Сосут и сосут эти гринго!
Никто ее не слышал, да и сама она не слышала своих слов: голод пчелиным роем гудел в ее ушах; не слышал их и мальчик, дремавший возле двери, — голова на руке, служившей ему подушкой, лицо прикрыто шляпчонкой, в которую он собирал милостыню; из-под лохмотьев чернели босые грязные ступни.
Едва услышав звуки вальса, Джон поднялся и подхватил легкомысленную креолочку, в голове которой вмещалось больше кинофильмов, чем на складах голливудской кинокомпании, и вскоре они затерялись среди пар, танцевавших и подпевавших в такт музыке: «Три утра уж наступило…»
Джон танцевал механически — слабое эхо авиационного пропеллера беспрестанно звенело в его ушах, — и танцевал он лишь ради того, чтобы потанцевать, а креолочка надеялась еще и завоевать его; хотя нехватки в поклонниках она не испытывала — их у нее было больше дюжины, — но это что-то новое, в нем обнаружила она героя, о котором всегда-всегда мечтала.
Порой Джону казалось, что креолочка слишком тесно прижимается к нему, однако она, прикрыв черными ресницами глаза и совсем не думая о своем флегматичном партнере, всецело отдалась мечтам: она чувствовала себя в объятиях другого, своего Джона — того, которого видела на экране. Ее антрацитовые волосы, ниспадавшие каскадами, развевались в такт вальса, будто маятник качался над ее плечами, отсчитывая три часа, которые наступили. Она изгибалась, откидывалась назад, как только могла, ощущая упругим телом пряжку форменного ремня Джона. Пряжку с золотой звездой летчика, В последнем фильме, который она видела, ее Джон играл роль солдата, раненного на фронте. Он был божествен!..
— Как божественна война!.. — задыхаясь, вымолвила она, а ее партнер, Джон во плоти и крови, не ожидая, пока окончится этот, казалось, нескончаемый вальс, вдруг остановился перед своим столиком и залпом опорожнил стопку виски.
— Джон!.. Джон!.. — пыталась удержать его креолочка, но тот, опорожнив свою стопку, стал допивать виски и с соседних столиков.
Война… война… по ту сторону ночи тропических ресниц… война…
И опять пьяный…
— Пьяный, потому что я здешний… будь я иностранец, вы бы сказали, что я просто выпивши! — твердил на пороге пятидесятилетний мужчина. Чтобы не потерять шляпу, он натянул ее на уши и крепко зажал в руке бутылку, боясь уронить… Бутылку?… Нет… самого себя…
Три утра уж наступило…
— Будут и два… будут и три… и четыре, пять, шесть утра! — подпевал он. — Будут и два… будут и три… и четыре, пять!..
Голос его прервался. Какая-то женщина трепала мальчишку за уши.
— Так, значит, ты родился от тети?… От тети?… А ну, скажи-ка мне!.. Мне! Мне, а не этим гринго. Ах ты, безмозглый! Ах ты, бесстыжий!..
Анастасиа разбудила племянника, схватив его за ухо. Не понимая, в чем он провинился, мальчишка истошно вопил, губы его дрожали, сонные глаза наполнились слезами. Обезумев от ярости, Анастасиа набросилась на несчастного мальчишку, как на предателя, изобличенного в измене, как на врага.
Подошел пьяный:
— Как ты смеешь бить ребенка!
А она кричала:
— Мне уже говорил, мне говорил сеньор Непо… Как, ты решил опозорить тетю, чтобы легче выпрашивать монеты у этих свиней… да, да… это же не люди, а свиньи!.. А ты пошел на такое ради нескольких жалких сентаво!.. Чтобы ради каких-то сентаво над нами смеялись. Сейчас же повтори, что ты родился от твоей тети!.. Ну, скажи это мне… прямо в лицо… а не за спиной… бандит ты этакий!
Мальчугану удалось выскользнуть из рук мулатки, оставив в ее руке клок волос. Ослепленная бешенством, Анастасиа сыпала проклятия. А пьяный, подняв над головой бутылку, чтобы не пролить драгоценную влагу, уже шествовал вниз по улице, напевая себе под нос:
— Будут и два… будут и три… четыре, пять… и шесть!
У игравших на маримбе музыкантов от усталости сковало спины, руки были влажными от пота, волосы в беспорядке упали на лоб, а они все били и били по клавишам — их заставили трижды исполнить вальс.
В дверях показалась голова Анастасии.
— Ха-ха!.. Вальс… Ха-ха! Три утра уж… Ха-ха!.. Значит, родился от тети… Ха-ха! Сосут, опять сосут эти гринго!..
II
На рубеже звездной ночи и знойного утра, как обычно, в засушливый сезон, сеньор Хуан Непо Рохас возвращался домой на велосипеде; впрочем, на велосипеде он возвращался и в период дождей, только тогда он накрывался плащом, который почти не защищал его, — крупные дождевые капли беспрепятственно скатывались по лицу, а когда приходилось пересекать улицы, превратившиеся в судоходные реки, то переднее колесо его машины вздымало хрустальные веера воды. Летом и даже дождливой зимой он легко катил к дому — дорога шла под уклон, по склону холма, через центральную площадь Пласа де Армас, затем — через торговые ряды — в заросшую деревьями влажную низину, в предместье бедноты.
Но для сеньора Непо езда на велосипеде благодаря инерции — молчаливейшей из движущих сил, продолжала оставаться загадкой, каким-то чудом, хотя это чудо и повторялось каждое утро. Утренние поездки служили как бы возмещением сил, расходуемых накануне, когда он на исходе дня ехал в «Гранаду» на работу, — все вверх, в гору, изо всех сил нажимая на педали. Пока он добирался до бара, его одолевала одышка, сердце бешено колотилось, во рту пересыхало, ноги отказывали. Конечно, куда тяжелее было бы ехать в гору после нескончаемых часов работы, ведь всю ночь он простаивал на ногах, изнемогая от усталости, борясь со сном. Размышляя об этом, дон Непо все более проникался верой в могущество божьей десницы. Еще бы, после изнурительного ночного труда иметь возможность возвращаться на велосипеде, летящем вниз, словно на крыльях! Не хотелось сдерживать бег колес — они сами увлекали его в таинственный мир скорости. С каким-то ощущением мужества и отваги, которое переполняло его, он, вместо того чтобы тормозить, иногда даже нажимал на педали, чтобы прибавить им силы, — его охватывало непонятное опьянение.
Разбуженные собаки, силуэты одиноких прохожих, рассеянный свет…
У него опять вырвалась правая педаль — давно ее надо бы сменить; потом нога сорвалась и с левой, но он, не замедляя хода, продолжал вести машину. Сейчас он спускался по склону, миновал собор.
В предрассветных сумерках фонарик светил еле-еле и ехать приходилось чуть ли не вслепую. Резко верещал звонок, на котором, словно на курке, дон Непо держал большой палец, и то и дело, точно пулеметные очереди, раздавались трели, чтобы в этот ранний час не попала под велосипед какая-нибудь христианская душа и чтобы посторонилась повозка. Невозможно было справиться с педалями, крутившимися во всю мочь, пока он не просунул носок башмака в вилку, стараясь притормозить ногой вращение переднего колеса.
Наконец это ему удалось, и как раз вовремя: еще мгновение — и он бы врезался в грузовик, который шел на большой скорости с включенными фарами. Они едва-едва разминулись — хрупкий велосипед и многотонная громада грузовика. Снова вырвалась правая педаль. Он наклонился, чтобы достать ее и прижать. У театра Колумба велосипед перестал быть катящимся чудом, теперь надо было пустить в ход собственные силы.
«Не спеши… — говорил он себе, — не спеши, ночь долга…»
От церкви святого Иосифа и к дому склон был таким пологим, что можно было и подремать за рулем и вознести благодарение господу богу за столь щедрый дар, как велосипед, на котором после тяжелой работы легко, как во сне, переносишься к родному очагу.
Растрогавшись от этих мыслей — о материальном, воплощением которого являлся велосипед, и о духовном, олицетворяемом господом богом, — дон Непо совсем было забыл о чувстве собственного достоинства. Он не обращал никакого внимания на то, что скажут соседи — дескать, несолидно человеку его лет кататься на велосипеде; ведь он не катался, как, например, эти юнцы, которые по воскресеньям оседлают свой велосипед, усадят возлюбленную на раму перед собой и направляются куда-нибудь на прогулку. Он же подвергал себя риску — мог разбить голову, но, так или иначе, это был единственный способ передвижения, когда Непо на рассвете нужно возвращаться домой.
Несносная педаль вырвалась снова — и он совсем было отчаялся, но все-таки ему удалось поймать ее перед кабачком «Эль релох», что на авениде Чинаутла, где он чуть не налетел на караван огромных грузовиков, которые катились медленно и тяжело, заставляя содрогаться соседние дома. Дон Непо слизнул холодный пот, выступивший под усами. Свет слепил его. Яркий свет фар. Сердце сжалось, когда он, изо всех сил нажав на педали, проскочил мимо огромных, как миры, колес, мимо ревущих от напряжения моторов. Он нажимал, нажимал на педали. Конечно, лучше всего как можно скорей убраться с этой автострады, по которой из Ла-Педреры возят на аэродром строительные материалы — там прокладывают новые взлетные дорожки.
И вдруг — вот еще чего недоставало — его ногу сковала судорога. Он с трудом спустил ноги с педалей на землю. Грузовики все шли и шли. Дон Непо забрался на тротуар перед домишками, которые дрожали с фундамента до крыши от тяжести проходивших мимо стальных мастодонтов. Судорога, сильнейшая судорога не отступала. Он выпустил руль и, положив велосипед на землю, обеими руками стал растирать ногу.
Из какого-то дома донесся звон будильника. Гасли огни уличных фонарей. Воцарялся день. В холодном белесом небе постепенно появлялись краски зари: они переливались от жемчужной к розоватой, к розово-желтой, апельсинно-золотистой, затем к нежно-дымчатой с лиловатым оттенком и, наконец, к сиреневой, которую властно вытеснила голубая.
В свои владения Непо. Рохас вступал уже при ярком дневном свете, отвечая на приветствия погонщиков, кричавших ему из корралей: «Добрый день, сеньор Непо!» Едва вскочив с постели, они набрасывали веревки на рога быков; еще полусонные — крепили упряжь к повозкам; вконец проснувшиеся — под собачий лай и пение петухов отправлялись на погрузку в Северные каменоломни.
— Это петушок сеньоры Полы!.. — узнавал по голосу дон Непо. — А вот ему отвечает хрипун испанца! Никак не припомню, кто это мне рассказывал, что Пола и испанец спелись и теперь по утрам перекликаются… будто петухи. А этот… как безобразно он поет… точь-в-точь паровозный гудок… ага, а вот это петушок моего внука!.. Говорил я ему, что ничего хорошего в этом петухе нет… перья, правда, красивые, зато шпора растет уродливой — надо бы сменить его на другого, который годился бы для петушиного боя, либо изжарить на день Сан-Дамиана — все-таки день ангела внука…
Внук, по обыкновению, поджидал его у дома, если не уезжал в этот день за грузом. Парнишка — кожа да кости, хотя и славно сбит, — любил встречать деда, который, невзирая на свой преклонный возраст, все еще, словно юноша, каждый день с первыми лучами солнца катил на велосипеде. Старик тормозил или даже соскакивал на ходу, улыбаясь внуку, а тот спешил взять машину за рога — за горячие рукоятки руля. Затем мальчик ставил велосипед и приносил чашку черного кофе — крепкого и горячего; такой кофе нравился деду.
Сеньор Непо любил накрошить в кофе кусочки хлеба и потом вытаскивать их из чашки пальцами — и пальцы и усы напоследок блаженно обсасывал.
— Так ведь вкуснее… — приговаривал дон Непо. — Правда ведь, Дамиансито? А не то что у нас, в «Гранаде», где все, даже поварята, едят вилкой. Чудаки, не понимают, какого удовольствия они себя лишают… Только когда ешь руками, по-настоящему ощущаешь вкус пищи!
Пока дон Непо завтракал — пусть даже это были две-три лепешки, вкусные или невкусные, что попадалось под руку, — он размышлял, не следует ли ему еще раз поблагодарить бога за утренний кофе с лепешкой — и при этом без домашнего врага, то есть без женщины. Полный покой, никаких баталий с женой, а ведь битва с женой — худшее из сражений. В его доме, с тех пор как скончались жена и дочь, мать Дамиансито, ни одна юбка не появлялась. За завтраком дон Непо покоя языку не давал: поболтать на работе времени не хватало, да и не с кем там отвести душу.
— Собаки виляют хвостами от удовольствия, а мы, христиане, болтаем языком, да разве не похож иной язык на хвост дворняги?…
— А педаль все еще шалит? — прервал его внук.
— Ты кстати напомнил мне. Она так расшаталась, что лучше ее сменить.
— Мне нужно тут, неподалеку, перевезти известь — двенадцать арроб. Как только вернусь, схожу в мастерскую.
— Если я буду спать, не забудь — правая педаль…
— Пусть проверят обе, а то дорога опасная: грузовик за грузовиком, и день и ночь. Податься некуда… А теперь ложись отдыхать. — И Дамиансито почтительно поклонился деду.
— Пожалуй, пойду сосну с божьей помощью.
— Разделся бы сначала. Сними одежду и обувь — иначе не отдохнешь. Одетыми спят только мертвецы да мертвецки пьяные…
На следующий день, возвращаясь с работы, дон Непо все проверял педали — они стали будто новые, спасибо Дамиансито. Он бросал руль и тормоза, велосипед набирал скорость — дон Непо как раз спускался по Центральному рынку и временами слегка притормаживал, очень довольный тем, что ему подчиняется эта таинственная шестерня передачи: она зубьями замедляла ход машины, словно хватала скорость зубами. Увлекшись, он слишком резко затормозил и, не удержавшись на сиденье, больно ударился грудью о руль.
Рассвет все не наступал. Возникало странное, тоскливое ощущение, будто ночи нет конца. Звезды не бледнели, а, казалось, сверкали еще ярче, небо становилось все выше и выше. Электрический свет словно не разгонял, а сгущал мрак.
Дон Непо проезжал через рынок, прокладывая себе путь меж торговцев, обгоняя осликов и мулов с кладью, медленно вышагивавших или спешивших рысцой. Подметальщики улиц поднимали облака пыли, которые сливались с облаками предутреннего тумана. И эту серую пелену прорывали грузовики с надписями «US Army». Каждый из них таил в себе смертельную опасность — катящаяся гора с грозно сверкающими, словно янтарные шаровые молнии, фарами чуть не столкнулась с крошечным велосипедиком, вооруженным всего-навсего тормозящей педалью и рулем; велосипед будто играл в кошки-мышки с опасными гигантами. Однако главной опасностью была судорога: мускулы голени внезапно стягивала такая резкая боль, что хоть бросай велосипед и соскакивай на ходу, а если не успел спрыгнуть на землю, падай навзничь. Уверенным дон Непо чувствовал себя лишь тогда, когда, возвращаясь домой, он выбирался на дорогу, ведущую к каменоломням, оставляя справа — среди равнин, кущ деревьев и сгрудившихся домишек — бетонную автостраду. По этой автостраде возили строительные материалы на аэродром; она шла параллельно железнодорожной линии, по которой мчались поезда, груженные нефтью и взрывчаткой.
Погода благоприятствовала дону Непо: дул южный ветер, настолько сильный, что он даже подгонял велосипед. Почти весь путь удалось проделать, не прибегая к педалям. А рассвет все не наступал. Невольно закрадывалось опасение — а вдруг ночь так и останется ночью на вечные времена? Кто в самом деле может гарантировать, что день наступит? Не зародится ли этой ночью вечная тьма?… На автостраде фары огромных армейских грузовиков сметали мрак, и казалось, что под мощными взмахами этой ослепительной метлы вдали, над затихшей землей, появлялась предрассветная дымка. Грузовики и поезда двигались, как войска на поле боя, и словно для того, чтобы нагнать побольше страха, откуда-то издалека доносились взрывы динамита, там взлетали куски взорванных скал. Все больше грузовиков, все больше поездов!
Дон Непо спешил: так хотелось ему скорее добраться до дому, увидеть внука, выпить горячего кофе, прилечь отдохнуть. В течение всего пути, пока чуждые шумы нарушали величественное молчание заросших дубняком или облысевших от эрозии гор, он мечтал о сне. А воздух разрывали ревущий гул моторов на автостраде, протяжные гудки паровозов, звяканье сцепки вагонов, далекие удары, сухой и резкий треск отбойных молотков в Ла-Педрере и бесконечный грохот камня, сыплющегося из вагонеток подвесной дороги в огромные воронкообразные пасти камнедробилок.
Ущелье, над которым кружились бабочки, становилось все глубже. На мосту, выстроенном еще в эпоху испанской колонизации, — императорском мосту, если судить по высеченному на камне гербу, — дорога резко сворачивала в сторону. Разбуженное воинственным шумом, неумолчным завыванием автомашин на гусеничном ходу и появлением людей-призраков в комбинезонах, перчатках и очках, ущелье пробуждалось от векового сна. На серебристых столбах с зелеными глазами гусениц — ибо ни на что иное не походили стеклянные изоляторы, на которых висели провода, — люди натягивали кабель высокого напряжения.
Как только дон Непо миновал мост, наперерез ему откуда-то выскочила собака и с заливистым лаем помчалась рядом с велосипедом, готовая вцепиться в переднее колесо. Дон Непо даже не взглянул на нее. «Пусть себе лает, — подумал он, — она выполняет свой долг». Однако тут же ему пришлось притормозить, чтобы проскочить между каменной стеной и громыхающей повозкой, которую тащила невзрачная лошаденка. Нет, это было не случайно: на него явно хотел наехать этот испанец, который всю свою жизнь чуть не рабом был в богатой родовитой семье, а теперь, на старости лет, словно став вольноотпущенником, обзавелся собственным ранчо. Звали его Сиксто Паскуальи-Эстрибо, и эту вторую его фамилию все воспринимали как меткое прозвище, очень подходившее к нему, ибо любил старик совать нос в чужие дела, или, как здесь говаривали, совать ногу в любое стремя [6].
Мало того что этот Сиксто Паскуаль-и-Эстрибо чуть не наехал на него, он даже не счел нужным ответить на приветствие. С одной стороны, конечно, это к лучшему. Обычно испанец останавливался, заводил длиннющий разговор. Он высыпал щепотку табаку на листок рисовой бумаги, затем неторопливо сворачивал самокрутку, облизывал краешек бумаги языком, зажимал сигарету тонкими синеватыми губами и разжигал ее кремневым огнивом. Не обращая внимания на зевки дона Непо — тщетные взывания, нет, завывания сна и усталости, — испанец затягивался самокруткой и говорил, говорил без конца. Потягивая самокрутку и сплевывая, он благоговейно перечислял звучные титулы своих сеньоров-хозяев и делился какими-то своими стародавними обидами.
Сеньор Непо и сам был не прочь потолковать и поспорить, но только не сейчас, после утомительной ночи, когда едва хватало сил добраться до постели. Однако — сказывалось хорошее воспитание — он слезал с велосипеда и, отчаянно зевая, выслушивал очередные излияния. А спорил он с испанцем обычно по воскресеньям или по праздникам в кабачке Консунсино, вдовы Маркоса Консунсино, куда после мессы соседи заходили выпить пивка и закусить жареным пирожком. Они встречались здесь обычно по воскресеньям и праздничным дням, около одиннадцати утра, — испанец, который непрестанно разглаживал рукой свою морщинистую кожу, все растирал и растирал складки на лице и шее, и Непомусено, который рукой старался разгладить складки на костюме, слежавшемся в сундуке. Весь день до позднего вечера испанец разглаживал свои морщины — это доставляло ему несказанное наслаждение. На неделе у него, должно быть, не хватало времени. В будние дни они служили ему верную службу. Эти суровые, глубокие морщины внушали уважение не только пеонам, но и хозяевам.
В ответ на шутки дона Непо он неизменно говорил:
— Вот разглаживаю, дружище, все разглаживаю… Эту кожицу, видать, господь по ошибке прилепил мне на физиономию, взяв ее с другого места!
Однако на сей раз испанец не стал болтать на дороге. Вместо ответа на приветствие дона Непо послышался лишь скрежет повозки испанца, задевшей каменную стену. Дон Непо поспешил нажать на педали, чтобы не остаться на камнях стены в виде детской переводной картинки. Лишь позднее, оправившись от страха, он понял, что испанец мстит за свое поражение во время их последнего спора, который не вылился в вооруженный конфликт только потому, что успела вмешаться Консунсино, вдова Маркоса Консунсино.
«Короли не боги, тореро не герои, а все хозяева, какими бы благородными они ни казались, отнюдь не святые!..» — в сердцах выпалил дон Непо.
Это его изречение до глубины души возмутило испанца, и теперь он мстил дону Непо. Он мстил за дочь своих хозяев, испанских аристократов, вышедшую замуж за разбогатевшего бананового плантатора, который в свое время был мелким чиновником в могущественной Компании. Так говорилось о сыне тех, кто унаследовал богатства Мида на Южном берегу!
Что же вызвало приступ бешенства у испанца? То, что один из внуков его блистательнейших и знатнейших хозяев, который носил имя Лестер Кохубуль (а не Кэйджебул) Сотомайор — да, да, из рода Сотомайоров, живших близ Родонделы, в испанской провинции Понтеведра, — потомок Кохубулей, нынче не без успеха доит чужеземных коровок и наживает себе жирок…
— Сотомайор из герцогов, а не маркизов Сотомайоров! — уточнял дон Сиксто, разглаживая морщины. — Да, да! Я не позволю себе солгать, именно из герцогов Сотомайоров, которым Филипп Пятый пожаловал этот титул, возведя их в сан грандов Испании первого класса, а вовсе не из маркизов Сотомайоров, которым Карл Второй предоставил дворянство только семьдесят с лишним лет спустя.
— Уф-ф-ф! — фыркнул дон Непо. — Не нравятся мне эти смешки!
— По-другому не умею, дон Сиксто!
— Ну, смейтесь, смейтесь! Заявил же папа в своей знаменитой булле, что вы, уроженцы Американского континента, отличаетесь от скотов только тем, что умеете смеяться…
— Из этой самой буллы и стала известной фамилия Кохубуль, вам-то следовало бы это знать… — с иронией заметил дон Непо.
— Геральдические причуды…
— «Кохубуль» происходит от слов кохо — значит, «хромой», и булла… заметьте, хромой и булла. Это из тех креольских фамилий, которые попали в буллу, потому что их предки… хромали на голову…
Не поспей Консунсино, вдова Маркоса Консунсино, они вцепились бы друг в друга.
С Кохубулями сеньор Непо познакомился много лет назад, когда на побережье хлынули бедняки, такие нищие, что у них ничего не было, кроме того, что на них надето, — и вот все они бросились сюда, клюнув на уговоры какого-то чахоточного приезжего, усиленно расхваливавшего эти далекие земли, где можно якобы легко подзаработать. Тогда-то и появились здесь Бастиансито и она, Гауделия… как сейчас он видит их перед собой. Они были рекомендованы некоему сеньору по фамилии Лусеро. И тут же, чуть не наступая им на пятки, появились здесь Айук Гайтаны, братья Гауделии. Как говорится, кому бог дает, того и святой Петр благословляет. Конечно, нажиться на своих посевах они не сумели — и ястреб перепелятник не сразу становится ястребом стервятником, — но зато им повезло в другом: они унаследовали капиталы преуспевавшего акционера «Тропикаль платанеры» Лестера Мида, настоящее имя которого Лестер Стонер; он потом погиб на Юге во время страшного урагана вместе со своей женой Лйленд Фостер.
Все это Паскуаль-и-Эстрибо знал назубок: и историю геральдической ветви фамилии Кохубулей, и то, как появилось это сказочное наследство в акциях могущественной Компании, и о том, как переехали наследники Кохубулей и Айук Гайтанов вместе со своими женами и детьми в Соединенные Штаты, и о том, как они потеряли свои капиталы при продаже акций «Тропикаль платанеры» Джо Мейкеру Томпсону, пирату, известному под кличкой Зеленый Папа; тогда они были уверены, что решение о границах обернется в пользу «Фрутамьель компани», и после краха уже не смогли восстановить былое положение; единственно, что им удалось, — это пристроить своих детей на высокооплачиваемые посты в «Платанере».
Но была еще и другая причина, из-за которой сморщенный дон Сиксто Паскуаль, который если и имел что-нибудь общее с пасхальными праздниками, так только свою фамилию [7], снова лязгнул зубами и бросил испепеляющий взгляд на своего обидчика. Как только было произнесено имя мулатки Анастасии, за испепеляющими взглядами последовали плевки, затем ругательства, а потом и кулаки застучали по столу. Дело в том, что дон Непо, предпочитавший все раскладывать по полочкам, назвал имя Анастасии как свидетельницы варварской жестокости, с какой у крестьян на Атлантическом побережье янки захватывали земли и разбивали на этих землях плантации. Штыком и бичом чужеземные пришельцы выгоняли крестьян из хижин — разлагающая сила золота натолкнулась здесь на волю тех, кто не хотел отказываться от земли, политой потом отцов, не хотел лишаться того, что мог в свою очередь оставить детям. Никто не обращал внимания на протесты коренных жителей побережья — грабеж был легализован законом. Захватчики уничтожали каждого десятого из местных жителей, многие были брошены в воды реки Мотагуа или призваны на военную службу, как только янки увидели в них опасных соперников.
— Благородство обязывает!.. — Дон Непо не говорил, а вещал глухим голосом, раздававшимся словно из глубины колодца. — Сколько было маркизов, сколько князей, и, однако, вся семья рухнула в бездну, в том числе и лакей, вставший на колени перед «Платанерой»!..
— Я не позволяю вам так говорить, Рохас!
— …вместе с внуком — евангелистом и квартероном! — Дон Непо, не обращая внимания на слова испанца, нанес ему последний удар под громкий хохот и одобрительные возгласы.
И тут снова вмешалась Консунсино, вдова Маркоса Консунсино, иначе спорщики пустили бы в ход уже не только кулаки — разъяренный Сиксто схватил трехногий табурет, а Дон Непо, обороняясь, поднял стул.
С тех пор они не встречались.
Поэтому, увидев дона Непо, проезжавшего мимо каменной стены, дон Сиксто злобно заворчал — ему захотелось уничтожить, раздавить своего врага! Дону. Непомусено Рохасу едва-едва удалось проскользнуть между повозкой и стеной.
На последнем подъеме, уже недалеко от дома, дону Непо показалось, что не велосипед несет его на себе, а он сам тащит тяжелую колымагу; велосипед теперь казался совсем другим — он совсем уже не был похож на волшебную падающую звезду.
Но вот подъем остался позади — распахнув калитку, дон Непо въехал в небольшой двор. Внука, по-видимому, дома не было. Дон Непо подрулил к навесу — он всегда оставлял своего «коня на колесах» там, где были сложены самодельные седла, конская упряжь, ярмо для волов, тыквенные бутылки, мешки, овчины и старый плуг. Остановился у навеса — ногу сводила судорога; он обливался потом и тяжело дышал. Он подтолкнул велосипед, и тот покатился сам в свой угол. Обычно велосипед принимал внук, но когда того не было дома, то сипе, как ласково дон Непо называл свою машину, сам догадывался, куда надо катиться и где встать… «Умная и добрая у меня машина, — подумал дон Непо, развязывая платок на шее и вытирая им пот со лба. — Добрая и умная…» Добрая — она не позволяла ему брести пешком на рассвете… умная — сипе походил на живое существо, обладающее инстинктом самосохранения, которое защищало его от грузовиков, проносившихся в эти предрассветные часы с зажженными фарами, похожими на звезды, перемещающиеся на небе. По дороге велосипед будто сам по себе старательно избегал столкновений со столбом или пешеходом… а это так важно, когда возвращаешься с ночной работы, обалдевший от усталости, полусонный — ресницы повисают, как ветви плакучей ивы. В такие часы едешь, и твое тело — избитое, грязное, с болью в суставах — ощущает поддержку умной машины, мчащейся навстречу миру, где свет еще напоминает тень, а тень только начинает быть светом, навстречу миру, в котором деревья и дома невесомы и весь дремлющий город парит где-то между явью и сном.
Платком он потер за ушами, провел по затылку, его наполняло чувство такой же душевной благодарности к велосипеду, какую всадник испытывает к своему коню. Сегодня это чувство было вполне обоснованным: велосипед спас его от кто знает каких ушибов и ран, помог ускользнуть от дона Сиксто, который явно намеревался превратить его в пыль и прах. Вспомнив об этой встрече в предрассветных сумерках, дон Непо помянул врага отборнейшими словечками из своего обширного лексикона.
Он подошел к кровати, точнее, к накрытым покрывалом доскам на деревянных козлах. Из-под двери и из щелей под крышей проникал утренний свет — белый, жаркий, обжигающий, не такой ли огонь в печи для обжига превращает известняк в самую настоящую известь?… Ложиться пока не хотелось. Глоточек бы! Вот-вот. Стаканчик… чего бы то ни было, только бы покрепче, чтобы встряхнуться, избавиться от неприятных мыслей… Решил прежде раздеться; обнаженный до пояса, заросший волосами, он походил на косматую обезьяну… Пошарил по углам… Ничего не нашлось. Бутылки из-под сладкого вина, из-под марочных ликеров, пивные — все пусто; из горлышек, еще так недавно источавших изумительный аромат шипучего напитка — дон Непо не ко рту их подносил, а к глазу, — неприятно пахло пробкой. Но еще отвратительнее был запах опьяневшей и уснувшей на дне бутылки пыли. Среди всякого хлама и пустых бутылок ему попалась пробка от шампанского… а бутылку внук приспособил для сиропа… Шампанского… шампанского было бы неплохо… Но нет ни капли… Его разбирал смех, и, чтобы не засмеяться, он стал кусать губы… Пусть смеется этот проклятый домовой, старик Эстрибо, который только и умеет, что совать ногу в чужое стремя. Пусть себе смеется, щелкая вставными челюстями… звякают они, как лошадиные подковы… плохо подогнанные подковы… Пробка от шампанского! Эх, найти бы глоточек… Но не шампанского… оно для праздников… лучше чистого агуардьенте или чистейшего кушуша, чтобы драл в глотке, как наждачная бумага… Да, да, пусть все внутри продерет, чтобы забыть обо всем на свете…
И вдруг захотелось горячего. Горячего захотелось даже больше, чем горячительного. Горячего в глотку и желудок. Глупец! Раз велосипед тут, что ему мешает одеться и подкатить к Консунсино? Нет, нельзя. Он поклялся, что не переступит ее порог. Поклялся?… Но если мучает жажда, клятвы ничего не стоят. Пусть глотке станет жарко от крепкого глотка — и не для того, чтобы забыться, как это обычно утверждают, а чтобы зажечься яростью, бешенством, гневом и пустить в ход язык. Ведь когда выскажешься, на душе становится легче, обиды забываются, уходит боль… А если по пути удастся встретить внука, можно и с ним перемолвиться…
Он натянул штаны стоя: значит, не так уж стар! Всунуть в штанину одну ногу, затем другую, натянуть. Рубашка, куртка, башмаки на босу ногу — и он готов. Нечего возиться, ведь и надо-то только съездить, пропустить глоток. Дон Непо поискал шляпу, вывел велосипед, вскочил на него… и через несколько минут этот проклятый велосипед сам остановился перед дверью кабачка Консунсино. Как там веселились! Хозяйка от души хохотала над рассказом старикашки-испанца.
Раз уж ему не удалось разделаться с врагом, старикашка решил объявить, что хотел лишь припугнуть его, заткнуть ему глотку, чтобы не злословил по поводу Кохубулей и «Тропикаль платанеры», которая столько добра сделала и делает стране.
Трусом дон Непо не был, но все же он не вошел в кабачок Консунсино — не хотел он видеть хихикающие физиономии, не хотел снова ввязываться в спор: игра не стоила свеч. Пусть кутят.
Он повернул домой. Слепило солнце. Мало облаков. Много солнца. Где-то далеко рычали грузовики, языками пламени локомотивы пожирали уголь, от взрывов динамита сотрясалась земля. Видно, близок конец света, и пусть лучше он дождется светопреставления на своей койке.
III
— Рохас-и-Контрерас заново родился!.. — провозгласил дон Сиксто, входя в кабачок вдовы Маркоса Консунсино.
— Это кто еще? — откликнулась хозяйка, не оглянувшись на испанца; она была целиком поглощена рюмками и с такой силой терла их, что они едва не плакали.
— Как кто? Рохас — твой сосед.
— Дон Непо?
— Он самый, хозяйка, он самый. Такова его полная фамилия… Все равно как меня называют Паскуальи-Эстрибо.
— Ну, вам-то не все равно. Ведь вам, дон Сиксто, это самое Эстрибо не по нутру.
— Гром и молния на ваши головы! Благородную фамилию моей матери, дарованную господом богом, превратить в какое-то прозвище!..
— Прозвище?
— Даже в мерзкую кличку! Чтоб ты язык проглотила…
— Ну а вам-то что? Не обращайте внимания…
— Эстрибо… Ты хочешь еще раз повторить, что я, дескать, залезаю ногой в чужое стремя?… Не так ли?…
— Как вам угодно, дон Сиксто…
— Беда прямо, выпало мне на долю жить среди кафров…
— Эх, как вы отстали от жизни — в нашей столице уже нет монашеских кофрадий!
— Слава тебе господи, я и говорю не о кофрадиях, а о кафрах!
— Чтобы понять вас, дон Сиксто, надо сначала вызубрить Евангелие…
— Уж кому нужно Евангелие, так это Рохасу. Я насмерть его перепугал, прижал повозкой к стене, когда этот негодяй проезжал мимо, еще осмелился приветствовать меня, будто между нами ничего не произошло, прохвост этакий! Я не прикончил этого наглеца только потому, что час его еще не пробил!
— Мне одно известно, что и он и вы… простите… вы и он, — сначала надо упомянуть испанца, а затем уж индейца, — поклялись в мое заведение ни ногой…
— Что ж, пусть я буду клятвопреступником, уж очень ты мне по вкусу… аромат-то от тебя какой!..
— Не слишком ли многого вы захотели! — И, изменив тон, она продолжала: — Да разве кто-нибудь сможет спастись от вашего языка? Клянусь святым папским престолом, вы, дон Сиксто, такое скажете, что и самый последний погонщик ослов не придумает.
— Если меня заденут, я жалю, как скорпион. Но знаешь, сейчас я пришел неспроста, хотел кое-что рассказать тебе.
— Прежде скажите, что вам подать.
— Еще слишком рано.
— Как хотите, опохмелиться-то не вредно.
— От огорчения не опохмелишься. Как назло, столкнулся я с этим типом, твоим соседом.
— Чашка горячего кофе пошла бы вам на пользу.
— А если я выпил ее дома?
— От кофе нельзя отказываться… Если одни будут приходить сюда, чтобы поглазеть на меня, другие — излить свои горести, а третьи — чтобы понюхать меня, тогда мне придется закрыть свое заведение и начать отпускать грехи, и пусть все таращат на меня глаза да нюхают.
Вдова Маркоса Консунсино расхохоталась и ушла в кухню: из чашки, которую она приготовила для дона Сиксто, кофе расплескался на блюдце.
— Ты нынче в прекрасном настроении.
— Все, что вы здесь видите, создано благодаря моему хорошему настроению, все — и спиртное, и этот святой Доминго де Гусман, у которого, как видите, — она показала на выступ возле двери, — всегда и цветы, и лампадка.
— А святой-то наш, испанский.
— Святые принадлежат небу, а не какой-либо одной стране на земле. А как же кофе?… Может, выпьете и потом расскажете о своих делах? У меня ведь кофе особенный: сама жарю зерно, так что оно не пережарено и не сырое. Сама и размалываю его, не по-аптекарски — в мелкий порошочек, но и не крупно, и сама варю кофе, не спуская глаз с кофейника.
— Подожди ты со своим кофе. Я пришел тебе рассказать…
— Ну, рассказывайте, только начинайте издалека, ведь издалека видно и быка.
— Я и хотел тебе рассказать…
— Хотели… хотели… Рассказывайте-ка скорее, не тяните! Что, язык проглотили?
— Проглотить не мудрено — вон у тебя какое декольте, не декольте, а целая витрина! Выставка что надо! Ну ладно, шутки в сторону. Я хотел рассказать, как чуть было не разделался с этим прохвостом, твоим соседом.
— Когда? Сегодня утром?
— Да, на пути сюда.
— Что ж, пусть на себя пеняет. Нечего было подливать масла в огонь. Вначале я думала, что вы не хотели спорить, но он так и рвался в бой.
Хозяйка принесла дымящийся кофе, и испанец припал прокуренными усами к чашке.
— Осторожней, кофе еще очень горячий! А что касается дона Непо, какое это имеет значение, что он мой сосед? Болтать-то все можно. А чем он вам так насолил? Сказал что-то по поводу тех, кто сменил свою фамилию, подделываясь под иностранцев. И еще он сказал, что этот самый мистер Кэйджебул родился от какой-то толстозадой индеанки! Лично я не знаю этого мистера, но сеньор Непо говорит, что рожа у него — ну точь-в-точь как у индейца, и как бы ни подделывался он под гринго, за янки ему все равно не сойти…
— Да что он знает, этот болван! Ведь есть индейцы краснокожие… А краснокожие — это особые индейцы, их снимают в кино, их не сравнить со здешними ублюдками. Они даже по-английски говорят.
— А вы, дон, говорите по-английски?
— Боже упаси! Не в такой гнусный день я рожден, чтобы болтать по-английски!
— Уберег, значит, вас от этого господь!
— А вот у вас, латиноамериканцев, и языка-то своего нет. Говорите на нашем языке, это мы его вам одолжили. По-испански вы говорите плохо, так почему бы вам не заговорить плохо и по-английски? Ведь это язык господ столетия!
Консунсино, не ответив, убрала пустую чашку. Дон Сиксто скрутил сигарету, послюнявил краешек бумаги и припечатал ногтем, затем сунул самокрутку в рот, прикурил от кремневой зажигалки, затянулся и полез за деньгами, чтобы расплатиться.
— Этого еще не хватало! — возмутилась хозяйка. — Не стану же я брать с вас за чашку кофе без аккомпанемента. Ах да, вы не любите мешать! Вы любите пить кофе отдельно и коньячок отдельно!
— Коньячок попозже, как вернусь.
— При условии, если не будете сражаться с моим соседом.
— Если он первый не полезет в драку. Не могу забыть, как он обливал грязью всех иностранцев, стало быть, и меня, никогда этого ему не прощу.
— Ну, если вдуматься, он был прав. Но не все иностранцы похожи на вас. Да и вы уже так давно здесь живете, что позабыли о своей родине.
Паскуаль-и-Эстрибо попытался было что-то возразить, но Консунсино повысила голос:
— А насчет того, что произошло на Южном берегу, и насчет миллионов, так обо всем этом еще долго будут говорить. Такое не каждый день случается, и не все с водой утекло… Что осталось от ваших хваленых аристократов? Кучка белоручек, болтающих по-английски, которые одеваются под гринго, живут, как гринго, женаты на грингухах — даже не подумаешь, что они родились здесь… По-моему, нет ничего хуже, чем быть чужим на своей земле. Это хуже, чем быть иностранцем.
Дон Сиксто сделал протестующий жест, хотел как будто вставить слово. Но хозяйка была начеку.
— Не перебивайте, не мешайте мне… — проговорила она. — Дайте мне высказаться, а потом уж скажете вы — за слова пошлину платить не надо! Никто из тех, кто наживал миллионы… никто из них не понимает и никогда не поймет, что многое в жизни стоит дороже денег. Слушайте и не прикидывайтесь глухим. Когда говорят то, что вам не нравится, вы всегда разыгрываете из себя глухого. Ведь этот самый Лестер Мид доказал, что можно бороться с «Платанерой», захватившей чужие земли.
— Я не отрицаю этого. Кажется…
— Так оно и есть, а не кажется. Речь идет о фактах, а вы говорите — кажется… Наследники Лестера Мида, эти Кохубули, отправились в те края, где, видите ли, им даже стыдно слышать упоминание об их родине.
— Нельзя обвинить отца в том, что он старается как можно лучше воспитать своих, детей. Кэйджебулы так и поступили. Это их право.
— Не на правде основано это право, и пусть скажет Кохубуль, ради какого золота или медового пряника индейцы должны перекрашиваться.
— Людей именуют так, как они сами хотят, тем более если они родились в хорошей семье и — карамба! — если они хорошо воспитаны.
— Пусть меня считают невеждой, но я никогда не скажу «Кэйджебул» вместо «Кохубуль», никогда! До чего же мы можем дойти? А что касается всяких там прав, так, по-моему, люди прежде всего не должны забывать о своем долге. Наследство — это не только деньги, но и заветы. А завет таков — надо продолжать борьбу с «Платанерой»…
— Сосед, видать, накачал тебя здорово!
— Сеньор Непо тут ни при чем. Все об этом говорят… А вы что думаете… что Анастасии, о которой упомянул сосед, нет на свете… что люди будут скрывать правду… или выдумывают… что нас, дескать, облагодетельствовала «Платанера»… Облагодетельствовала! Как быка под ножом. «Хорошо, что есть удила, — сказала ослица, — не люблю, когда морду рукой повертывают».
— А я считаю, что это вопрос вкуса. По-моему, они правильно сделали, что уехали со своим наследством подальше и стали воспитывать своих детей за границей.
— Именно так и поступил Иуда, именно так! Только вместо того, чтобы повеситься на суку, эти на женщинах виснут и детей плодят.
Старик отхаркался и, надвинув шляпу грибом на глаза, вышел из заведения вдовы Маркоса Консунсино. Вышел и сразу же, нос к носу, столкнулся с внуком Непомусено.
— Сын его дочери, — пробормотал под нос испанец, — его дочери и какого-нибудь калабрийца из тех, что работают тут пильщиками леса, — в синих глазах небо Италии, а лицо индейца, бронзовое, как у деда и той шлюхи, что его родила…
Дамиансито сидел на телеге, груженной известью, и насвистывал, погоняя быков; поскрипывая, катились колеса, и из мешков высыпалась струйка белой пыли, словно запись на дороге той мелодии, что насвистывал мальчик. Приподняв шляпу над черноволосой головой, он белой от известковой пыли рукой помахал кабальеро. Испанец не ответил, насупился, как мрачная сова, и его морщины остались неподвижными — пусть этот сопливый юнец поймет, что дону Сиксто не пристало отвечать внуку своего заклятого врага.
Погонщик, не подавая вида, что это его задело, продолжал как ни в чем не бывало насвистывать и наконец весьма четко вывел: «Эс-с-с-с… стри-бо!.. Эс-с-с-с… три-бо!.. Эс-с-с-с… три-бо!.. Сови-и-и-и-ще!.. Сови-и-и-и-ще!» Взбешенный старик в ярости кусал губы. Подбежав к своей повозке, он вскочил на ее подножку так, словно вдел башмак в стремя (эс… три-бо!.. эстрибо!!). Повозка покачнулась, резко накренилась, будто здание во время землетрясения, готовое вот-вот рухнуть. Но в самый опасный момент испанец восстановил равновесие, быстро перейдя по правую сторону от бидонов с парным молоком, еще теплым, пахнущим коровой и напоминающим о теленке, что остался сегодня голодным; слева лежали охапки травы, зеленой, как надежда.
Повозка сильно накренилась, но не упала… Разве не подтверждает это проект, предложенный им достопочтенному муниципалитету столицы, относительно строительства антисейсмических зданий? Жилые дома и административные здания в этой злополучной стране, где все рушится от землетрясений или как от землетрясений, даже когда подземных толчков нет и в помине, должны, по мысли испанца, строиться на рессорных основаниях, и, если подземные силы пробудятся, здание только качнется, как повозка, и останется целехоньким на месте.
Консунсино вышла следом за доном Сиксто с тазом, полным воды. Можно было подумать, что она намеревается будто ненароком выплеснуть воду на испанца, но она просто полила землю перед кабачком. И как раз вовремя — на часах ее примет наступила та самая минута, когда солнце, заливавшее мостовую, начало перебираться на стену. У Консунсино была своя тайна. Земле нравится агуардьенте, но не то, что хранится в бутылках, а то, что уже пили люди, и потому она поила землю водой, в которой мыли стопки и рюмки с недопитым вином; однако напоить надо до того, как солнце наберет силу. Если делать это каждый день, то земля, наделенная человеческим разумом, вознаградит тебя с лихвой — ведь это то же самое, что «засевать поле пьяницами»: тогда их число в ее кабачке приумножится, они словно вырастут из земли или — не в силах держаться на ногах — припадут к стене, как вьющиеся растения.
Круто взмахнув тазом — брызги разлетелись сверкнувшим веером, — Консунсино щедро полила землю. Жаждущая почва впитывала влагу с шипением — так шипят от воды гаснущие угли. Прислушавшись к голосу земли, Консунсино громко произнесла:
— Пусть все алкоголики и забулдыги обретут силы от глотка агуардьенте и не проходят мимо!.. — Она внимательно осмотрела политую землю перед дверью. — Пусть входят, пусть будет для них мое заведение надежным убежищем, пусть не устанут они пить в одиночку или с друзьями, пока не оставят здесь, у меня, последнюю монету, часы, бумажник, булавку для галстука, цепочку от карманных часов, запонки — все, что только имеют при себе ценного, и пусть уходят довольными и веселыми… Пусть не мочатся здесь, пусть их не рвет, пусть не ссорятся они здесь и не дерутся, пусть делают все это в каком-нибудь другом месте, ибо нет ничего зловоннее мочи, блевотины и словоблудия пьянчуги! — И она низко, так, что обрисовались ее мощные, точно сейбовые колеса, ягодицы, поклонилась солнцу, однако тут же спохватилась, как бы кто не заметил этого, и сделала вид, будто подбирает что-то с земли.
Прижимая таз к левому боку — ближе к сердцу, Консунсино готовилась свершить второе священное орошение.
— И те, кто любит пропустить глоточек, опрокинуть стопку, ибо у каждого всегда найдется подходящий предлог выпить — будь это праздник или поминки, — пусть не проходят мимо… — Она опять уставилась на уже вторично политую землю перед дверью. — Пусть зашевелится у человека червячок жажды и захватит его страсть, и пусть сядет он — если в состоянии еще сидеть, — сядет у стойки и опорожнит бутылку крепкого ликера, стопку жгучей настойки или литр доброго пива!
В третий раз поклонившись солнцу, она брызнула последними каплями на землю и произнесла:
— И тот, кто еще сохранил непорочность, никогда до сих пор не прикасался к спиртному, пусть не проходит сегодня мимо, пусть войдет сюда, чтобы отпраздновать радость или избавиться от тревог; пусть войдет сюда ради любопытства, чтобы почувствовать себя мужчиной, чтобы знать, как пахнет агуардьенте; пусть попробует его впервые, и пусть ему оно понравится, и пусть снова и снова разгорится желание потянуть из бокала; и тот, кто никогда не напивался, пусть напьется, ибо ты, земля, хочешь этого, ибо хочешь этого ты, солнце, отец и мать сахарного тростника, всемогущего нашего господа!..
— Тата Гуаро, — добавила она, — благодаря тебе нет ничего на свете печального, нет ничего безобразного, нет ничего дорогого!..
Когда вблизи проходят грузовики с материалами для строительства на аэродроме взлетных дорожек, приземистые невзрачные домишки вздрагивают. Эти грузовики кажутся чудовищами на колесах и рессорах, они величественнее домов, а некоторые даже похожи на какие-то движущиеся соборы (вот где испанец мог бы полностью подтвердить свою теорию строительства городов на рессорах в странах с частыми землетрясениями и мог бы запатентовать свое изобретение!). Гудят локомотивы, требуют освободить путь; как коровы, потерявшие своих телят, блуждают они взад и вперед, отцепляя и прицепляя платформы, пустые или груженые вагоны. Вокруг высятся кипарисы, расстилаются пастбища, в период дождей превращающиеся в лагуны. Издалека доносятся выстрелы охотников за утками. Перекликается скрежещущее, скрипящее эхо: машины, работающие на выемке камня, экскаваторы, буры, лопаты врезаются, вгрызаются в каменистую землю. В крошечных вагонетках едут люди; по сравнению с огромными грузовыми составами вагонетки кажутся поездами-мышами. Гигантские челюсти с лязгом раскусывают, дробят, пережевывают камень, превращая его в мелкий порошок. Это целый мир, в котором нет ничего лишнего и нет потерь, здесь впустую не растрачивают время, не соблюдаются воскресенья… Котлы-бойлеры, конденсаторы-холодильники, гидравлические поршни. Люди, янки, ярды. Тут все смазано или вымазано машинным маслом — ни одного масляного пятнышка не попало лишь на небо, где среди облаков, алтарями возвышающихся в безбрежной голубизне, по утрам служат мессу ангелы.
Сеньор Непо Рохас растянулся на койке, как был — одетый. Второй раз за это утро вернулся он домой и второй раз растянулся на койке. Ударом о койку смял шляпу. Растянулся, как животное, которое спит днем, а ночью бродит; даже не снял башмаки. Не давало покоя проклятое желание пропустить глоточек — опять придется встать, вытащить велосипед и поехать поискать другой кабачок: снова вернуться к Консунсино он не мог. Ради какого-то несчастного глотка нужно ехать черт знает куда. Куда бы ни шло — из-за дюжины или полудюжины глотков, но ради одного… И Дамиансито нет дома. Шатается где-то на Северных каменоломнях, забыл о своем деде… Пожалуй, так даже лучше… пусть внук будет неблагодарным… Но плохо думать о внуке, который каждое утро встречал его — радостно, будто божий поцелуй, — он не мог. Просто сорвалось сейчас — Дамиансито не было дома… И вот он растянулся на койке как был, даже не сняв одежды, в куртке и даже в башмаках — что ж, он сам себе хозяин. И никто не возмущался, никто не возражал, никто не сказал, что он, дескать, похож на мертвеца или на мертвецки пьяного.
На мертвеца или на мертвецки пьяного?… Если бы он не поберегся сегодня утром, то был бы не только похож на мертвеца, а и в самом деле стал бы мертвецом. И все же ему удалось ускользнуть от смертоносных колес — видно, господь милостив и еще не пробил его, Рохаса, смертный час. Выскочил он благодаря присутствию духа, благодаря педалям и рулю, потому что не потерял голову и нажимал на педали, рулил и маневрировал, словно тореро. Хотя повозка дона Сиксто и не сотворила злого дела, испанец все-таки напакостил ему — остановился перед кабачком Консунсино. Вот потому-то и не удалось дону Непо выпить. Сразу угас порыв, улетучилось желание пить агуардьенте, пить до тех пор, пока не перегорит все на сердце, чтобы ни о чем не думать и ничего не ощущать, — пришлось вернуться домой, даже не промочив горло. Дыхание прерывалось, он еле дышал…
Ему хотелось высказать все, что наболело на душе, поведать кому-нибудь и о том, что случилось, и о том, что с ним вообще происходит. Как назло, Дамиансито нет… Встретил бы его по дороге, поехал бы с ним сдавать известку. Погрузил бы велосипед на телегу, и никто не помешал бы им наговориться всласть. Когда выложишь кому-нибудь все, ощущаешь облегчение, а сейчас вот он вынужден сдерживать и бешенство, и гнев, и страх, и раздражение. Противно вспомнить эту утреннюю сцену: предательский удар дона Сиксто, повозка, неподвижно застывшая перед кабачком Консунсино, и как подумаешь, что будет трудно отплатить той же монетой, не совершив преступления, горечь переполняет сердце. В его мозгу созрел план мести. На соседней улице, по которой обычно проезжает Паскуаль-и-Эстрибо, надо разобрать снизу стенку, да так, чтобы она повисла в воздухе; как только испанец поравняется с этой стеной, она обрушится на него и похоронит под своими развалинами, а потом… потом можно будет купить газеты с сообщениями о гибели дона Сиксто и с комментариями по поводу того, как он погиб, став жертвой науки — испытывая свой оригинальный метод строительства антисейсмических домов на рессорах.
Дон Непо даже не выпил кофе — лишь сейчас об этом вспомнил… Даже куска хлеба не откусил… такой черствый… Липкой от пота рукой, вонявшей горячей резиной, он взял кусок, но откусить не смог: можно подумать, что кладешь в рот рукоятку руля. Даже вкусного хлеба теперь не выпекают.
Все выводило его из себя и будет выводить из себя, пока он не отомстит. Солнечный свет пробивался между досками потолка, как сквозь несомкнутые веки, бил из-под двери — белый, яркий, обжигающий. Потолок нуждается в ремонте, вот-вот развалится; нет сосновых реек и нет кедровых досок, чтобы починить его. Многого не хватало Непо. Но что делать, старикан, раз нет ни денег, ни сил… А что, если подняться и заложить щеколду?… Неплохо бы закрыть дверь. Теперь от дона Сиксто можно всего ожидать, тем более испанец-то знает, что в этот час легко застать дона Непо спящим… На крючок и на щеколду. Береженого — бог бережет! Как же он все-таки устал… Бессонница расслабляет. Закрываются глаза. Он хочет поднять веки. Не может. Все ускользает куда-то. На щеколду… и крючок… было бы хорошо… Но нет сил подняться… даже нет сил защитить свою жизнь… ослаб из-за этой проклятой усталости, вечного неудовлетворения, горьких разочарований, из-за этой серой повседневности и чувства острой несправедливости… Если убьют, так хоть мертвого оставят в покое… Препоручаешь ведь себя на милость божью… Дверь… щеколда… крючок… легко ли от слова перейти к делу… эх, еще бы силенок… еще немного поднажать… Тогда можно быть уверенным, что его не пристукнут как беззащитного щенка!..
Еще бы силенок!.. Он хотел повернуться, чтобы легче было дышать, да так и замер, словно внезапно потерял сознание: голова рядом с подушкой, ноги раскинуты, рука свесилась с койки, ртом уткнулся в простыню, а спина открыта, не защищенная перед убийцей, — может быть, сам дон Сиксто появится в маске, а может, наймет кого-нибудь…
Он спал в одежде и обливался потом, будто не спал, а выполнял очень тяжелую работу. Потому-то за ночную смену и платят вдвойне. Это как бы аванс за тяжелый сон в дневные часы: нужны усилия, чтобы усталость обратилась в сон, солнечный свет — в тень, а хлопоты и беспокойство — в мир и покой. Но не всегда удается сомкнуть веки, зачастую усталость преследует ломотой в костях, от прилива крови мутная пелена застилает глаза и в бурливом потоке шумов тонет тень тишины.
Он помахал в воздухе рукой, свесившейся с койки, однако не достал земли, и это движение не вернуло его к реальной действительности — она исчезла в тумане сна. С каждым выдохом он выветривал смертельную обиду. И уже не вдыхал он, а подвывал… Выл, точно вентиляторы в «Гранаде», — это ему было поручено держать их в чистоте, но старый ветер покрыл густой пылью холодный грустный металл. Прежде вентиляторы начинали вращаться как бы после глубокого вздоха, а теперь, когда их пускают в ход, они поднимают вой. Времена меняются. Некогда, в былые романтические времена, ему поручалось следить за чистотой полудюжины клеток с птичками, которые своим пением развлекали посетителей. Но времена меняются. От птичек отделались — а если бы они и остались, то, наверное, завыли бы, как вентиляторы или вот как сейчас дон Непо, — вместо птичек в «Гранаде» водрузили «Роколы», завывающие, словно голодные суки с пестрым брюхом, жаждущим монет.
Наконец он повернулся на другой бок — хотелось избавиться от тяжести, душившей его, ведь он лежал ничком, подобрав под себя ноги, будто в утробе матери, объятый таинственным сном. Полежав несколько минут без движения, он вдруг ощутил застаревшую боль в ухе и поковырял пальцем в ушной раковине, откуда волос торчало больше, чем из ноздрей. Недаром же дона Непо прозвали Косматым, впрочем, это нисколько его не сердило.
Он еще раз переменил положение, и лачуга огласилась сопением, храпом и каким-то бурчанием; бурчал, как кипящая на огне похлебка, которую варил он, дон Непо, — старик, осужденный погибнуть под колесами повозки из-за своего неуважения к «Платанере» и Кохубулям, Сотомайорам, папам, буллам и прочим реликвиям. Вот-вот будет свершен приговор — над ним уже повисли и повозка, и кляча, и морщинистый палач, раскачивающийся на ветру, как пучок жилок от табачных листьев. Он покрепче зажмурил глаза, чтобы не закричать, но смертная казнь миновала: не раздавили его колеса, не разорвали на куски, экипаж пронесло над ним, пролетел, словно сова, и снова возник за несколько шагов впереди, на этот раз уже похожий не на сову, а на какую-то фантастическую колымагу, опустившуюся, как зловещая птица, перед дверьми Консунсино.
(«Совиииии…ще!.. Совииии…ще!..» — насвистывает внук… Послышалось это деду или приснилось?… «Совиии…ще!.. Совиииище!.. Эс-с-стриии… бо… Эс-сстриии… бо!»)
Он стиснул губы так крепко, будто хотел свистнуть во сне. Крикнуть колымаге, что остановилась за несколько шагов от него, крикнуть, разбив по слогам прозвище ее хозяина: «Эс-три-бо!.. Эс-три-бо!..»
И домой он вернулся совсем не из-за этого — разве может придавать значение всем этим пустякам такой человек, как он, Непо, который каждодневно бросает вызов смерти, встречаясь на дороге с чудовищно огромными, много-премноготонными грузовиками, которыми движут сотни и сотни незримых лошадиных сил и управляют рыжие гиганты. Правда, при виде их он сам себе казался мертвецом, расстрелянным на рассвете, — однажды он признался в этом своей красотке, которая теперь стала старой и безобразной и считалась его кумой, и та ответила: «Как раз это я и хотела сказать, Понемо (так нежно обращалась она к Непо с глазу на глаз — аи! — в доброе старое время)!.. Как раз это я и хотела сказать!.. А почему тебе не быть убитым, мертвецом, если ты выехал на рассвете и сразу же, у порога столкнулся со смертью?… Вот так и погибнешь, ни за что ни про что, и похоронят тебя… посеют твои косточки в чистом поле или украсят твоей могилкой кладбище… Конечно, каждый умирает по-своему, но такие самоубийцы, как ты, могут выбрать себе смерть по вкусу. Однако у тебя, Понемо, даже для этого не хватит вкуса, как и тогда, помнишь, когда ты бросил меня из-за Каифасии… Погибнуть на велосипеде — где это видано! Был бы ты хоть молод, а то ведь… Что ж, придется заколотить тебя в деревянный ящик, ежели, упаси господь, шмякнешься да навсегда и вытянешься… Да, соберут твои косточки или просто-напросто вытрут промокашкой то место, где тебя переедет одна из этих игрушечек, что взваливают себе на горб целую скалу, превращенную в пыль и прах… Не так ли, Понемо?» Сказала и раскинулась на постели… Эх, хороша была, искусительница! А сейчас?…
И что за поганая нынче жизнь: порой увидишь ее во сне, но уж не такой красивой, как в молодости, а такой, какой она теперь стала, — высохшей, тряпкой. Одна шкура осталась. Груди опали. Развалюха. Никому и в голову не придет ущипнуть ее теперь. Все зубы потеряла — правда, в этом повинен один ловкий зубодер: чтобы побольше заработать, он опустошил ей весь рот, лечил якобы от ревматизма, еще уверял, что иначе выпадут волосы, вот и повыдергал… А теперь стала она его кумой.
Повозка испанца, то неподвижная, то катящаяся, преследовала его. Крылатым хищником, зловещей птицей, совой с четырьмя когтистыми лапами опустилась было она перед дверьми кабачка Консунсино. Но вот колымага свернула в сторону, и в ушах зазвенело эхо, расплескавшись звякающими кругами от железных шин; вокруг разнеслось галопирующее эхо ударов колес и оковки о камень, отзвук свиста бича и поток ругательств, хулы и плевков. А испанец все шмыгает и шмыгает носом, вытирая его своей худой, морщинистой и костлявой рукой… Ужасная рука у Паскуаля-и-Эстрибо, даже вожжи, зажатые в ней, толще. А ведь сколько раз сжимал он ее в дружеском рукопожатии. Теперь же эта рука направила колымагу прямо на него, дона Непо…
Он вскрикнул… Чуть не проснулся… Что-то огромное и громыхающее катило на него — он отчетливо слышал этот грохот, — постепенно приобретая очертания повозки, которая, стремясь настигнуть его, летела, едва не разлетаясь на куски. Колымага неслась на колесах, а может, и не на колесах — казалось, парализованные, они все же вращались с головокружительной быстротой. В вихре искр, словно вырывавшихся из кузнечного горна, невозможно было различить лошадь, гнавшую изо всех сил. Колымага дико подпрыгивала, лопалась упряжь, щелкали рессоры, что-то хрипело… Было похоже на ужасное землетрясение…
Дон Непо почувствовал себя беспомощным. Спасения нет: ничего у него не было, кроме велосипеда. Сотнями, тысячами ног он мог нажимать на педали, но они не спасут его от гибели — быть ему раздавленным. Ничего у него не было, ничего, кроме велосипеда, который мчался на бешеной скорости, и койка скрипела, и подушка упала на пол, и простыня сбилась на самый край. Надо бы свернуть с дороги на обочину. Но эта мысль мелькнула очень поздно, нет, не поздно… Да, поздно… Вон там, в ущелье, между скалами, Паскуаль-и-Эстрибо с ним покончит. А если бросить велосипед и спрятаться на дне овражка, уж там его не достанет зловещая колымага? Но жаль велосипед, он бросит его только в самом крайнем случае, если погоня настигнет… А пока надо бороться, чего бы это ни стоило… Он двигал ступнями, коленками, плечами и даже головой — в такт колесам, развертывавшим нескончаемый серпантин, в такт педалям, которые крутились, будто загипнотизированные, в такт цепи, все время задевавшей щиколотку. Упорно нажимая на педали, он чувствовал, что хрипящее чудовище остается позади.
Неожиданно дон Непо затормозил, и ему показалось, что его бросило вперед: он рухнул навзничь и инстинктивно прижал руки к груди. Умоляя, умоляя того, кто хрипел: потише…
Дон Непо бросил руль. Мучившая его икота превратилась в джаз, прерывистое дыхание — в жужжание электромиксеров, лязганье его зубов — в звяканье алюминиевой и цинковой посуды в тазу, буги-вуги — в вальс… «Три утра уж наступило»… «Руль!.. Руль!..» — кричал он, не зная, за что ухватиться, как остановить завывающие вентиляторы, которые могли перебить ему руки… «Руль!.. Руль!..» — хрипло откликалось эхо. Глаза вытаращены — будто мыльные пузыри вздулись на волосатой физиономии. Грудь наполнена ветром и шумом; он бессознательно двигал ногами по койке, нажимал на все педали, на все педали, на все педали — надо сделать все от него зависящее, чтобы колымага не раздавила велосипед с колесами, так похожими на проволочные западни, круглые мышеловки, где мечутся и попискивают мыши, напоминающие тех, что слышишь порой под скрипучей койкой, где он оставил почти не тронутый завтрак…
Теперь роскошная карета — почти триумфальная колесница — следовала за ним. Огромная, точно театр, позолоченная заревом пожаров, она мчится по языкам пламени, и несут ее кони — клубы дыма, а в колеснице — мужи и девы, вздымающие знамена, плуги и винтовки…
Все меньшее расстояние отделяет его от пламенеющего облака, далеко позади осталась колымага, в которой кроме морщинистого кучера-испанца, клявшего все и вся, ехали Кохубули, замаскированные под Кэйджебулей, индейцы, переодетые игроками в гольф, и сам президент «Платанеры», который, рукой в зеленой перчатке придерживая банановую гроздь, лишенную плодов, подгонял ею пугливо озиравшегося мерина.
Настигала… Карета его настигала… Расстояние, разделявшее их, сокращалось на глазах… Настигала… Настигала… Нажимая на педали, он оставлял позади того, кто хрипел… и тот, кому угрожала опасность… хрипя, отставал от нажимавшего на педали…
И тот, кому больше всего угрожала опасность, наконец проснулся. Подсознательно — где-то на рубеже сна и бодрствования — он успел различить очертания кареты. Среди ее седоков выделялось лицо безбородого, чем-то похожего на китайца… человека средних лет, который кричал: «Вперед, люди!.. Люди, вперед!..» Он приоткрыл глаза в тот миг, когда оторвался было от погони, но тут же снова зажмурил их и, погрузившись в сон, обнаружил, что ноги его по-прежнему на педалях и по-прежнему его преследует колымага. Смахнуть с ресниц влагу — слезинки и ночную росу — и бежать, бежать, нажимая на все педали, на все педали, на все педали!.. Чтобы не наехал на него этот бесшумный, угольно-черный бесколесый призрак… бесколесый?… Даже колеса растерял где-то… где-то… Где-то теперь дон Сиксто?… Сбежал?… Укрылся в одном из городов, воздвигнутых на каретных рессорах, там, где во время землетрясения здания не падают, а покачиваются, как кареты, катящиеся по мостовой. А может быть, он там, где оставил свою повозку, и теперь рассказывает вдове Маркоса Консунсино о том, что случилось, не потратив ни одного песо на кофе и коньяк и поглаживая свои морщины, как будто это были струны, а он, перебирая их и шепелявя, складывал какую-то мелодию…
Кто-то открыл и снова захлопнул дверь, на которой не было ни крюка, ни щеколды. Дверь стукнула. Вернее, едва не стукнула. Придержав дверь, чтобы не стукнула, кто-то вошел. Вошедший ничего не видел, вступив в темноту сразу после ослепляющего солнечного света. Вытянув перед собой руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь, и осторожно ступая, он направился туда, откуда доносилось прерывистое дыхание дона Непо. Вскоре глаза его привыкли к темноте, и он разглядел в полумраке распростертого на койке человека, погруженного в глубокий сон. Человек лежал в одежде. Ясно, как только пришел, сразу улегся, даже башмаков не снял. Человек еще не стар. Но и не молод. Лицо цвета желтоватой глины, пышные брови, ресницы, усы и седеющая шевелюра. Небольшие, но мускулистые руки — как видно, немало потрудились на своем веку. Подушка и покрывало на полу. Наброситься на него? Рискованно — закричит. Оглушить его ударом?… Такая мысль мелькнула у вошедшего, но он уже тряс дона Непо за плечо, пытаясь разбудить его. Не разбудил. Спящий только перевернулся на другой бок. Вошедший снова стал трясти его. Бесполезно. Дон Непо защищал свой сон, яростно отмахиваясь. Незнакомец встряхнул его сильнее…
— Что?… Кто это?… — забормотал дон Непо. — Кто?… — Кто вторгся в царство сна, куда никто не имел права проникнуть, кроме него самого?… Прочь!.. Прочь, непрошеный!.. Вторгся!.. Где же он его видел?… Прочь!.. Прочь!.. Прочь из сна!.. Отодвинувшись на самый край койки, он изо всех сил старался оттолкнуть от себя призрак. Но тот не исчезал, наоборот, приближался, наступал на него, становился осязаемым… Нет, не может быть!.. А что, если этот наглец, появившийся из глубин его сна, — дон Сиксто?… Нет, нет, нет… Но он уже здесь. Он пришел, чтобы вонзить в него нож, застрелить его из револьвера или задушить простыней — словом, убить. Но тогда зачем ему понадобилось будить дона Непо?… И дон Непо опять сжал веки, прикинулся спящим… Пока он не откроет глаза, никто не убьет его — тот, кто убивает спящего, не сможет покинуть место преступления… Так убивают только клятвопреступники. Ага, потому-то незнакомец и будил его, говорил ему что-то прерывающимся от волнения голосом, говорил с таким таинственным видом и так тихо, что дон Непо никак не мог разобрать, о чем же тот просит… Ах да, видимо, хочет, чтобы он проснулся… открыл глаза…
Спрыгнуть с постели, охотничье ружье Дамиансито и мачете — в углу, за баулом. Но разве найдешь их с закрытыми глазами? Начнешь искать — получишь пулю в спину. Дона Непо сковал леденящий ужас. А неизвестный все энергичнее тряс его, очевидно, считая, что лежащий на койке впал в летаргию…
А если это только кошмар, успокаивал себя дон Непо, что, если этот таинственный незнакомец просто приснился ему?… Да, но как в этом убедиться, не открывая глаз — ведь открыть их он не может, — а вдруг это не сон и пришелец действительно решил убить его?… Меж полузакрытых век проглядывали щелочки глаз — такие узкие, что убийца не смог бы их заметить, — через фильтр ресниц дон Непо старался разглядеть незнакомца. А не видел ли он уже где-то это лицо… быть может, видел в «Гранаде», или на Рыночной площади, или на мессе в соборе святого Франциска?… А может быть… на параде? Он попытался сосредоточиться. Да, да, совсем недавно он видел его на каком-то параде… Однако он уже давно не бывал на парадах…
— Пожалуйста!.. Пожалуйста!.. — донеслось до него.
Этот пришелец, должно быть, просто пьянчужка, которому страсть как захотелось опохмелиться; он увидел, что дверь не заперта, и вошел, рассчитывая выпросить пару монеток, чтобы пропустить глоток-другой. Подумав об этом, дон Непо открыл глаза, но тотчас снова зажмурился. И еще крепче, чем прежде, сжал веки. Лучше притвориться спящим… А что, если этот человек все-таки пришел убить его?… А может, никто и не приходил и это просто тот человек, которого он видел в карете?… В карете?… Не может быть… Не может этого быть! Он спит наяву?… А другой?… Кто другой?… Тот, что пришел убить его… А если никто не приходил убивать его?…
Охваченный ужасом, дон Непо метался между явью и сном. Открывал глаза — и кошмар боролся с действительностью. Еще шире раскрывал глаза дон Непо, таращил их, как безумный.
— Что с вами, дружище? — спросил чей-то резкий голос.
«Кто же это? Тот, кто пришел меня убить?» — дрожа от страха, подумал дон Непо. Или никто не приходил убивать его?… Быть может, это тот, из кареты, тот, который просил убежища?
— Кроме этой комнаты… — вдруг услышал свой голос дон Непо (оказывается, он был даже в состоянии говорить, но как ужасен этот кошмар, никак от него не избавишься), — …есть еще навес.
— Вероятно, меня разыскивают… Не знаю… — проговорил незнакомец; на его лице под бледной, несмотря на загар, кожей проступали скулы, редкие волосы словно приклеены к черепу, тонкие губы вытянуты вперед, уши казались какими-то чужими. Голос пришельца окончательно вернул дона Непо к действительности.
Но где другой?… Какой другой?… Тот, что приходил убить его… А если никто не приходил убивать его и здесь только человек, который просит убежища, потому что его преследуют, и он и есть тот самый, который ехал в карете и кричал: «Вперед, люди!.. Люди, вперед!..»
— Я прыгнул на ходу с поезда (с кареты, подумал дон Непо) и бежал, бежал, пока не увидел эту дверь…
— А я из-за землетрясений никогда не закрываю дверь на щеколду… — Насколько богат оттенками реальный, звучащий человеческий голос! Дону Непо даже захотелось повторить свои слова.
— Мне помогла ваша предосторожность…
— Вас везли под арестом?
— Выслеживали…
— За вами гнались?
— Нет… но на всякий случай… бросился к вам, сюда… Простите, вы так крепко спали… мне стоило больших усилий вас разбудить.
— Да, у меня на редкость тяжелая работенка, — вздохнул дон Непо, — и потому сплю днем. Ведь это ужасно — даже совесть грызет, — валяться на койке, когда все работают. Я уже забыл, как спать раздевшись: чувствуешь себя точно больной в госпитале. А если кто увидит, как я сплю одетым, может подумать — и вы тоже, должно быть, подумали обо мне: вот нагрузился до чертиков… Бросил якорь, сказали бы вы. А у меня, признаться, кишки прополоскать нечем, хотя под кроватью много бутылок. Я-то вначале подумал, что вы зашли перехватить у меня глоточек.
— Было бы неплохо…
— И у меня была такая мысль. Очень хотелось пропустить, до смерти хотелось, а дома как на грех нет ни капли. Так откуда вы, говорите, прибыли, дружище?
— С побережья…
— Храбрец, на ходу прыгнуть с поезда…
— А тут, на повороте, он снижает скорость…
— Здесь нет, вы хотите сказать — на Коровьем мосту…
— Как раз оттуда я и иду — по улицам, через пустыри…
— Тогда ваш след уже потеряли…
— Надеюсь…
— Значит, с самого побережья…
— Оттуда…
— Ну, как там? Как дела?
— Здорово. Но все еще может случиться. Рабочие очень недовольны. Надо ждать худшего…
— Это к лучшему…
— Как к лучшему?
— К лучшему. Еще мой дед говаривал — нет ничего хуже, когда люди мирятся со злом…
Неожиданно послышался какой-то шум… Похоже, кто-то крался там, за стеной. Незнакомец и дон Непо обменялись взглядами.
— Ничего, ничего, — успокоил гостя дон Непо, — это чорча моего внука. Должно быть, солнце припекло ее в клетке, вот она и возится, просит выпустить ее. Пойду, с вашего разрешения. Открою. Если мы, старики, вырубленные в старые времена из векового дуба, не позаботимся о птицах и цветах здесь, где сплошной железобетон да железная арматура, — что будет с природой?…
Он вышел, неплотно прикрыв за собой дверь, и заговорил с птицей:
— Иди-ка сюда, а ну иди-ка сюда, хозяюшка!.. Птица с блестящим, длинным, острым и черным, как эбеновое дерево, клювом и такими же черными глазами — этот роскошный траур контрастировал с золотисто-огненными перьями, словно выплавленными из чистого золота — радостно подскочила к дверце клетки.
— Когда мой внук дома, — пояснил дон Непо, заглянув в комнату, — он выпускает чорчу из клетки, чтобы она погуляла по воле. А я вот не выпускаю. Боюсь, как бы с ней чего не случилось. Хоть по соседству никто не живет, котов у нас хватает.
И совсем другим тоном он обратился к чорче:
— Съест тебя кот, хозяюшка. Ей-богу, лучше тебе посидеть в клетке! Плохо, конечно, в тюрьме, но погибнуть еще хуже. Из тюрьмы выходят, из могилы — нет. На то ты и хозяюшка, чтобы дома сидеть.
Возвратившись в комнату, дон Непо начал расспрашивать беглеца о том, что произошло на Атлантическом побережье. Слухов было много, а что именно там случилось, никто не знал.
В комнате царил полумрак, было душно — солнце уже обдавало зноем. Было слышно, как в клетке прыгала чорча. Они тихо, вполголоса вели беседу.
— Много жертв… там, на побережье. По бастовавшим в порту открыли пулеметный огонь. Много убитых и раненых…
— Вы вовремя спаслись…
— Я не спасался. Я приехал, чтобы… — Казалось, он стыдился чего-то и не знал, как лучше объяснить все хозяину, но дон Непо решил помочь ему.
— Чтобы избежать…
— Да, да… — Человек из кареты потер руки.
Для Непомусено он по-прежнему оставался человеком из кареты, и подчас старику представлялось, что все это — продолжение сна.
— Ну, избежать — это еще не значит струсить… — заметил дон Непо. — Если бы я мог рассказать вам, что произошло со мной нынче на рассвете… Просто невероятно… Я тоже избежал опасности…
— Я тоже считаю, что избежать — это не то что сбежать. В благоразумии есть какая-то доля трусости… Но я появился здесь, чтобы выяснить, чем можно отсюда им помочь. В конце концов, они же свои… люди измученные, но отважные, героические…
— Мне кажется…
— Простите, пожалуйста, я прервал вас. Вы собирались что-то рассказать?…
— Ничего сверхъестественного… — поспешил заявить дон Непо, вдруг подумав, что как раз сверхъестественна эта беседа с таинственным — вышедшим из его сна — незнакомцем, которого он впервые увидел в карете или на колеснице — среди мужчин и женщин, вздымавших знамена, плуги и винтовки. — Ничего сверхъестественного… просто стычка с одним испанишкой, который тут живет и служит управляющим — командует несколькими коровами, молочной да небольшим лужком. Он утверждает, будто все это его, принадлежит ему, но я-то знаю, что не ему, а хозяевам. Они, видите ли, аристократы, им стыдно за свою бедность, а к тому же еще они, прикрываясь всякими титулами да гербишками, выдали свою старшую дочь за некоего Кохубуля, сына тех Кохубулей, индейцев, моих земляков, которые унаследовали капитал одного янки, погибшего вместе со своей женой много лет назад во время урагана на Тихоокеанском побережье. Так вот, как вы думаете, что же сделали эти Кохубули?… Прежде всего — да поскорее — они переменили фамилию!.. Теперь стали выдавать себя за гринго, прозываются, как взаправдашние янки, мистерами Кэйджебулами, играют в гольф, болтают только по-английски и не признают своих земляков. Из-за этой чертовщины с Кэйджебулами и Кохубулями я и поспорил в кабачке с испанцем, слово за слово, полез в бутылку да и выложил ему все начистоту… Сколько спеси у этих… аристократишек! А они только и сумели что породниться с каким-то чиновником «Платанеры». Ну и что? Они даже не стали акционерами Компании, той самой Компании, которая начала свои «операции» с захвата земель, принадлежавших законным владельцам… Как только я упомянул о краже земель, испанец разъярился… А я всего лишь назвал грабительницей Компанию — кое-кто здесь пытается выдавать ее за благодетельницу… «Я могу доказать, что она — грабительница», — сказал я ему и сослался на свидетельство одной мулатки, моей знакомой. Эта мулатка — одна из тех, кого Компания обворовала, прогнала из родных мест. Ее зовут Анастасиа. Если одного свидетеля не хватит, можно расспросить Хуамбо, ее брата, который тоже был очевидцем разбоя и грабежа. Он видел, как Компания отнимала земли, сжигала хижины жителей, забивала скот, уничтожала посевы… Вот какие дела у нас творились… — Дон Непо умолк и после паузы спросил: — Хотите сигарету?
— У меня есть… — И незнакомец протянул пачку.
— С удовольствием затянусь. Это что же у вас — «Кэмел»?
— Верблюд, мой друг, самый настоящий верблюд!.. Сигареты из местного табака, а только обертка от «Кэмел»… Не переношу я ни «Кэмел», никаких других сигарет вроде «Кэмел», но приходится: это как бы свидетельство о благонадежности.
— Не стану вам докучать, пересказывать эту историю с «Платанерой». Скажу одно: испанец меня так возненавидел, что даже хотел прикончить… Сегодня утром, когда я возвращался на велосипеде с работы, он попытался наехать на меня в своей повозке, и только благодаря тому, что господь наш великодушен, мои мозги не остались на камнях…
— Да, такие-то дела… и все из-за этой Компании. Я приехал с Атлантического побережья… мы нуждаемся в поддержке людей с плантаций Юга…
«Он! Это он — человек из кареты, — промелькнуло в мозгу Непомусено. — Из кареты!» — и, воодушевленный этой мыслью, он радушно предложил:
— Если смогу помочь чем-нибудь, я к вашим услугам…
— Я хотел бы переговорить с вашим знакомым мулатом… Нужно прощупать почву…
— Попробую выяснить, как лучше это сделать. Во всяком случае, вы можете оставаться здесь…
— Хорошо бы поговорить один на один… — заметил гость и зажег другую сигарету.
— Я еще не рассказал вам… Когда я проснулся и увидел вас, меня это не удивило. Сначала, правда, стало даже страшновато: вдруг тут кто-то появился. Не знаю почему, но я уснул с мыслью, что испанец подошлет ко мне наемного убийцу. Хотел было встать и закрыть дверь на крючок и щеколду, но потом решил: будь что будет, как господь повелит… увидев вас, я в первый момент испугался. Подумал: меня будят, чтобы не убивать спящим. Открыл глаза, и вдруг передо мной лицо того человека, которого я только что видел во сне… вернее сказать, который только что снился мне…
— Это называется предчувствием…
— Вот-вот, правда?… И вам, должно быть, интересно будет узнать, каким вы мне приснились: вы были не то в колеснице, не то в карете — экипаж этот походил на театральный зал, даже кресла расставлены ярусами: театр катился на огненных колесах, а в упряжке — клубы дыма. В колеснице были мужчины и женщины, а в руках у них — знамена, плуги и винтовки…
— Там был и я?
— Да, да, и вы кричали: «Вперед, люди!.. Люди, вперед!»
— Что ж, друг мой, все вполне объяснимо. Вы видели во сне колесницу в тот момент, когда я будил вас, и персонаж вашего сна слился с моим образом. Однако мне хотелось бы думать, что я действительно был там…
— В триумфальной колеснице?…
— Да, друг мой… — И гость, заметно взволнованный, встал и обнял дона Непо. — Если все это происходило в триумфальной колеснице, пусть вашими устами глаголет истина… — И тут же, чуть отстранившись от дона Непо, попросил: — Не спешите поздравлять меня, до триумфа еще далеко… Лучше ущипните!.. Ущипните меня, теперь я хочу убедиться, что не сплю!..
IV
— Три… три… три… утра уж наступило…
— Сосут и сосут эти грин-н-н…
Так и замерло это слово в разинутом рту Анастасии. «Грин-н-н» — звоном погремушки отдалось в переносице. «Грин-н-н…» — задержалось в рассеченных, разбитых губах. Не могла она сразу сообразить, где еще была боль — «гринн-н-н-н…» — пока не поднялась и не выплюнула первый кровяной сгусток, за которым, разбавленная слюной, потекла жидкая кровь, горячая, клейкая.
Полицейские янки ловко прыгали с подъехавшего военного грузовика — некоторые, не дожидаясь, когда машина остановится, соскочили на ходу, — и штурмом захватили бар «Гранады»; остальные ворвались через боковую дверь, к которой прильнула было мулатка, пытаясь разглядеть, что происходит в зале. Каски, ботинки, кожаные ремни — все заплясало под взлетавшими резиновыми дубинками, под кулаками, пинками; удары сыпались сверху и снизу, справа и слева.
А возле бокового входа с трудом подымалась с земли мулатка. Ее никто не собирался избивать — очищая себе путь, янки так основательно стукнули ее по спине, что она свалилась и, падая, ударилась лицом о косяк двери, в которую подглядывала, как перепившиеся верзилы пытались линчевать бармена: он осмелился отказать им.
Линчевание предупредил наряд военной полиции; выручив из беды перепугавшегося насмерть бармена, полицейские принялись выгружать гигантов из бара: их вытаскивали, подхватив под мускулистые ручищи, — и рыжие и белобрысые головы раскачивались, как подвешенные горшки с медом; волокли пьянчуг — и огромные ножищи чуть не вспахивали землю. Вдребезги пьяных, лежавших неподвижно, будто сраженные в битве, поднимали и, придерживая на весу, тащили до ближайшего грузовика, одного из тех, что каждую ночь — совсем как муниципальные мусоросборщики — подбирали пьяных солдат в барах, кабачках, клубах, погребках и в домах терпимости.
Это была обычная «молниеносная операция». На какое-то время в баре стало легче дышать. Но вот нагрянула новая компания гуляк; сначала они танцевали в салоне, а когда кончился вальс трех часов утра, заняли со своими партнершами освободившиеся места и потребовали виски, пива, рома, коньяку. Сменившийся бармен не стал их ограничивать.
Анастасиа кончиком языка потрогала рассеченную губу и, сплюнув кровь, невнятно пробормотала:
— Сосет и сосет это отродье…
Мальчик, успевший при появлении военной полиции юркнуть в ближайший подъезд, возвратился, как только миновала опасность.
— Те-етенька, что с тобой?…
— Заткнись, несчастный!.. Разве не видишь?… Написать бы жалобу… да кому только?…
— В полицию? — наивно спросил малыш.
— В полицию?… Не такая уж я дура… И ты не будь дураком… Идти в полицию… жаловаться на полицейских? Ха-ха!.. Уж лучше изойду кровью… Видишь, губу мне расквасили… Даже зубы шатаются… Пойду-ка пожалуюсь Иисусу в церкви святой Клары… благо близко…
— А церковь-то сейчас закрыта…
— То, что кипит в душе, я скажу и с паперти. Разве господь не услышит меня? Подобру потребую от него. Каждую пятницу мы тратимся на свечи ему, и он должен оберегать нас… Что он думает? Бросил нас на произвол судьбы — и живи как хочешь! Нас, у кого ни еды, ни крова, кто бродит, будто Вечный жид, и совсем не потому, что неимущий, — не дерьмо же мы, в конце-то концов! И не потому, что мы хуже всех, подонки какие-нибудь! Во всем виноваты проклятые гринго! Это они нас выкинули с наших земель на побережье, теперь там заправляет «Платанера».
Появление дона Непо Рохаса, который направлялся домой, придерживая велосипед за руль, заставило ее забыть о малыше.
— Я рассказываю племяннику, — обратилась она к дону Непо, — о тех счастливых временах, когда у нас были свои земли, свой дом, свое имущество. Ах да, вы еще не знаете, как я стала козлом отпущения в этой заварухе, что разыгралась в баре!
— Чепуховый скандальчик! — воскликнул Непомусено. — Чуть не дошло до расправы над барменом. Хе! Но и наши тоже не промах, сразу же решили вступиться за сеньора Минчо: повара схватили ножи, судомойки — ведра с кипятком, пошли в ход и топоры, и вертела, и кочерги… кто-то стал даже разливать бензин в пустые бутылки… до сих пор не успокоились, не хотят приступать к работе, пока не получат гарантий…
— А когда нагрянула военная полиция… — начала Анастасиа.
— К счастью! — оборвал мулатку дон Непо, как только та заохала, жалуясь на боль в разбитой губе и в зубах. — К счастью, нагрянула, а то не дай боже, что было бы! Беда лишь, что в суматохе я забыл пакет с продуктами для вас…
— Когда нагрянула военная полиция… — настойчиво повторила Анастасиа, сплевывая кровь, — я была у двери сбоку, и они меня так двинули по спине, что если бы я не уперлась руками в стену, не быть мне в живых… И знаете, еще вовремя успела опереться — руко… мойник не разбила. Не то лежать бы мне в холодной могиле и встретились бы только на том свете, поминай как звали… — Она вздохнула. — Аи, боже мой, Иисусе из церкви святой Клары, до каких пор мы будем терпеть от них!..
— Что верно, то верно — обобрали они нас на побережье, хоть и много времени с тех пор прошло…
— А кажется, будто случилось вчера, — проворчала мулатка.
— Вот чего я не припомню… — рассеянным тоном, но явно не без задней мысли произнес дон Непо, — расквитались ли мы с ними?
— Черта с два! Выгнали нас, и все тут… Мы еще должны благодарить их за то, что хоть живы остались… Лучше бы убили, чем оставили вот так… нищими! — вздохнула Анастасиа.
— Значит, не расквитались…
— Ни тогда, ни потом… Как это по-нашему говорится… «Чос, чос, мойон, кон!» Вы знаете, что это означает?… Нас бьют… руки чужие нас бьют!..
Слегка опираясь на руль велосипеда, дон Хуан Непо шел рядом с толстозадой мулаткой, тащившей за руку мальчишку, который дремал на ходу. Тени следовали за тенями посреди улицы: в столь поздний час уже опасно было идти по тротуару, мало ли кто мог притаиться в подъездах. На всякий случай лучше шагать по мостовой, забытой в эту пору и прохожими и проезжими.
Невозможно было расслышать, о чем они толковали. Мулатка приблизила свое темное оттопыренное ухо, холодное, как у покойника, к шевелящимся губам дона Непо, поседевшие усы которого казались приклеенными под носом клочьями тумана.
Дон Непо, похоже, был очень доволен этой беседой.
— Что? Хуамбо, мой брат?
Имя мулата, произнесенное Анастасией — губы ее еще ныли от удара и душа еще ныла от воспоминаний о счастливом времени, когда у нее была своя земля, — эхом отозвалось на улице.
— Да, Хуампо!
— Ху-ам-бо… — поправила мулатка, — а не Хуампо. Я с ним не разговариваю.
— Вы же брат и сестра!
— Негодяй он! Бросил родителей и прикидывается, будто меня не знает…
— А ты разве не забыла о них?
— Но ведь забота о стариках — его долг, он мужчина!
— Он самый младший, Анастасиа, и ты сама мне рассказывала, как в детстве родители хотели бросить его на съедение ягуару и как он спасся чуть ли не чудом: в горах, где его оставил твой отец, мальчика подобрал Мейкер Томпсон. Понятно, что твой брат на всю жизнь затаил обиду на родителей…
— Насчет ягуара — это я придумала… — Мулатка сплюнула окровавленную слюну, она произнесла эти слова так, словно раскрыла важную тайну.
— Тем более, значит, тебе надо с ним встретиться…
— Думаю, что он живет там же, у Мейкера Томпсона, но я туда ногой не ступлю.
— Поговори с ним по телефону.
— Да что я, из этих?…
— Однако, Анастасиа, ты должна встретиться с ним… ради меня…
— Ради вас, может быть, и решусь. Я стольким вам обязана…
— Ладно, считай, что мы договорились. Хуамбо должен прийти ко мне сегодня или завтра. Самое позднее — завтра. А если ему удобно, то пусть приходит после семи вечера на работу, где всю ночь нас тиранит электрическая музыка… Эта «Рокола» похожа на электрический стул, на котором убивают током, вместо того чтобы расстреливать… пусть уж лучше меня расстреляли бы…
Дальше они шли молча. Это было не просто молчание улицы. Это было чудо — молчание прозрения: молчание, обволакивающее, сливающееся с молчанием земли, охраняющей покой мертвых.
В опаловой дымке при свете последних, высоких звезд перед ними возник Серро-дель-Кармен, и на вершине его в густом тумане, словно в пене бушующего прибоя, угадывался — точно деревянное изваяние на носу древнего корабля — силуэт часовни.
Мулатке и велосипедисту, шедшим, как во сне, показалось, что они очутились в каком-то неизвестном городе, среди людей иной эпохи. Из Сантьягоде-лос-Кабальерос приехали на конях какие-то персонажи в смехотворных, чуть ли не карнавальных одеяниях. Дамы. Епископ. Монахи. Пехотинцы XVI века. Слуги. Индейцы. Целая свита. Собравшись у подножия холма, они начали подниматься к часовне: самые богомольные впереди, затем студенты-богословы университета Сан-Карлос, дамы в сопровождении вооруженных капитанов с плюмажем на шляпах и, наконец, покровительница этого паломничества — золото-серебряный образ девы Кармен — той, которая сопровождала дона Пелайо.
Строитель часовни Хуан Коре, вышедший навстречу благородным и знатным обитателям столицы королевства, свернул с пути и направился к Анастасии, мальчику и велосипедисту. Они были уже близко друг от друга, вот-вот должны встретиться — оставался один только шаг, и они непременно столкнутся, — однако они не остановились и не столкнулись; отшельник прошел будто сквозь них, а они прошли сквозь спешившего испуганного отшельника, точно пересекли стлавшийся в низине дымок.
— Что случилось, брат? — спросили они его.
— Инквизиция!.. Инквизиция!.. Не задерживайте меня, дайте пройти!
— Проходите, брат, проходите!
— Вы задерживаете меня. Вам предстоит сделать то же, что делал я три-четыре века назад, взяв на себя великую милосердную миссию — защиту индейцев от испанских конкистадоров, и за это меня все время преследует святейшая инквизиция!
— Брат Хуан…
— Не называйте меня братом, иначе вас сожгут вместе со мной, меня обвиняют в том, что я чужеземец и занимаюсь волшебством!
И после паузы, трепетной, словно листья пальмы, посаженной близ часовни еще отшельником, зазвучал голос Хуана Корса:
— Идите, идите, продолжайте свою борьбу! Я благословляю вас. Но прежде взгляните…
— Это же ад! — воскликнула Анастасиа, цепенея от ужаса.
— И они туда попадут. Вон тот слабоумный и слепой демон подвергнет их вечным мучениям… это — архиепископ, это — посол, а это — подполковник, их имена прокляты во веки веков…
От прилива непонятной тоски, от неудержимого бега мимо окутанных предрассветной мглой деревьев, темневших на розовом бархате зари, развеялось колдовское наваждение, которым были охвачены все трое — велосипедист, мулатка и мальчуган; впрочем, Анастасиа ощущала только ручонку малыша, тельце его тащилось где-то позади, сморенное сном, усталостью и голодом.
Мулатка наконец подняла ребенка, завернула его в шаль.
— Раз вы просите, я пойду. Ладно уж, поищу брата. А вообще-то я так на него зла, что, как только вижу его, пусть издалека, даже кишки перевертываются. Но чтобы услужить вам, дон Непо… вы так добры к нам…
Сеньор Непо уже не слышал ее. Оседлав велосипед, он повернул в переулок, ведущий к Эль-Мартинико. Мычание коров в загонах, ржание лошадей, лай собак, кукареканье петухов, перезвон колоколов — эти звуки встречали его повсюду, встречали, и провожали. Собственно, улиц здесь не было, одни лишь тропинки — на отсыревшем песке, а кое-где путь обозначали плоские камни, брошенные в грязь. Дома с внутренними двориками — патио, хижины и пустыри. Огороды, сады, конюшни. Крутятся лопасти ветряков, поднимая воду из колодцев. Разбойничают тут дрозды-санаты, по пронзительному пению которых можно представить, что питаются они цикадами. Они стайками перелетают с апельсинового дерева на авокадо, с авокадо на хокоте. Роса, как капельки дождя, обрызгала плащ дона Непо, когда он, проезжая под деревьями, спугнул стайку санатов. Он промчался так стремительно, что птицы едва успели вспорхнуть.
Вот и Эль-Мартинико. Водоем, у которого стирают. Женщины склонились над грудами белья. В этот ранний час их немного. Некоторые отправились к колодцам за водой. Между вздыбленных скал тянутся цепочками козы, слышится треск бича Мошки, москиты. Валяются отбросы, белеют кости, черепа. Стервятники, которые так грузно ступают по земле, неожиданно легко взмывают в воздух. Будто из-под колес велосипеда они взлетают, из последних сил отрываясь от земли, но, набрав высоту, они горделиво парят над нещадной колючей проволокой, над ближними холмами и голубыми горными цепями, над посевами маиса и пастбищами, — парят господами автострады, по которой на полной скорости мчатся быстроходные военные грузовики со слепящими фарами и едва различимыми шоферами.
Расставшись с доном Хуаном Непо и все еще держа мальчугана на руках — лишь голова его высовывалась из закинутой через плечо и чуть не волочившейся по земле шали, — Анастасиа поискала глазами отшельника: идет ли он в Потреро-де-Корона? Образ Хуана Корса не исчез из ее воображения. Он прошел сквозь нее, но задержался в памяти, как призрачное видение — человек с развевающейся по ветру бородой и глазками, сверкающими, словно угольки. Прозвучали удары колокола, созывающего на пятичасовую мессу, и это было уже не утро лета господнего тысяча шестьсот пятнадцатого, а печальное, как всегда, печальное утро наших лет…
Мулатка вошла в полуразрушенные ворота. Взад и вперед по двору ходили скотники, лениво переступали коровы и телята. На земле разбросаны сыромятные ремни, подойники.
Отовсюду слышалось мычание, тягучее, пахнувшее парным молоком, сливками, маслом, сыром, травой, мочой, навозом, отдававшее луговой зеленью и дыханием влажной земли, грязными копытами и желтыми цветами, которые выглядывали на лугу, как душистые очи раннего утра.
— Марсиал! — окликнула Анастасиа одного из работников — сухопарого, безбородого и косоглазого крестьянина, и, как бы предчувствуя его отказ, сказала: — Ты, конечно, не пожалеешь немного молока для парнишки…
— Если выложишь деньжата… Хозяин как-то узнал, что я раздариваю его молоко по стаканчику — якобы продаю в долг, такого мне задал перцу, чуть не побил. Можешь, — сказал он напоследок, — дать этой негодяйке негритянке яду, но молока — ни капли!
— А все потому, что я не могла каких-то злосчастных три месяца заплатить за угол. Возьми за молоко. Сволочи эти богачи, все они из одного гов… из одной говядины!
— Жаль твоего мальчонку, но приказано не отпускать даже за звонкую монету.
— Вот как? Такого я от Парика не ожидала…
— У хозяина есть имя. Что это еще за прозвище — Парик?
— Давай-давай молока, полтора стакана…
— Я и наливаю полтора…
— Эх, забыла купить крендельков, заговорилась с кумом…
— С чьим кумом?
— А паренька — разве он не христианская душа… Скоро поведу его на конфирмацию…
— Бред!
— Что за бред?
— Бред! Чистый бред все эти церковные церемонии! Крещение — бредни священника, этого пузатого юбочника, этого клопишки, пустомели и звонаря; конфирмация — бредни епископа, который занимается шашнями с женами прихожан; бракосочетание — бредни их обоих; соборование — бредни смерти…
— Здорово тебя напичкали катехизисом!
— Подзатыльниками… Кое-чему научила меня в детстве одна вегетарианка — она, видишь ли, заходила к моему отцу, чтобы выпить молока с горячими лепехами…
— Тоже бред!
— Я так и хотел сказать…
— Бред — я говорю не о лепешках, а о лепехах…
— Но ведь и они от коровы…
— Понимаю. И между прочим, понимаю и то, что наливать надо доверху, а ты, смотри-ка, плеснул — и все. Я же говорила — полтора, а не полстакана…
— Ну и пройдоха! Нарочно заговаривает зубы, чтобы выждать, пока пена спадет…
— От пройдохи и слышу! Вон что вздумал — на полстакана надуть. О мошне Парика все заботишься…
Пока скотник доливал, Анастасиа вытащила из-за пазухи платочек с деньгами, который хранила у самого сердца.
Черномазый мальчуган уснул; солнечными зайчиками на лице его играли лучи, проникающие сквозь щели на крыше, — на верхней губе засохло молоко, и при каждом вдохе он облизывался, наслаждаясь воспоминаниями о недавнем счастье. Он видел себя во сне теленком. Теленочком пестрой коровы. Он повсюду бродил за ней, подпрыгивая и помахивая хвостиком; лизал языком вымя, чтобы дала пососать, или тыкался безрогой головенкой, когда иссякало молоко. Бодал ее и бодал, а она отвечала ему долгим, мягким, меланхоличным мычанием.
Мулатка легла рядом с сыном на той же койке, после того как с жадностью негритянки и брезгливостью белой женщины еще раз взглянула на остатки пищи, которые отдал ей сеньор Хуан Непо. Вспомнив о том, что ей предстоит заниматься розысками беспутного брата, она почувствовала себя совсем скверно и даже не притронулась к пище. Даже отвернулась было от тарелки. Лучше уж лечь на голодный желудок. Вообще-то грешно так думать. Отвращение к еде! Да и силы теряешь. Она улеглась в одежде, не сняв блузку, сорочку и нижнюю юбку. Ее преследовали блохи и вонь, застоявшаяся в лачуге. А где помыться? В Коровьей речке грязная вода: туда сваливают городские отбросы. В банях «Кабильдо» — очень дорого. В банях «Администрадор» — упаси боже, там выползают змеи; в Южных банях, чего доброго, подцепишь паршу.
Она вздохнула. Мысли не давали сомкнуть глаз. Негде помыться, негде жить, негде умереть. Беднякам приходится умирать в больницах. Больницы для того и существуют, но и там не хотят, чтобы бедняки занимали койки, и когда больной совсем уже при смерти, его выбрасывают на улицу. Умирают бедняки на дорогах, в подъездах, как умирали те, кого Мейкер Томпсон — тогда он еще был молодой красавчик и путался с доньей Флороной — согнал с земель, чтобы разбить необозримые банановые плантации — такие, что пешком их не обойти.
И родителей, и ее — в чем были — согнали с их земли. Полыхала в огне хижина, а мать, вцепившись в свою черную косу, глотала слезы и захлебывалась от рыданий. «Закон… Майари, Чипо Чипо»… Ничего не помогло. От Майари и Чипо Чипо остались только имена, и растут они теперь цветами на побережье: Майари — дождь золотых чечевичек, а Чипо Чипо — орхидея, напоминающая полуоткрытый рот. Ничто не помогло. Выбросили людей со своих земель. Донья Флорона, дебелая, уже в годах (нет существа покорнее, чем пылкая старуха), связавшись с этим гринго, Мейкером Томпсоном, затяжелела Аурелией. Да и Аурелия хороша — сына родила без отца. Дали ему фамилию деда, а назвали Боби, то есть Бобик, песик Бобик. И она, Аурелия, живет припеваючи где-то в Соединенных Штатах…
…Уже подошел полдень, а сынок все еще крепко спит. Анастасиа, должно быть, совсем потеряла голову — то все говорила: племянник, племянник, а тут вдруг раза два или три, забывшись, назвала его при всех сынком. Мулатка одернула на себе юбку и кофту, провела по волосам гребнем и отправилась искать одну приятельницу — решила оставить на ее попечение своего… племянника, пока будет искать братца, чтобы ублажить сеньора Хуана Непо — стольким ему обязана…
Резиденция Мейкера Томпсона, ныне ставшего президентом Компании и потому давным-давно перебравшегося в Чикаго, утопала в разросшемся саду, где бурьяна было больше, чем цветов. Мулатка кончиками пальцев — словно закопченными — нащупала звонок. Сквозь решетку она увидела своего братца, игравшего с длинношерстной собакой… Сеньор… настоящий сеньор!.. И это ее брат — кто бы мог подумать — стал большим человеком, живет в доме самого Зеленого Святейшества.
Подойдя к ограде и заметив сестру, Хуамбо сразу же открыл калитку.
— Хуан-н-н-н…
— Та…
— …бо!
— …ча!
Лица обоих расплылись в широкой улыбке, и улыбка, наткнувшись на жесткие скулы, выжала слезинки — не могли они удержаться в уголках глаз. Хуан Табоча… Анастасиа, тогда еще молодая, и он, совсем ребенок, играли в этого таинственного незнакомца, имя которого слагалось из перемешанных слогов их имен. Хуан Табоча. От Хуан-бо и от Тача — таким уменьшительным именем звали Анастасию в пору юности.
И обнявшись, почти одновременно они заговорили — не об отце, похороненном на Южном побережье, и не о матери, которая еще была жива, хотя и ослепла, и не о сестре Тобе — нет, они вспомнили Хуана Табочу, которого представляли себе похожим на распятое на маисовом поле чучело, и на святого Хоакина из деревенской церквушки, и на пропахшего табаком протестантского пастора, который с Библией в руках убеждал родителей подобру оставить землю в руках Мейкера Томпсона.
— Чего ты стала в дверях, сестра? Проходи… Ты так неожиданно появилась… Проходи!..
Мулатка боязливо озиралась на пса, прыгавшего от радости.
— Не пугайся, он не укусит, он просто любит играть…
— К…К…КЗК его кличут?
— Ты даже заикаться стала с перепугу. Что, никогда не видала подобных собак?
— Да, но не такой большой, и шерсть лохматая…
— Его зовут Юпер… правильнее — Юпитер, но мы кличем его Юпер.
Услышав свою кличку, огромная собака ростом с телка — теленок с лапами борзой — снова запрыгала от восторга.
— Входи, Тача. Идем, я покажу тебе дорогу.
— Только не оставляй меня одну с этим… упаси боже! Такой громадина… в этом доме даже кобели знатные…
— Не пугайся! Вообще-то он в самом деле знатный, из благородных. Но по ночам — просто зверь, никто лучше него не может охранять дом. Входи. Решилась наконец разыскать меня. Это отрадно. Кто же будет любить тебя больше, чем твой собственный брат? Я — да, впрочем, что тебе рассказывать — был на побережье с матерью, когда умер отец…
Вместе с гигантским псом они вошли в комнату, не слишком просторную, где вдоль стен стояли застекленные шкафы с бутылками и консервными банками, висели окорока и мешочки с орехами, сухими фруктами и шоколадом.
Хуамбо пододвинул маленький табурет к покрытому темно-красной скатертью столу, но, покосившись на внушительный зад сестры, отставил табурет. Табуретик для нее? Она большего заслуживает!.. И поспешно подтащил кресло, которое подошло бы скорее для какого-нибудь пузатого монаха или чванного феодала средних веков.
— Ты ведь любишь пиво… Во всяком случае, любила раньше… — Он вынул из белого шкафа две бутылки пива, запотевшие от холода. — Помнишь, машинисты, или кочегары, или проводники всегда угощали тебя черным пивом, смешанным со светлым? Они прозвали тебя Темносветкой и говорили тогда, что пьют твою кровь. А ты всюду ходила со мной, потому что присутствие мальчишки, каким бы маленьким он ни был, заставляло всех относиться к тебе уважительно…
— А ну-ка укуси, укуси мой палец! — Сдув пену и потягивая пиво, мулатка поднесла к губам брата мизинец левой руки.
— Нет, Тача, я не разыгрываю младенца! Захотелось вспомнить былое, высказать тебе то, что я могу лишь тебе одной сказать, зная, что только ты это можешь понять! Ты с собой таскала меня, чтобы вызывать к себе уважение, а ведь они мне давали деньги — доллар, а то и два — за то, чтобы я ушел куда-нибудь подальше, посвистеть… Я делал вид, что соглашаюсь, а сам прятался и подглядывал, у любопытства острые глаза… Я видел, как тебя чмокали… запускали руки за вырез платья… Видел, как иногда пытались задрать платье, — правда, ты никогда не позволяла, чтобы тебе кто ни попало задирал юбку, ты сжимала коленки крепко-крепко, стискивала ноги плотно-плотно, как бы тебя ни щипали и ни душили поцелуями…
Тача, до сих пор сохранявшая безразличный вид, уставилась — глаза, как два горящих ненавистью угля, — в лицо брата, взглядом приказывая ему замолчать. Как это красиво — под предлогом воспоминаний — вытаскивать все грязные тряпки на солнце! А не лучше ли ему заткнуться? Брат осекся. Молчание становилось все более мрачным. Слышалось лишь прерывистое дыхание собаки да жужжание мух; пена сползала со стенок бокалов, растворяясь во влаге.
Анастасиа никак не могла придумать — мысль стучала в ее мозгу в ритм бокалу, который она вертела в руке, — не могла придумать, как сообщить брату о цели своего визита, как передать поручение сеньора Непо. На столе появились новые бутылки светлого и темного пива. И вдруг ее осенило. Быстро наклонившись к уху Хуамбо, она произнесла:
— «Час, чос, мойон, кон…»
Больше ничего. Да больше ничего и не требовалось. Все было ясно — Хуамбо бросало то в жар, то в холод, в горле запершило.
— «Чос, чос, мойон, кон!..»
Там, где слышались эти звуки, земля была смочена слезами, потом, кровью…
«Чос, чос, мойон, кон!..» Нас бьют… нас бьют… чужие руки нас бьют!
Эти слова — простые звуки, но они тяжелы, как звенья цепи, внушительны, как раскаты разбушевавшегося прибоя.
Сердце его замирало, но Хуамбо взглянул на сестру ничего не выражающим взглядом, отер губы тыльной стороной руки. Наклонился к Таче.
— Что нового?
— Есть кое-что…
— И ты пришла сообщить мне эти новости? Или у тебя что-то болит?
— И то и другое, Хуамбо. Один мой знакомый — он живет близ Северных каменоломен — просил разыскать тебя. У него вести оттуда, где мы…
Оба замолчали. «Оттуда, где мы…» Предельно ясно сказано: где все принадлежало им, все было свое. Их отцы не продавали землю. Ее отняли. Вырвали. Захватили самым наглым образом. Теперь люди восхищаются грандиозными сооружениями Компании. «Тропикаль платанера»: необъятные — чуть не с луну — плантации, сверкает бликами река, разделенная плотинами для отвода воды на поля; безмятежны, как скот, пастбища; разветвились рельсы — будто металлические ветви рухнувшего на землю дерева. Однако несмотря ни на что Хуамбо и Анастасиа продолжали считать все это своим собственным.
— Там, где мы… — повторил Хуамбо печальным, каким-то чужим голосом; он и сам не верил в то, что говорил. — Там, где мы…
— Тебе надо спросить сеньора Хуана Непомусено Рохаса. Это неподалеку от Северных каменоломен. Пройдешь старый мост, ветхий такой, полузасыпанный. Минуешь его. Потом за оградой из розового камня по правую руку увидишь дом. Лучше встретиться с ним сегодня.
— Может, пойдем вместе? А?… Темносветка, тебе нравится пиво? Возьми себе пару бутылок, возьми сгущенного молока и сухого молока в порошке, возьми земляничного мармелада и оливкового масла, — это высший сорт! — а вон там твои любимые галеты.
— Да возблагодарит тебя господь, Самбито. Доброе у тебя сердце. Недаром говорят, что мы, мулаты, взяли все самое лучшее от негра и от белого, и потому мы лучше и белых, и негров… — Она встала, выпрямившись во весь свой огромный рост, и в нерешительности остановилась в дверях. — …мы лучшие, и в подтверждение этого я хочу тебе покаяться. То, что я в сердцах делала против тебя, скорее било меня, чем тебя… Но меня с той поры грызет совесть, и я никак не могу найти покоя…
Хуамбо махнул рукой, как бы отметая все, что она сказала, но Тача настаивала:
— Это я придумала, что родители хотели отдать тебя на съедение ягуару. А тебе это доставило много горя, ты даже возненавидел стариков…
— Ничего подобного. Родители отдали меня Мейкеру Томпсону. А тот сочинил историю с ягуаром, чтобы я отрекся от стариков и не пытался к ним вернуться…
— Тогда еще хуже, Самбито, еще хуже… Он воспользовался моей выдумкой, и вот мы очутились на улице. Мы сами себе делаем много зла и не понимаем этого!
— Так-то оно так. И кроме того, все это на руку им, они сильны, могущественны…
— Значит, никто их не сможет…
— Что ты хочешь от меня услышать?…
Они пересекали сад, по которому проносился ветер, редкие цветы и густые сорные травы склонялись волнами, будто под чьей-то невидимой ладонью, нащупывавшей местечко помягче.
— Ну, теперь дорогу знаешь, надеюсь, будешь заглядывать ко мне почаще?… Ты по-прежнему одна?
— Подобрала малыша…
— Мне рассказывали…
— Между небом и землей ничего не спрячешь, верно? На днях приведу его, познакомишься.
— Какой он масти?
— Как смесь светлого и темного пива.
— Приведи…
— А Мейкер Томпсон не вернется? Не хотела бы я видеть этого проклятого гринго.
— Ты никогда не встречала его на улице?
— Если встречала, переходила на другую сторону…
— Не думаю, чтобы он вернулся в ближайшие годы. Теперь он президент Компании. Знаменитый. Его Зеленое Святейшество. А вот его дочь Аурелия иногда приезжает.
— Та, что хорошо пляшет?
— Мы с управляющим занимаем весь дом. Остались здесь совсем одни. Даже этот сопляк, Боби, бродит где-то по побережью.
— Еще бы, он у себя дома — все побережье принадлежит им.
— Он сейчас у сеньоров Лусеро. Они стали большими друзьями с тех пор, как старик спас им акции. Теперь они ярые сторонники Компании.
— Так я и думала. Ну ладно, я пошла… Будь осторожен. Приходи на каменоломни обязательно — сегодня же или, самое позднее, завтра… Если этот кобель побежит за мной, я, чего доброго, помру со страху. Позови его… Ну и зверюга, так и смахивает на Кадэхо! Того и гляди, собьет с ног. Покличь его!
— Юпер!.. Юпер!.. — позвал мулат.
Тремя-четырьмя прыжками собака подскочила к хозяину. Тот взял ее за ошейник. Глядя вслед удалявшейся сестре, он опять вспомнил Хуана Табочу.
Таинственный Хуан Табоча вновь связал их вместе.
V
Глаза, покрасневшие от известковой пыли, похожи на раздавленные томаты; мордочка мышонка, вылепленного из теста; белые волосы — кто мог бы узнать в пеоне, помогавшем Дамиансито перевозить известь, человека, который прибыл сюда несколько дней назад после бойни в порту, где власти пытались в крови утопить забастовку? Никто! Совершенно другое лицо. Сам Непомусено не смог бы его узнать.
— Ну и помощничка завел себе ваш внук, — как-то заметила Консунсино, вдова Маркоса Консунсино. — И во все этот помощничек сует свой нос. Вы сейчас скажете, что это его дело, но, заметьте, куда надо, он носа не сует, а в дела, которые его не касаются, лезет.
— Что поделаешь?… Ведь он приехал…
— Не виляйте, дон Непо, говорите прямо.
— Внук не справлялся — заказов слишком много, вот он и нанял этого поденщика.
— Поденно или полюбовно?
— По правде сказать, не знаю.
— А вот дон Сиксто, у которого до всего есть дело, говорит, что помощничек — это только начало…
— Начало?
— Да, начали вы с помощничка, а пройдет время, и грузовичок купите… Все с чего-нибудь начинается…
— Начинается с человеческого мяса, потому как оно дешевле. Если бы оно дороже стоило, войн не бывало бы. Подумать только, в это самое время, пока мы тут с вами разговариваем, люди убивают друг друга. Тысячи и тысячи солдат падают на землю, чтобы никогда не подняться.
— Не забирайтесь так далеко. Какое нам дело до того, что где-то происходит? Вон у нас, в Бананере, людей совсем не щадят. Даже мурашки бегают по коже, как услышишь, что вытворяют с бедным людом…
— Что ж, вот и скажите дону Сиксто, что у нас уже есть помощник.
— Скажите ему сами!
— Я с ним не разговариваю — с тех пор, как он хотел меня убить. Ведь чуть-чуть не сделал из меня лепешку. К счастью, успел я прижаться к камням, иначе от меня мокрое место осталось бы… Но, видно, не пробил еще мой час. Так вот, передайте дону Сиксто, что у нас уже есть помощник. И ежели он способен на нечто большее, чем только совать ногу в чужое стремя, пусть даст нам деньжат на приобретение грузовика. Мы с ним расквитаемся, перевезем ему лес. Он и его хозяева, наверное, знают, что за Перикерой рубят леса.
— Они перевезут лес на спине какого-нибудь парня, зачем им грузовик! Испанцы знают — сотня индейских спин дешевле, чем один грузовик. Это им обойдется в гроши!
— Да что же это я? Поболтать поболтал, а ничего не заказал. Дайте-ка мне анисовки. Что-то желудок побаливает…
— Одну анисовку? А многие предпочитают с водой…
— Ерунда!
— Анис с водой и льдом называют «голубкой», а не ерундой.
— Знаю, знаю, женщина, не такой уж я невежда. Больше того, знаю, что эта «голубка» в моде у сеньор… — сказал дон Непо и поперхнулся: анисовка, по-видимому, попала не в то горло.
— Вот и наказал вас господь! Болтаете все бог знает что. Если сеньорам по вкусу анис с водой, ну и пусть себе…
Сладким ликером улыбки подернулись глаза Консунсино, вдовы Маркоса Консунсино, и она даже похорошела: черные, как чернила, зрачки расширились, чуть сомкнулись пухлые губы под немного вздернутым носиком, как будто еще округлились плечи и бюст. Правда, лицо ее несколько портили красноватые рубцы около уха — след после операции, — их не могли скрыть даже распущенные волосы и массивные серьги в виде колец — одно в другом.
— Еще анисовки, но теперь с водой…
— Ну вот, а вы говорите, что только сеньорам нравится «голубка». Впрочем, вы, дон Непо, сами голубятник — у вас дома день-деньской чорча возится.
— Чорча эта моего внука…
— Лучше бы открыли клетку да выпустили ее на волю… а то как бы чего не накликала вам…
Локоны Консунсино дрожали, поблескивали зубы, меж зубов озорно высовывался язычок, она вся тряслась от смеха.
— Раз Дамиансито — хозяин этой голубки… птички, я хочу сказать, — продолжала она, — так уж передайте ему…
— Не знаю, когда он вернется, отправился далеко, повез известь куда-то за Марсово поле… там большое строительство…
— Военные строят… На днях слышала я от дона Сиксто, что земля стала похожа не на землю, а на Марс и что в один прекрасный день священник, чего доброго, обнаружит военных даже в своей дарохранительнице.
— Нет, эта анисовка с водой мне определенно не по вкусу.
— И не будете пить? Вам, должно быть, не по вкусу, что я говорю о доне Сиксто, о дарохранительнице и о военных?
— Да нет, анис чем-то отдает. Вот чего мне вдруг захотелось, так это кусочек копченого мясца, ребрышко кабанчика или что-нибудь в этом роде. Пожевать бы и почувствовать мясцо на зубах, да еще добавить для остроты перчику, лучку с томатом и, конечно, тортильи.
— Губа не дура. У меня, кстати, есть свиные колбаски, колбаски с салатом гуакамоле, а гуакамоле из авокадо, а авокадо оттуда, откуда мексиканец, — не авокадо, а чистейшее сливочное маслице. К слову сказать, мексиканец — парень что надо. Всегда он чистенький как стеклышко и бравый, залюбуешься. Не то что здешние мужчины, из которых покорность так и лезет наружу, точно грязное сало…
Последнее слово донеслось уже из-за двери — хозяйка вышла из комнаты. Дон Непо остался один. Тишину нарушало только тиканье часов да потрескивание фитиля в лампадке перед ликом святого Доминго де Гусмана; еле слышно звенят — то ли в хороводе, то ли в крестном ходе — мошки, словно откликаясь на доносящееся издалека гудение моторов. О стекло забилась заблудившаяся оса…
Дон Непо вспомнил о таинственном пеоне и мысленно представил себе, как тот беседует с братом Анастасии. Для беседы нет места безопаснее, чем катящаяся телега. Внук занят быками; помощник, растянувшись на пустых мешках из-под извести, прикидывается спящим, даже шляпу надвинул на лицо, а рядом сидит мулат — будто какой-то знакомый, которого они случайно прихватили по дороге.
Только однажды побывал Хуамбо в доме Рохаса-и-Контрераса — визиты не слишком-то полезны в нынешнее время, — и дон Непо тогда познакомил его с тем, кто выдает себя за помощника внука, — с высоким и тощим человеком с глубоко запавшими и близко посаженными глазами, с несколько треугольным лицом и крепкими зубами.
— «Час, час, мойон, кон…»- Он будто откусывал звуки, а мулат, завязав язык узлом, распускал другой узел — узел своего галстука, чтобы легче было дышать.
Там, где слышались эти звуки, землю поливали слезы, пот и кровь, клокочущая, словно бьющая из раны кровь.
Решили поговорить по пути в громыхающей телеге. В самом деле, нет другого, более безопасного места.
Известь возили далеко, за Марсово поле, и времени для беседы было много — и в пути и на месте, пока внук сходит за покупками и получит новые заказы на перевозку извести.
— Октавио Сансур, — помощник Дамиансито повторил свое имя, чтобы врезалось оно в память мулата, и, подогнав остроконечной палкой бело-пегого быка, отстававшего от своего напарника, добавил, обнажив крепкие, зернистые зубы: — Октавио Сансур, или попросту Табио Сан… Запомните?
— Но вас зовут также…
— Зовут также Хуан Пабло Мондрагон. Это мое настоящее имя.
Усевшись рядышком, они затянулись самокрутками из чичикасте, распространявшими такое зловоние, что даже вонь от бело-пегого быка воспринималась как тончайший аромат.
— Ну и паскудник этот бычище!.. — Сансур снова ударил быка палкой с острым концом, заставив бело-пегого ускорить шаг и потянуть за собой другого, более покорного быка. Колеса завертелись быстрее.
— Сколько вас осталось?… Вероятно, мало… — продолжал Сансур. — Много хороших людей погибло в самом начале.
— Да, мало нас осталось, — ответил Хуамбо. — На побережье люди, а тем более бедняки, долго протянуть не могут… Умер мой отец, умерли все Марин, все Сальседо…
— Смерть так и косит. Один за другим исчезают свидетели того, как расправляется с нами Компания. Уничтожено целое поколение, за ним — второе, третье…
— Бедный отец мой. Он кончил жизнь грузчиком бананов. И я должен был так кончить… Как хотелось бы, чтобы простил он мне плохое отношение к нему…
— Вам-то не придется грузить бананы. Вам выпало на долю воздать по заслугам…
— Да, я хочу отомстить… Пусть нам заплатят за все — и за то, что украли наши земли, и за то, что превратили нас в нищих… Эх, сил маловато… и это тяжелее всего… Только тот, кто, как я, испытал все на собственной шкуре, знает, что это такое…
Вдоль дороги легкой рысцой проскакал кавалерийский эскадрон. Кони, каски, люди — все потонуло в дорожной пыли.
— А такой боевой народ был… Известна ли вам история, которая произошла у Обезьяньего поворота? Нет? Так вот, слушайте. Наши люди — Эскивели, Лесамы и другие — решили свести счеты с мистером Томпсоном, спустить его с моста… Но мистер Томпсон тогда случайно уцелел, а на тот свет отправил — даже на дрезине — какого-то своего гостя, тоже гринго… Той же ночью мы решили заглянуть к Томпсону домой — с мачете в руках. На мосту можно было пустить в ход пистолеты и ружья, а в доме лучше было действовать мачете — бесшумно, и наши мастерски им владеют… Я караулил возле двери и должен был, как только он заснет, завыть, будто собака по покойнику, — ведь и в самом деле речь шла о покойнике… Однако проклятый всю ночь напролет глаз не сомкнул. Угрызения совести его, что ли, мучили? Все-таки он только что ухлопал одного из своих земляков, сбросил его под откос, чтобы гость не разболтал про его делишки… Уже рассвело, а он все не спал — курил и тянул виски, глоток за глотком… Может, почуял что-то?… А ребята возле дома ждали, ждали, когда я завою, от нетерпения даже слюна капала на мачете…
— Ну, сейчас, если все выйдет, как мы задумали, вы сможете рассчитаться за многое. Конечно, отобрать земли вряд ли удастся, но заплатить вам заплатят.
— Не знаю, слыхали ли вы о братьях Лусеро? Они тоже нам обещали кое-что. Они — акционеры Компании и хотели заступиться за нас, чтобы нам дали кое-что… Кое-что — это уже неплохо, как, по-вашему? Но в конце концов они ничего не сделали…
— Этих Лусеро я знаю. Богачи и либералы и… ни на что, кроме обещаний, не способны… Мы, дорогой, должны рассчитывать только на себя, на свои силы… Пеонам надо подняться и требовать…
— Пеонам и даже «ползучим», — лукаво произнес мулат. «Ползучими» называли тех, кто пресмыкался перед правительством, кто верой и правдой служил очередному диктатору.
— «Ползучим»? — удивленно переспросил Сансур.
— Да, мы выиграем, если вовлечем в заговор даже этих рептилий…
После паузы, прерываемой лишь — толок-ток… толок-ток… толок-ток… — перестуком колес по булыжнику, Сансур заговорил:
— На Южном побережье не хватает сплоченности. Там нужно сеять, как семена, идеи создания организации. Для одних это пустые слова, для других — осознанная необходимость перед лицом опасности…
Толок-ток… толок-ток… толок-ток… — продолжался перестук колес, телега тащилась за быками, которые едва отрывали копыта от земли.
— Говорят, что в Бананере было много убитых; и в Бананере и в Барриосе, всюду…
— К несчастью, да, — ответил Сансур. — Много товарищей пало под пулями солдат, которым было приказано защищать интересы «Тропикаль платанеры». Но ведь забастовка продолжается, а это значит — там действует организация. И жертвы приносятся не даром, как это произошло у вас, когда ваших земляков прогнали с земли, чтобы разбить плантации; многие тогда поодиночке пали жертвами, но ничего не изменилось… — Голос погонщика почти не был слышен; телега громко тарахтела по камням. — …ничего не изменилось…
— «Час, час, мойон, кон!..» — воскликнул Хуамбо, надеясь, что слова эти, ставшие боевым кличем, найдут отклик в сердце и этого мужчины, который должен понимать их значение.
— Верно, остались эти слова. Остались как призыв, обращенный в будущее, как приказ… — Сансур пристально посмотрел в глаза Хуамбо.
Мулат отвел взгляд и сплюнул. Плевок, как дождевая капля, блеснул стеклышком в лучах вечернего солнца, садившегося за вулканами, и упал на дорогу.
В памяти Хуамбо всплыло имя Чипо Чипо; мулат знавал его еще в ту пору, дома, когда полицейские ищейки разыскивали Чипо живым или мертвым. Однако Чипо Чипо — смутное юношеское воспоминание мулата — оставался для него живым человеком, тогда как этот Табио Сан — человек из плоти и крови, которого он видел, слышал и осязал рядом с собой, пока длилась их беседа в телеге, — представлялся ему каким-то известковым призраком, появившимся на кладбище живых… Чипо Чипо призывал бороться за землю, Сансур требовал выступить на защиту человека. Чипо утонул в водах реки Мотагуа — и борьба прекратилась; тенью мог исчезнуть и Табио Сан, однако теперь это ничего не изменит: на его место встанут другие. С именем Чипо Чипо связывалось ощущение усталости, — усталости, сожженной отчаянием, усталости, которая застыла в глазах потерявших веру родителей Хуамбо, а Сансура он видел многоликим, неутомимым, собранным, несокрушимым. Слушая Сансура, он невольно вспомнил загадочное молчание Чипо Чипо — молчание воды, всепоглощающее молчание пропасти.
— Да, сеньор, вы будете нам нужны, — говорил Сансур, заглушая своим голосом перестук колес. — Пришла пора действовать. «Час, чос, мойон, кон…» Надо вдохнуть душу в эти слова, но для этого нужно не бесполезное самопожертвование одиночки, а уверенность в том, что ключ к победе в наших руках. Борьбу теперь поведем организованными силами.
Они замолчали. Им казалось, что все всколыхнулось в мире, грудь теснили новые чувства, которые невозможно выразить словом или жестом и которые познаются лишь в молчании.
Хуамбо вздохнул:
— Я старше вас и помню, как на побережье, в Бананере, когда у нас отняли все, что мы имели, люди повторяли пророческие слова знаменитого Чипо Чипо Чипопо. Он сказал, что глаза погребенных видят все на свете, а их больше, чем звезд… и еще он сказал, что надо вернуть обратно наши земли!..
Телега наехала на более крупные камни, и размеренный стук колес — толок-ток, толок-ток — сменился резким, чуть не оглушительным така-токо-лон-тлак, токо-лон-тлак, токо-лон-тлак.
— Вернуть наши земли!.. — повысил голос Хуамбо. В воздухе появились летучие мыши и мошки.
Такие докучливые мошки летают обычно перед наступлением ночи. Шумели араукарии и эвкалипты. Проносились по небу облака, что-то шептал ветер.
— Придет время, — произнес Сансур, — придет время отобрать земли или получить их стоимость. А теперь надо спасать человека, надо сплотиться, организоваться, чтобы бороться против наших врагов, они еще сильны, очень сильны… Да, хотел спросить вас, не сможете ли вы поехать на Южное побережье? В ближайшее время?
— Когда?…
— Это зависит от вас, во всяком случае, нельзя допустить, чтобы живые забыли погибших на Северном побережье.
— Я могу уехать под таким предлогом: моя мать очень стара, больна. Тобу увезли, и за старухой некому ухаживать. Тоба — моя младшая сестра. Братья Досвелл увезли ее учиться в Соединенные Штаты. Они — адвокаты, были здесь, оформляли завещание Лестера Мида…
— Да…
— Под этим предлогом я смог бы поехать на побережье. Но, пожалуй, лучше послать телеграмму и попросить разрешения у патрона.
— Зеленый Папа по-прежнему в Чикаго?
— Говорят, из-за беспорядков в Бананере он собирался сюда приехать, однако его дочь звонила по телефону из Нового Орлеана управляющему и сказала, что отец не приедет. Поэтому-де и дом незачем ремонтировать.
— Ага, любопытно. Очень хорошо, что этот бандит не приедет. Именно это мы и хотели знать прежде всего. Поскольку вы отправляетесь на побережье, чтобы позаботиться о вашей сеньоре матери, нет нужды предупреждать Мейкера Томпсона, достаточно разрешения управляющего.
— Он не осмелится отпустить меня без согласия патрона. Этот человек больше всего на свете боится осложнений и ответственности.
— Сообщение о тяжелой болезни матери разжалобит даже камни…
Ликующий собачий лай заставил Хуамбо, разлегшегося на телеге, поднять голову. Увидев Юпера, он не мог удержаться от радостного восклицания — приятно было оторваться от тяжких воспоминаний.
— Ах ты, зверюга, — обратился он к псу. — Ну, будь благоразумен! Такой большой и такой шалун! Тише! Тише! Как ты узнал меня? Как нашел меня?
Юпер заливался лаем, прыгая вокруг повозки, и лай его рассекали спицы колес, которые, быстро вращаясь, чередовали, как в кинематографе, тени и лунный свет.
— Простите, что везу вас по этим местам, но здесь живут и работают угольщики. Мне надо скрываться — а здесь я долго жил и знаю места как свои пять пальцев.
Голос Сансура зазвучал громче. Юпер уже устал лаять на колеса — они не обращали на него никакого внимания — и только время от времени жалобно поскуливал и, зевая, подвывал.
— Ну-ка, Рогатый… Ну-ка, ленивец! — понукал быка Сансур.
Под ударами палки Рогатый свернул на проселочную дорогу. Вскоре они въехали в пустынную улочку, вдоль которой кое-где виднелись домишки.
— Мы едем к угольщикам?… — в мигающей мгле звездной ночи тревожно прозвучал голос Хуамбо.
— Если играть с огнем опасно, то играть с горящими углями, пусть они даже покрыты золой, еще опаснее! — с тоской в голосе проговорил Сансур. — Вон там, чуть повыше, я останусь и буду ждать поезда на юг.
Из пепельно-серой низины появлялись какие-то белесые существа; они говорили, смеялись, закуривали сигареты и затем исчезали в той стороне, где, по-видимому, были дома. Единственный фонарь, подвешенный на столбе, выхватывал силуэты из тьмы. Как отличался пепельный цвет их лиц от белизны кожи тех, кто работает на известковых карьерах! Известковая пыль — сочная, живая, а этих лжепризраков, казалось, покрывал саван — пепел сгоревших углей.
Коты, попадавшиеся им по дороге, были будто поражены проказой: от золы шерсть слезала с них клочьями, они жалобно мяукали, а глаза их синевато светились от голода.
Сансур сплюнул и раздраженно бросил:
— Все по-старому! Здесь я вырос, а много лет спустя здесь же скрывался от полиции, которая начала разыскивать меня после расстрела этого… не помню уж, как его… многих расстреляли тогда… Как печально… они погибли героически, а мы даже не можем вспомнить, как их звали… И вот теперь возвращаюсь и вижу, что ничего тут не изменилось, все, все по-прежнему…
— А если вы останетесь, кто вернется назад с быками и телегой? — спросил Хуамбо. — Я-то умею править только мотокаром. Научился еще в Бананере.
— Не беспокойтесь, вернется сын сеньора Непо, и вы отправитесь вместе…
— Сын?… Вы хотите сказать, внук?…
— Да, верно, внук. Старикан выглядит молодо, и в голове не укладывается, что он уже дед. А вы давно его знаете?
— Нет, знаю только, что у него когда-то были амуры с моей сестрой Анастасией.
— Вашей сестре мы ничего не скажем.
— Кое-что придется сказать…
— Что ж, тогда сообщим, что есть надежда вернуть землю, но об остальном — ни слова. Язычок у нее привязан слабовато, может проболтаться.
— Об этом я тоже подумывал. Но хорошо, что вы предупредили.
Одним прыжком Юпер выскочил на дорогу и залаял на летучих мышей и на далекие фигуры угольщиков, которые проходили, согнувшись под тяжестью мешков с золой, пепельно-серые, молчаливые. Юпер захлебывался от неистового лая — его выводили из себя летучие мыши, чертившие ночной воздух, неожиданно возникавшие и столь же неожиданно исчезавшие; его выводили из себя тени людей, сгибавшихся под тяжестью мешков с остывшей золой — ничего не бывает тяжелее мертвой пыли, — людей, ожесточенных тем, что им выпало на долю перетаскивать останки когда-то великолепных стволов, и ветвей, и целых лесов, превращенных в дрова и угли, а затем и в золу. Золу использовали как щелочь на мыловарнях, разносящих смрад. Неподалеку находилась скотобойня, где с утра до вечера лилась кровь, а по соседству с ней высилась тюрьма, где тоже готовилось кровопролитие…
Спускались тени со стороны великой реки переливающихся световых пятен — фонарей и автомобильных фар; высоко вверху огни словно увенчивали глубокий овраг, куда сбрасывали золу, здесь же, среди зарослей крапивы, стояли лачуги. Босиком, или в грубых самодельных сандалиях, или в старой, поношенной обуви угольщики один за другим спускались в овраг. Толстый ковер пыли поглощал звук их шагов. Они снимали с плеч веревки, которыми перевязаны были джутовые мешки, освобождались от мекапаля — кожаной ленты, перехватывавшей лоб и придерживавшей груз, и опорожняли мешки. Зола падала на золу беззвучно, как свет луны, только что поднявшейся на горизонте. Опустошив мешки, они вытряхивали их, кашляя, зевая и чихая; зола обжигала глаза, от нее пересыхало в горле, горело в носу, и быстро-быстро, будто опасаясь стервятников, зорко следивших, не свалится ли кто-нибудь из них замертво — это обещало хищникам пир горой, — угольщики исчезали в своих лачугах. Сооруженные из фанерных дощечек, обломков, каких-то брусков и картона, лачуги терялись среди серебряных морей — под лунным светом походили на моря необозримые мертвые пространства, покрытые белесой пылью сожженного угля.
VI
— Здесь, говорите, и выросли?
— Да. Я остался сиротой, и меня подобрала одна сеньора, заменившая мне мать. Она жила тут, неподалеку, в Бельялусе. В молодые годы она была буквально мужеглотом: сколько раз ни выходила замуж, вскоре вдовела, и в конце концов от мужей у нее осталась лишь коллекция фамилий, которую, впрочем, она сокращала для удобства, чтобы самой не запутаться. Магдалена Анхела Сенобия — так начиналось ее имя, а девичья фамилия ее была Каньис. Магдалена Анхела Сенобия Каньис, вдова Виванко, — такую фамилию носил ее последний муж. Духу не хватит произнести разом все ее фамилии или фамилии всех ее мужей. Поэтому известна она больше под прозвищем Хуана Тьма-Тьмущая. Сама ли себя она так прозвала, или ее прозвали — этого я не знаю. Но все ее знали как Хуану Тьму-Тьмущую…
Пестрая юбка, облегавшая массивный зад, худые жилистые ноги в синей сетке вен, — такой вспомнилась она Табио Сану. Хуамбо и Юпер, сидевшие рядом с ним, с удивлением взирали на пепельно-серую, оставшуюся, очевидно, от времен сотворения мира, холодную, как мертвая кость, равнину. От духоты перехватывало горло.
Под опеку Хуаны Тьмы-Тьмущей маленький Октавио попал хилым ребенком с наивными стеклянными глазенками; он вспоминал, как из каморки, где его родители умерли от оспы, соседи увезли его в приют. Из лачуги, в которой он жил с родителями, вытащили во двор кровати, стулья, белье, матрацы и предали все огню. И вот когда его уже уводили, над мальчиком сжалился какой-то сеньор, которого, помнится, звали Трансито; он, видно, был дружком этой самой Тьмы-Тьмущей, потому-то и препоручил мальчика ее заботам.
— Тебя передали в мои руки. Как тебе это нравится? — спросила его сеньора с внушительными бедрами и ногами как прутики.
Табио отвел взгляд в сторону, но все же успел краем глаза взглянуть на эту мегеру, которая расчесывала волосы и вылавливала вшей — маленькие точечки потрескивали под ее ногтем на частом гребешке.
— У нас, женщин, волосы длинные, как и наши страдания, вместе с волосами растут наши беды…
Патио, где они встретились, был очень плохо замощен. С облупленной стены свешивались высохшие плети тыквы уискиля. Донья Хуана, услышав чьи-то шаги в соседнем патио, повысила голос, чтобы ее слышали:
— Если этот проклятый кот еще будет ходить сюда мочиться, ему несдобровать.
— Лучше кот, чем сова! — послышалось по ту сторону стены.
— Совы не мочатся! — заорала Тьма-Тьмущая в бешенстве. — Ко мне уже люди опасаются ходить — кому охота нюхать кошачью вонь…
— Не мочатся? — тут же последовал ответ. — Ха! Зато совы сами воняют от страха…
Из этого обмена любезностями между соседями маленький Октавио узнал, что в доме была сова; в тот же день, после завтрака, он ее обнаружил. Клюв крючком, перья на лбу взъерошены, ушки мышиные. Она восседала в полной неподвижности. И мальчик никак не мог понять, спит она или бодрствует. Птицу ее покровительница называла Панегирикой; услышав голос хозяйки, сова просыпалась, если считать, что она до этого дремала, и, раскрывая глаза, начинала ерошить перья.
— Панегирика, у нас теперь есть мальчонка, которого нам подарили, слышишь? Не слишком он красив, но и не урод. Потом не жалуйся, что я тебя об этом не предупредила. Мальчонку зовут Октавио. Его родители родом из Сансура.
С того дня как перед совой Хуана окрестила его Сансуром, так и пошло: «Сансур, Сансур, Сансур!»
Октавио Сансур любил наблюдать, как Панегирика по пятницам давала консультации. Ее покровительница вытаскивала из пропахшей потом колоды карту, предсказывая судьбу желающим узнать свое будущее.
По пятницам в Бельялус, что в предместье угольщиков, отовсюду прибывали дамы и кавалеры; правда, они появлялись здесь и в другие дни, но основным днем визитов была пятница; посетители терпеливо ждали, что им будет возвещено судьбой в образе Панегирики, а предсказательница разгадывала будущее по замусоленным картам.
— Здесь тебе будет лучше, чем в приюте, — категоричным тоном заявила донья Хуана мальчику, как только он появился в ее доме. — Главное зло приютской жизни вот в чем: там людей приучают быть покорными, а, по-моему, покорные люди — самые бесполезные. Эти приютские да богомольцы — тунеядцы и бездельники, вот их и морят голодом. А здесь, у меня, все по-другому, и будешь есть досыта. Меня зовут Хуана Тьма-Тьмущая, но не Хуана Голодуха. На страстной неделе у меня слоеные пирожки, молоко, мясо, овощи; на праздник тела господня — перец, фаршированный белым рисом; тыквочки, зажаренные по-индейски к дню пятнадцатого августа; в день всех святых — холодная закусочка, а на сочельник — пончики и сдоба. А на мои именины — маримба, агуардьенте и маисовый пирог с мясом.
Некоторые приезжавшие из провинции сеньоры, одетые в платья из какой-то топорщившейся ткани — словно скорлупа земляного ореха, — предпочитали чтение «Оракула».
Возле лап Панегирики, под плетенной из проволоки власяницей, по краям которой красовались припаянные оловом семь когтей дракона, — власяницей, которая в свое время доставила немало утех монаху, брату Северандо де ла Порсиункула, — дремала, сомкнув кожаные веки, «Книга Семи Знаков», как называла ее Хуана Тьма-Тьмущая. Эту книгу она брала в руки, упомянув имя пророка, и, прежде чем раскрыть ее, целовала семь раз.
Проведя пальцем по колонкам страниц книги судеб, где Вавилон оставил полную бухгалтерию будущего вселенной, она обводила тем же пальцем какие-то символы и чертила в воздухе разные кабалистические знаки и что-то похожее на арабские письмена; потом засовывала кончик пальца в ухо, дабы услышать, что поведала «Книга Семи Знаков» даме, которая пришла к ней узнать свою судьбу. Одновременно донья Хуана заглядывала за вырез платья дамы, пытаясь разглядеть, какое на той белье — шелковое или бумажное, — чтобы в соответствии с этим установить плату.
Шло время, и покровительница Октавио перепоручила мальчика владельцу одной из трех лучших парикмахерских города, где Сансур начал с того, что шваброй и бронзовой лопаточкой подбирал с полу срезанные волосы клиентов — разумеется, когда не требовалось наводить лоск на туфли посетителей или смахивать с них пыль. Два-три раза в день он очищал плевательницы, собирал окурки сигарет и гаванских сигар, по этой очень важной детали — по окуркам клиентов — определяется разряд парикмахерской; затем он менял липкую бумагу для мух, которую мошки усеивали настолько густо, что она становилась черноволосой и вызывала не отвращение, а, скорее, зависть лысых клиентов, приходивших сюда побриться, сделать маникюр или массаж.
Молодой мастер, костариканец, уроженец Пуэрто-Лимон, с горчичными глазами и голосом трибуна, показывал мальчику буквы на газетных заголовках, требуя, чтобы тот их запоминал, а позднее стал учить его грамоте по школьной книге для чтения. Эту книгу ему подарил самый элегантный клиент парикмахерской, чистивший свои туфли два или три раза в течение дня, так что они становились похожи не на туфли, а на зеркала. В парикмахерской костариканца прозвали Ястребом — за его манеру ходить, за иссиня-черные волосы и глаза горчичного цвета. А настоящее его имя было Даниэль Мондрагон.
Если бы не этот человек, Сансур не научился бы читать. Его покровительницу — она ведь пользовалась сверхъестественным, магическим влиянием на жен начальников полиции — никто не мог заставить отправить мальчика в городскую школу.
— Мой мальчик должен ходить в колледж, а не в обычную школу, но я не настолько богата, чтобы послать его туда, так пусть лучше останется без образования. Еще чего не хватало! Чтобы какой-нибудь из этих учителишек, которые вечно всюду суют свой нос, стал стыдить его за то, что он беден. В вечернюю школу? Ну нет, лучше уж в тюрьму!..
Как только Хуана Тьма-Тьмущая узнала, что Сансур умеет читать, она сказала ему:
— Я не жалею, что послала тебя к дону Пепеке Лопесу в парикмахерскую. Нет, я не раскаиваюсь — тебя там научили читать, там ты мог увидеть порядочных людей и научиться хорошим манерам. Конечно, я могла бы послать тебя в ученики к сапожнику, но — боже сохрани! — сапожник никогда не поднимется выше, или учеником к пекарю, однако это еще хуже; по ночам они не спят и раньше срока умирают от туберкулеза. Некоторые, правда, пьют сырые яйца, вместо того чтобы класть их в тесто, но это нечестно, потому-то и говорят: «Честного пекаря самого запекли в пекарне…»
Панегирика прислушивалась к ее словам, и мальчику пришла в голову мысль, что сова следит за тем, как бы хозяйка не погрешила против истины.
— Подумала я было, пусть поучится плотницкому ремеслу, но потом сама себе сказала: нет, прошли те денечки, когда плотники были такими, как сеньор святой Иосиф; теперь все делают машины: распиловочные рамы, всякие там строгальные и лущильные станки — того и гляди, руку отхватят. Зато никогда я не собиралась сделать из тебя кузнеца. Вечно вертеться под копытами жеребцов — не ровен час, лягнет, да еще лягнет куда не надо, что тогда делать?… А будешь горн поддувать — от огня кровь вскипает.
Первая прочитанная Октавио книга, «Кредо освобождения» Бергуа, произвела на него глубокое впечатление. Кто-то забыл ее в парикмахерской. Случилось это в субботу. До понедельника он не выпускал ее из рук. «Книги читают, а не вызубривают», — сказал ему мастер Пепеке, заметив, что Октавио на память декламирует отрывки из «Кредо освобождения»; безмерно счастлив был юноша слышать из собственных уст другую, необычную речь — ему казалось, что таким образом он приобщается к идеям комунерос, которые подняли борьбу за свободу в Испании.
Почувствовав себя одним из комунерос, он представил себя затем сыном Французской революции. Увлеченный образом Марата, он буквально упивался его речами и памфлетами. Чтобы взбодрить себя, люди принимают душ — его же бодрил дух Марата, «друга народа». «Революция вся целиком — в Евангелии. Нигде дело народа столь славно не отстаивалось; нигде не посылали столько проклятий богатым и сильным мира сего…»- любил он повторять.
Первая статья Сансура, опубликованная на страницах журнала «Эль мутуалиста» под названием «Марат и современный пролетариат», хотя и в недостаточно четкой, слишком эмоциональной форме выражала боль обездоленных — тех самых, что бродили по улицам города, от двери до двери, с вечным вопросом или вечной просьбой: «Зола есть?…» — тех, что чистили печки домов буржуа, а затем возвращались с полным мешком домой, в предместье угольщиков, в район мыловарен — рабы, беднейшие из рабов.
В другой статье, «Свобода без хлеба», он следовал за мыслью Марата, который считал, что «нет свободы для тех, у кого ничего нет». Эту статью он опубликовал в «Реновасьон обрера». В ней он писал: «Владельцы газет обогащаются — да здравствует свобода! Сыновья богачей от безделья занимаются поэзией и прозой — да здравствует свобода! Коммерсанты приумножают свои прибыли рекламой — да здравствует свобода!.. И только народ не может повторить этот клич, потому что он голоден, потому что он в жалких лохмотьях, потому что безмолвие стало его привычкой — привычка молча переносить муки от палачей».
Неудачным оказался для него год, когда он впервые прочел «93-й год» Виктора Гюго, В ту пору от каких-то «индостанских предчувствий» умерла Хуана Тьма-Тьмущая; она сама себе поставила диагноз, но не успела приготовить спасительного лекарства: сахар с порошком из размолотых камнем жемчужин. В день кончины Хуаны появились откуда-то — будто из-под земли — бесчисленные родственники Тьмы-Тьмущей, которых Сансур никогда не видывал при ее жизни. Сейчас она лежала, вытянувшись в деревянном ящике, безразличная, как Панегирика. А Панегирику никто из этого племени мужчин и женщин, одетых в черное, не захотел взять к себе, хотя они растащили все имущество Хуаны. Кончилось тем, что сову вместе с пачкой запрещенных книг — по магии, хиромантии и астрологии — взял юный парикмахер, мастер причесок и бритья Сансур, которому всего несколько дней назад, во время попойки, дон Пепеке Лопес, старейший фигаро парикмахерской гильдии, вместо шпаги даровал белую салфетку, бритву и ножницы, предупредив, однако, чтобы юнец не резал клиентам уши.
Кровать Хуаны Тьмы-Тьмущей также оставили Сансуру. На тачке, в которую, точно мул, впрягся носильщик (о Марате Сансур тогда не вспоминал), перевозил он ложе, на котором целую ночь покоились бренные останки доньи Магдалены Анхелы Сенобии де Виванко, прежде — де Калькалуис, и еще ранее — де Партегас (порядок перечисления мужей значения не имеет), столик красного дерева, книжную полку и книги, а также сосновый ящик, выкрашенный желтой краской. А над всем этим скарбом восседала сова, эта зловещая птица заставила человечий двигатель, тащивший тачку, не раз сплевывать через плечо — он был уверен, что такая спутница не предвещает ничего хорошего. Рассвет следующего дня, четверга, Сансур встретил в комнатушке на авениде де лос Арболес и рано утром вышел на порог своего нового дома: так хотелось поскорее увидеть улицу, такое удовольствие видеть жизнь улицы! Так хотелось выйти из комнаты, в которой не было ничего, кроме четырех стен, пола и потолка, и вдохнуть свежего воздуха! Заодно надо было бы узнать, где можно позавтракать. Радостно ощутил он на своем лице солнечный свет — почти всю ночь напролет зачитывался «Условной ложью» Макса Нордау. Уже звонили к ранней мессе. Лучше уж было не выходить на порог: в этот час открывались и другие двери, и, на беду, распахнулась дверь одного странного и мерзкого заведения.
В этот день, как всегда, открывал свое заведение и сеньор Ронкой Домингес, которого в окрестных горах знавали лучше, чем красную сосну, что покрывала склоны; он платил лучшую цену тем, кто приходил в город продавать птиц с ярким оперением или дивным пением, и, кроме того, он, как никто, умел находить общий язык с охотниками и торговцами живностью.
Если его послушать, продажа певчих птичек не приносила никакой прибыли, хоть ему и удалось скопить несколько песо. Потому-то и носил сеньор Ронкой Домингес единственный старый бессменный балахон; потому-то и питался он тем же, что и его живой товар: кусочками авокадо, бананчиком, раскрошенной тортильей или молотыми сухарями; кроме воды, ничего он не пил, и то лишь когда в сузившемся от бездеятельности пищеводе застревала грубая пища. Единственным крупным расходом у него была покупка обуви — он приобретал башмаки на резиновой подошве, которой не было сносу, да и надевал он их очень редко — лишь в тех случаях, когда отправлялся в центр города. Все остальное время он ходил в самодельных каитес, сандалиях, — он страдал от экземы, и невыносимая боль жгла его босые ноги, если в каитес попадали экскременты пичужек, украшавших помещение белыми и белесыми брызгами, которые вначале были тепленькими, а потом затвердевали и становились похожими на корочки от оспенных пустул. Читать сеньор Домингес не умел, считал на пальцах, но в чем он был несравненным мастером — так это в умении вести расчеты на маисовых зернах. Ронкой Домингес в совершенстве знал свое дело: любителям звонкоголосого товара не удавалось его провести; он не позволял покупателям надувать себя, но и сам никогда не обманывал индейцев из Кобана, доставлявших ему пичужек с гор.
Монотонно текла жизнь в четырех стенах просторного полуподвального помещения, где на гвоздях и костылях, забитых в стену, висели клетки; много клеток стояло вдоль стен, многие были подвешены к потолку. Иногда он выставлял клетки на солнце у дверей как лучшую рекламу своего птичьего заведения, а заодно и для того, чтобы вернуть радость тем пленникам, которые, не видя голубого неба, переставали петь.
Чистка клеток, смена питьевой воды, распределен ние рационов: кусочки авокадо, лилового банана и хлебные крошки — для одних и размоченная маисовая лепешка — для других; все это делалось при закрытых дверях, в тот час, когда робкий свет раннего утра едва брезжил сквозь дверные щели. Потом он распахивал двери и, слегка побрызгав водой, чтобы не поднимать пыль, подметал кирпичный пол и тротуар перед входом. Из своего заведения Ронкой Домингес отлучался только на минутку — в соседнюю булочную, купить сдобу для своих попугайчиков; всякий раз, когда он думал об этих расходах, у него начиналась головная боль: надежды его никогда не сбудутся — один попугай был нем, а второй — глух и умел лишь выкрикивать хриплым голосом: «А, иди ты!.. А, иди ты!..» А теперь повсюду видишь могучих соперников — «хонографо», как говорил Домингес, и кому придет в голову приобрести попугая — эту курицу, которая требует пищи, а сама несъедобна, — если можно запросто купить заводного попугая с пружиной…
— Домингес, не дергай их за хвосты! — прокричал ему с улицы пьянчужка, самый заядлый из всех пьянчуг, который поднялся спозаранку, будто на работу, покинул свое логово, полное криков, икоты и блевотины, и, захватив книги, разную утварь, олеографии и образки святых, отправился совершать благородную коммерческую операцию — выменять эти сокровища в ближайшей винной лавке или кабачке на стаканчик спиртного.
Домингес не ответил.
— Запустить бы тебе коровьей лепешкой в харю, — продолжал угрожающим тоном пьянчуга, — будешь знать, как мучить пичуг…
Домингес по-прежнему не отвечал.
— Вот погоди, приду со всем моим семейством… Мы тебе покажем!..
Пьяница, покачиваясь, удалился. Однако, когда добрался до своего логова, он обнаружил, что три его братца уже ни на что не способны: двое пластом лежали на койках, а самый старший свалился на пол, глаза его остекленели, на губах пузырилась слюна.
Наконец один из лежавших на койке поднял голову:
— Ежели его укокошишь, то попугая — мне! Я продам за глоточек.
— Ишь что придумал, Сехихунто! Попугая я уже давно обещал хозяину подвальчика, что за углом. За целую бутылку!..
— Ну и оставайся с попугаем… Но тогда уж на меня не рассчитывай, ежели надумаешь отлупить старикашку… Я выхожу из твоего священного союза по освобождению пичуг, раз ты так… Попугай или ничего!..
— Тогда я пойду один…
— Ложись-ка лучше и не брыкайся…
Ронкой Домингес был уверен, что с помощью дубины и кинжала сумеет отразить любую атаку, и не придавал особого значения угрозам этой семейки подонков, волосатых, бородатых, вечно ходивших с незашнурованными ботинками и всю жизнь перегонявших через свои желудки алкоголь. Единственное, чего они добивались, — деньжат на выпивку, а уж этого им от него не дождаться. Его не пугали ни оскорбления, ни угрозы; им не удастся привлечь его к ответственности перед Обществом покровительства животных.
К счастью для Домингеса, этой ужасной семейке пришлось покинуть очаг своих предков; один адвокат — свободомыслящий и ростовщик — дал им денег под ипотеку, а затем по истечении срока продал дом с торгов. Ронкой Домингес чуть не аплодировал, наблюдая за тем, как его непротрезвевшие соседи складывали свою утварь и разный хлам на телегу и выезжали. После их отъезда в комнате почти ничего не осталось, только шкафы да столы — то, что нельзя было вытащить и загнать за бутылку, слишком тяжелы вещи. Однако спектакль был прерван — Домингесу пришлось вернуться к себе: прибыли одетые во все белое индейцы из Кобана и, ожидая торговца, расположились со своим крылатым товаром у его дверей.
Старейший из Кобана — лицо цвета копченого мяса, вывалянного в золе, на голове не волосы, а кора столетнего дерева, — не повышая голоса, повел с Домингесом переговоры о продаже; Ронкой отвечал ему на языке кекчи мягким тоном, как и подобало при заключении сделки между такими почтенными персонами.
Прохожие задерживались, чтобы поглазеть на клетки, нагроможденные одна на другую, — клетки из бамбука, отполированные, будто выточенные из зеленоватой слоновой кости. В клетках сидели чорчи цвета пламени и крови с траурной отделкой — клюв и лапки из черного дерева, черные-пречерные глаза; были здесь и сладкоголосые гуардабарранки с нежными зеркальными глазами, и шаловливые водяные попугайчики, будто со скрипкой в груди, рассыпающие волшебными капельками переливы родника; были тут и сенсонтли с кофейным оперением и четырьмястами хрустальными звуками в горлышке.
Домингес говорил и говорил, а Кобан, вождь индейцев из Кобана, отвечал ему. Переговоры уже подходили к завершению — стороны начали считать на маисовых зернах: два и четыре, шесть и девять, семь и пятнадцать — считали они по-испански. Переговоры закончились; вождь подозвал своих спутников, посоветовался с ними, согласны ли они с назначенной ценой. Все были согласны.
Так было всегда. Так было и на этот раз.
Как только индейцы уходили — один за другим в сопровождении детей и собак, — Ронкой начинал устраивать вновь прибывших пленников, обращаясь к ним с фальшивой нежностью тюремщика, который знает, что эти несчастные будут жить в неволе всю свою жизнь; раздувая им перья, он размышлял, какая из них запоет скорее.
Лучше бы в то утро не выглядывал юный фигаро в дверь, желая познакомиться с новым кварталом, а заодно разузнать, нельзя ли позавтракать где-нибудь поблизости; лучше бы не попадалась ему на глаза эта отвратительная лавка.
Домингес только что открыл двери своего заведения, и птицы звонкими трелями приветствовали рождение нового дня, — этот оркестр каждодневно услаждал окрестные улицы.
Сансур сжал челюсти, пересек улицу и одним прыжком — заведение Домингеса, как известно, размещалось в полуподвале — очутился в птичьей тюрьме. Он ворвался, точно буря, — он был одновременно зарницей, молнией и громом. Грозным взглядом. Сансур окинул клетки.
Ударом кулака он свалил Домингеса на пол. Все произошло настолько внезапно, что тот не сумел даже протянуть руку за кинжалом и, уже лежа на полу, пытался достать из-за двери дубинку. Еще два удара — в плечо и в висок — и Домингес потерял сознание, а может, притворился бездыханным, чтобы его и в самом деле не убил этот безумец.
А этот сумасшедший, которому уже не хватало рук-рук-рук, открывал клетки и выпускал птиц. Они вылетали и, описав круг во мгле полуподвала, находили дверь и исчезали в сверкающем голубом сиянии наступившего дня.
Сансур возвратился в свою комнатенку, наскоро собрал пожитки — белье, книги, ножницы, бритвы, гребни — и бежал на Южное побережье, надеясь там найти работу. Он боялся, что убил продавца птиц. Единственное, что ему запомнилось, — это звуки собственного голоса: открывая клетки, он во все горло пел «Марсельезу», с особой страстью повторяя: «Святая свобода… Святая свобода…»
Панегирика и носильщик помогли полиции пролить свет на это ужасное, из ряда вон выходящее происшествие. Была установлена личность виновника происшествия, а также то обстоятельство, что преступление совершено отнюдь не с целью грабежа. Когда во время следствия спросили Домингеса, не был ли он во враждебных отношениях с Сансуром и не было ли у того повода для мести, Домингес отвечал философски, как истый сын гор: «Никому я не делал добра, чтобы иметь врагов; этот человек — сумасшедший».
«Да, — заявил носильщик мировому судье, ведшему расследование, — он заставил меня грузить какой-то хлам, который называл мебелью, да еще сову; с тех пор как я тащил эту проклятую птицу, не могу найти работу, никто не нуждается в моих услугах».
«Как же не сумасшедший? — продолжал продавец птиц. — Избил меня чуть не до смерти и все пел, что день славы наступил, а когда раскрывал клетки, кричал птицам: „Святая свобода, святая свобода!“».
Был отдан приказ задержать Октавио Сансура, но тот словно в море канул. Некоторое время он скрывался в солеварнях близ порта Сан-Хосе, работал пеоном, потом устроился парикмахером на пароходе, который шел из Салина-Крус в Панаму. В Панаме он и остался, поступил в парикмахерскую лучшего отеля и набил себе карманы долларами. Дружеские связи, приобретенные с помощью бритвы, помогли ему достать панамский паспорт на имя Хуана Пабло Мондрагона. Имя Хуан Пабло он избрал в честь Жана-Поля Марата, своего идола, а фамилию Мондрагон — в память о коста-риканском учителе, который показал ему первые буквы. В его паспорте можно было прочесть: уроженец Табоги (на этом острове он хотел бы родиться), родители — неизвестны, католического вероисповедания, парикмахер, двадцати трех лет от роду.
Сансур — теперь его звали Мондрагон — работал и много читал. Но и тех денег, что он зарабатывал, не хватало, чтобы приобретать книги и изучать английский, — впоследствии он все же овладел этим языком в совершенстве. Покинуть Америку?… Много раз он стоял у трапа пароходов, отправлявшихся в Европу, стоял с уложенным чемоданом и контрактом на работу. Будто слоновая болезнь сковала его, и он никак не мог сделать решительного шага. Он крепко зажмуривался, закрывал руками уши и весь дрожал, словно от звуков сирены, что прощально гудела на отходившем судне. И в конце концов оставался.
Ронкой Домингес позеленел от злости — желчь разлилась у него после всех треволнений — и еще больше опустился; в отчаянии стиснув руки, он расхаживал по помещению своей фирмы среди пустых клеток. «Беда не приходит одна, — повторял он, — у несчастья всегда есть близнецы!.. Заплачу все долги и лучше останусь без штанов, без всего, только бы судья не назначил меня опекуном Панегирики!..»
Нужен был адвокат, хороший адвокат, который защитил бы его — не от человека, уже не представлявшего собой угрозы, а от подлинной опасности: его, Ронкоя Домингеса, разыскивали, чтобы официально уведомить о передаче в его собственность совы в порядке частичной компенсации понесенного ущерба.
Однако адвоката так-таки и не потребовалось. Сову убили камнем, и она валялась на полу — комочек нежнейших перьев, в которых не билось больше сердце. Миссию уничтожения совы взял на себя носильщик, чтобы не умереть с голоду. С тех пор как он перевез ее на своей тачке, на него посыпались беды. Никто не давал ему заказов. Это было не убийство, а избавление. И, подойдя к тачке, он приближал губы к колесу, будто говорил на ухо, в огромное круглое ухо: «Радуйся, тачка, теперь будет у нас работа. Сова сдохла, будет у нас работа!»
…Наступила ночь, и, пожалуй, не было смысла кудато ехать дальше, да и переговорили они обо всем. Хуамбо получил задание спуститься на побережье, где помощник Табио Сана даст ему дальнейшие инструкции. Внук сеньора Непо ждет их у железнодорожной линии.
Дамиансито уже был на условленном месте. Пора прощаться. Хуамбо пожал руку Октавио Сансура, запачканную известью, и горячо повторил слова боевого клича:
— «Чос, чос, мойбн, кон!..»
Дамиансито ткнул палкой быков: медлить нельзя! И белая от извести повозка — призрак на пепельных колесах — затерялась среди бескрайних равнин и молчаливых вулканов, залитых лунным светом, растворилась в испарениях щелочной воды, на глади которой луна отражалась масляным пятном, а не золотистым диском. Юпер скалил великолепные клыки, но не лаял — даже он не в силах был нарушить величественный сон ночи и тишину покрытых золой долин.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
VII
Выезжая на кривую, поезд начал сбавлять скорость. Гребнем цепляясь за рельс, застонало, точно раненое, каждое колесо, и в каждом вагонном окошке медленнее поплыли каменные отроги, и облака, и заливные луга, в этот час — половина третьего пополудни — сливавшиеся в знойном мареве.
Резкий лязг, завывание, скрежет вагонов заставили прийти в себя молодую пассажирку, которая, надвинув на лоб шляпку из итальянской соломки, сидела с отсутствующим видом, — скорее рослая девочка, чем женщина, она была одета в сшитый на заказ костюм темно-песочного цвета, придававший ей вид серьезной дамы, пальцы ног скрыты в туфельках с непомерно высокими каблучками, а темные очки скрывали заплаканные глаза. От внезапного режущего металлического визга она даже передернулась — этот визг, казалось, рвал барабанные перепонки, проникал в волосы, в зубы, звенел в ушах, несмотря на то что она зажала их ладонями. Почти на грани нервного приступа — как это случалось с ней иногда от неожиданного звонка будильника, — она с лихорадочной поспешностью схватила чемоданы, заторопилась к выходу.
Рельсы, шпалы, земляные насыпи, каменные покрытия, столбы, семафоры, кюветы, мосты — все оставляет позади гигантская железная змея, изрыгающая пламя и пар; хотя и сбавляет она скорость, но еще упорно сопротивляется — ни за что не желает остановиться: ведь нет тут никакой станции, одни лишь помехи на пути. Поезда отлично знают, где им встретятся большие узловые станции, а где транзитные, и подходят к ним, приветливо свистя станционному колоколу, отзываясь на его звонкие удары добродушным ворчанием пара и глухим чиханием тормозов. И даже если бы машинист не суетился и никто не выходил и не садился бы на станции, поезда, подчиняясь таинственной силе, замедляют ход там, где надо. И останавливаются. Останавливаются, конечно, не так, как сейчас, когда вопреки воле пышущего жаром паровоза поезд замер под открытым небом, в чистом поле: приходится выполнять служебный долг перед пассажиркой с проездным билетом до 177-й мили…
— Будто реку остановили, чтобы вышла из нее прекрасная сирена! — галантно заметил один из пассажиров; именно с ним обменялась в пути несколькими словами юная путешественница в темных очках, направлявшаяся к двери вагона. Кто знает, слышала ли она его или не слышала, но, во всяком случае, когда он хотел помочь ей нести чемодан, девушка искоса взглянула на него. Только этому пассажиру она сказала, как ее зовут, и сообщила, что назначена директрисой смешанной школы в Серропоме, куда и направляется сейчас.
Изо всех окошек высунулись головы пассажиров, пытавшихся узнать, почему стоит поезд. Подъем?… Авария?…
— В машину попал песок? — завопил какой-то старик, но, видимо, для самоуспокоения тут же добавил: — Я этого, разумеется, не утверждаю!.. Лишь спрашиваю…
— На путях лежит дохлое животное, и, пока падаль не уберут, мы не тронемся… — послышался было другой голос, однако третий оборвал его:
— Дохлое животное — то, что болтает, а болтает оно потому, что язык не на привязи! Просто на этом перегоне произошел обвал. И мы чуть было не махнули на тот свет. Заставят теперь пересаживаться. Придется нам вылезти и пешочком обойти место обвала, а там уж сесть в другой поезд. Он придет за нами. Хорошо бы узнать, когда…
— Перестаньте спорить, это к добру не приведет! — взывала какая-то полуодетая толстуха; позванивая золотыми подвесками в ушах, она едва не вылезла из окошка — перегнулась так, что груди вот-вот вывалятся из выреза платья.
Когда люди выскажутся, страсти обычно утихают. Смолкли разговоры; нет ни гипотез, ни прогнозов, и тут зазвучала труба Страшного суда — некий спирит оповестил, что навстречу мчится никем не управляемый поезд и с минуты на минуту налетит…
— Мы спасемся лишь в том случае, если встречный разобьется в пути!.. — вещает спирит, однако никто не смотрит на него и никто его не слушает. — Спасайтесь кто может!.. Это безумный поезд!.. Мчится на всех парах!.. Без машиниста!..
И вот что-то приковывает внимание всех пассажиров, сгрудившихся у окошек. Все напрягли слух и зрение, все хотят понять: что же в конце концов происходит? Из вагона первого класса, последнего или предпоследнего, спускается невольная виновница переполоха и треволнений — сирена, ради которой посреди поля остановила свой бег человеческая река.
— Так вон из-за чего… из-за этой! — воскликнул мулат со слащавой, блестящей физиономией. — Не беспокойтесь, кабальерос! Все из-за того, чтобы слезла эта сова в шлепанцах.
«Уже приехала… сбрось очки… это тебя назвали совой… разве не слышишь?» — мелькнуло в мозгу путешественницы, как только она спустилась с подножки вагона и сделала по земле первые неуверенные шаги на высоких каблучках — тяжелые чемоданы давали себя знать.
«Уже приехала, слава богу, уже приехала, и теперь твои ноги на твердой земле — веди себя так, как тебе присуще, а не как пассажирка с отсутствующим взглядом, занимавшая твое место в вагоне — место по билету до 177-й мили. Пусть это кажется неправдой, но ты не садилась в поезд на Центральном вокзале. Нет! Кто-то другой принял твой облик и ехал на твоем месте, под твоим именем, в твоем костюме, с твоим багажом, и этот двойник не знал, что говорить, как себя вести, будто вспоминал чужие движения и жесты и робко подражал им…» Она говорила сама с собой, словно с призраком: «Тебе говорят, и ты отвечаешь, не отдавая себе отчета, когда ты — это ты, а когда вместо тебя другая — та, что вошла в вагон и заняла твое место, та, которую усаживали в вагоне, и подумать только, что ты сама помогала усаживать ту, другую. Казалось, у тебя уже не было сил, но ты подталкивала ее, требовала от нее покориться судьбе, боялась, что она останется, отстанет от поезда… Ты уже приехала… но это приехала та, другая… а ты осталась… осталась среди родственников и друзей, которые самоотверженно поднялись с постелей на рассвете и приехали проститься с тобой — наспех причесанные волосы, пахнущие мылом лица, невыспавшиеся глаза, — ты осталась в тех объятиях, что сжимали тебя в последний раз, ты осталась в тех глазах, что целовали тебя последним взглядом… Но в таком случае… кто же была она? Та, которая махала из окна вагона платочком, мокрым от слез; та, которая сказала „прощай!“ провожающим — фигуры их на перроне все уменьшались и уменьшались по мере того, как скорость нарастала… Нарастала в твоем сердце?… Ах! Это была тоже ты… Та, у которой сонными каскадами волосы ниспадали на еще не проснувшуюся, утренне-свежую кожу; та, у которой лицо девочки, и лишь уголки нежных губ чуть опущены, та, у которой под блузкой не стесненная корсажем грудь, свободная, упругая, трепещущая…»
Головы, шеи, лица, руки, шляпы, зубы, сверкающие белизной, а то и золотом, серьги в ушах, ремни с револьверами или мачете — все замерло в окошках и дверях вагонов, все ждут, когда тронется поезд.
«Сбрось очки… тебя и так назвали совой!.. Не слышишь?… Сирена… Шлепанцы… Сова… Не оглядывайся, не обращай на них внимания!.. Смотри на тот красный флажок, что торчит в земле, неподалеку от шпал… Смотри, как его пламя оживляет желтый песок насыпи, по которой бегут синеющие рельсы, и как подчеркивает этот флажок игру красок: зелень лужаек, заливных лугов, деревьев, плантаций сахарного тростника и горных отрогов — охра и голубизна пробудились от вечного покоя, подчиняясь волшебным заклинаниям пылающего флажка…
Один человек сошел — и это ты… Станция флажка… Путевая миля 177… Итак, наступил час, когда ты с твоими чемоданами должна отойти от поезда — на подножку вагона второго класса взобралась супружеская чета негров — кожа с оттенком просмоленного брезента, у женщины волосы собраны тюрбаном и перевязаны ленточкой апельсинного цвета, а у мужчины длиннющий галстук, такой же яркий, как флажок, рдеющий на ветру… И больше ничего… Гудок… дымок… Гудок… дымок… Гудок… И эхом отзывается грохот… грохот вагонов, вновь пришедших в движение…»
Ушел поезд — и поле будто лишилось чего-то очень нужного, важного.
«Тебе придется оставить чемоданы или сбросить туфли…»- говоришь ты сама себе и подтаскиваешь чемоданы к высокому дереву, господствующему надо всей округой, как зеленый купол церкви. Туфли?… Ты хмуришь брови… Очки сползают с носа… Нужно либо поправить их, либо снять — так дальше идти нельзя… Но… как идти дальше, если каблуки вязнут в песчаных островках, по которым — с одного на другой — тебе приходится прыгать, балансируя, чтобы не попасть в лужицы; железнодорожная линия разделяет заливные луга и заросли фикусов — там, по ту сторону, тебя должны ожидать дрожки… Туфли и шляпка… Шляпка?… Да, но если ты снимешь ее, в волосах начнет резвиться ветер…
Здесь нет станции, нет никого, чтобы спросить о долгожданных дрожках. Ни здания, ни названия. Остановки, отмеченные флажками, не имеют названий. Они — души бесплотные и безымянные. И бездушные…
«Но все же кто-нибудь сюда заглядывает… — думаешь ты, с трудом добравшись до фикусового дерева, под тяжестью чемоданов буквально отрываются руки. — Должен ведь прийти сюда путевой обходчик; кто-то должен смотреть за флажком — этим единственным живым существом, да, он казался живым благодаря своему алому цвету — цвету крови, и еще потому, что развевался, как плащ тореро, над безмятежными полями, над поймами, уже кое-где ослепшими: испарилась в них вода… Кто-нибудь должен все-таки прийти, и тогда узнаешь, где же экипаж».
Нет, это не он. К флажку подошла женщина. Голова повязана какой-то тряпкой, поношенное платье, босые ноги. На желтом лице — печать всех болезней этих болотистых мест и беспросветной нищеты. Она рывком выдернула из земли флажок, но никак не может его свернуть. Вырывает ветер. Флажок сопротивляется, вздувается, вывертывается, будто детский воздушный змей. Наконец свернула она флажок, засунула под мышку и пошла… Ветер треплет ее платье, ощупывает, приподнимает, тискает в своих объятиях, ищет и ищет, куда она спрятала флажок. Ветер никогда не признает себя побежденным. Иногда кажется, что ветер держит женщину, не дает ей идти вперед. Должно быть, она живет где-то неподалеку и сейчас направляется к дому, с трудом передвигая ноги, вздымая пыль.
«Иди! Беги за ней! Догони ее! Узнай у нее о дрожках! Не хочешь? Тебя все еще мучает мысль о том, что в вагоне ты (или не ты) забыла букет камелий?…»
Безотрадна станция, да и нет здесь станции, безответно чистое поле — нет здесь ни телефона, ни телеграфа, — нет никакой возможности сообщить на ближайшую остановку, что ты забыла в вагоне первого класса самое ценное из твоего багажа… алые камелии… ее или твои?
Забыла?… Сомнительно!.. Это было бы ужасно!.. Нет, нет! Это было бы ужасно! Букет, очевидно, упал на скамью, когда ты поднялась, чтобы снять чемодан; упал на скамью букет алых камелий, приколотый на груди, — «словно сердце пламенеет», сказал сеньор, который ухаживал за тобой и вручил свою визитную карточку. А может быть, ты уронила букет в тамбуре, когда выходила?
Убери платок. Выступили слезы на глазах, повисли на ресницах, но не скатились.
А дрожки?… Женщина, окутанная порывами ветра, та, что унесла флажок?… А твои дымчатые очки?…
Земля здесь с одной стороны спускается к морю, с другой — вздымается к небу. Поля, прильнувшие к склонам гор, под знойными лучами солнца изжелта-зеленые, а за седловиной, где прошел поезд, они темнеют, там поймы, бесконечные поймы, зелено-голубого, почти синего цвета. И все-таки самая завидная доля — у этого фикуса аматле, в тени которого под бесчисленными и сияющими драгоценными, изумрудными листьями ты сидишь на корневище, как на скамеечке. Зимой и летом сохраняет аматле свои глянцевитые, блестящие, полированные листья — эмаль на золоте работы искусного ювелира, — узорчатые, вырезные, они совершенно закрыли ствол и узловатые ветви темнокожего гиганта. Все вокруг преходяще — пассажиры и этот мир: зелень полей увядает, сгнивают бирюзовые поймы, облетает листва с дуба, кофейные деревья покрываются плодами — капельками пурпура, лиловеет хакаранда, обнажаются тамаринды. Только фикус аматле остается неизменным, всегда один и тот же, он — вне времени… Вскрикнула… Что такое?… Обыкновенная ящерица заставила тебя вскрикнуть?… Ага, тебе показалось, что это змея?… И ты заметалась, столько ненужных жестов, столько лишних движений — руками, головой, широкополой шляпой!.. А может быть, во всем виновата оса?… Но ведь это просто-напросто большая муха. Лети, мошка, преспокойно, если ты одна! Другое дело, когда невесть откуда налетают тучей огромные оводы, прилипают к коже, как медицинские банки с крыльями горячего дыма, вонзают безжалостные шприцы.
Часики, подаренные тебе родителями в день получения диплома, показывают три часа тридцать пять минут, а мерзких дрожек все нет и нет. Ты уже с двух часов сидишь под этим фикусом аматле.
Несколько шагов. Встать и сделать несколько шагов, всего несколько шагов. Однако ты ждешь — тяжелее всего сидеть и ждать не двигаясь, начинают затекать ноги.
— Нас, учителей, ждет участь жалких просителей в приемных, и потому, сеньорита, позвольте мне не поздравлять вас!.. — сказала в день вручения дипломов учительница, когда в ее голове заиграло шампанское. — Мы вечные просители в приемных… Запомните! И будьте к этому готовы!
Несколько шагов. Вперед, назад — совсем как часовой. Руки крепко сжаты за спиной; сцеплены пальцы, маленькие и крепкие, как рукоятки тормоза; голова наклонена вперед, шея вытянута, будто готова лечь на плаху, лишь бы не ждать дрожек… А они все не появляются… Ни к чему всматриваться в даль, держа козырьком руку, нечего вставать на цыпочки, впрочем, в этом нет нужды: из-за высоких каблуков ты уже и так стоишь на цыпочках… А дрожек нет, нет и нет…
Четыре часа семь минут…
Четыре часа девять минут…
Четыре часа тринадцать…
Ой, как плохо: тринадцать! Скажи — четырнадцать… Четыре часа четырнадцать минут… А дрожки все не появляются, не появляются…
Что делать?… Отправиться на розыски женщины, которая унесла флажок, расспросить ее? Да, но… как оставить чемоданы?… Взять их с собой — об этом и думать нечего… у нее не хватит сил нести багаж, по этим высоким полевым травам, окружившим озерца, где нашли себе приют пичужки всех цветов и размеров… точно бордюры из перьев…
Четыре пятнадцать…
Четыре шестнадцать…
А теперь до половины пятого ты не взглянешь на часики… Договорились?… Конечно, если дрожки не придут раньше — ведь не будут же они ждать наступления ночи, чтобы искать тебя, и, надо надеяться, местным дикарям не пришло в голову, что ты запросто взвалишь чемоданы на плечи и потащишься пешком через эти холмы, не зная дороги, до Серропома…
Четыре двадцать…
А разве не в половине пятого ты собиралась смотреть на часы?… Да, но ведь надо что-то предпринять, прежде чем растянуться на этом ложе из корней — и кому по вкусу такая грубая, такая неудобная мебель?…
Половина пятого!..
Наконец-то!..
Вечные просители… нет… мы, учителя, привыкли ждать в разных приемных и уже не ждем ничего хорошего. Никаких надежд!
Четыре часа пятьдесят девять минут…
Вчера в это самое время… В этот самый час, нет… Минутой позже… Было уже около пяти… за тобой в дом модистки, точнее, к дверям дома модистки прибыл будущий врач, твой будущий муж, и пригласил прокатиться в автомобиле.
Прощальная прогулка… Куда он тебя только не возил — он хотел объехать все места в окрестностях столицы, где был счастлив с… с кем?… С кем он хотел быть… с тобой… с отсутствующей, той, которая села на поезд, но не с той, которая осталась в его объятиях в момент прощания, хотя это была и ты… хотя… Но разве можно быть уверенной в том, что в его объятиях была не та, другая, а именно ты?., та-та-та… то-тотопот… Нет, не слышно топота лошадей, запряженных в дрожки… Та, другая — нет! Та, другая — нет!.. Ты… Ты ревнуешь даже к самой себе… Сколько страданий тебе еще предстоит перенести, прежде чем он получит диплом медика, вы сможете повенчаться, и ты сумеешь добиться перевода в столичную школу…
Пять часов пополудни…
Именно в этот час началось паломничество. Где вы только не побывали, ты хотела со всем и со всеми проститься, хотела, чтобы тебя видели с ним, как ты говорила, чтобы природа видела тебя вместе с ним… Природа… Укромные уголки… тропинки… тени деревьев… вода… таинственные скалы… Не было такого местечка, где бы вы не побывали… не обменялись поцелуями во время своей поездки… Быстро мчится машина… быстрее — еще быстрее… Кровь… быстрее — еще быстрее… Но всего быстрее летит время… С пяти часов пополудни и до появления вечерних звезд проносились мимо километры и километры — зачеркивалось расстояние, зачеркивалось время, все обращалось в воспоминание…
Вы бросились в объятия друг друга от толчка — машина подпрыгнула на развороченном асфальте дороги, что вьется по краю оврагов за Северным ипподромом, в тех обрывах обитают лишь птицы и светлячки. Устав от его объятий, ты со слезами на глазах прошептала ему на ухо: «Я совсем схожу с ума!»
Потом, не замечая времени, вы ехали до какой-то утонувшей во тьме деревушки, где жили индейцы — гончары и угольщики, — ютились в лачугах, втиснутых меж скал и деревьев, и сколько листьев было на этих деревьях, столько поцелуев сгорело на твоих пылающих губах… Он целовал тебя… целовал… пока не запылали губы… И откуда-то из-под земли подымались голубоватые дымки…
Оставив позади деревушку с тающими дымками, вечерними туманами и глубокими обрывами, вы мчались по проселочным дорогам, наматывавшимся, как струны, вокруг холмов, которые волчками раскручивались под колесами машины, пока дорога не поднялась на вершину, откуда вы столько раз любовались, как загораются огни города, в эти часы мерно вздрагивавшего в глубине долины от ударов колокола, призывающего к Angelus [8]. Тысячи и тысячи электрических глаз зажигались одновременно, и что-то благоговейное, священное таилось в поцелуях здесь, на высоте, в эти минуты…
Ржание лошади разорвало тишину… Ты застигнута врасплох? Ты так далеко унеслась отсюда, что тебе, трепещущей и растерзанной, стоит немалых усилий прийти в себя. Прижав руки к груди и уже совсем очнувшись, ты едва вымолвила: «Дрожки! Приехали дрожки!..» Воспоминание о вчерашнем вечере было прекрасно, но мгновенно исчезло, как только появилась порядком разбитая таратайка-двуколка, которую тащили две жалкие лошаденки; с таратайки слез мужчина, назвавшийся Кайэтано Дуэнде, — крестьянин с квадратной головой и узким лбом, у него были большие уши и глаза навыкате. Он сразу же привлек к себе внимание какими-то странными, необычайными манерами.
Мужчина взял чемоданы и, то и дело кланяясь, пригласил подняться в экипаж, точнее — в таратайку, где ты с видом важной сеньоры уселась на заднем сиденье.
— Экипаж, правда, неважнецкий, но дорога еще хуже, и ежели не хотите приехать совсем разбитой, пересядьте сюда, вперед, рядом со мной… — предупредил Кайэтано Дуэнде.
— Ничего, и здесь хорошо, — сухо ответила ты.
Издерганная и утомленная, ты хотела лишь одного — чтобы как можно скорее тронулась таратайка и ты почувствовала бы себя снова в пути. Спешишь добраться?… Спешишь… Это похоже на бегство…
— Обычно все называют свое имя… А вы?… — проговорил возница, держа вожжи в руках, готовый тронуться в путь. — А вы не сказали, как вас зовут, так вот я и хотел спросить, конечно, не ради любопытства, а просто чтобы знать.
— Малена Табай, к вашим услугам…
— Только этого не хватало! К вашим услугам — это я, Кайэтано Дуэнде. Вы что, начинаете учительствовать?
— Впервые…
— Значит, впервые… Так… Так… — Он хлестнул вожжами лошадей; колеса скрипнули, двуколка тронулась в путь. — Наша школа, понимаете ли, только называется школой… Откровенно говоря, школы-то нет. Да. Просторный дом, где занимаются ученики. Может, чего доброго, вам и понравится… Соникарио Барильясу поручили подновить к вашему приезду. Побелка — дело пустяковое. Известка да кисть. Труднее с подтеками. Соникарио днем менял черепицу, а ночью Сисимите ее сбрасывал… Пришлось попросить священника, чтобы он благословил небо с той стороны, куда выходила черепичная крыша, и опрыскал ее освященной водицей. Он окропил. После этого Сисимите исчез, правда, исцарапал черепицу… когти огненного кота. Не нравится дьяволу, что заделывают дыры в крыше, ведь из-за этих дыр христиане богохульствуют и ругаются на чем свет стоит, и даже черта поминают… Я думаю, вам лучше остановиться не в школе, а у Чанты Беги. Она очень гостеприимная и заботится о хороших людях; у нее остановитесь, у нее и питаться будете… Там вам будет хорошо. Я-то знаю, что говорю. Самый хороший дом у нас — дом Чанты Беги, если, конечно, не считать постоялого двора «Санта Лукресиа», но это ведь за Серропомом…
Малена почти не слышала Кайэтано Дуэнде. Ее внимание было приковано к дороге. Временами девушку охватывала дрожь, но не от вечернего ветра, от которого стыло лицо, и, разумеется, не от быстрой езды, — как было вчера, когда она со своим теперь уже таким далеким возлюбленным мчалась в автомобиле: таратайка двигалась настолько медленно, что можно было легко поспеть за ней пешком. Малена вздрагивала, озираясь на крутые обрывы, мимо которых они проезжали. Бездонные пропасти угрожали на каждом шагу, следуя вдоль всего размытого пути, — камень и песок, песок и камень, — и в ее невольных восклицаниях прорывался ужас; подавить в себе это чувство она не могла — ее страшили отроги Кордильер и этот пустынный, каменистый мир, где почва, плодородная почва, еще не пораженная эрозией, сохранялась лишь кое-где на вершинах.
Вырвавшись из-под нависших грозных скал, дорога шла теперь по плоскогорью, по которому рассыпались сосны, тянулись высохшие маисовые поля и скошенные луга; порой виднелись покинутые шалаши — приют на время сева или уборки урожая. Приближалась ночь. Малена посмотрела на часы… Ей так хотелось удержать в памяти счастливые воспоминания: вчера в эти самые минуты загорелись огни города — и моя любовь была со мной!.. Что за безумие… В последний вечер, убивая время, бешено гонять машину, — вместо того чтобы сидеть рядом, совсем рядышком, совсем-совсем близко, не двигаясь, не проронив ни слова, — ведь молчание и ощущение близости любимого человека волнуют до глубины души… Или сидеть совсем рядом, рядышком-рядышком, целоваться, прижавшись друг к другу, так, что прерывается дыхание и не в силах бороться с водоворотом страсти, с мучительным желанием отдаваться ласке, последней ласке, которая не может длиться бесконечно… Какой он странный человек! Наспех пытался что-то объяснять и тут же резко прибавил скорость, словно хотел сжечь свое чувство, прощаясь с ней, уничтожить воспоминания о том, как любовались они загоравшимися городскими огнями, как целовались, как спускались к озеру, чтобы увидеть отражение восходящей луны в его водах, как взбирались на холмы близ аэродрома, где даже стебли жухлого маиса гудят под порывами ветра, будто пропеллеры.
Темнело, но ночь еще не наступала, где-то набираясь сил; здесь даже воздух становился похож на пористый, полупрозрачный камень. У Малены заложило уши — от высоты. Откуда-то, словно издалека, донесся голое Кайэтано Дуэнде:
— Эй, барышня!.. — Малена, опомнившись, разглядела его силуэт, выросший из темноты, как вырастают из ночного мрака горы. — Да, барышня, я и есть говорящая гора… — он как бы прочел ее мысли. — И вот потому сейчас, когда стемнело, говорить буду только я.
Малене показалось, что она куда-то падает, проваливается, и нет возможности удержаться, сколько бы она ни цеплялась — пальцы как связка холодных ключей.
— Все, барышня, все можно отомкнуть этими ключами, — опять разгадал возница ее мысли, — если не забудете о Кайэтано Дуэнде! (Как далеко, каким далеким прозвучал голос, исходивший из этой головы-горы!) Ваши пальцы-ключи подходят вот к этим замочным скважинам… — И он показал на звезды.
Лошади, от копыт до грив покрытые пылью, походили на высеченные из камня скульптуры, будто камни, грохотали колеса.
Малена поинтересовалась, далеко ли до Серропома.
— Уже видны отсветы… — ответил Кайэтано Дуэнде.
До полусонной Малены снова донесся голос горы.
— Огни Серропома? — спросила она.
— Нет, барышня, огней Серропома еще нет. Это светится Серро-Брильосо. Поглядите-ка, как светится! Когда подъедем к Серропому, вы почувствуете аромат цветов, а эта гора — Серро-Брильосо, она отсвечивает… отсвечивает антрацитом. Хотя нет там никакого света. Но гора многое в себе скрывает… Вот я расскажу вам… Это в Серро-Брильосо произошла история с человеком, который целый год жил без головы… В начале каждого года Серро-Брильосо раскрывает свои недра и снова закрывается. Много в этой горе богатств… Да, жили тут, неподалеку, два кума. Я их знавал. Один из них разбогател — за одну ночь, с вечера до утра. «Нашел клад», — шептались одни; «тайком гонит спирт», — уверяли другие; а были и такие, что утверждали, будто он контрабандист или просто-напросто запродал душу дьяволу. И что же с ним произошло в самом деле? Он сумел залезть в нутро Серро-Брильосо и вышел оттуда цел и невредим, да еще с кладом золотых монет, — весили они столько, что кум два дня подряд перетаскивал их к себе домой. «Это желтый маис», — отвечал он любопытным, однако что это был за маис — золотой маис! Велико было его богатство, но ведь деньги, как и любовь, не утаишь. Начал он покупать богатую одежду и для себя, и для жены, и для детей, приобрел скот и землю, стал устраивать гулянки, тратил напропалую. И вот как-то другой кум, Хутиперто Артеага, спросил, откуда у него деньги. И в конце концов богатей признался. «Ты меня должен туда свести, — взмолился Артеага, — нехорошо, когда один кум богач, а другой — бедный». «Ладно, сведу я тебя, — ответил тот, — сведу в последний день года, ровно в полночь, чтобы на утро следующего дня ты тоже стал богатым, может, даже богаче меня». Так и сделал. Простились кумовья со своими женами и отправились на Серро-Брильосо. «Кум, — сказал богатый, — ставлю только одно условие: не теряй головы!» «А что я должен делать? — спросил бедный кум. — Скажешь?» «Да, я скажу тебе. Не оборачивайся по сторонам. Тебя будут звать по имени — не откликайся. Будут играть плясовую — не танцуй. Тебя будут пугать драконом, что брызжет из глазищ своих водой и огнем — не обращай внимания. Ты должен войти в гору, забрать свое богатство — и сразу назад». Ободренный этими словами, ровно в полночь, как только открылся вход в Серро-Брильосо, бедный кум вошел туда, а богатый остался снаружи. Стоит, поджидает приятеля, закурил сигару — прикинул, значит, как сигару выкурит, так кум и вернется. Но вот от сигары только пепел остался, а бедного кума все нет и нет. Захлопнулся вход в Серро — точно гром прокатился, — и кум остался внутри. «Аи, кума, — сказал богатый, возвратившись домой, — муженек-то твой остался в горе, не вернулся, и никто не знает, что с ним приключилось…» Женщина, печальная-препечальная, пришла к Серро-Брильосо, пощупала землю, поплакала, просила у горы вернуть мужа, отца ее детей. Но Серро-Брильосо глуха к мольбам — гора-то эта богатая. Все равно как человек: богатеет — глохнет. Нуждающегося богачи не слышат; друга, который просит денег в долг, — не слышат; того, кто о помощи просит, — не слышат… «Что же делать? — печалится кума. — Я даже не могу на девятый день помолиться за упокой его души, — кто знает, может, жив он? А ежели он мертвый? Как подумаю, что не почтила его память, все внутри переворачивается». «Что ж, кума, — сказал тогда богатый, — подождем. Вот как истечет год и откроется вход в гору, пойдем вместе — глядишь, и узнаем что-нибудь о куме». Длинные, нескончаемые потекли месяцы, пока наконец не пришло время идти к Серро-Брильосо. К вечеру богач с кумой пришли к горе и стали ждать, когда откроется вход в нее. Захватили с собою провизию — заморить червячка. Взошла луна со своим кроликом-великаном на роже, стала разбрасывать крольчат по горам и холмам — необыкновенных крольчат с ушами-ракушками, откуда выскакивают другие кролики поменьше. И вот наступила полночь. «Кума, пора… Не забывай о моих советах!» — напомнил богач. Когда они вошли, то сразу увидели пропавшего — узнали по одежде. Жена подошла к нему и чуть не рухнула наземь, только накрахмаленные нижние юбки ее и удержали, да еще предупреждение богатого кума — не то упала бы. Муж ее нес в руках собственную голову. Богатый кум мгновенно выхватил у него из рук голову и приставил на место. И что же? Тот повертел головой — как будто воротник жал ему шею и она затекла, и потопал вместе с ними к выходу. «Ну как делишки? — спросил он, а затем говорит: — Только что вошел, и сразу голову потерял». «Только что? — в слезах спросила жена. — Ведь это было год назад, год назад, Хутиперто!» Что же с ним случилось на самом деле? Схватив сокровище и услышав музыку, он от радости пустился в пляс и тут же, видите ли, потерял голову…
Они уже проехали перевал — скоро должен показаться Серропом — самая высокая точка на этом склоне Кордильер, откуда в ясную погоду можно было увидеть Тихий океан.
По улочке, вымощенной галькой и булыжником, — незаметно влилась в нее проселочная дорога и здесь на перекрестках, возле домишек и оград, висели уличные фонари, — Малена и Дуэнде въехали в Серропом. Уже было что-то около семи вечера, может быть, чуть позднее. Странно… более или менее… ведь есть часы. В семь часов и тридцать восемь минут… совершенно точно! — таратайка остановилась у дверей пансиона, где Малену Табай встречали словно важную персону. Представители местной власти приветствовали новую директрису; обитатели селения тепло улыбались, дети преподнесли цветы. Отряхивая платье, она слезла с таратайки. Ее лицо скрывала маска пыли.
Кайэтано Дуэнде спрыгнул, взял лошадей под уздцы, поправил дышло у гнедого коренника. Как только стих шум, он внес чемоданы и простился с сеньоритой Табай; это было скорее напутствие, чем прощание.
— Не забывайте о Кайэтано Дуэнде, кучере, который доставил вас сюда и по дороге придумывал для вас всякие побасенки, чтобы скоротать время. Я знаю, вам будут нашептывать, что я самый настоящий дуэнде — домовой, но кто знает, правда это или нет. О таких делах никто ничего не может знать… Как-нибудь на днях свожу вас к паровым баням СанхаГранде и в Серро-Паломас, где эхо ветра блуждает в пещерах и воркует, как голубка. К вашим услугам, сеньорита, к вашим услугам…
Вышел возница, и появился посыльный, который передал ей телеграмму.
Не канцелярским клеем, а тягучим, резиновым — так показалось ей — была склеена телеграмма; еле-еле ее распечатала. «Моя любовь, — подумала она, — моя нежная любовь…» Прочла:
«Нечаянно вы оставили мне кое-что. Спасибо. Мондрагон».
Чему же она радовалась? Телеграмма предназначалась не ей. Не знала она ни одного Мондрагона и не понимала, о чем шла речь. Однако на бланке указано ее имя — Малена Табай, и вот ее новый адрес — Национальная школа, Серропом. Она хотела было возвратить телеграмму посыльному. И вдруг ей вспомнился тот сеньор из поезда. Быть может, это его так звали. В сумочке должна сохраниться его визитная карточка. Так и есть: Хуан Пабло Мондрагон.
«Телеграмма-молния… Из Пуэрто-Сан-Хосе… Нечаянно вы оставили мне кое-что. Спасибо. Мондрагон…»
Алые камелии — они были приколоты к платью!..
— У вас словно сердце пламенеет, — еще сказал ей он…
Чанта Вега поджидала приезжую под фонарем, освещавшим вход из сеней в коридор. Правой рукой она оперлась о бедро, а левой придерживала малыша, который ревел благим матом и бил ножонками.
— Цыц, ты, сопляк косолапый, дай сказать! Т-сс, несчастный! Тише, крикун!.. — успокаивала она малыша и тут же с любезностью, которая так свойственна беднякам, добавила: — Сюда, сеньорита, проходите сюда, я покажу вам вашу комнату.
Взяв чемоданы, Малена Табай прошла за ней в просторную комнату, которая казалась еще больше от тусклого света. Приземистая, узкая кровать, тумбочка, угловой столик под зеркалом, умывальник — точнее, тазик и кувшин с водой на треножнике, — вешалка, широкая циновка.
Малена как бы нечаянно приподняла покрывало — огромные желтые цветы на голубом фоне, — желая разглядеть простыни и матрас.
— Все новенькое… — заметила Чанта, прикрывая дверь перед малышом, который, встав на четвереньки, пытался влезть в комнату; оказавшись за дверью, он разразился громким плачем. — Все новехонькое, и простыни, и матрас, и наволочки, — но если вы захотите, все можно сменить. Если аппетит разыгрался, могу вас угостить — у меня есть суп и бульон, чилакили и бананчики в меду.
Оставшись одна, Малена рухнула на постель. Закрыла лицо руками и долго так лежала. На что жаловаться, если сама избрала этот путь? Она? Нет. Жизнь. У родителей нет денег, семья большая. Надо было избрать такую специальность, которую можно было бы получить поскорее и поскорее начать зарабатывать себе на жизнь. Учительница. Призвание?… Уже давно эта проблема обсуждалась на теоретических конференциях; об этом говорили и в церковных кругах, когда речь заходила о «призвании священнослужителя, проявляемом недостаточно»; это вечная тема передовиц в учительском журнале «Ревиста дель магистерио» и главный пункт повестки дня конгрессов, посвященных вопросам воспитания. А на практике призвание трудно отделить от необходимости. В призвании есть склонность, в необходимости — категоричность. Тот, кто материально обеспечен, может выбирать; ему позволена роскошь следовать своему призванию. А тому, у кого нет ни денег, ни имущества, — если он хочет удержаться на поверхности, — надо соглашаться на все, покорно склонять голову под ярмо, которым его наградила судьба.
Она убрала ладони с лица и уставилась куда-то в пол, не видя, однако, ничего перед собой. Так мало света, такой тьмой окутано ее сердце…
Она тряхнула головой, встала и, подойдя к умывальному тазику, налила в него воды, — треножник в самом деле оказался новеньким. Вымыла руки, взглянула в зеркало и сама себе показалась каким-то привидением. Прежде чем выйти в столовую, она подняла с постели измятую шляпку из итальянской соломки — чуть было не села на нее. Повесила шляпку на вешалку, найдя крючок на ощупь, безвольной рукой, словно во сне.
— Присаживайтесь на эту трехлапую скамеечку, она надежнее всего да, кроме того, приносит счастье. Должна вам сообщить, что именно на ней сидел майор Тирсо Лобос, когда получил известие о своем повышении. Присаживайтесь и кушайте! У вас плохое настроение?… Я поставила в воду цветы — те, что подарили вам дети.
— Нет, нет, что вы, дело не в настроении. Видите ли, мне не хватает чего-то привычного, домашнего…
— Вы правы. Вы такая изящная, хрупкая, а вас привезли сюда обучать грубиянов. Вот и не держатся тут учительницы. Последняя, как только вошла сюда, так сразу нахмурилась, и такая же хмурая и уехала. «Я, говорит, не для этого училась…» И вы так же скажете — и будете правы.
— Я думаю, наоборот, что… (эх, все-таки никак не обойдешься без этого слова!) мое призвание заставит меня остаться…
— Родители-то у вас еще живы?
— Живы…
— И как только они позволили вам, такой молоденькой, уехать в этакую глушь? Сюда надо бы старую учительшу, да вот никто не соглашается, а если какая и приедет, так сразу же превращается здесь в василиска. А вы еще совсем молоденькая, по всему видно… Ну, сколько вам можно дать?… Лет девятнадцать?…
— Уже было…
— А не выглядите.
— Уже выглядела…
— Нет, нет, я сказала «девятнадцать», потому что не хотела говорить: «двадцать». А братья у вас есть?
— Семеро, и все моложе меня. А ваш малыш? — Малена поспешила переменить тему, предпочитая не пускаться в дальнейшие откровения. — Как его зовут?
— Ну, скажи, как тебя зовут… Бедняжка, он еще маленький, еще не говорит! Зовут его Понсио — нет, не в память Понтия Пилата, боже упаси, а в честь Понсио Суаснавара, по имени того, от кого он рожден. Хотя в вольном реестре его отцом указан Паулино Пансос… Ничего не поделаешь, по правде сказать, сынок-то от двоих…
— Под каким же именем он записан в цивильном реестре?
— Ах, в вольном-то? Да под фамилией Пансос.
Малыш подползал бочком, подтягивая ножку. Чанта подняла сынишку за ручонки и стала вытирать его.
— Поросеночек, когда ты научишься проситься! Так нельзя делать! Вот сейчас вымою тебя и уложу спать! Бедный сынок, кто-то поможет тебе в жизни?… — Обратившись к учительнице, она сказала: — Может, налить вам супчику да соку, пока я принесу чилакили?…
Малена осталась одна. Глядя на лампочку, засиженную мошками, которые тоже еще не научились проситься, пальцами правой руки она рассеянно барабанила по столу, а в ушах на мотив «Donna e mobile…» [9] звучали слова:
Дон автомобиль по ветру перышком…Сегодня же ночью, после ужина, она напишет ему, этому «дону автомобилю, по ветру перышком…» и расскажет о своих переживаниях в первый день разлуки, о потерянных камелиях, о том, как она была разочарована телеграммой, как опустились у нее руки, когда прочла, что телеграмму послал некий Мондрагон, которого она встретила в поезде и уже не помнит.
Хуан Пабло Мондрагон… Нет, не помнит… Хотя… что-то смутно припоминается… острое лицо, восточный разрез глаз, очень тонкие губы…
Чанта принесла чилакили, плававшие в томатном соусе, как бумажные кораблики. Это были маисовые тортильи со свежим сыром, свернутые трубочкой, облитые яйцом и поджаренные. А за чилакилями последовали жареные бананчики, только что снятые с огня, они еще блестели от свиного сала и так и просились в чашку с медом, которую хозяйка поставила на стол.
— Пожалуйте кушать!.. — пригласила ее хозяйка и после минутной паузы продолжала: — Я выскажу вам свое личное мнение. Это так же верно, как меня зовут Чанта Вега Солис, — вероятно, потому-то меня и прозвали Солисситатада [10] — если вы, сеньорита, сейчас решите здесь остаться, то уже никогда не захотите уехать… — Пухлые губы приоткрылись, и сверкнули великолепные белые зубы. — Я знаю это по собственному опыту. Если человек, приехавший сюда, не решит немедленно уехать и остается в этих горах на день-другой, то когда начнет подсчитывать, оказывается, что уже прошли и год, и два, и три… Не знаю, курите ли вы… А я разожгу свой окурочек… Пойдемте-ка со мной на кухню… В наших горах человек живет и еще долго будет жить, забыв о времени… — продолжала Чанта Вега и, войдя в кухню, прижала кончик своей полуразжеванной сигареты к тлевшему угольку. — И этот Кайэтано Дуэнде, который вас привез сюда, не зря зовется Дуэнде. Хоть и неотесан он, как вы могли заметить, а лучше кого угодно объяснит то, о чем я сейчас вам толковала: здесь человек — существо вне времени… Он объясняет, что это значит — находиться в бесконечности… А меня — представляете себе, хотя я и в летах — меня пугают эти слова, когда слышу их, охватывает какой-то детский страх. Я так хотела бы уехать отсюда, перебраться в такие места, где время течет по-человечески. Я человек, я истосковалась по времени… Меня приводит в отчаяние сеньор Кайэтано!.. Прямо с ума сводит!.. У него глаза, как у повешенного!.. И в голове какой-то ветер! Нет, сеньорита, не оставайтесь здесь, уезжайте завтра же, как уехали другие, — они бежали отсюда, еще не зная, что их здесь ожидает, они просто не видели никакого смысла оставаться здесь!.. А что их ожидало?… Жить среди этих безмятежных горных вершин да безумно таращить глаза на солнце. Словно здесь люди — не люди, а деревья!
— Успокойтесь… Мы поговорим завтра… Я сказала, что остаюсь, я должна остаться верной своему долгу…
— Беда, да и только! Вас ведь привез сюда Кайэтано Дуэнде, вот и началось колдовство. Он и меня привез сюда… Столько лет прошло с тех пор, и все годы — в этих горах… Даже китаец, каким бы он ни был, не сможет уйти отсюда! Тут у нас есть такой старик, побеседуйте-ка с ним — убедитесь, что я не вру.
— Простите… И обо всем этом вы говорили другим учителям?
— Не было нужды. До них сразу доходило, что попали они сюда только затем, чтобы быть заживо погребенными меж этих гор без прошлого, без настоящего и без будущего… И все они уезжали… нет, удирали без оглядки. А вот вы говорите, что остаетесь здесь. Потому я и решила высказать вам все, пусть даже это будет вам неприятно. Я хочу, чтобы вы все знали, а если завтра начнете раскаиваться, вспомните, что вам сказала Чанта Вега.
VIII
— С тех пор прошло одиннадцать лет… — Она нервно постучала карандашом по письменному столу. Этот стук как бы перекликался с торжественно размеренным тиканьем часов в директорской, кончик карандаша отсчитывал только доли секунды. — Одиннадцать лет… — повторила она.
— И вы не раскаиваетесь?
Она вздохнула, не зная, что ответить, потом встала, выпрямилась во весь рост — была она высокая и стройная — и протянула руку начальнику зоны горных дорог, с которым случайно познакомилась в поезде, когда ехала сюда… — одиннадцать лет назад.
— Простите, если я задержал вас, — сказал он, взяв пробковый шлем, брошенный на стул. — Но я так рад… Такая приятная неожиданность.
Направляясь к двери, он продолжал:
— Такая приятная неожиданность!.. Такая приятная!.. Надеюсь, вы как-нибудь окажете мне честь и посетите наш лагерь. Это недалеко от Серропома. Хотя там мало интересного, зато мы увидим вас. Ну, я ухожу, уйду прежде, чем вы спросите о своих камелиях!
— За одиннадцать лет они, должно быть, высохли… — Малена заставила себя улыбнуться, и на ее невозмутимом смуглом лице не отразилось ни малейшего признака отчаяния, которое охватило ее при воспоминании о камелиях. — Но я не буду вас ни о чем спрашивать… — заметила она виноватым тоном и, как бы извиняясь за то, что прервала визит, предложила: — Если у вас еще есть время, я покажу мою школу.
— Прекрасное здание…
— Вам нравится? Оно выстроено по моей инициативе, в какой-то степени здесь претворены мои идеи, поэтому я и сказала «моя школа». Когда я приехала в Серропом, школы не было; заниматься пришлось в одной комнате. Местные жители и власти помогли мне. Потом я вошла в альянс с местным приходским священником, из церкви Голгофы — здесь одна церковь, и та носит название Голгофы, — символично, не правда ли? В этих горах все шиворот-навыворот. Мы проводили благотворительные базары, а доходы от них распределяли так: половину он брал для ремонта церкви, половина шла на строительство школы.
— Это заняло много времени?…
— Не знаю. Время здесь не ощущается, оно не существует. И человек о том, что стареет, узнает от других…
— Что вы, что вы! Я вовсе не хотел сказать, что вы постарели, но такое здание… К тому же на средства, полученные от благотворительности…
— В вашей галантности я достаточно убедилась в тот день, когда познакомилась с вами в поезде. Позвольте пояснить мою мысль насчет времени; вам, как человеку новому, интересно будет узнать, что здесь времени не существует… Это кажется необъяснимым. В день моего приезда об этом меня предупредила женщина, в доме которой я поселилась. Ее звали, хотя, впрочем, и сейчас зовут (она до сих пор жива) Чанта Вега. По ее мнению, возница, доставивший меня от железной дороги до селения, Кайэтано Дуэнде, лучше, чем кто-либо, знает о бесконечности времени, о времени, которое не существует и в которое каждый погружается, как в сон.
Малена замолкла, словно пораженная собственными словами. Воцарилось молчание — глубокое, как и молчание гор. Глядя ей в глаза, то ли желая поверить ее словам, то ли соглашаясь с ними, собеседник пытался найти ключ к расшифровке сказанного.
— Да, кажется, время не утекло…
— Не кажется! — с горячностью поправила она. — Оно действительно не утекло…
— Согласен… не утекло… Когда встречаешь человека не таким, каким знал его раньше, то обычно говоришь — «целая вечность прошла». А вас я вижу такой, какой увидел впервые, одиннадцать лет назад в поезде, в желтой широкополой шляпке, в костюме песочного цвета, и на груди…
— Сердце пламенеет…
— Как хорошо, что вы запомнили! Это я сказал о камелиях — они были такого алого цвета…
— Так вот почему вы обратили на меня внимание?
— Запомнилось… Обидно было, что поезд остановился на сто семьдесят седьмой миле…
— Будто реку остановили, чтобы вышла из нее сирена…
— Как? Неужели вы помните… Неужели мои слова так запечатлелись?
— У меня тоже неплохая память… Однако вернемся к тому, о чем мы говорили, — о неподвижности времени в этих горах. Позвольте объяснить вам, как это можно — не существовать существуя. Личный опыт. Вначале испытываешь какую-то тревогу, чувствуешь приближение чего-то страшного, чего-то похожего на агонию. Вот Кайэтано Дуэнде убежден, что в человеке исчезает некая суть, которая ежедневно живет и ежедневно умирает в нем, и ее заменяет другая, которая уже не живет и не умирает, а представляет собой… как бы это сказать…
— Нечто похожее на то, чего достигают в Индии йоги…
— То другое дело. Они индивидуальные практики. Здесь также есть люди, похожие на йогов. Например, они едят солнечно-апельсинные грибы, от которых кровь останавливается в жилах и человек оказывается на грани жизни и смерти. Тот, кто ест такие грибы, по верованию индейцев, выдерживает героическое испытание — большинство людей от этих грибов умирает или сходит с ума. Есть и такие индейцы, что употребляют в пищу черный кактус — «пуп земли», его привозят издалека; он якобы помогает не срываться в пропасти, когда идет сев или уборка на полях, расположенных на горных склонах. Но это все отдельные случаи. А то, о чем я говорю, это — общее ощущение отрыва от жизни из-за отсутствия механизма, который заставлял бы людей жить дыханием нашей эпохи. И, как вы заметили, в школе я пытаюсь в максимальной степени напоминать механизмами о времени. Повсюду — в классах и в директорской, в опытной аудитории, во дворе, в гардеробе — всюду вы видите часы. По-моему, прежде всего здесь надо механизировать время людей, это самое первое и… последнее, что я вам скажу… Уже около часа, а мне еще надо успеть перекусить, в два возвращаются ученицы…
— Прежде чем я уеду, один вопрос: вы помните мое имя?
— Мондрагон… Я запомнила подпись в вашей телеграмме.
— Это моя фамилия, а мое имя…
— Не припоминаю…
— Хуан Пабло, как Марат…
— Якобинец!
— Это лучше, чем жирондист!
— Кто вам сказал?… — отрезала она. — Я якобинка в большей степени, чем вы!
Но Хуан Пабло Мондрагон уже запустил мотор джипа и не слышал ее последних слов.
Резкие толчки машины не могли нарушить поток его мыслей — отрывочных и противоречивых; он представил себе ее обыкновенным бакалавром — девушкой, склонной к бесплодным мечтаниям и в то же время практичной, претенциозной и скромной, разочарованной и готовой подчиниться власти новых чар. Но он никак не мог собрать воедино мысли, когда попытался воссоздать в памяти ее лицо — обычное лицо с изящными чертами и тонкой кожей, под которой ощущается пульсация крови и на которой горный ветер оставил свой след; ее внимательные глаза, созданные как будто не только для того, чтобы смотреть, но и ловить дыхание мира; ее рот с печальной и вместе с тем высокомерной складкой…
И стараясь выбраться из этого бурного потока обрывочных мыслей, он спешил продумать план: как воспрепятствовать новому исчезновению… Нельзя же опять допустить милю 177… Жизнь не останавливается, как тот поезд, чтобы она могла сойти! Теперь они поедут в одном вагоне, среди гор, вне времени… Много времени прошло с той поры, но он не растратил себя, как не растрачивают себя реки, в которых плывут сирены, песок и все, что захвачено течением, — и вот любовь ранила его сердце, чуть было не оставшееся слепым, как Лонгин… Почему же эта грациозная девушка — это типичное дитя столицы, — одиннадцать лет назад ехавшая в поезде, осталась здесь погребенной, как те девы, которых индейцы хоронят среди горных вершин, чтобы их занесло снегом?… Тут кроется какая-то загадка…
Но вот показался лагерь, там, как муравьи, суетились пеоны, рабочие-дорожники, мастера, их помощники, механики… Сколько раз еще он будет возвращаться сюда «с фронта», — разве любовь не битва? — чувствуя себя счастливым и потерянным. Возвращаться после того, как побывает с ней в ее библиотеке, где они не спеша пройдут перед строем книг: стихов, романов, эссе, антологий, укрывшихся за рядами учебников, — пособий по зоотехнике, ботанике, ветеринарии, первой медицинской помощи и гинекологии. Они пройдут во внутреннюю галерею, где устроена детская столовая на тридцать человек; школьники, не завтракавшие дома, получают здесь кофе с молоком и маисовую тортилью, а иногда и хлеб. Побывает он с ней и в мастерской, где какой-то индеец, искусный резчик по дереву и гончар, обучает всех желающих, — конечно, не своему искусству, нельзя от него этого требовать, — а ремеслу более простому и полезному: изготовлению из глины домашней утвари; желающих учиться у него было уже настолько много, что не хватало мест.
— Ас этим скульптором я познакомилась… — говорила она. — Ах! Если бы вы только знали, как я с ним познакомилась!.. Однажды я взобралась на вершину Серро-Вертикаль, чтобы полюбоваться оттуда океаном… таким далеким. Не знаю почему, но когда я вижу океан с этих высот, на таком расстоянии, у меня всегда возникают грустные мысли — у меня никогда не хватит денег, чтобы добраться до него. Чем-то бесконечным представлялось мне испарение голубого огня, вздымавшегося с беспредельной водной глади. Если смотреть с верхушки Серро-Вертикаль, даже гигантские дубы и сосны кажутся виноградными лозинками… А другие горы вздымаются из туч, как из пенных туник…
— И там вы с ним познакомились? — спросил Мондрагон, слегка побледнев, голос выдавал его чувства: каким же должен быть этот человек, этот скульптор, этот художник, чтобы стать достойным подобной панорамы?
Малена высвободила руку, которую не то дружески, не то повелительно в ожидании ее ответа сжимал Мондрагон.
— С «моим» скульптором я познакомилась в тот день, но не там… — слово «моим» она вонзила, как шип — проснулся инстинкт кошки, играющей с мышью. — Но каким был океан с вершины Серро-Вертикаль!.. Никогда не видела его более прекрасным — я вспомнила об этом потому, что все это было в день, ставший для меня незабываемым.
Мондрагон закурил сигарету. Он курил, курил, пытаясь сдержаться, чтобы не начать тут же громить горшки из сырой глины и обожженные, горн, скамейки — как тогда, в давние времена, когда он освобождал птиц из клеток Ронкоя Домингеса.
— Я познакомилась с ним на постоялом дворе, — невозмутимо продолжала она. — Возвращаясь с гор, я пошла кружным путем и, проходя по двору, где погонщики оставляют свои повозки, заметила среди груд мусора и навоза какую-то фигуру. Вначале я подумала, что это животное. «Это Пополука…» — сказала мне шедшая навстречу женщина, похожая на лягушку. «А кто такой Пополука?» — спросила я… «Просто Пополука!» — ответила она. Я подошла поближе — это оказался старик с бородой, с длинными-длинными, как у женщины, волосами, босой, он был одет в вонючие лохмотья и спал на куче мусора. «Пополука даже не шевелится, — добавила женщина, — лежит тут и лежит». Никто не может согнать его с места, всякие насекомые — синие, зеленые, красноватые, черные, — ползают по нему, а Пополука даже не пошевелится; текут по нему потоки муравьев, заползают в бороду, вытаскивают из нее волоски, которые он сам выдергивает, когда причесывается, — муравьи принимают их за травинки, — а Пополука все не шевелится; огромные красно-желтые муравьи сомпопо, самые храбрые из муравьев, забираются к нему в рот, вытаскивают застрявшие между зубами остатки пищи — Пополука все не шевелится; мошки чистят свои крылышки о его ресницы — однажды в нос залез сверчок и пел и пел там, — а Пополука все не шевелится… Не шевелится и не шевелится и никаких признаков жизни не подает, пока не вернутся, ковыляя, пустые повозки; да, повозки идут хорошо только с грузом, а когда возвращаются пустые — ковыляют. Услышав, что они въезжают во двор, Пополука подымается и вдруг прыгает — удивительно высоко для его возраста, — хлопает себя по бедрам, поднимает руки, потягивается, вертится волчком, вздымая тучи мусора, широко открывает глаза, и тогда не только мошки, муравьи сомпопо, сверчки, вши, блохи, клещи приходят в ужас, но и куры, цыплята, голуби, овцы и собаки, что дремали, пригревшись рядом с ним. Зевнув во весь рот, он на цыпочках подходит к погонщикам и спрашивает их, не открылся ли проход к Горе Идолов — туда раньше была проложена дорога, а потом ее поглотила пропасть. Там, как он говорит, спрятаны украденные у него скульптуры, которые он видит теперь только во сне. Лежа среди мусора, в пыли и в грязи — спит он или не спит, — он всегда неподвижен. Вот так я встретилась с моим скульптором Пополукой.
С каким наслаждением Мондрагон расцеловал бы ее сейчас! Он обнял ее за плечи и сказал:
— Надо бы подлечить его. Этот человек, должно быть, рехнулся…
— Нет, сеньор дорожник, незачем его лечить, и он не рехнулся. — И, взглянув на руки Мондрагона, она добавила: — Ему дали возможность заниматься своим ремеслом, и, вот видите, тут его мастерская. Тут Пополука учит маленьких гончаров — я называю их «пополукашками».
— Есть люди, Малена, о которых не знаешь, что сказать, любишь ты их или восхищаешься ими. Так и я… люблю вас?… Или восхищаюсь вами?…
— Любите меня, как друг, а восхищаться нечем: то, что я делаю, может каждый. Вот только волю рукам не давайте… — Она сняла его руки, которые с нежностью легли на ее плечи, соединила их вместе и, придерживая, чтобы они вновь не взлетели, сказала: — Я раскрою вам секрет моих успехов. Если, конечно, вы умеете хранить тайны…
— Как могила…
— Надо уметь делать! И даже не делать, а начинать делать. Смотрите, я выбрала двух старших учениц и решила с их помощью устроить детскую библиотеку. Девочки никогда в жизни не видели ни одной библиотеки, тем более детской, да и, признаться, я сама имела об этом лишь самое общее представление. Ладно, мы достали книги, и сейчас библиотечка работает. Мы учились вести картотеку, классифицировать…
— Конечно, но надо заранее представить себе цель…
— Само собой разумеется. Я поставила себе задачу воспитать новое поколение индеанок в этих горах, учитывая всю сложность работы с таким человеческим материалом. Ведь они обездоленные, нищие — физически и материально; едят один раз в день, если вообще едят. Сколько труда потрачено было на то, чтобы приучить их завтракать. «Я не ем, — говорили мне некоторые из самых бедных семей, — потому что не привыкла». Раньше мальчики и девочки учились вместе, потом их разделили. Была создана мужская школа. Дело в том — насколько я поняла, — кое-кому не понравилось, что из моей школы ученики выходили думающими и свободолюбивыми людьми: их уже нельзя гнать, как баранов, посылать куда-то на работу, они стали требовать сначала подписать контракт, чтобы иметь гарантии; некоторые за это даже попали в тюрьму, как бунтовщики.
— Эх, сотню бы таких учительниц, как вы!
— Зачем? Чтобы появилось больше тюрем или кладбищ?… Если мы будем воспитывать в людях чувство собственного достоинства, — с горечью добавила она, — властям придется умножить число тюрем и расширить кладбища…
Она позволила Мондрагону поцеловать ей руку.
— Да, мсье Жан-Поль, я больше якобинка, чем вы. У вас на строительстве дорог пеоны не получают поденной платы, да еще им приходится платить за свое питание…
— Их освободят от повинности, как только они оплатят боны дорожного управления.
— Вы же отлично знаете, что это ложь. Если они даже и оплатят, все равно их погонят работать еще на сорок суток.
— Это, конечно, одна из причин всеобщего недовольства, — сказал Мондрагон, невольно оглянувшись.
— Не беспокойтесь, такая крошечная школа, как моя, к тому же затерянная в горах, — самое безопасное место для заговоров…
По тону, каким она произнесла эти слова, Мондрагон почувствовал, что Малена осуждает его за трусость — высказав робкое замечание о политике властей, он поспешил оглянуться. Его беспокойство возрастало: неужели она — та, которой он больше всего восхищался, — замешана в заговоре или он сам каким-то неосторожным жестом, каким-то необдуманным словом выдал себя? Тревожила его мысль о Малене, но он не имел права высказать свои опасения. И в ту же минуту он понял, что выдает себя как последний дурак.
— Что с вами? — Малена взяла в свои теплые ладони его холодные руки и впервые посмотрела на него нежным, полным невысказанной тоски взглядом.
— Мален, — так он называл ее про себя и отныне всегда будет к ней обращаться именно так, — не произносите этого слова…
— Вы это серьезно?
— Повсюду шныряют шпики, тюрьмы набиты битком…
— Не потому ли вы так изменились в лице, даже голос дрогнул, кажется даже, что холодный пот выступил у вас на лбу?
— Именно поэтому.
— Хуан Пабло, скажите мне… скажите, не таясь, — можно ли надеяться на что-то лучшее? Вы ведь знаете, но не хотите мне говорить.
— Уверяю вас…
— Я не строю иллюзий, я только хочу знать, есть ли у нас какие-то надежды. Мы настолько забиты, что даже одно обнадеживающее слово способно вдохнуть в нас жизнь…
— Мален, если мой голос и дрогнул… то только из-за вас…
— Из-за меня?
— Вы чего-то недоговариваете. Мне кажется, что вы связаны с политикой…
Она промолчала. Минуту спустя она как будто хотела сказать что-то, но слова замерли на ее устах. И это еще больше насторожило Мондрагона.
— После вашей неожиданной фразы о заговорах я действительно испугался, что…
— Что это может вас скомпрометировать…
С улицы донесся какой-то шум. Малена пожала Мондрагону руку, словно в знак некоего соглашения, и прошептала:
— Среди дорожников в вашем лагере… Мы могли бы кое-что сделать… Там, конечно, есть и честные люди…
— Я могу скомпрометировать себя, но не имею права поставить под удар своих товарищей.
— Убеждена, они не откажутся…
— Как не откажутся!.. А кто с ними будет говорить?
— Я.
— Вы?… — Он взял Малену за плечи и, глядя ей в глаза, сказал: — О вас тут же донесут… Поверьте, не все сильны духом, многие женаты, у многих дети…
— О чем вы говорите?
— О том же, о чем и вы!
— Я просила вас помочь мне в вашем лагере…
— Именно так я все и понял…
— …открыть вечернюю школу для пеонов…
— Мален! — Мондрагон был обезоружен. — Как вы заставили меня волноваться!.. — Он пытался спрятать голову на груди девушки, но она отстранилась и с вызовом бросила:
— Мсье Жан-Поль, имейте в виду, я могу сыграть и роль Шарлотты… — Изображая Шарлотту Корде, она взмахнула ножом для разрезания бумаги.
Мондрагон уезжал из лагеря и возвращался в лагерь, охваченный думами о своей любви к Малене, которая теперь уже не противилась его объятиям, не возражала, когда он погружал пальцы в ее волосы, перебирая их, как струны, творя мелодию своей мечты; в мечтах он уже готовился принять Малену в своей палатке и раздумывал, как лучше расставить убогую мебель. Да, надо будет выписать из столицы алые камелии… Вино?… Виски?… По бутылке… Какие-нибудь сандвичи или тортильи с сыром… это можно достать здесь. Но неожиданно мелькала мысль, которая ни разу не приходила ему в голову с тех пор, как он узнал в Малене свою нареченную с поезда — так называл ее про себя Мондрагон, — свою невестушку девятнадцатилетнюю — теперь-то, впрочем, ей уже тридцать. Мысль о заговоре. Ведь это Мален — быть может, потому что она была прозорлива, а может, мысли действительно передаются на расстоянии, — ведь это Мален обронила слова: «Здесь, в школе, к тому же затерянной в горах, — самое безопасное место для заговоров…» Да, она так сказала, правда, потом все свела к невинной вечерней школе для взрослых в лагере дорожников. Что ж, в глазах властей такая школа не менее опасна, чем любой заговор…
Он подъезжал к лагерю, оставалось несколько поворотов шоссе, проложенного сквозь сплошные скалы. Вдалеке виднелись разложенные пеонами костры; можно было разглядеть светлые широкополые сомбреро и темные силуэты мужчин, — присев на корточки вокруг огня, пеоны пекли на угольях тортильи, варили кофе в глиняных горшочках, поджаривали ножку оленя или пекари, а то и броненосца, дикую курочку или еще что-нибудь в этом роде…
Эх!
Он стиснул рулевое колесо. От внезапного удара машина подскочила и свернула в сторону. Он резко затормозил и с пистолетом в руке спрыгнул на землю: быть может, хорошая дичь.
Он едва успел заметить два сверкающих глаза и какую-то тень, зигзагообразными прыжками двигавшуюся к зарослям кустарника. Побежал за тенью, стараясь не упустить животное из виду. Но вот листья перестали шевелиться, след животного исчез. Мондрагон замер на месте: зверь мог притаиться где-нибудь. Ничего и никого. Он уже собирался вернуться к джипу, как вдруг услышал какой-то шум в кустах. Поднял руку — ветра нет. Почему же зашелестела листва? Осторожно наклоняясь и раздвигая ветви, он разглядывал землю, прежде чем поставить ногу, и всматривался в ночной полумрак. Впереди что-то темнело, похоже на вход в пещеру или подземелье. Что же предпринять? Фонаря с собой не было. Он следил за таинственным входом. Летучие мыши влетали в него и вылетали. Пожалуй, лучше сейчас уехать, а днем вернуться сюда. Он остановился, стараясь запомнить место; затем отсчитал шаги, чтобы на следующий день не впасть в ошибку — как знать, может, убежище ему еще пригодится!..
Он вернулся к машине, и его снова начали одолевать те же мысли, которые преследовали по ночам, когда он ворочался с боку на бок, тщетно пытаясь заснуть — нет, невозможно совместить с клятвами людей, начавших борьбу за свободу и справедливость, эту любовь, которая явилась неожиданно, точь-в-точь налетчик на большой дороге, только налетчик этот требовал жизни и сердца. Кому принадлежало его сердце?… Кому отдана его жизнь?… Товарищам по борьбе… Мален! Мален!.. Мне нечего отдать тебе, все это — и сердце, и жизнь — мне уже не принадлежит…
Мондрагон встряхнул головой, словно отбрасывая назад волосы, он не мог избавиться от мучительных раздумий. Шлем он держал под мышкой. Прежде чем забраться в джип, он хотел было сделать несколько выстрелов по скалам — оставить на них отметины, — но тут же отказался от этой мысли. Отметины могут привлечь внимание преследователей — а вдруг ему придется воспользоваться этим убежищем? Пусть все останется по-прежнему. А он не забудет, хорошо запомнит…
IX
— Механизировать… механизмами отсчитывать время… научить этих людей пользоваться механизмами для отсчета времени… хм, позвольте заметить, я не согласен с вами!.. — На этот раз учитель Гирнальда открыл дискуссию.
Расположившись на ивовых стульях, вынесенных из директорской на веранду, они решили подышать свежим воздухом. Было так приятно. Веранда женской школы выходила в патио, где в сияющих глазурью керамических вазонах и скромных глиняных горшках цвели герани, гвоздики, гортензии, азалии и розы. В воскресные вечера сюда приходили побеседовать священник Сантос и Константино Пьедрафьель, директор мужской школы, более известный среди своих коллег как учитель Гирнальда.
— На рассвете было безоблачно! — произнес смуглый, невысокого роста священник. — На рассвете было совсем чистое небо, а потом, скажите пожалуйста, невесть откуда появились тучки… Впрочем, вероятно, скоро опять прояснится…
Однако метеорологические прогнозы священника не могли отвлечь учителя Гирнальду от его излюбленной темы:
— Что обязывает нас вывести этих людей из их нынешнего полусознательного состояния, из вечной апатии ко всему, что происходит в мире, вокруг? Что и зачем, спрашиваю я?…
— Если не прояснится, — продолжал священник, — не завидую я тем, кто сегодня отправился полюбоваться видом на Тихий океан с Серро-Вертикаль…
— Зачем? — откликнулась Малена, которую живо задели слова Гирнальды. — А затем, чтобы научить их производительному труду, приобщить к цивилизации.
— Труд… труд… цивилизация… — в раздумье повторил Пьедрафьель.
— Все же сомневаюсь я, — обратился священник к хранившему до сих пор молчание Мондрагону, — что сегодня можно будет подняться на Серро-Вертикаль. А жаль, ей-богу, жаль, ведь сегодня полнолуние…
— Чтобы научить их производительному труду?… — Перед тем как высказаться, Пьедрафьель любил размышлять вслух. — Здесь, насколько я знаю, не существует проблемы безработицы.
— Только на первый взгляд… — вмешался Мондрагон; из вежливости он делал вид, что слушает священника, а на самом деле внимательно следил за спором учителей. — Под угрозой безработицы здесь находятся те социальные группы, которые не заинтересованы в постоянной работе и работают только для того, чтобы прокормиться… Сейчас им приходится отвыкать есть…
— А тучи сгущаются все больше и больше, — продолжал в том же духе священник. — Вряд ли прояснится. Жаль, очень жаль… мне так хотелось прогуляться…
— Сеньор Пьедрафьель отчасти прав, — заметила Малена, — прав именно в том смысле, какой он хочет придать своим словам. Но, как верно подчеркнул Мондрагон, безработица у нас приобретает характер подлинно национальной проблемы.
— И с течением времени она возрастает, — добавил Мондрагон. — Она усиливается по мере того, как ликвидируются старые отрасли промышленности, исчезает ремесленничество, под всякими предлогами — и совершенно необоснованно — сокращаются посевные площади таких культур, как, например, табак.
— Это весьма сложный, да, чрезвычайно сложный вопрос… — проговорил священник, чтобы все-таки не остаться в стороне от дискуссии.
— Кстати, хотелось бы знать, если святой отец…
— Падре Сантос, а не святой отец! [11] — возмутился священник.
— Хотелось бы знать, падресито Сантос: что имеет в виду ваша милость — проблему ли времени, которую мы обсуждаем, либо великий синоптик занят своими метеорологическими наблюдениями? — иронически спросил учитель Гирнальда.
— Мы так никогда не выпутаемся из спора, — взмолилась Малена. — Как будто все пришли к выводу, что, если эти люди поймут значение времени, то время вернет им богатства. Отсталость нашего населения вызвана также и тем, что у большинства жителей время вычеркнуто из календаря. Однако никто не побеспокоился включить это большинство в наш современный календарь; вот почему эти несчастные остались без календаря, как бы вне времени.
— Это еще не самое худшее, — поддержал ее Мондрагон. — Необходимо сознавать, что время — это богатство, и следует его использовать продуктивно.
— Time is money! — воскликнул падре Сантос.
— Или вспомним старинное чудесное мавританское изречение, падре, — и учитель Гирнальда с пафосом продекламировал: — …время — не золотая ли это пыль, иль бивни слона, иль перья страуса… — Известно, что еще на вечерах в студенческие годы он срывал немало аплодисментов за исполнение монологов из древних трагедий. Гирнальда вернулся к предмету спора: — Превосходно, сеньорита Табай и сеньор Мондрагон, вот и получится, что будет механизированное время, а люди — меха… ха-ха… нические…
— Ну это уж словоблудие!.. — Священник расхохотался.
— Не прерывайте меня, падре. У нас люди уже механизированы. И что ж, благодаря этому они стали счастливее?
— Наш удел — плачевная юдоль, и в сем мире мы — явление преходящее, — провозгласил священник, — а счастливы будем только на небеси. — И речитативом произнес: — На небо я пойду, на небе благословлю…
— О проблеме счастья мы не спорим, учитель, — подчеркнул Мондрагон и, обратившись к Малене, спросил: — А ты как думаешь?
Малена с укором посмотрела на него: никто из присутствующих не знал, что они перешли на «ты».
— И, кроме того, — заключил Мондрагон, — чаще всего слышишь, что счастье в пассивности, в терпении, в покорности — так говорят, чтобы беднякам легче было смириться с нищетой. Какой-нибудь прохвост, заглянув в нашу провинцию, ораторствует: «Они бедны, но они счастливы!» И вы, учитель, не хотите, чтобы мы лишали их именно такого счастья?
— Мы здесь обсуждаем… — Малена опередила учителя Пьедрафьеля, который, собираясь ответить, поправил галстук и, втянув руки в рукава, пощупал кончиками пальцев манжеты. — Мы здесь, если позволите мне резюмировать, обсуждаем, следует ли поднимать уровень жизни и культуры жителей нашей провинции соответственно нашему времени. Простите, но мне это напоминает дискуссию у постели тяжелобольного, который уже при смерти, — дискуссию по поводу того, следует ли оставить его агонизировать, ибо, на наш взгляд, в агонии он счастлив, или нужно дать больному лекарство, чтобы он вылечился, чтобы он жил. Целесообразно ли механизировать время или нецелесообразно?
— Это, разумеется, не ставится под сомнение, — согласился Пьедрафьель. — Бремя мертвого времени, которое мы вынуждены тащить на себе, сводит на нет все наши стремления к прогрессу, однако, не жонглируя термином «счастье», мы спрашиваем себя: во имя чего все это делается? Во имя добра или зла для людей?
— Во имя добра. А по-твоему, нет?… — обратилась Малена к Мондрагону и тут же спохватилась, что нечаянно сама обратилась к нему на «ты». Такая фамильярность вряд ли понравится учителю Гирнальде.
— Во имя добра? — переспросил учитель и, резко повернувшись к ней, бросил: — А разве кто-нибудь знает, что такое добро?
— Я… — возразил падре Сантос, — я знаю, что такое добро и что такое зло… Моя теология… моя теология…
— Этого никто у вас не оспаривает! — перебил его Пьедрафьель и, поправив галстук, втянул руки в рукава пиджака, опять пытаясь кончиками пальцев прихватить накрахмаленные манжеты сорочки. — Никто не оспаривает вашу теологию. Но если бы здесь спорили: падре — без сутаны, сеньор — без своей формы, а мы с сеньоритой Табай — без учительской тоги…
— Нагие? — воскликнул падре Сантос и торопливо перекрестился.
Малена и Мондрагон засмеялись.
— Святой отец…
— Падре Сантос, ради бога! Падре Сан…тос!
— Не обращайте внимания, — вмешалась Малена, — он вас поддразнивает, а кроме того, он уроженец Никарагуа, говорит с акцентом, и вы его просто неверно поняли.
— Позвольте сказать. Я имел в виду, что нам следует дискутировать без тех ограничений, которые накладывают на нас сутана, форма или тога… чтобы мы обсуждали все с позиций естественного отбора.
— Осторожнее с Дарвином! — снова воскликнул священник.
— Ну, пламя начинает разгораться!.. — подал реплику Мондрагон. — Пусть падресито прежде ублаготворит наши малые пороки. У меня кончились сигареты.
— С большим удовольствием, Мондрагон, с большим удовольствием, — падре повернулся к нему и протянул мексиканский кожаный портсигар, на одной стороне которого было вытиснено изображение покровительницы Мексики — Гуадалупской богоматери, на другой — мексиканский герб. — Ублаготворяю ваши малые пороки. Ради господа нашего пусть человеколюбивый предает себя в руки тех, кто клевещет, чернит и бесчестит его… — Священник искоса взглянул на учителя Гирнальду. — А для вас у меня припасена бутылочка сладкого винца, — не знаю, ублаготворит ли, — и ягоды хокоте и плоды мараньона — в жареном виде, соленом и… иностранном… Получены они в коробках, на которых написано «made in…», а где именно — это вы знаете…
Малена прервала его:
— Не знаю, что предложить сеньорам. Кофе — он уже готов — или вина?… — Она обратилась к Сантосу: — Как вы, падре?
— Вина! Вина! — потребовал учитель Гирнальда; он встал, держа на весу цепочку с ключами, на которой висели также штопор и консервный нож.
— В таком случае пойду за рюмками! — Малена поднялась.
— А у меня кое-что есть в джипе… — вспомнил Мондрагон и направился к выходу.
— Падре, — учитель Гирнальда поспешил воспользоваться уходом остальных, — похоже, что дела-то из рук вон плохи.
— Так говорят, говорят, говорят, учитель, но никто ничего толком не знает.
— Толкуют о каком-то заговоре… У вас, очевидно, есть какие-то сведения…
— Вот так здорово! — послышался с порога голос Мондрагона. — Что за чудеса: похоже, наш учитель исповедуется…
— Я говорил с падре относительно всяких слухов, — отпарировал Пьедрафьель, — говорят, раскрыт заговор, которым, как оказалось, охвачена вся республика. Поскольку вы живете вдали от города, то, очевидно, не в курсе дела, однако падресито должен кое-что знать… Но он не говорит, не хочет…
Мондрагон положил на стол завязанную в узел салфетку. Священник бросил на нее взгляд шаловливого ребенка, потер руки и даже облизнулся.
— Жаркое… как аппетитно!
На банановых листьях — зеленых, глянцевитых — лежали свиные шкварки, вызвавшие восхищение священника.
Вошла Малена, передала Мондрагону поднос с рюмками и села за стол.
— А вы? — спросила Малена учителя.
— Я обожаю шкварки, я ведь тоже принадлежу к числу тех… — он кивнул на падре, — кто при виде свиньи непременно подумает о шкварках и пустит слюнки, но вот беда — у меня больная печень.
Подогнув рукава и жадно вдыхая запах жареного сала, священник храбро сражался со шкварками.
— Какая прелесть, Хуан Пабло! Где это вы раздобыли?
— Подстрелил около лагеря, — ответил Мондрагон, ласково взглянув на Малену. — А я, признаться, не думал, что они тебе понравятся, Мален…
— А я, признаться, и не знал, — подхватил Пьедрафьель, — что вы такие старые друзья. Что за жизнь — встретиться здесь, в этой глуши! Как очевидец, могу засвидетельствовать, что сеньорита Табай очень переменилась.
— Переменилась? — не выдержала Малена, задетая его словами. — Вам показалось…
— Еще как переменилась! Стала более уверенной в себе, более любезной, более общительной…
— И еще спорщицей! — улыбаясь, ввернул словечко Мондрагон.
— Она собирается создать даже вечернюю школу для взрослых, — напомнил учитель Гирнальда.
— Дружба стареет, как хорошее вино, с годами она становится крепче и крепче, — изрек падре Сантос, тщетно пытаясь вытащить из кармана сутаны платок, чтобы обтереть замасленные руки и рот.
— Ах, простите, я забыла салфетки!.. — извинилась Малена.
— Я знаю, где они. — Мондрагон, опередив ее, пошел за салфетками.
— Сеньорита Табай, я не хотел говорить это в его присутствии, — разоткровенничался учитель, — однако, с тех пор как сюда прибыл друг вашего детства, вы расцвели, у вас праздничное лицо…
— Что ж, это естественно, — произнес падре, — они знали друг друга много лет и, снова встретившись, почувствовали себя счастливыми… На лице написано — не скроешь…
— Вот ваш портсигар, падре, — сказал Мондрагон с порога, — если я не верну сейчас, чего доброго забуду…
— О, этого мне не хотелось бы! Я храню портсигар как память о моем посещении девы Тепейяка. Кстати, вам, поклоннику индейского искусства, может, небезынтересно узнать, что этот портсигар — образец творчества ремесленников Мексики.
— И у нас такие ремесла есть, — возразил учитель Гирнальда.
— Да, но они обречены на исчезновение, — заметила Малена, — никто их не поддерживает, они попадают под чужеземное влияние и потому обречены на гибель. Чего же еще ждать?
— Вам следовало бы быть министром…
— Я им и буду…
Внезапно ее мозг молнией прорезало воспоминание…
Нервным движением она подняла руку и запустила пальцы в темные волосы. Серропом… таратайка… Кайэтано Дуэнде… его таинственные слова… «Видишь, вон те скважины-звезды в небе, твои пальцы — ключи к ним».
За разговором время пролетело незаметно, и, когда гости направились к джипу, луна стояла уже высоко в небе.
— Королева! Королева-звезда! — громко проскандировал учитель Гирнальда в тишине улицы и тут же сменил монархическую речь на республиканскую: — Первая дама неба!..
Объявив луну не более не менее как супругой неведомого президента, учитель поспешно ринулся в атаку против клерикалов:
— Отец святой, а все-таки и у вас бездна пороков!..
Священник, обмотав серый шерстяной шарф вокруг шеи и закрыв уши, уже ничего не слышал, но, заметив, что Малена и Мондрагон разразились хохотом, тоже рассмеялся.
Они с трудом втиснулись в джип. Падре завезли на его Голгофу, Пьедрафьеля оставили возле мужской школы.
Мондрагон направился в лагерь; по дороге он часто останавливался, проверял, не следит ли кто-нибудь за ним. Но его сопровождала только луна, то и дело выглядывавшая из-за облаков.
Удостоверившись, что джип отъехал, учитель решил пройтись по кварталу, где находилась женская школа. Тяжелое, долгополое пальто темно-кофейного цвета, тяжелая голова с пышной шевелюрой, на которой покоилась тяжелейшая широкополая касторовая шляпа, усищи, казавшиеся тяжелыми оттого, что напоминали цветом бетон, тяжелые ресницы, все у него было тяжелым, грузным — даже массивные часы, тикавшие на массивном животе, — однако он становился на удивление легкомысленным, как только дело касалось юбок.
Мондрагон остановил свой джип с математической точностью именно в том месте, где несколько дней назад судьба в образе какого-то животного задержала джип дорожника. Внимательно оглядевшись — лучше еще раз проверить, не следит ли кто, — он исчез в кустарнике. Вход в подземелье он отыскал сразу. Освещенный луной, вход был похож на паперть готической церкви, прикрытой листвой. Вампиры и мелкие летучие мыши, расправив крылья и повиснув вниз головой, спали, не то нежились в лунном свете. Луч электрического фонарика — странное, незнакомое сияние — заставил их забеспокоиться; некоторые встрепенулись, но не тронулись с места, другие вслепую ринулись в залитое луной пространство. Мондрагон сделал несколько шагов и, прижимаясь к стенке, спустился в пещеру. Это была зала потерянного эха, от нее ответвлялись какие-то переходы, галереи.
Довольный возвратился он в лагерь. Там спало все, даже осиротелые машины. При лунном освещении каток выпячивал свой тяжелый цилиндрический вал, словно застывший каскад водопада; каток будто ждал, когда камнедробилка начнет разбивать на кусочки луну, которая убегала и убегала по канавкам и вместе с водой сливалась в водоемы, а в водоемах струйки ткали огромную паутину концентрических кругов — сталкивались они друг с другом и расходились, сливались друг с другом и опять разбегались и, наконец, уплывали неведомыми путями. Каков-то будет его путь?… И каков путь Малены?…
— Ты неосторожен… — выговаривала Малена Мондрагону несколько дней спустя; ее лицо выражало крайнее недовольство. — Уже поздно… и джип могут заметить у ворот школы…
— Я пришел пешком. Не мог выдержать целую неделю, не повидав тебя! Я жду не дождусь воскресенья — нет сил! Вот оставил джип и пришел в штатском.
— Но ведь сегодня понедельник, чудак ты этакий. Всего один день…
— Целая вечность!.. Теперь я понимаю, что называется веками, промелькнувшими, как одна минута, и что такое минуты, которые тянутся, как столетия… Ты колдунья, Мален!..
— Хуан Пабло!
— Твои руки и сладость твоего молчания — больше мне ничего не надо!
— Мне больно… — Она пыталась высвободить руки, но Мондрагон привлек ее в свои объятия.
— Нельзя… — еле вымолвила она.
— Вся любовь — это вечное «нельзя»…
— А наша — тем более.
— Почему твой голос звучит так странно! Будто говорит кто-то другой… Мален!.. Мален!..
Мондрагон поцеловал ее — страстным, долгим поцелуем.
— Задушишь!
Их голоса прерывались; руки перелетали, переплетались, ласкали, трепетали, как языки пламени под ветром.
Как ненасытны руки любящих!
— Хуан Пабло, это невозможно…
— Любовь — это искусство невозможного, а поскольку ты забыла себя, целиком отдавшись чувству…
— Я не забываю себя, — прошептала Малена; она приложила указательный палец к губам, требуя, чтобы он замолчал, но уже не уклонялась от поцелуев. — Что со мной? Я околдована…
— Без любви нет волшебства…
— Любовь… — произнесла она со слезами на глазах, — не знаю… — и после краткой паузы, покачав головой, добавила: — Подлинная любовь — это мечта… для меня недосягаемая…
— И это говоришь ты, Мален! Настоящая любовь вдохновляет нас на борьбу, призывает мечту сделать явью.
Мален с трудом прервала жгучий поцелуй.
— У меня нет никакой мечты! — сказала она смущенно и даже грустно, будто на исповеди, и, помолчав, прошептала: — Мне остались лишь крохи любви!..
— Мален!
— Я не утешаю себя!.. И никогда не найду утешения!..
Молча поднялась и, вздохнув, ушла в библиотеку. Там за толстыми томами в красных переплетах, на корешках которых можно было прочесть «Зоотехника и ветеринария», у нее хранилась шкатулка. Она вынула какую-то тетрадь. Передала ее Хуану Пабло.
Не проронив ни слова, она вернулась в библиотеку и прислонилась спиной к книгам. Как она была сейчас хороша — стройная, точеные плечи, высокая и упругая грудь, узкие бедра, красивые руки, изящная головка. Как хороша — и как печальна!
Мондрагон сначала бегло перелистал тетрадь, задержавшись лишь на нескольких записях, — это был ее дневник. Затем начал читать с большим интересом:
«Суббота, 3 декабря 192… Получила письмо от Луиса Фернандо. Ему остался только государственный экзамен — и он медик. Я счастлива! Это триумф моей любви, теперь день нашего бракосочетания уже недалек.
Пятница, 15 февраля 192… Пошла к китайцу подобрать ткань. Но так ничего и не выбрала. Закрылась у себя и плакала. Луис Фернандо прислал прощальное письмо, в котором лаконично сообщает, что невеста студента не может быть супругой врача; он собирается открыть собственную клинику и поэтому должен жениться на богатой.
Понедельник, 4 июля 192… Офицер из местного гарнизона пытался сделать меня своей любовницей. Он напился пьяным и все мне выпалил, буквально все. В ответ я сказала ему то, что о нем думаю. Это произошло на балу по случаю годовщины независимости Соединенных Штатов. Он выхватил револьвер и пригрозил, что если я сделаю хоть один шаг, он выстрелит мне в спину. Я закричала: „Лучше быть убитой!“ Ему пришлось убрать револьвер в кобуру.
Вторник, 17 августа 192… Мне думается, мой час уже наступил. Я была счастлива с X. Э. на его асьенде. Он — скотовод. X. Э. хотел надеть мне на палец кольцо в знак помолвки, но я попросила подождать: пусть кольцо будет обручальным… в церкви, в день нашей свадьбы. Торопливость в таком случае — плохая примета. И правильно сделала. В тот же вечер в ответ на просьбу выплатить поденные он избил одного из батраков. Человека, зверски избитого тем, кто собирался стать моим мужем, доставили со связанными руками в военную комендатуру; его обвинили в конокрадстве. X. Э. вернулся и сказал: „Этого бунтаря расстреляют. В прошлый раз я передал в комендатуру двоих смутьянов — они требовали повышения заработка; так их не расстреляли, а закопали живыми в землю“. Сеньор Президент, когда его спросили, что делать с бунтовщиками, которые требуют повышения заработка, ответил: „Хоронить их живыми или мертвыми“. Больше X. Э. я не видела… Как только вспомню о нем, мне сразу становится не по себе.
Ноябрь, 9, 193… Приехала в столицу на каникулы и познакомилась с Л. К. Это произошло на балу в военном казино. Я танцевала, пила шампанское, вышла с ним на террасу полюбоваться звездным небом, даже позволила ему поцеловать мои волосы, позволила обратиться ко мне на „ты“ — но все очарование этого вечера мгновенно улетучилось: все закончилось тем, что он оказался значительно моложе меня, и…»
Прежде чем Мондрагон успел вымолвить слово, Малена, все еще стоявшая в библиотеке, заявила:
— А сейчас я хочу, чтобы ты ушел. На будущей неделе я приеду к тебе в лагерь, и мы поговорим. Сейчас мне надо остаться одной…
И, пока он удалялся, она долго стояла, застыв неподвижно, как изваяние на носу древнего корабля — высоко подняв голову и опустив руки; стояла и плакала, не вытирая слез, а слезинки скатывались по ее напудренному лицу и засыхали лепестками.
X
Когда молоденькой «учителкой», только что прибывшей в Серропом, ты заглянула в зеркало пансиона Чанты Беги — это было четыре тысячи пятнадцать суток назад; ну, одним днем больше, одним меньше — не важно, за одиннадцать лет можно и ошибиться, — то увидела отражение призрака. Тот же самый призрак смотрит на тебя сейчас: желтая кожа, ввалившиеся глаза, жесткие волосы, чуть заметные следы слез.
Но тогда всему причиной было другое. И ты была моложе, крепче; тебя в ту пору еще не так побила жизнь. В то время у тебя не было желания гильотинировать самое себя, уничтожить это отражение, когда ты стояла, прижавшись щекой к холодному, как и ты сама, зеркалу, чтобы не видеть своих заплаканных глаз…
Одиннадцать лет назад ты умела сдерживать слезы, — достаточно было поднять глаза, — но с тех пор столько соленой водички утекло под мечтой, затаившейся в ресницах твоих, что тебе уже все равно, и сейчас ты даже не уверена в том, слезы это или просто лед зеркала растаял на твоем платке…
Решись! Пойди к нему, положим, якобы для того, чтобы поговорить о благотворительном базаре, и, как бы невзначай, спроси: «Падре Сантос, не знаете ли вы что-нибудь о Мондрагоне? Мы условились на этой неделе встретиться и вместе отправиться на Серро-Вертикаль, но с тех пор я его не видела…»
Бессовестный!..
Отругай его. Выскажи ему все, что думаешь о нем!
Самовлюбленный тип!.. Эгоист!.. Комедиант!.. Тщеславный глупец!.. Вести себя так по-мальчишески!.. Ханжа!.. Тоже мне, пуританин нашелся!..
Право, лишь ничтожество могло бы считать себя раненым, задетым, оскорбленным твоим дневником!
Честолюбец! И он еще осмелился ухаживать за директрисой женской школы в Серропоме…
Не плачь!.. Не плачь!.. Он появился здесь, чтобы нарушить твой покой… Ты должна была это предвидеть… Должна была предвидеть!
Впрочем, он не виноват. Это ты виновата. Зачем ты дала ему читать свой дневник?… Что толкнуло тебя передать в его руки эту скудную любовную бухгалтерию? Подтвердить так глупо и мещански свои же слова, что в твои двери еще не стучалась великая любовь, о которой ты мечтала, о которой мечтают все, кто к середине жизни пришел ни с чем? Открыть перед ним вселенную твоего одиночества, чтобы он вошел в твой мир и сжалился над твоим сердцем?… Вручить ему дневник как свидетельство доверия? Неужели мужчина, который, по твоему мнению, обладает передовыми взглядами, вместо того чтобы воспринять это как акт вручения твоей души, испугался?
Нет, ты сама еще не знаешь, почему так поступила, почему не поразмыслила над тем, о чем так много думала раньше. Да, малопривлекательным может показаться мир женщины, которая — по мере того, как уходят годы, — оказывается в одиночестве, замкнута в своем внутреннем мирке, населенном мечтами и привязанностями. Ты, отчаявшись, хотела бы присвоить их себе, украсть… Увы! Это уже недостижимо, они задерживаются лишь на какие-то краткие мгновения, часы, дни… Может, если бы ты была учительницей по призванию, все повернулось бы по-другому, но ведь ты избрала эту профессию в силу обстоятельств и, отрешившись от мира, уединилась в горах, словно под монастырскими сводами, уединилась потому, что навсегда сломлена разочарованием в первой любви… А где он — тот, другой? Он по-прежнему живет в столице… женился на богатой женщине намного старше его, которая купила ему клинику… овдовел, снова женился… облысел… Обзавелся кучей детей… Больше ты его не видела… Ты — учительница по необходимости… В первые годы отношения с учениками придали было тебе черты материнства, но потом ты очерствела, стала похожа на мачеху, поняв, что дети — не твои, что они, улыбаясь, пробегают мимо, оставляя тебя одинокой, что никакой роли в твоей жизни они не играют, кроме тех часов, пока ты находишься вместе с ними в школе… Маленькие неприятели… крошечные неприятели, поклевав из твоих ладоней первые крошки знаний, они улетают навстречу жизни, покидая тебя, оставляя тебя еще более одинокой, с рукой, протянутой, как у нищей, в бесконечность… Такой тебя и встретил Хуан Пабло… с протянутой рукой, в ожидании большой любви… Встретил — и не вернулся…
Ты ждала весь вторник, всю среду, весь четверг, всю пятницу, всю субботу — до этого позднего часа… Он не вернулся…
Больше всего ты этого боялась — невозвращения. В какое-то мгновение ожидания может начаться вечность.
Под его поцелуями твои глаза горели огнем. Теперь они — плачущая мгла. Не закрывай их! Взгляни сквозь туман слез на эти комнаты, где еще недавно раздавались звуки его шагов! Не закрывай глаза — пусть он, который должен был остаться рядом с тобой живым, не витает незримой тенью! Не превращай его плоть в воспоминание! Не превращай в воспоминание его облик! Гони его прочь из своего сердца, если он не вернется, гони его прочь из памяти!
Но как просить камень, чтобы он стряхнул с себя звездную пыль, заставляющую его расти, как просить тебя отказаться от веления сердца!..
Отказаться — нет!.. Изгнать его прочь — тем более!.. Ждать его… ждать с терпением камня!..
Весь вторник… всю среду… весь четверг… всю пятницу… всю субботу — и в этот поздний час ты раздумываешь: придет ли он завтра, на традиционную воскресную встречу?
Вероятнее всего, придет: он может появиться, ничем не рискуя, он же холостяк. Он придет несколько позднее остальных, рассчитывая, что гости — и падре Сантос, и учитель Гирнальда — начнут дискуссию, и уйдет вместе с ними, не подавая виду, будто понял все, что с тобой происходит.
Нет, нет, если так, пусть лучше не приходит, пусть останется в своем лагере, пусть провалится сквозь землю!
Как страшно оставаться одной, наедине со своими мыслями — и в постоянном напряжении, чтобы ни словом, ни жестом, ни даже молчанием не выдать своих чувств!
«Ну как, Мален?» — дружески поприветствует он тебя, явившись в воскресенье; и ты постараешься ответить ему в тон: «Очень хорошо… работаю… до-, воль…»
Сдержи рыдание, не давай воли чувствам, молчи.
Ни к чему вообще это говорить. Достаточно ответить: «Очень хорошо…» — и тогда отношения сразу войдут в новое русло, станут просто дружескими — естественными и спокойными.
Однако нужно ли держать его на расстоянии?
Ах, если бы ты смогла сыграть роль легкомысленной женщины, которая — чтобы убить время — приняла любовь нереальную и лживую.
Хорошо, если бы он появился не в своей белой форме дорожника, а в штатском костюме, том, темном, шерстяном с начесом, и с пурпурным галстуком, под цвет флажка, развевавщегося на 177-й миле, — там, где одиннадцать лет назад остановился поезд. Помнишь, он еще сказал тогда: «Будто реку остановили, чтобы вышла из нее сирена», — а выходила ты…
Придет он завтра в форме или в штатском? А ты — какое у тебя самое нарядное платье? Только не то серое, из плотной шерсти, ты в нем похожа на директрису сиротского дома.
Ну-ка, поройся в своем гардеробе, разыщи украшения! Посмотри-ка, хрупкое горлышко у флакона с духами накалилось на огне, а пробку все же не отдает. Стоп! Нельзя появляться такой разодетой, надушенной, будто на праздник, ведь эти воскресные встречи — нечто почти семейное! Следует хорошенько продумать завтрашнюю беседу… Нет, важнее всего сейчас — чтобы он явился. И, быть может, по твоему лицу, несмотря на все слова, которые ты скажешь, он поймет, чего стоили тебе эти дни и ночи. Если бы не работа в школе, заполняющая время, можно было бы сойти с ума. «С тех пор как Мондрагон приехал в Серропом, сеньорита Табай очень переменилась», — заметил в прошлое воскресенье учитель Гирнальда. Праздничное лицо… Что ж, и четырех с половиной суток достаточно, чтобы праздник сменился трауром и лицо потемнело от слез…
Наклонив голову, ты идешь по пустым классам. Какое оживление царило здесь совсем недавно! Но прежде классы и после уроков не казались тебе пустыми. Их наполняли твои надежды, твоя радость.
Оставь иллюзии, ты ведь сама устроила себе западню. Так часто случается в любви. Сама попадаешь в собственные силки, а потом жалуешься и плачешь. Откуда ты взяла, что для него все это не было просто развлечением?…
Помаши платочком на другой станции — на безыменной станции с флажком, и скажи «прощай» милому образу!
Вечер изумительного сияния. Даже этот вечер зовет к жизни. Свет разливается, разгорается ярче и ярче, прежде чем погаснет в вечерней заре.
Звуки пианино и хор голосов. Осуши слезы. Приведи в порядок волосы. И вернись в этот мир, принадлежащий тебе, — мир света, классов, учениц…
— Добрый вечер, сеньорита директриса!.. Добрый вечер… Добрый вечер, сеньорита директриса!.. — Девочки идут тебе навстречу, протягивают руки, и учительница Ана Мария Кантала, которая по субботним вечерам занимается со школьным хором, отходит от пианино, здоровается с тобой.
— Вы больны, сеньорита директриса… — говорит Ана Мария Кантала, не то спрашивая, не то утверждая.
— Мигрень… — лжешь ты и подносишь руку к голове, вместо того чтобы поднести ее к сердцу.
— Выздоравливайте, сеньорита директриса… — слышатся голоса учениц. — Выздоравливайте, сеньорита… выздоравливайте… выздор…
Отправляйся немедленно к себе!.. Они не должны видеть тебя такой: рассеянной, измученной, больной…
Невероятно. И это ты… ты, словно вор, шаришь по углам, ищешь что-то, пока тебя никто не видит.
— Сеньо… сеньо… сеньо… сеньо… — Проснулся попугай и завел свою нескончаемую песню. — Сеньо… сеньо… сеньо… сеньо…
Наконец ты нашла, что искала. Пустой глиняный кувшин. Постучала по нему пальцем, прислушиваясь, не надтреснут ли. Ты тайком, будто краденую вещь, уносишь его. Будто это не школа, а чей-то чужой дом. Ты прячешь кувшин в своей комнате — словно хоронишься в собственной тени. Начинается самая долгая в мире ночь. Старая ночь. Древняя. Безграничная…
Немыслимо! До чего ты дошла! Директриса женской школы, прижав губы к горлышку пустого глиняного кувшина, во весь голос зовет мужчину?
Волосы растрепаны, ты дрожишь, ты почти невменяема, ты вышла из обычного круга понятий, и лишь один шаг отделяет тебя от сверхъестественного, от чуда…
— Хуан Пабло!.. Хуан Пабло!.. — кричишь ты в отчаянии, и звук, пока еще только звук, но не эхо, отражается в глубине глиняного кувшина, опаленного огнем.
— Хуан Пабло!.. Хуан Пабло!..
Однако этого мало. Жалобный призыв остается без ответа. Ты выходишь из дома и взываешь к бездонной ночи. И тут свежий ветер успокаивает тебя. Ты начинаешь размышлять — и звезды словно освещают путь твоих мыслей. Мысли, мысли, мысли… Может быть, он заболел? Кто знает, не произошло ли с ним что-нибудь? Несчастный случай?… Все может быть… Но тогда он прислал бы нарочного… У него ведь столько помощников, пеонов — мог бы уведомить тебя. Письмо, листок бумаги — это так просто. А если его срочно вызвали в столицу? Тогда — телеграмма, простая телеграмма. Ах, что за жизнь! Увидеть бы только подпись «Мондрагон». Хотя бы под двумя словами — и ты была бы счастлива, стала бы счастливее всех на свете. А каких-то одиннадцать лет назад это имя ты прочла в конце телеграммы-молнии: «Нечаянно вы оставили мне кое-что. Спасибо, Мондрагон» — прочла и осталась равнодушной!
— Хуан Пабло!.. Хуан Пабло!.. — Твой голос отдается в пустоте кувшина. Ты уверена: он близко, он тебя слышит, он облегчит твою тревогу, твое отчаяние — и ты выкликаешь его имя, жадно прильнув к горлышку глиняного кувшина, у которого тонкие звериные уши, зад идола, округлость луны.
Это первобытный, примитивный телефон — голос и эхо; он служит сердцем звуку, бьющемуся в пустоте. Телефон, который во что бы то ни стало донесет твои призывы. Конечно, он услышит тебя и завтра явится на традиционную воскресную встречу. А может быть, он рассердился на тебя за эти маленькие и невинные увлечения, о которых он прочел в твоем дневнике, может, он считает, что ты должна была ждать его? Его… Его… хотя он лишь мелькнул перед тобой в поезде… Как самолюбивы эти мужчины!..
Впрочем, и женщины тоже…
А ты разве не считала, не была уверена, что Мондрагон вернется на следующий же день, попросит тебя объяснить все и под этим предлогом будет настаивать, чтобы ты выполнила свое обещание — поехала с ним в лагерь?…
Признайся, ты на это рассчитывала. И именно поэтому тебе еще больней, что он не пришел. Пусть придет хотя бы для того, чтобы взять тебя в плен, одну в его палатке, готовую на все — в его объятиях…
— Хуан Пабло!.. Хуан Пабло!..
Нет, не произноси только его имя — скажи, чтобы он пришел завтра, проси не пропускать завтрашнюю встречу… Напомни ему, что завтра — воскресенье… ведь он должен почувствовать, что ты зовешь его… И пока его имя отражается эхом в глиняном кувшине, он думает о тебе.
— Кувшин!.. Кувшин!.. Повтори заговорные слова… Именем земли, из которой ты сделан, именем огня, который тебя обжигал, именем воды, которую в тебя вливают, и моим дыханием, которое сейчас наполнило тебя именем любимого, я заклинаю: пусть он вернется, не оставляй его в покое, пока не возвратится, пусть он услышит и повинуется зову земли, огня, воды и воздуха…
— Хуан Пабло!.. Хуан Пабло!..
И следом за твоим голосом ночной бриз призывает его своим дуновением, устами луны, горлышком пустого кувшина.
Ты просыпаешься, не понимая, то ли ты спала, то ли плыла — вне времени — по остановившейся реке, и чувства твои были где-то вне времени и пространства… это служанка принесла завтрак или уже наступил час идти к утренней мессе… Ты потягиваешься, встряхиваешься и снова возвращаешься к жестокой действительности.
— Должно быть, уже поздно, — говоришь ты себе и спрыгиваешь с постели, босиком бежишь в душевую, сбрасываешь ночную сорочку, натягиваешь резиновую шапочку и становишься под душ голубоватой, кристально-прозрачной холодной горной воды.
— А что делать с этим старым кувшином, что лежит в вашей комнате, что с ним делать, сеньорита?…
Из-за шума воды голос служанки кажется далеким, еле слышным… Смешно?… Конечно, смешно было звать его с помощью кувшина, но что оставалось делать?…
— Что делать с ним, сеньорита? — настаивает служанка.
Ты не отвечаешь, ты объяснишь, как только выйдешь из душевой: кувшин принесла для пиньяты.
И пока ты моешься, другая служанка спрашивает, надо ли вытаскивать стулья из директорской на веранду, как всегда, по воскресеньям.
Ты ответишь ей, что надо, и заодно спросишь, который час.
— Половина третьего, сеньорита…
И услышав, что ты поспешно выходишь из душевой, сорвав полотенце с вешалки и громко хлопнув дверцей шкафа, она будет расспрашивать тебя, не приготовить ли на завтрак что-нибудь особенное, хорошо ли ты провела ночь, не больна ли, чувствуешь ли себя лучше, и непременно, между прочим, добавит, что не стала тебя будить к утренней мессе, потому что ты крепко спала, — ведь в последние дни ты выглядела такой усталой.
На завтрак, как обычно, кофе, поджаренный хлебец и масло; самое главное — надо успеть приготовить угощение для гостей — сандвичи, печенье…
Надо успеть причесаться, одеться и пройти в маленькую столовую рядом со спальней.
Букет?! Ты даже не спрашиваешь, кто его послал… Букет камелий… Алых камелий?…
Ты не спрашиваешь, кто его послал?…
Одиннадцать лет назад ты забыла их в поезде, и вот сейчас они здесь, в твоей столовой!..
Подойди к ним, это не сон… Взгляни на них… Что ты делаешь?… Ты же оборвешь лепестки… вздрагивают твои руки, трепещут твои губы, целующие цветы… увлажнены счастьем твои глаза… Ах! Ты хочешь приколоть цветы к груди, хочешь появиться так на встрече с друзьями — «словно сердце пламенеет», но, может быть, этого не следует делать: здесь так цветов не носят — чего доброго, попадешь на острый язычок учителя Гирнальды.
Голос падре Сантоса возвращает тебя из мира внутренних голосов, в который ты погружена, а в душе возникает чувство благодарности — нет, не напрасно выкликала ты его имя в кувшин. Ты опускаешься в кресло и вспоминаешь, что еще вчера, отчаявшаяся, измученная, временами, казалось, терявшая разум, то падала без сил в это кресло, то вставала; а сегодня затихла в нем, покорилась, стала неподвижной песчинкой… и не знаешь, как справиться с огромным счастьем, которое исчезло было с этими цветами и вот теперь снова возвращено жизнью.
Не трудно понять, зачем пришел падре Сантос. Он опередил всех, чтобы, оставшись с тобой один на один, попрекнуть тебя за то, что ты не была на мессе.
— Добрый день, Малена… — Он поспешно подошел, расстроенный, взволнованный, беспрестанно озираясь по сторонам. Не дождавшись, пока Малена ответит на приветствие, он, еле переводя дыхание, продолжал: — Я пришел пораньше, искал тебя. С нашим дорожником случилась беда… Мы можем разговаривать здесь?… Или лучше в другом месте…
— Пойдемте в директорскую… — почти беззвучно произнесла Малена пересохшими губами, в один миг представив себе все возможные несчастья: обвал на дороге, джип на дне пропасти, взрыв динамита.
Мертв?… Ранен?… Что с ним?…
— Идем, дитя мое, идем… — торопил ее священник.
Войдя в директорскую, он попросил закрыть дверь на ключ.
Малена в нерешительности остановилась.
— Запри, пожалуйста, дверь… — настаивал священник. Услышав, как в замочной скважине щелкнул стальной язычок, он рывком расстегнул верхние пуговицы сутаны и вытащил газету.
— Смотри… — Он развернул газету перед глазами Малены, руки его тряслись.
Малена, охваченная тревогой и нетерпением, — хотя мысль о несчастном случае уже укрепилась в ее сознании — выхватила газету. Где это произошло?… Погиб?… Ранен?… Когда это случилось?… Вчера?… Сегодня?…
«В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС!» — прыгали в ее глазах огромные буквы заголовка на первой странице… — «РАСКРЫТ ЗАГОВОР ПРОТИВ ГОСПОДИНА ПРЕЗИДЕНТА… ТЕРРОРИСТСКОЕ ПОКУШЕНИЕ!! ЗАМЕШАНЫ…» — и далее имена, фотографии. «Часть заговорщиков арестована, — сообщала газета, — но некоторым удалось скрыться, ведутся розыски, вскоре террористы будут в руках полиции».
Взгляд ее остановился на фотографии Хуана Пабло Мондрагона — снимок этот был не только самый большой, но еще и заключен в рамку. Подпись гласила, что власти обещают награду в 5000 долларов тому, кто доставит его живым или мертвым.
Ошеломленная Малена оперлась о письменный стол, выронила газету — силы покинули ее, и она рухнула бы на пол, если бы священник не подставил ей стул; своей шляпой с поднятыми полями он стал махать перед ее лицом, налил из графина воды.
— Понимаю, дочь моя, все понимаю и сочувствую. До сих пор сам не могу прийти в себя — меня дрожь охватила, когда прочел сообщение. А ведь мы были друзьями Мондрагона, теперь и нас попытаются замешать в это дело… обрати внимание, должно быть, он один из организаторов заговора — за его голову обещают пять тысяч долларов… живым или мертвым… Но не убивайся, пойдем и помолимся, чтобы его не схватили, хотя ты, вероятно, стала уже почти еретичкой — я что-то не видал тебя сегодня на мессе… Ты не была?…
— Я вначале подумала, что вы пришли из-за этого… сделать выговор… я не была на мессе…
— Нет, нет, меня поторопило другое — ничего не говори учителю Гирнальде; пусть он узнает обо всем не из наших уст. Газета пришла вчера вечером, а утром он прислал спросить, нет ли газет, но я ответил, что еще не получал. Я не солгал, ибо действительно не я получил газету, а служанка.
Малена подняла газету и начала читать вслух:
— «Хуан Пабло Мондрагон, лицо с чрезвычайно опасным прошлым, до момента раскрытия заговора выполнял обязанности начальника зоны дорожных работ в Энтресерросе. Обвиняется в том, что он поставлял для изготовления бомб взрывчатку, которая хранилась на дорожных складах. Кроме того, ему было поручено вести грузовик, который должен был преградить путь автомобилю президента, заставив его снизить скорость. Этот момент собирались использовать для террористического акта против главы государства. Бомбы и адские машины обнаружены у других замешанных…»
— Ну и словечко!.. Замешанных… на чем замешанных? На крови!
— «Мондрагон, — продолжала Малена, — по его утверждению, уроженец Панамы. Там он зарегистрирован как уголовный преступник, контрабандист, занимавшийся перевозкой оружия, спекулянт наркотиками и торговец „живым товаром“. Пока задержать его не удалось, хотя для этой цели еще в понедельник была выделена специальная полицейская бригада, направившаяся в лагерь дорожников в Энтресерросе. Бросив свою машину и переодевшись в штатское платье, он исчез. В руки полиции попали документы и переписка, позволяющие установить, что свыше десяти лет назад Мондрагон бежал в Панаму после вооруженного нападения на фирму сеньора Ронкоя Домингеса, торговца птицами, с целью грабежа. Не обнаружив денег, он, выдавая себя за покровителя животных, открыл клетки с птицами…»
— Замешанные… — повторял падре Сантос, — не нравится мне это словечко, ой как не нравится!
— Нас не заденет. Серропом — такое заброшенное селение, что никто о нем и не вспомнит. Думаю, его и на картах-то нет…
— Читай дальше…
— Все, — Малена оторвалась от газеты, — больше о Мондрагоне ничего нет.
— Есть…
— Это мы уже знаем, падре. Они обещают пять тысяч долларов тому, кто доставит его живым или мертвым, — и снова взяв в руки газету, пробежала глазами строки. — Еще говорится, что полиция допросила почти весь наличный персонал дорожного лагеря, усилила наблюдение на дорогах, в портах, на границе и на железнодорожных станциях, чтобы он не смог сбежать…
— Кто знает, может, он в Серропоме? Я уже обыскал свою церковь.
— Вы предполагаете?… — произнесла Малена и, прищурившись, с удивлением посмотрела на падре Сантоса.
— Я ничего не предполагаю… Но что, если кому-то придет в голову, что он нашел убежище здесь, в школе?…
— Глупости…
— Нет, дочь моя, не такие уж это глупости! И мы должны согласовать свои действия, ибо нас, конечно, вызовут на допрос, не сомневайся… от нас потребуют, чтобы мы показали…
— Нам нечего скрывать, — вздохнула Малена; у нее не хватало сил сдвинуться с места.
— В последний раз, когда мы его видели, — это было в прошлое воскресенье… мы говорили… О чем же мы говорили?…
— Обо всем, о погоде…
— Да, да, о погоде! Я еще тогда говорил о Серро-Вертикаль. Помнишь? О том, что погода изменчива, что небо заволокло тучами… — И после короткой паузы он добавил: — Да… дорожник угощал свиными шкварками, а потом развез нас на своем джипе по домам… сначала меня, затем Пьедрафьеля… Это очень важно. Меня он отвез первым, потом учителя Гирнальду. Значит, я не мог знать — говорили ли они что-либо по поводу заговора. Хотя этого я не допускаю; дорожник — весьма скрытный человек. Единственно, что я могу подтвердить: в моем присутствии он ни о чем другом не говорил — только о погоде…
Малена ни одного слова не проронила, что видела его в понедельник — как раз в понедельник! — одетого в штатский костюм и без джипа. Ее поразило хладнокровие этого человека, который ни в тот день, ни накануне ни одним жестом, ни одним звуком не дал понять, какая опасность ему грозит. Только однажды он чуть было не проговорился, когда она — сама не зная почему заметила, что маленькая школа, затерявшаяся в горах, могла бы послужить надежным убежищем для заговорщиков. Однако и тогда он не выдал себя и сделал вид, что беспокоится только о ней, Малене — не причастна ли она к подпольной деятельности.
И в понедельник он продолжал сохранять хладнокровие, хотя, разумеется, уже предполагал, что к концу дня нагрянет полиция, будет его разыскивать, чтобы арестовать. Желая во что бы то ни стало увидеть Малену и боясь скомпрометировать ее, он пришел пешком, переодевшись в штатское. Эта предосторожность и позволила ему скрыться. Кто знает, как ему удалось исчезнуть, но «во всяком случае, — сказала себе Малена, — моя любовь спасла его…».
— Ты права… — проговорил падре Сантос, думая о чем-то своем, а у Малены упало сердце, ей показалось, что священник прочел ее мысли и эту единственную вертевшуюся в голове краткую фразу: «Моя любовь спасла мою любовь». — Ты права, — повторил священник, — если от нас потребуют сведений, скрывать нам нечего… Да, он был наш друг, как и любой другой…
— Как любой другой — нет!.. Он не любой другой — нет!..
Слезы закипали не на глазах, а где-то в глубине сердца, они подступали к горлу, переполняли, пронизывали все ее существо — и в каждой слезинке бушевала буря, в каждой слезинке — сверлящая боль. Но мало-помалу горе, внезапно обрушившееся на нее, теряло свою остроту, таяло перед необъятностью жизни, и боль сменилась тихой, молчаливой скорбью.
— Не может быть… не может быть… — ломая руки, повторяла без конца Малена. — Падре!.. Падре!.. — Она приникла к груди священника.
— Говори, дочь моя, говори… от меня тебе нечего скрывать… я уже давно заметил твои чувства…
— Ради него, падре, ради него!.. Мне все равно, что со мной будет… Но что, что я могу сделать для него?… («Моя любовь спасла мою любовь… Что я могу сейчас сделать для него?…»)
— Главное — успокоиться. Прежде всего надобно, дочь моя, взять себя в руки. Успокойся, давай подумаем, что можно сделать, конечно, дело не так просто, если за голову человека назначена такая цена…
— Где-то я читала, что прежде… преследуемые по политическим мотивам находили убежище в церквах, так как церковь неприкосновенна, священна… («Моя любовь спасла мою любовь… он мог бы укрыться в церкви…»)
— Прежде… — У священника дрогнул кадык в ошейнике целлулоидного воротничка. — То было прежде, дочь моя, то было прежде, во времена «варварства», а теперь… теперь уводят и беглеца, и священника, и родных священника, а церковь сносят… Зная это, я и решил сам обыскать церковь, чтобы убедиться, что он не укрылся в церкви и не скомпрометирует меня…
— Какой же вы после этого священник?… — отшатнулась от него Малена.
— Такой, как все, из крови и плоти, дитя мое…
— В таком случае знайте, что если он будет искать убежища здесь, в шко…
— Не говори… я не должен этого слышать! — Священник в ужасе воздел руки. — Хотя лучше… — он жестом призвал ее к спокойствию, — …что ты это говоришь мне… — И более сдержанным тоном продолжал: — Не давай себе волю — это может вызвать осложнения! Подумай, ведь он где-то скрывается, бедняга… голова, оцененная в пять тысяч долларов… и многое зависит от тебя, не дай бог, если с тобой что-нибудь случится… Подумай, что будет, если он узнает, что тебя арестовали из-за него?… Он выйдет из своего тайника и сам предаст себя в руки полиции. Подумай об этом…
Малена с благодарностью взглянула на священника и снова подумала: «Моя любовь спасла мою любовь… как я могу потерять его из-за своей неосторожности?…»
— Возможно, — продолжал священник, — что он найдет убежище в одном из посольств…
— Вы правы… — Малена наклонилась, пытаясь справиться с новым приступом рыданий; в холодных руках — мокрый платок, ноги свинцовые, все тело оцепенело.
— Ну, я пойду, скоро четыре, пора идти наставлять паству, — сказал священник. Малена посмотрела на часы («Моя любовь спасла мою любовь… пусть проходит время, им его не поймать, не поймать…»). — Я еще вернусь сюда, но если без меня появится учитель Гирнальда…
— Не хочу, чтобы он приходил!.. — В голосе Малены послышались было резкие нотки, но она тут же сменила тон. — Идите, падресито, скажите ему, что я в постели, что сегодня мы не собираемся, что у меня жар…
— Да, да, пойду. Таков мой удел. А ты не беспокойся, дитя мое. Я передам, что ты больна… хотя, поразмыслив, лучше было бы найти другой предлог, тем более если он знает о заговоре… знает, что наш дорожник числится среди замешанных… Что за словечко, боже мой, что за словечко!.. Замешанных!.. А не лучше ли сказать ему правду?
Малена подняла голову — трудно, очень трудно поднять будто налитую свинцом голову — и с тоской взглянула на падре; бледный как полотно, белокурые: волосы, вздернутый нос, — он так отличался от местных горцев.
— Вот что я предлагаю — это будет правдоподобнее, — продолжал он. — Собери нескольких учениц и, благо погода хорошая, прогуляйтесь-ка к Серро-Вертикаль.
— Кто… я? — Она чуть не отпрянула, прижав руку к груди.
— Да. И Пьедрафьелю скажем правду: пошла погулять.
— Я бы хотела закрыться у себя, никого не видеть… никого… И к Серро-Вертикаль лучше пошла бы одна.
— Нет, дитя мое!.. Сейчас нельзя замыкаться в себе, будет хуже, и хуже всего, если ты пойдешь в горы одна. Вообрази, что вдруг там тебя встретит патруль, один из тех, что посланы на розыски. А запираться у себя — об этом даже и не думай…
— Разве я не могу заболеть?…
— Сейчас — нет… Это может вызвать подозрения… О, господи! — Священник поднял руки (обычно они были прижаты к сутане) и соединил ладони. — Женщины всегда любят все страшно усложнять…
— Видеть людей… говорить с ними… это превыше моих сил…
— Ты должна это сделать ради себя и ради него… В газете — я забыл об этом сказать — сообщается о директрисе одной столичной школы: у нее хранились бомбы, и, когда нагрянула полиция, она сбросила их в колодец… А если ты станешь таиться от людей, представляешь, к чему это может привести?… Ты ведь понимаешь, что в таких случаях достаточно малейшего подозрения…
— Оставите мне газету?
— Для этого я и принес ее, но только спрячь ненадежнее, чтобы в случае чего уничтожить.
Священник направился к двери, а она едва могла собраться с силами и встать со стула, как будто, начиная с этого момента, каждый ее шаг мог оказаться решающим — или по пути к любимому, если он спасется, или по пути к гибели, если попадет в лапы полиции…
— И поэтому тебе надо строжайше придерживаться определенной линии поведения, — наказывал священник, пока Малена поворачивала ключ в двери. — Ты всегда умела владеть своими чувствами, умела избегать ложных шагов, докажи сейчас, на что ты способна. По ночам, наедине сама с собой, можешь дать волю своим самым сокровенным чувствам. В этих четырех стенах, воздвигнутых тобой во славу просвещения, ночью никто не заглянет тебе в душу — но днем… будь начеку!.. Слышишь? Днем ты должна быть директрисой, твердо держащей в своих руках кормило корабля. Потерпел крушение тот, кого ты любишь больше всего на свете, но ты ведь не покинешь корабль в минуту опасности, не бросишь его на произвол судьбы в морских волнах, а напротив, поплывешь вперед — со своим кораблем, со своей школой, со своей любовью, и прибудешь в тихую гавань…
Он мог бы говорить еще долго, но пора было идти наставлять паству, на сей раз не время было демонстрировать свое красноречие, и единственная слушательница — бедная девушка — не сумела бы оценить его сейчас, да и место не совсем подходящее.
Исчез священник — воцарилась воскресная тишина; печальными выглядели пустые плетеные стулья, вынесенные, как всегда, на веранду, — традиционной встречи нынче не будет. Малена автоматически, точно по воле невидимой пружины, двинулась в свою комнату, спрятала газету в письменный стол, закрыла ящик на ключ, заперла дверь директорской и вышла в столовую.
А вдруг алые камелии — это только мираж, только сон? Вдруг все это ей пригрезилось?…
Сердце готово вырваться из груди. Глаза полны слез. Задыхаясь, она целовала, жадно целовала свои любимые цветы — тем более любимые теперь… ведь это послание человека, приговоренного к смерти, — быть может, его последний привет… если его схватят живым — расстрел, убьют, обязательно убьют, лишь попадется…
Да, но кто принес их сюда?… Какая неосторожность с его стороны!.. Голова оценена… пять тысяч долларов тому, кто доставит его живым или мертвым… и эти алые камелии могут стать причиной его гибели… Как найти его, как спасти?…
Позвонить служанке? Нельзя терять ни минуты. Только подумала об этом, и вот она уже в помещении для прислуги — спрашивает, каким образом оказались в школе эти цветы.
— Их принес какой-то мальчик-индеец… — ответила служанка.
— Не сказал, кто его послал? — настаивала она.
— Нет…
— Какой он из себя, этот мальчик? — прерывающимся голосом, полным отчаяния, спросила Малена.
Растерявшаяся служанка мямлила:
— Какой из себя?… Да обыкновенный мальчишка — босой, длинноволосый, без шляпы…
— Но, милая моя, как это можно что-то принимать, не спрашивая, откуда это, кто прислал?… Нужно ведь поблагодарить за цветы, а кого?… — Голос ее оборвался.
— Я всегда спрашиваю, сеньорита, но на этот раз заскочил какой-то мальчишка, он даже не дал мне рта раскрыть. «Вот»… только и успел сказать и убежал…
— А ты не знаешь его? Не рассмотрела его лица? Может быть, ты его встречала раньше?
— Нет…
— Когда что-нибудь приносят — прошу вас всех, обязательно спрашивайте, от кого. Не забывайте…
— Ах, сеньорита!.. Сеньорита!.. — прозвучал за ее спиной голос служанки, голос был веселый — как у человека, который неожиданно выиграл в лотерее: — Знаете, кто принес? Один из мальчишек, что учатся лепить у Пополуки…
— Это точно?
— Почти уверена.
Надежда вспыхивает ярче и быстрее любого пламени. Не теряя времени идти к Пополуке! Если букет алых камелий принес один из его учеников, нетрудно будет узнать, где находится Мондрагон. Она прошла в свою комнату, попудрилась, слегка подкрасила губы, поправила прическу и, возвратившись в директорскую, позвала учительницу Кантала.
— Скажите, сеньорита, вы сегодня не собираете девочек из хора?
— Некоторые должны прийти… думаю, что они уже здесь, сеньорита директриса, — предупредительно ответила та. — Как жаль, что я не знала раньше… Может быть, сеньорита директриса хочет послушать наш хор?… А я, как нарочно, вызвала самых отстающих и недисциплинированных, чтобы отдельно позаниматься с ними.
Малена невольно заставила учительницу Кантала, всегда такую робкую, поволноваться несколько минут — молчание директрисы та расценивала как порицание. Поэтому учительница очень обрадовалась, когда услышала:
— Хорошо, соберите этих учениц. Мы пойдем погуляем немного. Такой дивный вечер…
От волнения голос ее все еще дрожал… Почему она так сказала? Ничего дивного не было в этом странном, призрачном вечере — хотелось закрыть глаза и ничего не видеть, не видеть этот мир, ставший внезапно чужим и враждебным. Но слова все выдержат… Сказать можно что угодно… Какой ужас!..
— Не правда ли, вечер дивный? — переспросила она, дрожа с головы до пят и изо всех сил стараясь справиться с этой дрожью.
Ана Мария Кантала ответила еле слышно: «Да». Она собиралась попросить у директрисы разрешения «поупражняться» за школьным пианино после уроков.
— Зайдите в кладовую, — распорядилась директриса, — возьмите с собой фруктов, после прогулки раздадим девочкам…
Пока учительница ходила в кладовую, Малена, вернувшись в маленькую столовую, расположенную рядом со спальней, старалась успокоиться, взять себя в руки. Она понимала, на что шла, хотя уверенности в своих силах у нее не было.
«Ах, если бы удалось найти свою исчезнувшую любовь, — думала она, прикрепляя на груди букетик ярко-красных камелий, — жизнь отдала бы, только бы еще раз услышать: „Словно сердце пламенеет!..“».
В коридоре ее поджидала Ана Мария Кантала — высокая полная девушка с маленькой головкой и огромными глазами. Малышки из школьного хора шумно приветствовали директрису и наперебой спешили подтвердить оценку своей воспитательницы: да, они самые недисциплинированные.
Босоногие, бедно одетые, они скучились испуганной стайкой, а учительница Кантала, придерживая рукой сумку с фруктами, пыталась водворить порядок, но, не в меру усердствуя, только сбивала всех с толку. Понимая, что она должна идти, не считаясь со своим настроением, — ах, как ей хотелось остаться одной в темноте своей комнаты! — директриса повела девочек к Пополуке. Раз камелии посланы оттуда, значит, старый мастер должен знать, где Хуан Пабло.
— Если успеем, пойдем на Серро-Вертикаль, — пообещала Малена девочкам, — но сначала мне нужно зайти в мастерскую Пополуки, там мы сделаем остановку, и сеньорита Кантала раздаст вам фрукты.
— Большое спасибо!.. Скажите: «Большое спасибо, сеньорита директриса!..» — распорядилась учительница, и по улочкам — каменным позвонкам Серропома — дробно разбилось эхо детских голосов, хором повторявших: «Большое спасибо… большое спасибо… большое спасибо, сеньорита директриса!»
— По порядку!.. Парами!.. Что это такое? — суетилась учительница, размахивая сумкой с фруктами перед рожицами шумливых девчушек; заметив подходившего учителя Пьедрафьеля, она добавила: — Нехорошо, если директор мужской школы увидит этот беспорядок! Идите по тротуару, постройтесь парами!
Пока девчушки становились в пары на тротуаре — босые, жалкие, крошечные, похожие на фигурки из сырой глины, пестрыми пятнышками горели лишь ленточки в волосах, — Малена говорила с учителем.
— Как удачно, что их доставили!.. Какие роскошные!.. — воскликнул Пьедрафьель, приблизившись к Малене.
О чем он говорит?… О цветах?… Об алых камелиях на ее груди?… А откуда Пьедрафьель узнал, что ей их прислали?
Из безудержного потока слов, сопровождаемого непрерывной жестикуляцией, она сначала ничего не могла понять.
— В прошлое воскресенье, когда мы, возвращаясь домой после нашей встречи, расстались на Голгофе с Тату-Индейским попом (так он за глаза называл падре Сантоса), Мондрагон довез меня до школы и, когда мы остались одни, попросил разрешения заказать на мое имя букет красных камелий в столице. А затем я должен был — ipso facto [12] — послать их вам. Его просьбу я выполнил. Но поскольку вас я больше не видел и наша сегодняшняя встреча не состоялась…
— Разве падре…
— Да, да, сеньорита директриса, падре Сантос заходил ко мне и сообщил, что сегодня наше общество не соберется, поскольку вы со своими ученицами отправились на прогулку… — По своему обыкновению приподняв плечи и втянув руки в рукава, он потрогал накрахмаленные манжеты сорочки и продолжал: — Именно так… Мондрагона больше я не видел, и если он у вас появится, не откажите в любезности подтвердить, что вы получили эти цветы и что я пунктуально выполнил его поручение. Он опасался, как бы цветы не завяли… Просил вынуть их из коробки… и передать через какого-нибудь ученика… К десяти лилиям ваших драгоценных пальчиков, от прикосновения которых цветы не только не увяли, но, как вижу, даже будто посвежели, так идут вам эти великолепные камелии. Ах! Женщина… она придает жизни даже цветам… Разумеется, нет необходимости передавать ему все, он увидит, как «сердце пламенеет», и сразу поймет, что его поручение выполнено… Да, да… — Пьедрафьель никак не мог остановиться: — Мондрагон рассказывал мне, что, когда впервые увидел вас в поезде, на вашем костюме красовался букетик камелий и он, еще не будучи знаком с вами, сказал вам эти слова… Не удивляйтесь, не удивляйтесь, что он делился со мной. Вы же знаете, что, когда речь идет о любви, счастливой или несчастной, — обычно делятся с близкими людьми, а этот молодой, очень симпатичный дорожник так сблизился со мной, что я позволю себе сказать: мы стали друзьями еще до того, как познакомились. Славный парень, хороший друг и рассудительный человек. Он немало поездил по свету, и хотя еще очень молод, ему сулят блестящее будущее!
— Поговорим об этом в другой раз, учитель… — прервала его Малена, она почувствовала, что на висках у нее выступает холодный пот; казалось, клейкие липкие слова учителя словно обволакивали ее с ног до головы. По-видимому, он еще не знал о сообщении в газетах, о заговоре и о Хуане Пабло; иначе вряд ли он поздоровался бы с ней и, уж конечно, не стал бы так отзываться о Мондрагоне и расписывать всю эту историю с камелиями.
— Поговорим в другой раз, учитель… — повторила Малена. — Разумеется, если вы не захотите пройтись с нами… — Теперь ей было безразлично, пойдет он с ними или откажется: незачем идти к Пополуке, не о чем его расспрашивать. — Мы идем на прогулку и, вероятно, доберемся до Серро-Вертикаль. Такой дивный сегодня вечер.
— Да, вечерок прелестный… просто драгоценность, сеньорита Табай! Но лучше, пожалуй, будет вам совершить эту прогулку без меня в столь прекрасном сопровождении…
«Вечерок прелестный… драгоценность!» — повторила про себя Малена. Едва сдерживая слезы, она наскоро простилась с учителем и стала догонять учениц. Конечно, лучше бы вернуться к себе, закрыться, пока не станет что-либо известно о человеке, который — кто знает? — может быть, сейчас скрывается где-то здесь, в горах, без крошки во рту, без капли воды. Он бежит днем и ночью, спасается от погони, как животное, как дикий зверь… а она прогуливается… прогуливается, да, прогуливается… Зачем же идти к Пополуке — все и так ясно: алые камелии посланы учителем Пьедрафьелем, директором мужской школы… А если Мондрагона поймали, подвергли пыткам… от пытки — к стенке, а от стенки… кто тогда узнает, где его могила, зароют его как собаку, исчезнет без следа… а она прогуливается — в шляпке, в перчатках, с зонтиком, приколов букетик алых камелий на грудь…
Она ступала неверными шагами, ноги отказывались ей повиноваться; да и зачем идти, зачем идти, если после слов Пьедрафьеля исчезла всякая надежда найти след Хуана Пабло. Что мог сказать ей Пополука о человеке, который за одну ночь превратился в государственного преступника, которого, будто опасного хищника, власти требовали доставить живым или мертвым?… Как быстро все изменилось… Вчера все было так спокойно. А сегодня, когда они могли бы, как обычно, сидеть на веранде, не спеша беседовать или спорить на разные темы, ему приходится спасаться от погони!..
Едва они миновали селение, как их обступили горы — высокие и низкие, одни вершины подпирают облака, другие, вздымаясь над облаками, гордо устремляются к самому небу. Владыки высот и далей.
— Гора-воин!.. Гора-колдун!.. Гора-лев!.. — доносились до ее слуха пояснения сеньориты Кантала, которая указывала на нагромождения голых скал-циклопов. На несколько минут экскурсия замирала в созерцании гигантской вершины, четкими очертаниями напоминавшей профиль воина-индейца; потом все поворачивались к каменной голове колдуна, которую случайно заметила какая-то девчушка, или к растянувшемуся на земле каменному лохматому льву, который виднелся вдали, в безграничном золотом сиянии заката.
— Что за беспорядок!.. — повысила голос учительница. — Не пылите!.. Поднимайте ноги… Не то мы прекратим прогулку и вернемся!
Ах, как она была бы рада вернуться! Зачем сейчас идти к Пополуке…
— Смотрите!.. Смотрите, дети, вон та гора, — показала Кантала, — похожа на большой глиняный кувшин… будто женщина пьет воду из кувшина!..
Малена, до сих пор не обращавшая внимания на эту игру в сравнения, подняла глаза и вздрогнула. В самом деле, это была фигура женщины — каменная женщина, но она не пила воду, а кричала, взывала в горлышко кувшина, совсем как вчера вечером она сама выкликала имя Хуана Пабло.
Хуан Пабло!.. Хуан Пабло!..
Она оглянулась — нет, никто не произнес этого имени, просто оно мимолетно пронеслось в ее мозгу…
Живым или мертвым… живым или мертвым…
Учительница Кантала оборвала течение ее мыслей:
— Вы хотели зайти к Пополуке, сеньорита директриса…
— Да, да… — с трудом проговорила Малена, — я зайду на минутку, а дети пусть подождут здесь. Мне нужно поговорить с Пополукой, и потом мы пройдем к Серро-Вертикаль… Пусть дети пока поиграют… раздайте им фрукты…
Но о чем говорить с Пополукой? Она постучалась в дверь, слабые и отрывистые удары прозвучали, будто стук птичьего клюва по стволу дерева. Дверь тут же распахнулась. Глазки Пополуки, затерявшиеся в зарослях, как две капельки росы — не лицо, а сплошная борода, — на мгновение сверкнули на посетителей. Гончар поздоровался с директрисой и учительницей Кантала, лукаво подмигнул девочкам, застывшим от испуга при виде бородатого старика, и захлопнул вращавшуюся на деревянных петлях дверь, сделанную из одной широченной доски.
XI
— Сам бог привел вас сюда! Бог подсказал вам прийти ко мне! Тот самый бог, который подчас говорит нам не бог весть что, а мы его слушаемся бог весть почему!.. — Этим неожиданным потоком фраз, держа в одной руке шляпу, а в другой платок, которым он вытирал вспотевший лоб, встретил Пополука директрису — даже слова не дал ей вымолвить. Наконец, надев шляпу, индеец взял ее под руку и повел в мастерскую; старик так спешил, что Малена едва поспевала за ним. Как только они очутились в каморке Пополуки, он приложил палец к губам и сделал знак, чтобы она подождала, затем он снова заглянул в мастерскую и, убедившись, что там никого нет, зашептал Малене на ухо:
— Здесь был… — и, заметив, как побледнела Малена, еще больше понизил голос, так что ей едва удавалось разобрать слова: — Во вторник… во вторник на этой неделе… четыре дня назад… был здесь… Пришел на рассвете, а ушел к вечеру… — Он с облегчением вздохнул и снова оглянулся.
Словно какая-то неведомая сила приковала Малену к полу — она не знала, что сказать, что сделать; и когда Пополука вышел, она с трудом подняла безвольно повисшие руки к лицу и дрожащими пальцами прикоснулась к губам, на лбу ее выступил холодный пот… хотела что-то вымолвить, с трудом сдерживая рыдания, готовые вырваться наружу… но решила держать себя так, как подобает сеньорите директрисе, и строго потребовала у старика объяснений, почему он ее не известил.
— Точно, я как раз и собирался это сделать… Это сразу пришло мне в голову. — Старик вспомнил, что не снял шляпу, и рывком сдернул ее. — Хотел бежать к вашей милости, сказать, предупредить, но он не позволил…
— Не позволил?… Странно!.. — выдавила из себя Малена.
— «Не высовывайся на улицу, пока я здесь!» — вот что он сказал… «Я к вечеру уйду. Тогда можешь делать что тебе вздумается, но ни в коем случае не говори никому, что видел меня… ни слова… только сеньорите Табай, и то, когда она будет совсем одна… ей скажи обо всем».
— Ему был кто-то нужен. Должно быть, он чувствовал себя таким одиноким…
— Кто-то был ему нужен… — повторил Пополука, — но он не хотел, чтобы я уходил… должно быть, не доверял мне… — Потряс Пополука головой, и смешались седеющие лохмы с бородой грязновато-серого цвета.
— А почему не доверял?
— Почему?… И об этом я вам сейчас скажу… — Он снова заглянул в мастерскую, опасаясь, не подслушивают ли их.
Шаги его не были слышны — ни когда он уходил, ни когда возвращался. Он вернулся в каморку, расчесывая бороду. Брызгами сока молочая блеснули в улыбке зубы.
— Знаете, ваша милость, почему?… Потому что беглец опасается даже тени своей шляпы, особенно если объявлен его розыск…
— Он знал об этом?
— Он мне все рассказал. Узнал вовремя, по счастливой случайности, и от самого начальника патруля, которому приказано было перехватить его в Серропоме. Тут уж все ясно…
— Это было ночью в понедельник?
— Точно, в понедельник.
— Что же он делал, блуждая по Серропому?
— Блуждал…
Старик снова выскользнул в мастерскую, еще раз хотел проверить, не спрятался ли там кто, не подслушивает ли, о чем они тут толкуют, и, возвратившись, проговорил:
— Точно. Блуждать-то он блуждал, но самое чудное не в том, что он узнал все эти новости от начальника патруля, — это пустяки, а вот послушайте, что я расскажу вам… Но разрешите устроить вас поудобней. Вы бы присели…
— Право, не знаю. Мне трудно сидеть спокойно, я так взвинчена…
— Он говорил, что был в лагере, да, да, в том самом лагере дорожников, в Энтресерросе. Решил было уже лечь, даже форму снял, как вдруг ему захотелось прогуляться. «Уже поздно, да и устал, — убеждал он себя, — лучше растянуться на постели, поспать». Уговаривал сам себя, уговаривал, а его все тянет и тянет, просто сил нет оставаться на месте. «Но, Хуан Пабло, — сказал он себе, — давай рассуждать серьезно: сегодня понедельник, начало недели, можно же подождать хотя бы до завтра». Однако он так и не смог совладать с собой. Оделся в штатское, не хотелось натягивать форму, положил брюки под матрас (пусть разгладятся к утру) и вышел. Словно магнит, словно неведомая сила тащила его из лагеря. Если бы не ушел, схватили бы запросто. Не прошло и минуты, как в палатку нагрянул патруль с приказом схватить его живым или мертвым. Кому не известно, что означает такой приказ: там же, в лагере, его бы и прикончили, а потом заявили бы, что он, дескать, оказал сопротивление…
Малена слабеющей рукой оперлась на спинку стула, чтобы не упасть; свои чувства попыталась скрыть тривиальной фразой:
— Судьба его спасла!..
— Судьба и любовь!.. — добавил Пополука, его живые глазки сверкнули в зарослях, сплошь покрывавших лицо вплоть до кустистых бровей. — Видно, любимая кликала его в кувшин…
У Малены в лице ни кровинки. Неужели не только она, а какая-то другая звала его?… «Старик знает все», — подумала она и смутилась. Собственно говоря, почему? Разве цивилизованные люди не используют телефон, чтобы вызвать желаемое лицо?… Разве современное радио отдаленно не напоминает древний глиняный кувшин: слова разносятся без проводов и доходят до приемника — сердца?… Но кто та, другая, что звала его в понедельник — кто спас его?… Ведь она сама в субботу просила его быть на встрече… Другая?… Однако в понедельник он был с ней, с Маленой, до одиннадцати ночи, пока она — глупая! — не велела ему уходить. Она не подозревала, что на улице его подстерегает смерть, и проливала слезы из-за всякой чепухи, из-за того, что дала ему прочесть свой дневник…
— Где он скрывался в ту ночь в Серропоме?… — спросила она, и губы ее чуть вздрагивали — так хотелось спросить, не было ли у Хуана Пабло какого-нибудь другого убежища в Серропоме.
— Как где? Бродил по улицам. Да и зачем ему было скрываться? Он ведь ничего не знал и случайно прошел мимо патруля. Нет, этот человек в ту ночь испытывал судьбу… Сначала он бродил по улицам, а затем…
Знаками он показал ей, чтобы она подождала. Вышел посмотреть в мастерскую, подошел к двери — с улицы доносился шум веселой возни детей — и вернулся с каким-то более хмурым видом, будто по пути прихватил с собой сумерек.
— …Он спрятался за ивой, возле церкви Голгофы, позади той огромной, раскидистой ивы, ветви которой свешиваются через кладбищенскую стену. Там он и услышал то, что спасло ему жизнь. Он, видите ли, задремал, прикорнул на каменной скамье, поджидая первый попутный грузовик, чтобы вернуться в лагерь, и вдруг услышал, что идет патруль… Сначала глухое эхо их шагов, потом более отчетливо — шаги и голоса, зевки и плевки, — все это звонко отдавалось в холодной полуночной тишине. Шаг за шагом отбивают по земле подошвы. Отряд остановился, а начальник оказался как раз против скамьи, где он сидел. Начальник почесал затылок и говорит солдатам: «Этого Мондрагона велено схватить живым или мертвым… Уйти он от нас не уйдет, но работенки, похоже, задаст!..» Еще бы не задал!.. Раз не схватили, так еще задаст!.. Трижды этот человек испытывал свою судьбу, и трижды судьба спасала его. Первый раз — когда чуть было не поймали его в палатке, второй — когда прошел мимо патруля и его, одетого в штатское, не узнали; и в третий — когда он сам услышал из уст начальника патруля, что велено его схватить живым или мертвым. Это судьба… По-моему, теперь им его уже не поймать…
— Он не говорил, куда собирался идти? — спросила Малена.
— Нет. Ушел, как стемнело, совсем стемнело… Видел я, как уходил, но он не сказал ни слова. И больше ничего я о нем не слышал…
— Почему он не остался здесь?…
— Опасно.
— Еще опасней, если его встретят, узнают и… — Она вовремя остановилась. — Теперь, конечно, всем известно, что он в штатском.
— Трудно его узнать, сеньорита… Он оделся, как все… как мы, крестьяне, в самодельных сандалиях — каите, в пальмовом сомбреро… В сумку, которую я ему дал, он положил тортильи, соль, текомате с водой… вот только сигареты забыл…
— Как отблагодарить тебя, Пополука?
— А вы-то при чем?
— Да, верно, ты прав! — смешалась она и поспешила спросить: — А где костюм, в котором он пришел к тебе?
— В очаге…
— Спрятан?
— Как нельзя лучше, только зола осталась… Одежду, обувь — все сжег… а остальное — бумажник, авторучка, ключи, платок — взял с собой… Да вот я сказал «авторучка» и вспомнил: ведь он поручил мне передать вам записочку…
— Пополука!..
Слово замерло на ее губах — Пополука исчез. Конечно, он пошел искать письмо — она уже представила себе длинное прощальное письмо, — но, по-видимому, старик выходил лишь за тем, чтобы еще раз проверить, не подслушивает ли кто. Вернувшись, он развязал платок, в котором было несколько монет, и вытащил малюсенький, тщательно сложенный листок бумаги.
Взволнованная Малена нетерпеливо схватила короткое посланьице. Не взяла, а вырвала его из рук Пополуки, быстро развернула и прочла: «A bientot, cherie! Jean Paul» [13].
— Он сказал… как прочтете — уничтожить…
— Да, да… конечно… — Малена крепко сжала в кулаке записку, сжала так, что ногти впились в ладонь, и тут же выпрямилась, словно воспрянув духом. — Хорошо, Пополука… Я уже чувствую… думаю… дышу… живу… здесь, где он был во вторник!
— Был весь день, пока не стемнело…
— Тебе ничего не удалось узнать?
— Ничего. Патрули бродят повсюду.
— А сюда солдаты заходили?
— Попросили воды. Смотрели, как работают ученики… Меня не подозревают…
С улицы доносились радостные крики девочек — они прыгали, бегали наперегонки, гонялись друг за другом, дергали за косички, возились, барахтались в песке, не слушая уговоров и наставлений учительницы.
Малена вновь перечитала: «A bientot, cherie! Jean Paul». И поднеся бумажку к губам — будто сжигая ее поцелуями, — повторила:
— A bientot… a bientot… a bientot, cheri… Заметив, что старик с дружеским сочувствием следит за ней поблескивавшими из косматых зарослей глазками, она решительно повернулась к нему. Сейчас она расскажет ему все.
— Пополука…
— Мне не надо ничего говорить, — предупредил ее индеец. — Я видел вас однажды с сеньором Мондрагоном на Серро-Вертикаль…
— Да… Мы гуляли… смотрели на океан.
…А сейчас я хочу, чтобы ты ушел… мне надо остаться одной… сейчас я хочу, чтобы ты ушел… мне надо остаться одной… Улицы Серропома плыли под его ногами… плыли под его ногами… Немые реки белых камней… улицы… площадь… площадь, которую столько раз он пересекал, а нынче снова… и снова эта улица, а вот другая — и все они плывут и плывут под его ногами — которые налились свинцовой тяжестью от ее прощальных слов… — Сейчас я хочу, чтобы ты ушел… на будущей неделе я приеду к тебе в лагерь, и мы поговорим… Сейчас мне надо остаться одной…
Он нахлобучил шляпу. Ощущение того, что улицы плывут под его ногами, уже исчезло. Его шаги отдавались гулким эхом, нарушая безмолвие селения, отрезанного от мира крутыми обрывами. Не было больше улиц, не было площадей на этом окруженном безднами каменном острове среди вздымавшихся вершин. Разве только появятся у него крылья… появятся крылья… вместо ног, которые ступают в этот миг по словам «сейчас я хочу, чтобы ты ушел… чтобы ты ушел…» — появятся крылья, и он унесется в молчание безбрежности.
Он пересекал молчание — иное молчание, в котором таилась опасность, а он и не подозревал о ней, даже когда столкнулся с патрулем, что искал его живым или мертвым. Он пересекал молчание своего исчезновения — безграничное, неизмеримое молчание, следовавшее за ним по пятам… А что, если бы солдаты, горевшие желанием пропустить стаканчик агуардьенте, не поспорили бы в дверях таверны, а их начальник — падкий на выпивку не меньше, чем на нашивки, — не залез бы с головой в кувшин с пивом? Обратили бы они тогда внимание на Мондрагона?… Заметили бы, как он прошел совсем рядом?… Хотя, впрочем, к чему им было тратить время на какого-то прохожего в штатском, да и руки были заняты — каждый спешил захватить побольше стопок с желанным напитком. А кроме всего прочего, ведь их послали за каким-то дорожником, офицером дорожной службы, а тот носит белую форму…
При виде их Мондрагону тоже захотелось пропустить глоточек. Он подумал, не разбудить ли падре Сантоса и не попросить ли у него рюмочку. «Постучу-ка я в окошко его спальни, — сказал он себе, направляясь к Голгофе. — Падре, конечно, откроет, предположив, что его зовут на исповедь или что учителю Гирнальде взбрело в голову поболтать…»
С тех пор как Хуан Пабло встретил в этом селении Малену, он старался не думать о том единственном, что могло разлучить их навсегда, — о провале. Правда, он встретил ее тогда, когда уже не имел права отказаться от своего опасного дела, — и, стараясь отогнать мрачные мысли, он отдавался этой новой, увлекшей его страсти, забываясь и забывая, что каждый час приближает его к решающей минуте.
Мондрагон прибавил шагу, приближаясь к Голгофе; ему и в голову не приходило, что заговор уже раскрыт и что в этот самый момент — по этим самым улицам — рыщет патруль, с которым он только что встретился, и разыскивает его, живого или мертвого. Ему уже предъявлено обвинение: это он передал взрывчатку для изготовления бомб, это он должен был вести грузовик, чтобы преградить путь автомобилю президента в момент покушения.
Наконец он подошел к Голгофе. Деревья, у которых ветвей было больше, чем листьев, образовали над площадкой перед церковной папертью навес. Сбоку, в глубине, высился дом священника. Мондрагон прибавил шагу и совсем было решился постучать в окно падре Сантоса и попросить глоточек вина, но в последнюю минуту передумал и стал бродить взад и вперед, будто влюбленный, под окнами священника, то поднимая руку к стеклу, то опуская ее. В конце концов он сел на длинную каменную скамью перед церковью, в тени ивы. Эта ива, выросшая на кладбище среди мертвых, перебрасывала через ограду пенную бахрому своих ветвей — для живых. Вначале он сел на край скамьи, ночной холод заставил его подвинуться, не вставая с отполированного богомольцами сиденья, ближе к дереву — искать приют под его кровом. Он засунул руки в карманы и вытянул ноги. Настроение было неважное. Он совершенно не представлял себе, что предпринять после всего происшедшего между ним и Маленой. Да и как понять все это? Высвободившись из его объятий и отстранившись от его поцелуев, от его сердечного тепла, она ушла в библиотеку, сняла с полки какие-то книги в цветных переплетах, потом поставила их на прежнее место и принесла какую-то тетрадь, которую дала ему прочесть. Пока не взял тетрадь в руки, он и не предполагал, что это ее дневник. Он начал читать. Вдруг Малена потребовала, чтобы он ушел. Залилась слезами, стала тяжело вздыхать, будто внезапно раскаялась, что раскрыла перед ним свою душу. Он берет шляпу и выходит, не осмелившись что-либо сказать…
Что же произошло?… Почему она дала ему прочесть свой дневник?… В знак доверия?… Тогда ему в знак ответного доверия не следовало читать тетрадь, не надо было раскрывать ее. Но она сама раскрыла… Что ж, как только он убедился, что речь идет об ее интимной жизни, нужно было закрыть тетрадь и по-джентльменски вернуть ей… Вернуть нераскрытую тетрадь, нежно-нежно поцеловать ее волосы и сказать: «Мои губы на ночи твоих волос запечатывают твое прошлое, которого я не хочу знать…»
Бедняжка так огорчилась… И она была права! Ответить недоверием на ее откровения… Она стояла, как обвиняемая, не двигаясь с места, а он подвергал ее пытке — перелистывал страницы дневника. Он испугался — подумал: Малена прибегла к этому хитрому маневру, чтобы дать ему понять, что она обручена и не может ответить взаимностью или что она связана какой-то клятвой, что между ними непреодолимой преградой лег какой-то данный ею обет…
Во всяком случае, надо было что-то сказать, объяснить ей, а не уходить так, чуть ли не спасаясь бегством, на ходу повторяя ее последние прощальные слова: «А сейчас я хочу, чтобы ты ушел… на будущей неделе я приеду к тебе в лагерь, и мы поговорим… мне надо остаться одной…»
Он закурил сигарету, и вместе с дымом постепенно стал таять образ Малены — высокой и несокрушимой, подобной изваянию на ростре древнего корабля; и перед ним возникло бледное лицо учительницы с пристальным, проницательным взглядом, с полными губами, застывшими в грустной улыбке.
Он пересчитал оставшиеся сигареты, посмотрел на часы. Если хочешь курить на рассвете, нужно строго придерживаться определенной нормы. Первый грузовик в лагерь пойдет не раньше половины пятого.
С последней затяжкой он поджал под себя затекшие ноги, поднял воротник пиджака и съежился, пытаясь согреться собственным дыханием. Сверху его прикрывала листва ивы — зеленый москитник, сквозь который можно было видеть мириады золотых москитов, рассыпавшихся по небу. Было так тихо, что в безмолвии ночи слышался далекий беспрерывный звон мерцающих звезд.
Он вспоминал жесты Малены, ее слова, пусть даже самые незначительные, — только ради удовольствия восстановить в памяти ее движения, звук ее голоса, такого ласкового, когда она предложила прийти к нему в палатку; ее, возлюбленную, он представлял обнаженной в своих объятиях, в минуты, когда не существует слов, когда слова заменяют поцелуи. Его разжигала ее детская неловкость, краска застенчивости на ее щеках…
Он закрывал глаза и тут же открывал их — боялся, что рассеется этот мираж, исчезнет волшебство ночи, пробуждающегося неба и спящей Малены, которая сейчас была так близка, можно даже потрогать ее темные волосы и словно светящееся тело, теплое и воздушное. Он закрывал и открывал глаза, чтобы представить себя вместе с Маленой в бесконечном хороводе звезд, в небесной гармонии. Он открывал и закрывал глаза — и сквозь смеженные ресницы, увлажненные подступившими слезами, — как через окропленные ночной росой ветви ивы, — уголек сигареты расплывался, двоился, множился, точь-в-точь светлячки в листве. Почему-то вдруг ему вспомнилось это таинственное «и», оборвавшее последнюю фразу в дневнике Малены… но не оборвавшее ее интрижки с офицериком, с которым она познакомилась на балу в военном казино?… Зрачки его замерли меж неподвижных век, как будто внезапно откристаллизовался поток жизни, перестал дуть ветер на крылья ветряков глаз. Слово за словом он восстанавливал в памяти последнюю фразу: «Все закончилось тем, что он оказался моложе меня, и…»
И, и, и… Что может значить это загадочное, многозначительное «и», эта недомолвка, это многоточие?… Быть может, между ними произошло то, что она не осмелилась доверить бумаге?… А может, между ними еще существуют какие-то отношения, теплится любовь?…
И, и, и… Что же это было такое, о чем она не решилась написать? Может быть, у нее не хватило мужества оборвать прежние отношения и вот как протяжный отзвук мощного аккорда в ее дневнике осталось многоточие…
И, и, и…
Он бился, как рыба на крючке, пытаясь освободиться от этого «и», застрявшего в горле и тащившего его, вытаскивавшего из состояния сонливости и скованности, вызванного, видимо, тем, что давно не менял он позы. Не мог он избавиться от этого навязчивого «и», в его мозгу непрестанно звучало «и-и-и…» — назойливо зудело… и что бы он ни делал: сжимал кулаки в карманах, встряхивал головой, сбрасывая с себя капли ночного тумана и дремоту, — непрестанно звучало, назойливо зудело «и-и-и…». Не мог он избавиться от обуревавших его сомнений, как от какой-то надоедливой мысленной икоты… «и» и многоточие, которое засасывало его, точно зыбучие пески… и-и-и… Перед ним снова простерлась пустыня, снова начиналось одиночество… и-и-и… тенями исчезли его мечты о счастье, а воспаленное воображение рисовало сцены банального флирта юного офицерика и сельской учительницы, которая не захотела понапрасну терять время в столице и, желая соблазнить тщеславного молокососа, любителя легких побед, разыгрывала роль кокетки и недотроги, успешно соперничая с молодыми девушками. В мыслях он воссоздавал все то, что она из-за стыда, ради приличия или из благоразумия — неизвестно почему — не осмелилась запечатлеть в своем дневнике, все, что скрывалось за одной только буквой — основой всего, поскольку эта буква означает узы, союз, связь, единение. Нет, оставлять этого нельзя. Быть может, следует вернуться и потребовать, чтобы она все ему объяснила — что это такое, что кроется под этой буквой «и» и следующим за ней повисшим в воздухе многоточием… И… и… и… икота сомнения изводила его… и… и… издергала его…, и… и… слышалось ему как пение цикады, тысяч цикад, миллионов цикад… криии… и… и… криииии… и…
Он рванулся, будто от удара бича. От икоты до икоты — это и… и… и… измучило, разрывало душу, клочок за клочком, в тело словно впивались, глубоко рассекая кожу, тончайшие хлыстики сухого треска цикад… криии… и… и… криии… и… и… и…
Что же делать?… Тяжело дыша, он быстро обвел взглядом вокруг себя, ищущим взглядом. Что он только не передумал, но так и не мог найти ответ на вопрос, что же заставило Малену внезапно подняться, пройти в библиотеку и принести ему свой дневник. Он пристально всмотрелся в темноту и вдруг понял, как бы увидел разгадку всего этого — предельно ясно. Объяснение, конечно, надо искать в этом «и»… Она дала ему прочесть свой дневник, чтобы он узнал о ее романе с этим офицериком и… и… (ох, эта икота, икота сомнения, подхваченная эхом цикад!) чтобы он, Хуан Пабло, оставил ее в покое либо воспользовался ее уступчивостью…
На губах мелькнула горькая усмешка. Нет, нет, это невозможно!.. В карманах брюк горячие руки сжались в кулаки. Да, да, чтобы он ее оставил в покое или воспользовался ею после того молокососа и… после — кто знает… — скольких еще! Именно этим, конечно, объяснялась ее тоска — тоска отдающейся женщины, ее едва сдерживаемые рыдания, ее слезы и склонившееся к нему тело. А он, дурак, романтик, не понял всего этого, не подошел к ней, не взял ее на руки, не овладел ею. А может быть, еще не поздно? Может быть, вернуться? Нет, женская страсть длится не дольше, чем вспышка молнии!.. Надо набраться терпения и подождать ее приезда в лагерь. Теперь, зная, что означает это «и», он наверстает упущенное… Ведь убедившись в том, что он не сообразил, зачем ему был вручен дневник, она сама неожиданно предложила приехать в лагерь, прийти в его палатку.
Он вглядывался в темно-синюю ночь — упругую, теплую, — которая так походила на обнаженную женщину и сверкала россыпью драгоценных камней, — таинственная, непостижимая, недосягаемая, хотя и доступная взору.
Потом, после посещения Маленой лагеря, все изменится. Но как дождаться этого блаженного часа?… Он готов был сорваться со своего каменного ложа, бежать к школе, стучать в двери и окна, пока не проснется Малена, не выйдет и не скажет, было ли это «и-и-и» лишь гудением колоколов, которые звучали во сне, приманивая ветер к колокольням церквей… и-и-и… манннннят… иии… маннннннят… манят к себе ночь, звездную россыпь и тела влюбленных… иии… манннят… иии… маннят… Да, да, надо бежать, скорей бежать, бежать к школе и узнать у Малены, не приманивала ли она, не манила ли, не манниит… иии… манниит… и… манниит… как гудение ветра в колоколах, как звук поцелуя железа с притянувшим его магнитом, что манит… и… манннит… иии… маннит…
Но он не мог сдвинуться с места, не мог подняться, его будто связали, опутали тяжелыми взмахами крыльев летучие мыши, что кружили вокруг; казалось, ему не разорвать невидимых уз, которые вгрызлись в кожу навеки, как татуировка, и теперь не вырваться от этих слепых рукокрылых, из этой сети дьявольских крыльев, из пут, похожих на татуировку…
Он напрягся, пытаясь высвободиться из незримой смирительной рубахи. Надо бежать, спешить к Малене, услышать из ее уст слова о манящем колоколе, о спящем металле, который изогнулся подковой для усиления магнетизма. Так хотелось остаться с ней вдвоем в сверкающей бриллиантами ночи.
В туманной дымке — пока летучие мыши продолжали плести свои невидимые путы, легкие, как дуновение, и прочные, как татуировочный узор, — всплывают в памяти беседы и споры с клиентами в парикмахерской, давно, в юности — ножницы звякают в такт словам, у ножниц ведь тоже есть своя мелодия, — вспоминаются бесконечные дискуссии о любви и земном магнетизме, об идеальных линиях и осях любовной индукции…
Гудение сонных колоколов внезапно сменилось свистом падающего града, и молчание ночи рассыпалось осколками. Ливень глаз — затуманенных роговиц и прозрачных зрачков — окатил его. Снова и снова налетает шквал — над соседним кладбищем сыплются мириады замерзших слезинок. Голые, водянистые, оледеневшие глаза. Наконец он с трудом сбросил оцепенение. Удалось вырвать руки из пут, избавиться от власти летучих мышей, околдовавших его. Он встал, даже сделал несколько шагов, защищая лицо от ливня человеческих глаз, глаз без век, без ресниц, вне орбит, вырванных из снов и видений… (Кто идет?… Я!.. Эхо подхватило стон, доносившийся из могил… «Я!.. Я!.. Я!..» Я от всех мертвых?… И отзвук: «Всех мертвых!..» Снова он спросил… и снова эхо повторило: «…Всех мертвых… всех погребенных!..») Град усиливался, град человеческих глаз, невидящих зрачков, падавших в пространство. Он обливался ледяным потом, его обволакивали крылья холода, крылья сна. Отовсюду плыли глаза женщин и мужчин, стариков, молодых, детей, идиотов, святых и ученых — они сталкивались и, не ударяясь, отлетали друг от друга, проносились над ним и рядом с ним, плыли под ногами… Всюду глаза — парами, глаза… зеленоватые… карие… голубые… ясные… множество бессонных, вечно бодрствующих глаз… Глаза погребенных…
В полном замешательстве он поднял голову… А гудение ветра в колоколах? А полет летучих мышей?…
Ему удалось поймать один глаз. Он прижал его ко лбу, да так крепко, что расплющил… и содрогнулся. Под пальцами оказался не глаз человеческий, а листик ивы…
Он сидел все на том же месте. А кто же вставал, кто кричал у ворот кладбища?
Он ощупал себя, ощупал каменную скамью — куда девались эти глаза, что случилось с ковром градин-глаз, покрывшим было землю?
Все потухло; глаза снова стали листками ивы, прикидывавшимися сотнями, тысячами человеческих глаз, свисавших с плачущих ветвей. Ива росла на кладбище, и корни ее проникли в высохшие черепа погребенных, в пустые глазницы костлявых лиц, ведь это были уже не глаза, а листья…
В небе засияла утренняя звезда, она была знамением вечности мира в час, когда ночь уже кончилась, но день еще не наступил, час неуловимой вечности.
Ему представилось, что Малена здесь, рядом, что и она тоже смотрит на этот далекий огонек, горящий в прозрачном воздухе, на бархатном куполе неба, и его охватила такая нежность к женщине, рожденной его мечтой, что он поднялся, — погасла и ревность, и сомнения, — и стало удивительно ясно, что любовь превыше всего, что нет места иным чувствам там, где уста тянутся к устам, взгляд устремляется ко взгляду, слова летят к словам…
Он отогнал от себя воспоминания и в тени ивы слился с темнотой…
Патруль, встреченный Мондрагоном около таверны, когда он возвращался от Малены, снова появился на улице. Пока начальник разжигал самокрутку, солдаты остановились возле церковной паперти. Мондрагон увидел, как офицер, борясь с ветром, зажег спичку, но ветер ее погасил. Опять чиркнула спичка. На этот раз трепещущий огонек был заключен в темницу ладоней, и казалось, что начальник пьет огонь.
И вот тут-то сидевший под ивой услышал, что патрулю приказано разыскать некоего Мондрагона — живым или мертвым. Улизнул этот Мондрагон буквально между пальцев — они рассчитывали взять его в палатке, а он, оказывается, успел сбежать. Они обыскали весь лагерь, а теперь прочесывают селение — вдруг да удастся его перехватить!.. Ночь была темная, но «она ему все равно не помогеть, — заметил, дымя самокруткой, начальник патруля, — этот Мондрагон одет в белую форму дорожника… Как где увидите белую форму — это, стало быть, он, сразу цельтесь в него, точно в мишень, ежели, конечно, он сам не сдастся живым, потому как приказано взять его живым и выжать из него имена заговорщиков…».
Солдаты в легких куртках — чамаррах, шлепая грубыми сандалиями — каите, прошли мимо церкви; нескончаемой показалась эта процессия тому, кто укрылся под ветвями ивы; он уже едва стоял на ногах, вот-вот закружится голова, подогнутся колени, — и он упадет. Его внезапно охватил страх — от неожиданности, когда он услышал, что его разыскивают — живого или мертвого — поскольку он, по словам начальника патруля, «подкинул» взрывчатку для террористического акта и «вызвался сам» вести грузовик, когда преступники собирались «прикончить» господина президента.
Остановившись перед домом священника, солдаты толковали о том, как «прочесать» кладбище, но начальник вдруг велел идти дальше. Когда они наконец ушли, Хуан Пабло решил бежать через кладбище, хотя этот путь был нелегким: можно сорваться со скал, выдававшихся как гигантские голые черепа, — зато это был более короткий путь к мастерской Пополуки, где, конечно, он найдет убежище.
К старику он добрался, когда ранняя заря уже мазнула лазурью по небу.
— Все это — хоть и кажется, что уже давно было, — случилось во вторник, — проговорил Пополука, — в прошлый вторник, пять дней назад… — Он теребил бороду толстыми пальцами, похожими на языки ягнят, теснящихся возле пустого вымени.
Он замолчал, размышляя, продолжать ли ему свой рассказ. Затем снова заговорил:
— Трудно сказать, где он сейчас… Поверьте, если что-нибудь узнаю, сейчас же приду к вам. А теперь, если позволите, хочу дать вам совет, хотя не мне давать советы вашей милости: никому не говорите об этом и никуда не ходите…
Малена вышла от Пополуки разбитая и одинокая — корабль, застигнутый бурей.
Спускалась ночь. Где-то вверху загорались огни Серропома. Где-то там — ученицы, учительница Кантала. Сухо, как пересыпающиеся песчинки, скрипят цикады. Кажется, все здесь замерло, остановилось. И только она движется. Только она…
XII
Учитель Гирнальда отнюдь не был масоном; он просто слыл либералом, из тех, кто, преспокойненько получая от государства жалованье, временами любил пофрондерствовать: «Попа, дурака и дрозда по закону убить не беда». Однако Танкредо, пономарь церкви Голгофы, видел в нем антихриста. Поэтому, заметив, что учитель поднимается на паперть и собирается войти в храм, церковнослужитель несколько раз осенил себя крестным знамением. Переступив порог, проникнув в святая святых, учитель стал допытываться, чем занят падре Сантос. Все еще кривляется перед алтарем?
— Так верую в нашего бога-отца, что меня даже зовут Танн-н-кредо [14], но вот чтобы дьявол забрался в церковь, доселе не видывал, и повезло же мне столкнуться с ним! — вместо ответа забормотал под нос пономарь и, лавируя меж скамей, исчез в ризнице.
Он предпочел там дожидаться падре, который заканчивал мессу, чтобы предупредить его словами древней испанской поговорки: «Будьте начеку, мавры на берегу!» Не теряя времени, Танкредо запирал стенные шкафы, шкафчики и комоды и торопливо приговаривал: «Святый боже! Святый крепкий! Святый бессмертный! Избавь нас, господи, от этого либерала!» Если бы знать, как это говорится по-латыни. Падре вот знает, и не только латынь знает. В последней молитве, заключающей мессу, призывая архангела Михаила оградить от лукавого, что блуждает по земле, священник заменил лукавого на «лукавых либералов», потому что дух, сколь злонамеренным он бы ни был, все же оставался духом, а эти либералы — живые люди, из крови и плоти, они живут среди нас и богохульствуют…
И вдруг произошло что-то непонятное. Вместо директора мужской школы учителя Константине Пьедрафьеля в ризнице появились какие-то солдаты, казавшиеся лилипутами рядом со своими громадными карабинами, которые они держали дулами вниз, как на похоронах. Услышав звон оружия, падре Сантос поспешил закончить мессу и, войдя в ризницу, увидел, что над Танкредо, прижатым к стене, нависла смертельная опасность: он наотрез отказался отдать ключи, которые висели у него на поясе.
— Отдай им, Танкредо… — лаконично распорядился священник, положив в стенной шкаф серебряную чашу. Затем он снял с себя облачение и, оставшись в сутане, сдернул с крюка черную четырехугольную шапочку.
— Я к вашим услугам, — обратился он к офицеру, командовавшему солдатами, и тот прогнусавил:
— Обыск…
— У вас, конечно, есть приказ… письменный… — осмелился спросить священник.
— Устный… — прогнусавил тот; нос у него был будто источен каким-то червем.
— Кредо, отдай им ключи и проводи господ.
— Незачем, — опять прогнусавил начальник, — незачем нас провожать, пусть сам отопрет двери, на которые мы укажем, вот и все.
— Иди, сын мой… — сказал священник. Танкредо, всхлипывая, успел шепнуть падре:
— Известите людей… ударьте в колокола!
Но священник сложил руки и ответил словами Христа:
— Regnum meum non est de hoc mundo… [15] Не правда ли, учитель? — краешком глаза он заметил Пьедрафьеля, заглянувшего в ризницу.
— Падре!.. Падре!.. — прервал его учитель. — Мне очень нужно с вами поговорить… Где бы?… По очень срочному и деликатному делу…
— Исповедальня — место достойное… — проронил священник сквозь зубы и пошел вперед, сопровождаемый Пьедрафьелем, который от страха даже встал на цыпочки.
— Скорее преклоните колени… — предупредил падре, но Пьедрафьель еще колебался. — Они идут!..
Услышав, что солдаты приближаются, Пьедрафьель так поспешно упал на колени, что, потеряв равновесие, ошалело ввалился в исповедальню — силы его совсем оставили — и прижался к священнику, опасаясь, что кто-нибудь его узнает. Он все-таки директор мужской школы, и если откроется, что он пришел на исповедь, то лекарство может оказаться опаснее самой болезни.
Однако солдаты, их начальник и пономарь свернули к винтовой лестнице, ведущей на колокольню, и начали цепочкой подниматься по ступенькам. Пьедрафьель с облегчением вздохнул. У него еще есть время, чтобы рассказать падре всю историю с алыми камелиями.
— С какими алыми камелиями? — переспросил его заинтригованный священник.
— А в газете. Не читали?
— Нет, не читал…
— По поручению одного непременного партнера в нашей компании, — вы понимаете меня?… — священник утвердительно кивнул, — я передал учительнице Табай букет алых камелий, присланных на мое имя из столицы, а сегодня утром я узнал из сообщений в газете, что пароль бунтовщиков: «алые камелии»… Падре, вы должны помочь мне, вы должны сейчас же пойти в женскую школу и забрать букет, который эта глупышка, должно быть, хранит как зеницу ока!
— А где газета?
— У меня в кармане…
— Оставьте ее мне. Если я поспею вовремя, то букет этих цветов, название которых я даже не решаюсь произнести вслух, исчезнет.
— Да благословит вас господь! — воскликнул Пьедрафьель.
— Значит, мы поменялись ролями… — иронически заметил падре Сантос, поднимаясь и отряхивая полы сутаны, как он делал всякий раз после исповеди — ему казалось, что таким образом очищается от поведанных ему грехов, которые им воспринимались, как блохи и вши, переползающие на него, впрочем, порой это так и было.
— Говорят, будут обыскивать все селение, дом за домом… — твердил Пьедрафьель, следуя за священником, направлявшимся к своему дому.
— Вы сами убедились в этом, учитель; они начали с божьего дома — какое святотатство! — и, несомненно, придут ко мне, в дом служителя церкви…
— И в школу! — оборвал его Пьедрафьель. — И в женскую школу! Опасаюсь, падре, что если вы не пойдете тотчас же, то можете опоздать… Из-за этих проклятых цветов они смогут нащупать нить, и нас заподозрят…
— Вы всуе употребляете словечко, кое непристойно произносить.
— А газета?… Вы идете без газеты…
Захватите с собой, она вчерашняя, — и из кармана Гирнальды в сутану священника перекочевал бумажный ком, донельзя смятый и замусоленный. — Покажите ее учительнице Табай, и пусть она уничтожит цветы, пока не нагрянули солдаты.
— Ну, этим пока некогда, — заметил падре Сантос, — они, должно быть, еще обозревают с колокольни селение.
— Что вы! По поселку рыщет целый батальон, караулы здесь, караулы там… Сегодня утром на рынке не было мяса! Даже на суп нечего было купить. Они на рассвете нагрянули к младшему Рольдану, который только что зарезал быка, и потребовали у него контрибуцию; несчастному пришлось отдать мясо. И хлеба сегодня тоже не было; в обеих пекарнях мало выпекли. Ни хлеба, ни мяса — не представляю, чем будет питаться бедный люд…
— Портулак…
— Нет его здесь, на голых скалах. А еще не разрешили пройти на рынок торговцам овощами и фруктами — перекрыты дороги. Объявлено военное положение!.. Ну, падре, идите, не теряйте… не будем терять времени… Если не другие, так эти же самые могут перехватить цветы — слышите, они уже спускаются с колокольни…
«Вся эта неделька в Серропоме, — как говорил потом учитель Гирнальда, — была ни на что не похожа: понедельник не похож на понедельник, вторник — на вторник, лишь со среды стало что-то проясняться, но только в пятницу, в полдень, отменили военное положение, и для войск, и для конной полиции было отменено казарменное положение, прекратилось грозное мелькание вооруженных людей на улицах и в округе».
Возвратившись от Пополуки несколько обнадеженной, Малена всю ночь просидела в директорской, так и не сомкнув глаз. Рассветало. Глаза у нее были красные-красные: столько она плакала, столько всматривалась широко раскрытыми глазами в ночную темь. Да и как зажмурить глаза, погасить два единственных огонька, освещающих ее мглу? Лучше видеть вещи такими, как они есть, чем затеряться во мраке. Услышав чьи-то шаги — в такой ранний час и в понедельник, — она надела темные очки, села за письменный стол и обвела взглядом директорскую — все ли в порядке? Мог появиться какой-нибудь представитель из министерства или инспектор. На письменном столе в вазочке, рядом с чернильницей и тетрадью, стоял букет ярко-красных камелий.
Когда Малена увидела, что ранним визитером был падре Сантос, глаза ее под траурными стеклами наполнились слезами. Не говоря ни слова, священник протянул ей газету. Во всю первую страницу крупным шрифтом было напечатано:
«АЛЫЕ КАМЕЛИИ»
Малена не знала, что взять — газету или цветы. Газету. Конечно же, газету. Бумага изгибалась пламенем в ее судорожно сжатых пальцах. Буквы прыгали перед глазами, строки сливались в сплошные черные полоски. Падре Сантос взял цветы. Алые камелии! Пароль заговорщиков.
— Этого букета… — произнес священник торжественно, словно заклинание, — здесь не было, никто его не посылал, никто его не получал, никто его не видел! Этот букет не существует и никогда не существовал!
Начался торопливый торг. Но разве она не была женщиной? И разве именно так, торгуясь, не обольстил женщину Люцифер? Если не букет, то хотя бы один цветок… если не один цветок, то хотя бы лепесток… она не просит большего… только лепесток… лепесток, хотя бы по л-лепестка…
— Опасно, дочь моя, очень опасно… Зачем тебе это?
— Чтобы проглотить!.. — внезапно вырвалось у Малены, и совсем по-сатанински, желая отомстить священнику за то, что он хотел отобрать у нее цветы, она бросила: — Чтобы причаститься…
— Причащу я тебя, доченька… причащу… — кротко ответил падре. У него промелькнула мысль: «Что еще могу сделать для этой несчастной души, если уж я поступился своей верой, приняв исповедь лукавого либерала?… Хотя, впрочем, он не исповедовался!..»
Малена, зажав в губах лепесток, ярко-красный, как капелька крови, наклонила голову, чтобы скрыть слезы. Священник, спрятав букет в карман сутаны, поспешно вышел. Малена открыла глаза — увидела пустую цветочную вазу и большущие черные буквы на газетной полосе «АЛЫЕ КАМЕЛИИ»… Пересчитала буквы, даже кавычки… всего тринадцать. Тринадцать знаков… Не подумали об этом заговорщики… А быть может, подумали и именно поэтому избрали… Роковое число!.. Тринадцать знаков…
Шли минуты; она поправила волосы, протерла очки и вышла из директорской. Надо позвонить. Ей казалось, будто в набат она била, а это всего лишь школьный звонок. Появление отряда солдат, который был больше того, что обыскивал церковь, сорвало перемену. Прозвенел колокольчик, и в коридор ворвался радостный гомон девочек, с шумом и гамом выбежали они из классов — и тут же воцарилось молчание. Вовремя успел падре Сантос унести камелии! Солдаты пришли из мужской школы. Обыск. Классы, директорская, квартира директрисы, внутренние дворики, служебные помещения, кухня, дровяной склад, каждый закоулок, каждый заваленный старым хламом угол — все обшарили.
Самый молодой из офицеров, высокий, костлявый, в тщательно начищенных сапогах — отряд этот прислали из столицы, — перед уходом бросил через плечо:
— Все эти «учителки» разыгрывают из себя святош, черт знает кого!
— Заткнись, не то получишь пулю! — пригрозил ему другой офицер, хватаясь за кобуру.
— Какая тварь тебя укусила?… Не о тебе же говорят… лучше присматривай за поселком, за людьми, за тем, что творится кругом, вот хотя бы за этим кобелем, что бежит там, видишь! И нечего влезать в разговоры настоящих мужчин.
— Тс-с-с… слышишь, заткнись, или тебе не жить на свете! — набросился на него другой офицер, видимо готовый перейти от слов к делу.
— А ну-ка, ну-ка! Могу доставить тебе удовольствие, только поспеши, а то весь пыл иссякнет. Должно быть, ты просто индеец… А я все равно буду утверждать, что среди этих «учителок» никогда не бывает смазливых, — ни груди, ни ножек, ничего…
— Замолчи же!.. — взмолился другой офицер, злость у него уже прошла. — Как подумаю об этом, так волосы встают дыбом, — подцепил вот… шагу не могу сделать!
— Это в тебе хворь говорит.
— Да, новая… Только появилась, и вот — извольте… — он передернулся от боли и процедил сквозь зубы: — Не пройдет — пущу себе пулю в лоб.
— Не будь идиотом, от этого вылечиваются! — вмешался молодой и, опасаясь, как бы его товарищ и в самом деле не застрелился, потребовал у него пистолет. — А ежели и не вылечат, то терпи, стисни зубы. В нашем мужском деле без риска не обойдешься…
— Откуда ты все это знаешь?
— Болею в тридцать третий раз… тридцать третий… только первая не излечивается… зато все остальные уже не страшны.
Как ни жаль было офицеру разлучаться с пистолетом, но в конце концов он передал его сержанту, который взамен оружия вручил ему пузатую флягу со спиртом.
— Глоточек успокоит боль, мой лейтенант.
— Спасибо, сержант… — И прежде чем приложиться к фляге, заорал: — Да будут прокляты все шлюхи и та шлюха, что их породила!
Пропустив первый глоток, он, не отрываясь, высосал всю флягу; тяжело вздохнул, попытался сделать несколько шагов, перегнувшись в поясе и широко расставив ноги.
Повозки. Люди верхом на лошадях. Прохожие. Деревья. Ветер.
Сеньорита директриса возвратилась в свою «траншею», как она называла письменный стол, и, вместо того чтобы писать, нервно забарабанила карандашом по бумаге — в такт часам, на-тик… на-так… в такт биению пульса, в такт течению времени… на-тик-так, а на бумаге возникали точки и черточки, словно отражение бесконечного ливня, звучавшего в ее ушах. Время от времени она спрашивала себя, не унес ли падре Сантос те самые алые камелии, которые она забыла в поезде много-много лет назад. Она покачала головой, но в мыслях не исчезало: а вдруг действительно… Камелии, забытые в поезде, были последней вспышкой ее первой любви, они обожгли неизвестного спутника, который годы спустя воскресил их, но воскрешенные цветы — это уже бушующее пламя, огонь страсти… это пароль заговорщиков…
Малена посмотрела на часы — они показывали половину двенадцатого, — стряхнула с себя оцепенение и поднялась. Опять пора позвонить в колокольчик. Девочки выходили из классов, внимательный взгляд директрисы провожал каждую ученицу — они уйдут домой, а она снова останется одна — наедине с собой в опустевшей школе.
Она вернулась в свою комнату. Послышались шаги прислуги. Она отвела глаза и взглянула на руки. Перед тем как уйти в столовую, где ее уже ожидала тарелка дымящегося супа, она подошла к постели, слегка взбила подушку, аккуратно положила ее на кровать. Подушка была ее подругой, и Малена лелеяла ее, потому что эта подушка слышала течение ее мыслей и непрекращающийся ливень в долгие бессонные ночи.
Звуки маримбы и разрывы хлопушек на похоронах мальчика-козопаса, который сорвался со скалы близ Серро-Брильосо, собрали на кладбище в Серропоме много народа. У этого пастуха брат учился в мужской школе, и поэтому на печальную церемонию прибыли важные персоны, такие, как падре Сантос, директор и директриса, учителя обеих школ.
Уже сотворена молитва по усопшему, уже произнесены последние благословения. Все ждали, когда кончат копать могилку — священник стоял между Маленой и Пьедрафьелем.
— Здесь мы можем переговорить… Есть новости?…
— Насколько мне известно, нет… — ответил Пьедрафьель.
— Значит, не поймали. По-моему, обошлось… Малена болезненно воспринимала эту безличную форму, к которой частенько прибегал священник. «По-моему, обошлось…» — хоть ей и было приятно услышать, что полиции не удалось перехватить Мондрагона.
— Падре говорит так, будто держал пари, что он не уйдет… — заметила Малена.
— Дитя мое, ради бога! — Падре молитвенно сложил руки. — Ты скверно обо мне думаешь…
— К счастью, вовремя успели с букетом! — вмешался Пьедрафьель, и руки его, по обыкновению, глубоко ушли в рукава, а пальцы нащупали манжеты сорочки. — Самое печальное то, что офицер все-таки покончил самоубийством…
— Это который? — спросила Малена.
— Один из тех, кого прислали в Серропом. Как только вернулся в полк, пустил пулю в рот.
— Бедняга, его могут заподозрить в соучастии, — пробормотал падре.
— Если бы его заподозрили, давно бы расстреляли, — сказал Пьедрафьель, — хотя, впрочем, не все ли равно…
— Нет, сеньор учитель, тот, кто идет на расстрел, получает причастие капеллана!
— Какое утешение… переодетый стервятник причащает!
Раздавшийся вблизи оглушительный взрыв двух ракет-хлопушек, взлетевших ввысь и возвестивших о том, что тело мальчика опускают в могилу, прервал спор между священником и учителем. Падре Сантос ограничился красноречивым жестом, означавшим, что сутана все же лучше, чем ослиные уши или рога черта на голове.
Осталось лишь утоптать землю на свежей могиле, укрепить крест в груде камней и — что значительно тяжелее — уйти отсюда, оторвать от маленького холмика мать, которая будто пустила корни рядом с останками своего малыша. Ничто не пускает так быстро и так глубоко корни, как горе. Пришлось оттаскивать ее силой. Мать сопротивлялась, она не могла расстаться с одиноким крестом, на перекладине которого было написано имя: «Венансито»…
Пономарь подошел поздороваться с Маленой у самых дверей дома священника. Пьедрафьель простился с ними в воротах кладбища, и лишь Малена и Танкредо сопровождали священника до его дома, и тут его поджидали. Лицо Танкредо с широкими и толстыми губами улыбалось; ботинки у него больше ступней, штаны длиннее ног, голова шире туловища, а волосы — настоящая копна. Что-то пережевывая, пономарь протянул:
— Тут Кайэтано Дуэнде искал…
— Кого, меня?
— Да, сеньорита…
— Не сказал зачем?
— Нет, не сказал.
— А вы не знали, что я на похоронах?
— Сказал ему, но он только головой помотал и был таков…
С дерева сорвалась стайка голубых кларинов и взмыла к церковной колокольне. Малена спросила:
— А эта ива, чья она?
Танкредо посмотрел на сеньориту Табай с некоторым недоверием, не понимая, что она — смеется над ним или просто рехнулась. Как это понимать, чье дерево?!
— Чья? Ничья, сеньорита, своя собственная… Как вы принадлежите себе, так и дерево…
— Я неточно выразилась… Хотела узнать, принадлежит ли эта ива кладбищу или церкви.
— Выросла она на кладбище, а ветви перебросила к церкви…
— Как она прекрасна…
— Прекрасен только господь бог!
— Что же это падре не возвращается?…
— У вас к нему дело?
— Просил подождать…
— Пойду и напомню ему, а то он подчас забывает… и… — остальное Танкредо пробормотал уже себе под нос, — …тем более, что ждет его какая-то ненормальная, еще спрашивает, чьи деревья… Боговы, чьи же еще они могут быть!.. Да и этот сеньор священник тоже, пожалуй, тронулся: всякий, кто много читает, в конце концов приходит к тому, что почти ничего не знает…
Малена подошла к иве и прислушалась к шепоту ее ветвей, вздрагивающих, как ее собственное тело; она смотрела на иву, приоткрыв губы, и что-то молча говорила ей — дыханием, взглядом, биением пульса. Да, она обращалась к ней, благодарила ее за помощь любимому в ту ночь, когда рядом проходил патруль и когда Хуан Пабло услышал вынесенный ему приговор. Любимый был здесь, под этими ветвями; в ту ночь она выгнала его из дому, а эта ива, выросшая среди мертвых, дала ему, живому, приют… Но если бы она не выгнала его, не сказала: «сейчас я хочу, чтобы ты ушел», его бы схватили…
Стараясь скрыть волнение — только она и Пополука знали об иве, — Малена вместе с падре Сантосом направилась к школе.
— Я получил свежие газеты, но не хотел тебя тревожить, — на ходу сказал ей священник.
Малена от неожиданности оступилась и, стараясь скрыть волнение, произнесла:
— Его схватили?
— Нет, дитя мое, нет, не произноси таких слов. В газетах сообщается, что усилена охрана на границах и что всех участников заговора вчера вечером приговорили к смерти. Завтра казнь.
— Его арестуют и убьют, объявят, что он убит при попытке к бегству, — и никто ничего не узнает…
— Выбрось это из головы; это скомпрометировало бы правительство!..
— Скомпрометировало правительство?
— Пойми, дитя, правительство, как все правительства, пришедшее к власти с помощью насилия, считает, что авторитет и террор — это одно и то же и ничто так не терроризирует, как смерть, но здесь — особый случай. Меня пугает другое… — Падре вытащил платок и вытер пот с лица… — Прикончат кого-нибудь на дороге и заявят, что это был он…
— Прошло уже двадцать семь дней, — вздохнула Малена, — двадцать семь суток, считая с сегодняшним днем! Удивительно, как я до сих пор не сошла с ума…
— Господь всемогущ, уповай на его милосердие!
— А вы святой человек, падре!
— Не кощунствуй!.. Свят только господь бог!.. Оставить тебе газету?
— Раз там нет ничего о Хуане Пабло, не надо. Занесите их директору Гирнальде, он жаждет новостей…
— Наш сообщник!.. — рассмеялся священник. — Ну и ну!.. Либерал с претензиями, он прямо-таки извелся из-за этих цветов. Не поверишь, похудел настолько, что одежда на нем болтается. Всякий раз, как он меня видит, умирает со страху, что я принес плохие вести.
Незаметно спустился вечер. Пахнуло дождем — где-то очень далеко, на побережье, хлынул ливень, — но шум ливня, казалось, отдавался в ее ушах. Простившись со священником, Малена с удивлением заметила, что в школе тихо. Она и забыла, что сегодня суббота и занятий нет.
— К вам пришли, сеньорита директриса, — сказала ей уборщица.
По субботам в школе производилась основательная уборка: длинными щетками, похожими на пальмы, снимали со стен паутину, внутренние дворики мыли с такой же тщательностью, как посуду. Заботливо убирали веранду, где по воскресеньям собирались друзья сеньориты директрисы. Поломойки усердствовали изо всех сил, чтобы все блестело, как церковный дискос; ведь сюда приходит падре, смущенно думали поломойки и старались замолить грехи, в которых еще не успели исповедаться.
Малена остановилась, недовольная: она принимала только в служебные часы, а ведь сегодня суббота.
— Кто меня спрашивает? — раздраженно спросила она.
— Какой-то мужчина…
— Мужчина?
— Да, мужчина. Он уже давно ждет…
— Ваш покорный слуга… — раздался за ее спиной хриплый голос, да, знакомый голос, но она слышала его очень давно.
Кайэтано Дуэнде! Он подошел, поздоровался.
— Ничего, что я без предупреждения?
— Ничего, Кайэтано. Я очень благодарна вам за то, что навестили. Столько времени прошло с нашей встречи! Проходите.
— Я хотел добраться до Серропома на рассвете, но не получилось. Сон меня одолел, не смог пойти по утренней заре, добрел по вечерней. Слава богу, очень рад, что вижу вас в добром здравии!
— Входите, присаживайтесь! Сам Кайэтано Дуэнде! Проходите. Здесь у нас директорская. Присаживайтесь, пожалуйста, вон там можете положить вашу шляпу.
— Нет, барышня, шляпа всегда при мне. Ну, как поживаете? Мне кажется, что только вчера я привез вас на двуколке в Серропом… Вы были такая нежненькая, как роза без шипов, верно?… И школы тогда не было, помните?… Поштукатурил комнатенку Соникарио Барильяс — вот вам и школа… А вы тогда жили у Чанты Веги, царствие ей небесное. Не довелось ей умереть здесь, уехала на чужбину — там и окончила свои деньки. Оставила сынка, да вы его знавали, Понсио Суаснавар, он, правда, скорее был сыном некоего Пансоса, к слову сказать, было у нее еще трое сыновей, — чтобы уж подвести счет грехам… Был тогда и тот Кайэтано Дуэнде, такого-то помните?… Я сказал «тот», потому как теперь я другой; и тот же самый, и вместе с тем другой, — ведь у всех у нас, дуэнде-домовых, так водится: мы и разные, и в то же время одинаковые; и так всегда, кроме праздника всех святых — этот день считается днем и всех дуэнде. Так уж повелось, что у каждого дуэнде есть свой святой, который его преследует, а у каждого святого есть свой домовой, который его защищает, и ежели в день всех святых собираются все святые, то собираются и все домовые… (У Малены закружилась голова… Чанта Вега, Кайэтано Дуэнде, китаец, остановка у флажка, там, где не было станции, и телеграмма… ах!) Вспоминаете… только сошли с двуколки, как прибыла телеграмма, вы распечатали ее и подумали, что это не вам, а оказалось, вам, но не от того, от кого ожидали. Добро пожаловать прошлое, забытое, которое в один прекрасный день является вдруг новым, как бывает, когда наешься грибов нанакасте!..
Малена все увидела заново. Она уже не сидела за своим письменным столом, а покачивалась на сиденье таратайки, впереди восседал Кайэтано Дуэнде — спина словно гора, шляпа как облако, окутавшее гору, — и плел всякие небылицы…
— Помнишь, я сказал тогда, что звезды — это золотые замочные скважины и твои пальцы — ключи к этим скважинам?… Пока не исполнилось, но скоро исполнится. Выйдешь вместе со мной на плоскогорье и увидишь, что горы колышутся под ветром, словно развернутые знамена…
Малена вскочила — лишь сейчас она сделала то, что ей так хотелось сделать еще одиннадцать лет назад, когда этот человек вез ее с остановки, где алел флажок, на высоты Серропома: вскочить, спрыгнуть с таратайки, остаться на месте, не ехать дальше… Опершись о письменный стол, а точнее, вцепившись руками в край стола — ей казалось, что таратайка, раскачиваясь, катится над обрывами и тенями, — Малена предложила ему чашку кофе. Ее безудержно потянуло глотнуть свежего воздуха.
Издалека донеслись детские голоса — начиналась спевка хора. Она направилась туда чуть ли не бегом, опасаясь, что Кайэтано Дуэнде последует за ней.
— Сеньорита! — позвала она у двери учительницу Кантала. — В директорской сидит… — ей хотелось сказать — домовой, — один сеньор, позаботьтесь, пожалуйста, чтобы его угостили кофе, и передайте, что меня вызвали по срочному делу. Неужели нельзя уставшему человеку отдохнуть хотя бы в субботу? А тут приходится принимать посетителей с улицы…
— С большим удовольствием, сеньорита.
— Простите, что прервала вас, но я просто в отчаянии. Этот человек напомнил мне о прошлом, о дне моего приезда сюда.
— Иду за кофе…
— Можно попросить девушку, чтобы принесла…
Малена добрела до своей комнаты, точнее — до своей кровати, бросилась на постель и тут же вскочила, ей представилось, что это не койка, а таратайка, на которой она приехала в Серропом, только на этот раз повозка увозила ее мертвую, бездыханную. Дуэнде — на козлах, со своей несносной улыбкой зеленого кипариса, — да, да, кипариса, — расползающейся по лицу, со своим взглядом зеленого кипариса, — да, да, кипариса, — струящимся из глаз, и с кипарисовой зеленоволосой, подстриженной ножницами рощей на голове… Бездыханная? Мертвая, нет! «Ни за что!» — закричала она и подбежала к зеркалу… Но зеркало ничего ей не сказало. Пустое стекло. Напрасно стремилась проникнуть она сквозь тонкий стеклянный лист, туда, к тому, что кроется за зеркалами жизни… Дыхание… ее дыхание скажет, мертва она или жива… Она вздрогнула, увидев свое отражение, вначале туманное, но постепенно становившееся все более явственным, все четче вырисовывавшееся в дымке ее дыхания… Ах, если бы можно было протянуть руки сквозь зеркало, дотронуться до себя, ощутить себя, почувствовать себя!
— Сеньорита директриса!
Голос учительницы отвлек Малену от зеркала. Она; едва успела надеть темные очки. Чешуйчатая оправа словно два звена цепи, изъеденной морской солью.
Ана Мария Кантала стояла у двери с чашкой кофе в руке.
— В директорской, вы сказали мне, сеньорита? Там, никого нет…
— Но я оставила его там. Может быть, ушел.
— Как же он мог уйти, если дверь закрыта на ключ?
В сопровождении учительницы Малена вошла в директорскую — Кайэтано Дуэнде исчез.
— А что, если он еще и нечист на руку?…
— Нет, сеньорита, об этом не беспокойтесь. Он очень хороший человек и заслуживает полного доверия. Это возница, что привез меня в Серропом много лет назад… Что со мной? Я старею…
— Что вы, сеньорита!
— Мне было, Ана Мария, девятнадцать лет, когда я приехала сюда директрисой смешанной школы… это было одиннадцать лет назад… Но, простите, я прервала ваши занятия… продолжайте. Мой посетитель, очевидно, пошел выпить кофе на кухню.
— Нет, нет, сеньорита директриса, я должна унести посуду.
— Ну что вы, дайте мне чашку, дайте — все будет в порядке. Я найду его, он, очевидно, беседует на кухне с девушками. Тогда он поймет, что я ищу его, чтобы угостить кофе. Нельзя было оставлять его одного, ведь он пришел поговорить со мной.
— Ну если так, сеньорита, — учительница передала ей чашку. — Я хотела сама ее унести.
Что произошло в школе, сразу трудно было понять. Ах, вот что: исчез попугай. Он терзал всех каждый час и каждый день, а по субботам просто неистовствовал. По всей вероятности, это из-за тишины в школе — ему не хватало гомона детских голосов.
Не найдя Кайэтано Дуэнде на кухне, Малена спросила, не видел ли его кто-нибудь из прислуги.
— Да он, похоже, проходил, — ответила ей одна из служанок.
— А это кто? Гойя?
— Нет, сеньора Грехория моет посуду на кухне. А я — Николаса Турсиос. Совсем недавно был тут этот сеньор, в летах. Сказал, что вас уже видел, что вы хорошо выглядите и что он уходит. Говорил он с сеньорой Гойей…
Появилась другая служанка, вытирая фартуком мокрые по локоть руки.
— Так и сказывал. Вот как говорит Кулача. Сказал, что он вас повидал, что у вас все хорошо, сказал, что уходит. Я даже проводила его. Он попрощался и почему-то дверь припер снаружи.
— А я ищу его, чтобы угостить кофе…
— Кулача, да помоги же, возьми чашку из рук сеньориты, не стой столбом! — приказала Гойя и пробормотала себе под нос: — Клянусь, что выпьет, насчет питья да еды — цены им нет. Уж на это-то они способны! — Затем она обратилась к Кулаче: — Поставь чашку в таз с грязной посудой и начинай вытирать тарелки. Вытирай и складывай кверху дном, одну на другую.
— Чем выливать кофе, лучше выпейте, — заметила Малена, — кстати, к нему еще никто не прикасался.
— А хоть бы и прикасался! Правда, Кулача? Для голодного нет на свете черствых крошек. А такие молодые, как она, всегда голодны. Природа-то приказывает, ничего не поделаешь. «Хошь не хошь, а поезжай, раз взобрался сюда», — говорит седло всаднику!
— Да благословит вас бог, сеньорита, я лучше выпью, он еще горяченький! — радостно поблагодарила Кулача и, отойдя с кофе в сторону, процедила сквозь зубы: — Ежели старая Гойя не ясновидящая, значит, ведьма. Как она угадала, что мне хочется кофе? По ночам окуривает дом отваром из смоквы или при лунном свете разложит на черной тряпке белые кости и разговаривает с попугаем, будто он человек… а сейчас… пропал этот попугай, летает где-то, и лучше бы не возвращался, что ни говори — вредная птица…
— Сеньорита! — воскликнула Гойя, оставшись наедине с директрисой. — А ведь это был Кайэтано Дуэнде…
— Знаешь его?
— Он-то меня не знает, зато я его знаю… Скажу, прямо… он зарабатывает себе на жизнь тем, что помогает контрабандистам или тем, кого преследует полиция. Мало кто знает так, как он, подземные ходы, что ведут прямо на побережье… Но… что это… Я говорю о Кайэтано Дуэнде, а сама даже с ним не попрощалась…
— И мы тоже не попрощались.
— Ежели он вернется, не показывайте виду, что я вам что-то о нем рассказала. Чудодейственным образом проводит он их по подземным переходам. Вы, право, удивитесь, когда узнаете, что рассказывают о нем. Конца-краю этим историям нет. Только одному ему ведомо, где века, тысячелетия назад лава прошла под этими горами… Как никто, он знает пещеры… подземные ходы, в незапамятные времена пробитые лавой в горах.
— Странно, столько лет живу здесь, ни разу об этом не слыхала, — задумчиво проговорила Малена, и мысли понеслись со скоростью пылающей крови. Пещеры… подземные переходы… ходы, что ведут на побережье… полицейские… патрули… кавалеристы… живым или мертвым… живым или мертвым… Кайэтано Дуэнде… где этот человек?… Кайэтано Дуэнде… подземные ходы… подземные ходы, что ведут на побережье… живым или мертвым… сказала бы ему… Кайэтано Дуэнде…
— В Серропоме все об этом знают, да помалкивают, сеньорита. Это тайна, ежели проболтаешься, язык отсохнет. Вам я рассказала, зная, что вы никому не расскажете, но, простите меня, пусть это останется между нами. Я-то все это вот откуда знаю… Овдовела я, когда еще была молоденькая. Потом вышла замуж за Селестино Монтеса, который был точь-в-точь как мой покойный муж, да, такой это был мужчина, что из-за пропавшего коня, у которого, говорят, был хозяин, прикончил он одного из конной полиции, — тот потребовал с него бумаги о купле-продаже. И если бы не Кайэтано Дуэнде, — пошли ему господь бог долгую жизнь! — если бы не вывел он его подземным ходом, то схватили бы мужа. А уж как его искали! Будто иголку. Сожгли у нас ранчо. Я, спасаясь, скатилась с горы, спряталась в овраге, заросшем кустарником. Чуть было не убилась. Помер только младенчик, на сносях я была.
— И его не схватили…
— До сих пор удивляюсь, сеньорита, как только вспомню, что ускользнул он у них прямо из рук да и скрылся под землю! Конная полиция вдоль дороги, облавы, засады, пыль, пули, а Селестино Монтес — там, где только покойникам место.
— Выходит, родился заново.
— Вот и я так думаю, и родился, поди, под другим именем! В другом государстве, и, может, с другой женой. Мужчины все норовят сменить законную жену, представился бы только случай… Да что же случилось с попугаем?… Кулача! — окликнула она девушку, вытиравшую тарелки. — Поищи-ка Таркино, куда он запропастился? Куда он мог подеваться, не мелочь все-таки, чтобы пропасть без следа!
Девушка пошла было к двери, но у порога остановилась:
— Вспомнила. Старикан, что бродил тут, унес его. Да вон он идет сюда вместе с попугаем!
— Ну и причуды у этого Дуэнде! — вздохнула Гойя, идя навстречу Кайэтано Дуэнде. — Гулять с попугаем, как со своим приятелем, вместо того чтобы пригласить нас на прогулку!
— Передайте Кайэтано Дуэнде, — остановила ее Малена, — что я жду его в директорской…
— Но без попугая, сеньорита, без Таркино… кто же может выдержать сразу и попугая, и болтуна!
Малена быстро прошла в кабинет и с нетерпением стала ждать Кайэтано Дуэнде. Слышались чьи-то шаги. Казалось, что шаги Кайэтано Дуэнде. Но он не приходил. Не приходил. Так-таки не приходил. Однако Малена слышала его шаги. Слышала. Слышала… Слышала, эхом отзывались они в сердце… Она предложит этому человеку любую цену, лишь бы спасти любимого, вывести подземным ходом к побережью. Снова послышались шаги, но они не дошли до двери. Неужели это лишь обман слуха?… В двери из мрака возник живой реальный образ. Он вошел в комнату, шаги его звучали по полу, вот он уже у письменного стола… Но звуки гасли, как только она хотела просить Кайэтано Дуэнде спасти его… живым или мертвым… качается маятник туда-сюда… живым или мертвым… живым… живым… живым. Отзвуки шагов слышатся среди книг в библиотеке, звенят в электрической лампочке, в графине с кристально чистой водой. И с потолка, будто внезапно расколовшегося, она услышала… нет, это не Кайэтано Дуэнде… это разверзся потолок — и раздались слова:
— Алые камелии!..
Пароль заговорщиков в устах Кайэтано Дуэнде означал многое. Все смолкло — не стихло только ее сердце, не стих маятник часов, продолжал отстукивать ее карандаш… а Кайэтано Дуэнде, усевшись напротив нее в кресло, подошвами своих башмаков растирал песчинки какого-то подземного хода.
XIII
Малена суетилась. Во что бы то ни стало надо успеть все сделать в субботу. Этой же ночью она пойдет с Кайэтано Дуэнде, а возвратится завтра, в воскресенье, под вечер. С собой нужно будет захватить чемоданчик или лучше брезентовую сумку — в нее, конечно, войдет больше. Под руку попал чемоданчик. Как назло не закрывается. Если перевязать шпагатом?… А вот и сумка — оказалась под грудой бумаг. Пожалуй, удобнее все-таки сумка.
Малена ходила из директорской в свою комнату и обратно — боялась, не забыла ли чего. Ключи в руках: отпирала там, запирала здесь. Деньги. Собрала все бумаги, что были в письменном столе. Переворошила библиотеку, разыскивая какие-то книги. Решила сменить туфли, накинула на себя пальто, большим платком покрыла голову. Черкнула несколько слов учительнице Кантала. Пошла в кладовую: набрала консервов, бутылок, галет — всего понемногу.
Ее опередил Кайэтано Дуэнде. Заглянул на кухню — красноватые пристальные глаза точно угли из-под пепла — и предупредил сеньору Гойю, что отправляется вместе с сеньоритой директрисой.
— Вот я и пришел проводить сеньориту на прогулку в горы, — вполголоса сказал он. — С Пополукой совсем плохо. Болеет он. Водянка…
Гойя не совсем еще очнулась от сна, веки ее слипались. Она протяжно зевнула.
— Водянка?… Аве Мария! Да ведь от этого помер… — имя покойника она так и не успела произнести — одолевал сон, и, сокрушенно качнув головой, повторила: — Да, да, так и есть, от этого самого помер…
И уже не слышала она, как Дуэнде, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить уборщиц и спавшего на жердочке попугая, осторожно открыл дверь; не слышала, как из школы вышла Малена; не слышала, как удалялись их торопливые шаги…
— В темноте нет расстояний. Хоть это путь и неблизкий, мы скоро придем, — подбадривал Кайэтано Дуэнде свою спутницу, иногда замедляя шаг, чтобы она не отставала.
Шагая впереди, Кайэтано Дуэнде говорил:
— Великая черная лава создала потайные ходы… А молнии и подземные реки, будто водяные змеи; тоже прокладывают свои пути, каждая на свой манер. Каким же путем мы направимся? Мы не пойдем по путям большой черной лавы, которые выходят на другую сторону гор, к побережью. Мы изберем путь Молнии и путь Водяной змеи и дойдем до Пещеры Жизни, там он нас и ожидает.
Малена озирается по сторонам: вдруг за ними следят, вдруг их задержат, вдруг не дойдут они до условленного места, — шагают ноги, шагают ноги, да, да, шагают ее ноги, да, шагают ноги, шагают… освобождены от пут лошади… громко звучат голоса… распахнуты настежь двери… свободны шаги… вольны облака… а ее ноги шагают, шагают без остановки, и не слышит она слов Кайэтано, с которым договорилась, что по улицам Серропома он пойдет впереди, на определенной дистанции, делая вид, что не имеет к ней отношения. «Не потерять бы из виду Кайэтано Дуэнде», — думала Малена. Однако вскоре она сбилась с пути; слабы ее глаза, ничего не видят во мраке. И все же она шла, не видя, а скорее догадываясь, что где-то впереди Кайэтано Дуэнде. К Гроту Искр — прямо на юг. Ноги ее несли по расплывчато-туманному и в то же время ясному, как Млечный Путь, селению; когда выплыли из тьмы очертания церкви Голгофы, Малена подумала о падре Сантосе, не увидит он ее на восьмичасовой мессе в воскресенье утром. Будет беспокоиться. Не хватит ему возгласов «Dominus vobiscum» [16], чтобы, еще и еще раз обращаясь к прихожанам, обвести их взглядом — не пришла ли она. Зайдет в школу. Спросит. Ему скажут, что она у Пополуки. Но вот они уже миновали Голгофу — ветер гудит в колоколах ливнем спящего металла, — миновали дом священника с каменной оградой и широкой каменной скамьей; каскадами падает завеса ивы, под которой Хуан Пабло провел ночь и где узнал из уст начальника патруля, что его разыскивают живым или мертвым. Дойдя до угла, они вошли на кладбище, и вдруг стало оно раскачивать свои кресты и надгробия, словно пытаясь преградить им путь. Впереди, сзади, по сторонам, близко и далеко кружились кресты под небом, в котором мерцали горящие свечи — звезды.
И не только кресты, но и уличные фонари, и разбросанные вдоль дороги камни, и белеющие домишки окраины, и последний мост, и темные хижины, и ветви деревьев — все кружилось вихрем над головой Малены, и ей уже казалось, что ее ноги — внезапно вытянувшиеся, точно столбы дыма, — отрывались от ступней с каждым шагом по земле — теплой и насыщенной глухим ропотом прорастающих корней и проползающих червей, по земле, ступенями уходящей вглубь, к царству камня, в котором прорубила путь молния.
Несмотря на столь странные ощущения, сознание Малены было ясным. Она догадалась, что неподалеку от сухого каменистого склона, круто обрывающегося в овраг, прикрытый сучьями и сваленными деревьями, находится вход в темный провал. Грот Искр.
Неожиданно на кончике пальца Кайэтано Дуэнде вспыхнул огонек, брызнули искры, поднялся дымок.
— Не думай, сеньорита, что это горит мой большой палец. Это только так чудится, это не палец, а палочка из сосны окоте, первая из пятидесяти, которые я заготовил в дорогу. Этого нам достаточно на весь путь, и даже останутся. По пять рук в каждом кармане моей куртки. Я зажег первую, потому что мы уже вступили на наш подземный путь. Раньше этого нельзя было делать. Прости, что заставил тебя идти в кромешной тьме, ты даже не знала, куда ногу поставить, но…
— Мне думается, это было необходимо, мало ли кто мог заметить свет и пойти за нами…
— Не только поэтому… Вступая в потайной ход, нельзя зажигать огонь… Нельзя зажечь даже такую палочку, как смолистое окоте. Ударит гром, и поразит молния.
Они продвигались под мрачными сводами, сужавшимися и уходившими вдаль, зигзагообразный путь был словно пробит молнией в скалах, стало заметно холоднее, преследовал неприятный запах серы, сверху угрожающе надвигались какие-то огромные темные пятна. Малена дотронулась до одного из них вверху, над головой, и убедилась в том, что пятна неподвижны; это только мерещилось, что они перемещаются, скользят по своду, — оттого что двигались огни.
— Окоте, зажженное под землей, светит ясным лунным светом, — заметил Дуэнде, — желтым светом, поскольку луна дает соснам смолистый сок, который горит золотистым пламенем. Лучшее окоте из тех сосен, что росли под луной и напились терпентина…
Пятна продолжали надвигаться, плыли над головами, похожие теперь уже не на тучи, а на огромных зеленых жаб, гигантских медных пауков, металлических рыб в водоеме, обрамленном песчаником. Дивные узоры из минералов и фульгуритов. Малена рассматривала и классифицировала их, чуть ли не называя вслух вещества, входившие в их состав — ей казалось, что так легче сохранить ясность ума и уверенность в себе.
Тоска одолевала ее. Может быть, сказывалось пребывание под землей — сейчас они шли анфиладой длинных и узких переходов. Она старалась вспомнить скудные школьные познания, чтобы не утратить ощущения реальности мира, хотя казалось излишним убеждать себя в том, что эти пещеры образовались под влиянием атмосферного воздействия, кропотливой работы подземных рек, вулканических извержений или от удара молнии. Тоска не покидала ее. А может быть, говорили тревога и страх, она боялась опоздать или разминуться с ним в этих темных лабиринтах, где достаточно угаснуть язычку пламени, чтобы все погрузилось в беспросветный мрак, в котором невозможно найти друг друга. Она шла — прикованная к пламени, как к собственной жизни. Не отрывала глаз от смолистого факела, а в душе кипело раздражение против проводника: пятьдесят щепок воспламеняющейся древесины — так мало! Огонь поглощал их как терпентин. Почему же старик не предупредил ее?… Почему она не захватила электрический фонарик… не подумала об этом… или большой фонарь, что вывешивается перед школой в дни праздников, или, на худой конец, хотя бы масляную лампочку из кухни… Что, если они не дойдут до места встречи… затеряются в темноте… на полпути?… Но как заговорить об этом, если на губах печать страдания?…
— Теперь вглуу-у-у-у-убь!.. — подал голос Кайэтано Дуэнде; его мучила одышка, и, прогудев эти слова, он поднял руку с горящим факелом.
Эхо повторило отзвук. Пламя закоптило свод галереи, в которой повсюду белели скелеты животных, казавшиеся кусками известняка. Время от времени под каблуком Дуэнде хрустели кости, ребра, челюсти, рога… Он не спотыкался о них, а просто наступал на них и растаптывал… Покончить с этими ископаемыми, это — дозорные смерти…
Мрак, который их окутал, можно было сравнить лишь с царившим здесь глубоким молчанием. Они медленно продвигались вперед, свет факела отбрасывал их тени. Дойдут ли они? Скоро ли, нет ли? Может случиться, они не дойдут, не дойдут, не дойдут никогда. Порой Малена начинала терять контроль над своими нервами, силы покидали ее и на висках выступал холодный пот, но она думала о нем, ожидавшем ее где-то здесь, в этом подземном мире, и силы возвращались к ней. Она шла, чтобы увидеть и услышать его. Чтобы увидеть и услышать его, она обратилась к Дуэнде, в руке которого горит окоте, одна лучина за другой.
— У каждого своя тень пляшет, — размышлял вслух Дуэнде, — забросишь тень за спину, а она пляшет и пляшет… И никак от этого не уйдешь, ночью даже по дороге мертвых не пойдешь без света, а как только задрожат языки огня, так тень и начинает плясать и все равно что горе — даром что ничего не весит — нарастает и прижимает тебя к земле. Иной раз ты торопишься, а она танцует… другой раз у тебя серьезное дело, а она приплясывает… порой не до веселья, а она пританцовывает то спереди, не давая прохода, то сзади, и приходится тащить ее за собой, чтобы она прекратила плясать, а то пританцовывает сбоку, и приходится спешить за ней и плясать вместе с ней, — и пляской увлекать ее за собой, и это-то и есть самое плохое, — приходится идти, вот как сейчас, шагая и пританцовывая, шагая и пританцовывая…
Так они шли, ноги их вышагивали, а тени их приплясывали под музыку лающих языков пламени, разбрасывавших охапки огненных листьев. Ноги их вышагивали, а тени приплясывали в такт размеренному ритму пламени, вздыхавшему, как спящая пума… ноги и тени против теней и ног. Тени, вздымаясь, обрушивались на них со скоростью черных молний, скользили по вогнутым экранам сводов, рассыпаясь дождем ресниц, а на полу извивались сверкающие гремучие змеи… ноги и тени против ног и теней, взлетавших, как кузнечики, на плечи… паривших над головами, как птицы с траурным оперением… Так они шли… так они шли… так они продвигались вперед, несмотря на грозные тени и головокружение… Тела их словно распадались на частицы, и эти частицы танцевали… руки и ноги реяли в воздухе… головы и руки парили… сталкиваясь друг с другом… Все смешалось… Он с ее головой… она с его руками… его тело без головы… ее — с двумя головами… он с четырьмя ногами… она с четырьмя руками… от нее только голова… без торса… без ног… без рук… только голова… а затем все вместе в целости… так же как и раньше… будто они вовсе и не плясали… Так они шли… так они шли… так продвигались вперед, несмотря на грозные тени… тени-каннибалы с огненными зубами, пожиравшие друг друга… так шли они… так продвигались вперед…
Дуэнде остановился и зажег новую лучину окоте, — уже сожжены четыре руки — двадцать лучин красноватого дерева. Оставалось только тридцать. Надо прибавить шагу.
Прибавить шагу?
Разбитая, окоченевшая Малена, спотыкаясь, шагала вперед, не понимая, куда ступают ее ноги, опираясь о стены ладонями, локтями, руками; затылок раскалывался от боли, ломило в пояснице — идти приходилось нагнувшись, чтобы не удариться головой, на губах какая-то влага с привкусом дыма окоте, ее знобило, она нетерпеливо ждала очередного поворота, но за ним открывалась другая галерея, а за ней — опять поворот, а за тем поворотом — еще галерея. Этой цепи поворотов и галерей, казалось, нет конца… сопротивляться… собрать все силы… быть может, уже недалеко… там… где-то там… а тени пляшут… да… да… прав был Кайэтано Дуэнде… вот им сейчас невесело, а тени пляшут…
Порыв свежего воздуха унес пламя; на кончике окоте осталась прядь белого дымка. Они вышли на поверхность; трава в ночной росе; видны звезды, здесь пахло ночью и ощущались объятия ветра. Однако эта передышка была мимолетной, недолго ступали их ноги по земле — надо было обойти гору — ноги шагали сами по себе, надо было обойти ее еще раз — и снова шагали ноги сами по себе, надо было обойти ее еще и еще раз; трижды окружили они гору раскаленными следами, пока не заставили ее закрутиться, закрутиться с завыванием волчка — койота, пока не заставили ее исчезнуть. Перед ними неожиданно разверзлась земля, открылась окутанная туманом брешь, и ноги, ступавшие сами по себе, вновь зашагали по лабиринтам подземелий.
— Этот вход проложен уже не молнией, — объяснил Кайэтано Дуэнде, разжигая факел из окоте в галерее чешуйчатых зеркал, раздробивших огоньки пламени тысячами дождевых капелек, — и вот по чему я это определил. Это не изломанный путь Молнии… а спокойный — путь Водяной змеи… Здесь промчался водяной смерч, пробуравил скалу своим телом, чтобы дать нам пройти этой галереей дремлющей чешуи… Еще немного, и мы попадем в Пещеру Жизни, но перед этим будет опасный переход, где придется зажечь сразу девять больших лучин и сказать: «Да спасет нас Волшебный факел!..»
Все так и было, как предсказал Кайэтано Дуэнде. Перед тем как подойти к Пещере Жизни, они разожгли лучины Волшебного факела и чуть ли не ползком прошли опасный переход среди скал, покрытых раскачивающимися летучими мышами и вампирами, то ли живыми, то ли мертвыми, — заплесневевшие тела и распростертые кристаллические крылья.
— Самое опасное под землей, — продолжал Дуэнде, — остаться без света. Легко спасти окоте, когда ветер гасит пламя… Достаточно заслонить огонь рукой или шляпой. Но трудно уберечь пламя под землей от влажного мрака, высасывающего свет. Вот тут-то и приходится ломать голову, что сделать, чтобы мрак не съел пламя. Очень опасно также, если погаснут тени путников, а во мраке затаился обрыв, вот такой, как здесь. На краю пропасти опасней сорваться тени, чем живому человеку, это уж известно… человек, у которого тень сорвалась в пропасть, теряет равновесие судьбы…
Малена подошла ближе к старику, напуганная больше его словами, чем расщелинами, распахивавшимися под ее ногами, — черными, красноватыми трещинами, широкими и глубокими, похожими на корни деревьев, деревья пропастей мрака, выросшие в подземной ночи. А что, если он не позаботился о своей пляшущей тени, та свалилась в обрыв, и он не дойдет до места встречи…
— Если почувствуешь, что у тебя под ногами шевелятся камни, не пугайся, — предупредил Малену старик, подняв факел. — Если заметишь, что камни валятся тебе под ноги, если они захотят отвести твою ногу в сторону, не пугайся, и не кричи, и не наклоняйся, чтобы услышать, как они падают… не смотри вниз и не оборачивайся, смотри только вперед! Вот доберемся до Пещеры Жизни, откуда начинается большое…
— Но мы идем только до этой пещеры? — прервала его Малена, которую этот бесконечный лабиринт начал приводить в отчаяние.
— Да, да… — подтвердил Дуэнде. — Так вот оттуда начинается большое подземелье, выдолбленное змеей лавы. Когда она отправилась к морю утолять жажду, то оставила свою чернокаменную шкуру. Поэтомуто и выходит это подземелье по ту сторону гор — прямо на побережье — и мы уже были бы в Пещере Жизни, но сама земля здесь преграждает доступ под этот гигантский свод над пустынным залом, столь, обширным, что почти не видно Арки каменных кактусов — трона, что находится посредине, трона из зеленого камня, с сиденьями для девяти королей и…
Он не успел даже крикнуть Малене, чтобы та поспешила. Потерял голос, даже дышать не мог. Бежать — единственное, что им оставалось! До смерти перепуганная Малена решила, что их обнаружили и преследуют… Хотя тогда Дуэнде немедля погасил бы факел, а не защищал его от встречного потока воздуха.
Что же это? Лавина?… Подземная лавина?… Грязевые потоки?… Лава… Песок… Их засыплет?… Ах, если бы можно было спросить Кайэтано! Их засыплет сейчас? Ах, если бы можно было спросить его! Что мог увидеть Кайэтано?… Что он увидел?… Что услышал?… Какая опасность им грозила?…
Ничего он не видел и не слышал, но бежал от чего-то страшного, как сама смерть. Лавина мрака наваливалась на них. Последние лучины окоте догорали в его руках. В карманах не оставалось больше ни одной. А впереди еще ожидало самое опасное: им предстояло пройти по скалистому краю обрыва в две куадры длиной, по которому страшно было идти даже при свете. Скала и обрыв… Скала и обрыв… Все спасение в том, чтобы успеть пройти раньше, чем погаснет огонь. Его пальцы, преследуемые жаром плачущего смолой дерева, затем — огненными язычками, затем — огнем, отступали… Как же удержать в руках догорающую лучину окоте, которая становится все меньше и меньше? Скорее, еще скорее! Он будет держать факел высоко над головой, будет держать до тех пор, пока сможет. Может быть, они еще успеют… Скорее, еще скорей! Однако теперь в обожженных ногтях тлел уже не светильник, а раскаленные угольки. Огненная пыль. Но вот переход — скала и обрыв. В последнем мерцании огня Малена увидела этот, по сути, воздушный мост, и не могла сдержать крик ужаса — она забыла, что здесь опасно шуметь…
Она кричала, кричала, кричала…
— Сюда… сюда… — повторял Кайэтано, ведя ее за руку. Сам он уже утонул во мраке, и ноги его ступали сами по себе.
— Сюда… сюда…
Дуэнде знал этот опасный узкий переход на память, но сейчас продвигался неверными шагами. Каждый ложный шаг мог оказаться последним, к тому же полузамерзший, ослепший от темноты старик держал в своей руке руку другого человеческого существа. Все зависело от того, насколько удастся прижаться к скалам, ближе к скалам, вплотную к скалам… И двигаться осторожными, скользящими шажками. В этом — спасение! Только бы не сорваться в пропасть… Скоро они будут вне опасности — в Пещере Жизни… Почему он захватил так мало окоте?…
— Я вижу… вижу… — подбадривал ее Кайэтано, крепко держа за руку.
Он даже уверял ее, что может видеть в темноте и слышать в тишине, хотя ничего не видел и ничего не слышал, кроме шороха — это они сами задевали за изломы камня, — и чем злее их рвали камни, тем больше и больше крепли их надежды. Рассыпается песок и галька. Под слепыми шагами, затерявшимися в темноте… Ноги Кайэтано движутся сами по себе, ноги Малены движутся сами по себе… Малена не жаловалась. Жаловалось ее тело, безмерно усталое, измученное.
— Осталось куадры полторы… — голос Кайэтано слышался издалека, как эхо… — ту… да… куа… дры… пол… то… ры… — Неужели это говорит тот самый человек, который крепко держит ее за руку? — Я вижу… я вижу… — повторяет он снова. — Сюда… сюда…
Не дойдет… она не дойдет…
— Я вижу… я вижу…
Полное молчание. Полный мрак. Ничего она не видит и ничего не слышит, кроме рассс… рассс… расce…чесывания плеч и спин о скалистые изломы. Медленно движутся их ноги, шагающие сами по себе…
Не дойдет… она не дойдет…
Расссс… рассс… рассс… (не дойдет… не дойдет…) рассс…ыпается песок под ногами, галька скатывается вслед…
Не дойдет… она не дойдет… подворачиваются ноги.
— Сюда… сюда…
Подгибаются колени… она чувствует, как с каждым шагом подгибаются ноги, а может быть, лучше упасть на колени и дальше добираться ползком?…
— Сюда… сюда…
Она поползет на коленях, сколько сможет, а потом…
— Я вижу… я вижу… сюда… сюда…
Пусть ее тащат, будто груз. Даже если она потеряет сознание, даже если умрет, только бы не опоздать на встречу…
— Сюда… сю…
Оборвался голос проводника, и в ту же секунду он выпустил ее руку. Малена упала бы, если бы не подхватили ее две руки, огромные, жесткие, ледяные и волосатые, как крылья вампира, и в ее ушах не раздались два слова:
— А-л-ы-е к-а-м-е-ли-и!
Голос Хуана Пабло.
Зажмурив глаза и едва переводя дыхание, Малена что-то бессвязно забормотала. Что это, где она, не сон ли это, не исчезнут ли в вечном мраке эти крепко держащие ее в объятиях мужские руки — вздрагивающие и нежные, молчаливые и красноречивые?!
Да и нужны ли слова — ведь оба они живы, воскресли и встретились под землей; теперь можно так много поведать друг другу, сливая в одно и дыхание, и слезы, и движения — еле уловимые, невидимые…
XIV
Боль, пронзительная, острая, охватила все ее тело — болели ноги, болели плечи, болела спина, расцарапана кожа, изорвано платье; такой добралась Малена до Пещеры Жизни, где Хуан Пабло встретил ее распростертыми объятиями и паролем провалившегося заговора, а для нее этот пароль прозвучал призывом к воскрешению.
Держась за руку невидимого спутника, которого она слышала и ощущала рядом с собой, Малена в беспросветной тьме добрела до Арки каменных кактусов — этого трона королей в пещере. Здесь они с Хуаном Пабло решили дождаться зари — того момента, когда утренний свет облечет в плоть и кровь их туманные, растворившиеся во мраке силуэты.
— Аи!.. — воскликнула Малена, высвобождаясь из объятий. — А где же Кайэтано Дуэнде?
Внезапно она вспомнила про Кайэтано Дуэнде и безмерно огорчилась, что забыла о нем; хотела даже пойти искать его, но тут, в подземной тьме, можно было только звать его. Но Хуан Пабло успокоил ее: великий знаток подземелий, конечно, жив и здоров, он исчез потому, что знал — ее здесь ждут.
Кайэтано отпустил ее руку и тут же исчез — побежал наверх, чтобы наблюдать за ближайшим к лагерю дорожников входом в пещеры — именно этот вход случайно открыл Мондрагон, когда какое-то животное пересекло путь его джипу.
Кайэтано Дуэнде стал караулить — лишь с этой стороны можно было попасть прямо в Пещеру Жизни. Чтобы добраться сюда через другие входы, нужно было пройти по бесчисленным подземным галереям, погруженным в темноту; голос и звук шагов здесь были слышны издалека, так что можно было успеть вовремя скрыться. Именно по одной из этих галерей чернильного мрака и провел ее Кайэтано. Они, разумеется, могли бы воспользоваться этим входом возле самого лагеря — здесь путь был легче, — но это было слишком рискованно. Поэтому Дуэнде и выбрал наиболее длинный и тяжелый, зато менее опасный путь. Они спустились в окрестностях Серропома — будто их поглотила земля, — прошли по узкому, зигзагообразному Пути Молнии, поднялись на вершину передохнуть и подышать свежим воздухом, затем Путем Водяной змеи спустились в подземелье. Сгорели лучины окоте. Последний переход был очень страшен — меж скалистой стеной и пропастью ни зги не видать.
— Ты знал, что я иду?
— Слышал твой голос.
— Я испугалась, когда мы остались в темноте…
— Первой моей мыслью было бежать к тебе на помощь, но я не мог уйти отсюда; я обещал Кайэтано Дуэнде ждать вас здесь и, кроме того, побоялся заблудиться в этом лабиринте.
— Мы опоздали…
— Да, задержались… Я все смотрел — не покажется ли где огонек окоте. Как-то не подумал, что он может погаснуть.
— Не хватило окоте…
— А мне не хватало слуха — в молчании этих благословенных гротов прислушиваться к звуку твоих шагов. Но ты уже здесь!..
Хуан Пабло целовал ее, сжимал в объятиях, кончиками лихорадочно горячих пальцев водил по ее лицу, пытаясь восстановить облик Малены — точеный нос, влажные, сверкающие миндалины глаз, губы с грустной складкой, шею амфоры, плечи индейской богини; вдыхая запах ее волос, он упивался свежим благоуханием шелковистого ливня и словно хотел проникнуть в ее мысли.
— Я не могла не прийти… Услышала от Кайэтано Дуэнде — Алые камелии, и сразу же пошла за ним, как под гипнозом…
— Ах, как я хочу увидеть тебя! А солнце сегодня, как назло, запаздывает. На заре сюда обычно проникает странный призрачный свет. Будто камни светятся.
— Как хорошо, что ты нашел это убежище! Не можешь себе представить, что было — ведь тебя искали по всему Серропому, обыскали дом за домом, всю округу; военные патрули, конная полиция и пешие полицейские искали непрерывно, днем и ночью. Обыскали церковь и обе школы… Я была у себя. Учителя Гирнальду перепугали насмерть…
— Он передал тебе камелии?
— Ах да, да! Об этом я тебе потом расскажу… Они обыскали церковь, дом священника… где только не искали… Пополука? Туда тоже несколько раз заглядывали под разными предлогами… Нет, не потому, что подозревали, будто ты скрываешься там… Нет, просто потому, что его лачуга стоит на окраине… Если его, боже упаси, арестуют, то старика будут пытать… Хорошо, что здесь тебя никто не видел…
— Только Кайэтано Дуэнде. Ну а сейчас скажи мне, скажи мне…
— Что?
— Ты сама знаешь…
— Да, да, да… — Она трижды поцеловала его. — Да, да…
Она снова целовала его, а камни уже начали излучать свой грустный бледный свет.
— Пополука, — продолжала свой рассказ Малена, — передал записку, которую ты оставил для меня. «A bientot, cherie!» Но я так мучилась, милый… Я уже перестала верить твоему обещанию, что мы скоро увидимся… Мне это казалось невозможным… По ночам я поднималась, бродила по школе, смотрела через оконную решетку на улицу, и как только слышала шаги, спешила к дверям, думая, что это, может быть, ты стучишься, ищешь пристанища; но шаги удалялись, исчезали в молчании ночи, и я понимала — это были те, кто искал тебя…
— Живым или мертвым… — Хуан Пабло прижал ее к сердцу. — Знаю, любовь моя, знаю…
После паузы он продолжал:
— Самое чудесное то, что они не застали меня в палатке; я ушел к тебе…
— Любовь моя, любовь…
— Чтобы избежать сплетен, я не поехал на джипе. Белая форма слишком заметна — и потому я надел штатский костюм.
— Ты даже прошел мимо солдат патруля, который тебя искал… Мне сказал Пополука…
— Я даже собирался подойти к ним и попросить у начальника патруля глоточек, страшно хотелось выпить. Он на моих глазах пил, а я продрог до костей. Но вовремя одумался. Дай-ка, подумал я, загляну к падре Сантосу и промочу горло…
— Обо всем этом со всеми подробностями мне рассказал Пополука. Я только не знаю, как ты добрался сюда, как узнал об этих пещерах, которых, по словам Кайэтано, почти никто не знает.
— Случайно. Возвращался в лагерь… да, от тебя. Вдруг мне пересек дорогу какой-то зверь, еле успел свернуть. Я остановил машину, выскочил и погнался за ним. Зверь ускользнул в кустарники — они тут такие густые, что я чуть не заблудился. Я уже собрался вернуться к машине, как вдруг заметил, что ветки раскачиваются, будто от ветра, хотя ветра никакого не было. «Эге! — сказал я себе, — надо выяснить, в чем дело» — и, проследив по движению листьев, куда бежал этот зверь, наткнулся на вход в подземелье. Там сейчас караулит Кайэтано Дуэнде.
Сквозь расщелину где-то высоко-высоко свет начал проникать в пещеру, проступали очертания каких-то бастионов, призрачных колонн и сводов, потонувшие во мгле готические нефы, шпили и ниши, какие-то купола без облицовки или сплошь покрытые летучими мышами. Свет разливался, а Малена, внезапно охваченная ужасом, не знала, куда отвести глаза. Неужели этот человек, выплывавший из мрака, Хуан Пабло Мондрагон? Не может быть! Кожа рыжевато-грязного цвета, зрачки какие-то кошачьи, неестественно большие, губы и уши распухли… Неужели это он?
Хуан Пабло заметил, что Малена поражена — с печальной улыбкой, обнажившей острые, очень белые зубы, он хотел было отойти. Но она не позволила. Это он!.. Это он!.. — твердила она, стараясь не думать о лице несчастного. Чувствуя себя потерянными в прозрачной пустоте, на дне пещеры, они молчали.
— Не узнаешь меня?… — И, не дождавшись ответа, настойчиво переспросил: — Мален!.. Ты не узнаешь меня?…
Она тряхнула головой.
— Нет! Нет! Правда, нет!
— Ты не тревожься. Это не болезнь! Лицо деформировалось временно… это действие одного вида кактуса. Я жую его на ночь. Одет я под крестьянина-бедняка, и с таким лицом — может ли кто-нибудь узнать меня?
— Никто!.. — отчеканила Малена. — Я сама не уверена, ты ли это…
— Можно меня поздравить!
— А… а это не опасно?… Страшно, если ты останешься таким!.. Страшно!.. — Поднеся руки к лицу, она закрыла глаза, застывшие, как кристаллы, перед этим ужасным видением. Затем, несколько успокоившись, спросила:
— Ты видел себя?
— Кайэтано обещал принести зеркало, но, должно быть, забыл.
— Подожди, у меня, кажется, в сумке есть, — она суетливо начала рыться, — возьми, оно, правда, небольшое, но разглядеть себя все-таки можно.
Приподняв зеркальце и сдунув с него розоватые ниточки разлохматившегося кантика, Хуан Пабло стал внимательно рассматривать свое лицо.
— Отлично!
— Отличный персонаж для «комнаты ужасов»! — оборвала его Малена.
— Тебе так кажется?… По-моему, нет. Физиономия рабочего, преждевременно постаревшего на побережье. Из тех, кого на банановых плантациях довели до скотского состояния.
Продолжая разглядывать себя в зеркале и даже как будто любуясь искаженными чертами, он с удовлетворением сказал:
— Беспокоиться не о чем. Опухоль остается только на то время, пока я жую этот кактус, что дал мне Дуэнде. Кстати, это Пополука посоветовал мне прибегнуть к такому средству. Немалых трудов стоило достать кактус, да и прежде чем мне дали его, меня заставили пройти целую процедуру. Надо было, по индейскому обряду, встать на колени, просить прощения у земли за то, что я собираюсь сделать: изменить мои вид, изменить лицо, стать другим…
— За исключением голоса… — решилась заметить Малена.
— Постараюсь поменьше говорить и научусь гнусавить.
— Если хочешь, оставь у себя зеркальце…
— На время — пожалуй, но не в подарок, — прервал он. — Будут деньги, я тебе куплю…
— Как хочешь…
— Возьми-ка эту монетку в десять сентаво, не то — дурная примета…
— Но ты ведь его не разобьешь?
— Разбить?… Если уж я выдержал то, что увидел в нем!
Оба они рассмеялись, и Хуан Пабло рассказал Малене обо всем, что произошло с ним после того, как во вторник ночью он покинул мастерскую Пополуки. В кромешной тьме, где компасом ему служил инстинкт, он разыскал вход в пещеру. Бродить совсем рядом с лагерем было крайне рискованно, но ничего иного не оставалось. Теперь главное было не сбиться с пути. А что делать, если он не найдет вход в пещеру?… Вернуться к Пополуке?… По-заячьи петлять и путать следы, пока его не схватят и не убьют?… Он припомнил, где в прошлый раз оставил джип, и вошел в густой кустарник, заботливо охранявший покой летучих мышей. Остановился, прислушался, не идет ли кто за ним. Никого. Он услышал лишь собственное дыхание — тяжелое, прерывистое. Но стоило только ему войти в подземелье, как показалось, будто кто-то идет за ним. Ветер. Порывистый, сильный, он по-звериному подвывал у входа в пещеру. Впереди — мертвое молчание, мрак. Неизвестность пугала. Он решил остаться там, под золотистыми звездами. Он дождался рассвета и тогда спустился в подземелье. В ту самую пещеру, где сейчас он обнимает Мален, такую любимую, близкую, осязаемую, и рассказывает ей о днях и ночах, проведенных в катакомбах, где нет света — лишь бледные отблески, — а голос утекает ручейком по каменному безмолвию, рассыпаясь эхом, пока не замрет.
Малена отодвинулась, чтобы рассмотреть его. Невероятно. Посмотрела на него еще раз, и еще более невероятным, сверхъестественным показалось ей все это. Нет, это не пассажир с поезда. Не офицер в белой форме дорожника. Не рабочий, как описал его Пополука. Это странная личность… какое-то сказочное существо… обитатель подземных глубин…
Она зажмурила глаза и снова очутилась в его объятиях. Она попросила рассказать, что он стал делать, добравшись до пещеры.
— Спал… — ответил Хуан Пабло. — Страшно хотел спать, не смыкал глаз всю ночь — всю ту ночь, в Серропоме, когда меня выдворила из своего дома одна особа: «А сейчас я хочу, чтобы ты ушел…»
Малена мягко закрыла ему рот рукой, которую он стал целовать, как только в пещеру начал просачиваться свет. А потом боязливо отстранилась от его чудовищных толстых, пышущих жаром губ и упрекнула за то, что он сейчас, когда у них так мало времени, вспоминает о всяких пустяках.
— Совсем не пустяки… — проговорил Хуан Пабло. — Совсем не пустяки. Не выдвори ты меня из своего дома, я бы погиб!
— Ты, конечно, прав. Но не говори, что я выдворила тебя, я просила тебя уйти…
— Это звучит деликатнее, хотя по существу одно и то же…
— Какой ты нехороший!
— Скажи уж лучше — чудовище!
— Почему чудовище? Ты же сказал, что это обычное лицо рабочего с побережья.
— Верно. А я и буду теперь рабочим на банановых плантациях. Начну с самых низов, совсем как эти бедняги, которых съедает малярия.
— Но вернемся в пещеру…
— А мы и так в пещере…
— Насмешник!.. — отозвалась Малена, ударив его по руке с притворным возмущением. — Ты же понимаешь, я хочу знать, как ты жил в пещере все это время — ведь прошел уже почти месяц, и как ты встретился с Кайэтано Дуэнде.
Отсвет зари белой дымкой рассеивался в подземной темноте. Хуан Пабло поднял Малену у подножия Арки каменных кактусов. Хотя Кайэтано Дуэнде и охранял вход, было неблагоразумно оставаться здесь, лучше уйти подальше в боковую галерею, служившую ему убежищем. В этот час из входа уже сеялся свет мельчайшей пылью сквозь тысячелетние глыбы лавы. Хуану Пабло не пришлось описывать, как он здесь жил: она сама могла все увидеть. Отсюда, из галереи, он, не сходя с места, мог наблюдать на сто с лишним метров вверх за входом со стороны кустарников, откуда действительно его могли бы выследить и подкараулить враги. А Путь Водяной змеи известен очень немногим. Поэтому он избрал этот закоулок вначале как временное жилье под землей. Проверил запасы продуктов: оказалось более полусотни маисовых тортилий — точнее, шестьдесят четыре, — дюжина маисовых сухих пирогов с сыром, пачка соли, четвертушка паточного сахара, несколько ломтей копченого мяса, да еще текомате — сосуд из кокосового ореха с водой. Оказалось, что нет спичек, свечей, окоте и сигарет, он забыл у Пополуки свою домотканую сетку-матате, в которой у него были даже сигары. Но мучительно переживал он не столько отсутствие табака, хотя табак беглецу нужнее, чем любой обед, — сколько нехватку свечей, спичек и окоте. Как же идти дальше по этим глубоким подземным переходам без огня: тьма — хоть глаз выколи. Его охватила тревога: теперь из-за своей небрежности он не сможет попасть в дальние галереи, где безопаснее. Он сложил в угол принесенные вещи и продукты — здесь уже будет не временная резиденция, как он предполагал раньше, а обиталище заживо погребенного. Однако более тяжкий удар ждал его впереди. Как-то поднял он текомате и тут же опустил. Воды в текомате хватит очень ненадолго, а продукты — копченое или соленое мясо, тортильи или маисовая масса — не шли всухомятку; хорошо, если удастся найти подземный родник или реку. Он поднял маленький камешек и положил его на видное место: так не собьешься со счета дням. Этот темный осколок гравия в его новом календаре соответствовал среде; в понедельник он покинул лагерь, был у Малены, а остаток ночи провел в Серропоме, во вторник был у Пополуки и провел там весь день, ночью ушел в пещеры и уже в подземелье встретил невидимый рассвет среды… Какое это было число? Никак не вспомнить!
Каждый день, отмеченный первыми десятью камешками, был с чем-то связан: он стал соблюдать строжайший рацион копченого мяса и тортилий, начал тренировки — учился долго сохранять неподвижность, много спал, постепенно изучал соседние галереи в лаве и каменные туннели, медленно продвигаясь по переходам, где под ногами поскрипывал песок, осторожно ощупывая стены в поисках воды, напряженно прислушиваясь, не раздастся ли журчанье ручья, стук капель родника. Он потерял слух в этом безмолвии — высохшем, темном, как его губы; и снова и снова он прижимался ухом к холодному камню — вдруг донесется эхо где-то упавшей капельки; прислушивался к отзвукам своих шагов и торопливо возвращался, боясь потерять ориентировку; все скупее расходовал воду по мере того, как убывал в текомате ее запас, — он словно вырывал сам у себя сосуд, чтобы не осушить его одним глотком. Он решил выдерживать норму: вначале — пять глотков в день, потом — три, потом — два, а потом… потом его дыхание отразилось от пустого дна… Ах, тот день… ночь… знать бы, что его ждет!.. Он не разбил текомате, вовремя спохватился — а вдруг все же найдет воду, в чем тогда ее держать? Но лучше спрятать текомате, убрать с глаз долой! Спрятать. Этого достаточно. Выиграть дни. Поменьше есть. Стараться сохранять неподвижность… Да… но зачем выигрывать дни, если с каждым днем ему становится все хуже?… И чего достигнешь голодом? Жажда подстерегала не только в каждом волокне вяленого мяса, пропитанного соком дикого апельсина с солью; невыносимую жажду вызывали не только тортильи и пироги с сыром. Мучило другое, еще более страстное желание. Оно еще в детстве терзало его, когда он закрывал глаза, оно таилось под языком у маленького Хуана Пабло — как мираж, перед ним возникали кристаллики льда в воде, в молочно-белом, золотистом, темно-вишневом сиропе; а то ему мерещился ice-cream [17], который еще юношей в Панаме он пожирал с какой-то чувственной страстью; а то ощущал вкус прохладного сока гуанабы, скользящего в гортань ароматными зелеными капельками, или кисловато-сладкой влаги ананаса, или освежающего тисте — напитка из маисовой муки, сахара и ачиоте, оставлявшего под носом багряные усы…
Глупо сидеть не двигаясь, да и жажда не давала покоя. Он пытался собрать в ладони тьму своего убежища и отправить ее в рот; отправлял в буквальном смысле этого слова, помогая пальцами, как нечто такое, что можно в самом деле поглощать, как растаявший гигантский айсберг — только айсберг лавы, что плыл перед его воспаленным взором, казалось, что плыл, хотя временами, когда сюда прокрадывался мерцающий свет, видно было, что он неподвижен.
Наконец он решился. Нельзя погибать от жажды! Вода там, там, наверху, стоит лишь выйти в кустарники — и можно сосать, жевать мокрую от росы траву…
Но он тут же взял себя в руки… Идти днем… это значит самому отдаться в руки врагов… в руки тех, кто ищет его, живого или мертвого… а то… а то… а то… и это «а то» капелью слышалось где-то, где-то, где-то… а то… а то… а то… углубиться в подземные переходы, заблудиться и, не встретив нигде воды, умереть от жажды в каменной западне…
Нет! Только не в лабиринт, нет! Он дождется ночи и выйдет на поверхность, в кустарники… эх! пошел бы дождь… он бросился бы ничком и ловил бы, глотал дождевые капли…
Он дрожал… движения его были неуверенны… вздрагивали руки… он весь дрожал в ожидании ночи… в ожидании того момента, когда пустятся в плавание флоты летучих мышей… когда заблудившиеся светляки залетят в пещеру, — посвети, прежде чем потухнешь, — залетят кусочками звездного неба, разбитого, как пиньята — рождественский горшок со сладостями…
Однажды, будто в приступе безумья, он схватил револьвер, бумаги, оставшиеся продукты и широкими шагами двинулся к выходу… Пусть схватят!.. Пусть убьют! Но только бы дали вначале попить… живому или мертвому… черт с ними, только бы попить… напиться…
И тут же проблеск сознания заставил его отступить и искать иного выхода… Какого?… По коридорам лавы?… По каменным штрекам?… Пить… есть… лабиринт… пить… есть… нет… нет… Так попадают в ловушку… Так гибнут в пещерах, умирают от жажды… Нет, лучше — наверх! Наверх!.. Живым или мертвым… живым или мертвым… но наверх!..
XV
— Я уже был готов на все… — продолжал Мондрагон, — готов был сдаться, готов был идти на смерть, словом — на все что угодно, лишь бы не погибнуть от жажды… как вдруг встретил Кайэтано Дуэнде…
Оба с чувством признательности вспомнили Дуэнде и невольно посмотрели в сторону выхода, где-то там караулил старик, качающийся взад и вперед, словно колокол.
— Но… — в раздумье произнес Хуан Пабло, — лучше уйдем отсюда. В моем убежище мы сможем устроиться с большим комфортом… — Последние слова он произнес с гримасой, которая должна была обозначать улыбку. — Не стоит рисковать…
Неузнаваем стал Мондрагон. Чем больше на него смотрела Малена, тем меньше верила в то, что эта маска цвета копченого мяса, с толстыми губами и большими торчащими ушами, это печальное существо, с виду беспомощное и кроткое, точно раненое животное, было Хуаном Пабло — с худым лицом, тонкими губами, Хуаном Пабло, которого она знала раньше. От его прежнего лица остался лишь пунктир меловых зубов, обнажавшихся, когда он говорил.
Малена сказала ему об этом, а он предложил… вытащить зубы…
— Поклянись, что не сделаешь этого!.. — закричала она и схватила его за руку, умоляя, чтобы он взглянул ей в лицо своими заплывшими глазами. Они шли к его убежищу.
Он молча посмотрел на нее, попытался улыбнуться, поцеловал ее и сказал, что это была только шутка. Прежде ей хотелось побольше света, чтобы рассмотреть Хуана Пабло, теперь же она инстинктивно закрывала глаза и даже вздрагивала всякий раз, когда ее целовало это чудовище…
— Я боюсь… — проговорила она, ах… если бы она могла сказать ему о своих ощущениях, когда, зажмурив глаза, отвечала на поцелуи. — Ты ведь готов на все, даже согласился обезобразить лицо, лишь бы спасти свою шкуру…
— Шкуру — нет!.. — возмущенно прервал ее Хуан Пабло. — Вот это… это… что называется шкурой… — Он яростно рванул пальцами, как клещами, кожу на левой руке. — То, что называется шкурой, — нет! Я хочу спасти мои идеи. И ради моих идей я готов пожертвовать не только зубами, но и глазами!
Они подошли к убежищу, — к счастью, здесь было темнее, — Хуан Пабло нес в руке сумку со съестными припасами, которую Дуэнде притащил на спине. Они позовут его перекусить попозже, а пока он, как часовой, должен оставаться на посту. Они устроились возле гигантской глыбы, прикрывавшей своей тенью вход в убежище. Малена, не выпуская руки Хуана Пабло, трепещущая, счастливая — она его почти не видела, — засуетилась, раскладывая хлеб, ломтики сыра, галеты, поставила бутылку пива, мясные консервы, сардины и металлические стаканчики. Хуан Пабло прикасался к ней в ритм ее движениям. Внезапно его рука коснулась ее упругой груди, когда Малена наклонилась, чтобы передать ему финик, из губ в губы. Его словно током ударило…
Она обернулась и взглянула туда, куда указывал Хуан Пабло, — его каменный календарь, двадцать с лишним камешков, которые он выложил в ряд, пока жажда, доводившая до исступления, не заставила его бросить счет дням; места, по которым он расхаживал долгие часы напролет, разговаривая вслух сам с собой; когда ему казалось, что он немеет, он говорил, говорил и прислушивался к собственному голосу, желая удостовериться, не оглох ли он в этой гнетущей тишине; и то место, неподалеку отсюда, где он впервые увидел Кайэтано Дуэнде…
— Я не мог понять, кто это: живое создание или каменный человек, с которого снято волшебное заклятие. И, признаться, вначале я даже перепугался — а вдруг это мираж, вызванный мучившей меня жаждой? Мне представилось, что я схожу с ума и мне мерещится фигура старика с текомате на плече. Я набросился на него, выхватил текомате, зубами вырвал пробку и пил, пил, не переводя дыхания. И лишь по мере того, как в гортани погасал ужасающий сухой треск барабанов смерти, в сердце возрождался страх — я вспомнил о своих преследователях, и ощущение животного счастья улетучилось…
Малена наполнила стакан, он отпил несколько глотков пива и продолжал рассказывать о встрече с этим чуть ли не фантастическим существом, которому он даже хотел целовать руки.
— Наконец тот, кого я считал привидением, обратился ко мне. И я понял, что он, как и я, из плоти и крови. Оказывается, уже много дней он по поручению Пополуки разыскивал меня. «Но откуда Пополука узнал, что я здесь?» — в тревоге спросил я его. «Очень просто, — ответил он, — ты же просил его раздобыть побольше свечей, лучин окоте, спичек, сигарет и несколько сигар, — и все это забыл у него. Он заметил сверток только на следующий день, позвал меня и сказал: „Я подозреваю, что некий человек заблудился где-то под землей, меня очень тревожит эта мысль… Пойди, выведи его оттуда, кум. Ты же знаешь все черные моря мрака, и бог не забудет твое доброе дело. Я так думаю, потому что он оставил у меня сверток со всякой всячиной — и светильники, и курево…“ „Твое слово, кум, — для меня закон, — ответил я. — Пойду поищу. Я тоже не смогу спать спокойно, зная, что где-то под землей блуждает человек, и не такой уж я бесчувственный, чтобы отказать в помощи…“ И пошел на выручку!»
— Какое счастье, что он тебя нашел! — радостно воскликнула Малена; она поднялась и налила ему еще пива. — Пополука знал о наших отношениях. В тот день, когда он передал мне твою записку, я хотела объяснить ему все, просто хотела излить душу, но он не пожелал меня выслушать. Только раз, один-единственный раз, мы были вместе на Серро-Вертикаль, и он нас там видел. И все понял…
Голос Малены прервался, зато откуда-то из глубины души поднялся другой — голос сердца, который воскресил в памяти счастливые мгновения, тонувшие в молчании неба, что столь не похоже на молчание подземелья; свидетелем этих мгновений было лишь одиночество Тихого океана, распростершегося на горизонте далекой, недосягаемой мечтой.
— Мне даже кажется, что я слышу твой голос на Серро-Вертикаль… Помнишь… Ты декламировал?… Или импровизировал?…
Как хочу я умчаться в открытое море и не мыслю сюда возвращаться. Как хочу я, зажмурив глаза, слышать возгласы радости ль, горя: — Он погиб!.. — и не выдать себя! Как хочу улететь я стрелой, затерявшись в дали морской!— Это мысль беглеца, тебе не кажется?… Я хотел бежать от самого себя, бежать от действительности…
— Или от того, чего уже нельзя было избежать, поскольку тебя связывало слово… — колко заметила Малена; она не могла подавить в себе вспышку раздражения, вызванную, впрочем, не им, а самими событиями. — Как все это глупо запуталось! Какая бестолковщина!.. Можно подумать, что заговор готовили те люди, которые хотели его провала!
— С отчаяния люди идут на все…
— Если так объяснять…
— Тебя, к счастью, не задело…
— Зато ты оказался под ударом…
— И не потому, что я был согласен с планом покушения, — прервал ее Мондрагон. — Я имел дело с людьми, которые не понимали, что мало покончить с одним Зверем, — необходимо поднять весь народ, чтобы изменить все в корне. Я неточно выразился, что они не понимали; как раз они все отлично понимали и даже чересчур много, для них не было тайной, что народное восстание им также грозит кое-чем, оно может ударить по их интересам…
— Зачем же ты сам влез в это дело?… Прости меня, говорить об этом сейчас поздно и даже глупо, однако ничего иного не остается, как задавать тебе вопросы, те же самые вопросы… Почему?…
— Почемууууу… — покачивая головой, протянул он, и это слово прозвучало, как скорбный вопрос. — Я и сам не знаю…
— Ты даже взялся вести грузовик, который должен был в момент покушения пересечь дорогу президентскому автомобилю!.. — сказала она грустно и нежно.
— Черт возьми! Ну, я-то один, а у остальных — дети, сестры, братья, семьи. Я один, и, кроме того, я был абсолютно уверен в успехе… А на всякий случай, — доверительно добавил он, — я собирался захватить с собой в грузовик оружие, чтобы ликвидировать диктатора, если он останется невредимым, — я же хорошо стреляю… А потом… — Он сжал ее руки и, изобразив некое подобие лукавой улыбки, сказал: — Знала бы ты, как я был всем этим захвачен…
— Представляю себе.
— Как охотник, который готовит ружья и патроны, собираясь идти на зверя…
— О! Сумасшедший!
— Скажи громко: «О!..» Один только звук… «о»… Ну, скажи скорее!
— О!..
— O…O…O…O…
— О…о…о…о!.. — повторяла Малена, и ее голос заполнял подземные своды, и повсюду раскатывался этот круглый гласный звук: оооооООООО!.. оооооООООО!..
— Представь себе, Мален, что это эхо — автомобильные колеса и что все эти колеса, все эти авто движутся вдоль длинной авениды, вливающейся в тенистый бульвар, что ведет к зоосаду. Представь себе также, что на этой улице находится такой скромный и неприметный человек, как я. В тот самый момент, в пять часов пополудни, на своем бронированном автомобиле проезжает «беспредельно могущественный», «беспримерно мудрый», «безукоризненно справедливый», «безупречно честный», откинувшись на заднем сиденье, с собачкой породы чиуауа на коленях, сверкая рубином на мизинце, воткнув в рот длинный янтарный мундштук с зажженной сигаретой. На каждом углу, у магазинов, у кинотеатров, отовсюду глазеет публика. Что происходит? Почему этот сапожник бросил недоделанную работу, а музыканты забыли о своей маримбе, почему владелец мебельной мастерской оставил своих клиентов, бармен из клуба спешит натянуть шляпу, пономарь — закрыть церковь, нотариус — расписаться в документе, врач — снять халат и выйти, находившиеся в отпуске офицеры и полицейские застыли как в строю по команде «смирно»… какие-то учителя, какие-то дорожники… Что они все тут делают?… Почему собралась такая пестрая толпа в этот час, на этой улице?…
— Да, в самом деле… — задумавшись, прервала она, — но я пока не догадываюсь, к чему ты клонишь…
— А вот к чему… Среди этой толпы очутился и я, сгорая от стыда и унижения, взбешенный тем, что, оказавшись случайно здесь, я как бы стал частицей этой когорты, которая за жалованье или за подачки вынуждена присутствовать на Центральной авениде и охранять жизнь «верховной особы». Мне стало так противно, что, желая очиститься от этой скверны, я вошел в первый же попавшийся погребок и, выпив залпом целую бутылку агуардьенте, сразу опьянел. Не знаю, уснул ли я за столом, но как будто сквозь сон услышал, как рассказывали о происшествии в городе, — и мне показалось, что я все это вижу во сне или в кино.
Автомобиль — тот самый, на котором должен был в пять часов пополудни проследовать президент, остановился у ворот зоологического сада. Шофер открыл дверцу. Подлетает адъютант в галунах. Боясь опоздать хоть на секунду, мчится начальник полиции. Публика глазела, затаив дыхание от восторга. Из автомобиля вылез «безгранично великий». С его нижней губы, приплюснутой изгрызенным мундштуком, слетает улыбка, вестница хорошего настроения. Он шагает с надутым, чванным видом — неуклюже, как попугай на вывернутых внутрь когтях, и направляется прямо к клетке с тигром, возле которой развлекается группа офицеров и кадетов; плененный хищник расхаживает взад-вперед по клетке. Офицеры замечают президента, вытягиваются в струнку, все как один, и застывают по стойке «смирно» — грудь колесом, взгляд — перед собой, рука у кепи, три пальца на высоте правого виска. И так стоят они, пока «бесконечно любезный» не отдает команду «вольно». В едином движении, словно клавиши рояля, белые перчатки опускаются к красным брюкам. А тигр тем временем продолжает свою обычную вечернюю прогулку, зевает, облизывается, еле слышно урчит. «Сторож! — раздается голос „беспредельно могущественного“ в тишине, нарушаемой только шагами зверя, — открой клетку, и пусть самый храбрый из кадетов войдет и погладит тигра…»
Звон ключей, скрежет задвижек — бледные, дрожащие юнцы отступают. А тигр, будто поняв приказание, останавливается как вкопанный, что придает ему еще более угрожающий вид… «Нет среди кадетов ни одного добровольца?… Ни одного храбреца?… Ни одного мужчины?… Неужели нет ни одного настоящего мужчины?» — спрашивает тот, кто является воплощением всех этих качеств. «Что ж, пусть в таком случае войдет один из офицеров!.. Вы, полковник!.. Или вы, капитан!.. Клетка открыта! Ну, чего вы ждете?…» От полковника остался лишь один нос — длинный, мокрый, в капельках холодного пота, зубы стучат, а от капитана — только гигантские эполеты, в которых утонула маленькая головка, а ноги дрожат и подгибаются. «Ха… ха… ха!..» — раздается хохот «безгранично великого», и в этом хохоте — безграничное презрение ко всем этим безгранично жалким людишкам. На глазах у сторожа — в трясущихся руках тюремщика зверей звенела связка ключей — и на глазах у застывших офицеров «всемогущий» невозмутимо приближается к клетке, входит в нее и, пока все остальные зрители продолжают дрожать от страха, гладит тигра, все так же невозмутимо, не выпуская изо рта янтарного мундштука с зажженной сигаретой, даже не уронив пепел на пол клетки.
— А тигр? — спросила Малена.
— Тоже дрожал! — поспешил ответить Хуан Пабло, покатываясь со смеху. Как легко она попалась в западню и приняла всерьез этот анекдот!
Малене пришлось признать свою оплошность, но она не засмеялась — не потому, что обиделась, а потому, что все это было горько: так живо этот анекдот напоминал действительность, так ярко представилась ей вся эта ситуация, что совершенно естественным казалось горячее желание покончить с этим Зверем, заставлявшим дрожать даже хищных зверей в зоологическом саду.
Они умолкли, сжимая друг друга в объятиях. Время шло, приближался час разлуки, а надо было еще так много сказать…
Нет, не о прошлом, хотя человеку под маской, напоминающей огромный гриб с глазами, очеловеченными ревностью, хотелось задать тривиальный вопрос, спросить об этой букве «и», на которой обрывался ее дневник, спросить об офицерике, с которым она познакомилась на балу в военном казино.
— Итак, «все закончилось тем, что он оказался значительно моложе меня, и…» — еле внятно зашептал ей на ухо Хуан Пабло, — и… и… и… что было потом?
— Ничего.
— А Л. К.?., юный Л. К.?…
— Больше я его не видела. Его звали и, наверно, еще зовут — Леон Каркамо…
— Письма?
— Он писал мне. Несколько. Я отвечала как друг, не больше. И не будем говорить об этом знаменитом дневнике, — засмеялась Малена; ей льстило, что он ревнует, — я принесла тебе книги.
— Любовь моя!.. Книги… были моей страстью, но придется забыть о них… я — пеон с плантаций, моя новая роль вынуждает меня изображать неграмотного!
— Мне напишешь, когда… когда научишься писать… — Они засмеялись и обменялись поцелуем. — Или попросишь кого-нибудь… — Она пыталась оторваться от его губ, ей не хватало дыхания. — Попросишь кого-нибудь, чтобы он за тебя написал…
— Да! Да!.. а ты попросишь кого-нибудь, чтобы тебе прочли; тому, кто будет за меня писать, я скажу, что ты — бедная простая крестьянка, которая никогда не училась грамоте… — И после паузы добавил: — Кроме шуток, я буду писать тебе на другое имя, какое-нибудь обычное для здешних мест, чтобы не вызывать подозрений…
— Роса… — произнесла она, недолго думая. — Роса Гавидиа тебя устроит?
— Если только это имя часто встречается здесь…
— В школе несколько учениц носят эту фамилию.
— Что ж, тогда — Роса Гавидиа, правда… — Он хотел было еще что-то сказать, но лишь искоса взглянул на Малену и промолчал — у него закралось подозрение, что она уже когда-то называлась этим именем, чересчур быстро выбрала она его для себя. — Что же касается меня, — продолжал он, — то Хуан Пабло Мондрагон, мир праху его, останется погребенным в полицейских архивах — слава Марату, моему герою, а также костариканцу из парикмахерской, научившему меня грамоте! Теперь я верну себе прежнее имя. Октавио Сансур, или еще лучше, короче — Табио Сан.
— Звучит хорошо.
— Или же просто — Сан…
— Ты договорился с Дуэнде, сколько он возьмет с тебя, чтобы проводить до побережья? Деньги я с собой захватила…
— Мы не говорили об этом…
— Да, но надо отправляться не позднее завтрашнего дня. Я тебе оставлю для него деньги, ведь он этим зарабатывает себе на жизнь…
— Только с одним условием… заем с последующим возмещением, и с процентами…
— Глупыш… глупыш ты мой… — Она крепко обняла его. — Глупенький мой!
— Моя!
— Твоя!
— Мален!
— Только твоя!
— Сейчас?
— Навсегда!
— А сейчас? — настаивал он в отчаянии.
Она растерянно молчала… Говорить… Невозможно. Едва ли удастся оттянуть это, избежать… «Сейчас» — хотелось ей сказать, но какое значение в этот миг имели слова: тела их прильнули друг к другу, губы слились в бесконечном поцелуе; она ощущала лишь скольжение слезинок меж сомкнутых ресниц… «Сейчас, любовь моя, сейчас!» — казалось, взывал он, ищущий ее согласия, нетерпеливый. «Подождем!..» — умоляла она, отвечая нежным взором, однако уже не находя в себе сил сопротивляться этому человеку, вытянувшемуся рядом с ней на источавших дрему вечной тьмы покрывалах. Запахом окоте, сосновой смолы, копотью глиняного горшка, дымом костра были пропитаны ее волосы… «Подожди!..» — уговаривала Малена мягко и ласково. Губы ее стали влажными, груди уже освободились от одежды — она зажмурила глаза, и сердце полетело куда-то в неведомое. Они утратили ощущение реальности, сейчас вселенная принадлежала лишь им одним.
Кайэтано Дуэнде курил — он то садился, то вставал, то начинал прохаживаться, как часовой, перед входом в грот. У него еще оставалось немного табаку Мондрагона, который тот забыл в доме Пополуки. Сам себя наказал, а обернулось это к лучшему… Да, к лучшему, — теперь покурит он, старик, привыкший к самокруткам из волокна маисовых листьев, крепким, острым, душистым, к сигаркам, свернутым так плотно, как сжаты веки у мертвеца, — теперь он мог покурить. Но курить так просто — это еще не все. Когда затягиваешься — надо думать, а когда выпускаешь дым, говорить самому с собой, вот как он сейчас рассуждает вслух, почесывая затылок и потирая руки. Он покачивал головой, будто стараясь вытряхнуть из головы облака, птиц, белок… И открыв глаза, стал озираться вокруг, действительно ли повылезали из его головы облака, птицы, белки, бабочки… Еще сигаретку, что ли, спрашивал он себя и отвечал утвердительно.
С дымом проходило время, с дымом улетучивались мысли — время вне времени, от появления на небе такой новехонькой равнодушно-слепой луны до появления солнца, свернувшегося огненной гусеницей и скользящего по вершинам гор, словно зайчик от зеркала.
Сигарета шипит, как шипят жаровни, на которых курится ладан; всему свое время, вот она торчит меж губ, а вот зажата в пальцах — а вот пришло время, и вытянутый указательный палец наносит легкий, словно мушиным крылом, удар и стряхивает пепел.
Замерцала первая звездочка. Пора возвращаться, нет смысла ждать наступления ночи — путь до Серропома не близкий. Он поднялся, будто выполняя приказ оттуда, из-под земли, на которой только что сидел. Прислушался, что делается вокруг, даже дыхание затаил, чтобы лучше слышать, — дыхание старика уже натруженное, — не подошел бы кто, и, отмахнувшись от надоедливого слепня, спустился к гроту, облепленному летучими мышами, и исчез в подземелье, в губчатых сумерках, пахнущих стоячей водой. Молчание поглотило его шаги, он утонул в зеленоватой дымке, направляясь к окаменевшим змеям Арки каменных кактусов — в сердце Пещеры Жизни.
Голода он не испытывал, но лучше все же поспешить. Может, угостят чем-нибудь, а то и выпить дадут. Каждый шаг его гулко раздавался на камнях — он хотел, чтобы его шаги были слышны, словно опасался уподобиться летучей мыши или стать летучей мышью, одним из этих созданий, таинственно возникавших из потустороннего холодного мира, бесшумно круживших по пещере и таинственно исчезавших, точно какие-то причудливые видения, точно эхо шагов — не его, а призраков: под землей отдается каждый шаг всех людей, которые шагали когда-то по земле.
Он оглянулся, посмотрел вверх, оттуда, как из огромного светильника, лился свет, — проверил, не идет ли кто-нибудь за ним, и направился дальше по темному и угрюмому коридору, ведущему к убежищу Мондрагона. А чтобы предупредить о своем появлении среди каменных стен, однообразных, как лики святых, он начал надсадно кашлять, чихать; он зевал и вздыхал так, что ему мог позавидовать оркестр муниципалитета, в который он в юные годы не попал только потому, что ему больше по душе были вожжи. Так и не дали ему подуть в трубу, отдававшую плевательницей, — и послали в кучера. Много лет возил он людей на муниципальных дрожках, пока… не подрос первенец алькальда. Как-то июньской ночью этот первенец залил в себя немалое количество горячительного, так как они отмечали канун дня святого Петра и святого Павла, а потом взялся за вожжи… и вместе с дрожками и лошадьми бухнулся в глубокий овраг. Сам он, первенец, спасся чудом, вовремя успела его вымолить у бога мать; однажды ей приснилось, что сыну угрожает смертельная опасность и что умрет он без причастия. «Богородица скорбящая, не позволь этому свершиться!..» — воскликнула во сне мать. И чудо свершилось. С тех пор в церкви Голгофы, рядом с главным алтарем, на той стороне, где дева стоит у распятья, висит картинка; богомаз запечатлел на доске тот момент, когда дрожки летели в пропасть, спицы колес ощетинились и встали дыбом так же, как и волосы сынка алькальда, летевшего головой вниз, а вверху — в медальоне, среди облаков, изображена чудотворная богоматерь, внизу, у ее ног — убитая горем молящаяся мать, а еще ниже написано от руки название места, указаны час и дата необыкновенного происшествия, перечислены имена спасенных — так выражалась благодарность пречистой деве и подтверждалось, что богомаз забыл пририсовать только несчастных лошадей.
Что верно, то верно: чудо произошло, но лошади погибли, так и не отмеченные на благодарственной доске в церкви, — и дрожки, выходит, падали сами по себе, — а Кайэтано после этого чуда остался без места, прогнали его из муниципальных кучеров. А ему по душе было править лошадьми! От лошадей перешла к нему шерсть и перешел пот, а дышал он, как будто колесо скрипучее катилось, и, видимо, господь бог наказал его, создав человеком, — иначе он, помимо своей воли, превратился бы в полулошадь, полуповозку. И что точно, то точно: последним пассажиром, которого он перевез со станции в поселок, была учительница по имени Малена Табай. Не было в ту пору и станции, если не считать остановку по флажку среди болота, где путники, собиравшиеся продолжать путь, находили пристанище в тени аматле, распростершего свои ветви, будто огромный зеленый зонт.
С тех пор много воды утекло. Теперь уже выстроено здание вокзала, есть телеграф, и можно прочесть название станции — Серропом, которое выглядело, я бы сказал, по-кладбищенски — черные буквы на кофейном фоне. Теперь есть школа, которой раньше не было. Ее заставила выстроить новая директриса, та самая нежная голубка, которую он когда-то встречал у флажка и которая отдала этой школе все силы, так что не сбылись зловещие предсказания Чанты Беги, а эта Чанта Вега, если господь не соизволил иначе, возможно, в силу известных причин еще задерживается в чистилище. Не угадала, не попала она в точку. Вот то-то и оно, стало быть, ошиблась Чантисима, села между двух стульев. Она утверждала, дескать, ни на что не годится «училка», которая, словно сумасшедшая, во всю глотку читает стихи, а иногда, в строго определенные часы, заливается слезами; в учителя-то она пошла из-за нужды, а не по призванию и похоронила себя в этом несчастном селеньице из-за чистейшего разочарования в любви…
Дуэнде замедлил шаг: откуда-то снизу, как бы из-под его ног, донеслись еле слышные голоса Малены и Хуана Пабло, глухие, словно стенания жухлых листьев. Он шел по уснувшей листве — по словам, обернувшимся в пыль теней, подходил осторожно, боясь нарушить уединение влюбленных и не решаясь окликнуть этих двоих, которым пора уже было разлучаться.
Шаги. Малена поспешно поднялась. Волосы ее рассыпались, а одежда — будто сам дьявол вел бой быков. На ощупь вытащила она из сумки гребень и стала искать шпильки. Скорей! Одну шпильку в губы, вторую — в волосы, третью — рука нащупывала на земле. А Хуан Пабло пошел навстречу старику, который не спешил подходить, намеренно замедлял шаги, точнее — топтался на месте. Прическа в порядке, теперь — платье; никак не могла продеть правую руку в рукав. С трудом его натянула. Рванула второпях. Даже швы затрещали. Даже плечо заныло. Сзади, около лопатки… Как глупо сшито платье! Воротничок, чулки… Лопнула резинка. Нашла концы, связала узлом, затянула. Эх, петли спустились. Чуть не потеряла серьги. Хуан Пабло вернулся к Малене. Поцелуй. Не смог уйти от нее без поцелуя. Взял за подбородок, как маленькую девочку, приподнял лицо и, наклонившись, нежно поцеловал. Она вздрогнула и прикрыла глаза. А когда открыла — он уже вышел из убежища. И все же Малена не чувствовала себя одинокой. Она ощущала рядом чье-то присутствие. Теперь ее одиночество не будет казаться таким страшным. Как бы далеко он ни был, все равно она ощутит его рядом.
Одиночество без него — вот что было бы ужасно. Но теперь с ней повсюду будет… сердце ее сжалось, а мысли расходились кругами, как от землетрясения… А кто с ней будет рядом, если Мондрагон выйдет из этого лабиринта лавы, камня и мрака и его поймают?… Покойник?!
Она не удержалась, вскрикнула. Хуан Пабло взял ее под руку. Наступал час разлуки. Обнявшись, они дошли до Арки каменных кактусов. Перед ними маячила спина Кайэтано Дуэнде. Стаи летучих мышей, обгоняя их, спешили навстречу ночи. Невозможно оторваться друг от друга. Он проводит ее до самого выхода. Дуэнде всматривается и вслушивается — дозорный вовремя предупредит об опасности. Суровые, будто куски лавы, они чувствовали, как горе разделяет их, отдаляет друг от друга. Поцелуями пытались они скрасить печальное расставание. Вот уже показались холодно мерцающие звезды. Пора. В воздухе реют стаи летучих мышей. А кем были они для этих зверюшек, пролетавших, попискивавших, касавшихся их крыльями, едва не налетавших на них? Малена и Хуан Пабло замерли на месте. Не проронив ни звука. Лицом к лицу стояли они во мраке ночи, ожидая, что ночь промоет им глаза и тогда смогут они еще и еще раз взглянуть друг на друга — кто знает, быть может, в последний раз. Хуан Пабло пристально вглядывался в Малену — как хотелось похитить, унести с собой ее образ, скрыть его на дне своих глаз, спрятавшихся в складках распухшего лица. Тщетно пытался он изображать веселую улыбку, улыбку человека былых счастливых дней, но что могла выразить эта пергаментная маска, по которой, словно отшлифованные гальки, скатывались крупные и прозрачные, холодные капли, скатывались и разбивались… Ах, сколько слез стоит крушение надежд, гибель желаний!.. Он жадно вглядывался в ее лицо, а Малена оледеневшими пальцами водила по бесформенному лицу Хуана Пабло и каким-то глухим, словно отсыревшим, еле слышным голосом шептала, что именно таким она хочет сохранить его образ в своей памяти. Вспоминая его лицо, она будет черпать силы, чтобы ждать и выдержать. Это лицо, так непохожее на человечье, этот грибообразный нарост скрывает человека неколебимой воли, который решил вернуться к труженикам побережья, влачащим нечеловеческую, звериную жизнь, — вернуться ради того, чтобы начать заново борьбу. Ее пальцы, ставшие снова мягкими и нежными, легкими, трепетными движениями касались лика зверя, раненого зверя…
Он вырвался из ее объятий, круто повернулся и быстрым, размашистым шагом зашагал обратно. Оглянувшись, она уже не увидела его. Он исчез в какой-то темной расщелине. Она наугад помахала рукой.
Хуан Пабло смотрел, как постепенно сгорал ее силуэт в зареве угасавшей вечерней зари. Сильным рывком он подтянулся ко входу в пещеру и оттуда продолжал следить за девушкой до тех пор, пока не потерял ее из виду, пока от напряжения не навернулись слезы на глаза. Он откинул голову, но разобрать что-либо в быстро наступивших сумерках не мог.
Они были уже далеко. Кайэтано Дуэнде шел впереди, за ним Малена. Растаяли их тени в необъятной и темной ночи, сверкавшей мириадами светляков.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
XVI
— Гляди-ка, тетя, гляди!..
Мальчик, как всегда, прислуживал Анастасии на полуночной мессе в дверях таверны «Гранада».
— Сосут и сосут эти гринго!
— Гляди-ка, тетя, гляди!.. — повторил мальчуган и повернул голову — она была похожа на черную растительную губку, наскоро обстриженную чьими-то ножницами. Он, вытаращив глаза, уставился на человека, который только что слез с велосипеда. Слез бесшумно. Будто какое-то жесткокрылое насекомое, сбитое на лету яростными ударами джаза, отдававшимися по улице так, что в ритм им отзванивали все оконные стекла. Человек с велосипедом подозвал его. Сначала поманил рукой, затем замахал шляпой — снял ее с головы и стал обмахиваться, хотя ночь была очень холодная. Человек сплюнул. Сочный плевок. И сам человек, очевидно, не заметил, что сплюнул, правда, во рту уже было сухо. Рин-трин-трин, рин-трин-трин!.. Случайно он задел локтем звонок велосипеда, о который опирался; человек явно нервничал, прерывисто дышал, шляпа в его руках трепетала, точно веер.
Наконец малыш понял, что подзывают его или их с теткой вместе, а тетка ничего не замечала, все внимание ее было приковано к тому, что происходило в таверне, она смотрела туда и приговаривала:
— Сосут и сосут эти гринго!
«Сипе»!.. «Си…си…пе!» — сорвался с места мальчуган и, звонко отшлепывая босыми ногами по сырому от ночной росы асфальту, подбежал к велосипедисту и только тут узнал его…
«Сиииии… пе… сиииии… пе… сиииии… сиииии… пе… сипе!..» — как бы нажимая на педали, притоптывал мальчик по земле, возвращаясь после разговора с велосипедистом к тетке. А та зевала, зевала все чаще, все шире, и вот уже лицо ее казалось огромнейшим ртом — нельзя было понять, от голода это или от недосыпания, не то от того и другого сразу: пусто в желудке, пусто в глазах, пустота во всем теле, однако язык без устали работал:
— Сосут и сосут эти гринго!
— Тееееенька! — потянул ее за руку мальчуган. — Там сеньор Непо. Говорит, чтобы подошли к нему!
— Сеньор Непо?… Раз зовет — значит, надо!.. — Мулатка оторвалась от двери и пошла к велосипедисту, больше не слушая продавщицу фиалок, незабудок, жасмина, гвоздик, «морских игуанит», девиц непорочных и замужних женщин, которая хотела ей что-то рассказать. Опять, вероятно, вздумала что-то такое ляпнуть, как тогда, под сочельник, когда, изрядно хлебнув, вылезла она на улицу и завопила: «Хочешь верь, хочешь не верь, а это я, Гумер, с самого неба свалилась и здесь объявилась!.. Сколько же там рыжих ангелочков-янки!.. Все равно что в кино…»
«Вино в голову, видать, ударило — увидела то, чего и в помине нет… тоже мне, сравнила с ангелами этих белобрысых болванов, рожи под фуражками точно задницы!..» — отрезала ей в ответ Анастасиа и сейчас за словом в карман не полезла бы, да недосуг — пошла, не дослушав болтовню Ниньи Гумер.
— Два колеса — два башмака, а молодец молодцом один… Кто угадает!.. Только я, только я… — приветствовала мулатка сеньора Непо, который, придерживая за руль велосипед, легко катившийся под гору, спускался к Почтовой арке.
— Попросил разрешения прийти на работу попозже…
— А поскольку работа — преступление, — прервала его Анастасиа, — и преступник всегда возвращается на место преступления, то и вы никак не могли удержаться, чтобы не сунуть сюда свой нос!
— Мимоходом, просто мимоходом. И задержался здесь потому, что увидел, что ты торчишь в дверях…
— Сосут и сосут эти гринго!
— Эка новость!
— Новость не новость, зато истина!
Мальчик следовал за ними мелкими шажками, семеня маленькими босыми ножками, — доволен он был, что идет рядышком с задним колесом велосипеда, которое вертелось, вертелось, вертелось, а дон Непо, как заправский бедняк, топал по земле пешком. Недаром всякий раз, как разговор заходил о том, что кто-нибудь завел себе сипе, тетка говаривала: «Топай, деточка, по земле, нажимай, земля — велосипед бедняков».
— Вы сейчас домой направляетесь?… — Мулатка прибавила шагу — мужчина шел так быстро, что ей тоже пришлось «поднажать на педали».
— Домой. Правда, дома я уже был, потом уезжал, снова вернулся и снова уехал. Ищу внука, нынче он уехал спозаранку и до сих пор его нет как нет. Хуже всего то, что уехал он на телеге — мало ли что могло случиться в пути. Уже спрашивал о нем и на строительстве, куда он возит известь. Был в Гуарда-Вьехо, в Ласарето, повсюду был — нигде нет. На Марсовом поле был, в Сайта-Кларе, в Вилья-де-Гуадалупе, даже там, где монахи-салесианцы строят…
— На вашем месте я обратилась бы прямо в полицию…
— Почему прямо?… — Холод сжал его сердце, как только он вспомнил о своем помощнике, об этом беглом заговорщике, которого разыскивает полиция, хотя, по правде говоря, мулатка права: из полиции сразу дали бы знать, если бы что-нибудь произошло с Дамиансито, а что касается помощника, то лучше о нем не спрашивать даже по телефону.
— Конечно… — настаивала Анастасиа. — Полиция все знает, она знает, кто и где «отсиживает», кто ранен и лежит в госпитале, а кто уже стал закуской для могильных червей…
— Типун тебе на язык!
— Я же пошутила!.. Как он может погибнуть!.. Известно бы стало… Вести перелетают быстро, тем более теперь, когда есть эта балаболка — радио!
— Радио не по мне! Радио?… — скривил в усмешке губы дон Непо, даже усы зашевелились. Он поморщился от отвращения, которое тут же сменилось раздражением. — Радио?… Довольно с меня и той шлюхи, что от радио пошла — этой «Роколы»! Как услышу, так тошнота подступает!
— Конечно, вам по вкусу, плут вы этакий, больше эти пон… пон… пон… на маримбе, в три утра. Вы же человек старой закваски и предпочитаете вальсы…
— Даже маримба, Анастасиа, даже маримба. Раньше она мне нравилась, а теперь слушаешь, слушаешь без конца — оскомину набил…
— Рааааадиогазеееета!! — завопил мальчишка, выбежав вперед и изображая хромого — одна нога на тротуаре, другая — на мостовой.
— Вот видите, даже мой цыпленочек помешался на «Радиогазете»…
— А то еще говорят, те-е-нька… — обернулся мальчуган. — Лоте-лоте-лоте… рея… на билет — велосипед!..
— А у меня аж челюсти сводит, как услышу: «Доктор, не могу ходить, чем болезнь эту лечить? — Ха, пользуйтесь голубыми такси».
— Ну, так это фирменная реклама такси, — заметил дон Непо.
— Это форменное издевательство над людьми, а не реклама!..
Раздались удары часов на башне, повторенные эхом.
— Надеюсь, — продолжал свою мысль Непомусено, — может, он к этому часу явится. Никогда Дамиансито не задерживался до глубокой ночи. Просто ума не приложу.
— Спросите в полиции…
— Завтра, пожалуй, так и сделаю.
— Но как же можно лечь спать, не разузнав? Узнайте сейчас же. Вот будем проходить мимо лавки «Ла Селекта», где дон Чако торгует, попросите разрешения позвонить по телефону.
— Да нет, лучше уж я не буду ложиться, поеду искать. Что бы еще сделать? А полиция… да, да, полиция… Ловушка это — с полицией-то, спросишь, да засядешь кормить клопов…
— Что правда, то правда, — широко зевнув и потянувшись, согласилась мулатка. — А вы не спрашивайте о внуке, о Дамиансито. Кто вас просит называть имя? Спросите о телеге с быками…
— Все равно…
— Ладно, не хотите спрашивать у поли… пов, не спрашивайте…
— Давайте у Колумба съедим по тамалю, — предложил дон Непо, подгоняя велосипед и ускоряя шаг; он по-прежнему шел пешком и увлекал за собой обоих своих спутников.
— Что верно, то верно, — поддержала Анастасиа. — С хлебом и горе не горько…
— А то перекусим здесь, в «Сайта Роса», у негра Роу…
— Дорого здесь, дон Непо, да еще к тому же тут тоже есть «Рокола». Лучше у Колумба, на свежем воздухе, спокойнее, а кроме того, там, ежели еще чего захочется, перейдешь площадь и зайдешь к китайцу, что торгует требухой…
— Нет, по-моему, вкуснее тамаль с лепешкой, с кофе…
— И мне это тоже по вкусу, да ежели еще отщипываешь по кусочку…
Торговка тамалями отделила три порции густой маисовой каши с кусочками мяса, завернула в банановые листья. Анастасиа взяла их в руки, но, обжегшись, стала дуть на пальцы; перекладывая тамали с руки на руку, торопливо понесла их к скамье. Усевшись рядом, дон Непо, мулатка и мальчик развернули тамали и принялись их уписывать — без хлеба, без кофе, ни того и ни другого у них не было, — орудуя пальцами.
Две головы повернулись одновременно: голова дона Непо и голова мулатки. Откуда-то донесся перестук колес телеги. Они выжидали — кусок застрял в горле. Вдруг Дамиансито?… Дон Непо не выдержал, отложил тамаль и встал… И в самом деле — оказался Дамиансито… Он был один, без помощника… Дон Непо пошел навстречу… Внук проворно соскочил с телеги, подбежал к быкам, остановил их… Анастасиа сорвалась со скамьи — она готова была беспощадно расправиться с мальчишкой, который пытался было вскарабкаться на велосипед и нажать на педали, но не сумел и уронил машину.
— Стой, несчастный, не то убью!.. — кричала мулатка, бросившись вдогонку за мальчуганом. — Стой, тебе говорю!.. Стой!..
Дамиансито поздоровался с дедом, улыбнулся, почуяв аппетитный запах тамалей, и сказал:
— Одному только богу известно, до чего хочется проглотить тамальчик! Еще когда проезжал я Пласиту, мне навстречу попадалось много торговцев тамалями, и очень уж аппетит у меня разыгрался, но я не стал останавливать быков, и без того они притомились.
— А твой помощник? Где его оставил?
— Моего помощника?… — Крики Анастасии: «Стой! Остановись!» — слышались уже где-то вдалеке; видимо, никак не могла она догнать малыша. — …Помощника я оставил там, за скотобойней, где начинаются зольники без конца и краю. Там он остался ждать поезда.
— Ас Хуамбо он говорил?
— Думаю, что говорил. Они были вместе…
— Тамаль у тебя остынет… Похоже, эта женщина совсем рехнулась. Ненормальная, готова убить ребенка только за то, что он на велосипед сел…
Обеими руками Дамиансито запихивал тамаль в рот, да с таким наслаждением, будто отродясь не пробовал ничего вкуснее тамаля.
Дед понизил голос:
— Я тут совсем извелся — смотрю, тебя нет и нет. Даже на работу не поехал. Попросил отпустить. А вдруг, чего доброго, вас арестовали! А может, думаю, задержали из-за того, что на телеге фонаря нет…
— Как раз из-за этого задерживали. Один полицейский хотел даже забрать…
— Вот видишь…
— Но я уже был один.
— К счастью! Ну, и как? Отпустил?
— У меня с собой была фактура на перевозку извести для дворца, который строит директор полиции за Санта-Кларой. Показал — и все в порядке.
— Именно этого я и опасался. Придерутся к какой-нибудь ерунде. Дальше — больше. А в полиции размотают, кто такой этот помощник. Даже злейшему врагу моему не пожелаю того, что пришлось мне пережить за эти часы. Чего только не приходило в голову — и что тебя избивали, и что тебя повесили… одна отрада — велосипед, хотя подчас я так волновался, что казалось, еду не на двух колесах, а на ослином хвосте. Пропадешь ни за грош, даже сам не знаешь, когда и где. Такова уж судьба. За одну ночь по макушку увязнешь, и не успеешь уразуметь, что к чему… А насчет этого человека, так мы даже не знаем, как его зовут. Говорил он, что его имя Табио Сан. Может, это прозвище?… Табио Сан… Попробуй-ка разберись…
Он привстал со скамьи, на которой сидел рядом с внуком, поглощавшим подрумяненный тамаль. Захватывая в щепотку маисовую массу, внук запихивал ее глубоко в рот и, казалось, испытывал удовольствие не только от самой пищи, но и от облизывания пальцев — тщательно облизав их, он брался за другой кусок тамаля, иногда обнаруживал в маисе косточку с мясом. А дед, стоя у скамьи, вытягивал, насколько мог, шею, разыскивая Анастасию и мальчугана. Но тех и след простыл. На площади высилась статуя Колумба, взгроможденная на колонну перед бассейном с затянутой зеленоватой слизью стоячей водой, в которой обитали лягушки.
— Исчезли они вовсе, — произнес дон Непо, так и не увидев мулатку, которая продолжала догонять мальчика; подбирая по пути гальки, она бросала их в мальчугана, а тот во весь дух мчался уже через Театральную площадь. — Более сумасбродной и нескладной женщины я не видывал. Мальчонку вот жаль… Значит, птичка улетела, сынок? — обратился он к молчавшему Дамиансито.
— Я все думаю о том, что вы сказали… об этой нескладной женщине…
— Заканчивай, да пошли. Может, еще хочешь? Молодость аппетитом славится!
— Да вознаградит вас господь, дедушка, но я уже сыт! — ответил внук, подходя к лежавшему на земле велосипеду. — А что, если вашу «лошадку» мы погрузим на телегу, пусть отдохнет…
— Как хочешь, сынок. — Дон Непо подошел к Дамиансито и ласково потрепал его по плечу. — Я счастлив уже оттого, что вижу тебя целым и невредимым!
Пустились в путь быки — грузные, неторопливые, покорные; покатились колеса телеги — потекли мысли деда и внука. Много вопросов вертелось в голове у каждого, но они не проронили ни слова… Прошел ли поезд, которого поджидал помощник? Успел ли он вскочить и уехать? Быть может, и успел — поезда здесь замедляют ход. А если случаем он опять вернется к ним?… Об этом, впрочем, думал один дед. Смутная тревога не покидала его: если тот опять появится у нас дома, скажу ему, что оставаться нельзя, очень опасно, чересчур опасно. Он это поймет. В первый раз пронесло. И к тому же я не знал тогда, кто это, да и явился он, словно из сна. Конечно, я спал, а проснувшись, увидел перед собой… Кого?… Человека, который мне приснился, вожака, которого только что видел во сне, когда он стоял на огненной карете, среди мужей и дев бури, вздымавших вверх знамена, плуги и винтовки, и еще призывал: «Вперед, люди! Люди, вперед!..» Но все это было во сне, а как проснулся, так увидел рядом с собой этого человека из плоти и крови. Спустился он с огненной кареты — и будто из сна я вытащил его, тащил, тащил, пока не увидел живого, реального, возле постели.
Теперь было иное. Дон Непо как бы пробудился после тяжелого кошмара. Пробудился, дрожа при одной мысли: а вдруг что случится с внуком и с ним… ну, с ним — не важно, он уже стар, пусть даже убьют…
Поток мыслей оборвался — он решил не принимать пришельца, если тот возвратится, вот и все. Спросил у внука:
— А Хуамбо что поделывает, куда он подался?
— К себе домой, — ответил Дамиансито, — мы оставили помощника ждать поезда, а Хуамбо поехал со мной до центра. Самое любопытное было то, что с ним прибежала собака и с ним вернулась — что за зверюга!
— А помощник говорил с Хуамбо? — снова спросил его дон Непо.
— Должно быть, говорил…
— Так, значит, ты не слышал?
— Нет, я ушел, надо было получить по счету да отдохнуть. А после встретился с ними — опять на том же месте, как условились, на углу Лас-Араукариас.
— А тебе, сынок, он о чем-нибудь говорил? Вечно старики докучают вопросами, но ведь если, черт побери, не спросишь, так ничего и не узнаешь, вот и бродишь по свету — ни дать ни взять живой покойник!
— Да, об одной большой заварухе, которую они затевают. Похоже, что-то новое, еще невиданное. Все мы, кто работает, остановим нашу работу в условленный час какого-то дня — только какого, еще неизвестно, никто не знает. И не начнем работать до тех пор, пока нам не увеличат жалованье, пока не сократят время работы, пока… не знаю, что еще…
— И таким образом хотят добиться чего-нибудь от правительства? — неопределенно протянул дед, прикидываясь, что он ничего не знает, хотя Табио Сан посвятил его в свои планы, но если бы даже пришелец не сделал этого, так или иначе дон Непо видел во сне огненную карету и уже догадался, что незнакомец — народный вожак; однако надо было выведать у внука, не предлагал ли тот ему активно участвовать в их делах, не вовлечен ли внук в эту опасную затею, которую он, дон Непо, считал переливанием из пустого в порожнее: еще бы, без оружия свергнуть правительство — ха-ха, где же это видано?
Армейские грузовики, перевозившие из Ла-Педреры строительные материалы для сооружения взлетных дорожек на аэродроме, то и дело окатывали их ослепляющим светом своих фар, оглушали рокотом мощных моторов, и лишь временами дон Непо и Дамиансито могли насладиться молчанием ночи, пронизанной таинственными звуками и мерцающими звездами, залитой лунным светом.
— Вот таким образом, дедушка… — ответил наконец Дамиансито, мысли его текли медленно, так же как брели его быки, — путем забастовки хотят свергнуть правительство и отобрать власть у «Тропикаль платанеры», у электрической фирмы, у железной дороги…
— К счастью, он уехал, да поможет ему там господь бог. Чересчур рискованно было держать его у себя. Вот, к примеру, Консунсино так и таращила глаза — нет, не глаза, а кинжалы! — на твою телегу всякий раз, как ты проезжал мимо, и все расспрашивала, что это за подручный у тебя, больше похож он, дескать, на хозяина…
На углу Лас-Араукариас, совсем рядом с железнодорожной насыпью, остался Табио Сан, помощник; он ждал первого поезда, чтобы ехать дальше. Луна подчеркивала тени на железнодорожном пути — линейные часы без стрелок и цифр, часы, у которых каждая шпала отмечала минуту вечности. На первый взгляд он не поезд поджидал, а время; выжидал тот условленный час, когда все должно было остановиться — и поезд, и луна, и телега, бесшумно удалявшаяся по зольникам, праху смерти.
Рывком он натянул шляпу на лоб и решил не ждать, пошел мимо беззубых рвов, мусорных куч, мимо теней бродячих собак и лошадей, пока не поравнялся с белопепельным деревом, к которому прилепилось что-то похожее на лачугу. Он постучал в дверь цвета старой коры.
— Кто там?… — немного погодя послышался из-за двери голос, хриплый от кашля.
— «Чос… час… мойон… кон…»
Подалась сонная дверь — такие двери обычно не знают, кто через них проходит, — и открылся проход в крошечное патио с засохшими, парализованными геранями и розами, на которых было больше листьев, чем цветов, и больше ветвей, чем листьев, и все это сплошь покрывала мертвенная пыль пепла. Он подошел к жилищу, входом в которое служило, очевидно, старое окно. Дряхлый пепельно-серый пес — спина его, покрытая плешинами и плешинками различных размеров и форм, напоминала географическую карту — встретил Сана ворчанием. Пес с окаменевшим взглядом был из тех собак, что не умеют радоваться и от удовольствия лишь ворчат. Он поднял голову и пошевелил хвостом, когда пришедший хотел его приласкать. Жилые комнаты находились ниже. Табио Сан спустился по ступеням, даже не глядя под ноги. Жил он тут недолго, но эти три ступеньки ему были хорошо знакомы. Керосиновая лампа освещала нехитрое убранство — зеркало, комод, стол, стулья, с которых, по-видимому, недавно смахнули пыль, но они снова покрылись пепельным налетом. Следуя за ним, в комнату, потягиваясь, вошел и дряхлый вислоухий пес, на пороге затряс мордой, будто желая стряхнуть дремоту, а за псом появилась и Худасита. Она было задержалась в дверях, выходивших на улицу; прижавшись ухом к доске, прислушалась, не идет ли кто. Не то подавляя улыбку, не то сдерживая слезы, она поздоровалась с пришедшим. Вглядывалась в его лицо, отводила глаза, жевала губами, но не произнесла ни слова. Ей было настолько приятно видеть его здесь живым и здоровым, что…
— Что же это такое, ты стал похож на паяца!.. — вот и все, что смогла она наконец вымолвить.
— Паяц из цирка большого дикого Зверя!.. — попытался он пошутить, боясь, что она начнет изливать свои чувства по поводу его вида — он был одет бедно, в простых штанах и рубашке, в старой, порванной пальмовой шляпе, в крестьянских самодельных сандалиях-гуарачас вместо туфель и с ног до головы покрыт какой-то белесой пылью, белее, чем седая пыль пепла.
— Мне удалось добраться сюда под видом грузчика, на повозке, груженной известью.
— И лицо ведь изменилось. Оно таким не было. Стало какое-то толстое или распухшее.
— Года сказываются, Худасита, и работа на побережье.
— А вот по разговору — тот же…
Она вышла в другую комнату, служившую спальней, и принесла какой-то предмет, спрятав его под фартуком, а затем с решительным видом, словно выполнение долга побороло чувство стыда, поставила на стол. Этим предметом оказался большой эмалированный ночной горшок немецкого производства; дно горшка было двойное. Всякий раз, когда Табио Сан появлялся здесь, она напоминала ему инструкцию — хотя ничего не было проще этой инструкции.
— Если услышите, что в дверь стучат, прежде чем пойти открыть, используйте его…
— Не смеши меня!
— Используйте его!
— А если позовут не меня и мне надо быть наготове?…
— Используйте его! Ваша обязанность — иссс… пользовать его…
— Ладно, честно говоря, при одной мысли о том, что нагрянула полиция, я, конечно же, его использую… и океаны покроют материки… ха-ха-ха!.. — расхохотался он и обнял ее. — Ну, как ты поживаешь, Худасита?… Ты даже не обняла меня!
— Смотрите, еще ребра поломаете! Это вас надо спросить, как вы поживаете, а что касается «кума», — показала она на горшок, красовавшийся на столе, — так лучше держать его полным, если есть какие бумаги, пусть будет собачья моча, пусть Бласко его наполнит, хотя он настолько стар, что даже для этого непригоден…
— Пусть будет хоть самого дьявола… лишь бы не нашли переписку, Худасита!
— Когда заберете оттуда письма, я отмою его кипятком с щелочью и креозотовым мылом. Больше так оставлять нельзя — воняет…
— Эх, горшок-то не простой… мыть его нельзя водой!
— Смотри-ка, даже стихами заговорил!.. Однако если его не мыть и не оттирать губкой с песком, то весь дом провоняет, как матрас паралитика!
— И все же, пусть будет так, для безопасности…
— Преувеличиваете…
— В таких делах я предпочитаю преувеличивать, ты знаешь.
— Может, вы и правы. Если бы мой сынок так остерегался, им бы не удалось его схватить. Уже шесть лет миновало, как его расстреляли. Шестерых в тот день расстрелял Зверь… Ах, за эту кровь еще надо отомстить… видит бог, надо отомстить!
— Ну, «кума» уже можно выставить вон, бумаги я достал!
Худасита, вдова Мужа, как шутливо называл ее Табио Сан, убрала таинственный горшок с двойным дном для хранения документов, который открывался и закрывался автоматически, — некое подобие сейфа.
— Все пакеты, — пояснила Худасита, — поступили в мешках с золой, их приносил человек, лицо которого мне еще ни разу не удалось разглядеть, так оно измазано. Ну вот, этот человек заглядывает сюда вечером, собственно, уже ночью. Где бедняки живут, там рассветает и вечереет быстрее, чем в кварталах богачей. Не припомню, рассказывала ли я вам. Выглядит он, как выходец с того света, как душа какого-нибудь угольщика, принесшая в своем мешке пепел мертвеца, и говорит так мало, что если бы не приходилось обмениваться паролем, так я ни разу и не услышала бы его голоса. Вот в последний раз он сказал мне всего несколько слов: «Сеньора, советую вам просеять золу из этих двух мешков, я ставлю их отдельно, и сохраните то, что найдете там…»
— Так и сделала?
— Конечно. Чего мне стоило достать подходящее сито, лучше не рассказывать. Заказать бы его, да просят слишком дорого. В конце концов устроилась, как смогла, — взяла в долг. И на сите, точно блохи, остались кусочки металла, они оказались буковками. Ну и работенка! Пришлось просеять два мешка золы. Не знаю, право, принесет ли еще.
— Вот как раз это я и хотел узнать. Где находится шрифт?
— Здесь. А сейчас читайте ваши письма.
Рука Сансура без колебаний потянулась к пакету, по его предположению, от Малены, — и он не ошибся.
Первую, вторую, третью странички проглотил залпом. Отчет был полный. На этот раз, если все пойдет так, как задумано, он может лично обсудить с ней выводы — слишком оптимистические и рискованные. Среди других сословий выделялось своей покорностью и безропотным подчинением властям учительство, привязанное к государственному бюджету нищенским жалованьем, но вместе с тем — и быть может, именно поэтому — среди учителей более всего ощущалось недовольство. В этом Малена была права. Оставалось установить, насколько глубоким было это недовольство, и не связано ли оно с какими-то личными мотивами, и не ограничивается ли оно только словесными протестами.
Хозяйка дома вынесла «кума» и, вернувшись, предложила Сансуру перекусить. Расстилая скатерть и расставляя тарелки, она отрывисто бормотала что-то себе под нос, будто клохтала курица-наседка.
— Что ж, пойду умоюсь… — наконец проговорил он, все еще находясь под впечатлением от письма Росы Гавидии, как именовалась теперь Малена, и странички которого еще держали его исцарапанные руки, покрытые мозолями и белые от известковой пыли.
— Я посоветовала бы вам хорошенько почиститься. В волосах и на лице пыль от негашеной извести, и если на них попадет вода, беды не оберешься.
— Что верно, то верно…
— Чем бы вас угостить? Яичница с томатом и лучком, немножко риса с молоком, с корицей, как вы любите. Знала бы, что приедете, так приготовила бы кусочек мяса…
— Я пойду с тобой на кухню.
— И будете совать нос не туда, куда надо, и у меня все сгорит. Оставайтесь-ка лучше здесь, со своими бумагами.
Ел он с большим аппетитом. Проглотил яичницу и накрошил в сковородку хлеба, чтобы тщательней подчистить. Рис с молоком съел тоже до последней крупинки, до последней крошки корицы. Кофе. Сигарета. И спичка вместо зубочистки.
— Постель готова, если хотите прилечь… — предложила Худасита; внезапно ее одолел приступ сильного кашля, и, прокашлявшись, она с трудом проговорила: — Чем объяснить, говорю я, что одни письма вы читаете, а другие нет, и как вы узнаете, где самое интересное?… Вот мне так не узнать. По цвету, что ли, определяете, или по запаху, или еще как?…
— Была бы гадалкой, узнала…
— Да если не умеешь гадать… тот, у кого рука ближе к сердцу, не ошибется…
— Руководствоваться этим рискованно. В борьбе, которую мы ведем, нельзя полагаться на чувства, на интуицию…
— Но сердце стремится туда, куда его влечет, а не туда, куда его тащат…
— Было бы неразумно…
— Читайте, читайте свое письмецо…
— Это отчет…
— А между строк…
— И то, что написано между строк, тоже небесполезно знать.
— Ну, оставляю вас, покойной ночи.
— И тебе того же.
— Ах да, чуть было не забыла… Возьмите-ка лампу да посмотрите шрифты. Взгляните, как я их устроила…
Он поднялся со стула, хотя чувствовал себя очень усталым, взял со стола керосиновую лампу и пошел вслед за Худаситой на задний дворик, где была проложена сточная труба на случай зимних половодий и где находился старый очаг. В топке очага пять горок разного шрифта поблескивали при свете лампы.
— Очень хорошо. Эти свинцовые вулканчики причинят больше ущерба, чем пулемет.
— Вам понравилось, как они сложены?
— Удачно. Это наводит на мысль о гербе Федерации. Если бы пять вулканов на гербе были сложены из типографских литер да еще к тому же могли бы одновременно извергаться, вот было бы здорово… Но все же не стоит оставлять их открытыми, надо спрятать понадежней — у полиции особый нюх на пули и типографский шрифт, они будто притягивают ее магнитом.
— Завтра сделаю. А сейчас пойду лягу. Спокойной ночи. Захватите лампу с собой, в моей комнате есть ночник. До завтра.
Она вышла. В сумраке дворика растворились ее бледное лицо цвета пепла, седеющие волосы — пепельные струи, платье цвета лежалой золы. Он возвратился в свою комнату. Волосы, лицо, одежда, руки — все было покрыто белесой известковой пылью. Словно два призрака встретились и разошлись восвояси. Часы без пружины показывали час, которого не было.
Он вскрывал конверты, вытаскивал листки бумаги и пробегал их глазами, присев на краю койки. Затем наклонился к огоньку керосиновой лампы, стоящей на ночном столике, снял сандалии, закатал рукава рубашки, расстегнул ремень — подсобный рабочий, пеон, покончив с работой и оставив телегу с грузом, решил сбросить с себя одежду, вымазанную в извести, яркая белизна которой завтра будет погребена под мертвенной белизной золы. Спал он без одежды — отсыпался за все ночи скитаний, когда приходилось спать не раздеваясь.
Сообщения из столицы. Протесты шоферов, водителей автомобилей. Они неизменно проявляют солидарность, если речь заходит о пересмотре водительских прав или других документов на машину, если надо отделаться от штрафов за нарушение правил уличного движения. К ним примыкают и водители автомобилей, купленных в кредит в импортных фирмах, которые продают свой товар по ростовщическим ценам с помесячной выплатой. Эти водители работают на машинах, считая их уже своей собственностью, хотя еще не выплачены полностью взносы, а тем временем растут цены на горючее и на запасные части, и в итоге увеличиваются прибыли импортеров автомашин. Вместе с шоферами грузовиков и легковых машин выступают и работающие на твердом окладе шоферы такси, принадлежащих частным предпринимателям, которые эксплуатируют эту отрасль городского транспорта…
Он зевнул. На улице в ночной тишине слышался лишь легкий свистящий шум крыльев летучих мышей, сходивших с ума по луне, щеголявшей в подвенечном пепельном платье, — романтический образ времен его обучения в парикмахерской и жизни в квартале мясников; ему даже почудилось сопение Панегирики, вершащей судьбы человеческие, и сонное бормотание Хуаны Тьмы-Тьмущей — тоже из породы сов. Снова он был среди зольников, где прошло его детство, но уже в помине не было ни Бельялуса, ни людей тех времен, ныне обратившихся в прах. К его ногам подполз пес — слепой, поседевший, замученный блохами. Есть собаки, в старости очень похожие на людей. Он приласкал пса, погладил его по шершавой холке, почесал за ушами, потрепал по морде.
Остальные сообщения — отчеты об обществах взаимопомощи, о синдикатах и братских федерациях, выступавших вместе лишь по случаю Дня отечества или юбилеев, — не представляли интереса. Единственным проявлением рабочей солидарности — явным и действенным — были обращения по поводу смерти кого-либо из членов организации, призывавшие собирать средства, чтобы погасить задолженность по расходам на похороны и оказать какую-то помощь сиротам.
Взаимопомощь… Посмертное единовременное вспомоществование… Он потушил лампу… Малена, конечно, права… Бороться в таких условиях — все равно что добывать огонь из пепла… А добыть его надо!..
Прошло несколько дней. Как-то вечером он решил познакомиться и установить дружественные отношения с нелюдимыми индейцами, которые покупали золу в городе и перепродавали ее на мыловарни.
— Сколько вас?… — спросил он одного из этих суровых и неразговорчивых людей; прислонившись к стене на углу улицы, тот бренчал монетками в кармане — перебирал и пересыпал их; казалось, звон монет ласкал его слух.
— Немного нас и много… — ответил индеец, помолчав и подумав; острые зубы обнажились, и непонятно было, засмеяться он хотел или укусить.
— Немного нас и много… — повторил Табио Сан в раздумье.
— Да, это так… — холодно произнес индеец.
— А не могу ли я пойти с тобой завтра? Ты ничего не имеешь против? Я беден, хочу немножко подзаработать. Крышу-то я себе нашел, но нет денег даже на бобы и на лепешку.
Индеец хранил глубокое молчание. Однако Табио Сан не сдавался.
— Ты хочешь, чтобы завтра я пошел с тобой в город за золой?
— Хочу, но не завтра. Пойдем послезавтра.
— Да вознаградит тебя бог!
— Мешок для золы есть?
— Один…
— Сил хватит нести?
— По нужде и силы.
— Монеты есть? На что будешь покупать?
— Сколько нужно?
— Немного, совсем немного…
— Но сколько все-таки?
— Значит, есть… — резко оборвал индеец. — Раз есть монеты, послезавтра пойдешь со мной в город, будешь покупать золу, а затем потащишь продавать, цену назначай подороже — я укажу. Незачем продавать дешево. Не захочешь терять свое дело, продавай не дешевле других. Да, я еще забыл вот что: твой мешок, в котором потащишь золу, должен быть из плотной ткани, чтобы даже пыль, не проникала.
— У меня есть такой, большой мешок для муки…
— Вот-вот, — с довольным видом произнес индеец, однако по-прежнему держась на расстоянии. — Их нелегко достать, потому я и спросил тебя.
— Слава богу, ты — хороший человек, не только о себе думаешь. Я не забуду твоей доброты!
— На первых порах я буду учить тебя, если хочешь идти со мной. А потом пойдешь один, на свой риск. А откуда ты?… — неожиданно спросил индеец — лицо бесстрастное, с медным отливом, шея повязана грязным от золы платком.
— Откуда я родом, говоришь?… — протянул Табио Сан, рассчитывая выиграть время, чтобы обдумать ответ. — Я из Чуакуса. Знаешь это место?… Там я родился… А ты здешний? — спросил он в свою очередь, пытаясь закрепить дружественные отношения, хотя это было все равно что пытаться завязать дружбу с камнем.
— Ну вот еще! — Индеец даже сплюнул и взглянул на Табио Сана. — Спятил ты, что ли? Здешний! За кого ты меня принимаешь? Я — настоящий сололатек, из самой что ни на есть Солола!
— А сюда только приезжаешь или живешь здесь?
— Четыре года здесь, но все время собираюсь вернуться на свою землю.
— А где мы увидимся послезавтра?
— На этом же углу, я буду поджидать тебя ровно в шесть. Меня зовут Сесилио Янкор, но знают меня здесь больше как Чило.
Когда Мондрагон сообщил Худасите о своем намерении прогуляться по городу, — как будто за его голову не была назначена баснословная цена! — Худасита даже вздрогнула.
— Вы всегда были благоразумны! Почему же сейчас изменяете своему правилу?… — Она щелкнула пальцами и прикусила уголок платка. — Если вы и в самом деле собираетесь в город, тогда я сейчас же соберу тряпки и уйду куда глаза глядят. Не хочу омывать слезами камни тюрьмы, и так уж очень много я плакала, когда расстреляли моего сына.
— Знаю все это, Худасита, и знаю, что, быть может, это неразумно!
— Быть может… — подчеркнула она.
— И без «быть может» это чудовищная неосторожность, но так или иначе мне надо установить связи, и как можно скорее, с людьми обеспеченными и… очень осторожными, которых знаю один только я. Эти лица были причастны — так или иначе — к заговору года два назад, а теперь я должен просить у них помощи для продолжения борьбы.
— Вы — дитя, еще верите…
— Верю… в «Отче наш»…
— Еще что скажете?! Я хотела сказать: кому вы верите? Просто дитя — верите, что вас примут. Даже на порог не пустят. Конечно, если в обморок не хлопнутся, узнав, что их разыскивает знаменитый Хуан Пабло Мондрагон. Для них вы продолжаете оставаться Хуаном Пабло Мондрагоном. Для них и для тайной полиции…
В дверь постучали. Два, три раза. Но стучали так нерешительно, что казалось, стучат где-то далеко. Сильнее, настойчивее. Худасита была потрясена, что стук в дверь раздался именно в тот момент, когда было произнесено слово: «тайная полиций». Бедная женщина совсем потеряла голову. Как только Сан исчез из комнаты, она подбежала к «куму», уже не помышляя об инструкции…
— Ктооооооо… — спросила она в дверь, с трудом справившись с кашлем.
— Я…
— Кто я?
— Сесилио Янкор, Чило…
— Никакого Чило здесь нет, — отрезала Худасита, к которой вернулось спокойствие, как только она поняла, что опасности нет.
— Да нет, это я — Чило Янкор…
— Что вам надо?
— Хочу узнать, не здесь ли проживает один человек, он собирался пойти со мной послезавтра за золой.
— Спросите в другом месте, здесь не…
— Где, значит, живет?…
— Не знаю, и не беспокойте больше…
— Извиняйте, сеньора… — послышался голос удалявшегося индейца.
Сан подошел узнать, в чем дело, и Худасита ему пояснила:
— Был тут какой-то глупый индеец, бродит и расспрашивает, не здесь ли живет его товарищ, с которым он послезавтра условился идти за золой…
— Я!
— Вы?
— Переодетый в угольщика, я смогу спокойненько пройти по городу, войти в дома моих друзей…
— Узнают…
— А разве меня узнали, когда я работал подручным, ездил на телеге, перевозил известь, грузил ее в Северных каменоломнях и выгружал в четырех;| пунктах столицы?… Та же белая маска… Чего не хватает, так это карнавала…
— Сети вы плетете из слов!
— Никаких сетей, вместо известковой маски на этот раз я пройдусь по городу в маске из золы и пепла.
— И для чего, хотела бы я знать?
— Для того, чтобы отомстить за твоего сына…
— Это может убедить меня, но как убедить тех, у кого дети не были расстреляны?…
— Одни изголодались по свободе, Худасита, другие голодают из-за того, что им нечего есть, а у третьих — голод по земле!
— И каждого вы угостите медком…
— Смотря за что, Худасита. Когда я пришел, ты спросила меня, из какого цирка я сбежал с такой вот оштукатуренной, как у паяца, физиономией. Из цирка большого Зверя, сидящего в клетке из лиан. А поскольку спектакль продолжается, то паяц сменил известку на пепел. Это, конечно, трагично — живую, негашеную известь сменить на мертвую пыль, на пепел, оставшийся от угасшего костра. И вот паяц выходит с бубном, зовет на помощь. Шрифты уже есть, но нет помещения, где можно было бы устроить типографию, надо бы достать еще ручной печатный станок, раздобыть бумаги, типографской краски, а кроме того, нужны деньги на оплату расходов по поездкам наших людей, они разъехались на задания по всей стране, потребуются деньги и на подкуп полицейских — да, да, полицейских! Полицейские, как и военные, продаются, ведь деньги, как известно, не пахнут…
— А почему бы сюда не прийти этим важным сеньорам?… — прищурилась Худасита, вглядываясь в глаза собеседника. — Почему именно вы должны идти, вот о чем я хочу спросить? А потом этот индеец потащит вас в дома своих клиентов, а не в те дома, где живут ваши дружки…
— В этом есть доля истины…
— И еще вот что… — произнесла она с тревогой в голосе. — Если отправитесь с индейцем… как его зовут… Янкор?
— Чило Янкор…
— Я слышала, как он называл себя. Это один из самых богатых угольщиков. Если вы пойдете с ним, то не сумеете встретиться с теми, кто, по вашим расчетам, должен вам помочь — индеец не знает, кто вы…
— Конечно, нет… — воскликнул Табио Сан; он почувствовал, что Худасита припирает его к стенке, и это раздражало его.
— Тогда вы поставите себя под удар, ничего не выиграв.
Он заметил, что она уже успокоилась, видимо, решила, что одержала в этом споре верх.
— Худасита, ты, разумеется, права, но послезавтра я начну учиться ремеслу угольщика…
— Учиться?
— Да…
— Зачем этому учиться?…
— А когда научусь, пойду один, без Янкора, и смогу попасть в дома моих друзей. Теперь мне нужен только план города с адресами, где-то у меня он был в бумагах…
— Ладно, а если вы постучите в двери дома, где живут ваши друзья, и вам ответят, что у них нет золы?
— Подожду несколько дней и снова постучу, пока не накопится зола…
— А если они переехали?
— Расспрошу, где живут, поищу, пока не найду…
— Может, некоторые умерли. Два года прошло…
— Тогда принесу их пепел…
— Святый боже, да уж не колдун ли вы!
XVII
В конце концов это занятие было такое же, как и любое другое — работа совсем не унизительная и достойная гражданина, — и в этой области можно было даже стать знаменитым, как Сесилио Янкор, виртуоз своего дела, который из семи поддувал выгребал золу, не просыпав на пол ни одной щепотки. Но помимо славы чистюли — от кухарки к кухарке распространялась эта слава по всей округе, — Янкор обладал способностью заглядывать в дома именно в тот час, когда это было всего удобнее, и присутствие угольщика не прерывало обычного ритма жизни; он был справедлив и назначал подходящую цену за чистую золу, без примеси угольной пыли, и поэтому никогда не возникало склок; кроме того, он был честен — ни разу из кухни не исчезала ни посудина, ни провизия, хотя он часто оставался один и орудовал в зарешеченном поддувале, круша кружевные бордюры, пики, башни, мосты, замки и прочие фантастические сооружения из слежавшейся золы.
Этого Чило Янкора взял себе за образец Табио Сан. Он также научился приходить в дома в нужный час, чистить поддувало, не пачкая пол, платить справедливо, а также здороваться, не теряя достоинства, слегка приподнимая шляпу. Угольщик, мастер своего дела, не будет снимать шляпы, хотя и находится в чужом доме, чтобы не быть похожим на гостя и успеть вовремя уйти.
Но, в отличие от других угольщиков, излюбленными часами Табио Сана было то время, когда кухарка с сеньорой отправлялись на рынок, а горничная занималась уборкой. Тогда без особых опасений он мог беседовать с хозяином — кухня обычно была расположена в глубине дома, и здесь, в безопасности, его не отказывались выслушать. Ведь это он доставал взрывчатку для бомб и предложил себя в качестве шофера грузовика, который должен был перерезать путь автомобилю президента республики в момент покушения.
— А, это вы, Мондрагон!.. — Владельцев дома охватывал неописуемый страх, когда тот открывался перед ними. — Мондрагон!.. — Когда они произносили это имя, от ужаса даже дыхание перехватывало. Некоторые уже считали его погибшим, неизвестно где похороненным.
— Был Мондрагон, а теперь — Табио Сан… вот возродился из золы…
И те успокаивались. Под другим именем и переодетый угольщиком, он уже не компрометировал их — разве только кто-нибудь донесет, — более того, некоторые даже благодарили его за визит и за удачный выбор места для переговоров, ибо, учитывая нынешнее положение и все прочее, именно кухня была наиболее подходящим местом для обсуждения государственных дел. Однако план, который он предлагал, им не нравился, и почти все отвергали его, как неосуществимый, хотя он был не более опасен, чем все покушения, государственные перевороты и революции, когда жизнь ставилась на карту. Но кое-кто все-таки не отказывался от помощи забастовщикам. Пусть забастовка будет объявлена, каков бы ни был результат — в ней участвуют многие, и потому ответственности меньше, вообще все можно переложить на чернь.
— Д-д-д-д-дело н-н-не п-п-прив-ведет к п-п-пол-ложительному р-р-р-результ-тату, — утверждал один адвокат, похожий на иезуита и заикавшийся от природы. — Н-н-н-о ее-сли в-вы, Мон-мон-мондраг-гон, счит-т-таете, что эт-т-то н-необходимо, рас-с-с-счит-т-тывайте н-на м-м-меня…
— По-моему, вся эта история с забастовкой скверно пахнет, — говорил другой. — Это все же дело рабочих… Как же мы, медики, сможем участвовать в забастовке, если клятва Гиппократа запрещает нам отказывать в помощи больному, обращающемуся к врачу?… Такого рода вопрос еще надо обсудить с коллегами…
— У меня нет никаких сомнений. Я согласен, Хуан Пабло, — не задумываясь, ответил один коммерсант.
— Хуан Пабло не существует, есть Октавио или Табио…
— Идея забастовки мне кажется удачной, но может случиться так, что какие-нибудь пройдохи откроют свои магазины и ларьки, тогда как мы, патриоты, закроем свои и будем чесать затылок.
— Я согласен попробовать… это… насчет забастовки… — заявил еще один.
Табио Сан даже подскочил:
— Нет, нет, в таких случаях нельзя пробовать! Забастовку надо объявить и поддержать!
— Хорошо, в таком случае пусть объявляют… Мы поддержим!
— Единственное, что мне не нравится в вашей забастовке, — заметил землевладелец, любивший поострить с наивным видом, — это то, что у нее военный чин: вы говорите, она генеральная — всеобщая, а мы и так уже устали от галунов. Впрочем, клин клином вышибают, поскольку забастовка генеральная, так, быть может, она вышибет хоть одного генерала.
Но встречались и упрямцы.
— Это приведет к анархии в стране… Все постараются нагреть на этом руки… Каждый будет ссылаться на то, что он имеет право командовать… Забастовка — ведь это, по сути, социализм!.. Положение в стране не таково, чтобы менять платья. Что же касается забастовочного движения, все знают, где и как оно начнется, но никто не знает, где окончится… и кто возглавит правительство…
Встречались и забубенные головушки, хотя головы их, еще не облысевшие, отнюдь не напоминали бубен. Например, дон Ансельмо Сантомэ так загорелся, что чуть ли не сам совал голову в гильотину:
— Согласен, согласен! За свободу — все!.. Мобилизуем массы… и пусть немало голов падут под этот каток, называемый всеобщей забастовкой, лишь бы уничтожить Зверя, лишь бы восстановить утраченные свободы! Ах, но это бесспорно, и завтра никто не скажет, что Ансельмо Сантомэ, дескать, не разбирается в социальных проблемах, не видит конфликта между трудом и капиталом, существующего и у нас, и в других странах. Очень хорошо! Великолепно!.. — Дон Ансельмо потирал руки. — Ради свободы — любое самопожертвование!.. Я поговорю с моим портным, с моим сапожником, с механиками из гаража, где ремонтируют мое авто, и будет стыдно, если кто-нибудь из них откажется присоединиться к забастовке… да, я еще поговорю с моим парикмахером!.. С моим парикмахером, я было совсем забыл о нем, а ведь это самое главное, как и у всех фигаро, язык у него отменный, попугай что надо…
Сан про себя отверг идеи дона Ансельмо насчет пристрастий своих былых товарищей по профессии, вспомнив учителя-костариканца, из-за которого он выбрал фамилию Мондрагон и который научил его первым буквам, дал первые книги.
— А священники?… — продолжал дон Ансельмо. — Священники могут участвовать в забастовке? Они могут отказаться служить мессы? Или пусть служат, пусть служат в закрытых церквах, только для пономарей… Что они могут?… Не крестить, это да, не исповедовать, не венчать никого, не соборовать, иными словами, пусть сложат руки на груди… Ах, но ведь это всеобщая забастовка, а сложа руки забастовку не проведешь!.. Вот видите, Мондрагон, — простите, я хотел сказать Сан, — насколько Ансельмо Сантомэ в курсе всего того, что происходит в мире…
Он смолк, радостно потирая руки, как человек, который уверен в успехе своих планов, а затем приблизил губы и усы a la Boulanger [18] к уху угольщика:
— Алые камелии!
Оба замолчали. Сантомэ поднес руку к груди, прижал к сердцу черно-траурный галстук. Затем вытащил платок и тихонько высморкался.
— Алые камелии!
«Каким далеким и романтичным все это было!» — подумал угольщик, услышав пароль неудавшегося заговора, пароль, который ассоциировался в его мозгу и с поездом, остановившимся около флажка, и с забытым букетиком, и с телеграммой. А спустя несколько лет — другой такой же букетик, да, букетик был такой же, только цветы были свежие… он вернул ей эти цветы, вкладывая в этот дар двойной смысл, еще не подозревая, что уже раскрыт заговор и что эти алые цветы станут опаснее динамита.
Совсем как невиданный в этих местах аристократический снежный ком с горы, катился и разрастался новый — ком пепла и золы — движение пролетариев. «Угольщик свободы» теперь приходил в дома уже не за прахом сожженных деревьев, а ради сообщений о подготовке забастовки. Не хватало лишь искры. Только искры!.. У этого человека был странный вид: натянутая до ушей старая истрепанная пальмовая шляпа; поднят воротник грубой куртки, порванной на локтях; выцветшая рубашка, то ли вытащенная из мусорного ящика, то ли побывавшая на пожарище; болтаются штаны, дырявые на коленках. На плече веревка, под мышкой двойной мешок из джутовой ткани, руки будто в пепельно-серых перчатках из золы; он даже походку индейца перенял — правда, тот ходит уже не обычной рысцой, как почти все индейцы-грузчики, — и усвоил своеобразную манеру говорить: будто выплевывает камни.
В подъездах угольщик спрашивал: «Зола есть?», на что открывавший дверь, чаще всего служанка, отвечал как заблагорассудится, однако если ответ был неуверенным, нерешительным, то угольщик настаивал, опять стучал в дверь и повторял свой классический вопрос: «Зола есть?» Он стоял на пороге до тех пор, пока служанка не возвращалась с положительным ответом или не хлопала перед его носом дверью. Если его пропускали во двор, пренебрежительно бросив: «Зола есть», — тогда следовал второй классический вопрос: «Кобель есть?» (приходилось заботиться о собственной безопасности — порой в этих тихих домах встречались такие зверюги, бродившие без привязи, что благоразумней было заранее принять меры предосторожности, чтобы потом не удирать в надежде, что собака не догонит, или не уходить в изорванной в клочья одежде). Служанка объявляла: «Есть, но он привязан», или: «Да, есть, но не злой», или: «Да, есть, иди за мной, раз со мной — он тебя не укусит». Покровительство служанки исключительно важно. И надо дать ей возможность почувствовать себя покровительницей, пока, следуя за ней, пересекаешь патио, коридоры, переходы, а на кухне тактика отношений с кухаркой заключается в том, чтобы не глазеть по сторонам, чтобы не дать ей повода крикнуть: «Чего глаза-то таращишь, паршивый индеец… что ты здесь увидел такого?», а то и обругать тебя. Лучше не разглядывать ее и с самым скромным видом объяснить: «Хозяйка приказала убрать сажу, так, может быть, с твоего разрешения…» Иногда кухарка благоволила ответить, а иногда вместо ответа поворачивалась спиной — вот и пойми, чего она хочет. А главное — работа должна быть выполнена безупречно, как у Сесилио Янкора, иначе, если хоть один кусочек сажи останется на полу, кухарка начнет вопить: «Вечно напакостят эти дикари индейцы!.. Вот тебе щетка, и чтобы вымел все быстро, прежде чем уйдешь, чтоб ничего тут не осталось, слышишь?…»
Единственная дочь дона Ансельмо была замужем и жила отдельно, однако за своим отцом-вдовцом вела неусыпное наблюдение и очень скоро пронюхала о частых визитах угольщика и о его беседах с отцом. Пришлось отцу объяснить ей, что речь, дескать, шла о спрятанном сокровище и что этот человек, кроме того, что он угольщик, еще и мастер по рытью колодцев; как-то, копая колодец глубиной метров в шестьдесят, он нашел клад — глиняные кувшины, битком набитые золотыми монетами.
— В каком-нибудь из наших домов? — спросила дочь.
— Нет, деточка, в чужом доме. Если бы в одном из наших, тогда все было бы просто…
— И что ты собираешься делать?
— В этом все дело…
— Хорошо, но надо устроить так, чтобы тебе досталось все целиком…
— Или по крайней мере большая часть. Уж не думаешь ли ты, что тот, кто мне сообщил об этом, удовольствуется лишь пустыми кувшинами, чтобы передать их в Археологический музей как памятники древней культуры майя?
Дочь ушла, а дон Ансельмо начал расхаживать по застланной коврами зале, сначала закрыв одно из шести… Нет, семи или, пожалуй, восьми окон… какое идиотство иметь столько окон… и сигарета еще погасла. Всегда его возмущали эти шесть, не то семь, не то восемь окон. Но таким он унаследовал дом от своих родителей — с шестью, не то с семью… — никогда не удавалось ему сосчитать — просто противно было считать, — сколько окон в доме; и никогда эти окна не открывались одновременно, — во всяком случае, он никогда не видал, чтобы все они были открытыми — открывалось одно, два, даже четыре, и то только в праздник тела Христова, да и кто бы смог открыть все замки, что имелись в доме: и массивные щеколды, и шпингалеты, и крючки, и цепочки…
Если принять во внимание, что все это — бойницы и стены как в крепости, — воздвигалось для обороны от пиратов и мятежников-индейцев, то какая польза от всего этого теперь, когда дом уже не защищал от веяний времени и подрывной дух социализма, коммунизма, большевизма проникал повсюду?…
Он снова пососал сигарету, но она погасла. Он пошел взять другую сигарету в раскрытом ларчике, стоявшем на угловом мраморном столике. Белый мрамор и зеркало величиной с окно. Шесть угловых столиков, семь угловых столиков, восемь угловых столиков — он также никогда не пересчитывал их. Ни одного. Ни одного окурка. Все унесла дочь. Но ведь ларчик был полон. Она унесла все. Он пожал плечами — зачем еще пытаться что-то понять, когда и так все понятно, — хмыкнул под нос и поспешил в спальню: найти где-нибудь сигарету.
Ему очень хотелось курить, вдыхать и выдыхать дым, чтобы активнее работал головной мозг; есть люди, которые могут думать лишь в процессе курения, и он принадлежал к этой категории.
Как же представить себе то, что называется всеобщей забастовкой?
Вышагивая уже с горящей сигаретой во рту, он время от времени останавливался перед одним из шести… нет, семи… нет, не семи — восьми зеркал, спиной к одному из шести, или семи, или восьми окон и мысленно видел себя мальчиком, наряженным в костюм рабочего, с взъерошенными белокурыми волосами, которые упорно не поддавались никаким гребням, лицо, руки, полотняные штанишки вымазаны сажей, в руках деревянный молоток: он декламирует стихотворение «Забастовка кузнецов», вызывая восторженное одобрение родителей, родственников и юных друзей. Он смотрел на своих родителей, на своих дядей и теток, на приятелей, аплодировавших забастовщику. А его мачеха плакала. Из-под век, опустившихся под тяжестью прожитых лет и его бесчисленных злых шалостей — только ему одному позволялось смеяться над кем-либо в доме, — выкатывались слезы, большие, точно жемчужины или бриллианты, сверкавшие в ушах, на груди и на пальцах зрительниц.
Тогда впервые он услышал слово «забастовка», но с той поры прошло уже много лет, и вот теперь, уже стариком, он пытался вообразить ее как нечто более серьезное, чем просто разложение… некое разложение, которое все же сплачивает… сплачивает — что? «Что же в конце концов — сплачивает или разлагает?» Он представлял себе лишь два действия: полное разрушение, отказ от какого-нибудь созидания, а затем возрождение, воссоздание всего, что было несовершенным…
Вернувшись из города, Табио Сан устало и тяжело бросился на постель, осушив несколько стаканов воды, ужасной колодезной воды, которая тоже отдавала пеплом.
Полдень. Казалось, что все здесь поджаривается на медленном огне — на тлевших под пеплом углях. Мысли бились, рвались наружу — казалось, можно было даже услышать их. Надо срочно найти помещение для типографии, пусть самой маленькой, но тщетно стучался Табио Сан в двери.
— С большим удовольствием, — ответил ему горбун, похожий на цербера, одетый в элегантный лондонский костюм, — но только при одном условии: это помещение должно быть оформлено на ваше имя, Мондрагон.
— Сан, Табио Сан…
— А для меня, дружище, вы — Мондрагон, человек, переживший знаменитый заговор, а не какую-то там забастовку. И поэтому я предлагаю вам — пойдемте к нотариусу и переведем на ваше имя любое из моих домовладений, наиболее пригодное для типографии.
Недаром все-таки звали горбуна Хуан Канальято. Он, каналья, великолепно знал, что это невозможно, — именно потому и предлагал.
«Дом… — повторял про себя Табио Сан, лежа на койке, — дом… А собственно, к чему дом, достаточно подыскать крышу и стены и наладить хоть крошечную типографию…»
Он уже заручился обещанием одного вполне надежного наборщика — работать в этой типографии. Этот наборщик был известен под прозвищем Крысига, потому что очень походил он на крысу и очень пристрастен был к сигарам — никогда не выпускал изо рта сигару, чуть ли не больше его самого. Как-то к нему неожиданно подошел Табио Сан — как есть, в своей извечной кофейного цвета с искоркой куртке с истрепанным воротником, с протертыми рукавами, в зеленой пропотевшей рубашке с черной тряпкой — неким подобием галстука, — и сказал, что есть типографское оборудование, но надо где-то его разместить…
Крысига не только был ловким и неутомимым наборщиком — пальцы его, словно петушиные клювы, так и клевали, будто зерна маиса, литеры из наборных касс, — он знал назубок типографское дело. Он готов был набирать и печатать все что угодно — листовки, газеты, памфлеты, объявления, надеясь, что и ему когда-нибудь пожмет руку Мехуке Салинас — общепризнанный ас печатной гильдии. Однако прежде всего надо было подыскать, и не первое попавшееся, а совершенно надежное место для печатного станка, если к тому же удастся заполучить более или менее приличный станок: полиция превосходно знает шум, похожий на гул морского прибоя, который издает такая машина во время работы, и если полицейские ищейки услышат его, они непременно постараются докопаться, где это из букв приготовляют динамит. Самым идеальным, пожалуй, было бы устроиться в какой-нибудь из пещер за городом; в свое время, когда ждали нападения пиратов, в этих пещерах хранились сокровища кафедрального собора, а позднее тут разместились подпольные самогонные заводишки. Однако из-за отсутствия удобного подземного помещения Крысиге пришлось довольствоваться двумя комнатушками и двориком, разделенным пополам стеной, где он содержал школу игры на маримбе — маримба была сейчас в моде, и потому, что она была в моде, приходилось каждый день обновлять репертуар, разучивать какую-нибудь новую вещицу. Четверо или шестеро, а то и восемь нарушителей закона рьяно выстукивали по клавишам и наигрывали какую-нибудь мелодию — уже от одного этого шума можно было сойти с ума, — а когда начинал работать печатный станок, шум его сливался с буйным деревянным ритмом маримбы и аккомпанементом контрабаса, тарелок, барабана и бубна.
Табио Сан полусидел-полулежал на койке — мысли не давали покоя, от знойного воздуха, обжигавшего в полдень, как раскаленная зола, становилось душно. Что-то не поступали известия ни из Бананеры, где борьба продолжалась, ни из Тикисате, где она только начинала разгораться. Несколько раз он проверял — «кума», но в почтовом ящике ничего не было. Хуамбо должен был направиться в Тикисате как можно раньше. Шла большая игра. И мулата приходилось передвигать, словно шахматную фигуру, выточенную из слоновой кости и эбенового дерева — темная кожа и седые волосы — на огромной шахматной доске плантаций Тихоокеанского побережья, где организаторы забастовки готовились сделать мат «Тропикаль платанере».
Следующий ход — передвинуть Хуамбо, но…
Вытянув ноги на койке, Табио Сан старался спиной выдавить углубление в матрасе и устроиться поудобнее…
Следующий ход… но…
Мулату внезапно взбрела в голову мысль отправиться на плантации и поступить работать в качестве грузчика бананов. Он вдруг загорелся желанием искупить свою давнюю вину или выполнить свой давний долг — наказать самого себя за то, что бросил здесь своих родителей. Его отец умер на погрузке бананов… Допустить, чтобы человек, у которого была когда-то собственность, были свои земли, унаследованные от родителей и дедов на Атлантическом побережье… допустить, чтобы человек этот умер, рухнув под тяжестью грозди бананов, лицом — в лужицу крови, хлынувшей из горла… как никому не нужное больное и дряхлое вьючное животное, нагруженное так, что не может уже подняться и падает, захлебываясь собственной кровью, которая льется изо рта — огромной молчаливой раны… Он должен отплатить. Хуамбо должен выполнить свой долг. Он не может работать на плантациях на какой-либо другой работе — только грузчиком бананов…
Он бил себя по лицу открытыми ладонями, нанося удары какому-то противнику, — так выражал свое безграничное возмущение мулат. Сжимал кулаки, чтобы в глаза не вонзились кинжалы ногтей, а пальцы вырывали клочья волос — ему хотелось рвать на себе одежду, наступать самому себе на ноги, давить пальцы ноги каблуками. Терзали его угрызения совести оттого, что позволил он своему старику умереть без всякой помощи, в луже крови. Свидетель всему бог. Бог знает, кем и почему была придумана эта история о том, что отец якобы бросил его в горах на съедение ягуару, а хозяин будто бы вырвал его, Хуамбо, из когтей зверя. Обо всем этом с подробностями рассказывали Хуамбо еще в детстве — и о ягуаре, и о горах, о ночи и о ветре, о высохшей листве, трещавшей, как битое стекло, под шагами хищника, и о застывшем в глазах огне, о прыжке ягуара, похожем на водопад волнистой шерсти. Когда Хуамбо стал уже взрослым, его постоянно преследовал кошмар: он попал в лапы к зверю и старается вырваться, но, проснувшись, он ощущал на своем теле уколы острых пружин, прорвавших матрас, весь в пятнах, как шкура ягуара.
Спасительная ложь: Анастасиа не хотела, чтобы ее братишка испытывал горечь при мысли, что он был просто подарен Мейкеру Томпсону, и поэтому придумала всю эту историю. «Он будет ненавидеть отца и будет любить хозяина», — говаривала мулатка. Именно так и случилось, только от всего этого хитроумного сооружения теперь остался лишь план поездки Хуамбо на плантации Юга, но не для того, чтобы грузить бананы, а в качестве связного, разведчика, с заданием изучить обстановку и проникнуть в управление или в какую-нибудь другую контору под видом технического служащего — вахтера, слуги, дворника…
Табио Сан зарылся головой в подушку, некогда бывшую мягкой, а теперь слежавшуюся, как куча золы, и услышал доносившиеся откуда-то голоса — свой собственный и Хуамбо, пытавшегося, лежа на телеге рядом с Саном, переубедить своего собеседника:
«Место для меня подыщется, конечно; в конторе управляющего я могу быть хорошим курьером, хорошим вахтером, хорошим дворником — все подходит мне, и поступить на работу мне нетрудно. Все знают меня. Еще малышом воспитывался я у Джо Мейкера Томпсона, пользовался его полным доверием. Да, да, все легко, если не захватит меня другой язык и не стану я погрузчиком бананов…» — «А что за язык, Хуамбо?…» — «Другой язык…» — «Но если ты пойдешь работать грузчиком, это не принесет пользы нашему делу…» — «Быть может, и так: однако вначале мне надо свести счеты за отца, иначе жизнь у меня будет поломана и все погибнет — и наше дело, и вы, все…» — «Хуамбо, твой отец простил бы тебе, что ты не выполнил свой обет перед ним, не стал, грузить бананы, если бы узнал, что его сын участвует в великой забастовке…» — «Я посоветуюсь с матерью, на побережье. Отец умер, но мать жива. Посоветуюсь с ней. Ничего не буду говорить ей о великой забастовке, только посоветуюсь. А насчет конторы управляющего, то малыш Боби приведет меня и скажет: „Это — Хуамбо!“ И все ответят: „Это — Хуамбо!“ А я душе моей скажу: „Час, чос, мойон, кон“ — нас бьют, чужие руки нас бьют… Перед вами не Хуамбо, как вы считаете, тот, который для хозяина был Самбито, перед вами Хуамбо, готовый к великой забастовке!» — «Очень хорошо, очень хорошо! Это тот Хуамбо, которого все мы любим, Хуамбо — борец великой забастовки, это не грузчик бананов…» — «Но так будет, только если не захватит меня другой язык, на котором я никогда не говорил с моим отцом, но на котором я буду говорить с матерью и который похож, только похож на тот, на котором я говорю с вами!» — «Но, Хуамбо!..» — «Если меня не захватит другой язык, тогда да!» — «Хуамбо!..» (Охваченный отчаянием Табио Сан еле сдерживался, чтобы не схватить мулата за плечи и не встряхнуть с силой тут же, на телеге, как мешок из-под известки, как пустой мешок; и он готов был это сделать, хотя это было бы непоправимо, но перед его глазами маячила, как живой пример терпеливости, пара кротких быков, покорных, медлительных.) «Хуамбо, нет никакого другого языка! Из-за этой ерунды ты ставишь под удар все, чего мы ожидаем от твоей работы в конторе управляющего. Разве кто-нибудь другой может войти туда, не вызывая подозрений?… Ради твоего отца ты должен это сделать, ради него…» — «Отец мертв, лежит с открытыми глазами!..» — «Все мертвецы, Хуамбо, погребены с открытыми глазами!.. Все, Хуамбо, все, пока в мире царит несправедливость, и потому ты должен помочь великой забастовке, чтобы добиться мира и справедливости и чтобы погребенные смогли закрыть глаза!..» — «Но вначале я обязан выполнить свой долг, своими муками я должен заслужить любовь отца… Теми же муками, какие испытал мой отец при жизни, — такими должны быть и муки сына до великой забастовки…» — «Но ведь великой забастовки не произойдет, если ей не помочь, если каждый не выразит своей воли, ведь великая забастовка — это воля многих людей, слившаяся в одну-единую волю…» — «Если вы верите в великую забастовку, то почему же вы говорите, что она может не произойти? Я пойду работать в управление, но только после того, как отплачу мой долг за отца. Пригоршни, груды, горы долларов у моего патрона в карманах, в письменном столе и в стальном ящике, он будет говорить мне: „Бери, бери, Самбито, бери, что хочешь…“ Ну, а у меня все есть, зато у моего отца не было ничего… У патрона целые погреба вкусной пищи и напитков, комоды и шкафы, битком набитые одеждой, бельем, обувью, чулками, шляпами — и патрон будет говорить мне поминутно: „Бери, Самбито, бери без разрешения, возьми все, чего тебе не хватает…“ — ну, а мне в доме патрона всего хватало, все у меня было, в то время как отец голодал, был раздет…» — «И ты думаешь, Хуамбо, что твой отец принял бы доллары, одежду и пищу от бандита, прогнавшего вас с ваших земель?» — «Да, да, но если Хуамбо не хотел бы помочь, он молчал бы о том, откуда он взял эти подарки…» — «Ты испытывал бы сейчас еще более сильные угрызения совести. Это же самообман. А кроме того, Хуамбо, ты уже стар, ты не выдержишь… Грузить бананы — это ужасная работа…» — «Отец тоже был стар, а он работал… а я должен расплатиться сполна хотя бы сейчас… Если бы я был моложе, мне было бы легче, но тогда расплата стала бы западней… А теперь я старик, думаю, мне удастся сделать все, что надо!..»
Табио Сан быстро встал — оборвалась нить мыслей. Открыл глаза — на лице будто горячая сковорода, прикрытая влажными листьями век. Кто-то вошел в дом. Открылась и закрылась наружная дверь. Его успокоил голос Худаситы, а затем звук ее шагов: башмаки стучали о землю, как деревяшки, с которых отряхивают золу. Странно, что она надела башмаки. Ведь она обычно ходит в домашних туфлях, а в башмаках отправлялась лишь в город за покупками или когда шла с цветами на могилу расстрелянного сына. Как странно, что она ему ничего не сказала! По мере того как шаги приближались — стук раздавался уже на ступеньках, ведущих из внутреннего дворика в столовую, — он понял, что вместе с ней идет еще кто-то, с кем она говорит вполголоса, полагая, что он спит.
И услышав этот другой голос — голос ветра, горы, дерева, — образ того мира, что перенесся из Серропома зольники, бесплотный образ мира, сотрясаемого войной, — Табио Сан вскочил с постели, словно от удара в сердце, словно подброшенный стальной пружиной. Он вскочил в одно мгновенье в порыве радости и восторга, словно инвалид, который вновь обрел возможность двигаться. Спешить, спешить навстречу той, что появилась в дверях вслед за Худаситой, которая шла предупредить его: она уже здесь, она отыскала его, нет, не могла она потерять его… Он спешил слиться с Маленой в объятии, и… и… и…
XVIII
Вместе!.. Вместе!..
Все это казалось им невероятным…
— Мален!..
— Хуан Пабло!.. Их прежние имена…
Два года назад они простились в Пещере Жизни, и на устах еще остался привкус потери, несчастья, поражения, провала, неуверенности; ему угрожала смерть, ей — отчаяние. А теперь, после семисот с лишним дней борьбы, они в объятиях друг друга, и появилось ощущение надежды… Крепко прижав ее к груди, он целовал, не давая передохнуть, целовал губы, он пил ее нежное дыхание, пил самое жизнь, он словно упивался своей мечтой, — и она так же пылко отвечала на этот бесконечный, бесконечный поцелуй, опьяненная слезами, опьяненная волнением радости.
— Хуан Пабло!
— Мален!
— Два года!
— Два года?… Больше… тринадцать лет!.. Путешественница в поезде… остановка у флажка… букетик камелий…
— И пассажир, назойливый, неприятный!.. — отрезала она.
— Будто реку остановили, чтобы вышла из нее сирена!
— И эта сирена исчезла… и вместе с тем — не исчезла… — засмеялась Малена. — Как?… Не знаю… Но я следовала за тобой, не зная тебя, еще не понимая, что это значит, когда я ехала в Серропом на таратайке Кайэтано Дуэнде… — И после паузы и града поцелуев Хуана Пабло, осыпавших ее лицо, волосы и плечи, она добавила: — Я следовала за тобой в течение одиннадцати лет, не зная тебя, и ты был рядом со мной все эти одиннадцать лет, не зная меня, до того, как мы неожиданно встретились, до того визита в школу. Ты помнишь, ты еще был одет тогда в форму офицера-дорожника?… У меня возникло впечатление, что я ехала в поезде, ехала далеко-далеко, что мы совершали путешествие вместе, в одном и том же вагоне, только когда ты появился, все изменилось, действительность оказалась отражением сновидения, а сновидение стало отражением действительности…
— Мален!
— Хуан Пабло!
Они держали друг друга в объятиях, думая каждый о своем… Серропом… падре Сантос… воскресные встречи… учитель Гирнальда… ее дневник… «А сейчас я хочу, чтобы ты ушел…» …газеты с сообщениями о раскрытом заговоре… имя Хуана Пабло Мондрагона среди руководителей заговора… приказ захватить живым или мертвым… патрули… конная полиция… роты солдат, расстреливающих… букетик камелий… опять алые камелии — теперь уже не только пламенеющий символ любви, но и пароль свободы…
— Ты знаешь… — прошептала она, — несмотря на то что черная ночь окружала меня все время, иногда меня охватывал такой страх — вдруг с тобой что-нибудь случится, и мне не хватало дыхания, в гортани становилось сухо, я задыхалась, я вскакивала и начинала ходить из угла в угол, размахивая руками, чтобы вдохнуть воздух… И вот, почти мертвая, я вдруг улыбнулась — так радостно, так приятно мне было получить букет, который был для меня все тем же букетом, что я оставила в поезде, когда мы увиделись впервые, и который ты возвратил мне много лет спустя, свежий, ароматный, пламенеющий, и мне в голову даже не пришло, что эти бедные цветы, которые падре Сантос унес из школы, тщательно спрятав в сутане, были роковым символом новой и еще более ужасной нашей разлуки…
Она вернулась в его объятия поспешно, будто искала убежища, и замерла, пока не почувствовала сквозь одежду тепло его тела, которое проникало в нее, впитывалось в кожу, как невидимая татуировка.
— Мы разлучились не тогда на остановке, где лишь флажок говорил о существовании живых существ среди этих пойм, похожих на водяные чистилища, мы были разлучены там, под землей, где безгранично немое молчание и от рождения слепа темнота. Судьба иногда загадочна. Кучер, который увез меня с безымянной остановки в Серропоме, был тот же самый человек, который привел меня к тебе в Пещеру Жизни, где ты скрывался, чтобы я могла сказать тебе: прощай, прощай, как говорили некогда друг другу христиане в катакомбах…
Он прижал ее к себе, и снова слилось тепло двух тел. Они хотели убедиться в том, что это действительно они. Столько лет жили они в разлуке и так привыкли представлять друг друга только в мечтах, что сейчас с трудом осознавали реальность этой встречи.
— Ты снова прежний… — робко проговорила Малена. — Я так боялась…
— Боялась, что я так и останусь изуродованным…
— Боялась, что ты вообще изменился… не внутренне, а внешне… Как-то, находясь в отпуске, я попробовала этого снадобья, которое искажает внешность и стала ужасной, показалась самой себе тараской… Я хотела быть уверенной, что ты не остался таким…
— Боялась увидеть урода… — настаивал тот, пристально всматриваясь в черные зрачки Малены. — Урода…
— Любовные письма без любви! — с упреком сказала она.
— Без слов любви, ты хочешь сказать, а это не одно и то же, — поправил он. — Дело в том, что письма были написаны не только для тебя… — Она попыталась вырваться из его объятий. — Мален, будь же умницей… они предназначены не только для тебя! — Она выскользнула бы из его рук, если бы Хуан Пабло не удержал ее и не прошептал на ухо: — Они были также для Росы Гавидиа…
Это ее обезоружило.
— А… Роса Гавидиа, — продолжал он, — придерживалась иных взглядов. Вспомни, что писала она в одном из ответов: «Мало-помалу твои письма мне возвращают радость к жизни — все становится таким ясным, возрождается надежда, что я выйду из тупика, избавлюсь от этого каждодневного медленного умирания, выйду навстречу новой эре…»
Он положил ей руки на плечи.
— Или вот другое, где ты пишешь… Ах да, ведь это не ты, это Роса Гавидиа писала… «Любовь, являющаяся только отражением несуществующего мира, должна остаться в стороне… Нам не угрожает риск обратиться в субстанции воображения и зеркала…»
— Смейся!.. Смейся!..
— Это не насмешка, ничего подобного! Вспомни, что я тебе отвечал… Ага, ты уже не помнишь?… «Любовь, отражение погибающего мира, должна остаться позади, за нами… Нам не угрожает риск обратиться в субстанции несправедливости, разложения, горечи».
— Для меня — не знаю, каких слов ты от меня ждешь, — для меня лучшим' из твоих писем было то, в котором ты объясняешь смысл и цели этой забастовки. Ты отвечал на мой вопрос, не похоже ли это на новый заговор. Я запомнила все… «Это не имеет ничего общего ни с заговором, ни с мятежом, ни с военным путчем, — писал ты мне. — Это совсем иное дело. Заговор, мятеж или путч, даже если они направлены против диктатуры, остаются частью диктатуры, ибо входят в военно-полицейскую орбиту. А забастовка — нет! Революционная забастовка — именно такая, какую мы готовим, — ничего общего не имеет ни с полицейскими шпиками, ни с регулярными войсками, сколь бы ультрареволюционными они ни казались, ведь по сути своей они были и остаются орудиями угнетения народа. Забастовка же совершенно не имеет ничего общего с государственной машиной, она ломает установившийся порядок…» А далее ты пишешь… в самом конце… подожди-ка, дай-ка вспомнить, только-только в памяти было… только-только… боже мой! Что же было в самом конце? Ага… ты, иронизируя, писал: «Забастовка — это ответ консорциям со стороны анонимных акционеров, а подлинными анонимными акционерами являются рабочие, — процитировала она, широко улыбаясь, — и этот ответ касается как политической, так и социальной стороны…»
— Какая чудесная память!.. — восхищенно воскликнул Хуан Пабло и, разомкнув объятия, но не выпуская ее из своих рук, поднес ее пальцы к губам, осторожно целуя их — в самые-самые кончики, покрывая поцелуями упругие ладони и тыльные стороны рук, похожие на птичьи крылышки.
— Была у меня хорошая память, но я потеряла ее, попробовав этот ядовитый кактус. Я выглядела столь ужасной, что мне пришлось скрыться у Пополуки, а в Серропом сообщить, что я уехала на время каникул в столицу. Каникулы, вакации!.. Вакцинацию пришлось делать — против опухоли… Хотелось плакать, меня охватило какое-то меланхолическое безумие, и это тоже было результатом действия ядовитого кактуса!.. Кайэтано доставлял мне письма от тебя, однако и они меня не радовали, они меня интересовали, это верно, интересовали — и только, ибо я узнала, что в этих письмах не было…
— …слов о любви… — поспешил добавить Хуан Пабло.
— Единственное, что меня радовало, — это рассказы старика о том, как ты живешь, что у тебя нового, о твоих планах и, что важнее всего, не вызвал ли ты у кого-нибудь подозрений, и… какой глупой становишься от… — она рассмеялась, — кактусов… (Она хотела было сказать «от любви».) Я требовала от Дуэнде, чтобы он сосчитал, сколько раз ты спрашивал обо мне, и все беспокоилась, не проговорился ли он, что я попробовала снадобье из кактуса…
— Еще бы!..
— Он сосчитал, сколько раз ты его спрашивал! Это было пятьдесят девять раз — совершенно точно, так мне сказал старый болтун, и еще он сказал, что, когда я попробовала это питье, термометр твоего интереса ко мне поднялся. Всего пятьдесят девять раз! Спросить обо мне — всего пятьдесят девять раз! Как обидно! «А ты сказал ему, Кайэта, что я попробовала этот кактус?» — спросила я как-то старика. «Да, сеньорита, я сказал ему», — ответил мне старик. «И что он сделал, узнав об этом?» — спросила я с нетерпением. Ты вначале молчал, сообщил мне Кайэтано, да, замолчал и только после длительной паузы, не зная, что сказать, вдруг в замешательстве воскликнул: «А если бы я принял яд!.. какая дикость, зачем ей дали попробовать это снадобье?… А вдруг лицо так и останется изуродованным?…»
— Вполне понятно, что я встревожился! — прервал ее Хуан Пабло.
— А ты… Ты ведь остался с изуродованным лицом? — подняла она голос, устремив на него взгляд.
— Я не знаю, сколько времени мне нужно будет скрываться, и потому продолжаю принимать это лекарство. Но, пойми же, это случай особый, для мужчины не так уж страшно некрасивое лицо, и, кроме того, я так поступал не из-за…
— Не из-за любви… это я уже знаю!
— Я мог бы оставаться с этим страшным лицом… но ты…
— Я хочу разделить с тобой твою участь, что бы это ни было — уродство или смерть! И вот именно поэтому я начала приходить то к Дуэнде, то к Пополуке, и все с одним и тем же: «Поклянитесь мне, поклянитесь, что Хуан Пабло не просил у вас яду, скажите мне честно и… оставьте немного яду для меня!» Все ночи напролет я не спала, думая о том, что ты можешь принять яд в случае провала — ведь у тебя не будет иного выхода; что же тогда делать мне?… Я даже хотела отправиться на розыски — старики меня отговорили. Ведь я могла подвести тебя. И как раз тогда ты как будто угадал мое состояние — ты написал мне письмо, которое вдохнуло в меня надежду. Там, в гнилой слизи соленых болотистых пойм, став одним из тысячи корней огромных мангровых лесов — такими лесами мне представляются массы пеонов, работающих на плантациях «Тропикаль платанеры», ты осознал суть диктатуры в нашей стране. Понял, что диктатура неотделима от «Тропикаль платанеры», обе они — порождение одного режима и питают друг друга. Свергнуть очередного Зверя в президентском мундире и оставить «Тропикаль платанеру» — значит обманывать себя, а уничтожить Компанию, когда в стране правит диктатор, невозможно. Требуется покончить с обоими одновременно…
Человек, мыслящий так, сказала я себе, меньше всего думает о самоубийстве. И мне стало легче дышать. Дуэнде начал приносить письма не только для… — она на миг умолкла, — не только для Росы Гавидиа…
— Нет, моя любовь, также и для Малены Табай!
— То есть как это «так же»?
— Хорошо, для Росы Табай… я хотел сказать — для Малены Табай.
— Не говори ничего, любовь моя, потому что и Роса и Малена — обе твои, а поскольку мечтать никому не возбраняется, ты можешь предаться иллюзиям, что тебе принадлежат две женщины! Но я тебе расскажу о себе дальше. Возобновились занятия в школе, и эти дни оказались трагическими для меня: во-первых, мы получили сообщение о том, что Зверь во время своего кругосветного путешествия по республике намерен остановиться в Серропоме, а затем пришла краткая весть о твоем исчезновении. Дуэнде то и дело ездил из Серропома в Тикисате, из Тикисате в Серропом… А я? Я задыхалась, мне нечем было дышать… Быть может, ты арестован или убит?… Какие ужасные слова!.. Какие ужасные слова!.. Как страшно чувствовать себя в кольце… в кольце этих слов — «арестован или убит»… Арестован или убит… Я даже вышла навстречу Зверю, этому одетому в военную форму тигру с длинными и тонкими золотыми кантами на мундире, и, полумертвая от страха, я про себя твердила: арестован или убит… Арестован или убит…
Но ни из газет, ни по радио, ни от людей невозможно было узнать, что с тобой! Не было никаких сообщений, ни слова о том, что тебя арестовали или убили «при попытке к бегству», и вот эта полнейшая неизвестность, которая вначале меня мучила, в конце концов стала для меня отдушиной, позволяющей мне жить, размышлять и рисовать в своем воображении то худшее, то лучшее…
— Усиление охраны в Серропоме, — сказал Хуан Пабло, — в связи с сообщением о возможном визите Зверя — кстати, для подобных поездок Зверь уже не одевается в тигровый наряд, поскольку мундир «тигра» требуется для важных церемоний, для других случаев он одевается лишь «под волка», — задержало в пути одного человека, который ехал к тебе с вестью о том, что мне удалось забраться в товарный поезд, шедший в Бананеру, а там я собирался перейти границу и отправиться в Гондурас, на Северное побережье. Я получил инструкции на время туда уехать и там начать подготовку выступления крестьян — тогда никто еще и не помышлял о забастовке, а затем, когда все будет готово, я должен был возвратиться на родину…
— Теперь мы можем, конечно, назвать имя этого человека: Флориндо. Кстати, он мог бы тебе рассказать о том, в каком состоянии я находилась. Он был послан как бы самим провидением, и если бы он не появился в то утро, не знаю, что произошло бы со мной. Ко всем физическим страданиям прибавилось еще кошмарное сновидение, от которого я никак не могла избавиться. Я не могла удержать слез, бесконечный поток, мои рыдания, наверное, сливались с рыданиями всех тех, кого мучают, кто страдает. Этот сон был настолько похож на явь, что я не раз вздрагивала, вспоминая его. Мне приснилось, что нас, тебя и меня, схватили в подземном убежище, в Пещере Жизни. Военный трибунал приговорил нас к смертной казни через повешение в Серропоме. Нас должны были повесить вместе, но у меня, даже повешенной, еще оставалась возможность спасти тебя, помешать твоей казни. Это была зловещая шутка Зверя, который прибыл на место казни на мотоцикле, вооружившись кинокамерой: он собирался снимать все, что покажется ему интересным. Как же, однако, — спрашивала я себя, пока лежала рядом с тобой, связанная по рукам и ногам, — как же я смогу спасти его, если меня также повесят?… Виселицы поставили так близко одну к другой, что наши тела должны были соприкасаться. Руки теней, метавшихся, как безумные, в странном освещении, подняли тебя и набросили на шею веревочную петлю. Однако они не стали затягивать ее, и один из палачей поддерживал тебя за ноги, тогда как другие палачи резким ударом сбросили меня на землю, и не на шею а на ноги мне накинули петлю и подвесили меня вниз головой, освободив руки, причем руки мои приходились как раз на уровне твоих ног. Палач, поддерживавший тебя, заявил: «Я отпущу его, и от вас зависит, останется этот человек жив или умрет. Если вы сумеете удержать его за ноги, он не задохнется, в противном случае он умрет!..» И вот до того, как петля перехватила тебе горло, я рванулась к твоим ногам, пытаясь приподнять тебя, — сперва мне это удалось, хотя пришлось самой изогнуться невероятным образом; но силы тут же начали покидать меня, кровь приливала к голове, веревка на моих ногах резала и разрывала щиколотки, во рту появилась какая-то желтая слизь, и я вдруг услышала твой предсмертный хрип… твои ноги закачались в воздухе, далеко от моих рук…
Она спрятала голову на груди Хуана Пабло, словно и сейчас перед ней была картина кошмара, и не решилась сказать, что под конец, в момент агонии, когда она уже не могла поддерживать его ноги, с последним судорожным его движением на нее упали капельки…
— Вместе, — прошептал он ей на ухо, и она даже вздрогнула, как будто это слово было частицей того живого вещества, капелькой той самой жидкости. — Вместе, но не для смерти, а для борьбы!
За стенами дома, над угольными полями палило солнце, безжалостен был зной, а пение петухов совсем не ко времени еще более подчеркивало нависшую тишину; потерянно бродили собаки, разыскивая на пепле следы своих хозяев, и только стервятники равнодушно отрыгивали, насытившись падалью.
Близился вечер, тени сгущались. Возобновлялся парад силуэтов — люди спешили из города со своим холодным товаром — белой пылью — к воротам ближайших мыловарен, — торопились сдать золу и что-то за нее получить после того, как взвесят ее на старом искореженном безмене из белого металла со стершимися цифрами. Люди зевали и почесывались, пытались выплюнуть из горла жажду, горло раздирала подчас до рвоты резкая вонь из котлов, где кипел и дымился жавель; люди сбрасывали скорпионов с поленьев, люди скользили, чуть не падая, по горячей мякоти пахучих, еще горячих плодов кофейного дерева.
— А Флориндо, — произнес Хуан Пабло, — ничего не говорил мне об этом твоем сне…
— Какое значение это имеет, не стоит обращать внимания! Однако его посещение излечило меня от снов и кошмаров. Ты отправился на Северное побережье Гондураса, а я включилась в организацию крестьянского движения, я была в первом ряду, вместе со стариками, с Кайэтано Дуэнде и Пополукой, но они, конечно, сделали больше меня. Это они все сделали, это им мы обязаны…
— Организовано было превосходно!
— Превосходно, ты прав. На побережье, в Тикисате, от тебя приходили инструкции, директивы и другой материал, а оттуда Кайэтано Дуэнде переправлял их к Пополуке, пользуясь тем путем, что прорыла в горах Змея лавы. Я расскажу тебе поподробнее. Пополука вкладывал бумаги в маленькую металлическую коробочку и быстро лепил из глины голову какого-нибудь идола, жреца или воина, тщательно замуровав в середину коробочку с документами. Полиция просто с ног сбилась, пытаясь выведать, каким образом передавались от тебя инструкции. Когда я приходила к Пополуке, он вскрывал глиняную голову, прикрытую мокрыми тряпками, — и все было в порядке.
— И инструкции затем распространялись…
— Да, да, из селения на побережье, по подземному пути, замурованные в голове какого-нибудь идола, поступали они ко мне и уже отсюда распространялись в остальные пункты. Некоторые друзья, между прочим, не соглашались с теми изменениями, которые были внесены в последний момент. Им больше по душе было крестьянское движение, чем всеобщая забастовка.
В кухне раздался какой-то грохот, а затем послышался голос Худаситы:
— Не пугайтесь, это у меня упала шумовка, которой я размешивала бобы…
— Роса Малена… Так называл я тебя в моих мечтах.
— А я тебя — Хуан Пабло. Не привыкла, да никогда и не привыкну к Табио Сану…
— Ты все такой же романтик…
— Все еще романтик. Но не об этом речь. Мне нужно посоветоваться с тобой по некоторым вопросам.
— Давай вначале поговорим о нас с тобой…
— О нас?
— Да, о нас! — подтвердил Хуан Пабло, голос его словно вырвался из сердца.
— Есть одно очень срочное дело, — подчеркнуто сказала Малена, — это связано с вопросом, выдвинутым железнодорожниками. Они просили выяснить — ввиду всеобщей забастовки, — какова будет позиция воинских частей, дислоцированных на базах, которые предоставлены нашей страной Соединенным Штатам как союзной державе.
— Обсудим после…
— Есть, кроме того, просьбы о средствах, требуются листовки, а из Тикисате сообщают, что они собираются провести небольшую стачку грузчиков бананов — в целях рекогносцировки.
— После…
— Из Тикисате запрашивают также, когда прибудет тот человек, который должен устроиться на работу в контору управления…
— После… — повторил он, почти не шевельнув тонкими губами.
— А что касается наших дел… — резко сказала она, — так, может быть, отложим?
— Не нужно воспринимать все так болезненно. Ведь нам надо несколько минут, хотя и есть дела, не терпящие отлагательства, дела, их следует срочно решить. Но и нас тоже томит тоска… Томит не меньше, чем других, и надо знать… мне нужно знать — это не в ущерб нашей борьбе, — что будет с нами?
— С нами?… — нерешительно повторила она, не в силах скрыть удивления.
— Каждый день мы сражаемся за них, за этих мужчин и женщин, за этих людей, в одном ряду с ними — мы сражаемся за нечто большее, чем эта забастовка, мы сражаемся за то, чтобы спасти жизнь, ибо в нашей стране самой жизни угрожает опасность, но наша воля, Мален, должна иметь еще какую-то цель… — Голос его звучал так глухо, что едва было слышно. — Хочешь быть моей женой?
— После победы.
— Зачем же откладывать? Мы смогли бы отправиться в какую-нибудь индейскую деревушку и там зарегистрировать гражданский брак!
— Подождем победы, Хуан Пабло… — И по его лицу она поняла, что он поражен.
— Что?… Ты сомневаешься в победе?
— Нет, нет… никоим образом… но, любовь моя, я не могу ставить на карту то, что испытываю по отношению к тебе!.. — Она вспыхнула. — А остальные?… Остальные разве не рискуют всем, всем… своими постами, своей службой, своей работой, хлебом своих детей, своим благосостоянием, даже своей жизнью?
— Да, да… все мы рискуем, но я не хочу, чтобы наша любовь зависела от победы или поражения!
— Хуан Пабло, быть может, я не сумела объяснить… послушай меня… может, я не сумела объяснить, или ты меня плохо понял! Игры никакой нет! Не будь слеп! Все, к чему ты прикасаешься, ты исчерпываешь до конца, и даже море в твоих руках покажется не больше глотка воды…
Малена продолжала говорить спокойно, а он опустился на стул.
— Никакой игры нет. Если я сказала, что мы отложим личные дела до победы, то это потому, что я уверена в нашей победе. Но и в случае поражения, где бы мы ни были — в тюрьме или в эмиграции, — все останется по-прежнему, и тогда мы поговорим о наших личных делах, о том, что действительно будет в наших руках, поговорим…
— Вопросов, требующих немедленного решения, не слишком много… — заметил он после паузы.
— Самый срочный — запрос железнодорожников. Их интересует, какую позицию займут североамериканские войска, базирующиеся в нашей стране, как только будет объявлена всеобщая забастовка. Имеется экстренное сообщение о рекогносцировках войск, эти сведения получены… через некоторых лиц. Этот вопрос не удалось изучить достаточно глубоко, но тем не менее существует надежда на то, что войска не будут введены в действие, если забастовка ударит по интересам «Тропикаль платанеры». Это было бы противоестественно — ведь лучшие люди Америки погибают на фронтах в Европе, Азии, Африке за свободу и демократию, а здесь, в одной из стран Американского континента, войска США будут оказывать поддержку правительству, которое само по себе является отрицанием всего, что они защищают.
— Так и надо будет сообщить железнодорожникам. Правда, я обычно был против подобных контактов, потому что это рискованно — выиграть ничего не выиграешь, зато можно случайно раскрыть свои карты. Но в конце концов, путейцы хотят выступать, имея верные шансы на победу.
— А вот еще одно срочное дело, — прервала его Малена. — Я говорю о человеке, который сумел бы проникнуть в контору управляющего тихоокеанским отделением «Платанеры».
— Сообщи, что он вскоре явится. И кроме того, предупреди Флориндо, чтобы этот человек не вздумал наняться работать грузчиком бананов. Это один упрямый мулат по имени Хуамбо.
— Есть также несколько предложений о разделении республики на определенные зоны. Нам следует уточнить, где мы должны говорить о хлебе, где — об освобождении, а есть зоны, где, собственно, нет никакой необходимости чего-либо требовать…
— Здесь — зона индейцев, которым надо вернуть землю, но это уже совсем другое дело. Сейчас речь идет о вовлечении людей в забастовку — одни пойдут на нее из-за хлеба, другие — ради свободы…
— Интересно, — заявила, входя, Худасита, — в этом гнездышке когда-нибудь будут есть или нет? Не правда ли, сеньорита, что это похоже скорее не на жилой дом, а на гнездо агути посреди угольных полей?… — И, по-прежнему обращаясь к Малене, она продолжала: — Вы не будете возражать против кофе с хлебом и только что сваренными бобами? Что, если мы подкрепимся, как вы думаете?
— Мы попросим сеньориту, — вмешался Хуан Пабло, — чтобы она каждый день заходила сюда поесть, иначе мне здесь подают только холодные невкусные бобы.
— Сам виноват — дожидается, пока они остынут, и еще хочет, чтобы они были горячими, а что невкусные, так всякое бывает, иной раз и боб попадется плохой. К счастью, сейчас как раз удачные. Черные, вкусные — такие мне нравятся. Ну, я оставлю вас одних, не буду вам мешать, третий в такой компании — лишний. Заставьте его есть, сеньорита, а то этот сеньор совсем лишился аппетита, перестал обедать.
Худасита вышла — и между ними разгорелся спор. Кто за кем должен ухаживать? Ей пришлось покориться: все-таки в этом доме, поскольку брак в алькальдии еще не зарегистрирован, она была гостьей, и он на правах хозяина оказывал ей внимание.
Худасита вернулась уже в башмаках, как всегда, когда она собиралась в город, и в черной шали, которую носила с тех пор, как погиб ее сын. Она собиралась сопровождать сеньориту, чтобы та не заблудилась среди угольных полей. Худасита прошла через столовую и задержалась у входной двери — надо было, пока они прощаются, проверить, нет ли кого поблизости, но на самом деле ее глаза были устремлены скорее во внутренний дворик, чем на улицу. Она то и дело оглядывалась: ей захотелось увидеть целующуюся пару, ведь видеть поцелуй — это почти самому целовать; в прежние времена, когда еще был жив ее сын, ей нравилось проходить мимо мест, где парочки назначают свидания.
— Табио Сан!.. — задержалась Малена, прощаясь; переступив порог комнаты, он опять стал Табио Саном.
— Роса Гавидиа!.. — откликнулся он, провожая ее взглядом.
Она пересекла внутренний дворик.
— До скорого!..
Он вышел закрыть дверь, но так велико было искушение оставить ее открытой настежь: вдруг вернется Малена, исчезнувшая, словно видение, одетая, как невеста, во все белое — точно в убранстве из пепла.
XIX
— Тоба уехала далеко, мать, но Хуамбо вернулся. Хуамбо сменил Тобу. Анастасии нет. Анастасиа не приехала.
— А что делает Анастасиа?
— Выпрашивает милостыню там, где дома, и дома, и дома…
— Там, где дома, и дома, и дома, и откуда приехал сын…
— Да, оттуда, мать, оттуда приехал Хуамбо. Тоба далеко, сеньоры ее увезли…
— Тоба далеко, я знаю. Не увижу ее, жемчужину мою, Тобу, мою дочь. Отец похоронен тут.
— Отец похоронен тут, мать жива — и сын вернулся из-за погребенного и к живой.
Мулат старался говорить так же, как мать; ему казалось, что так он глубже проникает в душу человека, которому обязан жизнью и которого по вине патрона, выдумавшего историю с ягуаром, забыл на столько лет.
— Патрон плохой, не разрешал тебе приехать раньше, только под конец…
— Патрон далеко, там же, где Тоба, разрешение дал управляющий. Приснилось мне: мать очень плоха… — И после краткого молчания, пока столетняя мулатка прислушивалась, как бьется пульс пространства: жила она крохами воздуха — уже с трудом дышала, крохами света — почти ничего не видела, крохами звуков — глуховата стала, Хуамбо заговорил быстро и громко: — Самбито не возвращается туда, где патрон! Самбито служил ему всю жизнь, а Самбито беден-беден; патрон все берет у Самбито, а для Самбито — ничего, у Самбито все есть, и ничего своего!
— Человек этот проклятый, отобрал наши земли там, там, на другом берегу, где родился сын и родилась Тача…
— И после сказал, что родители оставили Самбито в горах, чтобы ягуар его съел… Более двадцати лет, более двадцати пяти лет, более тридцати с лишним лет Самбито не хотел видеть родителей… Но Самбито будет мстить, платить той же монетой этому барчуку Боби. Барчук Боби, высокий-высокий, волосы огненного цвета, будет очень печален… Он слушает — я говорю, а волосы его печальны… Дед убил твоего отца, барчук Боби!.. Печальны его волосы, замолк его открытый рот, как услышал второй раз: дед убил твоего отца, барчук Боби, на Обезьяньем повороте; я хотел, барчук Боби, нажать на скорость, ускорить — ускорить ход дрезины и — лапами вверх под откос — и на дне остался твой отец с разбитой головой, твой отец, барчук Боби…
— А твой отец погребен здесь…
— Но мать жива… — прервал ее Хуамбо, радостно улыбаясь.
— И я могу умереть, — продолжала мулатка, — потом, когда вернется Самбито, умереть и объяснить отцу, что Хуамбо снова с ним, снова с ним, — она всхлипнула, — снова с нами, с родителями, а мы — с Самбито… И отец будет благодарить, будет благодарить под землей! Отец, Самбито, будет плакать, плакать под землей от радости, плакать от удовольствия, от большой радости и большого удовольствия!
Хуамбо сжимал ее холодные руки с длинными пальцами и ногтями, напоминающими своей формой семена какого-то древнего плода.
— Отца звали Агапито Луиса; так же как у Самбито, у него были кудрявые волосы — черная морская губка… Тоба — дочка хорошая, Анастасиа — дочка плохая, дочка оттуда, где было нам плохо, с плохого берега. Агапито всегда говорил: плохо — это еще не совсем плохо, но дочь плохая — очень плохо… Анастасиа не принесла мне внука, я могу умереть, не видеть внука…
Хуамбо оставил чемоданчик в доме матери и вернулся в поселок. У него звенело в ушах. Так бывает всегда, когда в прибрежную полосу спускаешься с горных высот. Снова и снова сует он пальцы в уши, ввинчивает, как будто старается достать из ушей звенящую часовую пружинку. Поселок, казалось, стал хуже. Жизнь побережья становилась не лучше, а хуже. Немощеные улицы, изгороди из тропической крапивы — чичикасте; всюду тебя подстерегают не только лучи знойного солнца, но и ожоги от крапивы; то тут, то там приютились хибарки. Лавочка и таверна дона Ихинио Пьедрасанты. Парикмахерская «Равноденствие». Недостроенная церковь, откуда каждое утро из-под циновок выглядывает господь бог с бородой из хлопка и в одеяниях из белого полотна, чтобы водворять мир среди шести или семи прихожан, живших окрест под бдительным оком дона Паскуалито Диаса, алькальда столь популярного, что его переизбирают всякий раз, и настолько прогрессивного, что он уже поговаривал: как только разобьют английский парк на главной площади, напротив алькальдии, так он построит бойню для рогатого скота.
На некоторых стенах Хуамбо видел надписи: «Бойня — да, ни дня без бойни!» Эти надписи алькальд истолковывал в том смысле, что если он выстроит скотобойню и мясников обяжут резать скот только там, то мясники постараются раньше прирезать его.
Дон Паскуалито — к нему очень шло уменьшительное имя, поскольку роста он был маленького, — считал, что автором этих наглых надписей был не кто иной, как Пьедрасанта — его бесплатный враг; по мнению алькальда, враги бывают и платными — те, которые чего-то стоят, то есть люди, для которых он что-либо сделал или просто которым когда-то одолжил деньги. Этому Пьедре, как звали дона Ихинио, — конечно, при этом имели в виду не какой-либо жертвенный или драгоценный камень [19], а лишь мельничный жернов либо валун из тех, что пододвигают к очагу, — и вот именно этому Пьедре дон Паскуалито предоставил было место в бухгалтерии алькальдии и дал ему хорошенькое жалованье, но вдруг в один прекрасный день Пьедра заявил, что он бросает работу, и действительно бросил ее. «Как же я смог оставаться? — объяснял Пьедрасанта своим друзьям по ломберу и конкиану после всего происшедшего. — Как же я мог далее оставаться, если ежедневно, в один и тот же час, дон Паскуалито трепал меня по плечу, появляясь в кабинете с лучшей из улыбок человека, славно выспавшегося и надеющегося еще подремать на службе, и начинал твердить: „Кредит… Дебет… а ведь ничегошеньки нет…“ — и тыкал пальцем в книгу, над которой я и так до седьмого пота пыхтел, тыкал пальцем в колонки цифр».
Учитель местной школы Хувентино Родригес глухим и гнусавым вкрадчивым голосом — хриплым оттого, что без конца пил за Тобу, пил и пил с тех пор, как она уехала — толковал о том, какие выгоды несет сооружение бойни, предназначенной для крупного рогатого скота. Он говорил, что теперь будет установлен контроль, чтобы не резали туберкулезных коров, а кроме того, будет налажен также контроль финансовый — контроль за уплатой налогов, и, наконец, будут следить за соблюдением чистоты при убое скота и, что не менее важно, теперь можно избавиться от мясников-барышников.
Поселок горел желто-оранжевым пламенем хокоте. Сотни, тысячи тысяч плодов хокоте свисали с ветвей деревьев, и все ели хокоте, и все выплевывали косточки хокоте на землю, и косточки, золотистые, влажные, высыхали, высыхали, пока не превращались в прах, и только в прах. Как грустно было видеть останки былого великолепия! Точно так же и с другими фруктами. И со смолистым манго, и с обезьяньим манго. Были, конечно, и такие косточки, которым выпадала иная доля. Например, черные и блестящие, крепкие и острогранные косточки аноны вонзались в землю точь-в-точь как рассыпавшиеся четки, или, например, зеленовато-черные косточки патерны упорно выдерживают время и невзгоды, или еще — твердые, словно выточенные из темно-красного металла, косточки гуапиноля…
Куда же пошел Хуамбо?
Как куда пошел? Он должен был направиться на виллу «Семирамида» в соответствии с полученными им инструкциями. Если его спросят, зачем он явился, он ответит, что пришел повидаться с барчуком Боби, гостящим у Лусеро.
Издалека разглядел он роскошную виллу миллионера Лусеро. Был бы жив старый Аделаидо и увидел этот дворец, сразу же умер бы от страха. Там, где когда-то по воскресеньям и праздничным дням строил он своими руками, кирпич на кирпич, скромное гнездышко, домик со стенами розового и желтого цвета: эти цвета носила Роселия, когда Аделаидо познакомился с ней, — блузка розовая, а юбка желтая, не то наоборот, кто теперь помнит, забылось все, там сыновья его воздвигли дворец. Они привезли для дворца дерево ценных пород и устроили все с комфортом, на североамериканский манер, с тем комфортом, которым наслаждаются в своих домах самые главные чиновники «Тропикаль платанеры». Чего тут только не было: газоны, цветы и фонтаны, каскады водяной пыли, струй, льющихся по чашам черно-бело-красной глины, по раковинам и водоемам, выложенным талаверскими цветастыми плитками. Изразцы погружены в одиночество воды, которая поет и мечтает; вода, которая не поет и не мечтает, — это не вода, это просто влага, используемая человеком с той или иной целью.
— Бедный барчук Боби, высокий, высокий, волосы цвета печального огня, думает его голова, что дед убил… неправда, что дед убил… неправда и то, что родители бросили Хуамбо, чтоб сожрал его ягуар!
Направляясь к «Семирамиде» по широкой аллее, засаженной цветущими деревьями, Хуамбо был занят своими думами, мысленно он как бы продолжал беседовать с матерью.
— Самбито — низкая душонка, но патрон — тоже низкая душонка!
Внезапно он остановился. Навстречу ему выскочила собака светло-коричневой масти с белоснежными лапами и черным-черным остреньким носом. Собака подбежала, радостно его приветствуя, пытаясь лизнуть руки, игриво завертелась в ногах и залилась звонким, раскатистым и добродушным лаем, будто декламировала поэму о внезапно завязавшейся дружбе. Собака схватила Хуамбо за рукав и осторожно потянула его к поселку.
«Столько лет живу я с Юпером и пропах, видать, кобельком…» — подумал он, и воспоминание о Юпере омрачило его встречу с ласковым, красивым и очень послушным животным, — как только пес заметил, что Хуамбо возвращается, он сразу отпустил его рукав и даже протрусил вперед, как бы указывая человеку путь.
Его Юпер… И Юпером прозвал потому, что звучит здорово: «Ю… Ю… пер… ррро…» [20]
Очень не хватало ему пса. Оставил его на попечении кухарки. И в то же утро, когда он пошел на железнодорожную станцию, кухарка отвела собаку на рынок. Так не хотел Юпер, чтобы он уходил, будто понимал, что хозяин уходит навсегда… Управляющий и кухарка думают, что он вернется, если выздоровеет или умрет его сеньора мать, — и только Юпер почуял правду, лишь пес понял, что хозяин навсегда покидает дом, в котором прошла и его, Юпера, жизнь.
«Собачья душа!» — кричал ему патрон; много возился он, Хуамбо, с псом, надо думать, передался ему запах Юпера, потому и эта собака так встретила его и вот теперь ведет по неведомому пути.
Они утонули в ущельях, затянутых сетью лиан. Тяжело тут дышать — тяжело даже в тени гуаябо, разметавших безлистые сучья, будто пучки молний, — дрожащие, изломанные, красноватые молнии, застывшие на лету.
Глаза Хуамбо выискивали плоды гуаябо, но с годами теряешь ловкость — как бы не оступиться и не сорваться. Он сплюнул — при виде фруктов даже слюнки потекли, и пошел за собакой, которая бежала впереди него по выжженным лужайкам, где валялись кости, ребра и черепа; бежала по следам стервятников — сопилоте и орлов-ягнятников, заставляя их перелетать с места на место, а то и вовсе прогоняла от добычи.
Уже далеко ушли они от поселка и от плантаций. Они были почти у самого Тихого океана, видневшегося внизу, далеко остались люди и дома, здесь царили только солнце и ветер, порывами гнавший волну за волной.
Хуамбо вытер пот мокрым платком со лба и затылка, отер щеки, губы, нос и шею.
Большие песчаные наносы виднелись за скалой, на которую, похоже, они никогда не заберутся. Полдень. Зной удушающий. Хуамбо остановился. Больше нет сил. Его душил воротник рубашки, взмокшие рукава приклеились к плечам, липли под мышками.
— Ну и задал мне гонку этот кобель, а я, дурак, поперся за ним! Впрочем, к чему мне взваливать вину на кобеля, нитка-то тянется издалека. Погнала меня Анастасиа… Это Анастасиа вытащила меня из дома — да, пусть это был дом патрона, но все же это был и мой дом, я там жил, — и заставила говорить с человеком, у которого мурлыкающий голос, хотя, по правде, все это из-за слов: «Чос, чос, мойон, кон…» Мать избили, а отца даже ранили, когда нас выбрасывали отсюда… Атлантический… Бананера… Горькое побережье.
Собака промчалась во всю прыть по песчанику и вдруг резко остановилась, будто почуяла кого-то. И действительно, дорогу им пересекал коренастый человек, без рубашки, в одних штанах и сандалиях — каите, голова прикрыта широкополым пальмовым сомбреро, на раскрасневшемся лице сверкали такие белые зубы, что казалось, их было полным-полно, и даже собственную улыбку он словно перекусывал, когда смеялся.
Когда они поравнялись, незнакомец его спросил:
— Вы в Сан-Бенито идете, сеньор?
— Нет, я иду в Санхон-Гранде…
— Тогда перекреститесь…
Они обнялись. Точнее, незнакомец обнял его. Самбито не умел изливать чувства. Его руки были грубые и невыразительные. Да и можно ли было обвинять его за это — ведь никогда и никто его не обнимал.
Выполнив весь ритуал приветствий с этим вечно улыбавшимся сангвиником и обменявшись паролем и отзывом: «Сан-Бенито» — «Санхон-Гранде», они перешли к делу.
— Мне поручили передать вам вот это… — Хуамбо вытащил пакет из нагрудного кармана, сколотого тремя булавками.
Незнакомец взял пакет, вскрыл его и вынул листок бумаги, исписанный с обеих сторон…
— С вашего разрешения… — сказал он и не прочел, а залпом проглотил письмо. Глаза его как будто впитывали содержание письма, а сверкающая улыбка излучала его; незнакомец так и светился от удовольствия.
— Меня зовут Флориндо Кей [21], и как бы то ни было, мой друг, забыть или потерять меня невозможно, потому как вот тут, на ухе… — Он приподнял указательным и большим пальцами мочку левого уха, — у меня родинка, очертаниями напоминающая ключ.
— Очень рад, а меня зовут Хуамбо, или Самбито, по фамилии был Луиса, но я не люблю, когда меня так называют…
— Вам не говорил Сансур, он приедет сюда или нет?
— Нет, ничего не сказал… Даже не сказал, что собирается приехать…
— Быть может, спустится на другое побережье…
— Ничего не сказал.
— А где вы живете?
— В доме матери, она очень стара. Дон Октавио меня предупредил, что я должен остаться работать на побережье.
— И останетесь?
— Да, если чем-нибудь буду полезен.
— Выполнение нашего плана очень осложнилось бы без вашей помощи… — Кей наклонился к нему, положив руку на плечо и глядя прямо в глаза. — Нам необходима информация. Нам нужно получить доступ в контору Компании, а получить этот доступ сможете только вы.
— Мне, конечно, легче. Я один из самых старых слуг президента «Платанеры».
— Да, относительно вас ни у кого сомнений не будет. Мейкер Томпсон оставил вас жить в своем доме, и если сейчас вы приехали сюда, то якобы потому, что вы хотите служить ему до конца жизни, — в благодарность за все, что он для вас сделал. И вполне логично, что вы поступите работать в контору, хотя бы сторожем…
— Но вначале я хотел бы найти работу потяжелее…
— Не понимаю вас!
— Самая тяжелая работа мне покажется легкой…
— Этого не может быть. Знаете ли вы, что здесь есть такая работа, которая может угробить человека за полдня, а то и за час?
— Я не хочу кончать жизнь самоубийством, но я нуждаюсь в такой работе, которая походила бы на наказание. Я думал наняться в качестве грузчика бананов.
— А если вас узнают?
— Пусть. Можно ли подыскать другой, более красноречивый пример: человек всю свою сознательную жизнь прослужил у мультимиллионера, президента Компании, а теперь вынужден уйти из его дома с протянутой рукой.
— Работать грузчиком — нет, это не годится. Вы не выдержите. И вы же себе не принадлежите, вы — наш…
— Но прежде чем я не искуплю свою вину…
Собака то садилась, то вдруг начинала крутиться, пытаясь схватить себя за хвост.
На всем протяжении песчаников — ни дуновения ветерка.
— После того как я заслужу покаяние, я пойду к барчуку Боби в «Семирамиду», и он поможет мне открыть двери конторы.
Кей предложил ему сигарету. Хуамбо поблагодарил. Он не курил — не имел этой порочной привычки, дабы — упаси боже! — дымом и пеплом не обеспокоить своего патрона. Каким же дураком он был! Конечно, он не мог видеть самого себя, но внутренне чувствовал, что выглядит дураком, и рассеянно водил пальцами по своему лицу, на котором застыла горестная гримаса.
— Ну что ж, видно, нам придется изменить наш план… — угрюмо пробурчал Кей; он чуть было не ушел, даже не протянув Хуамбо руки. — А мы рассчитывали, что вы будете работать в конторе управляющего. Во всяком случае, скоро увидимся…
Он исчез, за ним последовала собака. На горизонте протянулись длинные вереницы каких-то черных птиц. Возвращаясь, Самбито шел по своим собственным следам, отпечатавшимся на песке; в одном месте он, правда, уклонился в сторону, заметив дерево с розовыми цветами, видневшееся как будто неподалеку, — но нет, это был обман зрения. Сколько трудов ему стоило добраться до тени великолепного матилисгуате! Большие мухи, бабочки, пауки, муравьи. Он снял башмаки и высыпал из них песок.
Работать в качестве грузчика — да, слить свою боль с болью других, чтобы приблизить день, которого ждут погребенные, день, когда они наконец смогут сомкнуть свои глаза… открытые глаза его отца, там, под землей, ждут этого дня, чтобы уснуть, успокоиться…
Ах, этот день — день победы над «Тропикаль платанерой» — громовым эхом раздастся он под землей, когда сомкнутся веки над вечно бодрствующими, пристально вглядывающимися во тьму зрачками погребенных, погребенных, ждущих с открытыми глазами!
Ах, этот день!..
Поселок пуст… Улицы. Кокосовые пальмы. Редко-редко проедет какой-нибудь всадник, подгоняя животных, нагруженных плодами авокадо или манго в сетках. Двери домов полуоткрыты; внутри, где царит полумрак, слышен скрип гамаков. Вода, которую выплеснула женщина с обнаженной грудью, почти вся испарилась в воздухе, не достигнув земли. Голова женщины обернута полотенцем. По острому носу ее катятся капельки. Брови и ресницы усеяны жемчужинками. Тыльной стороной ладони она отбросила прядь и, вытерев рукой лоб, произнесла вслух: «Ужасно! Вода еще не высохла, а пот уже выступил!»
Заметив, что за ней кто-то наблюдает, она сдернула с головы полотенце и прикрыла грудь.
— Послушайте, сеньор, что вам нужно? — резковато спросила она, но, узнав мулата, сразу изменила тон: — Давно вы здесь? А мы-то думали, что уж не увидим вас здесь больше. Очень приятно… Если сможете подождать меня, я выйду к вам через минутку. Я не приглашаю вас в дом, там такой беспорядок. В жару ничего не хочется делать.
Хуамбо перебрал в памяти все возможные имена, но так-таки и не смог вспомнить, кто она, эта сеньора. Похоже, когда-то они уже встречались.
— Уверена, что вы не помните меня… А я вас узнала… Я Виктореана, не припоминаете?
Самбито сделал неопределенный жест. Ничего не говорило ему это имя. Виктореана… Виктореана…
— Я была из тех, кто пробовал наняться в прислуги к вашему патрону и к адвокатам, белым щенкам, которые прибыли сюда делить наследство. А что сейчас вы поделываете? Только не говорите мне, что вы хотите еще что-то делить. Это бывает только раз в жизни.
— Прогуливаюсь!..
— Рановато, не все фрукты созрели. На прогулку выходят сюда, на эти улицы, вечерком… Впрочем, теперь люди заползают в свои берлоги, как только стемнеет, и никакие силы не выманят их оттуда. Поэтому и говорю, что в нынешнем году праздник не похож на праздник. Заваруха на севере — аукнулось здесь. Но я слышала, что и здесь тоже готовится заварушка, хотят устроить всеобщую забастовку…
— А я спутал вас с Сарахобальдой…
— С этим крокодилом!.. Эта колдунья умерла от рака, потому что хотела во что бы то ни стало иметь детей. Заиметь их она не заимела, зато заработала зловредную опухоль. Умерла она, а я от доброты сердца приютила одного из ее горьких пьяниц. Получила выпивоху по наследству… Среди бедняков, дон… как зовут-то вас?… пьянчуги — самое частое наследство…
— Хуамбо называйте меня, мое имя Хуамбо, или Самбито…
— Получила в наследство этого выпивоху, как я вам уже сказала, сеньор Хуамбо, и так неудачно — он пьет похлестче любого пьяницы! В трезвом уме он именует себя Макарио Раскон, а когда рассудок у него замутится, он говорит, что его зовут Браулио… Была бы хоть выгода… идти замуж за наследство — пожалуйста… а то ведь и Сарахобальда была незамужняя. Он жил с ней и с другими… в конце-то концов, зачем судить ее так строго, если она и без того наказана господом богом… А вы не курите?
— Нет, не курю…
— С вашего разрешения, раскурю-ка я свой окурочек. Я курю сигару. На побережье мы почти все курим… Надо же чем-то отпугивать слепней и скуку.
Она глубоко затянулась и, вынув сигару изо рта, выпустила дым через нос — точно выстрелила из двустволки. Затем, бросив на Хуамбо нежный взгляд из-под мечтательных ресниц, она мягко сказала:
— Я повенчалась с ним. Взяла за шиворот и приволокла в евангелическую церковь Святой богоматери. Надеялась, что господь, раз мы перестали быть любовниками, сотворит чудо и оторвет его от бутылки, но вот не вышло… И это понятно. Он же пьяница… пьяница… пьяница…
— И что только мелет, господи прости… вот прости… проститутка! — послышался из внутренней комнаты сиплый хмельной голос. — Прости… проститутка-проститутка!..
— Вот видите, уже оскорбляет… Только проснется, сразу начинает ругаться…
— Кто там? — закричал мужской голос. — Перед кем это ты унижаешь меня? Даже евангелисты хотели заняться мной! Стали бы они заниматься безнадежным…
— Не язык, а помело, ведь евангелисты просто хотели тебя вылечить!
— Чепуха! Они меня уже повенчали… Большего паскудства не выдумаешь. А сейчас смотрят, кто бы взялся за работу старьевщика — разносить им Библии…
— Заткнись, богохульник! Хоть бы раз сказал что-нибудь пристойное…
— Кто там? Ты мне еще не сказала. Передай ему, пусть проходит, пропустим глоточек…
— Нет, сеньор не пьет…
— В таком случае пусть идет своей дорогой. И пьет воду на водопое, со всеми остальными скотами…
— Простите его. От тех, кто пьет, не только перегаром несет…
— Что за дьявольщина!.. — Из двери выглянул какой-то тип в полосатой рубашке, которую он пытался запахнуть на животе дрожащей рукой с длинными ногтями и пожелтевшими от никотина пальцами, но прикрыться ему так и не удалось.
— Входи. Вот дьявольщина, кто это еще там? Разве так надо принимать гостей?
— А это разве гость?
— Не оскорбляй людей попусту!.. А вдруг сеньор — представитель власти и прикажет забрать тебя в тюрьму?
— Да, но это не так, не правда ли?… Сеньор просто проходил мимо. Остановился, поздоровался со мной, а я узнала его — он уже когда-то бывал здесь. Когда делили миллионы, он приезжал…
— Приезжал с патроном…
— А кто ваш патрон?… — Пьяный подошел к нему ближе, уже нисколько не беспокоясь о своем виде, — рубаха совсем распахнулась; от него разило паленой щетиной, лицо было изрезано морщинами, а под бородой на пергаментной шее выпирало огромное адамово яблоко, которое он, икая, казалось, пытался проглотить, и это ему все никак не удавалось. — Чему учит нас Библия?… Вы ничего не знаете! Вы — невежды, но я вам объясню… Просвети неведающего…
— Это из катехизиса, а не из Библии… — оборвала его Виктореана.
— Еще чего!.. Послушайте-ка, что Библия говорит о яблоке Адама. Бог сказал человеку: проглоти или выплюнь… И человек ему ответил: нет, господь бог, я не проглочу и не выплюну… так и осталось яблоко там, где оно сейчас, между небом и землей, как символ свободы воли, которую создатель предоставил мужчине, а не женщине. Женщина проглотила эту волю, яблока-то у нее нет…
Виктореана втолкнула Раскона в комнату, опасаясь, что кто-нибудь из прохожих или соседей увидит его: она замерла, услышав чьи-то шаги, но это оказалась свинья со своими поросятами. Хотя алькальд строжайше запретил выпускать на улицу свиней, соседи оставляли все на волю господню…
Виктореана резким движением отбросила Раскона на гамак, откуда он тщетно пытался выбраться.
— В другой день, сеньор Хуамбо… вы знаете, что мы здесь к вашим услугам. Если потребуется…
Услышав имя Хуамбо, Раскон вновь попытался встать, вырваться из сонного невода, как поется в песне, и если бы женщина, отличавшаяся изрядной силой, не успела поддержать пьяного, тот рухнул бы на землю.
— Если хочешь поговорить с сеньором, пригласи его войти… Проходите, пожалуйста, мой муж хочет вам что-то сказать, только простите за беспорядок в комнате…
— Хуамбо!.. — радостно заорал Раскон и, намереваясь обнять мулата, рухнул, точно могильная плита, всей своей тяжестью на его плечо. — Хуамбо, Хуамбо, брат Тобы!
— Ага, значит, вы брат той самой?… Должно быть, вы старший, потому что она-то ведь тогда была совсем соплячка…
— Самое большое зло заключается в том, что все вы — те, кто венчался в церкви, — заявил Раскон, — считаете, что все остальные — это «те самые»! Но Тоба не принадлежит к «тем самым», она вообще принадлежит только богу, она божья… ушла в монастырь!
Хуамбо, вначале избегавший прикосновения Раскона — такие холодные у того были руки, несмотря на адский зной побережья, — внезапно прижал его к груди, прильнул щекой к щеке; он сгорал от нетерпения — так хотелось узнать о судьбе Тобы. Ему захотелось узнать, что означают слова Раскона: «Тоба… божья… ушла в монастырь…» — хоть бы он рассказал, откуда ему стало известно обо всем этом.
— Тоба покинула своего жениха, Хувентино Родригеса, учителя местной школы и жителя планеты Земля… — бормотал словно сквозь сон Раскон, по-прежнему покоившийся в объятиях мулата.
— И жених получил об этом известие? — Мулат потряс Раскона, чтобы вывести из состояния дремоты-дремоты, в которую погружаются обычно все пьяницы, когда исчезает ощущение реальности и не существует больше ни демонов, ни Кармен, как говаривал Раскон… Жена, заслышав эти слова, начинала браниться — она ревновала его к этой Кармен.
— Я получил весть… точнее — он получил… письмо, которое я прочитал тоже…
— То-ба… — произнес по слогам Хуамбо.
— Это имя среди мужчин не произносится без глоточка. Где моя бутылка? Куда ты засунула мою бутылку?
— Ты уж и так похож на паука на пружинке — игрушечного паука, что дрожит даже от легкого прикосновения… Бери… Пей до дна!..
Раскон взял бутылку за горлышко и поднес к губам. Жидкость лилась — гутуклюк-гутуклюк — в горло Раскона; Виктореана вздыхала, а мулат выжидательно молчал — стало так тихо, будто ангел пролетел.
Тоба…
Этот только что пролетевший ангел была Тоба…
— Я пойду искать Хувентино… Хочу прочесть это письмо… Мать ничего не знает…
Он поднялся. Да, но куда идти?
— Простите меня, что снова вас беспокою. Я не знаю, где живет Хувентино…
— Не спрашивайте меня, где живет этот несчастный. Это он довел моего мужа до такого состояния…
— Еще глоток!.. Дай мне еще глоточек, и я скажу, где живет…
— Ладно, допивай остатки…
Обливаясь потом, он наклонил бутылку. Но Виктореана вырвала у него бутылку, опасаясь, что он допьет до конца.
— Живет он за школой, возле железнодорожной линии, по правую руку…
— Где живет этот тип, это ты хорошо помнишь, а вот работать…
— Завтра начну…
— «Завтра построю лачужку, сказала лягушка…»
— Говоря о римском короле и обо всем его… — начал было Раскон, но договорить не смог: его начало рвать.
— По-моему, за лягушку мог выступить и римский король, а вот за эту скотину…
— Тоба… Тоба… — неожиданно послышалось снаружи, и в дверь заглянул Родригес.
— А вот он, легок на помине! — произнесла Виктореана, обращаясь к Самбито и гневным взглядом указывая на Хувентино, который, не переступая порога, твердил: — Тоба… Тоба… Тоба…
И, очевидно в совершенном отчаянии, прошептала сквозь слезы:
— Знала бы я, что меня ожидает, так и я предпочла бы стать монахиней, заживо погребенной…
— Тоба… Тоба… — повторял Хувентино, разводя руками, словно слепой, который пытается нащупать чтото перед собой.
— Уведите его, сеньор Хуамбо, уведите его, ради всего святого! Как только я увижу его, меня бросает в дрожь, я могу его избить!
Весь измазанный, Раскон уткнулся лицом в гамак — как рухнул, так и остался лежать, — перебирая руками веревочные узлы, тяжело дыша, вздыхая и всхлипывая… ай-ай-ай… — жаловался он, и слезы лились по багровым щекам — …ай-ай-ай… как велик господь и как ничтожен…
Хуамбо подхватил под руку Хувентино и повел его, точно незрячего, точно слепого с широко открытыми глазами, который не переставая твердил:
— Тоба… Тоба… Тоба…
Он нашел дом Хувентино и заставил его лечь. На столе громоздились учебники, растрепанная Библия, тут же лежало письмо сестры Хуамбо. Очень коротенькое. Лаконичное, прощальное:
«Все умерли, о матери ничего не знаю, должно быть, и она умерла, остается и мне умереть, умереть в миру, чтобы воскреснуть в господе боге. Тоба».
«Мертвая, мертвая! Заживо погребенная, с глазами открытыми, как у отца, — билась в голове Хуамбо мысль. — Отец похоронен, лежит под землей с открытыми глазами! Сестра заживо похоронена — с открытыми глазами… Тоба… Тоба!..»
В глубине безглазой ночи все темно, однако ночь все видит. Не видят лишь звезды и луна. А ночь все видит.
— Сынок, нет, сынок, не ходи работать ради покаяния…
— «Час, чос, мойон, кон», мать, бьют нас, чужие руки нас бьют, отец лежит в могиле с открытыми глазами, не смог он ничего сделать!
И он не закроет глаз. Один он не закроет их. Глаза всех погребенных закроются только в день воцарения справедливости или не закроются никогда…
— Отец избит, отец избит бичом, и потому сын должен работать на самой тяжелой… самой трудной работе, чтобы отплатить за отца сполна!
— Дочь Тоба заживо погребена…
— Да, мать, заживо погребена… в монастыре… тоже погребена с открытыми глазами!..
XX
Ослепнув от сна и рассвета, рабочие на банановых плантациях натыкаются друг на друга. Низкие тучи, будто церковные служки в прозрачных, влажных от земных испарений стихарях, шествуют в процессии с высокими зелеными канделябрами; они идут из мира кошмаров — мира, который то приходит в себя, то вновь забывается на утренней заре. Где, где истоки усталости? Есть нечто такое, что человек обнаруживает тогда, когда у него возникает ощущение усталости. Именно тогда, в этот момент, мускулы начинают сокращаться, в глазах появляется печаль, отливает кровь от лица. Вместе с плачущими тенями ускользают слюнявые улитки и черви, золотистые скорпионы, дикий кьебрапалито — образ смерти, ибо он несет смерть тому, в кого он успел вонзить свое жало, летучие мыши — крылатые сеятели тайны. Удаляются тени грузчиков бананов.
Удар послышался издалека — пришелся на спину Индостанца, так прозвали здесь индейца с медной кожей, с кожей цвета медного солнца, легкого на ногу, ловкого, как змея, с огромными черными, как косточки плодов, глазами.
Индостанец наступил на ногу Хуамбо, чтобы выместить на ком-то свою боль и свою ярость, а мулат гроздью банана, что нес на плече, ударил левшу, стоявшего рядом, левша передал удар косому Бенигно, Рею Бенигно, как его звали.
— Король [22] грузит бананы — ты же смеешься над собственным прозвищем!
Рей Бенигно стал объяснять, что это не прозвище, а имя, и вдруг поскользнулся, и ножка банановой грозди угодила в щеку Тортона.
Цепь ударов, нанесенных со зла, прервалась, — при свете наступившего дня эти несчастные, питавшиеся ядовитым молоком, сжигавшим их внутренности, уже не решались драться и теперь изливали свою злобу в словах:
— Всем известно, Тортон, что в твоих кишках, а их километры, ползают тысячи червей…
— Ха, ха… стоит ли на это жаловаться… — отшучивался Тортон Поррас, — вот у меня одна почка не действует. Бродит где-то внутри, и фельдшерица сказала, что поэтому моча не очищается. Отливаю без очистки. Вот тебя, например, мучает жажда, и ты хочешь попить, а мне нельзя!
В полумраке рассвета — желтовато-серой мертвой зари слышно лишь пение ранних пичужек: серрохильос, реалехос и черных дятлов. А ругань не прекращается. Моралеса, прозванного Фазаном, хотя он будто из пня вырублен, дразнят за его несообразительность и тугодумие.
— Фазан, ты — последний из скотов…
— Скотов тоже нельзя оскорблять, нет такого права!.. — заметил другой грузчик, рахитичного вида человек, которому почему-то никак не удавалось стереть сок от разжеванного манго, чтобы на лице не осталось следов.
— Никаких прав нет у тебя, земляной червь ты этакий! Подумаешь, сожрал манго и чистит зубы косточкой. Взгляните, какую зубную щетку он изобрел…
— Животное, мул! Вы только посмотрите, как он скрючился. Что, тяжеловата гроздь?…
Железная щеколда вагона сорвалась и ударила по голове низкорослого юношу, с трудом тащившего банановую гроздь весом в двести фунтов, и гроздь со спины сползла на затылок пострадавшего.
— Одного уже клюнуло… — закричал кто-то.
Юноша потерял равновесие. Повалился возле рельсов. Однако ни ритм погрузки, ни чавкающий звук множества ног, ни прерывистое дыхание грузчиков, ни невозмутимость time-keeper [23] не были нарушены.
Солнце уже не обжигает спины — пот и слизь от банановых гроздьев делают человеческую кожу нечувствительной к солнечным лучам.
— Ты спину-то хоть, ощущаешь?
— А кто ее чувствует! У меня спину будто сковало до самого затылка. И шея болит.
— А этот бедняга так и лежит в крови. Похоже, сюда еще пригонят людей. Нас слишком мало для такой работы. Да и ей конца нет: одно кончится, начинается другое. Перетаскаешь одну гору банановых гроздьев, а там уж надо приниматься за новую гору, и бананов все больше и больше…
— А Чулике обезьяну притащил…
— Таскается с этой хвостатой тварью повсюду. С ума спятил, говорит всем, что усыновил обезьяну, что это его сын.
— Как тресну тебя по затылку — ядром мамея, — так запищишь. Неужто ты не понимаешь, что Чулике храбрости не занимать, не то, что мы… иисусики, не дай господи!
— Не злись!
— Будешь добреньким, когда кругом собаки… Безбрежное море банановых листьев, кивающих друг другу и целующихся, эти поцелуи словно преграждают путь потокам воздуха; через их кровлю просачивается нежный лимонно-зеленый свет, настолько прозрачный, что кажется — это жидкость, хотя это только свет; безбрежное море банановых плантаций — здесь истоки банановых рек, растекающихся по рынкам мира. Как рождаются эти чудесные реки? Где сливаются их течения?… Бегут они по руслам человеческих тел, задыхающихся от одышки, страдающих от голода, по человеческим головам с взъерошенными, нестрижеными волосами, прилипшими ко лбу, к затылку, к ушам. Никогда не хватает времени. Time-keepers неумолимы. Люди падают от усталости. В молчании. Люди отрезаны от мира — ничего не слышат, как в пещере. Не видят и не чувствуют ничего, кроме груза. Груз давит, прижимает к земле, люди похожи на вьючных животных.
У Хуамбо вдруг заложило одно ухо. Это был первый день его великой расплаты за отца. Ухо с той же стороны, где гнилой зуб. Но мулат продолжал грузить — нельзя допускать, чтобы раздавила тебя, расплющила банановая гроздь — твой кровный враг. Хрустят кости, наливаются кровью глаза — и нет надежды когда-нибудь освободиться, бежать из этого ада, вернуться домой.
Да, его товарищи питались этой надеждой. Они поднимали гроздья бананов, взваливали их на спину, осторожно нагибая голову, чтобы избежать удара, который тогда обрушивался только на лопатки, прикрытые толстой попоной, как у вьючных животных, или мешком, а кое-кто мастерил себе из мешковины и головную повязку. Они тащили самые тяжелые гроздья, надеясь, что так им удастся скорее кончить работу.
Хуамбо, которого не покидала мысль об искуплении, овладело отчаяние — он знал, что спасения нет, осталось лишь стиснуть зубы и глотать пот и слезы. Он обливался слезами и потом, кусал губы: мучила боль в ухе. Если бы болело только одно ухо, от такой боли можно исцелиться. Но теперь боль разлилась по всему телу. Но Хуамбо должен выдержать. Отец погребен здесь. Хуамбо должен отплатить. Ягуар его не сожрал. Его пожирает жизнь. Time-keeper — вот сейчас он похож на ягуара, ягуара в пробковом шлеме, ягуара с кошачьими глазами и кошачьей походкой — всегда подстерегает тебя, а когда устает сидеть, встает, поднимает лапу на упавший ствол и, опершись о колено, наклоняется вперед.
Гринго он или не гринго? Должно быть, гринго, а может, и нет. Все равно: все эти time-keepers, янки они или нет, ничего не имели общего с теми, для кого груз не был ни надеждой, ни наказанием — будущим или прошлым, — а только грузом, грузом, грузом…
Среди этих людей, низведенных до состояния вьючных животных, были и такие, которые уже не чувствовали, кем они стали; были и такие, кто не переставал смеяться, но это был болезненный, нелепый смех.
— Поменьше смеха, побольше работы!.. — требовали десятники.
— Отправляйся-ка ты к… — огрызались грузчики вполголоса, чтобы не слишком отчетливо было слышно, куда именно они их посылали.
Солнце, солнце-жаровня, солнце из расплавленного металла, жгущее беспощадно, высушивало листья бананов, пило из них живительный сок. В считанные секунды солнце поглощало зелень, как глубоко она бы ни разливалась, могло высосать все жизненные соки, высушить все, начиная с кончика листа, с самого краешка и до черенка. Еще секунда — и весь лист становится жухлым. Зеленая мясистая пластина не в силах защититься от солнца, и оно превращает ее в желтый сухой кусочек пергамента, на котором насекомые рисуют инкунабулы, точно средневековые летописцы.
Грохот вагонов, свистки паровозов, лязг сцепки. Выходят на работу артели уборщиков с метлами, вениками и прочими инструментами; они тащат грабли, лопаты, хитроумные приспособления на шестах — не то пики, не то ножницы, ими удобно срезать омертвевающие листья, листья, в которых больше было солнца, чем соков, выпитых из недр земли. Солнце обрушивается на зеленое молчание, на царство ласки и нежности, отражение неги, той неведомой, которая одаривает слепым счастьем. Солнце обрушивается на густые заросли, в тени которых минерал преобразуется в питание растений, а растения становятся пищей живого существа, — в их тени, как в смутном сне, сливается и то, что едва только родилось, и то, что едва только умерло. Солнце обрушивается на маслянистую кору, под которой жизнь отделяет все лишнее, чтобы каждому растению и каждому существу дать определенный вид и внешность — и корка покрывается кристаллизованной испариной. Солнце высушивает лист, превращает его в скорбную костлявую руку, в хрупкий скелет, при малейшем прикосновении рассыпающийся тусклой пылью, — слепое и буйное желтое пламя пожирает все. Рабочие отсекают сухие листья, и словно во время хирургической операции здесь звучит: трасс-трасс-трасс…
Timekeeper снова сел. Вытянул ноги, каблуками уперся в землю, носки задраны вверх. Земля жжет его, но она не жжет тех, кто босиком шагает по раскаленной тропе, кто работает под жаркими слепящими лучами. Идет погрузка платформы.
Идет погрузка. Время не движется. Время остановилось. Груз защищают навесом из свежих банановых листьев, надо прикрыть плоды, тенью спасти от солнечных лучей, иначе перезреют в мгновение ока. Закончив погрузку, грузчики выстраиваются в ряд, ожидая, когда подкатится очередная платформа.
Они уже ждут!
И как только притормаживает следующая платформа, они спешат закрепить ее колодками на рельсах, а руки уже тянутся к гроздьям бананов — скорее вскинуть груз на спину и рысцой добежать до вагона, стоящего под погрузкой на другом пути. Никогда его не наполнить. Никогда. Время не движется. Timekeeper остановил его.
Хорошо еще, что гроздья под покровом листьев не обжигают, а, наоборот, холодят — такое счастье в жару! Всякий раз, как кто-нибудь остановится, чтобы облиться водой, и разрывается людская цепь, десятник начинает ругаться и, как в былые времена, хлестать бичом, правда, теперь по земле.
Цепь — бесконечная людская цепь — поднимается и опускается, иногда останавливается: хоть минутку передохнуть. Кое-кто уже не может распрямиться и стоит, упершись руками в колени. Пересохли губы. Слипаются веки, ресницы не спасают глаза от едкого пота. Горячие реки пота стекают по щекам.
Самбито должен расквитаться. У Самбито нет надежд. Он должен расквитаться за отца, погребенного тут. Тоба жива, погребена с открытыми глазами. А отец мертв и тоже погребен с открытыми глазами. Матери нужен Хуамбо…
Закончилась погрузка, новая платформа подкатывается по путям и останавливается перед грузчиками — на ней еще больше гроздьев, но плоды прикрыты хуже. Время не движется. Time-keeper то сидит, то встает, то снова садится. Все не может устроиться удобнее. Никак не может пристроить на голове тропический пробковый шлем. То натянет, то снимет его. Как веером обмахивается шлемом, который воняет потом и волосами. Делает несколько шагов, но земля обжигает. Его обжигает, но не обжигает тех, кто голыми ногами — подумать страшно — ступает по этому костру, шагает босиком по этому солнечному очагу. Плохо приходится тому, кто нечаянно поставит ногу на рельс или на металлический костыль, торчащий в шпале. Самбито должен отплатить. Его и башмаки не спасают, он подпрыгивает, как танцующий индюк, — земля жжет даже сквозь подошву. Отплатить. Отплатить, чтобы не платил больше его отец, погребенный под землей.
— Вот стерва, эта сволочная рельса жжет сильней, чем вертел на огне… — пожаловался Тортон Поррес, отдернув и высоко подняв ногу, будто намереваясь подуть на ступню.
До ступни он, конечно, не дотянулся, зато минуту выиграл, чтобы хоть немного передохнуть. Идут, идут вереницей грузчики. Давай, давай, бананы не ждут! Солнце припекает — перезревают бананы. Давай, давай! И только время остановилось, не движется. Солнце замерло в небе. Time-keeper смотрит на часы. Еще долго до конца, долго, долго…
В затененных недрах железнодорожных вагонов кипит работа. Кипит. Свет проникает сюда сквозь решетки, вливается в дверь, через которую входят и выходят грузчики, — тут висит огненный занавес, ослепляющий выходящих, тут они порой падают без сил.
Другие вагоны напоминают клетки. Здесь все выглядит по-другому. На зеленоватом кобальте банановых гроздьев лежат тени потолка и стен в виде полос, и грузчики в таких вагонах кажутся одетыми в арестантскую форму.
А как поглощают груз бананов эти вагоны — огромные клетки! Длиннющие. Много пота прольется, пока нагрузят такой вагон, и почти всегда здесь работают одни и те же — не хватает людей. Не хватает? Ничего подобного! Просто чем меньше людей, тем больше их дневная норма, а заработок все тот же.
Солнце хлещет потоками пламени по всему побережью. Это уже не светило, которое плывет где-то там высоко, — на обугленной сковородке неба висит какая-то гигантская сверкающая масса, расплавляющая все вокруг.
Время не движется. Time-keeper снова поднял носки башмаков. Башмаки упираются в землю каблуками. Земля жжет.
XXI
Первые песо, заработанные Хуамбо своим горбом на погрузке бананов (ах, как хотелось ему в это воскресенье сделать припарки из крахмала и уксуса на свою натруженную спину, как ныла она от плеч до копчика!), пошли на то, чтобы кое-как подправить лачугу матери да доставить ей удовольствие — купить кое-какие тряпки. Приобрел он ей белую блузку с черной кружевной отделкой — она все еще носила полутраур по своему сеньору мужу после многих лет строжайшего траура, — юбку из велюра розового цвета с зелеными листочками и желтыми шелковыми лентами, настолько широкими, что пришлось разрезать их пополам; она с трудом скрыла огорчение: нельзя было этой же лентой перевязать волосы — от некогда густых волос остался лишь мышиный хвостик. И еще сын принес курицу, такую жирную, что от нее даже издалека пахло бульоном, и бутылку малаги — более густой, чем кровь.
Старуха попробовала вино и сказала:
— Такое было всегда у Агапито Луисы — красное, сладкое… Агапито Луиса родился на Атлантическом берегу, а погребен здесь… Два берега… Два моря… Погребен на Тихоокеанском, после того как перетаскал столько гроздьев, после такой тяжелой работы, и ни за что…
Хуамбо часто заморгал, чтобы избавиться от видения, — отец, грузчик, такой же, как и он сам; лучше было не видеть отца среди псов десятников, следивших за приходом и уходом этих вьючных животных в образе людей, не видеть их изнуренные лица с остекленевшими от усталости глазами, не видеть наглых; time-keepers.
— Отец погребен, и нет у него надежды…
Слова матери заставили Самбито вздрогнуть. Глаза ее были спокойны — туманные пятна, а не глаза: под; дымкой прожитых лет, под влагой старушечьих слез не видно сыну, какая печаль появилась в них после того, как он нанялся грузить бананы.
— Отец воскреснет, если у сына появится надежда. Посмотрит отец, послушает, слышит ли сын, видит ли сын. Ведь недаром говорят, что сыновья — это глаза погребенных…
— Мать, у меня есть надежда…
— Тоба далеко, погребена заживо…
— Да, да, далеко, погребена заживо…
— Отец увидит, и Тоба увидит…
— Тоба увидит в боге, отец увидит в людях возрождение жизни, но не такой жизни, которой мы живем, потому что эта жизнь больше похожа на смерть. — Возрождение другой жизни, которую будут создавать люди, верящие в будущее…
— Отец смеялся, Агапито сказал: мулат говорит, говорит, говорит, говорит, не понимает, что говорит, но добро знает мулат. Мулат может писать свою Библию. Отец смеялся, Агапито сказал: свет ужасен. Белый не видит. Сын солнца — белый свет не видит. Бог сказал: сделайте свет черным, чтобы белый видел. И свет белый, божественный, исчез для белого. Лишь мулат его видит…
Поселок только раскрывал глаза, когда рабочие, начали возвращаться с плантаций домой, под свой кров, или просто бродили в поисках какого-нибудь уголка, где можно сбросить струпья усталости — даже усталость люди не в состоянии тащить после работы.
Среди людей, собравшихся на площади, чтобы поболтать, покурить, посмотреть на звезды, поиграть во что-нибудь, послушать музыку в лавочках, где продается спиртное, свет из распахиваемых дверей вылетает на улицу, как плевок, рабочие с плантаций кажутся похожими на солдат разгромленной армии. Хуамбо тоже здесь, куртка накинута на плечо, рукава расстегнутой рубашки засучены, самодельные сандалии — гуарачас шаркают по земле; он едва волочит ноги, он будто забыл о них, и они тащатся сами по себе, ноет спина, тянет в пояснице, с него словно содрали кожу, все тело распухло, все болит. Из-за проклятой лихорадки он не чувствует жары, а если бы и чувствовал, то всю ночь напролет варился бы в своем поту — руки растрескались, и зуб разболелся вовсю.
Грузить, грузить бананы. Удар отдается по всему телу, когда вскидываешь на плечо стотридцатифунтовую банановую гроздь; спина напряжена, колени полусогнуты — так легче нести груз. Каждый переход приходится бежать рысцой, теряя последние силы, но отставать нельзя, надо бежать, бежать дальше — в цепи вьючных животных, покачивающихся под тяжестью, тяжело дышащих, грязных. Однако хуже всего, когда несешь гроздь бананов в руках или когда работаешь ночью при скользящем свете прожекторов.
— Меньше проклятий, больше мужества! — бросил Хуамбо одному грузчику, который старательно нагружал бананы и еще более старательно нагружался агуардьенте, а потом начинал петушиться и проклинать все на свете. Теперь этот грузчик, по прозвищу Шолон, шел рядом с ним, слегка откинув корпус, — перетягивала тяжелая голова.
Шолон, как и все остальные, любил рассуждать о том, что они могли бы сделать сами, своими руками.
— Если мы будем действовать заодно, то тогда я иду… — говорил Шолон, — и ты, Букуль, пойдешь со мной.
Букуль, чернявый, с глазами, близко поставленными и словно зажавшими острый нос, ответил Шолону одобрительным молчанием.
— Да, надо объединиться, — говорил Хуамбо, — Даже животные собираются в стаи, когда им угрожает опасность, а разумные существа…
— Опять будешь рассказывать нам насчет ягуара…
— Не трепись, дай сказать!
— Я уже сказал, что если даже животные из инстинкта самосохранения сплачиваются, организуются перед опасностью, то разумным существам…
— Еще чего! Нет, пусть лучше уж все останется так, как есть!
— А тебя, Тортон, оскопили, что ли?
— Если и оскопили, — так шлепанцем той, которая тебя пеленала!
— Ты что? О моей матери так говоришь?
— Дурак, я говорю о той, которая тискала тебя под кустом прошлой ночью…
— Смотрите-ка, как завернул!
— Всякий раз этот Сонто напакостит! — возмутился Шолон, покачав большой головой. — К чему об этом говорить…
— Поглядите на меня… Всю жизнь я прослужил у президента Компании, а теперь…
Всех заинтересовала история Хуамбо.
— Вот это да! Вот это действительно пример… — сказал какой-то грузчик, сплевывая и подталкивая локтем другого, шагавшего рядом. — Ну а ты что думаешь?…
Тот бросил в ответ:
— Вот что я скажу вам, ребята, ежели на этот раз хотите что-то делать, так делать надо по-настоящему…
— А ты, что ты понимаешь под этим самым «по-настоящему»?… — вмешался молчаливый Букуль.
— По-настоящему? Очень просто. Принять план и провести его до конца.
— Согласен. Забастовка будет похожа на бурю во время осеннего равноденствия… Вначале громы да молнии, а потом уж польет… и у нас то же самое! Наше решение — это зарницы надвигающейся бури, а затем грянут потоки воды, молнии, град, метеоры…
— Этот Сакуальпиа за словом в карман не полезет.
— Кто еще выскажется?
— Вы же хотели знать мое мнение. Не так ли, кум?
— Мотехуте имеет слово… Говори, но только о деле, а то этот Мотехуте начитался книжек и теперь пересказывает их на каждом шагу.
— Если забастовка будет всеобщей, генеральной, то не найдется таких генералов, которые выстояли бы против нее…
Хуамбо заткнул языком дупло в испорченном зубе, пытаясь успокоить засевшую там боль, — днем зуб еще не так болел, зато ночью не давал покоя. Лишь только растянется мулат на раскаленной от дневной жары койке, как из коренного зуба, точно цветок из горшка, начинает расти огромная ветвистая боль, распускает свои корни и плети, как плющ, по шее, по лицу, кровавыми бутонами расцветает в глазах.
Почему это так разрослась боль, когда он, пересекая поселок, услышал слова Мотехуте: «Если забастовка будет генеральной, то не найдется таких генералов, которые выстояли бы против нее»?
Острый укол, еще укол, и еще, и еще уколы пронзили его челюсть — он поднял руку и начал быстро тереть щеку.
И дома его продолжала преследовать зубная боль, не выходили из памяти слова: «Если забастовка будет генеральной, то не найдется таких генералов, которые выстояли бы против нее».
Он потрогал пылающее, обожженное лицо. Уткнулся в подушку.
Почему он не вытащил зуб?
Не вытаскивал он его потому, что этот зуб тоже представлял собой частицу его особы — ведь в его жилах, как утверждала мать, текла королевская кровь. В детстве, когда мать лечила его кишками поросенка, темно-лиловым животным салом и душистыми листьями клаво, она рассказывала ему на сон грядущий:
— Отец твой — королевской крови, отец прибыл с острова Роатан, где Турунимбо, великий король Турунимбо, передал твоему родителю величие королей. Величие и проницательность… — утверждала старуха, поднося черный палец к морщинистому лбу.
Быть может, и ему передались по наследству какие-нибудь признаки королевского происхождения… искры сыпались из глаз от зубной боли.
Он вернулся в свой угол, и старуха, держа в руке светильник, подошла поближе, чтобы узнать, не полегчало ли.
«Если забастовка будет генеральной, то не найдется таких генералов, которые выстояли бы против нее!»
В море слюны язык притаился змеей; в поисках нерва он влез в дупло коренного зуба и освободил его от режущей боли — теперь можно уснуть, утонув в море сна, но скоро наглый и самодовольный свет дня разбудит его. Этот свет превращает знатного роатанца в бедного погрузчика бананов, вырвав его из свиты короля Турунимбо — короля пены и миндальных тортов.
…В безбрежных просторах моря, моря, мы видим — подводные лодки проходят, проходят…Песня, кошачий концерт, надоедливое верещанье. Песня — для тех, кто понимал значение этих слов, положенных на мелодию «флотской» (японские, немецкие, русские подводные лодки ставили под угрозу Панамский канал всякий раз, как только речь заходила об увеличении заработной платы на банановых плантациях, о человеческих условиях работы или о суверенитете страны). Кошачий концерт — для тех, кому чертовски надоели всякие декларации, которыми их, взрослых людей, пичкают каждый день, словно младенцев или кретинов. Надоедливое верещанье — для тех, кто сравнивал эту песенку с петушиным кукареканьем, ревом осла, ржанием лошади или блеяньем овцы…
…В безбрежных просторах моря, моря, мы видим — подводные лодки проходят, проходят…С того самого времени, когда произошло несчастье с Поло Камеем — телеграфистом, который покончил жизнь самоубийством, после того, как его обвинили в шпионаже и передаче сведений для японских подводных лодок, вторгшихся в территориальные воды страны, — никто еще не слыхивал на побережье столь трагического и столь издевательского напева.
…В безбрежных просторах моря, моря, мы видим — подводные лодки проходят, проходят…— Тираж задерживается, газета выйдет позже, лучше бы вытащить это клише и вместо него поставить объявление… — сказал начальнику цеха метранпаж, верстая первую полосу, перед тем как ее закрепить. — Не закрепляйся, не огорчайся!.. — насмешливо пропел он.
— Эх ты, косточка от айоте… — оборвал его начальник цеха гнусавым голосом сеньориты определенной профессии. — Разве ты не читал шапку на первой полосе… прочти-ка… на все колонки… «Немецкие подводные лодки — в водах Центральной Америки!»
— В таком случае Факир не сможет уйти? Из линотипистов он один остался, чтобы вставить правку…
— А ты что, не видишь, что у меня в руке? Вставные зубы, что ли? Быстрей кончай верстать полосу, иначе мы увязнем так, что и не вылезем… Брось, я сам это сделаю, дай-ка… — С этими словами начальник цеха взял в руки ключ, ослабил уже сверстанную полосу и начал перебирать металлический шрифт, весь в типографской краске, пока не нашел — скорее пальцами, чем взглядом, — подпись под клише, которую следовало сменить.
— «Я… пон… ская… под… лодка…» — прочитал он, — вот здесь нужно поправить!.. — Он вытащил строку и поставил вместо нее другую и снова прочел вслух: — «Не… мец… кая… под… лод… ка… ставит под угрозу Панамский канал».
Метранпаж, взяв в руки молоток и деревянные клинья, начал сбивать первую полосу, потом подвинтил ее. Потухшая сигара торчала у него в зубах, очки почти совсем сползли с носа.
Флегматичным тоном он спросил:
— А если не поправить, разве что случится?…
— Случится то, что мне придется подправить… корректоров — подзатыльником. Какое у них самомнение!..
Начальник цеха засунул правую руку в карман габардиновых штанов, нащупывая сигарету, и, держа в другой руке вещественное доказательство — сложенную вчетверо сырую полосу, пошел вдоль коридора меж бумажных рулонов и сложенных штабелями старых оттисков к двери с надписью: «Корректорская».
— Если и впредь будете так работать, иуды… — Он бросил оттиск на стол. — Кто из вас правил первую полосу?
— Чолула… — ответил один из корректоров, у которого даже голос казался заросшим волосами, столько волос было на его лице: усы, борода, брови, ресницы и бачки торчали дыбом, вихры спускались за уши.
— Вы понимаете что-нибудь или нет? — обрушился начальник цеха на коротышку, который уставился на него одним будто застывшим глазом, тогда как другой бегал по комнате. — Пусть я буду проклят, за каждую минуту опоздания газеты мне и так приходится платить пять долларов штрафа…
— Клише вместе с подписью взяли из архива, — объяснял Чолула. — И какой-то оболтус дал его линотиписту, не показав нам, поэтому и набрали эту подпись так, как была: «Японская подлодка ставит под угрозу Панамский канал».
— Ну и болван! Вам что, не известно, что мы ведем войну с Германией? Разве вы не видели шапку на первой полосе, не читали передовой?
— Передовой?… Да, дело вот в чем: все этот Пелудо, анархист, с ним невозможно работать. Нет от него покоя. Ну, точно обезьяна в клетке. Да еще лезет судить — черт знает что! — по поводу передовой!
— Не судить. Он разъяснял, а это другое дело. Он сказал, что основной тезис передовой фальшив. Утверждать, что рабочих банановых плантаций, объявивших забастовку, надо рассматривать как предателей, поскольку мы-де находимся в состоянии войны и нужно вести особое наблюдение над тихоокеанским районом и над Карибским морем, а также сигнализировать союзникам, — это же выходит за всякие рамки.
Автор передовицы зашел слишком далеко! Что касается немецкой подводной лодки, она же — японская подлодка, то меняется лишь подпись под клише. Когда «Тропикаль платанере» угрожает опасность, например рабочие выдвигают ей какие-нибудь свои требования, так администрация сразу же вспоминает про Панамский канал и вытаскивается их архива очередная подлодка…
— Вот я и спрашиваю… — медленно проговорил Чолула, как бы выверяя правильность своих слов по ватерпасу зрачка, двигавшегося то вверх, то вниз, тогда как другой глаз был по-прежнему устремлен вперед. — Я и спрашиваю: не «Платанере» ли принадлежит подлодка, которая подымает свой перископ близ берегов Центральной Америки, когда это выгодно «Платанере»?
— Меня бы это не удивило, они способны на все…
— Кто даст сигарету? У меня кончились… — вмешался начальник цеха, прервав Пелудо.
— У Чолулы, должно быть, есть. Я курю трубку.
— Беседа, конечно, очень интересная, но мне еще надо работать, — сказал начальник цеха, поднося к губам сигарету, полученную от Чолулы. — Спасибо, спички есть. — Он зажег сигарету, выпустил клуб дыма и, собираясь уйти, добавил несколько более строгим тоном: — И все-таки я советую вам держать ухо востро, все время у нас что-нибудь проскакивает. В один прекрасный день завопят рекламодатели…
— Рекламодатели?… — Неподвижный глаз Чолулы засверкал, а другой снова начал шарить по комнате. — А вот Пелудо считает, что реклама — это вонючий навоз современной эпохи, и ни за что на свете не желает править текст объявлений. Вся эта реклама, считает он, ни к чему…
— Навоз навозом, но он удобряет… — Начальник цеха остановился на полпути. — Ты дал мне сломанную сигарету, дай другую, — обернулся он к Чолуле и, потушив спичку, после глубокой затяжки закончил свою мысль: — … без навоза не бывает цветов в садах, а без рекламы не бывает литературных цветов в газетах…
— Как бы не так, рассказывайте мне! — запротестовал Пелудо. — Я вот не поэт и не литератор, но понимаю, что сейчас, когда подводные лодки угрожают Панамскому каналу… — все дружно рассмеялись, — эти стихи и проза просто маскируют рекламу Компании, только и всего! Поэты и прозаики публикуют рекламные объявления своей косметической продукции. Поэзия… ха-ха-ха!.. Надо бы к подписи автора добавлять адрес, нотариальную печать, оттиски пальцев, генеалогическое древо и портрет из «Who is who»… [24] — На его обезьяньем лице шевелились все волосы. — Ах, время, время… Когда-то произведения искусства были творением неизвестных мастеров!.. Мир создан господом, но ведь никто не знает, каким… Господь, и все… Бог — тоже анонимное лицо! Кафедральные соборы, песнопения, монументы, мелодии, картины, скульптуры!.. — Он запускал руку то в бороду, то в усы, то в шевелюру и взбивал волосы, словно темную мыльную пену. — Разве было бы столько плохих художников, столько бездарных поэтов, — обратился он к Чолуле и начальнику цеха, — разве писалось бы столько о тысяче и одном плагиате, если бы не эта реклама вокруг каждого автора!
Шум ротационной машины временами заглушал слова. Исчезли за дверью кошачьи глаза начальника цеха. И как каждый день по окончании работы, Пелудо стал умываться в резервуаре, в котором цинкограф обмывал клише. Чолула снял башмаки с ног, провел несколько раз ладонью по носкам, пропахшим потом, а затем поднес пальцы к носу, с наслаждением вдыхая запах, и так несколько раз, пока не вернулся Пелудо.
Отпечатаны экземпляры газеты. Насвистывая, Херонимо входил в корректорскую и бросал их на стол. Свежая типографская краска. Всякий раз корректоры прикасались к этим первым экземплярам с волнением. Так было каждый день, но каждый день выход из печати очередного номера воспринимался по-новому.
Первая полоса. Чолула быстро пробежал ее. Над названием газеты крупным шрифтом набрано сообщение о немецкой подводной лодке. Внизу фотоснимок подводной лодки с краткой и уже выправленной подписью: «немецкая» вместо «японская». Чолула поднял руку, зрачок его непрерывно прыгал, а ресницы были неподвижны. Он хотел пропустить то место, где говорилось о «японской» подлодке, но глаза задержались сами. Было бы здорово, если бы газета вышла с опечаткой!
На третьей полосе редакционная статья, набранная курсивом, взывала к властям, предлагая действовать железной рукой против агитаторов, которые, прикрываясь демагогическими требованиями немедленно решить ряд национальных проблем, на самом деле наносили ущерб делу союзников своей политикой саботажа.
— «Последуем примеру России… — громко читал Чолула конец статьи, — где морозный воздух ныне дрожит от орудийных залпов. Последуем примеру этой социалистической страны, которая показывает величайший пример самоотверженности и мужества. Нам не следует поступать опрометчиво, нельзя играть на руку тоталитарным державам и требовать удовлетворения каких-то наивных притязаний якобы национального характера. А ведь именно это и происходит на банановых плантациях, где некий агитатор сеет недовольство среди тех, кто до вчерашнего дня были самоотверженными солдатами великой победы…»
Чолула восхищался Россией — родиной Достоевского, которого он называл «отцом бедных чиновников», но теперь он осознал, что судьбы народов мира неотделимы от судеб России.
Он перевернул полосу — в поисках рекламы кино. В самом большом кинотеатре по-прежнему шел фильм, в котором Роберт Тейлор, исполняющий роль раненого молодого североамериканского солдата, попав в Россию, влюбляется в студентку, которая на своем последнем экзамене в консерватории играет концерт Чайковского. Юноша, вылечившись, демобилизовался из армии. Его невеста не может следовать за ним — она должна остаться в своей стране. Однако чувства побеждают — оба мира сочетаются в этом счастливом браке.
Корректоры распрощались и ушли. Они расставались лишь до завтрашнего утра, однако на улице они пошли уже как незнакомые, каждый шел отдельно, хотя оба мужчины направлялись к одному и тому же небольшому бару. В этом баре, расположенном за углом, в нескольких шагах от типографии, подавали и прохладительные напитки. Каждого из них пронизывала холодная ненависть к другому, как бывает у тех, кто вынужден работать в одном ярме: между ними нет ничего общего и ничто не связывает их, ничто, кроме смирительной рубахи повседневного труда. Именно смирительная рубаха, думал Пелудо, смирительная рубаха, да еще какая — для тех, кто, как он, ненавидит выходные дни. Он замедлил шаг, чтобы Чолула обогнал его. А тот, будто спиной ощущая враждебность коллеги, ускорил шаг — он спешил купить в баре воздушный змей для малыша, сына мулатки, которую звали Анастасией. Чолула жил в лачуге, близ конного завода «Корона», рядом с полем, на котором семинаристы, подобрав полы одежды, увлеченно играли в футбол.
Чолула купил змея и ушел, а Пелудо попросил прохладительный напиток из сока тамаринда. Его неприветливость отталкивала товарищей. Зато, видимо, его хорошо знал кабальеро с угловатыми чертами лица, с запавшими глазами и тонкими губами, который потягивал из стакана рисовый оршад.
Выходили они вместе.
— Что поделываешь, старина Пелудо? — спросил кабальеро; это был не кто иной, как Октавио Сансур собственной персоной.
— Как поживаешь, Табио Сан? Как видишь, мы даже выпили с тобой, только ты пил оршад, а я — тамариндовую. Читал газету?
— Еще не видел… Я вошел вслед за тобой и сразу же заметил, что ты принес газету. Так зачем мне еще покупать — набивать кошелек этим продажным шкурам? Хотя, пожалуй, куплю. Ты ведь все никак не научишься хорошим манерам — не привык носить газету в руке или класть в карман. Суешь ее под мышку, а потом она скверно пахнет.
— Хуже пахнуть, чем пахнет, она уже не может, братишка… Это вонючая банановая газетенка, недаром она получила премию «Мор Кабо», недаром тираж газетенки запатентован черт знает в скольких «in…».
— Новости есть?
— Да, подыскали помещение около здания Лотереи…
— Слишком близко к центру…
— Зато удобно. Рядом ежедневно играют на маримбе. В клубе «Идеал». Печатный станок будет работать, пока они играют…
— И музыка заглушит?…
— Еще бы! Она звучит в десять раз громче — на маримбе одновременно играют все исполнители, а маримба сама по себе — это уже целый водопад звуков…
— Да, но они играют, очевидно, с перерывами, нельзя же то и дело останавливать печатный станок…
— А почему бы и нет? Ведь это ножной печатный станок. Кроме того, если у музыкантов наступит пауза, все равно ухо не сразу начинает различать другие звуки.
— «ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА» — набрано крупным шрифтом. Это пойдет на первую листовку. То, что нам надо! Призыв к рабочим Южного побережья.
— Текст уже набран. Не хватает лишь заголовка, но он здесь, у меня в кармане. Я не смог его набрать в типографии — очень уж следят, но литеры я утащил, и мы сами набьем их на деревяшку.
— Надо будет предупредить Крысигу и Салинаса — Шкуру. Тебе, Пелудо, проще с ним встретиться. Ради бога, предупреди их.
— Как увижу, конечно, предупрежу. Во всяком случае, я уже сверстал то, что нужно особенно срочно.
Анархист, не знающий типографского дела, может быть кем угодно, только не анархистом. Ну, а ты все крутишься в этой заварухе?
— Почему бы нет! И твой хозяин все время подбрасывает угли в огонь.
— Ты сейчас с побережья?
— Ладно, — сухо оборвал его Табио Сан, — предупреди ребят и поскорее пришли мне листовки. Это самое важное.
Хуамбо простился с товарищами и направился по шоссе, которое вело к «Семирамиде». Тенистые деревья, росшие по сторонам шоссе, сплетали свои ветки, образуя тоннель; в просвете среди листвы проглядывали звезды и светляки; отовсюду неслась перекличка цикад. Ночные птицы походили на потухшие падающие звезды. Замолкали сонные цикады, и тогда звуки ночи подхватывали сверчки, превращая в звуки капли ночной росы и вторя кваканью жаб и лягушек.
В душной темноте он разглядел какой-то силуэт, двигавшийся рядом с собакой, и, приблизившись, узнал его.
— Как поживаете, сеньор Кей?
— Нам срочно нужно, чтобы вы отправились в «Семирамиду» якобы для того, чтобы повидаться с Боби Томпсоном, и там разузнали, что за важное лицо должно прибыть из Соединенных Штатов. Его ждут сегодня ночью или завтра. Он приедет прямо сюда. С часу на час он должен приземлиться на аэродроме Компании.
— Да вот одет я… — Рубашка у него была ветхая, в дырах, вымазанная зеленоватым соком бананов, старые обтрепанные штаны с пузырями на коленях, а башмаки разодраны так, что от подошвы почти ничего не осталось, кожа верха съежилась, побурела.
— Сходите домой и переоденьтесь…
— Я спрячусь, если это сам патрон!
— Нет, Мейкер Томпсон из Чикаго не выезжает. Это нам достоверно известно. Мы, конечно, были бы лучше информированы, если бы вы, вместо того чтобы работать грузчиком бананов, поступили на службу в один из отделов управления, а то и в само управление…
— Когда выполню свой долг перед отцом… — вздохнул мулат. — Долг мертвому выполняется, а не выплачивается. Отделы управления Компании, самое управление… — Он чувствовал себя таким смертельно усталым, таким измученным, что чуть было не решил пойти работать в контору, забыв про долг перед отцом. «Однако будет ли мне легче?…» — задал он вопрос себе самому, но теперь он уже не был уверен, как раньше, в том, что ему будет легко попасть туда, где работают при кондиционированном воздухе и где единственное, чего не хватает, — это благовоний, свет смягчен специальными стеклами, поглощающими солнечные лучи, и кажется, эти окна не свет пожирают, а сон. Как хорошо было бы перенестись из яростного зноя тропиков, пылающих, как угли, в рай вечной весны!
— Значит, Боби Мейкер Томпсон? Вы еще не знаете, что означает имя Мейкера Томпсона в Компании!.. Считайте выполненным ваш долг перед отцом и отправляйтесь в контору. Когда вы начнете работать там, вы будете своевременно сообщать нам о том, что они предпринимают для срыва забастовки и что они вообще замышляют против нас. Вы обязаны это сделать ради самого себя и ради своей матери, если вы ее любите. Вы не имеете права так рисковать своей жизнью; можно подумать, что у вас нет матери. Я предупреждал вас в прошлый раз и повторяю снова. Если вы не послушаете меня, вас изуродуют или убьют здесь, на плантациях. Сколько раз случается грузчикам бананов ушибать голову! Иной раз, да вы и сами это видели, человек даже теряет сознание. Но это от сильного удара, а сколько таких, когда грузчик только зажмурит глаза, закусит губу да выругается.
— Я пойду домой, переоденусь и вернусь. Что я должен сделать?
— Разузнайте у Боби, кого ждут, что за важное лицо должно прибыть. Вы можете даже спросить его, не деда ли это ждут, и даже сделать вид, что очень рады приезду старого Мейкера Томпсона. Парень вам, разумеется, ответит…
— Если мне скажут, что приехал патрон, я убегу…
— Я уже говорил вам, что этот ублюдок отборнейшей про… протобестии… не выезжает из Чикаго. Так что когда Боби вам ответит, что дед не приезжает, вы можете выразить свое огорчение. Тогда он наверняка проговорится, выболтает, кого они в действительности ждут. Расскажите ему о своем бедственном положении, о том, что работаете простым грузчиком и что хотели бы поступить в контору. Одним выстрелом мы убьем двух зайцев. Мы можем разузнать, не сенатор ли приезжает, как мы предполагаем, а вы с помощью Боби сумеете устроиться на службу. Завтра же утром вас назначат в контору управляющего, если Боби этого пожелает. Трудно даже представить себе, насколько велика власть мейкеров томпсонов. Такова уж эта проклятая система! Не сомневайтесь, Хуамбо, — мулат уже направился домой, чтобы переодеться, — Боби всемогущ…
— Чье это поле?… Вон то, которое видно отсюда? — задержал проходившего мимо пеона Боби Томпсон; надувшись от спеси, он указывал вдаль длинной рукой — у него была привычка размахивать руками, как ветряная мельница.
— Вот это мне нравится, — сказал пеон, не останавливаясь. — Сразу видно, что вы нездешний, иначе не спрашивали бы…
— Будьте любезны сказать, чье поле? — повторил Боби, на голубые глаза ему, точно молния, зигзагом упала прядь белокурых волос.
— Компании, парень! Компании!..
Боби поехал дальше в сопровождении младшего из семьи Лусеро.
— Скажи-ка, — обратились они к парнишке, бледному, как желтая сигаретная бумага, — кто хозяин всего этого?… — И они указали на еще более обширную плантацию. — Кто владелец?… Кто сдает в аренду землю хозяевам этих хижин?…
— Компания… — послышался голос мальчугана, который в испуге тут же бросился бежать.
— All right… [25] — сказал Боби. — Раз так, мы все обстряпаем в двадцать четыре минуты…
Восседая на лошади, предоставленной в их распоряжение, они направились к конторе. Прибытие было не особенно триумфальным. Когда они проезжали под большими воротами алюминиевого цвета, Лусеро свалился с лошади. Он сидел на крупе, держась за Боби, и даже не мог сразу сообразить, как это он сорвался.
Боби, не задерживаясь, пересек лужайку на глазах удивленных и возмущенных обитателей очаровательных коттеджей, построенных для административных чиновников Компании, — здесь никто не осмеливался ступать на газоны, ходить разрешалось только по цементированным пешеходным дорожкам.
Обратившись к человеку с ярко-рыжей бородой, одетому в белый костюм и каску охотника за ягуарами, который кружился, будто заводная кукла, вокруг теодолита, Боби спросил по-английски: «Где контора управляющего?»
Человек ошеломленно воззрился на Боби, выплюнул кусок табака и указал ему дорогу.
Боби опять поехал по газонам, пришпорив лошадь, которая, казалось, тоже была удивлена тем, что ей приказали войти в запретную зону. Лусеро шагал следом за Боби по цементным плитам.
— Иди сюда, залезай на лошадь! — крикнул ему Боби.
— Нет, нет, уже недалеко!
Они остановились у входа в контору управляющего. Дверь была открыта, перед ней работала дождевальная установка. Шумела вода, дул свежий бриз, и в утренней тишине разносился, перекрывая все, бешеный перестук пишущих машинок. Увидев какого-то парня верхом на старой кляче, сам шеф Тихоокеанского департамента выскочил им навстречу. Он был вне себя от гнева и возмущения.
— Эй, ты кто? — в бешенстве крикнул он с порога своего кабинета.
— Боби Мейкер Томпсон! Физиономия управляющего вытянулась.
— Очень хорошо! Очень хорошо! Но ты въехал сюда на лошади, а это запрещено!
— Для Мейкеров Томпсонов, как говорит мой дедушка, нет ничего запретного во владениях Компании!
— Спускайся на землю и объясни, чего ты хочешь!
— Участок!
— Ты хочешь участок?
В голове управляющего — лысина его покрыта густым пушком — с кинематографической быстротой пронеслись образы Лестера Мида и его жены Лиленд Фостер; он вообразил, что участок, о котором говорит этот мальчишка, нужен ему для разведения бананов без какого-либо контроля со стороны «Тропикаль платанеры». Мысленно он уже составил телеграмму президенту Компании, чтобы тот укротил своего наследника, пока мальчишка не придумает еще какуюнибудь глупость, например, оказать помощь рабочим путем организации кооперативов.
— Так, значит, ты хочешь участок? — повторил управляющий, все еще не оправившись от шока, — ему вдруг стала узка ослепительно белая шелковая сорочка.
Боби поручил лошадь своему спутнику и вошел в контору. Управляющий провел его в кабинет. Через несколько минут он вышел. Проводил своего посетителя до порога и, глядя, как удаляется лошадь с двумя мальчишками, пробурчал:
— В общем, ничего страшного… участок этому… сыну своего дедушки… нужен только для игры в бейсбол!
Он прекратил диктовать письма и сам лично начал обзванивать разные конторы. Он объявил всем, что наступает великий сезон бейсбола. Поскольку игры Больших лиг уже закончились, все посчитали, что он шутит. Однако он объявил, что речь идет об открытии сезона бейсбола здесь и с их участием. Прибыл, уточнил он, внук старого Мейкера Томпсона, въехал на лошади в мою контору и потребовал предоставить ему участок неподалеку от площади, для того чтобы начертить диамант; договорились, что он сформирует юношескую команду, а мы — команду ветеранов Компании.
— Видишь, Боби, — пожаловался Лусеро, когда они оставили лошадь и пошли пешком, — ты не рассказал мне, о чем говорил с управляющим, когда вы закрылись в кабинете…
— О, boy! [26]
— Вот что я тебе скажу, Гринго: когда ты бросил вызов, восседая на лошади, в твоем лице было что-то такое, чего раньше я у тебя не видывал. Это выглядело вроде так: здесь я хозяин, и все мне должны подчиняться. Так ведь, Гринго?
— А знаешь ли ты, что он подарил мне поле…
— Подарил только тебе?
— Нет, boy, для бейсбола…
И пока под палящим солнцем юноши широкими шагами обходили свои владения — у Лусеро руки в карманах, а у Боби руки болтаются, как костяные крючки, — они обсуждали, какое место больше подойдет для игрового поля, чтобы правильно падал на него свет. А управляющий продолжал обсуждать по телефону проекты названия для команды ветеранов.
Надо было очистить участок, выровнять его, как бильярдный стол, однако бригада рабочих под руководством человека с теодолитом приходила и уходила, и всякий раз камней и выкорчеванных пней становилось больше. Наконец появился каток с громадным валом, который выравнивал площадку. Какой-то гигант с жирной черной шевелюрой, кожей эбенового цвета и настолько белыми зубами, что казалось, будто это белок третьего глаза, приветствовал Боби:
— Hallo, boy!
Каток остановился, Боби подошел и стал расспрашивать, сколько дней еще понадобится, чтобы выровнять и утрамбовать участок.
Вблизи негр оказался еще чернее, глаза — словно дырки на рукавах куртки, нос приплюснут, губы мясистые, бесконечно длинные руки с короткими и толстыми пальцами, похожими на темно-лиловые гинеос.
— В какой срок? — спросил негр. — Выровнять все? — И покачал головой как-то по-птичьи. — My God. Двух дней хватит, если дождик перестанет…
От нахлынувшего ливня Боби нашел убежище в ближайшей лачуге, у входа в которую наткнулся на грязного-прегрязного мальчишку, похожего не то на призрак, не то на дождевого червя, ползшего по земле. У Боби он не вызвал ни жалости, ни отвращения. Страх. Он испугался, потому что наступил на него. Малыш закатился плачем. Разглядеть его было нельзя, слышен был только его рев. Теперь он хныкал где-то в углу. Вошел негр, вымокший до нитки. Он быстро освоился в темноте, воскликнул что-то похожее на «just a minute!» [27] и подошел к плачущему ребенку.
— Ну-ну, де-е-точка!.. Ну-ну, де-е-точка… — затянул он, а руками будто качал колыбель. — Ну-ну, де-еточка, де-е-точка, не плачь, не плачь… де-е-точка!..
Малыш выдохся, успокоился и теперь, по-зверушечьи блестя глазенками, с удивлением озирался, пытаясь понять, что происходит.
— Папа знаю, — с трудом изъяснялся по-испански негр, — мама знаю… Папа работай, срезать банан. Мама ушла, унесла обед, ребеночек один, но не плачь, больше не плачь, де-е-точка, не плачь!..
— Please one moment… [28] — сказал Боби негру, который подхватил малыша на руки и вышел туда, где хлестал ливень, сверкали молнии и грохотал гром.
В клубе «Христианских братьев» пропагандистки «Благостной вести» — в своей небесного цвета униформе напоминавшие сизых голубей, — пережидая дождь, жевали резинку или курили сигареты; после дождя они снова должны были идти распространять библейские тексты.
Боби ворвался, как мокрая борзая, оставляя на щелястом полу следы грязных башмаков, с пиджака и брюк лились струйки воды.
Задыхаясь, словно утопающий в водах бурной реки, он начал дико орать.
Сизые голубки встрепенулись. Боби показался им пророком, явившимся с неба в образе незнакомого юноши.
Они пошептались, затем одна из них, самая молоденькая, отважилась пойти вместе с Боби, прикрывшись дождевиком и огромным зонтом — собственностью пастора, который воспользовался тем, что из-за грозы рабочие не могли работать, и просвещал их насчет вечной жизни.
Пастор спросил, с кем это ушла мисс Черри — ее едва видно было под зонтиком. Услышав, что ее спутник — Мейкер Томпсон-младший, ужасный внук ужасного деда, пастор воскликнул:
— Greatly honored, to be sure!.. [29]
Мать малыша уже вернулась домой и беседовала с негром. У нее были огромные глаза и туго заплетенные косички: на огромном животе юбка вздернулась спереди, а сзади свисала, как утиный хвост; блузку оттягивали всевозможные четки, крестики и освященные медальончики. Ребенка она держала на руках.
Боби вошел в лачугу, рассказывая на ходу мисс Черри, как он увидел этого ребенка, — одного, покинутого, ползавшего по земле. Мать, не понимая, что говорит по-английски этот юный наглец, но предположив, что он, по-видимому, обвиняет ее в чем-то и, очевидно, потребует какой-нибудь штраф, стала объяснять, что ей не с кем оставить ребенка, а она должна носить обед мужу, работающему на плантациях.
После тропического ливня поля впитывали последние лучи солнца — косые, скользящие лучи закатного солнца. Когда солнце заходит в горах, не испытываешь ощущения, что оно исчезает навсегда. А на побережье кажется, что оно тонет в океане и уже никогда не поднимется больше, что сегодня был его последний день, что покидает оно землю навечно.
Отец малыша — мать укачивала сынишку — вошел, пошатываясь, пьяный от усталости. Он наотрез отказался отвечать на вопросы Боби и стал говорить с мисс Черри.
Вдруг, круто повернувшись к Боби, он закричал:
— А в конце концов, какого дьявола вам здесь нужно, сопляк, какое вам дело до того, как мы живем? Это я вам говорю, хоть вы ни черта не понимаете и умеете только болтать по-английски с этой сукой гринго, что пришла с вами. Единственное, о чем я вас прошу, — не делайте нам подачек. Лучше сдохнуть, чем получать ваши подачки. Работать здесь, в таких условиях…
— Shut up!.. [30] — завопил Боби.
Негр встал между ними и взял Боби под руку.
— Пошли, — сказал он ему, — каток ждать!..
— Уже темно, — пожаловался Боби, его все еще трясло от ярости.
— Мне нет важность!..
И каток, испещренный звездами, покатился по теням, подминая их под себя, утрамбовывая и размельчая, — негр, сидевший рядом с ужасным внуком ужасного деда, словно намеревался выровнять саму ночь, звездную и все же темную…
XXII
— Привет, Пьедрасанта — мошка высшего ранга!
— Что делать, дружище, нет клиентов — вот и остаются одни мошки… — отвечал дон Ихинио; он было опустился на колени позади стойки своего заведения «Золотой шар» — тут у него и магазинчик, и продажа в розлив спиртного и пива. Он искал бутылку с уксусом, вернее, пробку от пустой бутылки из-под уксуса. Однако, подняв голову и увидев вошедшего, он тотчас же встал, правда, из-за ревматизма не столь поспешно, как ему хотелось бы, всплеснул руками и воскликнул:
— Вот уж не думал, что сам сеньор комендант полиции окажет честь моему дому! Он же не посещает бедняков!
— Хорош бедняк — румянец во всю щеку…
— Румянец! Румян, как боров, сеньор комендант, как боров, которого откармливают на убой. Что за жизнь! Дела в заведении идут из рук вон плохо, видите сами. Открываю, закрываю, а продавать некому. Скверно! Все просят в кредит, и я ничего не могу с ними поделать, приходят и не платят. Уж сколько домов я приобрел бы, если бы выжал все эти долги! Надеюсь, вы выпьете чего-нибудь… У меня есть все — от шоколада до настойки санчомо…
Комендант, прикрыв рукой рот, зевнул — зевнул с таким шумом, будто поезд вышел из туннеля зевка, — взглядом обвел полки, заставленные бутылками.
— Вин, как вы видите, полным-полно… а продается только гуаро, гуаро и опять гуаро…
— А чего вы хотите, мой друг? Что им еще делать после работы, да если люди работают, как скоты, день-деньской? Только выпить…
— Ай, комендант, но вы не представляете себе, как они пьют! Лишь тот, кто видит их здесь каждый день, знает, сколько они пьют. Пьют от отчаяния. От полного отчаяния. Ни искры радости, ни удовольствия…
— Чтобы убить самого себя…
— Именно, и в конце концов, как ни жаль, становятся пьянчугами.
— Тоба!.. Тоба!..
— Опять притащился этот несчастный учитель! Две недели пьет напропалую и все время твердит: Тоба!.. Тоба!.. Виктореана, должно быть, увела его собутыльника; заливал он тут с одним… у нее живет… некий Раскон! Что закажете, комендант, что вам нравится?
— Ничего, Пьедрасанта. Выпью, пожалуй, пивка, похолоднее. Плачу наличными.
— Оставьте счет! Неужто я буду брать за пиво у представителя власти!
— Нет, сеньор, я здесь не как представитель власти — не путайте божий дар с яичницей, — а как частное лицо.
Комендант полиции встал у стойки, ближе к двери — здесь, на этих оцинкованных полутора метрах, Пьедрасанта предлагал клиентам любое спиртное или пиво.
— Мне нравится с пеной, — сказал комендант, высоко подняв бутылку и направляя струю жидкости в бокал, — и с крупной солью…
— Как угодно, пожалуйста, соль… А я выпью с вами бренди.
— Вы что-то скисли…
— Вчера вечером зашли сюда кое-кто из друзей, рассказали… они из «Тропикаль платанеры»… кажется, что… не знаю, уже сообщали вам или нет… дела на Северном побережье идут из рук вон плохо, никак не могут там договориться, ни по-хорошему, ни по-плохому, и у нас здесь, комендант, здесь тоже затевается что-то…
— Что?
— Не знаю…
— Бутылочка пуста, давайте-ка откроем другую…
— Не другую, а другие, сказал бы я. Ведь у вас, комендант, не на одну места хватит…
— Прямо-таки арена для боя быков, слава господу богу… — пошутил комендант, погладив круглый живот, обтянутый топорщившимся, как накрахмаленная юбка, широким мундиром; на руке кроваво сверкнул большой перстень с гранатом. — Затевается что-то… — повторил он слова Пьедрасанты, задумчиво вращая бокал с пивом на оцинкованной стойке.
Пьедрасанта принес на тарелке ломтики сыра и оливки, по-прежнему не упуская из поля зрения пьянчужку, который сначала взывал к Тобе, а теперь задремал за столиком, усеянным мошками.
— Здесь всегда можно узнать много новостей, вам; следовало бы почаще сюда заглядывать. Однако сегодняшняя новость — самая сенсационная. Все эти дни здесь ждали приезда сенатора, но внезапно появилось какое-то начальство из Компании, говорят, он словно с цепи сорвался, чуть не уволил управляющего, а вместе с ним нескольких чиновников. Кто его знает, как из всего этого выпутается управляющий.
— Какая-нибудь растрата?
— Какая там растрата! У них растраты не в счет, миллионами ворочают. Игра…
— Как игра? Игра запрещена законом!
— Нет, комендант, речь идет не об этом… речь идет об игре в мяч, которая называется «бассбали», от нее сейчас все голову потеряли. Управляющий — как будто не понимает, что земля уже горит у него под ногами, — распорядился сформировать команду из служащих Компании, разровнять площадку, что рядом с полем, и не знаю, что там еще… А горит-то, действительно горит. Читали листовку?… Вчера вечером мне подсунули под дверь…
Комендант развернул сложенную вчетверо бумажку и замолчал, увидев огромные, кричащие буквы:
ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА…
Где-то в мозгу пронеслась фраза: «Происшествий нет, мой майор», — ежедневный рапорт, которым усыпляли его подчиненные.
— Никто ничего точно не знает, но то, что об этом заговорили, что-нибудь да значит. Еще пивка?
— Подбросьте… маиса индюшке!
— А себе я добавлю еще бренди… — И Пьедрасанта, разливая напитки, продолжал свою мысль: — Все это, конечно, заставляет серьезно призадуматься…
— В следующий раз налейте мне темного пива, светлое надоело…
— Вот оно что, коменданту нравится смена ощущений, и это совершенно правильно, в разнообразии есть особое удовольствие, будь то пиво, будь то бабешки.
— Насчет бабешек — не скажу, свеч не хватит для всей процессии, а вот пиво пью для того, чтобы не тянуло на бренди, это моя другая слабость…
— Кому что нравится…
— А этот листок распространялся в поселке?
— В поселке, на плантациях, повсюду, и кажется, здешние…
— Кто именно? Давайте уточним. Кто это «здешние»?
— Здешние рабочие хотят объединиться с рабочими другого побережья, чтобы забастовка стала всеобщей. Так говорится в листке.
— Расстрелять нескольких — и сразу будет порядок…
— Да, так до сих пор думали, но вот в Бананере… не знаю, читали ли вы в газетах… кое-кого посадили, а положение не изменилось, пожалуй, даже ухудшилось. Надо видеть их — это люди, готовые умереть.
— Гм, дело серьезное, а здесь главарями выступают, вероятно, эти Лусеро…
— Напротив. Они будут первыми жертвами. Их считают предателями и изменниками, говорят, что теперь, когда они стали богачами, они хотят примирить все противоречия — потихоньку, постепенно, без насилия, а для агитаторов это значит играть на руку Компании.
— Ладно, Пьедрасанта, сколько с меня?…
— Подсчитать я подсчитаю, но выпейте еще чего-нибудь, тем более что вы так редко заходите. Разрешите угостить вас на прощание.
— Как говорят ребята, раз вы настаиваете…
Последние слова сопровождались столь большим и громким зевком, что их едва можно было расслышать — огромная пасть распахнулась так, что стали видны все зубы и даже гортань.
— Сейчас дам сдачи. Ваша пятидолларовая, а с вас… Вот получите, счет дружбе не помеха, комендант.
— Бренди, налей-ка мне бренди…
— Двойного?
— Меня этим не напугаешь…
— От пива толстеешь, лучше глоток покрепче…
— Но в такую жару, дружище, в наших краях глоток чего-нибудь покрепче — все равно что глоток адского зелья.
Учитель, рухнувший на скамью, спал лицом к солнцу, по его щекам, носу, губам, лбу ползали мухи, руки бессильно повисли, волосы растрепаны, брюки не застегнуты, туфли не зашнурованы, носки спустились. Когда на лицо ему садился слепень, он вяло взмахивал рукой, налитой свинцом, мотал головой и бормотал:
— Тоба…
— Засажу этого типа в камеру на несколько дней, сразу бросит пить…
— Это было бы превосходно, комендант, ведь он совсем сопьется. Не ест и не спит — день и ночь бродит, и все с одной и той же песней: «Тоба, Тоба»…
Вошел Хуамбо и тут же направился к скамье, на которой бросил якорь учитель.
— Хувентино… Хувентино… — Мулат потряс его за плечо, пытаясь разбудить.
— Тоба… — едва слышно выдохнул пьяный.
— Я пришел за тобой, Хувентино… Хуамбо уведет тебя… Мать — там… Мать вылечит тебя… Окончательно вылечит… Хувентино,… Хувентино…
Он оторвал учителя от скамьи и чуть не волоком, с помощью одного из грузчиков, потащил его.
— Мать вылечит его от пьянки, у нее есть гнилая тина. Даст ему этой тины, и он навсегда избавится от порока. Мать знает. Теперь она как тень, тень женщины на земле или под землей, не весит ничего, парит в воздухе, над цветами, в лучах света. Дети-корни ушли, отец ушел, погребен здесь. Мать одинока…
Он потащил учителя через площадь.
— Тоба!.. Тоба!..
На площади раздается детский плач: сегодня крестины. Плач несется над церковной папертью — когда никого на ней нет, она выглядит печально: паперти сооружают для того, чтобы проходило по ним множество людей, от князей церкви до душ неприкаянных, ступали по ним и золотые сандалии, и босые израненные ноги. А сейчас через эту паперть проходила вереница матерей с новорожденными на руках; младенцы пахли материнским молоком, свежевыглаженным бельем и нежностью невысказанных слов, слов, напетых колыбельной на ухо.
— Священник, должно быть, вышел, — заметил Пьедрасанта, — сейчас начнутся крестины.
— Как, кстати, зовут этого священника?
— Феррусихфридо Феху…
— И откуда он с таким имечком появился!..
— Из Комитана-де-лас-Флорес, он мексиканец…
— Мексиканец?… Чудеснейшая рекомендация, а тем более в канун всеобщей забастовки!
— Сеньор комендант, прежде чем вы уйдете, я хотел бы попросить вас об одном одолжении. В ближайшее воскресенье мне хотелось бы устроить здесь танцы. Так дайте, пожалуйста, указание патрулю — не знаю, кто там будет дежурить, — чтобы они не спрашивали у меня разрешения муниципалитета. С алькальдом мы на ножах, и он не даст разрешения даже за плату. Конечно, я мог бы обойтись и без разрешения, пусть танцуют, но так все же спокойнее…
— До воскресенья время еще есть, посмотрим… — сказал комендант и так широко зевнул, что казалось, будто он говорит в воронку. — Ну, ладно, я пойду… Если вам не нужен этот листок, я возьму его с собой… «Всеобщая забастовка»…
— Возьмите, комендант, вам он пригодится.
Представитель власти простился с Пьедрасантой и направился по улице, стараясь держаться теневой стороны, — хотя бы черточка тени, тоненькая, как ресница, — он кивал направо и налево: немногочисленные прохожие — знакомые и незнакомые — спешили снять перед начальством шляпы.
«Не поплачешь — не пососешь», — заметил про себя Пьедрасанта, услышав, как плачут младенцы в церкви. Довольный тем, что удалось ввернуть словечко насчет разрешения, — а танцы всегда приносят выгоду торговле, — лавочник заглянул в парикмахерскую, где уже собрались завсегдатаи, намереваясь сыграть в картишки.
Не успел он переступить порог, как сразу же кто-то обратился к нему:
— Видал, Пьедра, как Зевун отдавал честь направо и налево?…
— Нет, не видел…
— Значит, ты ослеп, сам же с низкими поклонами провожал его до двери, да еще вслед ему смотрел…
В парикмахерской «Равноденствие» компания собралась не в полном составе. Цирюльника схватил приступ малярии как раз в тот час, когда они обычно собирались, и приятели могли увидеть лишь его отражение в зеркале. Хозяин парикмахерской был прикован к креслу, стоявшему на волосяном ковре, по которому было страшно пройти из-за блох, гнид и прочих существ «волосяного совладения», как говаривал судья, заходивший сюда править бритву.
И о судье тут судачили — они продолжали бы его обстригать и обрабатывать, стрекоча, как машинка для стрижки волос, которая скорее не стригла, а выдергивала волосы с затылка клиента, если бы внезапно не был подан сигнал тревоги и не появился бы Пьедрасанта. Деликатность — не признак недоверия. Пьедра был закадычным дружком законника, и как-то однажды, когда того в его присутствии кто-то назвал стариком, лавочник пришел в ярость. Теперь же судью иначе, как Поплавком, не называли — за пустопорожнее краснобайство, за умение скользить по поверхности и за то, что он опускал свои нижние конечности на пол с таким грохотом, будто в туфлях были не ноги, а свинцовые грузила. Поплавок и Павлин. Трудно было сказать, чего в нем было больше — глупости или тщеславия. Он все и всегда знал, вот и сейчас, в парикмахерской, когда его стали расспрашивать о всеобщей забастовке, судья сразу же пустился в рассуждения, что термин «забастовка» не имеет ничего общего с глаголом «забавляться», как, по его убеждению, могли предполагать некоторые коллеги, поскольку-де «оба слова начинались одинаково». Затем он закатил целую речь:
— Листовки и всеобщая забастовка в стране неграмотных?… Не смешите меня, лучше послушайте, что я вам расскажу! Один работавший по расчистке парень и носильщик стояли, держа в руках по листовке, и, казалось, внимательно ее читали, но кто-то шел мимо и обратил внимание, что они пытались читать перевернутый вверх тормашками текст. Когда им об этом сказали, они возмутились: «Какое безобразие! Раз мы бедняки, так нам подсунули такие листовки, которые даже читать нельзя правильно!..» Но это еще не все, дайте-ка рассказать… Другой тип — лакомка, устав водить глазами по тексту, которого он не понимал, решил полизать бумагу; нашелся кто-то, кто сказал ему, что там стоит заголовок: «всеобщая забастовка», так он по этим словам водил языком до тех пор, пока от листовки не остались клочки… Но и это еще не все, послушайте дальше… Три грузчика бананов, темные невежды, отчаявшись оттого, что глазами они не могли поглотить то, что написано в листовке, ее запросто съели, разжевали и проглотили, как лепешку… Или вот еще случай… дайте-ка рассказать… Военный медик, он-то был грамотен, но читать ему было лень, вот он и сунул листовку о генеральной… о всеобщей забастовке под подушку и сказал: «Как все осточертело, еще один генерал!..»
— Шутки шутками, а от всего этого и в самом деле голова заболит!.. — заметили присутствовавшие, как только судья вышел и шаги его стихли на улице; по общему мнению, словоблудие судьи было продиктовано самым черным умыслом, черным, как та краска, что была на языке неграмотного, который лизал листовку.
В этот-то момент и появился Пьедрасанта — и был подан сигнал тревоги.
— Если мастер не изгонит из своего тела малярию, — заявил на пороге Пьедрасанта, — то прибылей вам не гарантирую… Надо будет мастеру съездить куда-нибудь на сезон, сменить климат, в противном случае придется ему лечь на кладбище…
Цирюльник пошевелился в кресле. От высокой температуры его постоянно клонило в сон, и все окружающее виделось ему в тумане, как отражение в мутном зеркале парикмахерской. Ему даже казалось, будто амальгама выливается из его глаз. Жар и вместе с тем странный холод, промозглый, пронизывающий.
— Еще в старые добрые времена я советовал мастеру, чтобы он пустил ртути в кровь, — говорил Пьедрасанта, — это единственный способ избавиться от малярии раз и навсегда; я, например, вылечился после того, как принял две коробочки этого дьявольского средства, от которого пылаешь так, точно тебе в кровь перцу насыпали…
— Быть может, у сеньора Ихинио сифилис был?… — вмешался другой собеседник, которого Пьедрасанта одарил весьма недоброжелательным взглядом.
— Нет, его у меня не было, но врач предупреждал, что если меня еще раз прижмет малярия, надо принять… это самое…
— Врач!
— Врач из помощи на дому…
— Значит, малярия хуже, хуже, хуже…
— Как будто сифилис лучше! Не лучше, конечно, но это излечимо, и для того чтобы излечить остаточную малярию, засевшую в костях, в спинном и в головном мозгу, тебе привьют сифилис, который не оставит и следа от бедной малярии, так все своим чередом, а ты избавляешься от второго и в конце концов окончательно вылечиваешься.
Они смолкли. Беседа о болезни цирюльника заглохла, не успев расцвести. Кое-кто уже снял шляпу с вешалки, собираясь уйти. Шляпы надевали, но не уходили. Оставались, просто чтобы убить время, листали газеты и журналы, пожелтевшие от старости, или смотрели в дверь на пустынную улицу, пылавшую солнечным зноем, или следили за схваткой свирепых цикад, за хороводами мошек, за путешествиями тараканов.
— Пойдем… — произнес кто-то и развернул газету; показалось даже, что газета зевнула, — она зевает, когда ее неохотно раскрываешь, а кроме того, это уже недвусмысленно означает, что гостям пора уходить.
— Ну и старый номер. Послушайте-ка, что здесь написано: «Японская подлодка угрожает Панамскому каналу… Она замечена близ побережья Центральной Америки…»
— Ничего подобного, это сегодняшняя газета! Я только что читал у китайца Лама. Только сегодня подлодка не японская, а немецкая.
— Выдумки гринго… из «Тропикаль платанеры». Они не знают, что бы им еще выдумать, вот и все, — прохрипел со своего кресла парикмахер. — А эта история с японской подлодкой все-таки стоила жизни бедному телеграфисту, которого звали Камей — да, так его звали, — его еще хотели привлечь к ответственности за то, что он якобы передал сообщение на японскую подлодку. Случилось все это еще в начале войны. А сейчас, накануне всеобщей забастовки, снова вытащили подводную лодку, только сфотографировали ее со свастикой.
— Хорошая память у мастера, все помнит, все!
Цирюльник подтянулся в кресле, видно собираясь о чем-то еще потолковать.
— Забастовка, похоже, распространится на оба побережья, а там, на Атлантическом, — великое множество убитых и раненых…
— Великое?
— Определение точное. Великое — так говорят, когда убивают военные на войне, потому что они выполняют свой великий долг, а если военный делает то же самое в мирное время — это уже называется преступлением.
Цирюльник провел ладонями по брюкам, болтавшимся на худых ногах, как будто ему становилось легче, когда он руками, точно холодными утюгами, разглаживал ткань на коленях, и замолк, ощущая горечь на сухих губах и надрывную боль в пояснице, в щиколотках, в затылке, в кистях рук.
— Сеньор Ихинио, вероятно, выскажет свое мнение… — сказал тот, на которого Пьедрасанта бросал недружелюбные взгляды.
— Семь раз отмерь — один отрежь. Я понимаю, что, пожалуй, лучше подождать…
— Подождать, как тот христианин Хуан, что зря руку в огонь не совал, не так ли, сеньор Ихинио?…
— Хорошая характеристика христиан нашего времени! — воскликнул парикмахер. — Пьедра считает, что надо подождать. Но времена изменились. Нечего ждать, когда идет война, война совести, сознания, идей. Раньше ты мог оставаться в стороне от всего этого, отсиживаться у себя дома. А нынче это невозможно. Военный конфликт касается всех. Он всеобщий.
— Это забастовка всеобщая, а не конфликт…
— А что, конфликт серьезнее, чем забастовка, сеньор Ихинио?
— Я говорю от имени тех, кто не принадлежит ни к рабочим, ни к богачам, — от имени тех, кто на всем этом может только потерять.
— Я тоже так считаю, — сказал парикмахер, — и я уже принял решение встать на сторону…
— …Компании — это надежнее! — воскликнул Пьедрасанта. — Встать на сторону капитала, на сторону тех, у кого есть что терять и кто будет защищать…
Парикмахер подлил масла в огонь:
— Я не согласен с Пьедрой. Как мы можем встать на сторону Компании, богатых, капитала?
— Они нас поддерживают. Что было бы с моей торговлей, с торговлей китайца Лама, с таверной этих братьев… не помню, как их зовут… с парикмахерской, вот с этой, вашей, если бы Компания не стала платить жалованье тем, кто у нее работает?
— Согласен, но поскольку проблема эта не только наша, — скажем, трех или четырех котов, собравшихся под мостом, — а большинства, и не только людей наших дней, но и будущего, нужно принести в жертву собственные интересы. Надо с этим согласиться. Лучше погибнуть на стороне наших, а ими являются рабочие, чем оказаться на стороне чужих, иностранцев…
— Подождите, постойте, пускай выскажется сеньор Ихинио!..
— Соучастие — вот что недопустимо… — подал голос Пьедрасанта, — преступное соучастие…
— Нет, нет, позвольте мне слово. Речь идет не о соучастии, я не говорил об этом. Я сказал, что в этой борьбе мы должны быть заодно с рабочими, а это означает, что мы должны оставить наши прежние позиции, экономически более или менее выгодные, и пойти на вполне понятные жертвы и потери. Нужно сделать окончательный выбор и перейти к тем, кто представляет интересы трудящихся. Если же мы не поддержим рабочих, то тем самым укрепим позиции власть имущих…
— Средний класс…
— Я бы сказал: класс-флюгер…
— Флюгер? Почему же? Что-то мне не очень нравится, мастер, ваша манера спорить! Вы не даете говорить другим…
— Да, мы всегда занимаем выжидательную позицию, а затем становимся на сторону победителя, на сторону группы победивших богачей. Бедные никогда не выигрывали, и если до сих пор выгоду получал тот класс, который мы называем «средним», так это потому, что мы всегда плыли по воле волн, — подчинялись воле крупных капиталов и военных группировок. Мы — это ремесленники, коммерсанты, люди разных профессий, но на этот раз наши выгоды, выгоды спекулянтов, лопаются.
— Времена изменились, мастер… — вмешался другой собеседник, с миндалевидными глазами, выпученными и блестящими; он перестал тасовать карты, которые от потных рук стали совсем влажными.
Пьедрасанта опять подал голос:
— И я считаю, что времена изменились!
— В пользу тех, о ком я говорю!
— Нет, сеньор, в пользу тех, о ком я говорил! Быть может, вы не знаете, что дон Хуанчо Лусеро обратился вчера вечером в комендатуру полиции с просьбой выделить наряд для охраны его дома?
— А, это потому, что вчера вечером его дом хотели взорвать! — сказал игрок, перетасовывавший карты.
— Если у мастера хорошая память, то он должен понять, что это означает… Дон Хуанчо Лусеро!..
— Да, кажется невероятным… Но в полицию обратился не дон Хуанчо, а другой, которого зовут Лино, — помните, с ним была целая история, он влюбился в какую-то сирену, тогда еще уверяли, что он будто бы рехнулся, иначе его привлекли бы к судебной ответственности.
— Дон Лино или дон Хуанчо — не имеет значения. Это лишний раз доказывает, что времена изменились и те, кто вчера, как, например, Лусеро, могли кричать в лицо коменданту полиции, что они не нуждаются в его протекции, поскольку они-де солидарны с народом, то теперь эти же Лусеро бегут к коменданту и просят, чтобы он прислал солдат охранять их дом, который, кстати, больше похож на дворец из «Тысячи и одной ночи».
— Мы никогда не сможем прийти к единой точке зрения, Пьедра, однако я считаю, что все, о чем вы говорите, лишь подтверждает мой взгляд на вещи. Братья Лусеро, которые, собственно, даже не принадлежали к среднему классу, а были кость от кости из народа, уже забыли о своем происхождении и, что еще хуже, — забыли об идеалах того человека, который оставил им свое богатство; они примазались к власть имущим. В конце концов они поступают так же, как и Айук Гайтаны и Кохубули, только те уже порастрясли свои денежки…
— Когда рак спит, его река уносит! Вот их и утащил в своих когтях Зеленый Папа, недаром его символом избран не голубь святого духа, а орел. Говорят, он за гроши скупал их акции, когда была паника, когда прошел слух, будто наши банановые земли отойдут к другому государству.
— Наши? Легко тебе говорить, но учти, что промахи обходятся дорого и ты косточки сможешь поломать…
Эти слова произнес один из тех, кто хранил молчание на протяжении всего спора. Большой друг Пьедрасанты, он подошел к нему и похлопал его по спине, давая понять, что все это было сказано в шутку.
— Ты бы оставил колоду в покое и рассказал нам, что произошло вчера вечером и как хотели взорвать дом братьев Лусеро… — с трудом выдавил из себя парикмахер; его душил приступ астмы, и он прямо-таки с головой ушел в кресло.
— Подробностей я не знаю, но, кажется, их кто-то предупредил. Покушение связывают с приездом некоего сенатора или какого-то другого важного лица из «Платанеры»… Этот мистер должен был прибыть под видом «доброго соседа»…
— И прибыл… — бросил игрок, тасовавший карты.
— Ложь!.. — Зубы парикмахера звякнули, как клавиши пишущей машинки. — Они сами распустили этот слух, чтобы выпросить у правительства оружие накануне всеобщей забастовки на Тихоокеанском побережье. На Атлантическом события уже развернулись, но забастовщики — не динамитчики. Это мирное движение, и подтверждением того, что никакого покушения не было, служит тот факт, что управляющий и другие чиновники заняты подготовкой к матчу в бейсбол на участке, который, кстати, уже наполовину выровняли.
— Зато столько было шума! Все устроили в связи с приездом этого типа, который прибыл якобы с инспекцией, — настаивал тасовавший карты.
— Мне известно следующее: они серьезно озабочены проблемой забастовки. Хотят узнать, не вмешаются ли братья Лусеро, чтобы утихомирить страсти. Видимо, они плохо информированы…
Чей-то мул с металлическим колокольчиком на шее во главе целого стада — десять, двадцать, сорок мулов — появился на площади; и вместо того чтобы идти по дороге, животные протопали по травяному ковру английского парка — гордости алькальда — и пересекли газон, вызвав страшный переполох в алькальдии. Дежурные швыряли в них палки, служащие выбежали из контор, а дон Паскуалито, не в силах покинуть свое кресло, чуть было не потерял сознание.
Поток мордастых, ушастых, лоснящихся, выбивающих подковами искры животных остановился, ошалело закрутился на месте под вопли дежурных, бросавших в мулов палки, махавших шляпами. На помощь дежурным алькальдии сбежались жители соседних домов и, разумеется, ребятишки, высыпавшие отовсюду.
Из церкви выскочил священник. Что случилось? Что происходит на площади?… Как был, в стихаре, забыв снять эстолу с шеи, он поспешил к Пьедрасанте и другим завсегдатаям «Равноденствия», бросившимся на улицу, как и все остальные, поглазеть на происходившее.
— Вот видите, падре, как мы живем здесь… — комментировал Пьедрасанта. — На малейший шум мы срываемся с места. Не только вы, но и все мы побежали, даже кричали: «Святый боже!»
— Не будет ли правильнее сказать, мой добрый Ихинио, что мы находимся на кратере вулкана?
— Вы имеете в виду вызов, брошенный вам североамериканскими евангелистами, соревнование с ними?
— Ну, что вы! Никакого соревнования с ними не может быть, и ни о каких сравнениях не может быть и речи.
— Мне стало известно, что эти евангелисты купили пустырь, собираются строить свою часовню. Тот, кто хочет нас завоевать, даже к богу своему тащит…
— Ты же Пьедрасанта [31], и тебе-то надобно бы знать, что господь един, а все прочее — богохульство!..
— В ваше отсутствие, падре, они очень активно действовали, распространяли разные брошюры и — что особенно важно — раздавали деньжата…
— Что ж, увидим, увидим… — С этими словами священник, подобрав сутану, отправился снова крестить.
Пошел он, уверенный в том, что… И все пошли восвояси, уверенные в том, что… дело началось.
XXIII
По утоптанной земле босые ноги ступают мягко, неслышно, зато громко и жестко топчут землю ноги в башмаках. Больше босых, меньше обутых. Больше знойного мрака с мерцающими звездами и меньше света — желтого света керосиновых ламп, слепящего белого света ацетилена, светильников у дверей лавчонок и фонарей — красных, треугольных — знак того, что здесь можно отведать тамаль.
Зноем пропитана одежда, зноем она пахнет — совсем немного самой легкой одежды на горячей темной коже, люди глазеют на танцы под сарабанды.
Землистое молчание земляной реки, тронувшейся с места… Больше мужчин, чем женщин. Детишки взобрались на спины отцов. Белые сомбреро, черные косы. Больше белых сомбреро, чем черных кос. Чернеют косы и распущенные волосы на светлых и цветастых рубашках и блузах. Белеют сомбреро, а где кончаются сомбреро, там начинается темнота.
Сарабанды отличались ценой: в самой дорогой за один танец берут двадцать пять сентаво, в самой дешевой — десять. Обе сарабанды расположились там, где главная улица поселка вливается в площадь с английским парком дона Паскуалито, Первого гражданина, как он сам себя называл; по вечерам площадь освещалась паровозным прожектором, установленным Первым гражданином на здании муниципалитета, и его гости, усевшиеся в плетеных креслах, казались пассажирами призрачного поезда, двигавшегося без рельсов куда-то через поселок.
В «Бризах Юга» — сарабанда что надо! — танцоры, выходившие на площадку, сбитую из плохо обструганных и плохо пригнанных досок, оставляли на контроле шляпу, если она фетровая, и спичками, засунутыми за ленточку на тулье, отмечалось количество танцев, протанцованных ее владельцем, и, если он танцевал много, его шляпа походила на корону из спичек. В «Бризах Юга» столики были покрыты скатертями, официанты обращались к клиентам на «вы», разрешалось бросать окурки на пол, потому что здесь босиком не танцевали, и даже имелись туалеты, которыми, правда, пользовались не все: чтобы добраться до них, надо было обладать ловкостью циркового эквилибриста, куда проще воспользоваться темнотой гостеприимной ночи.
Другая сарабанда — «Голубые горизонты» — напоминала огромную тюремную камеру, куда можно было проникнуть через вход, очень похожий на запасную лазейку-ширму, за которой скрываются в минуту опасности тореро на арене корриды. Здесь танцующие пары отделялись от остальной публики канатом, протянутым посередине площадки, и те, кто мог наличными оплатить следующий танец, нагибаясь, подлезали под канат. Столиков здесь наперечет, все равно что их и нет. Вокруг площадки расставлены скамьи и стулья. Объявления гласили: «Запрещается бросать окурки на пол, иначе сеньориты могут обжечь ноги».
Зевак собиралось раза в три больше самих танцоров. Они внимательно следили за танцующими парами, обливающимися потом, молчаливыми, изнемогающими от бурных ритмов. Несколько человек, с виду индейцы, плясали с суровыми, сосредоточенными лицами, будто находились в церкви; они скорее шествовали под музыку, медленно двигаясь по площадке, временами подпрыгивали вместе с партнершей, которую обнимали, но которая, казалось, не существовала для них. Танцевали только со знакомыми. Мария Хоштапак и Лукас Тибурон, Андреа Сурса и Луис Гертрудис, Хуана Сантос и…
Метисы танцевали вызывающе, словно их демоны толкали, как говаривал падре Феху, который по субботам оставался в поселке, чтобы не опоздать на воскресную мессу, и иной раз, правда не слишком часто, заходил взглянуть на сарабанды.
Метис изо всех сил прижимает к себе женщину и шепчет ей на ухо комплимент или просто что в голову взбредет.
В «Бризах Юга», где танцевали креолы, все время слышались разговоры, и в перерывах, когда музыка замолкала, и во время танцев — будь то фокстрот или вальс, танго, сон или пасодобль.
В сарабанде «Голубые горизонты» танцевали люди попроще. Индейцы переняли от своих предков особое, религиозное отношение к танцу, оно требовало хранить молчание.
Пьяные вопли, выстрелы в воздух, взрывы шутих. Заблудившиеся коровы и лошади бродят по праздничной площади, как лунатики…
Пьедрасанта решил получше осветить свое заведение, расставил кругом столики, как бы отгородив свою танцевальную площадку, и завел фонограф — если бы дела шли хорошо, купил бы виктролу, а то и маримбу бы поставил, как в сарабандах; пока же, когда так мало народу и так мало прибыли, хватит и фонографа, и, между прочим, его музыка в многоголосице маримб звучала даже забавно — точно кто-то болтал на каком-то иностранном языке.
Алькальд вызвал самого энергичного дежурного и послал спросить у Пьедрасанты, кто дал ему разрешение устроить танцы возле лавчонки. Дежурный, в самодельных сандалиях, насквозь пропахший потом — он натянул еще не просохшую одежду — вернулся и доложил дону Паскуалито, что дон Ихинио получил устное разрешение от сеньора коменданта.
— Посмотрим, — сказал алькальд, — посмотрим, что он скажет, как прибудет патруль…
И вскоре нагрянуло целое войско — солдаты, построившись в два ряда, шли затылок в затылок. Среди «гляделок» — их называли так за то, что они только глазели на танцы в сарабандах, — пронесся клич: «Спасайся кто может!» И прежде чем патруль пустил в ход приклады, зеваки разбежались, совсем как куры при виде ястреба; остались или задиры, самые петушистые, или те, кто, видно, был в сговоре с самим дьяволом. Солдаты рассыпались, словно зерна из кукурузного початка — рука на оружейной сумке, винтовка за плечом, — бросились преследовать тех, кто не успел удрать и спрятаться в зарослях, в овраге или на плантации.
…В безбрежных просторах моря, моря, мы видим — подводные лодки проходят, проходят…Свет фонарей и сухое эхо выстрелов в глубокой, будто морской темноте отмечали те места, где патруль обнаруживал людей, певших эту запрещенную песню:
…В безбрежных просторах моря, моря, мы видим — подводные лодки проходят, проходят…— Да, жестковато, падресито… — заметил Пьедрасанта, вернувшись к себе и обращаясь к падре Феху, который, укрывшись за стойкой, как у себя в комнате, потягивал из чашки горячий шоколад.
— Превосходный, хорошо сварен…
— Да не о шоколаде речь, я говорю об этом ужасном патруле, который стреляет и стреляет…
— Ну, вам-то, Ихинио, нечего беспокоиться…
— Ай, падре Феррусихфридо, в лучшем случае обыщут и разграбят мое заведение, а меня бросят в тюрьму. Пойду разбужу жену. Бедняжка еще спит. Пора ей вставать, тесто поднялось. По субботам чем только не приходится заниматься: и танцы, и выпивка…
Помощник дона Ихинио, бегавший узнавать, кто начальник патруля, вернулся с докладом. Он запыхался, с трудом переводил дух. Прибыли, оказывается, два офицера, Каркамо и Саломэ. С частью отряда Саломэ остался в поселке, а Каркамо преследует в горах мятежников.
Пьедрасанта вздохнул с облегчением: по его убеждению, с капитаном Саломэ его связывали дружеские узы; он знавал его еще младшим лейтенантом, когда ждали, что вот-вот вспыхнет война из-за пограничных споров. Вернулся Саломэ уже в капитанском чине.
Покинув площадку у алькальдии, залитую светом паровозного прожектора, где сидели избранные, приглашенные любоваться английским парком, — они сидели, ослепленные ярким светом, перед толпой людей, ослепленных глубоким мраком, — алькальд отправился на поиски того, кто командовал взводом. Дон Паскуалито не слишком хорошо разбирался, в чем разница между карательным отрядом и взводом. Все, кто носил мундиры, олицетворяли для него армию, а ведь именно за Национальной армией остается самое важное таинство — важнее, чем бракосочетание, важнее, чем посвящение в духовный сан, чем соборование умирающего, — таинство расстрела. Подобная раскладка таинств по категориям — от менее значительных к более значительным — приводила в отчаяние падре Феху.
Встреча дона Паскуалито с капитаном Саломэ произошла в соответствии со всеми существующими протокольными нормами. Жезл эдила и привычка распоряжаться придавали голосу алькальда авторитетность. Они побеседовали, выкурили по сигарете, поморгали перед прожектором, установленным возле алькальдии. Наконец слово взял алькальд:
— Очень хорошо, я не возражаю против указаний сеньора коменданта, но только с одним условием: вы должны запретить этому жулику играть пасодобль «Мачакито», и, кроме того, пусть он уплатит казне налог за содержание салона танцев, помимо тех налогов, которые он не платил до сих пор, — за хлебопекарню, за лавку и бар.
Шаги солдат и лязганье оружия — зловещий звон ключей смерти — трагическим эхом отдавались в заведении Пьедрасанты. Шаги, звон оружия… шаги, звон…
— Святое провидение! — воскликнул Пьедрасанта, услышав, что шаги замерли у дверей его дома.
— Послушай, — успокаивал его падре Феху, — мы перехватим их, предупредим события. Иначе они пустят в ход оружие. Свинец — угощение не слишком приятное.
Капитан Саломэ заглянул в двери — в кантину, где продавались напитки, и приветствовал Пьедрасанту:
— Добрый вечер, как поживаем?
Эти магические слова развеяли страхи лавочника.
Пьедра даже подошел к порогу поздороваться с капитаном, ему поскорее хотелось разузнать, какой тот получил приказ. Капитан, положив смуглые руки на эфес сабли, сообщил, что сеньором комендантом разрешены танцы, за исключением пасодобля «Мачакито», и, кроме того, приказано уплатить налог.
Падре Феррусихфридо, вращая большими пальцами обеих рук, — монахи считают, что это способствует лучшему перевариванию шоколада, — поджидал возвращения лавочника. Долгонько ему пришлось ждать: Пьедрасанта не смог оторваться от двери, пока капитан Саломэ со своими молчаливыми людьми не проследовал к сарабандам.
— К счастью, пронесло, обошлось, падресито. Я могу продолжать… — подпрыгнув, он сделал какое-то танцевальное па, — с одним условием — не играть «Мачакито»!
— А почему, собственно, почему, Пьедрасанта?
— Вы не поверите! Этот пасодобль начинается со слов: «Куда идешь ты, Мачакито, с таким видом блестящим…» А ребята переиначили слова и стали петь: «Куда идешь, Паскуалито, с этой шлюхой гулящей…»
— Ну и язычки! Ну и язычки!
— А теперь, поскольку все обошлось, вам следовало бы выпить еще шоколаду. Шоколад с привкусом тревоги — это не шоколад. Для того чтобы по-настоящему почувствовать вкус какао, надо пить его с удовольствием. Мне вот, к примеру, нравится анис с водой…
— И все же нет ничего приятнее шоколада…
— Все равно что господь…
— Пьедрасанта, разве ты не знаешь, что я не терплю упоминания имени господа бога всуе… тем более не допущу, чтобы к нему прикасались грязными руками…
— Я заметил, что вы, падресито, чем-то озабочены. Меня мучило мое горе, но я видел и чужое горе: вас одолевают какие-то заботы. Что с вами? Вы же знаете, что в вопросах дружбы я, как говорится у вас, мексиканцев, словно стеклышко.
— Сын мой, самые беспросветные ночи — это те, когда мы чувствуем, что наша душа погружается во мрак, из коего нет выхода, сколь бы мы его ни искали.
— Падре Феррусихфридо, все поправимо, все, кроме смерти…
— А нам не надобно исцеление от того, что несет нам спасение…
— Выход есть отовсюду, кроме ада…
— И потому, повторю, я трепещу каждую ночь, как будто ищут меня, чтобы растерзать, четвертовать… Ад — озеро, притоки в которое ведомы, а истока нет.
— А вам-то что за важность, вы — падре и отправитесь прямиком на небо…
— Ты веришь?…
— А я-то считал, что вас тревожит эта забастовка.
— В том-то и дело. Это одна из самых темных ночей души моей, Пьедрасанта, и руки мои ищут во мраке, ищут выхода и не находят его…
— Но вы не здешний…
— Какая польза от того, что ты соль земли, если соль сия безвкусна? Как вернуть ей вкус? Что будет, если мы, священнослужители, скрестим на груди руки и останемся равнодушными к конфликтам, к нуждам народа или встанем на сторону штыков?
Он замолчал, ослабил воротничок сутаны. Его раздражала и недобритая борода, и почерневший влажный ошейник воротничка, впитавшего зной жаркого дня, и жидкий звук фонографа, навевавший такую тоску, что даже биение пульса приостанавливается, и ощущение беспредельного одиночества.
— Всеобщая забастовка нас всех загонит в тупик, — пробормотал священник, но его слова лавочник не расслышал, он сосредоточенно наблюдал за всем, что происходило в его заведении.
Персонал работал неплохо, но ведь недаром говорят, что лишь под взглядом хозяина жиреет скот. Вон тому негру, например, не следовало бы подавать больше — как напьется, так скандалит. А вот тот — лицо у него точь-в-точь висячий замок, а нос как ключ, торчащий из скважины, — приходит сюда и выслеживает, не распустит ли кто-нибудь язык. На днях жена одного кочегара дала ему такую зуботычину, что у него звезды из глаз посыпались. Ничего себе бабешка, притянула к себе косого и наливается, и наливается пивом, да еще говорит, дескать, хочет пахнуть, как немка. А сама воняет, как…
— Да, всеобщая забастовка нас всех загонит в тупик, — продолжал падре Феху, разговаривая скорее с самим собой, чем с Пьедрасантой. — Прежде всего она выдвигает очень важную проблему — проблему совести. Конечно, любое социальное движение угрожает установившемуся режиму, но имеем ли мы право осуждать рабочих? Понимаем ли мы, люди других сословий, что означает — добровольно отказаться от продукта труда своего и выступить против существующих порядков, невзирая на угрозу увольнения и репрессий? Кто видел этих людей на собрании, где они принимают решение по поводу забастовки, — как видел их я, когда жил в Мексике, — тот не может забыть их лица, их высоко поднятые головы, их речи и выступления, не может не почувствовать волю этой массы, которая лишь издали кажется слепой. И все-таки не все понимают, что за этой борьбой стоят человеческие жизни, борьба за хлеб насущный, каждодневная борьба за пищу для жен и детей, за одежду и обувь, за лекарства… Не мне бы говорить об этом, Пьедрасанта, но я считаю, что в каждой забастовке таится огонь героизма, христианского героизма…
— Говорите, говорите, падресито, полегчает…
— Не мне бы говорить об этом, об этом надлежит судить консистории, курии — и чем раньше, тем лучше. В сознании рабочих укоренилось убеждение, что вся церковь враждебна им, а это не так…
— Вас, к счастью, все любят…
— Я говорю о церкви, а не о столь ничтожнейшей личности, как я, ибо со мной все ясно, ведь я — сын ремесленника, жившего в деревне, я рос среди беднейших бедняков, и по рождению я мексиканец… мне только не хватает покровительницы Мексики — Гуадалупской богоматери… Если уж к этому идет…
Зной был удушающий, палящий. Чомбо, панамский негр, и какая-то негритянка с плаксивым голосом лениво переступали под звуки дансона — и было понятно, что танцевали они скорее не для того, чтобы потанцевать, а чтобы еще и еще раз прижаться друг к другу, прижаться покрепче… Улыбающаяся негритянка всем телом прильнула к Чомбо, а у того текли слюнки — белые капельки кокосового молока, — выплюнуть или проглотить?
— Плюнь, плюнь повыше — к небу, на нос тебе же и упадет!.. — кокетливо шептала ему на ухо негритянка.
Чомбо, весь какой-то ощетинившийся, хотя волос у него почти не было, косился на белый след плевка на полу и смеялся глазами. Негритянке не нравилось его лицо.
— Чомбо, ты раскачиваешься, как на виселице…
Из задней комнаты, уставленной плетеной мебелью, украшенной семейными портретами в медальонах, остановившимися навек бронзовыми часами, бумажными цветами, веерами и павлиньими перьями, — из этой маленькой гостиной, где беседовали падре Феррусихфридо с Пьедрасантой, хозяин лавки по-прежнему внимательно следил за всем, что происходило в его заведении, а на стойке, ограждавшей кантину, даже мошки и те дремали.
— Никак не могу вспомнить, разбудил ли я в конце концов мою жену. Ей пора заниматься тестом, это же дело серьезное. На днях пекарь объявил, что если начнется забастовка, так он из солидарности с рабочими плантаций тоже прекратит работу. Столько словечек появилось сейчас, каких раньше мы и не слыхивали. На каждом шагу сейчас только и слышишь… Со-лидар-ность…
— Ну я пошел, Пьедрасанта…
— Уходите, падресито? Между прочим, ваша проповедь насчет забастовки неплохо звучала бы под музыку фокстрота. Поступали бы, как евангелисты, которые перед псалмами бьют в барабан…
— Против них у меня есть союзница. Собственно, я и пришел сюда по делу, а не ради разговоров о забастовке. Хочется мне иметь образ Гуадалупской девы — ну, скажем, среднего размера, чтобы поставить ее в алтаре…
— Хорошенькую союзницу вы подыскали против евангелистов, протестантов, грешников… и… забастовщиков…
— Только не против забастовщиков! Не смешивай сало с маслом. Гуадалупская богоматерь — индеанка, босая, темнокожая, не может она выступать против себе подобных!
Переняв от своей партнерши слезливый тон, негр Чомбо — похож он был на головешку, вытащенную из пожарища, — прижавшись к желтому платью, вполголоса напевал:
Стол мой убог — вот он… — Ай, что скажут, что скажут, что скажут! — На листьях зеленых — только лимон… Подойти я хочу — ты уходишь, Ухожу от тебя — всех изводишь… Послушай-ка, красивая моя… Говорят, ты не любишь меня… — Ай, что скажут, что скажут, что скажут! — Не могу угостить я тебя. А чем угостишь ты меня? Ничего тоже нет у тебя… Послушай-ка, красивая моя…Падре Феррусихфридо хотел было по привычке потереть руки, но потные ладони не скользили, и ему пришлось ограничиться улыбкой. Вышел. В воздухе остался аромат духов, которыми он опрыскивал свою пропотевшую сутану.
Смолкли сарабанды. Отряд спугнул последних запоздалых посетителей. Дон Паскуалито разогнал зевак с площади, освещенной паровозным прожектором, простился с друзьями и, взяв под руку жену, отправился домой. Он не скрывал своего негодования.
— Среди франкмасонов нет ни одного приличного человека, — говорил он жене. — Как можно было разрешить этому жулику устроить танцы в «Золотом шаре»! Хорошо еще, что нагрянул отряд и люди сами разошлись. Ему все-таки пришлось выполнить обещание и не играть «Мачакито», и то потому только, что там был сам падре. Нет, под руку не пойдем!.. Постой, я слышу, слышу… слышу, как поют… «Куда идешь, Паскуалито, с этой шлюхой гулящей…»
— Ах, вот как? Ты мне раньше об этом не говорил, Паскуаль. О, они еще узнают меня! Я заставлю их петь: «Куда идешь, Паскуалито, с алькальдессой блестящей…»
За густыми деревьями, среди домов, позади темных улиц в рытвинах и мостков над оросительными канавами, можно увидеть, как свет электрических фонарей вырывает из ночной тьмы барак, окрашенный белой краской. Над входом было написано крупными буквами: «Благая весть». Внутри барака какой-то мужчина, взгромоздившись на импровизированную кафедру, ораторствовал, а около сотни человек слушали его, рассевшись на скамейках, стульях и табуретках.
— …речь вовсе не идет о том, пройдет или не пройдет верблюд через игольное ушко, — разглагольствовал он. — Правильнее сказать: не пройдет через Игольные ворота, а это самые узкие ворота в Иерусалиме. Скорее верблюд пройдет через Игольные ворота, чем богач проникнет чрез врата небесные… Иисус отнюдь не преувеличивал… он говорил истинную правду… в действительности речь шла об Игольных воротах, через которые не пройдет верблюд, и о вратах небесных, через которые не проникнет ни один богач…
— Аи! Аи!.. — заорал, как сумасшедший, один из прислужников проповедника по кличке Гуд-дей [32]. — Горе граду Нью-Йорку, горе могущественному граду! Аи! Страшный суд грядет! И торгаши землей разразятся рыданиями и стенаниями, потому что никто не будет покупать их товаров: золота и серебра, драгоценных камней и жемчуга, тонкой ткани и пурпура, шелка и сукна, душистого дерева и слоновой кости, бронзы, железа и мрамора. Ни корицы, ни гвоздики никто не купит. Никто не купит духов и вина, масла и муки, пшеницы и вьючных животных, овец и лошадей, карет и рабов. Никто не купит жизнь людей, не купит гладиаторов… Торговцы, ставшие богачами, подгоняемые страхом, оставят тебя и уйдут далеко; рыдая и причитая, они промолвят: горе великому городу, который был разодет в тончайшую льняную ткань и пурпур, в золото и драгоценные камни, в жемчуга… все эти богатства в одно мгновение обратились в ничто… в одно мгновение город был превращен в пустыню… И каждый капитан и каждый мореплаватель остановит свой корабль далеко в море, взирая на то место, где был Нью-Йорк и где ныне вздымаются лишь столбы дыма…
Несколько слушателей бросились к нему: Гуд-дей был охвачен приступом апокалипсического безумия. Восседавшие на скамье с лицами банкиров старухи, держа в руках Библию, покачивали в знак одобрения головой.
— Гуд-дейсито!.. — заговорил расслабленным голосом по-испански какой-то полуголый мужчина с кожей цвета недозрелого банана. — Гуд-дейсито, Гуд-дейсито, ты святой гринго, такой же несчастный, как и мы, и нет у тебя другой подушки, кроме твоей Библии, и нет у тебя другой постели, кроме земли…
— Возлюбленные братья мои, — послышался мощный голос, как только восстановилось почтительное молчание, — это выступил достопочтенный Кейси, пастор церкви конгрегационистов в Лос-Анджелесе. — Мои возлюбленные братья, этой ночью мы должны обсудить, насколько опасны те, кто, боясь истины, искажает учение Христово. Они твердят со своих некогда священных кафедр, что Иисус изгнал торгашей из храма; они говорят это, а сами закрывают глаза, дабы не видеть торгашей и не изгонять их из своих храмов и братств. Да, торгаши, скажут вам они в свое оправдание, известно же, что только господь бог читает в сердцах. Но разве у торгашей есть сердца? Господь изгнал их из храма, и это случилось одинединственный раз, когда он был разгневан и возмущен. Торгаш должен находиться не в храме, а вне его…
Падре Феху остановился, прислушиваясь к насыщенной ненавистью проповеди Кейси. Четки падре держал в руках, на голове тонзура, тугой накрахмаленный воротничок, а ночная тьма покрывала священника как бы гигантской сутаной. «Почему это нам, священнослужителям, — подумал он, — не разрешается вступать в дискуссию с подобными воплощениями дьявола? Из-за свободы вероисповеданий? Вот уж доблестная свобода! Если бы было дозволено, я показал бы ему… А что?… Что показал бы ему?… Ты изгнал бы торгашей из храма?…» — Он прикусил кончик языка. Даже больно стало, так сильно прикусил.
Путевой сторож, красный от смущения — непривычен он к публичным выступлениям, — запинаясь, заговорил:
— Хватит, почтеннейший Кейси, хватит!.. Когда же наконец будет покончено с этим средневековьем? Вы толкуете слово божье так, будто бог чужд всему, что происходит сейчас в мире. Это вы, его представители, чужды всему на свете, потому что вы слепы, глухи, немы и безруки, но бог не таков, нет… Ваши истории о верблюде и игольном ушке, об изгнании торговцев и тому подобное ничего не стоят. В нынешнем веке даже Самсон не смог бы низвергнуть храм, выстроенный на долларовых колоннах… Как будете вы, почтенный Кейси, изгонять из своего храма владельцев банановых плантаций, ворочающих миллионами и миллиардами долларов?… Ха, ха-ха, верблюд, торговцы — потешные басенки! Даже из священной истории вы сделали комикс! Почему в церквах и конгрегациях не обсуждаются злободневные вопросы, такие, например, как детская смертность, нищенские заработки, нечеловеческие условия труда, пенсии престарелым?…
Падре Феррусихфридо Феху больше не слушал. Он углубился в ночную тьму, вынул платок и стал вытирать пот, струившийся со лба. Вокруг пахло цветами и нагретыми солнцем за день фруктами. Морской прибой доносился издалека, как зов природы, далекой, незримой, недосягаемой. На глаза падре навернулись слезы.
«Лейтесь, лейтесь, слезы, — сказал он себе. — Вы свидетельство трусости!»
Он вцепился зубами в платок, разорвал и лоскутками вытер глаза.
Падре шел как потерянный по улицам поселка, казалось, он заблудился, хотя в таком маленьком поселке заблудиться мудрено. Вдруг он услышал свое имя. Он явственно слышал, как его звали. Все его прихожане — умирающие. «Исповедаться, исповедаться!» — просят они. Нет, они не умирающие — они борцы. Пора поднять штандарт со святым образом Гуадалупской девы. Разве падре Идальго не был таким же, как он, простым священником?… Чего ждать? Чего еще ждать, разве не пора начать бой?…
В молчании теплой ночи солдаты тащились к комендатуре, казалось волоча за собой свой сон и усталость. Капитан Саломэ, проходя мимо часовни, где евангелисты проповедовали «Благую весть», задержался и прислушался.
Достопочтенный Кейси отвечал путевому сторожу:
— Я не вижу оснований… почему наш дорогой брат сомневается в том, что можно сочетать религию с делами в пользу рабочих…
— Протестую! — подняла руку, словно ученица в классе, какая-то дама, еще довольно моложавая, со свежей розовой кожей, контрастировавшей с ее седыми волосами. — Достопочтенный Кейси не может выдвигать подобное решение этой проблемы. «The Witness» [33], наше епископальное издание, уже писало, что достижение взаимопонимания между служителями церкви и деловыми людьми означает порабощение рабочего класса, лишение его пятой свободы, то есть свободы инициативы.
— Я ничего не предлагаю, — отпарировал Кейси самым любезным тоном. — И, если я не ошибаюсь, протест «The Witness» был направлен прежде всего против вторжения крупных консорций в область религии.
— Мы протестуем и будем протестовать, — повысила свой и без того звучный голос дама, она даже встала с места. — Наши церкви и конгрегации показали, что они обладают огромными моральными силами. Однако крупные консорций, похоже, обращают свой взгляд к католической религии.
— Возлюбленные братья, — оборвал ее Кейси, — будем считать законченным наше собрание, споем второй псалом.
Все встали и запели:
Бог простер свои длани, это руки тех, кто трудится, и сказал им: — Создайте город! — И они воздвигли город… Бог простер свои длани, это руки тех, кто трудится, и сказал им: — Разрушьте город! — И они разрушили город…Капитан Саломэ со своим отрядом проследовал дальше. Воскресный покой разливался над полями. Капрал Ранкун дернул его за руку, когда они проходили мимо места пересечения проселочной дороги, по которой двигался отряд, с железнодорожной веткой, и показал ему сову, сидевшую на фикусе.
Саломэ и его солдаты свернули, чтобы обойти эту птицу, сова — дурное предзнаменование, и неожиданно столкнулись с другой половиной отряда, под командой капитана Каркамо.
— Вы, конечно, не случайно заглядывали вчера в мою палатку? Не так ли, мой капитан? — спросил Каркамо, подстраиваясь к шагу Саломэ.
— Вы же знаете, что начальник меня заставил работать над докладом… Какие боеприпасы надо завезти на случай пресловутой забастовки…
— Об этом, кстати, я и хотел поговорить с вами, капитан. Надо просить побольше оружия, больше пулеметов и винтовок…
— Говорят, нам должны прислать ручные бомбы…
— Лучше не придумаешь. Вам не кажется?
— Плохо то, что вы, капитан Каркамо, слишком много тратите патронов. Вот сегодня ночью вы по меньшей мере с тысячу выстрелов сделали.
— Не преувеличивайте, дружище. Я не думал, что у вас такой плохой слух…
— Поймали или убили кого-нибудь?
— Приказ, стреляли в воздух… — Вот как?
— Я думал, капитан Саломэ, с вами можно договориться.
— Насчет чего?
— Я зайду к вам в палатку. Кто, между прочим, был вашим сотенным в школе, не помните?
— Агустин Яньес…
— Не знал такого…
— Странно, он долго служил в столице, был на виду…
— Переписываетесь с ним?
— Поздравляем друг друга в день рождения. Очень энергичный человек, но слишком замкнутый.
— А моим сотенным был Тимотео Бенавидес. Но мы с ним не в ладах: как-то на празднике, в казино, он хотел отбить у меня даму, и ему это дорого обошлось. С тех пор этот бандит высшей марки называет меня Каркамо-бабник.
— Знаю его хорошо, — сказал Саломэ. — Он должен был быть нареченным отцом на свадьбе моего кузена, но его послали на оперативное задание, и…
— Ага, вот почему он как свои пять пальцев знает границу с Мексикой. Обогнал он нас — уже майор.
— Что ж, меня не повышают, да и вас тоже…
XXIV
— Она индеанка, индеанка, индеанка, — твердил падре Феху. — Ни из какого Синая она не прибывала и к Библии не имеет никакого отношения. Она явилась, как роза темнокожей индейской Америки, возникла средь роз Тепейяка.
Он смотрел, как наступает утро, как в розовато-золотистом рассвете тают звезды, тонут в пламенных проблесках зари мерцающие небесные светила, исчезают в радужных переливах — от алого до нежно-бирюзового, цвета Марии.
— Мария — звезда зари!
Он откинул скомканные влажные простыни и, встав с постели, окатился с головы до ног водой из импровизированного сосуда — выдолбленной тыквы, почувствовал себя освеженным. Мыло и вода. Больше мыла, и больше воды.
Одевался он при свете свечи, хотя небесная ясность наступавшего дня уже позволяла различать предметы, стоящие на столе, вокруг деревянного распятия — древнего изваяния, которое он привез с родной земли и которое, по утверждению падре, принадлежало брату Бартоломе де лас Касас.
Беспокоила падре Феху мысль, что нет у него ни одного изображения Гуадалупской девы. И он оглядывался по сторонам, как будто на голых стенах чудом могла появиться богоматерь, которая не захотела оставаться на небе и радовать одних только ангелов и с лепестками роз спустилась на грубошерстное пончо Хуана Диэго.
Он потер руки. Не было у падре ее божественного изображения, но ведь, в рисунке и живописи он и сам кое-что понимал. Надо будет воссоздать ее лик и расцветить красками зари. Однако где и как? А почему бы не подумать о розах?… Для того чтобы изобразить богоматерь, не обязательно нужны краски, не обязательно уметь рисовать — достаточно роз и веры. Будут эти прекрасные цветы — будет и она. Если сочетать розовые, белые, желтые лепестки и благоговейно смотреть на них, то можно представить себе ее образ.
Но не было у него роз. Цветы на алтаре сделаны из бумаги; правда, лежали там увядшие гладиолусы да жасмин, обожженный зноем.
Он поспешил в ризницу, чтобы подготовиться к мессе. Его не покидала мысль о том, насколько ограничены возможности человека, который хочет творить. Почему, Гуадалупская богоматерь, твой скромный служитель не может изобразить тебя, — если не лепестками роз или кисточкой, то хотя бы словом? Как ни убоги мои слова, но если ты просветишь меня, то предстанешь живой в этой церкви и на всем побережье. Если ты просветишь меня, если ты вдохновишь мой язык твоим гением индеанки, индеанки, идущей с кувшином к источнику, или на рынок за продуктами, или к себе домой, женщины, помогающей всем… индеанки, для которой нет такой горести, кою она бы не утолила, и нет такой радости, кою она бы не разделила… Индеанка… Индеанка… Индеанка — дочь древней Америки!..
Он так увлекся этим мысленным обращением к индеанке, готовой явиться здесь, где все провоняло этими янки, что с трудом осознал: идет месса, и сам он, молитвенно склонившись, произносит: Confiteor Deo… [34]
Стало легче дышать. Он окинул взглядом переполненную церковь, обернулся и провозгласил: Dominus vobiscum! [35] Благостный ветерок доносился с моря, развеивал духоту последних дней.
После чтения Евангелия он поднялся на кафедру и произнес, словно обращаясь к присутствующей здесь богоматери:
— Индеанка, Индеанка, Богоматерь Америки!
— Этому падресито, видно, нравится рыбка без косточек, — рассуждал алькальд, сидя в парикмахерской. — Смотрите, чего захотел, чтобы богоматерь была из роз и без шипов!
Измученный малярией цирюльник повернулся к нему спиной — так хотелось показать дону Паскуалито, что тот собой представляет! Однако цирюльник сдержался и даже сказал:
— Не в этом суть. Шипы есть и на кактусе. Плод же его приятен, хотя, пока его достанешь, руки исколешь…
Дон Паскуалито понял, что брадобрею плохо и что его раздражение и желчность вызваны болезненным состоянием.
— Мастер, надо бы вам полечиться от этой мерзости. Раньше вы были таким приветливым, а сейчас с вами невозможно стало разговаривать. Раньше вы читали нам «Оракула», а мы играли в домино, в картишки. «Равноденствие» было нашим общественным клубом. А сейчас зайдешь сюда — и сразу чувствуешь дыхание лихорадки.
Как только алькальд ушел и никого из чужих в парикмахерской не осталось, цирюльник позвал Минчу, коренастую некрасивую толстушку, обладавшую широченнейшими бедрами, свою третью законную жену, которую он называл Третьюшкой, и попросил ее сбегать в церковь за падре Феху. Женщина разразилась горькими рыданиями. Она не могла успокоиться до тех пор, пока бедняга с трудом не приподнялся в кресле, из которого он не вылезал последнее время, и не сказал ей:
— Не тревожься, успокойся, глупенькая, а посылаю за падре не потому, что умираю, а потому, что хочу подарить ему образ, который висит у нас в комнате.
Минча полетела в ризницу звать священника. Муж предупредил ее, чтобы она не проговорилась, и она стиснула зубы — пусть ее старик сам скажет падре о своем сюрпризе…
Так и не сказала она падре, зачем его зовут, — а как хотелось Минче рассказать священнику, что его вызывают вовсе не потому, что цирюльнику стало хуже. И Минча поспешила домой. Надо было прибрать в комнате да протереть святой лик — он был заткан паутиной, покрыт пылью.
Падре Феррусихфридо не стал спрашивать, зачем его вызывают. Он и не сомневался в том, что христианская душа намеревается свести счеты с господом богом на пороге кончины. И вскоре он появился в парикмахерской.
— Добрый и святой день… — раздался голос падре за спиной цирюльника, который посмотрел в зеркало, что висело напротив входной двери, и увидел священника.
— Приветствую вас, падре… — ответил дон Йемо.
— Как себя чувствуете?… Я узнал, что вы очень больны… Ваша супруга просила меня прийти… я к вашим услугам…
— Спасибо, что пришли. Сегодня утром, как мне передавали, вы в своей проповеди жаловались на то, что в церкви нет изображения Гуадалупской девы… Сегодня утром, во время проповеди…
Слабость мешала говорить цирюльнику. Он умолк, уставившись в пол, тело его покрылось холодным потом, волосы казались кристалликами льда, а уши стали прозрачными. Жена подошла к нему и смазала пересохшие губы маслом какао.
— Там… — он попытался указать рукой; Минча остановилась — не стоит лишать его удовольствия сделать излюбленный жест, скопированный у Наполеона. — Там, в той комнате, у нас есть образ Гуадалупской богоматери, возьмите его, возьмите в церковь, хочу, чтобы…
Падре Феху не знал, как выразить свои чувства. Он вошел в комнату и упал на колени перед образом, который жена парикмахера сняла со стены и поставила на пол.
Крепко прижимая к груди образ Гуадалупской девы, падре покинул парикмахерскую. На больного он и не взглянул. Даже близость смерти цирюльника не могла омрачить его радость. Пусть покойники заботятся о покойниках. На алтаре своего храма он установит этот образ — он, Феррусихфридо Феху, и все будут повторять за ним:
В розах родилась ты — ни у кого нет сомнения. Так нежные рождаются плоды, сменяя лепестки… о дивное явление! На пончо Хуана Диэго твой лик начертала Свобода. С Идальго в огне сражений ты шла во главе народа!Тут были люди разного возраста — растянувшись на песке, одетые кое-как, они лежали и молчали. Тяжелое это было молчание. Оно наступило с той минуты, как им было предложено бросить работу, если хозяева откажутся повысить заработную плату.
О начале забастовки сообщил человек, недавно появившийся на плантации, — в его голосе прорывалось пламя — пламя земли и солнца, — звали его Андрес Медина.
— Много бананов? — спросил кто-то.
— Много, — ответил вновь прибывший, — все никак не закончат снимать их, у рабочих даже не было воскресенья.
— Должно быть, в порту ожидает пароход…
— Тем лучше.
— Никто не станет грузить бананы, ребята, если не прибавят денег…
— А это не преступление?
— Разве ценить собственный труд — преступление? Мы предупредим их, когда начнется погрузка. Мы заявим, чтобы нам платили больше, а они пусть решают. Будут платить — будем работать. Не заплатят — не будем работать.
— Здорово!.. Они же, конечно, не допустят, чтобы плоды гнили, а пароход простаивал в порту. Это точно, своего мы добьемся — нам повысят заработок.
— Ладно, — сказал другой, — будем считать, что наше собрание на Песках Старателей кончилось. Что касается меня, так пусть меня хоть зарежут — ни одну гроздь не сдвину с места, пока не заплатят столько, сколько требуем. Клянусь…
— Поклянемся все, и пусть это будет клятва Старателей.
Все поднялись. И повторили клятву. Ее слова старики произносили тихо — они уже принадлежали земле. Сорокалетние отрубили твердо. А молодые повторили во весь голос.
Затем они решили обойти другие лагеря и в ближайшее воскресенье снова собраться на Песках Старателей — в тот самый час, когда умер Христос, в три часа пополудни. Если не повысят заработную плату, забастовка остается на повестке дня. Судьба определит, кто первым откажется работать, и этот первый заявит администрации о требованиях рабочих.
Они прошли в лагерь рубщиков кустарника. Словно донельзя загнанные, мертвецки уставшие животные, те отдыхали, распростершись на голой земле, — кто не закрывая глаз, чтобы ощущать, что еще жив, а кто плотно сомкнув веки, в надежде забыться. Они прибыли сюда в воскресенье, чтобы начать работу в понедельник с утра. Для них не было воскресенья, было лишь ожидание работы. Они не спали. Дремота заполняла глубины их сознания.
И вот перед этими человекоподобными, едва прикрытыми лохмотьями, остановилась группа девушек в голубых платьях с белыми воротничками и манжетками, в белых туфельках и голубых чепцах, окаймленных белой лентой.
— «Дозорная башня»!.. «Дозорная башня»!.. «Дозорная башня»!.. — выкрикивали они название журнала, отпечатанного на глянцевой бумаге.
Один из рубщиков стал слушать послание «Благой вести», которое девушка читала на плохом испанском языке, выученном в колледже. Фарфоровые лица, фарфоровые глаза, фарфоровые руки и Евангелие с фарфоровыми фигурками.
Лежащие на земле тяжело дышали, не двигаясь, ни на кого не глядя, равнодушные ко всему. Они были похожи на вьючных животных. Им предстояло вырубать до корня дикие кустарники, вырубать дочиста, чтобы ничто не мешало солнышку глубже проникнуть в землю, прогреть перегной и пробудить жизненные соки земли, — позднее на этом месте разобьют новую плантацию. Труд был нечеловеческий, но они хватались за любую работу в поисках заработка, они шли к морю, где их ждали малярия, ядовитые змеи, смерть.
Пропагандистки «Благой вести» направились к лачугам рабочих. «„Дозорная башня“!.. „Дозорная башня“!.. „Дозорная башня“!..»
Пеоны, лежа в гамаках, — какое же воскресенье без гамака? — над глинобитным полом, рядом с очагом и корытом, жадно смотрели на девушек и широко улыбались, когда те начинали объяснять женщинам и голым ребятишкам слова Евангелия. Потом были розданы журналы.
Старатели разошлись, каждый к себе — кто в лагерь, кто в поселок, кто остался на улице среди вновь прибывших, — к вечеру люди собирались вокруг очагов, чтобы обсудить дела.
— Все к лучшему!.. — раздался чей-то голос; да, это был голос человека, который недавно появился здесь. — Сейчас они рубят вовсю. Что ж, хорошо, луна полная, и они могут рубить даже ночью. Торопятся. Видно, придется им увеличить заработную плату. Конечно, для них лучше повысить нам плату, чем потерять урожай.
Сообщение того, кто разговаривал с вновь прибывшими, было менее оптимистичным.
— Много людей ждут «понедельника с работой»… если мы откажемся, они начнут работать.
— Если начнут они, тогда и нам придется…
— Нет! Я поклялся, что работать не буду, если не заплатят больше. Не подниму ни одной грозди бананов, пусть меня хоть разрежут пополам! А кроме того, кто вам сказал, ребята, что те, кто ждет «счастливого понедельника», не откажутся занять наши места? Им станет известно — нас уволили за то, что мы требуем повышения заработка.
Пришедший с грузчиками из артели, где работали Индостанец, Рей Бенигно, Пахуилон, Тортон Поррас, Шолон, Букуль и Мотехуте, сообщил, что рабочие хотя и обижены на то, что с ними предварительно не поговорили, но все равно самым решительным образом намерены поддержать забастовку.
Бананов собрано много, но немало и безработных, которые готовы приняться за работу, как только грузчики объявят забастовку. Неутешительная картина!
Вряд ли люди, не имеющие работы, откажутся заменить грузчиков, если узнают, почему те отказались работать.
Оратор еще не кончил говорить, как слова попросил человек, пришедший из поселка.
— Вы не представляете себе, где я был… Я был в церкви… Падресито совсем рехнулся… кричит, что мы, рабочие, должны воззвать к гроздьям бананов: «В один прекрасный день вы будете принадлежать нам, вы, ныне принадлежащие другим!..» Он утверждает, что мы не одни на плантациях, с нами богоматерь, а она — такая же, как и мы, чистокровная индеанка… Никаких чужеземных богов! Мать бога — индеанка, и она с нами заодно, у нее мы попросим помощи. Индеанка, босая, черноволосая, с миндалевидными глазами.
— Это ничего не меняет. Срезанных плодов много, но и безработных, ждущих работы на понедельник, тоже немало… — возразил тот, кто разговаривал с прибывшими. Он отошел в сторону, чтобы прочесть записку, только что полученную со станции Рио-Браво.
«Завтрашние результаты повлияют на решение о скорейшем объявлении всеобщей забастовки. Ни шагу назад». Вместо подписи отпечаток ключа.
Он сложил бумажку вдвое, вчетверо, вшестеро, в восемь раз, скатал шариком и проглотил.
— Господь нас создал, а забастовка нас объединит, — сказал он. — В наших местах вновь появился Октавио Сансур. Прошлой ночью я его встретил и узнал, но тут же потерял из виду. Друг Кей — по-английски «ключ», стало быть, с его помощью можно открыть любую дверь, сказал мне, что Сансур был здесь проездом, он хотел тут провести с рабочими беседу о значении этого движения, ведь оно должно охватить Тихоокеанское побережье, а возможно, даже распространиться и на Северное побережье Гондураса. Ведь хотя это и разные компании, все они принадлежат к одному консорциуму, и потому мы должны выступить против них единым фронтом! Кстати, насчет Северного побережья… Клара Мария Суай меня не узнала… Идет и воркует, как голубка, с одним из офицеров гарнизона… Вообще надо бы поговорить с ней, напомнить ей о том времени, когда она работала в кабачке «Был я счастлив».
В лагере постепенно стихали шаги. Раздался какой-то протяжный стон. Быть может, койот. Донесся гудок паровоза. Затем — голоса солдат. Кто-то острил:
— И почему это зной нельзя бросить в тюрьму? Голоса, крики, удары прикладами…
— Что такое?
— Ничего, иди своей дорогой!
— Я здесь живу.
— Ну и отправляйся к себе домой…
— Каркамо, ты?… Не узнал тебя… Я Андрес Медина… Братишка!
— Откуда ты явился, Андресито?
— Да вот из лагеря…
— Работаешь?
— Рублю бананы. А ты? Хотя вижу — в гарнизоне. Сколько времени ты уже здесь?
— Около четырех месяцев.
— Доволен?
— Не очень…
— Я загляну к тебе как-нибудь на днях, когда будешь свободен…
— Заходи, когда хочешь.
— Я принесу тебе хокоте. Помнишь, как я приносил тебе в школу плоды хокоте?…
— Извини, я должен идти, Андресито, мне еще нужно разыскать одного товарища, а путь неблизкий. Мимоходом загляну и в другие лагеря. Что-нибудь знаешь о забастовке?
— Нет… Я провожу тебя…
— А где ты был?
— На Северном побережье.
— Как раз оттуда жена моего товарища, которого я ищу. Ее фамилия Суай.
— А-а…
Шли молча. Андрес допытывался:
— Ну чем ты недоволен?… Тебе ведь, по-моему, неплохо живется: срок службы засчитывается вдвойне, конечно, хорошее жалованье. Можешь покупать все, что хочешь, в комиссариате, а в свободное время играй в бильярд, в карты, пей, танцуй или обделывай делишки с этими гринго…
— Ненавижу их…
— По-английски говоришь?
— Учил их язык, но не говорю…
— Любопытно, а я-то думал, что все офицеры — закадычные друзья этих…
— Это только так кажется… Поговорим лучше о другом… мне о них даже вспоминать неприятно… Да, вот что, не помнишь ли ты случайно Малену Табай? Она по-прежнему директриса школы в Серропоме…
— Уже много лет там… Замуж еще не вышла?…
— Нет!
— Твоя первая любовь, Каркамо…
— Злые языки…
— Постой, как же мы тебя в школе прозвали?… Ах да!.. Быкосел.
— Это прозвище в первой своей части меня не возмущало, я действительно походил на быка, боевого быка. Но вторая… Впрочем, если оно касалось лекций, то я и впрямь был упрямым ослом…
— Таким и остался… Нет, я не об упрямстве… Ха! Ха! Ха!..
— Знаешь, я предупрежу моего приятеля, что мы пришли… Капрал Ранкун!..
— Слушаюсь, мой капитан! — Капрал встал по команде «смирно», вскинул винтовку; левая рука его скользнула по груди и легла на оружие.
— Заведи будильник.
Капрал вышел, и через мгновение послышался выстрел.
— Мы готовимся к расстрелу, — произнес капитан загадочным тоном.
Пока капрал Ранкун докладывал капитану Каркамо о выполнении приказа, в дверях, прикрытых нависшей ветвью дерева, показался в свете фонаря темный силуэт капитана Саломэ.
— Андрес Медина… — представил ему Каркамо своего друга.
— Хосе Доминго Саломэ, — ответил офицер, пожимая руку Медины.
— Очень рад! — произнес Медина.
— Этот товарищ ну как бы мой брат, — пояснил Каркамо, — мы из одной деревни, одногодки, вместе росли…
— Я прощаюсь с вами, сеньоры офицеры… Вам, очевидно, пора возвращаться в казармы, а я тороплюсь в свой лагерь.
Они простились. Медина прошел мимо гигантских кактусов и скрылся в зарослях сахарного тростника и кустарника. Как только шаги офицеров стихли, он бесшумно приблизился к дому, обойдя его с другой стороны и передвигаясь совсем по-обезьяньи, — он крался чуть ли не на четвереньках. Сквозь щели в стене, сбитой из плохо пригнанных досок, он смог разглядеть освещенную комнату. По комнате расхаживала Клара Мария — нагая, высокая, с полной грудью, статная, как кобылица. Как бы в нерешительности она шагала взад и вперед, вдруг на какое-то мгновение спиной прижалась к стене, совсем рядом с Мединой, и он ощутил запах ее смуглого и плотного тела, разглядел даже возле поясницы крестообразный шрам — след хирургической операции. Внезапно свет потух. Очевидно, от дуновения ветра. Она снова зажгла. Клара Мария рассматривала себя всю — с головы до ног. Почесала бедро. Эх! Эх! У колен виднелись голубые вены. Москиты, видимо, не давали ей покоя. Она взмахнула рукой. Вдруг ей почудился шум. Она быстро обернулась, одним прыжком бросилась к столику, стоявшему у постели, схватила револьвер.
— Кто там?… Говори, или стреляю…
Никого… Ветер… Стон дерева, жалующегося на жару. Накинув на себя легкий халатик, она вышла на порог. Увидела падающую звезду и поспешила загадать желание. О чем она подумала?
XXV
Ночь продолжалась. Воскресенье продолжалось в ночи. Кусочек луны, упавший в воду, — мертвый язык луны, а сама она, холодная, спускалась по знойному горизонту. Еще не рассветало. Никаких признаков раннего рассвета. Не рассветало для тех, кто на побережье надеялся увидеть вздымающийся из моря зеркальный луч утренней зари. Почему же запели петухи? Рассвет? Нет, это не рассвет. И не петухи поют. Совсем иные шумы сметают молчание, как мусор после воскресенья, после пения петухов и подземного шествия скованных теней.
Дождливый день. Это дождь понедельника. Дождь сыплется на полуголые тела рысцой бегущих на работу людей. Самодельные сандалии — каите, набедренная повязка или трусы и сомбреро. Восемнадцать лет, двадцать лет, двадцать два года…
Если не выйдет солнце и не разгонит дождь, наступит день воды. Только явится ли солнце — рассвет все не наступает. Ничего хорошего — грузить бананы в перерывы между ливнями. Ничего хорошего, ничего. Но еще хуже — под моросящим дождем. Все скользкое. Гроздья бананов и земля. Земля как кожура банана. И, однако, все не светает. Ноги так и цепляются за землю — иначе поскользнешься и свалишься со всем грузом. Опять слышны петухи. Какие-то шумы. Однако все не рассветает. Дождит. Но вот кто-то выругался, наткнувшись на товарища. Не со зла. Нечаянно. Слово зазвучало угрозой, оброненное одним и подхваченное другим. Кто из двоих сказал его? Кто услышал? Тот, кто наткнулся, или тот, с кем он столкнулся? Так частенько случалось в часы рассвета, когда рождается понедельник, в часы, когда полуголые люди рысцой спешат на работу. Нынче рассвет так и не наступил, но все спешат рысцой под дождем. Восемнадцать лет, двадцать лет, двадцать два года… У каждого на голове сомбреро, они идут чуть согнувшись, чтобы кипяток тропического ливня не попал бы в лицо. Вдруг остановились идущие впереди, за ними — те, что шли посредине, потом — те, которые замыкают шествие. Грузчики окружают человека, закутавшегося в резиновый плащ; под капюшоном — пробковый шлем, из-под плаща видны башмаки на резиновой подошве. Освещает его желтый свет фонаря, раскачивающегося в руках. Еще фонари. Приближаются еще фонари. Издали эти желтые, раскачивающиеся огоньки кажутся похожими на ос, жалящих руки людей под капюшонами. Еще фонари, еще. Чваканье воды вокруг человека в плаще вызывает тоскливое чувство. Под звяканье цепей и лязг сцеплений тащится поезд под надзором десятников и time-keepers. Вот он замедляет ход, дрожит где-то в глубинах ночи. Горы, вулканы бананов. Вздрагивает земля под тяжелыми колесами, что катятся по рельсам, уложенным на шпалы, похожие на рассыпанные спички. По мере того как грузчики приближаются к месту погрузки, взмахи фонаря в руке у старшего, идущего в сопровождении десятников и timekeepers, становятся все резче. Поезд с натугой тормозит, но некоторое время еще продолжает тащиться по рельсам, посыпанным песком, между двумя рядами грузчиков. Порядок в рядах нарушает горячий ливень, бьющий по банановым листьям с такой силой, что, кажется, готов измочалить их. Позади — слепая, вязкая, клейкая вода; впереди — вагоны, ожидающие погрузки, стены и цинковые крыши, по которым гулко барабанит ливень.
Человек в резиновом плаще — плащ топорщится на человеке, как панцирь черепахи, — медленно поднимает фонарь к лицу рабочего, закрытому сеткой дождевых струй, скатывающихся с полей пальмового сомбреро — единственной защиты грузчика от дождя. Человек в плаще держит фонарь перед лицом рабочего, прямо перед лицом — так, словно он не разглядеть его хочет, а сжечь, хоть и неизвестно ему даже имя грузчика… И этот жест он повторяет, останавливаясь то перед одним, то перед другим, и свет каждый раз вырывает из тьмы лицо мужчины, полуодетого, почти голого. Рабочие бросали в ответ соленые словечки, которые из-за шума воды, правда, трудно было расслышать.
Старший взял свисток. Сжал его зубами. Свистнул. Еще и еще раз. Пронзительный свист, отозвавшийся далеким эхом, словно оставил тут какой-то свой осколочек — звук, похожий не то на отрыжку, не то на икоту. Всякий раз, когда свист старшего десятника возвещал о начале погрузки, слышалась чья-то икота. Десятник поставил фонарь на землю, но не потушил его. Стало светлее, ливень утихал. В стеклянном сосуде с собачьим намордником горел зрачок под тысячей грустных струек. Оставив фонарь на земле, десятник прошелся, задевая плащом тела грузчиков, отказывавшихся грузить плоды, если им не повысят поденную оплату. Работать не работали, но вместе с тем они не уходили с работы, — и это обстоятельство вызывало беспокойство десятников, которые многозначительно помахивали туго сплетенными бичами из сыромятной кожи манати — морской коровы или быка. Зачем же принимать вызов? Нет надобности бить, когда можно просто вытолкать их кулаками, а если потребуется прибегнуть к бичу — что ж, тем хуже. Ведь именно для этого поставлены десятники — для того чтобы начальство не пачкало руки об этих дураков. Беспорядки. Что ж, быть может, и произойдут беспорядки. Все идет к тому. Разве только пойдут им на уступки и повысят плату за поденщину — в противном случае придется пустить в ход бичи. Конечно, банановых гроздьев нарублено так много, что сейчас лучше не подливать масла в огонь. С чего обычно начинаются беспорядки — всем известно, но никто не знает, чем это может кончиться. Впрочем, кончается дело обычно тем, что из комендатуры присылают вооруженных солдат и под ударами прикладов кое-кого уводят. Однако пока ждешь — портятся бананы. Гибнут бананы. А что угрожает этим бездельникам? Ничего. Замученным людям, бледным, изнуренным, все равно — что ласка, что удар. А Хуамбо икал — это он икал. Икал он за себя и за всех остальных — от голода.
— Тише, тише!.. — Старший десятник остановился перед ним.
Однако Хуамбо от страха не только не прекратил икать, наоборот, стал икать еще громче. Его товарищи, выстроившиеся двумя рядами, выжидали. Тяжело опустив руки, они стояли перед грудами бананов, которые нужно было снять с платформ, на плече перенести в железнодорожные вагоны, а затем транспортировать в порт, откуда на судах эти тропические плоды увезут в те земли, где нет земли, где все из стали, стекла и цемента и где даже люди кажутся законсервированными. Руки без каких-либо тайн, выхоленные, заботливо ухоженные, поднесут фрукт тропиков ко рту, к зубам, тщательно вычищенным щеточками и пенистой пастой, а изо рта, проскользнув в гортань с удаленными миндалинами, сладкий плод попадет в желудки этих созданий, так похожих на растения.
Свисток привел в движение людей, бродивших в ожидании работы по лагерю. Быстро взвалить на плечо груз! Никто не хотел оставаться позади. Быстро взять груз! Они уже приготовились к атаке и по первому сигналу ринулись в бой. Горе тому, кто спотыкался и падал, — ноги ступали прямо по нему. Скорее взять груз! Быть одними из первых. Под светом фонарей десятников, указывавших путь, они шли группами, подставляя лица под водяные иглы ливня, которые то скользили по коже, то пронзали до костей.
— Жалованье, видишь ли, им прибавляй, когда рабочих рук вон сколько… Надо быть идиотами… — протянул старший, увидев толпу людей, жаждущих работать.
Бананов собрали много, а тут еще эти осложнения да ливень — подрядчику нужно было любой ценой сохранить рабочие руки ранее законтрактованных и вместе с тем не потерять и тех, кто пришел вербоваться.
Небо прояснялось. В разрывах облаков виднелась ясная голубизна. И пока десятники ставили на землю фонари, они могли увидеть глаза этих людей, обожженных зноем побережья, — вылезающие из орбит глаза без век, — и глаза людей, пришедших с гор, — подернутые дымкой недоверия.
Первый в ряду законтрактованных, отказавшихся грузить, стоял на страже, рядом с грузом, — он говорил громко, чтобы его слышали все: и эти безработные, пришедшие сюда завербоваться, и те, кого собирались прогнать отсюда.
— Мы не будем грузить и не позволим другим грузить бананы, если не повысят поденную плату, не повысят жалованье для всех! То, что нам дают, — очень мало, не хватает на жизнь! Ни одна гроздь бананов не сдвинется с места, пока нам не повысят заработную плату! Ни одной грозди, если не повысят заработок!.. — закричал он еще громче. — Ни одной грозди, если не повысят заработок! — кричал он, напрягая легкие. — Повышение заработка для всех!.. Для всех! Заработка для всех!
Его слова подхватили:
— Повышение заработка для всех! Для всех! Для всех!
Старший приблизился к зачинщику, но тот успел заметить его и вовремя уклонился от удара.
— Убирайся! Все убирайтесь вон! — кричал старший. — Дайте место другим! Новенькие — по местам!.. Те, кто не желает работать, убирайтесь!..
В толпе безработных, сгрудившихся под дождем, точно пробежала искра, однако они не сделали ни одного шага в сторону шеренги рабочих, из которой десятники ударами кулаков и рукоятками бичей пытались вытолкать тех, кого они считали зачинщиками.
— Никакого насилия! Никакого насилия! — кричал старший и, не теряя времени, расставлял новичков по местам — их освобождали те, кто упал или кто ринулся в схватку с десятниками. — Грузите, ребята! Грузите, живей! Давай, давай! Все, все на погрузку! Пошли, чего ждете? Плоды могут погибнуть!
Никто из безработных не сдвинулся с места. Они стояли молча. А десятники продолжали сражаться с бунтарями.
— Негодяи!.. Какое свинство! Вы пользуетесь тем, что плоды не могут лежать на платформах!..
Голос старшего зазвучал просительно:
— Так будете или не будете грузить? Вам же дают работу! Ну-ка, начинайте! Пошли! За работу! Сгружай! Сгружай!..
— Не будем грузить! Раз так, мы не будем грузить, патрон!.. — воскликнул пока еще несмелым, но уже крепнувшим голосом самый высокий в ряду.
— А чего это голос у тебя дрожит, не бойся, выкладывай! — закричали ему сзади. — Да, мы пришли искать работу, но раз такое дело — отказываемся грузить!
— Не спорьте, бананы портятся!
— А почему вы отказываетесь платить больше?
Десятники присмирели. Старший направился в застекленную контору обсудить вопрос об увеличении поденной платы. Дождь обливал слезами стекла конторы, за которыми сидели белобрысые чиновники, одетые в сверкавшие белизной тонкие сорочки, выглаженные только что, утром, — конторы, где господствовал свежий воздух, отдававший ароматом дезинсектирующей жидкости, и где время показывали электрические часы со светящимися циферблатами.
Сморщились лбы, напряглась окаменевшая кожа — окаменела потому, что вода, которой они умывались, была очень жесткая. Да, вопрос посерьезней, чем какое-нибудь изменение цифры баланса: речь идет об увеличении сумм заработной платы!
Управляющий зоной находился в соседнем кабинете, но его вызвали по телефону и стали вести с ним переговоры так, как будто он находился далеко отсюда. В блокноте управляющего появился маленький рисуночек: ковбой, набрасывающий лассо на рога быка, — словно отражение этой беседы. Управляющий сделал этот рисунок машинально, пока отдавал распоряжение увеличить заработную плату.
Старший прибыл с новостью.
— Повысили!.. Повысили!.. — Это слово зазвучало со всех сторон. — Ну, людишки! — раздался чей-то голос. — Давайте, давайте, начинайте работать, пошли, принимайся за работу, плоды должны поступить вовремя…
От платформ к вагонам, взвалив бананы на плечи, цепочкой двигались люди, не глядя друг на друга, — они уже успели обменяться взглядами: надо особенно зорко охранять двоих людей: Андреса Медину, того, что выступил с призывом к стачке, и седого рабочего, который уговаривал незаконтрактованных не приступать к работе.
Хуамбо ушел с плантации в поселок, из поселка — к себе домой, а затем снова вернулся в поселок. Его продолжала мучить икота. Даже матери он ничего не сказал. Прошло несколько часов. Он уже не икал, а плакал. Плакал. Что же такое он проглотил? Кто это плачет в его животе? Малыш. Братишка. Так мать сказала. Она положила ему тряпку с горячей золой на желудок и начала петь, баюкать его… нет, не его — братишку, братишку, которого он проглотил. Несколько глоточков анисового цвета. Еще несколько глоточков анисового цвета. Мать знает, что хорошо, а что плохо. Только она одна знает, что хорошо, а что плохо для ее сынка и для братишки, который плачет и плачет у него в животе. Икота — плач братишки. Зачем он пришел в парикмахерскую? Измученный болью, которая вонзилась меж ребер, болью в челюсти, скрючившийся, с глазами, похожими на клубни с корешками ресниц… Он пришел, потому что подумал, что вид мертвеца его испугает. Не испугал. Мастер-цирюльник умер, а он не испугался. И все продолжал икать. Говорят, что люди никак не могут привыкнуть к смерти, но они не боятся мертвых. Он должен был бы бежать, воя от ужаса. А он икал. Встревожил всех, кто находился возле тела покойника, нарушил торжественную обстановку последнего перед похоронами дня, когда почивший лежал в своей постели меж четырех свечей, среди венков из ветвей кокосовой пальмы и жасмина, окруженный родными и друзьями. А к чему, собственно, ему, Хуамбо, прикидываться, играть какую-то роль? Эта икота нарушает торжественность церемонии похорон мастера, который уже никогда не услышит чего-либо подобного в своем доме. Пожалуй, не стоит ломать голову над разными вопросами, тогда икота пройдет скорее.
— Было бы лучше, если бы вы вышли во двор, господь вас возблагодарит, он все видит… — обратилась к Хуамбо какая-то женщина, одетая в траур, настойчиво приглашая его перейти из комнаты, где лежал мертвый цирюльник, в соседнюю, рядом с парикмахерской. Зеркала и картины были затянуты белой марлей.
На бдении около покойника падре Феху был почти до одиннадцати ночи. Вечером он оказал последние услуги умирающему. С того момента, когда брадобрей принес в дар церкви лик Гуадалупской богоматери, он не приходил в сознание.
Священник вышел вместе с Пьедрасантой. Хуамбо поплелся за ними. Настиг он их уже в середине площади.
— Сеньор священник, сеньор священник, я хочу исповедаться вам, это у меня не икота. Это ветер ворочается!..
Икал он… Икал…
— Я проглотил ветер, чтобы выплюнуть всю мою ненависть в лицо старшему десятнику… во время стачки… он отказался повысить нам заработок… мы отказались работать… и я просил бога, чтобы он позволил мне убить его… икотой, да-да, расстрелять его, изрешетить… икотой, икотой…
— Успокойся, сын мой, грехи тебе отпущены… А что, стачка была?
— Да, падре…
— Серьезная?…
— Не слишком серьезная, однако… Надо защитить Андреса Медину и еще одного, седого — он главный у безработных…
— Не обращайте на него внимания, — вмешался Пьедрасанта. — Болтает, что на ум взбредет, как и все мулаты. Какая там стачка!.. Посмотрите, сколько оружия подготовлено в казармах…
— Господь с тобой… — Падре Феху положил руку на плечо Хуамбо, — Самбито вытянул губы, словно приготовился свистнуть, — и, вздохнув, начертал крест перед его лицом.
Жена Пьедрасанты в ладони левой руки растирала листок руты. Увидев своего супруга и падресито, она с еще большей силой стала растирать листок пальцами правой руки, пока он не превратился в зеленую кашицу, затем вложила ее в ноздри и глубоко вдохнула аромат, дремавший в руте. К вискам ее были приложены ломтики сырого картофеля; она только что выпила настойку из лекарственных трав и бикарбонат натрия: все еще побаливал желудок. Но сейчас она уже почти оправилась от нервного потрясения после увиденного в парикмахерской.
Она заглянула туда, чтобы справиться о здоровье больного, а заодно попросить немножко душистой эссенции, ароматизированного спирта или одеколона — подлить во флакон с парафиновым маслом, который она принесла с собой. Если все это смешать и взболтать, то получится превосходный эликсир для волос — они становятся блестящими, шелковистыми, их легче завивать.
Парикмахер не ответил на ее приветствие, хотя она поздоровалась еще с порога, как требует хорошее воспитание, — и тогда она подошла к его креслу, думая, что он спит. Да, он и в самом деле спал, но так крепко, что, казалось, потерял сознание. Его лицо покрыли мошки и москиты, словно зеленый намоскитник, словно ожившая изумрудная сетка то спускалась, то поднималась, то растекалась по лбу, по щекам, губам и векам.
У нее замерло дыхание, сердце остановилось — с задрожавших губ жены Пьедрасанты, с которых еще не сошла улыбка, сорвался стон. Она прикоснулась к парикмахеру и отпрянула, выкрикнув два слога:
— Мерт…вый!..
Сеньора Минча, жена цирюльника, — кто ее знает, законная или нет, горе и радость в равной степени испытывают незаконные и законные, — вышла на крик. Руки в мыльной пене — парикмахерша стирала простыню. Опять сердечный приступ, обморок? Пока она вытирала руки, все время бормотала: «Сердечный приступ или обморок?» И вдруг будто проглотила слова — поняла все. А поняв, разразилась плачем — ее муж не просто потерял сознание, он потерял жизнь.
Она расстегнула, нет, разорвала его рубашку, но, кроме звука рвущейся ткани, так ничего и не услышала, когда прижала ухо с большой золотой подвеской к груди мастера. Впавшая грудь, ребра, волосы. Из глаз ее тихо полились слезы. Она не услышала того, что ожидала услышать, — сердце, живое сердце. Но мертвое сердце — это уже не сердце. Из шкафчика в парикмахерской достали флакон с одеколоном, смочили ей голову, лоб и все никак не могли оторвать ее от коченевшего тела. Воздуха, воздуха!.. Однако не воздуха ей не хватало. Вернулись в комнату друзья, которые оставляли ее наедине с покойным. Они застали ее все в той же позе — она задыхалась, судорожно исказившиеся губы не могли вымолвить ни слова. Минча будто хотела поднять руки, заткнуть уши руками, не слышать голосов, не видеть тех, кто окружал ее, кто пытался утешить. Соболезнования… соболезнования… соболезнования… Мошки, облепившие зеркало, что висело напротив кресла с телом покойного, как будто продолжали пожирать его отражение.
Бдение у останков ушедшего из жизни. Свет свечей и ламп не поднимается ввысь — он падает, тает. Падает со стен, с потолков, с мебели — отовсюду, падает и ложится на пол. В комнате оказалось мало места для прощающихся — собралось больше женщин, чем мужчин; мужчины выходили на улицу, рассаживались на стульях и скамьях перед домом, устраивались поудобнее, обмахивались шляпами, отгоняя насекомых, вытирали платком ручейки пота; курильщики затягивались сигаретами, пьющие беседовали о напитках, были и такие, которые даже в столь скорбный момент заключали пари, играли в карты и в кости, рассказывали пикантные анекдоты или любовные похождения.
Дон Лино Лусеро пришел на бдение с горящей гаванской сигарой во рту — такой длинной, что казалось, она достает до губ собеседника, золотая цепочка свисала с живота пятидесятилетнего толстяка, а его палка походила на корень.
Вдова поблагодарила его за внимание, а когда она отошла поздороваться с другими посетителями — люди все прибывали и прибывали, — к дону Лино приблизился Флориндо Кей, ветеран первой европейской войны, прибывший на побережье как представитель фирмы фармацевтических и москательных товаров.
Его одиссея почти тридцатилетней давности, между прочим, удостоилась стихотворения, созданного одним поэтом-юмористом, который, правда, на этот раз писал в серьезном тоне:
Ушел волонтером чапин на войну, Надеясь прославиться там, прекрасной считал он лишь славу одну…На этом стихотворение обрывалось. Во время войны он приезжал на родину в форме французского солдата — «poilu» и выступал с докладами, дабы поднять, союзнический дух «parmi les indiens» [36].
Флориндо — ветеран первой мировой войны, и это звание служило ему больше, чем слава героя Вердена, к тому же многие путали слова «ветеран» и «ветеринар», — был он тогда молодым красавцем, вызывавшим алчные взгляды женщин; он галантно раскланивался, ему отвечали поклонами мужчины, чаще всего сверкавшие лысинами. Как только в зале гас свет, Флориндо становился таинственным голосом, который давал пояснения к фильму.
— Voila Verdun!.. [37] — выкрикивал он, когда на серебристой простыне возникли горы трупов, усы и каски, пушки разных калибров, фонтаны земли и камней, взлетавших от разрыва снарядов.
— Voila les taxis de la Marne! [38] — провозглашал Флориндо, когда на экране появлялись парижские улицы (он называл Париж просто — столицей) с идущими по ним бронированными чудовищами, которые обеспечили победу.
— Voila les «berthas»! [39] — На экране показались орудия, с помощью которых боши надеялись покончить с Парижем…
Затем Флориндо Кей вернулся на фронт. Закончилась война — он демобилизовался и остался во Франции. Друг и ученик Анри Барбюса, он вступил в группу «Clarte» [40] и перевел книгу учителя «Le couteau entre les dents», опубликовав ее на испанском языке под точно переведенным названием «С ножом в зубах».
Тридцать лет… легко сказать… Они промелькнули перед Флориндо, когда он пожимал руку дона Лино Лусеро, внешне так похожего на его отца, такого же добродушного. Приветствуя Лусеро, он спросил нарочито озабоченным тоном:
— А у вас дома сейчас спокойнее? Хотя, видимо, да, поскольку вы решили прийти. Опасность, как говорят, была велика… Какое варварство!
— Фитили к динамиту, которым хотели взорвать дом, не обнаружили, но похоже, что кое-кто собирался обратить нас в прах.
— Над этим стоит призадуматься… Не хотите ли присесть?
— Спасибо, возьмите себе этот стул, а я сяду здесь.
— Я полагаю, вы уже в курсе всех событий? — Кей понизил голос. — Была попытка объявить стачку среди грузчиков.
— Да, да, и поговаривают о всеобщей забастовке… — протянул Лусеро утомленным голосом; он вынул сигару изо рта и снова воткнул в губы, наслаждаясь ее ароматом.
— Сегодняшнее столкновение может быть пробным шаром: они хотят узнать настроение рабочих, а также реакцию Компании и властей. Рабочие выдвинули требование — повысить заработок, в противном случае они собирались объявить стачку, и «Платанера» пошла на уступки. Однако не это самое важное. В любой борьбе опасно уступать позиции. Но особенно тревожит меня то, что люди, пришедшие искать работу, отказались заменить стачечников.
— Ах, вот как? Этого я не знал. А ну, расскажите-ка, расскажите!
Лусеро уронил пепел сигары на лацкан пиджака и погрузился было в глубокое раздумье, похожее на дремоту, однако слова Кея его встряхнули — лицо у него оживилось, как-то потеплело, словно у него вызвали симпатию эти неизвестные страдальцы, которые из чувства солидарности со своими товарищами не подняли ни одной банановой грозди.
— Много рассказывать нечего… — заметил Кей осторожно, — я только хотел бы обсудить с вами…
— Да, да, события приобретают совсем иное значение. Это проявление классового сознания, и подстрекатели всеобщей забастовки сумеют, конечно, этим воспользоваться. Если животные инстинктивно объединяются, сплачиваются в момент опасности, почему бы не объединиться людям?
Пепел гаванской сигары мрамором украсил лацканы пиджака Лусеро. Кей попытался в глазах Лусеро прочесть, не считает ли тот и его, Флориндо Кея, «подстрекателем».
— Самое худшее, дон Лино, что дела идут из рук вон плохо. А мои хуже всего. Никто не покупает лекарств. Все чего-то ждут, все считают, что единственное средство от любой болезни — всеобщая забастовка. Вы смеетесь? Нет, я не шучу. Ведь и наш мастер умер с верой в то, что исцелит его лишь забастовка.
Обрисовав таким образом положение своих дел и основательно защитившись, как он считал, от любого подозрения, Флориндо Кей перешел к атаке:
— Если Компания… «Тропикаль-тропосферическая», как вы ее называли в свое время, не сможет справиться со всеобщей забастовкой и пойдет навстречу требованиям рабочих, то это будет началом ее конца. За нынешними конфликтами последуют другие, все больше и шире. Прольется кровь, как в Бананере, и…
— Сомнения нет, обстановка мрачная, — согласился Лусеро.
— Это следовало бы втолковать сенатору Клаппу, который, по слухам, должен провести два или три дня у вас в гостях. Он действительно собирается приехать или это только слухи?
— Мы ждали его. Бывают ложные слухи, которые опережают события и приводят к забавным последствиям. К приезду сенатора в доме начали отчаянную подготовку. Иллюминация на лестницах, в залах, в саду… И вот однажды кто-то поднимается по лестнице… Сенатор!.. Сенатор!.. Ха, ха!.. Как вы думаете, кто это был? Мулат, слуга президента Компании Мейкера Томпсона. Просто беда!
— А зачем он явился?
— Приехал на побережье навестить свою мать, она очень старая, живет одна. Так, во всяком случае, он говорит. Однако я надеюсь подобрать ключ…
Флориндо закашлялся, чтобы скрыть замешательство, которое вызвали у него слова Лусеро. Разве не Флориндо встретился с мулатом той ночью чуть ли не у самой лестницы «Семирамиды»? Разве не он убеждал мулата взять на себя роль блудного сына?
— Мне хотелось бы знать, зачем он сюда явился, с какими целями, чем занимается, о чем подумывает. Было бы мерзко, если бы он оказался заодно с забастовщиками, мерзко, мерзко…
— Нет, дон Флориндо, нет. Он явился сюда потому, что неразлучен с внуком Мейкера Томпсона, Боби, который приехал к нам погостить на каникулы.
— Вы правы, это ключ к загадке… — с облегчением вздохнул Кей. — У старых слуг, как у собак, в крови привязанность к хозяевам — и она передается от дедов и прадедов к сыновьям и внукам.
— А вот и Зевун! — пробормотал Лусеро, заметив коменданта, который направлялся к ним в сопровождении Хуана, брата Лино.
От бесконечных слез и сморкания нос вдовы стал совсем красным и походил на маленькое пунцовое пятнышко, а она все терла его и терла платком, опять сморкалась и всхлипывала.
— Вы не представляете себе, как я вам благодарна. Вы пришли проститься с ним в его последнюю ночь… — И она снова разразилась плачем — …Я так благодарна вам, сеньор комендант, и вам, дон Хуан, вы все такие добрые! Еще вчера бедняжка в совершенном отчаянии решил, что на побережье не видать ему счастья, решил прикрепить к дверям парикмахерской — не знаю, убрали ли ее? — картонку, на которой собственноручно написал: «Продается в связи с отъездом…» Он был так воодушевлен возможностью уехать и все говорил: «Как приеду в столицу, так сразу же обращусь в Братство парикмахеров, буду просить коллег заявить о солидарности с рабочими „Тропикаль платанеры“, если объявят всеобщую забастовку…»
— Так он говорил?… — Комендант прикусил верхнюю губу так, будто хотел прикусить заодно и щетину усов. — Значит, так говорил…
— Это все от лихорадки, сеньор комендант, у него рассудок помутился… — вмешался один из завсегдатаев «Равноденствия». — В последние дни он был совсем невменяем, а тут еще ему эту листовку подсунули под дверь… насчет «всеобщей забастовки»… так он и вовсе рехнулся… Бедный дон Йемо!..
— В каталажку попал бы, — если бы не умер! — заявил комендант. — Что, в самом деле, было бы, если бы каждый начал учинять беспорядки, будоражить Братство парикмахеров?!
— Да ведь он был членом… мой хозяин-то, был членом Братства! — поясняла Минча сквозь слезы, и в голосе ее послышалась обида. — Там, в его бумагах, даже диплом есть, и мы аккуратно платили взносы и откликались на все призывы!.. — Она повздыхала и снова заплакала. — А теперь, когда он умер, Братство должно ответить на призыв о помощи.
— Во всем этом, во всем, что не касается призывов к забастовкам и тому подобной чепухи, я вреда не вижу.
— Вот этого я не знаю…
— А известно вам о его подарке мексиканскому падре?… Изображение Гуадалупской девы?…
— То была его последняя воля…
— А почему он это сделал?
— Здесь, в комнате, ее не было видно, а падре так хотел достать образ для церкви. Я так думаю…
— Богоматерь Америки… она была на штандарте Идальго… Покровительница индейцев!..
Комендант, на ходу бросая слова, направился к двери в сопровождении дона Хуана Лусеро. Как только они вышли на улицу, за ними выскочили два добровольных прислужника со стульями, которые они поставили на тротуаре. Ночь, вначале такая ясная, глубокая, звездная, сейчас, опустившись на землю, превратилась в раскаленный утюг.
— Без всяких церемоний, дон Хуан. Присаживайтесь, я устроюсь тут.
Они уселись. Отойдя в сторону, но не теряя из виду своего начальника, капитан Каркамо беседовал с Андресито Мединой.
— Та женщина, да, действительно меня любила, Андрей…
— Поезжай, если она тебя любила…
— С тех пор я ее не видел. Думал даже, что она уже умерла.
— А чем она не покойница? Стать директрисой школы в какой-то глухой деревушке — все равно что похоронить себя заживо.
— Мне так хотелось бы написать ей, Андрей.
— Зачем же делать ей больно, если ты уже ее не любишь? Мертвых надо оставить в покое…
— А если я до сих пор ее люблю?…
— Тогда надо ее воскресить… любовь возвращает жизнь.
Им подали рюмки на подносе, и быстрее, чем пропел петух — какие-то петухи, впрочем, уже давно пропели, видно, их сбил с толку свет, лившийся из окон и дверей дома покойника, — Каркамо осушил одну за другой три рюмки коньяку и выпил бы еще, да больше не оказалось.
— Должно быть, она постарела… — произнес капитан, облизав губы, чтобы еще раз ощутить вкус коньяка, опалявшего его огнем.
— С тех пор прошло много лет…
— А ты помнишь, почему мы тебя стали называть Андресм?
— Как же не помнить? Твой братишка так всегда меня называл.
В молчании, царившем возле дома покойника, послышался тяжелый вздох капитана.
— Малена Табай!.. — произнес он тихо и горестно.
— Капитан Каркамо! — окликнул его комендант.
— Слушаюсь, мой майор! — подскочил капитан Каркамо.
— Вот что, сейчас же пойдите и заберите все бумаги этого парикмахера. Все бумаги, какие только найдете в доме, будь это его документы или сеньоры, заберите и отнесите ко мне в кабинет, откроете его сами. А затем возвращайтесь сюда. Возьмите ключ!
Каркамо отдал честь, круто повернулся на каблуках и отправился выполнять приказ.
Из ящиков всех столов, что имелись в доме — их было немного, — капитан с помощью адъютантов коменданта вытащил письма, фактуры, рецепты, заметки, вырезки из газет, фотоснимки, приглашения на свадьбу, извещения о похоронах и, наконец, знаменитый диплом, подтверждавший его титул члена-основателя Братства парикмахеров, вложенный в пакет, на котором был изображен череп и скрещенные кости.
Андрес Медина тенью соскользнул с места, услышав приказ, полученный капитаном Каркамо, и пододвинулся к Флориндо Кею. В эту минуту Кей обсуждал с доном Лино Лусеро вопрос о роли печати в забастовке.
— Газеты, которые сегодня выступают против забастовки, дон Лино, и которые оправдывают, ссылаясь на необходимость охраны общественного порядка, убийства рабочих на плантациях Карибского побережья, — это те же самые газеты, что во времена Лестера Мида, когда вас арестовали за организацию кооперативов, требовали ваши головы. Эти газеты обвиняли вас в причастности к заговору против безопасности государства. Что вы на это скажете?… Простите, я вас должен покинуть, я не прощаюсь. Мне нужно переговорить с этим человеком, он распространяет мои медикаменты.
— Ну, как поживаете?… Я и не знал, что вы здесь… Как дело с продажей? Получили новые заказы?…
Они отошли, разглагольствуя о хинине, уродане, сарсапариле. Новость горела на губах Медины.
— Майор приказал обыскать дом, конфисковать все документы.
— Когда? — быстро спросил Флориндо.
— Только что…
— Кому приказал?
— Капитану Каркамо… приказал, чтобы Каркамо лично обыскал дом и унес все в его кабинет.
— Мы не должны допустить…
— А как? Все ушли на праздник на Песках…
— Не знаю как, но мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока схватят наших связных, которых мы даже не сумели предупредить.
— Единственная надежда, что старик все компрометирующее сжег.
— Мединита, нужно немедленно действовать. У меня есть оружие, и нам следует скрыться, пока не поздно. Сейчас приведут вдову, чтобы она простилась с мужем перед тем, как положат его в гроб…
Жена Пьедрасанты и другие женщины вели, легонько подталкивая, Минчу — от горя та еле переставляла ноги; вдова была одета в черное платье, походившее скорее на черную ночную сорочку. Они ввели ее в комнату, где покоился дон Йемо. Волосы парикмахера смочили хинной водой. От дона Йемо по комнате распространялся аромат, как от деревянного изваяния святого, на которое натянули костюм, хранившийся многие годы. Одели его почти во все новое. Словно понимая, что одевать окоченевший труп трудно, мастер не спешил коченеть. Казалось, он не хотел застывать. Ведь, застывая, тело теряет последние признаки жизни.
— Бедняга был такой покладистый человек, только климат ему не нравился, — рассуждал алькальд, — и вот теперь уляжется в холодную землю, не успел даже продать свое заведение. Вы не читали объявление на дверях парикмахерской: «Продается в связи с отъездом…»? Обратите внимание — поставил многоточие, словно предчувствовал… Бывает такое многоточие, похожее на предчувствие…
— О-о-он пош-ш-шел в Топ-па-па-ледо… — заикаясь, произнес музыкант, который на мессах обычно подпевал священнику; пел он как-то очень жалобно, невероятно коверкая латынь и громко выкрикивая отдельные слова.
— Что за Топаледо, где это? — спросил алькальд.
— В вв-в-ва-шей… юр-рр-исдик-дик-ции, дон Пас… Паск… Паску… алито…
— Не знаю, не знаю. Любопытно, что люди нездешние знают больше меня.
— Н-на-наобо-рот… Топ-п-паледо в-в-вам з-з-знать л-л-лучше, п-п-пото-м-му что и в-в-вас т-т-там…
— Так что это за Топаледо все-таки?
— К-к-клад… к-к-клад… к-к-клад… м-м-место… м-м-место… где к-к-клад… ну, к-к-клад… бище…
Какая-то женщина, судя по выговору — уроженка Сальвадора, продвинулась вперед и с усмешкой заметила:
— Что за клад… Что за клад… дон Йемо теперь сам почище любого клада… — Все рассмеялись, а она продолжала: — Прах — клад смерти… — Смех не умолкал. — Дон Йемо теперь стал золотым кладом для спиритов. Если это правда, что нет никого болтливее парикмахеров за работой, то теперь клиенты дона Йемо могут спокойно вызывать его и наговориться с ним вдоволь… а вот он-то теперь… не поговорит и даже… не побреет…
Все снова засмеялись.
— А твой спирит здесь… — шепнул ей на ухо парень, один из ее любовников.
— Откуда ты вылез, божий младенчик?
— Из самой мрачной ночи…
— Оно и видно — похож на трубочиста. Пари готова держать, что ты мучаешься в поисках глоточка. Но здесь, на беду, уже ни капли не осталось, даже воды не выпросишь.
— Перехватим в другом месте, Личона, а то вдруг мастер воскреснет и, чего доброго, спросит обо мне…
— Увидел бы он тебя — ни за что не стал бы стричь такого лохматого!.. — И она протянула губы для поцелуя.
— Если спросит обо мне, скажи ему, что я отбыл неведомо куда и что с ним мы увидимся в день Страшного суда, где-нибудь в Топаледо. А вам по вкусу Топаледо? Нет лучше места для приятных встреч, стоит только посильнее нажать на акселератор, и тут же протянешь ноги — и к черту эта свинячья жизнь!..
Голой, черной и крепкой, как сталь, рукой он обнял ее отливающую медью шею, и они удалились, не обращая внимания на приглашения игроков в кости, среди которых было несколько человек — по виду совершенные покойники. Затягиваясь самокрутками, игроки расселись на корточках вокруг фонаря и стали кидать кости. Судьба, словно смерч, одних пригнет, других наверх вытащит. Зубастый негр с руками синими, как у покойника, проигрался было до последней рубашки, а потом, после двух удачных ставок, сумел сорвать куш.
«Что такое облака, как не пространство? А что такое ночь, когда пальмовые стволы похожи на ноги с тысячью пальцев, ступающих по миллионам звезд?» — спрашивал себя по дороге домой Хуамбо, наконец избавившийся от икоты.
При свете звезд кладбище белело могильными плитами и крестами, точно облитыми соком плодов аноны. Самбито шел через кладбище и взывал:
— Отец!.. Агапито Луиса!
XXVI
Медина автоматически шагал вперед, глядя на покачивающиеся ветви бамбука, еще совсем недавно маячившие далеко, а теперь нависавшие над головой. Он шагал следом за Флориндо Кеем. Они то карабкались куда-то, то спускались вниз, пробираясь, как охотники, среди густых кустарников, пока не обошли зыбучие пески; камни и сухие листья шуршали у них под ногами. Они искали место, откуда была бы видна дорога, подковой огибавшая бамбуковую рощу.
Видно было плохо — свет не проникал сюда, а редкие просветы — словно проблески стоячей воды. И все же Андреса Медину удивляло, с какой уверенностью действовал Флориндо Кей. В движениях Кея не ощущалось ни колебаний убийцы, ни бесчувственности палача. Ха… Ха!.. Он даже рассмеялся про себя, когда они покинули траурную церемонию в парикмахерской и отправились на поиски оружия. Война требует: выполняя свой долг, убивай врага без какого-либо угрызения совести! Ради того, чтобы выиграть каких-то двадцать метров дистанции, я видел, как приносились в жертву тысяча, две тысячи, пять тысяч человек; люди падали, валились на землю за колючей проволокой, среди дымящихся кратеров — там, где разрывались бомбы, а в окопах было мокро от крови; столько крови, что даже трудно представить, что она когда-нибудь высохнет… я видел их, видел людей, разорванных на куски, стонущих, превратившихся в бесформенную груду грязи, которая в конце концов затихала и переставала шевелиться. Однажды, когда был прекращен огонь и подобраны все раненые, я почувствовал себя как бы слившимся с усталостью и отвращением к борьбе — со страданиями всех тех, кто умирал без помощи и утешения. Когда истекали долгие часы агонии, в ночи воцарялся покой смерти. Смерть — единственный покой на войне. Убийцы? Палачи?… Подобные слова не имеют никакого значения после войны. А быть может, имеют? И мы будем выслеживать капитана Каркамо не как убийцы или палачи, а как солдаты, которым приказано его расстрелять. Ведь казнят же именем закона рабочих, требующих повышения жалованья, улучшения условий жизни, сокращения рабочего дня на плантациях Карибской зоны. Чтобы приговорить к смертной казни какого-нибудь беднягу, уже осужденного заранее в секретариате президента Республики, сколько находится судей, сколько защитников, сколько военных, сколько ширм из кодексов. Если все те, кто лично участвует в этих расстрелах, — не убийцы и не палачи, то и мы, выполняющие свой долг, тоже не убийцы и не палачи… Т-с!.. Т-с!..
Они остановились, услышав шаги. Казалось, это ветер шел по деревьям, и деревья двигались, менялись местами — ветер застыл, словно какая-то статичная масса, а деревья, освободившись от корней, плавно двигались в глубине ночи, будто во мраке плыли осьминоги, шевеля своими ищущими щупальцами.
Медина потер уши, левое ухо — то, что ближе к сердцу и ближе к другу. Как хотелось ему вырвать из памяти даже голос Каркамо. Последнее, что он услышал из уст капитана — до того, как капитана подозвал к себе майор, — было имя директрисы женской школы в Серропоме: Малена Табай… У него развязался шнурок ботинка. Остановился, чтобы завязать. И вдруг в своей руке, пока завязывал узел, он почувствовал руку товарища детских лет, легкую, как дуновение; эта рука просила: не стреляй. Выпрямившись, он оглянулся. Хоть бы какое-нибудь убежище, хоть бы какой-нибудь сигнал. Темь и молчание… А что, если дезертировать, покинуть поле сражения? Он обливался липким потом, его преследовал запах крови. Он было опять остановился. Нет, не смог остановиться. Да, но почему не мог остановиться, если каждый шаг приближал его к неизбежному?… Снова развязался шнурок ботинка. Наклонившись, он ощутил совсем близко запах горячего песка и подумал, стоит ли завязывать шнурок, ведь в такую влажную жару крепкого узла все равно не завяжешь. Можно даже поднять пригоршню этого сухого вещества: не то песка, не то огня, и понюхать. Пот скатывался с век, стекал по губам. Он сплюнул. Дорога тянулась все дальше и дальше, он следовал за Флориндо, едва не наступая ему на пятки, как человек, который не слышит, потому что не хочет слышать просьбу друга, обреченного на гибель, которую он приближает каждым своим шагом. Друг говорит ему: «Андрей, Андрей… Не так быстро!..»
Мертвый узел, да, мертвый узел надо было бы завязать на ботинках, чтобы больше не распускались шнурки, а сейчас нужно спешить, скорей, скорей — покончить с одного раза. А за образом Каркамо виделись ему лица друзей — страдальческие, такие, какими их сфотографировала полиция, когда готовила дела на «мятежников». А эти люди имели больше прав на жизнь, чем Каркамо… Какая-то лошадь лениво обернулась, когда они проходили мимо, — и снова погрузилась в спячку. Они уже поднялись высоко. С плоскогорья внизу открывалась панорама, смутная, погруженная в глубокую тьму; временами светилось фосфоресцирующее море, и все вокруг покрывала пудра тропических ночей, сахаристых и соленых.
Почему Флориндо не согласился на его предложение? Он, Андрес Медина, на собственный страх и риск мог бы встретиться один на один с капитаном Каркамо, поговорить с ним, как друг детства, и уговорить его передать ему, Медине, бумаги парикмахера; а если бы тот отказался, он бросил бы ему вызов, предоставив возможность умереть с честью…
А врочем, Флориндо прав. Разве они давали возможность нашим людям в Бананере умирать с честью? Разве их не расстреливали из пулеметов — людей со связанными за спиной руками или в наручниках, а некоторых — в тюремных камерах, даже не открывая двери?
Опять развязался шнурок. Медина не остановился. Продолжал идти, слегка прихрамывая. Будь он проклят! Нет, это не тот ботинок, на котором уже завязал мертвый узел, другой. Надо опять завязать. Наклонился. Кровь прилила к голове. Било в виски. «Андрей… Андрей!..» — голос Каркамо слышался ему среди голосов друзей, которых увели в комендатуру, хотя они не имели никакого отношения к бумагам и документам парикмахера. Да, придется им пожертвовать…
Упругая трава на лужайке покорно легла под их телами, когда они растянулись на земле, поудобнее установив винтовки с прицелом на дорогу, ведущую из поселка в комендатуру. Здесь дорога изгибалась узкой подковкой между бамбуковых рощиц. Флориндо должен был стрелять первым. Нет, сеньор! Они будут стрелять одновременно, чтобы капитан попал под перекрестный огонь и чтобы они смогли быстро спуститься, обыскать тело и забрать документы.
Они ждали. В боевой готовности. Солдаты ночи, исполнители приговора. Приговоренный должен с минуты на минуту появиться — ведь у него нет иного исхода, кроме смерти. С моря доносился рокот прибоя.
Но они не слышали его. Они прислушивались к молчанию ночи. Упал лист. Взлетела птица. Скатилась капля росы. От малейшего шума волосы шевелятся. Что это? Предупреждение? Инстинктивно они сдерживали дыхание и приникали к земле, сжимая в руках оружие, пристальнее всматриваясь в темную дорогу. А траурная церемония продолжалась, и комендант продолжал беседовать с доном Хуаном Лусеро. Увидев вошедшего капитана Каркамо, майор подозвал его:
— Приказ выполнен?
— Я взял с собой все, что было найдено…
— Так уж и быть, я прощу вам на этот раз непочтительное отношение к старшим, но на будущее — учтите. Идите быстрее, бумаги оставьте у меня в кабинете, заприте его на ключ и немедленно возвращайтесь. Оружие с собой?
— Пистолет.
— Достаточно.
— С вашего разрешения…
— Можете идти.
— Как времена меняются! — воскликнул Лусеро, заметив, что капитан Каркамо удалился. — Раньше все было по-другому. Раньше такие вопросы не решали с помощью оружия… Вы курите, майор?
— Я, знаете ли, курю обычно наш табак, отечественный, но чтобы не уронить себя в ваших глазах, приму одну из ваших… — Он сунул толстые пальцы, большой и указательный, в портсигар дона Хуанчо — массивный золотой портсигар с монограммой из бриллиантов и рубинов. — Что это за марка? — спросил майор, читая надпись на сигарете, затем поднес ее к носу и с наслаждением вдохнул аромат, прежде чем сунуть сигарету в рот.
— Да, майор, скажу я вам, довелось нам жить в весьма трудные времена.
— Что о вас говорить, вы купаетесь в деньгах!.. Вот нам каково, подвешены за шею в течение всего месяца в ожидании святого дня получки.
— Как бы то ни было, майор, как бы то ни было, все это очень сложно. Представляете себе, какой оборот приняли события в Бананере, а всеобщая забастовка, которой угрожают…
— Мы, как кто-то сказал, очутились в кратере вулкана!.. — воскликнул похожий на луковицу майор не то насмешливо, не то серьезно.
— А это значит, что времена настали скверные — и не потому, что ныне идет борьба против Компании — в свое время мы тоже в ней приняли участие, причем настолько активное, что нас, меня и моего брата Лино, арестовали. Связали, привезли в столицу и бросили в одиночные камеры. Если бы не Лестер Мид, сгноили бы нас в тюрьме.
— Он был гринго, а, между нами говоря, гринго — значит, всесильный.
— Гринго, но из хороших…
— Для вас, что и говорить, это была лотерея…
— Идеалист, своего рода практический идеалист! Помнится, как вначале, когда мы только еще начинали организовываться, чтобы выступить против «Платанеры», он сказал нам: это вам, ребята, не поединок на мачете, а напряженная экономическая борьба, и выиграть ее можно, лишь создавая источники богатства, развивая промышленность… Он так говорил, да… Ах, если бы этот человек не умер, — будь проклят тот ураган, что унес его!.. — организовал бы он предприятие свободных тружеников, не питающих друг к другу ненависти.
— Вот так и бывает: хороший человек попадает в могилу, а плохой — на трон…
— Он предугадал все, что сейчас происходит, — и также вооруженную борьбу, борьбу не на жизнь, а на смерть… Он так и говорил, да… Он не был столь бескорыстен, когда создавал «Тропикаль платанеру», ведь «Платанера» не только не подрывала интересы акционеров, но и содействовала им своим справедливым курсом по отношению к нашей стране и к рабочим. Если бы Лестер Мид был жив, банановая политика в корне была бы изменена и не было бы нынешних конфликтов, которые с каждым разом становятся все более острыми. Возможно, он основал бы обособленную Компанию.
— Да, но его поглотила бы более крупная Компания, как это произошло в Ибуэрас…
— Возникли две концепции, две системы в эксплуатации банановых богатств: одна — Зеленого Папы, вторая — Лестера Мида, и победила та, которая принадлежит пирату, Его Зеленому Святейшеству, победила с помощью святых сил природы, — помог ураган, обрушившийся на плантации Юга и оборвавший жизнь Лестера Мида. Но надолго ли эта победа? Не говорил ли сам Лестер Mид, что налетит другой ураган, ураган восстания трудящихся, требующих справедливости, и этот ураган сметет все? Это подтверждается событиями нашего времени…
— Кого я хотел бы узнать ближе, так это его жену… — Комендант вылупил остекленевшие крокодильи глаза на Лусеро и, тяжело дыша, будто через нос и рот выходил у него весь жар тела, добавил: — Похоже, эта женщина стоила кое-чего, я имею в виду — стоила как женщина…
— По правде говоря, майор, я на нее смотрел только как на высшее воплощение идеалов ее мужа…
Лусеро пододвинул свой стул к стулу коменданта, и тот, решив, что Хуан собирается рассказать что-то интимное насчет Лиленд, наклонился и почти прижал ухо к губам собеседника, но, услышав, что тот продолжает говорить о «Тропикаль платанере», зевнул во весь рот.
— И в этом случае, как всегда, насилие исходило от Компании…
Не в силах сдержать новый зевок, комендант широко открыл рот, уже не прикрывая его ладонью, и попытался возразить Лусеро.
— Большей частью! Большей частью… — настаивал Лусеро. — Рабочие стали защищаться, когда увидели, что их атакуют, решили обороняться на набережной. Почему же войска открыли огонь против них?
— Армия, мой друг, вы должны это знать, выполняет приказы, а приказ есть приказ.
— Никто не утверждает, что армия виновата. Мы говорим о Компании. Это верно, что армия выполняет приказы, а однако, задумывались ли офицеры нашей армии, мой уважаемый майор, кто отдает эти приказы? Закуривайте еще…
— Буду курить свои, если хотите, угощу…
— С удовольствием, хотя они, кажется, крепковаты…
Они зажгли сигареты из тех, что курил комендант, и после первых затяжек Лусеро закашлялся — табак был крепкий, как перец. Передохнув, Лусеро продолжал конфиденциальным тоном:
— Да, несомненно, армия выполняет приказы, она не может их не выполнять. Но эти приказы — откуда они исходят?… Вот вопрос, который должны перед собой поставить военные… Как появляются подобные приказы… Ключом являются газеты, подлинные отмычки Компании, открывающие любую дверь. Самое незначительное осложнение, малейшее требование со стороны рабочих силой газетной магии превращается в национальную проблему…
— Но это все знают. И делается это для того, чтобы заполнить пустоту, вакуум. У них любое событие — повод для скандала…
— Все это не так уж невинно, как кажется на первый взгляд… Вначале дело раздувают, придают ему масштаб, которого оно на самом деле не имеет, а цель — уничтожить в зародыше любую инициативу трудящихся в их борьбе за улучшение условий жизни. И что же получается?… Пущена в ход лживая информация, скажем, с какой-то крошечной долей правды. Но, убедившись, что им не удалось погасить недовольство, вызванное голодом и плохим отношением к рабочим, газеты начинают повышать тон. Ложь, если ее напечатать в газете, становится похожей на правду. Растут тиражи. Продавцы газет кричат все громче. Читатели расхватывают выпуски с последними новостями. И когда шумиха достигает апогея, начинаются советы, просьбы, призывы, требования о вмешательстве правительства, и в игру вступают власти: против рабочих бросают армию, в ход пускают силу. Кто оплачивает эти газеты?… Пытались ли военные задуматься, кто оплачивает эти газеты?… Компания «Тропикаль платанера»! Да, да, именно то, что вы слышите…
— Должно быть, им платят бешеные деньги…
— Нет, сеньор, и это самое грустное. Наши соотечественники не способны даже продаваться подороже…
— Каждый живет, как может…
— Ну, это не оправдание…
— Да, думаю, что нас водят за нос вовсю, но, поскольку приказ есть приказ, его обязаны выполнять… — И, помолчав минуту, он добавил: — А что произошло бы, сеньор Лусеро, если бы они не выполнялись?
— Что произошло бы?… За неимением слепых исполнителей своих приказов, ослепленных постыдной спекуляцией в прессе, Компания была бы вынуждена идти другим путем, попыталась бы по-человечески отнестись к своим пеонам… может быть, приняла бы то, что мы — большинство акционеров — ей предлагали…
— Значит, вы обвиняете армию?
— До известной степени. Одно дело — охранять общественный порядок, а другое — охранять такой общественный порядок, который выгоден только «Тропикаль платанере». Это бесспорно, надо называть вещи своими именами.
— В армии не принято рассуждать…
— А никто и не просит рассуждать. Я лишь говорю, что не нужно плясать под дудку этой шайки гринго. Нам, акционерам — выразителям доброй воли, нужно предоставить возможности…
— Да, но вы — их компаньоны…
— К несчастью, да. Во всяком случае, это не означает, что мы не пытаемся следовать примеру тех, кто еще до нас открыто выступал против системы, введенной компанией…
— Не так уж часто, должно быть…
— Несколько случаев известны. Джинджер Кинг, этот однорукий старикан, умер, протестуя против тех методов, которыми пользовались при разбивке плантаций на Карибском побережье: подкупы, грабежи, поджоги, убийства…
— Жаль, что одна ласточка не делает лета…
— А потом — Лестер Мид. Это было ужасно. Он такие вещи говорил в лицо акционерам, что они, должно быть, подумали, будто он рехнулся. С цифрами в руках он доказал, что Компания, пользуясь добропорядочными методами, смогла бы получить те же прибыли, не создавая, как это она сейчас делает, источник постоянной ненависти ко всему, что имеет хоть малейшее отношение к Соединенным Штатам.
— Но вы, братья Лусеро, тоже не в ладах с рабочими: прошлой ночью вам пригрозили взрывчаткой, и ваш брат Лино просил меня выслать охрану в «Семирамиду»… Ну так на чем мы остановились?… Бесспорно одно, дон Хуанчо: нет ни одного человека из числа богатых, который был бы благодарен. Мы, офицеры и солдаты, жертвуем собой, защищая ваши интересы, вашу собственность, ваши владения. Все ваше имущество. Мы рискуем собственной шкурой, чтобы вы спали спокойно. Вот ушел капитан Каркамо, которого вы только что видели… Вы не думаете, что его могут убить?
— Не исключено. Армия принадлежит богатым, защищает богатых, но завтра, когда армия будет принадлежать рабочим, что тогда будет?…
— Армия, мой друг, — имейте это в виду, — не принадлежит ни богачам, ни беднякам. Она наша. Равно как богатые имеют свои владения, свои усадьбы, свои плантации, мы имеем армию. Не знаю, ясно ли я выразился?
— Да, да, армия — это частная собственность, она называется национальной, но принадлежит военным.
— И пробуждение ваше было бы весьма неприятным, если бы не было нас…
— Неприятным?… Позвольте принять это за шутку. Ужас какой!.. Просыпаешься и падаешь с постели в пропасть.
Жена Пьедрасанты поднесла им поднос с рюмками комитеко.
— Вначале представителям власти… — сказала она улыбаясь.
— Представителю власти… — поправил ее Лусеро.
— Ну, нет! Вы, дон Хуанчо, тоже власть. У кого деньги, тот и командует. Не правда ли, майор?
— Еще бы, еще бы…
— А вот еще один представитель власти… Рюмочку комитеко, сеньор судья?
Взяв рюмку, судья включился в беседу дона Хуана Лусеро и коменданта.
— Не насчет ли стачки грузчиков бананов? Не об этом ли вы беседовали?…
— Обо всем понемногу, сеньор судья, — ответил дон Хуанчо. — Мы толковали с сеньором майором о том, как изменились времена. В наше время, говорил я, мы руководствовались идеалами, были идеалистами…
— Если не ошибаюсь, вы и ваши братья входили в группу Лестера Мида…
— Совершенно верно.
— Ах, чудесное это было время, но давно кануло в небытие. Идеализм, по нашему мнению — а мы тоже когда-то были идеалистами, — производит нынче впечатление пустоты, пустоты души.
— Простите, но сейчас, поскольку сеньор судья коснулся вопроса о стачке грузчиков, я опять вспомнил о капитане Каркамо…
— А что с капитаном Каркамо, сеньор майор?
— Он ушел с заданием в комендатуру и до сих пор не вернулся. Меня это беспокоит.
Жена Пьедрасанты снова принесла поднос с рюмками.
— Нет ничего лучше, как находиться под вашим милым покровительством, не правда ли, моя сеньора? — обратился к ней судья и тут же спросил: — А почему не видно вашего супруга?
— Он остался присмотреть за магазином, скоро придет… С вашего разрешения, пойду предложу выпить и другим господам, должно быть, и у них в горле пересохло, а потом принесу вам кофе. А вот и дон Лино. Значит, вам четыре кофе.
Дон Лино, поздоровавшись с женой Пьедрасанты и взяв рюмку комитеко, присоединился к компании.
— Вовремя прибыли, дон Лино! — Судья дружески хлопнул его по спине. — Здесь говорят об идеалах, а вы — известный романтик да и, пожалуй, единственный из всей вашей семьи…
— Об идеалах?… И это на траурной церемонии!.. Если бы мастер ожил, он тут же снова умер бы, на сей раз добровольно: бдение, когда не рассказывают анекдоты, не обмениваются сплетнями, это не бдение… а тем более у гроба парикмахера… Сделайте одолжение!
Поднялся ветер. Он несся над самой землей, раскачивая ветви деревьев. Вскоре все тростинки бамбука, колыхаясь под порывами ветра, запели свою монотонную песню. Приходилось напрягать зрение и слух, чтобы не упустить Каркамо, чтобы услышать его шаги, прежде чем он появится из зарослей, вынырнет из моря беспрерывно мельтешащих листочков. Кей сплюнул в темноту, вернее попытался сплюнуть — во рту пересохло настолько, что слюны не было, — и еще раз проклял ветер. Теперь надежда была только на зрение. Нужно постараться увидеть силуэт капитана, как только он появится на повороте, — шагов ведь не услышишь. И нужно перехватить его здесь, иначе будет поздно. Андрес Медина отодвинул винтовку в сторону. Его раздражало, что пальцы товарища барабанят по стволу. Ему казалось, что Кей не уверен в себе. Ну что ж, можно поменяться ролями. Сейчас он чувствовал себя увереннее. Он уже убедил самого себя: несмотря на то, что человек, которого они поджидали, — друг его детства, он должен умереть сегодня ночью. Два винтовочных выстрела — и Каркамо падает…
В завывании ветра тонули все другие звуки. Качающиеся стволы бамбука надежно скрывали их — они притаились в листве и могли наблюдать за дорогой, держа на изготовку винтовки, укрепив их на сучьях. На дорогу были нацелены не только мушки винтовок, но и зрачки людей, расширившиеся, прикованные к повороту, где с мгновения на мгновение должен был появиться Каркамо.
— А если Зевун отменил свой приказ?… — тихо произнес Флориндо — ожидание казалось ему бесконечным, а тот, кто должен был появиться, все не шел и не шел.
— Нет, нет, он должен пройти…
Кей начал сомневаться в том, что Каркамо появится — это было что-то похожее на надежду, — он так хотел избежать того, что предстояло совершить. А Медина был уверен, что Каркамо пройдет здесь рано или поздно и они покончат с ним. Это — казнь, повторял он про себя, это — казнь, и сколь длительной ни была бы ночь, всякий раз наступает рассвет, а казни совершаются на рассвете.
Флориндо опять стал барабанить пальцами по винтовке. Андрес, напротив, крепко сжимал в руках винтовку, глаза его были прикованы к дороге, и с каждым вздохом он будто повторял: «Это же казнь… Это — казнь…»
— Чего ты так барабанишь по винтовке, уж не со страху ли?
Послышался смешок, затем Флориндо тихо сказал:
— У меня потеют руки, винтовка прямо-таки приклеивается к пальцам, потеют руки от жары, а не от страха… Страха я не испытывал даже под Верденом… Вот увидишь, как подскочит твой капитанчик, точно крыса в мундире…
Больше он ничего не сказал. Даже дыхание стало тише. Глаза и винтовки… Глаза и винтовки…
На дороге появились солдаты, шедшие строем. Рядом с колонной шли Каркамо и Саломэ. Один нес документы, другой возвращался после обхода плантаций и смены караула в «Семирамиде».
Кей склонил голову, руки опустились под тяжестью винтовки. Что это у него во рту? Знойный воздух побережья, отдающий слабительным? Не думая ни о чем, он закрыл глаза. Не видеть, не видеть, как удаляются бумаги, в которых указаны имена его товарищей — связных…
Андрес с покорностью солдата, получившего приказ приставить винтовку к ноге, ввиду того что приговоренный к расстрелу помилован, потер приклад. «Высушивать пот винтовками» — так сказал тот оратор в Пуэрто-Барриос, когда забастовщики из лагеря Т-23 вели бой на набережной с регулярными войсками, когда акулы подстерегали их в прибрежных водах.
Проклиная все и вся, Флориндо перешел с испанского на французский. Медина, правда, ничего не понимал, но все равно его раздражала эта гортанная речь, сопровождаемая бурной жестикуляцией и гримасами. Желая успокоить товарища, он сказал:
— Будем надеяться, что мастер успел перед смертью сжечь компрометирующие бумаги.
— Merde!.. Merde!.. [41] Если бы вместо этих несчастных пукалок был бы пулемет, — от нас ни один не ушел бы!.. Сейчас, как в капле воды, отразилось все наше движение… Без оружия, без насилия, тогда как противник вооружен до зубов… Нет, это не война!.. Всем уже ясно, что это не война!.. Ничего похожего на войну… Но это хуже, чем война, потому, что они не берут в плен, против пленных они применяют закон о попытке к бегству… Саботаж?… Очень хорошо. Единственное действенное средство — занести на их плантации заразу, скажем, панамскую болезнь, чтобы погибли все растения. Но экономисты заявляют, что это нецелесообразно, что это означало бы нанести смертельный удар по экономике государства. А что за важность — экономика государства, коль скоро не существует самого государства…
Патруль остановился возле комендатуры, и капрал Ранкун попросил у караульных разрешения пройти. Он вернулся с разрешением, и отряд направился к дверям казармы.
— Я развлекался с нею… — сказал Саломэ, когда он встретил Каркамо в бамбуковой роще.
— Вероятно, она напугалась, увидев меня, капитан?
— По правде говоря, испугался я… Я же был с ней…
— А я почти засыпал на ходу… — заметил Каркамо. — Во всяком случае, как я уже говорил, вам, коллега, это опасно в силу двух причин: узнает начальник — накажет, да что накажет — чего доброго, под суд отдаст. Вспомните, конституционные гарантии отменены, а для Зевуна это означает, что де-факто существует военное положение. А если бы об этом узнали забастовщики, уж они-то воспользовались бы случаем и, ей-богу, расколошматили бы патруль, который, воспользовавшись тем, что вы развлекались с ней, тоже предпочел отдохнуть…
— Ну, капрал Ранкун заслуживает полного доверия, и…
— В нашем деле, как утверждает Зевун, нет такого подчиненного, который заслуживал бы доверия, а тем более абсолютного. И ни один начальник не должен доверять своим подчиненным.
— Да, по правде говоря, когда я внезапно очнулся, сердце чуть не выскочило из груди. Во сне я видел, я воочию видел, как много рук толкали какого-то офицера на поле, покрытое крестами. Когда я прибыл с моим отрядом и разорвал паутину рук, опутавшую офицера, как мошку, — это были руки наступавшей толпы, руки-пауки, огромные пауки…
— Кошмар…
— Да, кошмар. И офицер, которого оттесняли на поле с крестами, так походил на вас… капитан Каркамо…
— Ах, черт возьми, значит, я выходил танцевать!
— Вот именно, поэтому вы не представляете себе, как я удивился, когда вас встретил…
— Оставьте сказки… Вас беспокоит, что вы придете очень поздно! Бедняжка! Хорошо вам наслаждаться на мягком матрасе, а каково солдатам, сраженным усталостью и непогодой, спать под дождем…
Саломэ смолчал. Каркамо, как и он, был в чине капитана. Однако у него больше выслуга лет, и Каркамо имел право делать замечания. И кроме того, это была своего рода компенсация за то, что он спас ему жизнь, правда, только во сне, однако все же спас. И все-таки было неприятно, что тот застал его с женщиной, даже пригрозил ему… Эх, вечно эти истории с женщинами!..
Вошли они в комендатуру, и каждый отправился к себе. Саломэ — в свою палатку, где на постели его ждала гитара с бело-голубым бантом, кокетливая, как женщина. А Каркамо прошел в кабинет коменданта. Он зажег свет, выложил на письменный стол бумаги, собранные в доме парикмахера, и… окаменел от изумления. На одном из конвертов он прочел: Роса Гавидиа…
Быстрым движением он схватил пакет, как будто лампочка над письменным столом могла сжечь пакет, быстро проглядел листки, находившиеся в пакете. Что делать? Оставить его здесь? Сохранить у себя? Пакет уже был в его кармане… Лихорадочно он искал среди документов, нет ли еще пакетов или бумаг с тем же именем: Роса Гавидиа…
Поспешно собрал все. Бумаги прилипали к пальцам, к потным рукам. Не только зной — было еще около трех часов ночи — давал себя знать, от волнения Каркамо обливался холодным потом.
Бумаги с именем Росы Гавидиа были тщательно спрятаны, когда он вернулся на траурную церемонию и, вытянувшись перед комендантом, доложил:
— Приказ выполнен, мой майор!
— Останьтесь здесь, капитан, мы скоро пойдем.
Не теряя из виду своего начальника, Каркамо отправился на поиски — ему хотелось выпить и найти Андрея Медину. Ему так нужен был сейчас Андрей — друг детства, бунтарь, человек со странными и смелыми идеями, которому он мог бы рассказать обо всем, как мужчина мужчине. Но не нашел его, и ничего иного не оставалось, как сжечь в глотке спиртного имя Росы Гавидиа. Улетучилось оно как дым, табачный дым.
XXVII
От еле сдерживаемого хохота глаза чуть не вылезали из орбит. Они смеялись больше глазами, чем губами, — впрочем, губы тоже широко растягивались под наскоро подстриженными усами, сверкающие зубы словно откусывали кусочки бурлящей радости — так праздновали они свой триумф, собравшись на Песке Старателя, или Песках Старателей, это место именовалось то в единственном, то во множественном числе, хотя какое это имело значение!
— Дай мне тебя обнять, братишка!
— Ха, ведь ты не лиана, это от объятий лианы дерево сохнет!
Объятия следовали за объятиями, рукопожатия за рукопожатиями — радость, радость победы.
Однако мало одних объятий. Конечно, надо бы и выпить. Несколько бутылок пива, потом добрый стаканчик рома, а на закуску — бутерброд с сардинами, маисовые лепешки с сыром, ломтики жареного банана, плоды хокоте, гуаябо, нанес. Праздник! Надо понять — настоящий праздник!
— А вон тот умеет играть на окарине!
— Дай-ка ему, дружище, пусть сыграет! Послушаем музыку, хватит болтовни!
Окарина, скрипка, гитаррилья, бандурриа и гитара появились в руках братьев Самуэлей.
— Ну и натворили вы, право!
— Натворили не натворили, а сотворили и растворились!
Трое Самуэлей — Самуэлон, Самуэль и Самуэлито — вступили в разговор, не расставаясь со своими инструментами.
— Удачно получилось, лучше не придумаешь, — сказал Самуэлон, — на редкость удачно! Повезло нам, непогода помогла. Вовремя ливень хлынул. Как поливало-то, чистое наводнение! Видать, старший десятник в моряки не годится…
— Может, у него геморрой…
— Что-то чесался, это точно…
— Из-под плаща даже палец боялся высунуть, — вмешался третий из Самуэлей. — Плащ как смирительная рубаха, ей-богу!.. Ни дать ни взять — китолов…
— Отныне и впредь… — произнес важным тоном Самуэлон и засмеялся, — отныне и впредь, когда на плантациях начнет бушевать ливень, Компании следует вытаскивать морячков из своих подводных лодок, в ливень здесь все становятся подводниками.
— Мы и под водой будем сражаться с Компанией. Вспомните того, седого, как он им рубанул, когда они попытались вместо нас поставить несчастных безработных…
— А тот, который все время икал… Куда девался тот мулат?
— Нет у меня к нему доверия…
— Ясно.
— Вначале он появился с каким-то долговязым гринго…
— Да ведь это президент Компании!
— Да, он появился с ним, когда еще делилось наследство Мида — неразбериха эта с миллионами, — а сейчас вернулся якобы позаботиться о матери, она очень, дескать, стара. Я считаю, что это предлог…
— Лучше расскажи нам о другой картине, пока мы не загрустили.
— Да уж картина, чем не кинофильм? Приезжают сюда всякие из великой страны Севера, а здешние разевают рот. Разевают рот перед Соединенными Штатами, совсем как рыбешки, пока их акула не проглотит. Да еще сентиментальные слюни разводят. Вроде этого сумасшедшего мулата, который оплакивает своего погребенного отца и приехал… навестить старуху…
— Хватит! Может, пропустишь глоточек?
— Чем больше пьешь, тем больше чувствуешь себя человеком. Правда ведь, Самуэлито? Ну и молчалив этот Самуэлито! Ударь-ка лучше по струнам гитары да спой…
Там идут, там идут, там идут те, кто умрут, — без любви, без любви, без любви люди нигде не живут…— А я знаю этого седого, который призывал новеньких не работать. Он с побережья, только с другого… Из Тенедорес или из Лос-Аматес, где-то я его встречал, не помню только точно где — в Лос-Аматес или в Тенедорес…
— Тогда он не новичок в этих делах.
— Новичок не новичок, а по-новому все оборачивается.
Шумливый вечерний ветер раскачивает листья, застывшие в молчании, откликается на далекие отзвуки — гул морского прибоя, эхо камнедробилок, мычание животных на бойне, понявших, что пришел их час, лай собак близ домов, хлопанье крыльев белогрудых пеликанов, упругий и звучный свист полета серых цапель, пронзающих воздух, насыщенный влагой.
— Если соберемся вместе, нас будет…
Голос говорившего заглушили сильные аккорды гитар, которые, как изящные кобылицы, заливистым ржаньем отозвались на удары пальцев, пришпоривших крепче-крепче, чтобы те не упирались и дали бы волю звуку, — и как жаль, что нет тут женщин, с которыми можно было бы потанцевать, состязаясь в скорости с гитаристами.
Вихрь пыли поднял парень с лицом цвета апельсинового дерева, пустившийся плясать в одиночку. Кто-то в такт ему захлопал в ладоши. У остальных — они ели и пили — руки были заняты, бедные руки грузчиков бананов, грубые, натруженные.
Как только музыканты кончили играть сон, раздались аплодисменты и крики — те, кто уже успел изрядно выпить, бросились к Самуэлям с такими бурными объятиями, что музыкантам еле удалось спасти свои инструменты.
— Если соберемся вместе, нас вполне хватит… — продолжал твердить тот же голос — у этого человека что на уме, то и на языке, — и не потому, что нас много, а потому, что нас сплотила единая воля, вот как, например, сегодня. Сеньору Лино Лусеро…
— Не говори лучше об этом богаче и предателе, об этом изменнике! Ему были оставлены миллионы, чтобы он позаботился о рабочих, чтобы создал кооперативы. Только для этого ему оставили деньги — он должен был бороться против Компании, а что он сделал? Он и его братья, что они сделали?
— Я хотел передать вам, что сказал ему Рито Перрах — великий колдун. Он сказал: мы выиграем, отказавшись грузить бананы, если не заплатят нам больше.
— Послушайте…
— Потому что мы все вместе — масса…
— Вместе, но не вразброд! Послушай-ка… да, он, похоже, не спиртное пил, а штопоров наглотался. Взгляните, как глаза пялит.
— Дайте сказать…
— Лусеро передавал, что колдун как-то спросил его: «Видишь, что там?» — «Да, — ответил ему дон Лино, — вижу море». — «Большое, очень большое?» — спросил его колдун. «Да, больше, чем большое, огромнейшее, и даже больше, чем огромнейшее… Великое, как господь бог». — «В том-то и дело, тебе оно кажется великим, как сам господь бог, а ведь оно состоит из капелек росы… Капелек, которые ты даже не различишь, каждая из них меньше булавочной головки, крошечная, как острие иглы, но эти капельки становятся грозной силой, когда сливаются со своими сестрами и образуют реки, озера, моря…»
— И даже этот урок его ничему не научил. Ну, ничего, это дорого ему обойдется! Недавно пришли к нему попросить, чтобы он помог семьям забастовщиков в Бананере, а он отказался. Заявил, что денег не даст, потому что забастовщики — это люди, которые сражаются ради желудка, а не ради идеалов…
Небо, чешуйчатое от серебристых и золотистых облачков, уходило куда-то за горизонт, за бесконечные ряды пальм, подвергавшихся постоянному натиску ветра и ударам ураганов. Гибкие и стройные пальмы гордо противостояли штормам, и ветер свирепо гудел в высоких кронах; в бурю, под ливнем, они походили на искрометные электроды, что источают золотые молнии и эхо грома. Но в тот вечер с Песков Старателей они казались созданными из тонких нитей.
— Мало собраться воедино, как эти бесчисленные капли, образующие море, — этого мало, надо уметь сопротивляться, как эти пальмы, которые кажутся отсюда такими тоненькими и хрупкими, а ведь они выдерживают бурю лучше, чем гигантские деревья.
— Кто из вас знает, где живет тот великан, который отказался работать сам и призвал бросить работу других? Здесь ли он? Хорошо бы найти его, и, прежде чем мы снова возьмемся за гитары, надо бы поговорить с ним. Если уж начинать забастовку, то нужно привлечь побольше людей. Мы скажем ему, что празднуем прибавку к жалованью, ведь он тоже имеет право на праздник — он нам помог: отказался сам работать и призвал других не грузить бананы. Как вам кажется, ребята?…
Все согласились с ним и отправились на поиски незнакомца.
— Для доброго ли дела меня позвали и почему привели словно арестованного? — спросил великан, опустившись на песок вместе с остальными. — О, да у вас здесь праздник? Ну что ж, хорошо, раз вы меня приглашаете! Спасибо, а то торчал я тут, как одинокий пень — видите ли, товарищ, который был со мной, ушел!.. Не понравилось ему побережье, вот он и улетел… Ну, а что касается меня, так я здесь бросил якорь…
— Дружище, оставайся с нами, ежели тебе компании не хватает! Празднуем! По случаю прибавки ребята захотели поиграть на гитаре, попеть, поплясать. Впервые «Платанера» уступила требованиям рабочих. Это что-нибудь да значит!
— Конечно, надо отметить!
— Стоит отпраздновать, правда? Да и вам не мешает! Вы, дружище, сыграли в этом деле важную роль! Вам удалось объединить людей, которые были каждый сам по себе. Очень вовремя вы все сказали этой свинье, старшему десятнику. Если бы не вы, мы бы ничего не добились.
— До сих пор еще крещусь, — подскочил другой. — Хоть и смеются надо мной неверующие, а я вот верую в богоматерь. Священник говорит, что она чистая индеанка и протянет нам руку, чтобы сту… стук… стукнуть этих гринго-евангелистов…
— Преувеличивать, конечно, не стоит. Компании никакого убытка не принесет эта мизерная прибавка. Главное не в том, что они согласились на прибавку, а в том, как мы ее добились!
— Если бы не пошел дождь и не было срезано столько бананов, не дождаться бы нам прибавки…
— И если бы пароход в порту не стоял…
— Как бы то ни было, все это произошло даже не в силу тех причин, о которых вы говорите, — дескать, много было срезанных бананов, а в порту ждал грузовой пароход, не хотели вызывать полицию и разгонять грузчиков прикладами, и тому же начальнику досаждал геморрой, и десятника «Крюка» не было и так далее. Нет, дело не только в этом. Не будем приуменьшать значение нашей победы. Нам увеличили заработную плату, потому что мы отказались работать. И отказались все, как один, по-мужски. Без нас они могли бы получить все золото мира, но без нас они не смогут ничего выкачать из этих земель, где растут лучшие в мире бананы, на которых они наживаются! Что сейчас происходит? Мы помогаем им приумножать их богатства, и тем самым усугубляем нашу бедность, нашу нищету. Однако, товарищи, все это должно измениться. Все должно быть равно для всех. И, поверьте, будет очень плохо, если мы не сумеем, как нужно, воспользоваться нашим триумфом, будем размениваться на мелочи…
— Если вы позволите мне сказать… — попросил разрешения великан, — если вы позволите мне сказать…
— Конечно, говорите!..
— Товарищ уже однажды взял слово и встал на нашу сторону, теперь он — наш, пусть говорит!
— Ладно, я хочу, чтобы вы тоже это знали — то, что случилось здесь, происходит и на другом побережье.
Там тоже во всем разобрались, и не только рабочие на плантациях, но и портовики — люди, которым уже нечего терять, нищие из нищих, взявшиеся за эту работу от полного отчаяния, поскольку им не осталось ничего другого — здесь их преследуют болезни, здесь их развращают, разлагают, портят… кажется, что эти люди могут выдержать все… Но мы видели… как среди этих людей… среди портовых грузчиков, которых и за людейто не считали, произошло самое невероятное… Портовики, озверевшие от зверских условий труда, бездомные и голодные, измученные малярией, больные, одетые в лохмотья, проявили себя как люди беспредельной воли. Этот ураган — никто не знает, где, когда и как он начался — разрастался все больше и больше, пока весь порт не был полностью парализован. Вот точно так же внезапно, в самую тихую погоду возникает ураган, поднимается пыльный смерч, взмывает к облакам, ослепляя, сметая все на своем пути. Вот так же возник и этот ураган, этот смерч бунтарей. «Мы не будем работать, мы не погрузим ни одной грозди бананов, если нам не увеличат жалованье!» — так они заявили и действительно бросили работу. Бананы портились, простаивал пароход, а на набережной нагромождались железнодорожные платформы и вагоны, и тут-то началась схватка…
— Даже схватка?
— Смотрите-ка, ребята, до схватки дело дошло!.. — послышались голоса.
— Полицейские, десятники, воинские части — никто ничего не смог сделать, когда поднялось это несчастное человеческое отребье, превратившееся в тигров. Поднялись они не для обороны, а для атаки. Они дрались палками, ломами, кусками рельсов, шпалами, всем, что смогли найти на набережной, на железнодорожных путях. С одного из белых пароходов этого проклятого «Белого флота», будто стая дьяволов, нагрянули негры, вооруженные пожарными брандспойтами, они пытались мощными струями разогнать взбунтовавшихся грузчиков. Струи воды, винтовочные выстрелы, глухие взрывы, вагоны несутся по рельсам, как катапульты, сталкиваются друг с другом, слетают с рельсов, сотрясая портовые сооружения и здания в порту… Раздались пулеметные очереди… приказ был категоричен… стрелять без жалости… Свист пуль, разрывы бомб нарушили молчание, застилавшее дымовой завесой все, кроме разбушевавшегося моря, которое, словно тоже решив сражаться, бросалось на набережную… Смерть берет свое… Подняв руки, один за другим сдаются восставшие. Они появляются из клубов дыма — после взрывов, — и солдаты, и полицейские их встречали на первый взгляд миролюбиво, но как только портовые грузчики оказывались в окружении полицейских, их начинали избивать зверски — как они это привыкли делать обычно, словно хотели расквитаться за то, что портовики осмелились просить увеличения зарплаты. Сдались все, кроме нескольких человек. Эта небольшая группа медленно отступала и наконец укрылась за крайним выступом набережной. Казалось, время измерялось шагами этих рабочих — огненные силуэты, очерченные солнцем, отступавшие под дулами винтовок, спиной к морю, спиной к морю, в котором кишмя кишели акулы…
— А кем работает этот человек? Говорит он как-то цветисто…
— Гондурасцем…
— То есть как гондурасцем?
— Да, я устроился работать под видом гондурасского поэта в одном отеле, владелица которого, Клеотильде Бенавидес родом из Телы, очень любит стихи. Почти моя землячка…
— Почему почти землячка? Разве вы не из Гондураса?…
— С границы. И потому до сих пор не знаю, где я родился, ведь спор по поводу границы не прекращается. Одно бесспорно — где бы я ни родился, я родился во владениях Компании…
— Ну рассказывайте дальше… — вмешался один из Самуэлей; в его глухом голосе звучало нетерпение. — Скажите, сдались ли те последние, кто сражался на кромке набережной, между полицейскими и акулами? Сдались? Им, конечно, не оставалось ничего иного! Как их схватили?
— Ошибаетесь, друг. Человек всегда должен за что-то ухватиться. И когда перед ним захлопываются все двери, он хватается за смерть… — И после длительной паузы, когда слышалось лишь дыхание слушателей, он продолжал: — Вот и они схватились за смерть, но продали себя дорого… — Все вздохнули. — Дорого себя продали… Один в отчаянии выхватил винтовку из рук солдата, другой — пистолет у полицейского, хотя оба грузчика были уже ранены, тяжело ранены… Какой-то офицер выстрелил грузчику в рот, и тот упал, но тут же будто снова поднялся — но это уже другой налетел на офицера, выхватил у него пистолет и сразил офицера на месте… Схватка длилась недолго, да и не могла она длиться… Тот, что выхватил винтовку у солдата, положил ее на тела своих убитых товарищей и расстрелял по врагам все патроны, до последнего… Обливаясь кровью, раненые падали в море, где их поджидали акулы, огромные алчные пасти…
Все молчали. Великан продолжал:
— Но на этом дело не кончилось. Из столицы вскоре прибыл военный поезд с каким-то генералом, который говорил по-английски. Я видел его издалека: нос крючком, усы, зеленые глаза. И все началось снова. Убивать уже было некого, и не к кому было применять закон о попытке к бегству. Генерал в полевой бинокль следил за развитием событий из салон-вагона, превращенного в его штаб: на столах — бутылки виски, а на диванах — голые женщины. Он внимательно следил за дымками, время от времени поднимавшимися над деревьями и ранчо. Эти дымки указывали места, где солдаты, находившиеся под его командой, расправлялись с населением, — пальцы генерала лениво перебирали волосы женщины…
В ту же ночь в Бананере был устроен банкет. Генерал кутил в салон-вагоне со своими спутницами, он обливал их охлажденным шампанским и, опьянев от вина и зноя побережья, слизывал брызги шампанского с кожи обнаженных женщин…
Не доходя до Бананеры, поезд остановился — генерал решил принять душ. Затем он переоделся для банкета, устроенного в его честь, — в честь великого умиротворителя, и вышел из вагона в безукоризненно белом мундире, в темно-зеленых панталонах, в сапогах с металлическим блеском, при шпорах, которые звенели как дамские подвески, во рту — длинный мундштук с сигаретой светлого табака; один глаз он щурил от дыма, а другой казался еще ярче — пронзительно-зеленым.
За десертом вице-президент и другие высокие должностные лица «Тропикаль платанеры», которые присутствовали на банкете, обратились к победоносному генералу с просьбой сказать несколько слов. Похожий на мумию, несмотря на кайзеровские усы и непрестанное потирание рук — словно он постоянно намыливал их, видимо, в подтверждение того, что им уже было сказано, или того, что он намеревался сказать, — надтреснутым голосом старой трещотки генерал стал выпаливать риторические фразы. Подняв бокал, он заявил: «Мои господа, умиротворение завершилось, и я хочу напомнить вам со всей той откровенностью, с которой можно говорить бизнесменам, что генерал Республики не пускается в путь только ради того, чтобы переменить климат…»
— Во всяком случае, он откровенно попросил позолотить ручку, — заметил один из Самуэлей.
— И той же самой ночью… — продолжал рассказчик, — в том же военном поезде, который доставил его на банкет, он на рассвете вернулся в порт, но уже без женщин… Оказывается, он приказал своим адъютантам, чтобы их сбросили с поезда на ходу, — пьяных, полураздетых. А тем временем, расстегнув белый, расшитый золотом мундир, он потягивал через соломинку из бокала пеперминт с накрошенным льдом. Безбрежная ночь поглощала крики несчастных полуодетых женщин, которых адъютанты хватали за волосы, за руки, за ноги, вытаскивали из салон-вагона в тамбур и сбрасывали в темноту, не обращая внимания на то, что поезд мчался со страшной скоростью. Ночь была полна женских криков, постепенно стихавших. Женщины лежали рядом со шпалами — изувеченные, окровавленные — неподвижные груды мяса…
И после краткой паузы он добавил:
— Когда генерал остался один, зеленый глаз зажегся по-волчьи, элегантным жестом он насадил на крючковатый нос пенсне и прочел на чеке, насколько внимательны были владельцы Компании, чествовавшие его за победу над взбунтовавшимися плебеями, и насколько правильно был понят его намек на смену климата. По правде говоря, жаловаться он не мог. Целая серия нулей красовалась на бумажном прямоугольнике, которым оплачивалось его беспокойство, — ведь генерал соблаговолил спуститься из зоны вечной весны на знойное побережье…
Самуэлон прервал его:
— А вы, дружище, откуда узнали обо всем? А то мы разинули рты…
— Сейчас я вам все объясню. В отеле, где я считался гондурасским поэтом, остановился другой поэт — безобразный, похожий на лошадь, вел он себя как-то таинственно. Он занял самый большой номер — видите ли, ему нужен был простор… он, видите ли, привык ходить всю ночь напролет, а кроме того, он приказал поставить в свой номер три шифоньера, оплатив их стоимость, и я помог ему развесить в этих шифоньерах более сорока костюмов. «Портной или продавец американской мужской верхней одежды», — решил я, и то же самое подумала, кстати, и донья Клеотильде, владелица отеля. Однако дни проходили, а никто не замечал, чтобы этот тип занялся каким-нибудь бизнесом, зато он пил коньяк, бутылка за бутылкой и… раздаривал костюмы… Впрочем, это никого не удивило — тот, кто пьет так много, может позволить себе и раздаривать костюмы. Прошло еще несколько дней — и мы обратили внимание на то, что в его костюмчиках красуются одни негры. И тогда тайна как будто бы раскрылась. Он, как позже выяснилось, питал слабость к мужчинам и удовольствие оплачивал костюмами. Нельзя сказать, что свои грязные делишки он обделывал втихомолку. На рассвете, когда его избранник прятался под простыней или перемахивал через балкон, этот тип начинал выть, да так хрипло, что казалось, будто глотка у него из сырого дерева. Вид у него был дикий — челюсть отвисала, волосы за ушами — как натянутые поводья, длинные зубы торчат, и изо рта пузырится пена, временами он прекращал выть и декламировал стихи. При этом он так закатывал глаза, как будто смотрел в небо из глубокого колодца. И ревел: «Эй, вытащите меня, я упал глубоко, упал очень глубоко!» Вопил и вопил, пока голос его не становился замогильным, можно было подумать, что он исполняет «De Profundis» [42], и все твердил: «Очень глубоко… очень глубоко!..» Затем он прыгал на постель, размахивая рукой, на которой сверкал перстень с изумрудами, и, наконец, захлебывался в ужасном хохоте…
Однако главное продолжало оставаться тайной. Зачем явился сюда, этот субъект? Владелица отеля как-то получила анонимку. Как стало известно, он писал передовицы в одной из столичных газет; заискивая перед правительством, а также желая завоевать доверие «Тропикаль платанеры», эта газета давала ложные сведения о выступлении портовых рабочих. Основываясь на ее ложных сообщениях, он написал несколько статей, направленных против трудящихся, но в конце концов истинный смысл событий стал ясен и ему — в приступе ярости он схватил пишущую машинку и выбросил ее на улицу. Он решил бежать, спрятаться, исчезнуть. В порту он ничего не увидел, только полузасохшие лужи крови на трауре просмоленных досок. С тех пор он почти рехнулся, пьет и пьет… Случайно в минуту просветления он рассказал мне обо всем…
— А генерал?… — спросил кто-то.
— За генералом потянулся хвост. Я вам могу рассказать, если только у вас не устали уши…
— Хвост, конечно, чековый, — сказал другой. — Ведь генерал откровенно заявил, что не собирался даром менять климат.
— Сейчас расскажу. Только вот пропущу глоточек.
— Не дурак выпить…
— За ваше здоровье! За эту прибавку и за все последующие!
Он опрокинул стопку с агуардьенте и, сочно сплюнув, волосатой рукой отер пот с лица.
— Да, за генералом потянулся хвост. Одна из женщин, которых он приказал сбросить с поезда, оказалась американкой.
— Проститутка?
— Не мешай рассказывать!
— И вот эта самая женщина, которую я встретил в отеле, сообщила об оргии в поезде и о ее трагическом финале… Однажды я проснулся от чьего-то истошного крика. Я вскочил, кое-как напялил один башмак, держа другой в руке. Ничего не соображая со сна, я бросился к дверям этого проклятого поэта — кстати, ему очень нравилось, когда его так называли. Вместо очередного негра в его постели я увидел белокурую женщину — она похожа на студентку; тело ее было в синяках, рука сломана, губы разбиты, она дрожала с головы до ног, глаза как у безумной. Она просила врача, лекарств, глоток виски, чего-то еще, а губастый поэт уверял ее, что она вылечится, если будет принимать каждые полчаса по одному из его изумрудов. «Изумруд — нет!.. — кричала американка. — Зеленый глаз!.. Генерал — нет!.. Нерон — нет!..» Я выбежал, по-прежнему в одном башмаке, и смахивал на хромого, — раздавался стук только одного ботинка, я припадал на одну ногу, точь-в-точь как человек, у которого одна нога короче другой, и так доковылял до комнаты хозяйки. Хозяйка, надо сказать, была приятельницей американского вице-консула. Донья Клотиль в ночной сорочке, которая отнюдь не скрывала ее прелестей, наоборот, все было на виду, как на витрине, отправилась за мной следом в номер поэта. Увидев нас, он стал глотать изумрудинки, одну за другой, запивая их коньяком, а донья Клотиль принялась кудахтать над растерзанной грингой, которая горько плакала, — то были слезы раскаяния и не знаю чего еще. Мы унесли грингу в ее номер, и там она рассказала нам обо всем, а пьяный поэт, подвязав одежду бечевкой, полез на балюстраду веранды отеля, распевая: «Я — марихуана, я — две марихуаны, я — три марихуаны!..»
— Можно представить себе, сколько заплатили этой американке за молчание, ведь в газетах об этом не было ни строчки! — сказал Самуэль.
— А из нашего друга получится хороший проповедник! Почище любого евангелиста! Совсем как тот падресито, что носился с образом Гуадалупской девы.
— Проповедует да попивает!
— Что ж, на то он и поэт… Ага, а имя свое вы не назвали!
— Мое имя?
— Сейчас скажет, что не помнит!..
Все расхохотались.
— Меня зовут Лоро [43] Рамила…
Новый взрыв хохота.
Гитаристы заспорили о чем-то. Самуэль — с Самуэлито, Самуэлон — с Самуэлем. Так частенько бывало.
— А правда, товарищ Рамила, — спросил Самуэлито, — что знаменитый Табио Сан участвовал в этой стычке? Мой брат Самуэль утверждает, что его там не было, а я говорю — был, а наш Самуэлон, как всегда, помалкивает. Так был он там или не был, скажите-ка?
— В стычке, разгоревшейся в порту, он не участвовал, но зато был в Бананере, когда там разыгрались события, а там тоже было жарковато. Вспомните, генерал недаром сказал, что приехал не для того, чтобы сменить климат. Табио Сан сошел с поезда, шедшего в столицу. Он спрыгнул на ходу перед самым Коровьим мостом — здесь поезд замедляет ход. Потом он очутился в Северных каменоломнях, где долго скрывался.
— Вот видите! — обернулся Самуэлито к своим братьям.
— Да, но он все-таки участвовал в событиях в Бананере, — отметил Самуэль, обращаясь к Рамиле, — а сейчас, я слышал, его ждут в Тикисате. Это верно?… Мы все хотели бы поговорить с ним… Табио Сан… знаменит, а ведь мало кто его лично знает!
— Мы хотим поговорить с ним насчет забастовки, — вмешался Самуэлон. — Вот это самое — очутиться между пулями и акулами — меня что-то не очень соблазняет. Мне, если хотите… мне больше нравится роль талтусы. Нам, пожалуй, следовало бы поучиться у талтусы… нужно незаметно подрыть здание, а потом одним ударом все обрушить. Незаметная и терпеливая, но непрерывная работа. Вгрызаться зубами и ногтями. Есть когтями, а чесаться зубами, как говорят о талтусах. И, делая подкоп под здание, мы добьемся, что наши враги останутся под его развалинами, — все останется под развалинами: и их политика, и банки, и судьи, и их президент, и коменданты, и генералы…
— И в этот момент ты проснулся…
— Проснулся?… Это вам придется проснуться, это вы спите и во сне видите подвиги небывалых храбрецов, которые принесут нам победу. Такие храбрецы способны только умирать. А мне нравятся храбрецы, которые хотят жить ради жизни. Нам не нужны храбрецы, умеющие только умирать, нам нужны храбрецы, готовые на подвиг ради долгой-долгой жизни!
— Товарищ, видать, со мной соревнуется в красноречии… очень хорошо… — Рамила поднялся и протянул руку Самуэлону. — Хорошо вы говорите!
— А здесь, Рамила, как вы оцениваете положение здесь? — спросил Самуэлито.
— Да, да, скажите нам, как вы оцениваете положение? — подал голос и Самуэль.
— То, что вам удалось добиться прибавки… — Рамила обратился к братьям-музыкантам, однако к нему придвинулись все, чтобы лучше расслышать, — доказывает: вы способны выступить против Компании, однако нужна организация, и, в частности, нужно организовать тех грузчиков, которые приходят сюда в поисках временной работы. Вопрос в этом…
— Этим мы и займемся…
— Имеете ли вы представление о собственных силах? Вы же являетесь мостом, по которому бананы поступают с плантаций на рынки. Без вас Компания, имеющая поезда и пароходы, останется с пустыми руками, без бананов…
— У нас есть идея, — сказал один из Самуэлей, — мы еще не знаем, как нам назвать себя, и пока зовемся Старателями, но нас уже знают под этим именем. Правильно, ребята?
— По-моему, неплохо. Конечно, называть себя можно как угодно, но, прежде чем выбирать название для вашей группы, следовало бы присоединиться к движению…
Многие голоса раздались одновременно:
— Где?
— Конечно!
— Сейчас же, если можно!
— Этим я займусь, — сказал Рамила, — если все согласны…
Ответ был единодушный:
— Все!
— Надо присоединиться к остальным и поддержать всеобщую забастовку, когда она будет объявлена.
— Все, как один!..
Все стали расходиться поодиночке, чтобы не привлекать к себе внимания. Они попрощались друг с другом и тут же исчезли среди кустарников. След в след, тень в тень. Издалека донеслись голоса Самуэлей, которые тоже разошлись в разные стороны, но в насмешку пели одну и ту же песенку:
…В безбрежных просторах моря, моря, мы видим — подводные лодки проходят, проходят…XXVIII
Капитан Леон Каркамо, сопровождавший падре Феху, остановился в дверях кабинета коменданта. Один из солдат остался сзади и задул фонарь, которым освещал путь. Полусонные караульные, бледные — кожа отливала бронзой под электрическим светом, — заслышав шаги, поспешно поднимались со скамеек. Младший лейтенант, дежурный по караулу, закашлялся. В чалме из полотенца он был похож на мавра. Не говоря ни слова, он сделал несколько шагов рядом с вновь прибывшими, а затем не спеша возвратился на свое место.
— С вашего разрешения, мой майор… — раздался голос Каркамо. Этот голос разбудил всех, кто спал в комнате, где пахло кокосовой пальмой, табаком, старой обувью, пропотевшей одеждой и металлом оружия, — здесь, казалось, царила смерть. Зевок коменданта, утопивший все слова, означал, по-видимому, разрешение.
— Приказ выполнен, мой майор.
Новый гортанный звук дал понять, что капитан Каркамо может быть свободен; из-за его спины показался падре Феррусихфридо, худой и невзрачный — точь-в-точь церковный служка.
— Падресито, я получил приказ отправить вас на границу до наступления рассвета, — заявил майор холодно и нелюбезно, хотя и не грубо. — Вас обвиняют в том, что здесь вы организуете так называемую всеобщую забастовку.
Слова коменданта, который чуть было не проглотил собственную руку, пытаясь прикрыть ею широченнейший зевок, привели в замешательство священника. Лицо его, обожженное солнцем побережья, изменилось. На глаза навернулись слезы. Эта смена чувств была настолько быстрой, что комендант ничего не заметил. Священнику удалось подавить тяжелый вздох, и он тут же овладел собой.
— Это нарушение конституции — никто не имеет права высылать меня по приказу.
— Есть декрет о высылке.
— Тогда об этом должен узнать мой консул, я же иностранец…
— Есть декрет о высылке, что же касается вашего консула, хотя бы он и был здесь, он, конечно, постарается не обращать на это внимание — кому-кому, а ему-то превосходно известно, откуда нажмут на него и на его… консульство. А кроме того, не все ли вам равно, падресито, если земля повсюду одинакова?… Да, язычок-то у вас без костей… — комендант открыл рот, но сейчас не для того, чтобы опять зевнуть, — он прикоснулся пальцем к языку. — Вы намеревались сойти здесь за падре Идальго! Э, у нас это не пройдет! У нас это… не пройдет… Как только вам пришло в голову, спрашиваю я, поставить в церкви изображение индейской богоматери, и это здесь, где даже святые должны быть рыжими, с голубыми глазами — как гринго… Должны быть святые из белого теста, те, которых пекут и продают дюжинами, а не наши здешние, древние, деревянные… из какого дерева полено, из того должен быть и клин, пусть даже на небе… Да, пожалуй, лучше уж зевать, не то у меня язык развязывается!..
Помолчав, он все же подавил зевок и громко позвал:
— Капитан Каркамо!
Капитан вытянулся в дверях. Комендант отдал ему распоряжение: вместе с несколькими солдатами сопровождать падре Феху, остановиться, не доезжая одну милю до станции Тикисате; — дождаться там пассажирского поезда, направляющегося к мексиканской границе, и передать падре Феху человеку, который предъявит свои документы.
— Падресито, — продолжал комендант, закончив этот инструктаж, — у нас есть пара лошадей, вы и капитан Каркамо можете поехать верхом. Расстояние не столь уж велико, но так вам будет удобнее.
Его прервал падре Феху:
— Приказ предписывает выслать меня на лошади?
— В приказе ничего не говорится о том, как мы должны вас доставить к пассажирскому поезду, идущему в сторону границы. Однако, поскольку в приказе также ке указывается — «отправить пешком» или «отправить связанным», то я могу позволить себе удовольствие отправить вас верхом. А пока вы будете находиться здесь, капитан, и учтите, время у вас ограничено, — обратился он к Каркамо, — не допускайте, чтобы сеньор священник с кем-нибудь общался. Падре, я думаю, понимает, что ему самому лучше молчать, в противном случае придется применить ненужные насильственные меры. А если кто-нибудь — везде может оказаться любопытная богомольная старуха — приблизится к вам и спросит, куда вы направляетесь, скажите, что вы, дескать, едете исповедовать больного, хотя теперь, когда началось засилье евангелистов, здешние жители даже исповедаться не желают и умирают, осененные долларом…
Падре Феррусихфридо не нашел слова коменданта остроумными, но ему все же показалось, что тот не желал причинить ему боль и постарался лишь выполнить приказ, даже пытался подсластить пилюлю, — и за это уже можно быть благодарным в нынешние времена.
Потная рука военного задержала на какое-то мгновение тонкую руку священника, тонкую, как листок из требника, никогда не знавшую, что такое труд, даже труд на огороде в семинарии в Чьяпасе, — еще в школьные годы его больше влекли палитры и кисти. Они простились, но падре не решался выйти из кабинета.
— Господин комендант! — Он остановился на пороге, еле сдерживая возмущение. — Я отправляюсь в качестве арестованного?… Или в качестве кого? Вы не показали мне никакого приказа, никакого декрета о высылке. Это же посягательство на свободу личности!
— Вы едете под конвоем, а человек под конвоем — это не арестованный, но и не свободный человек. Он не считается арестованным, потому что он свободен, но и не может считаться свободным, потому что он арестован… Однако, если конвоируемый попытается бежать либо окажет малейшее сопротивление, он закончит свою поездку по земле под землей. Имейте в виду, тысячи ехавших под конвоем похоронены и бредут уже не в качестве людей, а в качестве теней в подземном мраке и холоде, не знаю куда… Вы, конечно, отправитесь на небо. Это уже известно. Прямехонько на небо. Но, собственно, зачем вам отбывать так далеко?… Что же касается приказа, а также декрета о высылке… — он зевнул во весь рот, — так, что же… — он старался сдержать зевок, — раз они вас беспокоят… — он снова зевнул, — …они у капитана Каркамо…
— Да, но мне не дали…
— Падресито, в пути все утрясется, и не мешайте мне, пожалуйста, зевать. И не разыгрывайте из себя судейскую крысу, которая верит только бумаге с печатью. Мой вам совет: отправляйтесь потихоньку, по дороге зайдите в церковь, захватите свои вещички, и как можно подальше уезжайте отсюда до того, как пропоют петухи…
Издалека донесся петушиный крик. Комендант добавил:
— Ах, прохвост, нашелся уже один, поет, но этот, видно, из цивилизованных петухов — считает, что электрический свет не хуже солнца!
Покинув комендатуру, которую освещало несколько лампочек, падре Феху, капитан Каркамо и два сопровождающих их солдата сразу же будто упали в колодец густого, знойного и тревожного мрака. Все молчали. Шли. Четкие военные шаги капитана и солдат по обочине дороги, покрытой щебнем и нефтяными пятнами, никак не сочетались с неуверенными шагами священника, ноги которого били словно в колокол, в полы сутаны — удары в колокол, который только он один и слышал… Ах, если бы он мог взять с алтаря образ Гуадалупской девы и, поднявшись на колокольню, ударить в набат!..
Светляки, звезды, огни фонарей, бросавших блики на рельсы, и здания «Тропикаль платанеры», где все спало при ярком электрическом освещении, были свидетелями того, как четыре тени вышли из комендатуры и направились в поселок, утонувший во тьме. Около здания Компании можно было разглядеть булавку на земле, а в поселке ничего не видно даже на расстоянии вытянутой руки.
На ощупь — Каркамо не позволил даже зажечь спичку — нашли и открыли щеколду дверей еще не достроенного церковного дома, и падре Феху стал собирать вещи.
Каркамо стоял в дверях — застыл в нерешительности: с одной стороны — воинский долг, с другой… платок, платок, которым он вытирал пот… в этом платке словно остались не произнесенные вслух слова, слова, бушевавшие в сердце, не дававшие покоя. Как сообщить об опасности, нависшей над Росой Гавидиа? Все его попытки связаться с Андресом Мединой, товарищем детских лет, оказались тщетными. Да, но как сказать обо всем падресито?… И все-таки нужно сказать… Это была какая-то возможность…
— Вы не беспокойтесь, сеньор, — произнес он наконец, — петухи запоют только тогда, когда мы их услышим! А солдат я отправил за лошадьми.
Падре Феррусихфридо, не задерживаясь в своей комнатушке, прошел в церковь, где запах ладана и серы перемешался с запахом цветов пальмы коросо, жасмина, розы и душистых фруктов — лимонов, апельсинов, грейпфрутов, ананасов, нансе: груды плодов лежали на маленьком потрепанном коврике перед алтарем Гуадалупской девы, куда богомольцы складывали свои подношения.
Он встал на колени и с трудом выдавил из себя слова: «До того как запоют петухи… я должен буду покинуть тебя… у меня нет ничего… и не оставляю здесь ничего… не уношу с собой ничего… моя родина повсюду, пока я не взят на небо!..»
Он встрепенулся, как будто услышал голос Зевуна, который уже был не Зевуном, не человеком, а беспрестанно зевавшим идолом: «Вы, конечно, отправитесь на небо… это уж известно… прямехонько на небо… но, собственно, зачем вам отбывать так далеко?…» Дикарь, ему не понять, что большего и не нужно сыну, который жаждал вернуться к своей матери!.. Но нет, зачем притворяться?… Мне страшно… страшно… — дрожащей рукой он провел по стеклу, за которым покоилось изображение богоматери, как если бы искал выход, потайную дверцу, через которую удастся ускользнуть…
— Прежде чем запоют петухи… — твердил он механически, не замечая, что они уже давно поют, что над полями разлился алый рассвет, воздух стал зноен и розовеющие жемчужинки росы, точно капельки пота, заблестели на травах и на листьях деревьев. На горизонте дремали облака, за которыми нашли убежище звезды, уступив место солнцу, возродившему краски земли.
Он взобрался на лошадь, рядом с ним на более рослом коне ехал офицер. Голова священника едва-едва возвышалась над коленями офицера, немного торчавшими вверх из-за слишком коротких стремян.
Так они двигались навстречу темно-бирюзовой полоске горизонта. Падре не спал, однако, когда их путь пересекли зеленые овраги, он почувствовал, будто только что очнулся от кошмара, и хотя он ехал с открытыми глазами, кошмар продолжал преследовать, слился с действительностью, с явью.
Его лошадь трусила рысцой рядом с конем капитана. Солдаты шли за ними на некотором расстоянии, но не отставая, над их плечами были видны стволы винтовок, а из-за спин высовывались приклады, и солдаты иногда придерживали их руками.
Радость занимавшегося дня, казалось, проникала во все поры. Петухи, взлет птиц, далекие трели, собачий лай, свистки поездов, везущих бананы, крики пастухов, мычание коров, блеяние овец. Оба они, и падре Феху, и капитан Каркамо, чувствовали себя так, как будто только что умылись свежей водой после скверно проведенной ночи, после тяжелой, кошмарной ночи: оба они с удовольствием поговорили бы и сказали бы друг другу нечто большее, чем можно высказать словами. Даже кровь билась в одном ритме с нарождающимся днем. Капитан устроился поудобнее в седле и, словно обращаясь к незнакомому человеку, который ехал в том же направлении — а разве на самом деле не был для него падре Феху именно таким человеком? — показывал ему банановые плантации, истомленные сном в ночную жару.
— Там, по ту сторону банановых плантаций, — отсюда, правда, не видно, — равнина, где солдаты как раз в эти часы занимаются военной подготовкой. Приходится пользоваться утренними часами, а позже, когда солнце поднимется, не выдерживают зноя даже винтовки.
Офицер снял кепи (этот жест на казарменном языке должен был означать: «Тяжело, но что поделаешь!») и провел рукой по каштановым волосам.
— Марши и контрмарши, — продолжал он объяснять, — передвижения, формирования, упражнения с винтовкой, атаки, отступления, стрельба с колен, лежа, упражнения со штыком, рукопашный бой… Конечно, это все выглядит очень внушительно, но солдат с самого начала должен привыкнуть смешивать свою кровь с барабанным боем…
— Понятно, в этот святой час каждый делает то, что может, — промолвил священник, — так всегда и бывает, каждый делает то, на что он способен…
— Да, позвольте вас спросить, вам шеф сообщил, почему вас задержали как опасного иностранца?
— Капитан Каркамо, сказал он мне, везет с собой декрет о высылке.
— Единственное, что я получил, это устный приказ передать вас полицейскому, который будет находиться в пассажирском поезде…
— Я так и думал…
— В таком случае вы не знаете, почему вас высылают…
— Он что-то сказал мне про забастовку…
Оба смолкли. В груди Каркамо горело имя Росы Гавидиа, как частица слова «забастовка». Забастовка!.. Встретил это слово и это имя в перехваченных документах и ощутил пустоту… Да, но что с ней?… Какой она стала?… Та ли это учительница, с которой он познакомился на балу в военном казино много лет назад?… Вначале она ему сказала, что ее зовут Роса Гавидиа, это он прекрасно помнит, а затем оказалось, что ее настоящее имя — Малена Табай… Она ли это?… Та ли самая Роса Гавидиа?… Серропом… Нет, никакого сомнения… А этот лысоватый падре в самом деле может помочь?…
Ветер раскачивал банановые листья. Теперь всадники ехали по лугам, заросшим высокими травами и кустарниками. В этих травах коровы и быки походили на затонувшие суда. Виднелись лишь черные, коричневые, пегие, красные холки и рога, блестевшие на солнце.
— К счастью, не так жарко, — заметил священник, понукая лошадь, которая начинала прихрамывать на одну ногу, как только он отпускал поводья.
Каркамо не без заднего умысла продолжал развивать свою мысль:
— Выдворить вас из страны, как если бы вы были злоумышленником, — этому даже трудно подобрать название.
— Есть название, капитан, есть название! Это произвол. Это произвол, который тяжким бременем лежит на бедных людях: дети некрещеные, христианские души не исповедуются в смертный час, мужчины и женщины сходятся и живут, точно животные, без святого причастия, здесь процветает зло, и потому мне не оказалось здесь места. Вы же слышали, что комендант лишь сообщил мне, что я обязан покинуть страну.
— Приказ был зашифрован, и чтобы вы не слишком плохо думали о шефе, я должен сказать вам, что он очень встревожился. Если у вас есть семья, какие-нибудь друзья или знакомые, которых вы хотели бы известить или передать им записку, то я, разумеется, с удовольствием сделаю это для вас.
— Благодарю вас за ваше доброе сердце. Чего мне хотелось бы, так это проститься с местными жителями и препоручить им заботу о покровительнице — нашей деве индейской, рожденной в цветах… Так сладостно думать о ней… Нет ни одного шипа, который ранил бы руку… Явилась она на пончо индейца… Смуглая… Ее ладони вместе как две целующиеся голубки… Черные косы… Черные дивные глаза и улыбка, словно трепетание листка под свежим ветерком…
Священник говорил все более проникновенно:
— Знаете ли вы, как назвал я ее?… Куаутемосина… Знаете почему?… В честь Куаутемока, нашего национального героя… Да простит меня господь, но я считаю, что дым, подымавшийся от жаровен, на которых жгли ноги Куаутемока, — этот дым, достигнув неба, превращался в облака, а облака дождем или росой опускались на землю… на землю, где росли розы и где индеец Хуан Диэго впервые увидел нашу покровительницу… Однако я скажу вам больше… Еще семинаристом я писал стихи — позднее я посвятил себя живописи как более мирному и нейтральному искусству — я даже написал несколько религиозных псалмов, в том числе благодарственную песнь в честь двенадцатого декабря, дня Гуадалупской девы, и в этой песне назвал ее Куаутемосиной. Из-за этого меня однажды уже высылали; вероятно, мое дело разбиралось в епископстве, в Мехико, поскольку в той благодарственной песне один из моих героев обращался к Куаутемоку: «Отец наш, ты, пребывающий не на ложе из роз, да будут священны ступни твоих ног, ниспошли мне твою волю, коя тверже вулканической лавы!»
Солнце мало-помалу затопило все — и небо, и землю. Зной теперь ощущали не только люди, но и растения. Не чувствовалось ни малейшего дуновения.
Казалось, что изо рта с дыханием вылетают искры, что люди сплевывают жажду и обливаются потом, непрестанно обливаются потом — все вымокло до нитки, влажными и липкими стали седла, ноги горели в ссохшихся и перепревших ботинках, и даже лошадиная кожа, обожженная солнцем, отдавала жаром, как утюг.
— Значит, это из-за Гуадалупской девы вас снова высылают, если можно говорить о высылке, — ведь вы едете к себе, на свою родину, — заметил капитан, его все не покидали мысли о бумагах, которые он обнаружил в доме парикмахера в памятную ночь траурной церемонии и о которых ему так хотелось поведать падре Феху.
Священник прикрыл глаза черными очками, иначе можно было рехнуться от этого беспощадного слепящего солнца.
Они удалялись от побережья, и каменистая дорога теперь вилась меж голых скал, среди которых изредка встречались сосны, по сучьям и стволам которых порой скользили игуаны, тоже искавшие убежища от солнечного огня.
Навстречу попадались мулы в упряжках, нагруженные фруктами, — в сетках лежали авокадо, манго и другие плоды; мулы медленно шагали за первым, на шее которого висел колокольчик, и, будто в ответ на металлический перезвон, в такт взмахивали ушами. По этой дороге нельзя было проехать на телеге. Пешеходы и всадники останавливались, снимали шляпы, приветствуя священника.
Потянулись плантации сахарного тростника. Группы рабочих, не расстававшихся с мачете, отдыхали на берегу речушки или стояли в дверях своих ранчо, под тенью кокосовых пальм, тут же были и их жены и голые ребятишки.
К двум часам пополудни путники наконец достигли той мили, где падре Феррусихфридо должен был сесть на поезд, направлявшийся к границе.
Солдаты расположились под огромным фикусом, прямо на траве, подушками им служили собственные кулаки; всадники проследовали далее в поисках тени. Капитан проехал дальше, желая отвести священника в такое место, где их никто не смог бы подслушать.
Они спешились у высоких бамбуков — священник и офицер уселись рядышком. Мошки и москиты прилипали к потным лицам. В сухих листьях шуршали ящерицы.
— Временами кажется, что уже совсем дышать нечем!.. — воскликнул Каркамо; платок у него превратился в мокрую тряпку, он расстегнул мундир и сорочку. — Воздуха!.. Воздуха!.. Воздуха!..
— Следовательно, вы, капитан, считаете, что моя высылка в действительности вызвана забастовкой, а не происками американских евангелистов, как я полагал?
— Это, по-видимому, совпадение, падресито, но ваши проповеди о Гуадалупской деве кое-кто связывает с отдельными фактами, которые, конечно, не имеют к вам никакого отношения. Однако считают, что вы поставили своей целью поднять дух рабочих. Не знаю, известно ли вам о повышении жалованья, которого добились грузчики бананов, отказавшиеся работать, если им не увеличат плату? Случилось это совсем недавно. Мы об этом узнали в комендатуре, когда получили приказ бросить вооруженные отряды, речь шла даже о том, чтобы захватить с собой пулеметы. Однако позже пришел другой приказ, отменяющий первый, и вот как раз последнее мне очень не понравилось… видите ли, второй приказ исходил не как обычно — от представителей наших властей, а был получен прямо из Соединенных Штатов и передан через управление Компании. Что это такое? Кому мы подчинены? Кто мы, в самом-то деле?…
Каркамо, растянувшийся было на траве, даже привстал и уже сидя продолжал говорить:
— Однако, возвращаясь к вашей истории, я хотел бы спросить вас: какие отношения вы поддерживали с владельцем парикмахерской «Равноденствие»?
— С тем, который умер?
— С тем самым.
— Никаких отношений, гм, если не считать того, что однажды он послал свою жену за мной. Я подумал, что он в преддверии кончины намерен исповедаться. Мне было известно, что он в очень тяжелом состоянии, однако нет, он вызвал меня, чтобы вручить мне священный дар, изображение Гуадалупской девы, которое я и поставил в главном алтаре…
— И ничего больше? Он не говорил вам о том, что в его доме спрятаны пропагандистские материалы, листовки, прокламации, призывающие к забастовке?
— Да у него едва хватило времени, чтобы показать мне, где находится образ, и я был так счастлив, на седьмом небе от счастья…
— Вот в том-то и дело…
Священник умолк, ожидая, что офицер скажет ему еще что-то. Затем осторожно спросил:
— Что вы этим хотите сказать, капитан, «в том-то и дело»? Вы же, конечно, не хотите бросить меня на границе, не разъяснив, в чем дело. Ведь это то же самое, что бросить на произвол судьбы слепого…
— Что касается меня, я хотел бы поговорить с вами. Очень хотел бы поговорить с вами, но… как бы это сказать вам… как мужчина с мужчиной, не…
— Что? — Широко раскрыв глаза, священник приподнялся. — Вы сомневаетесь в том, что я мужчина? Да знаете ли вы?…
Нетрудно было понять, что он хотел сказать: «Знаете ли вы, что я не только мужчина, я — мексиканец!»
— Нет, падре, не обижайтесь!.. Дело вот в чем, я не хочу говорить с вами, как мужчина с мужчиной, я хочу говорить с вами, как на духу, как на исповеди. Это тайна. Это очень серьезно… то, что я вам хочу сказать… что… речь идет о крупном заговоре… — Капитан Каркамо прислушался к собственным словам. — О крупном заговоре… — Он снова вслушался в звуки этих слов — они звучали просто и обыденно, но его потные и горячие пальцы сжались в кулаки, холодом обдало сердце… Нет, не может быть!.. И капитан покачал головой, думая о том, что произнесенные им слова — отзвуки бессонных его ночей, его дневных тревог — ставят под удар его самого, его тело и душу, само его существование…
Священник повернул небритое лицо, взглянул на солдат под фикусовым деревом, и, убедившись, что они, натянув каски на глаза, спят, положил руку на колено капитану, словно призывал его говорить дальше.
— Это узел крупного заговора… — вырвалось у Каркамо; он тяжело дышал и говорил как бы сам с собой. — Меня не интересует судьба этого заговора, но я должен спасти одного человека, серьезно скомпрометированного…
— Следовательно, заговор уже раскрыт… — Священник протянул последние слоги, и это придало его словам несколько вопросительный и какой-то интимный оттенок, словно они были на исповеди; ему както не пришло в голову, что это признание капитан Каркамо сделал, быть может, потому, что предполагает, будто и он, Феррусихфридо Феху, замешан в этой истории, нити которой тянулись от умершего парикмахера.
— Поскольку я военный, меня могут приговорить к смертной казни только за то, что я не доложил начальству обо всем… Да что там — не доложил! То, что мною сделано, падре, гораздо хуже, во много раз хуже…
Он поднял платок, пропитанный потом, и поднес его ко рту, но не стал вытирать губы, а засунул его в рот, как кляп, да так глубоко, что чуть не задохнулся, а быть может, этим штопором из белой тряпки он пытался вытащить застрявшие в горле слова.
— Успокойтесь, капитан, и продолжайте — поезд может появиться с минуты на минуту. Вам станет легче оттого, что вы поделитесь со мной. Итак, вы сказали, гораздо хуже…
— Да, да, худшее уже содеяно мною! Я утаил, именно утаил… утаил от коменданта некоторые документы из тех, что обнаружил в доме парикмахера в ночь траурной церемонии, когда изъял эти бумаги… Но что за скотина парикмахер… хранить у себя такие документы!.. (Он не решился сказать священнику, почему он сделал это, почему оставил у себя бумаги, где упоминалась Роса Гавидиа, — ведь он надеялся передать ей документы и под этим предлогом увидеться с ней и, может быть, даже восстановить прежние отношения…)
— В этих бумагах указывалось и мое имя? — в тревоге спросил священник.
— Ваше имя? Нет, нет… — Капитан помахал указательным пальцем. — Но зато я встретил имя человека, которого хотел бы предупредить… Этот человек должен скрыться… конечно, он ни в коем случае не должен знать, кто ему помог, поскольку я нахожусь на военной службе. И вот еще в чем дело, падре: я не смог просмотреть все документы, изъял лишь те, где я успел заметить имя этого человека, где оно бросалось в глаза, но там еще осталась гора бумаг… я очень опасаюсь, вдруг еще где-нибудь упоминается имя…
— И мое?
— Может, и ваше… кто знает.
— В таком случае, капитан, умоляю вас, бога ради, скажите мне скорее, прежде чем подойдет поезд, о ком идет речь и что я должен сделать, каким образом предупредить его об опасности, чтобы он успел скрыться. Разумеется, никоим образом не компрометируя вас, ввиду вашего положения…
И в ту же минуту священник опомнился — как хотелось бы ему взять обратно свои слова, проглотить их. Он не на шутку испугался, когда подумал, что капитан, возможно, разыгрывает комедию, чтобы спровоцировать его, и тогда его участие в подготовке всеобщей забастовки будет доказано, у его противников окажутся в руках все основания для ареста.
Пока падре Феху мучительно обдумывал все это, внутренне раскаиваясь в том, что он сболтнул лишнее, капитан Каркамо рассказал, как во время траурной церемонии комендант, услышав неосторожные высказывания вдовы дона Йемо, приказал ему произвести обыск в парикмахерской, конфисковать все бумаги и доставить к нему в кабинет. Он, капитан, совершенно ке представлял себе тогда, что человек, покоившийся в гробу меж четырех свечей толщиной с палец, этот цирюльник, который лежал, укрытый полевыми цветами, был агентом связи Э 1 забастовочного движения в Тикисате.
От земли, окутанной буйной зеленью, поднимался зной, влажный и обжигающий. Время от времени били копытами о землю лошади, словно жаловались на жажду и выпрашивали влаги у земли; порой откуда-то срывалась тяжелая птица и парила, распластав крылья, над высокими деревьями, видневшимися на горизонте, сквозь которые кое-где проглядывало море.
Капитан во всех подробностях рассказал священнику о планах готовящейся забастовки, о том, как организаторы ее надеялись, — а это подтверждает документ, находящийся в руках офицера, — парализовать жизнь всей страны, и падре Феху, несмотря на одурманивающую полуденную жару, заинтересовался и даже начал проникаться доверием к капитану.
— Как только я перейду границу и буду свободен — у себя на родине, я постараюсь вам помочь. Быть может, удастся поддерживать связь через пограничные селения, где нет строгого надзора и откуда легче посылать известия…
— Падре, вы, мексиканцы, известны своей щедростью на обещания.
— А что я сейчас еще могу сделать? Но ведь случается иногда — мы выполняем свои обещания, — а на этот раз даю вам слово! Впрочем, вы так и не сообщили мне ни имени, ни адреса этого человека…
— Адрес у меня есть. Что же касается имени, разрешите прежде пояснить. Имя, указанное в бумагах, — это не настоящее ее имя…
— Так речь идет о женщине?
— Да. Об одной учительнице… Адрес у меня есть, но самое главное — ее имя. Оно связано с прошлым, старые воспоминания. Много лет назад на бале-маскараде в военном казино я подцепил, как говорится, очаровательную крестьяночку, которая назвалась Росой Гавидиа. Всю ночь напролет мы танцевали, вместе поужинали, и я объяснился ей в любви. Она чуть ли не ответила согласием. На разу я не назвал ее по имени, и только когда мы стали прощаться, она сказала мне, что ее зовут не Роса Гавидиа, а Малена, и фамилия ее — Табай. Значит, ее настоящее имя — Малена Табай…
И, взглянув на часы — с минуты на минуту должен подойти поезд, — уже совсем доверительным тоном капитан сказал:
— Мы долго переписывались. Мои чувства становились все сильнее, однако она решила оборвать переписку — я, по ее мнению, был чересчур молод. С тех пор я никогда и нигде не встречал это имя: Роса Гавидиа… до той ночи, до той минуты, когда на письменный стол шефа я выложил бумаги, обнаруженные в доме парикмахера. Будто что-то вспыхнуло в моей памяти. Я снова увидел ее. Я снова увидел ее такой, какой встретил тогда в казино, в тот вечер, когда мы танцевали… И сейчас, изъяв роковые документы, я как бы подал ей руку, и не как неизвестной маске, а как тени любимой, — почему бы в этом не признаться? — приглашая ее на танец пыток и расстрелов, ужаснейший из танцев…
— А если это совсем не она?… — прервал его священник.
— Я уже ломал себе голову. Но сомнений нет. Малена Табай была директрисой женской школы в Серропоме, и Роса Гавидиа, согласно документам, которые я нашел при обыске, живет там же. Это очень маленькое селение в горах, оторванное от всего света, туда очень трудно добраться.
— Да поможет нам господь, — произнес священник; он расстегнул верхние пуговицы сутаны, снял воротничок, развернул его и на внутренней стороне дрожащей рукой написал: Роса Гавидиа, Малена Табай, Серропом.
Затем он водворил воротничок на место — ему с трудом удалось прицепить запонки: распухшие от жары и влажные пальцы не повиновались ему. Как было бы хорошо одним рывком сорвать с себя воротничок, чтобы не резала шею эта вечная гильотина! Застегнув сутану, он снова заговорил:
— Сейчас, естественно, мне незачем спрашивать вас, капитан, почему меня высылают из вашей страны. В самом деле, этот парикмахер, да простит его господь, был… этим самым… именно этим самым… как вы его назвали… И когда я призывал с алтаря Гуадалупскую деву, он неожиданно пожертвовал ее церкви…
— Да, он был очень подозрителен. Этого человека считали атеистом, и он, наверное, действительно был атеистом, но коль скоро он ни во что не верил, так почему же подарил вам изображение богоматери?… У него нашли много отпечатанных в типографии листовок, призывающих к всеобщей забастовке, а также газеты со статьями подрывного характера…
— До того как придет поезд, я еще хочу объяснить вам: не думайте, что мои настойчивые требования показать мне декрет о высылке или приказ вышвырнуть меня отсюда — крепкие словечки в таких случаях не грех! — формализм или пристрастие к бумажке, к букве закона. Моя настойчивость объяснялась тем, что в документе я хотел найти причину, почему же все-таки меня объявили нежелательной персоной. Я собирался возражать, если меня обвинят в поджигательстве. Вы знаете, что у евангелистов подожгли часовню, и нашлись такие типы, которые утверждали, якобы это я призывал к поджогу, и кто-то даже будто бы видел меня с факелом в руках, я, видите ли, запутался в сутане и едва не упал…
Жалобно застонали рельсы перед подходившим поездом, и, прежде чем показался паровоз, солдаты уже вскочили и встали рядом с лошадьми, вскинув винтовки на плечо.
— Значит, в таком случае… — горько улыбнулся священник, подымаясь со своего места, — значит, в таком случае меня выслали… из-за того, что я мексиканец… — Каркамо улыбнулся, — и из-за Гуадалупской девы…
Поезд начал притормаживать издали. Длинный поворот позволял рассмотреть цепь тянувшихся за паровозом вагонов, в окошки которых выглядывали любопытствующие физиономии. Пассажиры умирали от жары, однако хотели узнать, почему поезд останавливается там, где нет никакой станции.
— Это очень деликатно с вашей стороны, — поблагодарил падре Феху капитана, который, внезапно побледнев, приказал солдатам заняться лошадьми, чтобы пассажиры, столь падкие до новостей, не поняли, что этого священника привезли сюда под конвоем. Офицер пытался разыгрывать роль друга, прибывшего сюда проститься с падре.
Паровоз медленно задерживал движение своих поршней, пока не остановился, скрипя на рельсах, посыпанных песком. Как только Феррусихфридо Феху поднялся с чемоданчиком на первую ступеньку подножки, его встретил какой-то часто-часто мигавший человек с лицом цвета жухлого шафрана. Конвой возобновил свой марш, и появившиеся снова в окошках пассажиры замахали руками, прощаясь с незнакомым им капитаном.
Каркамо вскочил на своего коня. На другую лошадь уселись оба солдата. Один засунул ноги в стремена и взял поводья в руки; второй сел сзади, спустив ноги и крепко обхватив поясницу товарища. Они понеслись во весь опор, насколько способны были мчаться их лошади. Шоссе — покрытая черным битумом дорога — бежало меж деревьев, прикрывавших всадников тенью густой листвы. Несколько позднее они углубились в кустарники, опушившие сельву, не то островок сельвы, прилегший, как укрощенный зверь, — распушилась тут сельва листьями, похожими на цветы, листьями-цветами, что рассыпались то коралловыми брызгами по желтому фону, то кровавыми бликами по свинцово-серому, то апельсинно-огненными звездочками по черному, то лиловыми мушками по белому… длинные листья, отливавшие янтарно-розовым, листья-раковины цвета перламутра и яшмы, листья с волосками, листья, исколотые невидимой иглой…
— Откуда вы взяли лошадей? — спросил офицер.
Солдат, сидевший на крупе, ответил:
— Нам одолжил их евангелист. Мы сказали ему, что это для сеньора коменданта, и он одолжил для сеньора коменданта. Он сказал: «Доставьте их сеньору коменданту», и мы оседлали их и привели сеньору коменданту.
— Если бы священник знал об этом, ни за что бы не сел в седло…
— Да и евангелист вряд ли дал бы нам лошадей, если бы узнал, что это для падре, — заметил солдат, который держал в руках поводья.
— Мы от сеньора коменданта, сказали мы ему, — повторил другой солдат, — и для сеньора коменданта он одолжил…
Каркамо пришпорил лошадь, словно бешеный галоп мог заглушить его мысли. Галопом! Но и галопом отмахав путь, трудно было примириться с тем, что увидел. Оказывается, Моргуше — самому жестокому из агентов секретной полиции — было поручено проводить падре Феху до границы. Неужели они решили покончить с ним?… Но как?… Застрелить по пути?… Сбросить с поезда?… Или арестовать, бросить в тюрьму, в застенок — на всю жизнь, а кто-то другой появится под именем священника и пересечет границу, чтобы иммиграционная служба отметила его в документах?… Моргуша не остановится перед убийством, если жертва в его руках… одним мексиканцем станет меньше, тем более что против него есть улики, вещественные доказательства: на воротничке написано — Роса Гавидиа, Малена Табай, Серропом…
Они остановились перед лачугами на окраине поселка. Босые солдаты спешились — соскочили на землю. А их начальник медленно вынул ноги из стремян.
— Верните этих лошадей туда, где взяли, — приказал Каркамо солдатам, — и ни слова о том, куда мы ездили и зачем. А потом отправляйтесь в комендатуру и доложите о своем прибытии дежурному офицеру.
Начинало темнеть. Солдаты ушли, ведя лошадей в поводу. Каркамо огляделся. С тех пор как он нашел и спрятал документы Росы Гавидиа, он постоянно испытывал какую-то тревогу, его преследовала мысль, что за ним следят, и уже много раз его пугало эхо собственных шагов и собственная тень… Он решил закурить. Взглянул на горевшую спичку, спрятанную в решетке пальцев, чтобы ветер не погасил огонек, и у него мелькнула мысль: точно так же можно поступить и с теми документами, из-за которых подвергается смертельной опасности его жизнь, — поднести к ним спичку…
XXIX
Погруженный в туннель сутаны, обливаясь потом от жары, от тревоги и. особенно от тяжести чемодана, падре Феху влез в вагон первого класса. Он едва устоял на ногах, когда вагоны стукнулись буферами и дернулись, потому что поезд возобновил свой ход. Священника угнетали горькие мысли — его везут под конвоем; он едва не падал с ног от усталости, и казалось, что только желание убежать от собственных мыслей, от этой ужасной реальности заставляет его двигаться. Он не мог примириться — ни в какой степени — с тем, что его высылали на родину как опасного иностранца, как нежелательную персону, под надзором полицейского шпика, одетого в штатское, шпика, который беспрерывно мигал, издавая при этом легкий шорох, похожий на шум моросящего дождя, — и это был единственный признак жизни на лице этой мумии с бесцветными губами, вздернутым носом, широкими скулами, оттопыренными ушами и золотыми коронками во рту, — вот уж истинно жандармское кокетство! — а руки, Моргуши были сплошь покрыты массивными кольцами, среди которых выделялся большой перстень р кровавым рубином. Падре Феху даже не представлял себе, в руки какого страшного палача он попал.
Удовлетворив свою любознательность, пассажиры оторвались от окошек и, как только поезд тронулся, стали рассаживаться по местам. Многие приветствовали священника теплым словом или просто кивком, но были и такие, кто считал за дурное предзнаменование ехать вместе с этой черной птицей; были, впрочем, и такие, кто в присутствии священника чувствовал себя ближе к вечной истине, и всех томило любопытство — куда это направляется падресито в такую пору? Одним представлялось, что он возвращается после мессы, отслуженной в каком-то соседнем селении, другим — что он едет соборовать какого-то местного богача.
Но на лице падре не было того торжественного выражения, которое обычно оставляет месса; оно было пасмурным, подернутым той особой, печальной дымкой, которая появляется у священников, помогающих человеку умереть по-христиански.
А что за офицер его сопровождал? Правда, он его лишь проводил, посадил на поезд. Разумеется, он охранял его, потому что усилились слухи о забастовке, а быть может, и потому, что на дорогах стало неспокойно.
Моргуша, получивший подробные инструкции, как вести себя, чтобы скрыть истинный характер своей миссии и тот факт, что священник является политическим преступником, — ведь его называли опаснейшим мексиканцем — пустил в ход изысканнейший из своих жестов, приглашая падре занять более удобное место в купе, где они должны были ехать вместе. Падре Феррусихфридо выбрал место у окна — здесь было больше воздуха и света; в этом углу полицейскому легче было за ним наблюдать, а с другой стороны, как это ни парадоксально, арестованный священник тут чувствовал себя более свободно: он мог созерцать небо.
Он оторвал взгляд от окна. Трудно было смотреть: земля сливалась с небом. И он решил заняться чтением «Божественных служб», положив книгу на колени и придерживая ее правой рукой. Левой рукой он расстегнул воротничок сутаны, прежде чем начать молиться. Хорошо хоть он избавлен от этого неприятного, отвратительного соприкосновения с полицейским. Но едва он притронулся к первой пуговице, как почувствовал, что пальцы его тут же онемели и холодом сжало сердце — он вспомнил, что за этой пуговицей, на обороте белого воротничка написано имя Росы Гавидиа, одной из тех, кто наиболее скомпрометирован, кто непосредственно связан с зарождающимся забастовочным движением… Роса Гавидиа, которую звали также Маленой Табай… и указано название маленького селения — Серропом, никогда ранее не слыханное.
Он попытался сделать вид, что просто потрогал половину яблока, которую оставил нам в наследство наш прародитель Адам, так и не сумев проглотить ее, а сам искоса поглядывал на Моргушу. Ужасно, вдруг тот разгадает его тайну! Ведь тогда его повесят. Его повесят немедля, и этот воротничок станет петлей. Он медленно обвел взглядом лица немногочисленных пассажиров, которые сидели в этой тюрьме на колесах, — кто они, просто пассажиры первого класса или заключенные особой важности? Все они казались измученными, пришибленными; то и дело почесывались, изнемогали от жары, потные, полусонные. Женщины обмахивались газетами вместо вееров, прически были в беспорядке — и на лицах и на одежде их также отложил свою печать нестерпимый зной. Мужчины с каким-то странным выражением — не то улыбка, не то гримаса боли — встряхивали головами, словно желая избавиться от глухоты, как это бывает при резком спуске или от попавшей в ухо воды, как это бывает, когда человек плывет, и внимательно прислушивались к шуму поезда.
В конце вагона ехали два китайца. Более молодой — с кожей цвета воска и янтаря и черными жесткими волосами, напоминающими листья шпажника, второй был постарше — толстый, лицо испещрено оспинами, глаза закрыты темными очками. Они сидели неподвижно, глядя прямо перед собой, и это выделяло их среди изможденных зноем и утомленных путешествием других пассажиров, которые возились на своих местах в поисках более удобного положения и приходили в отчаяние от монотонного движения поезда, этого железного насекомого, прибитого солнцем к расплавленным рельсам, приходили в отчаяние оттого, что время тянулось медленнее поезда, и оттого, что нечем было дышать.
Какая-то молодая чета, не обращая ни на кого внимания, следила лишь за тем, как их детишки то и дело исчезали в туалете. Видимо, ребятишкам нравилась эта полутемная и вонючая каморка, где можно было смотреть в окно за кинематографически быстрой сменой пейзажей, где можно было плевать и мочиться в отверстие в полу вагона и глядеть, как плевки и капли, подхватываемые под вагоном воздушным потоком, стремительно слетают и разбиваются о шпалы.
Когда они возвратились после очередного посещения туалета и сели на свои места, падре Феху подозвал их к себе. Они встали и испуганно взглянули на него. Не хотели подходить. Не осмеливались. Полицейский подобрал ноги под сиденье, давая им проход. Что же ответить почтенному падресито, если он вдруг их спросит, почему это они все время бегают в туалет? Конечно, они бегали туда только плевать — и любоваться, как падают плевки на быстро убегающую под полом вагона землю; они и сами не понимали, почему им так нравится, но уж очень хорошо там плевать, — ой как хорошо!
Священник протянул им руку, точно взрослым. Затем спросил, как их зовут, откуда они едут, сколько им лет. На все вопросы они ответили. И, поскольку они совсем недавно впервые причащались, им легко было отвечать даже на кое-какие вопросы из катехизиса. Катехизис, как материнское молоко, оставался еще свежим на их устах. Старший из мальчиков, более смелый, попросил падре подарить им священные картинки.
Картинки?
У него с собой картинки были, но лежали они в чемодане, а тот находился под сиденьем, и достать его было нелегко. Однако падре попросил разрешения у Моргуши вытащить и освободить от подпруг это спящее животное — чемодан в ремнях всегда казался ему каким-то спящим животным. Сосед по купе вызвался помочь:
— Не беспокойтесь, падре. Если позволите, я достану…
— Да благословит вас господь. Я хотел бы подарить картинки этим созданиям… — и, приподняв крышку чемодана, он на ощупь стал перебирать вещи. — Дети, вот это изображение Гуадалупской девы, нашей латиноамериканской девы, которая предстала перед индейцем Хуаном Диэго…
Пассажир, который оказался столь услужливым человеком и помог вытащить чемодан священника из-под скамьи, предложил сигарету Моргуше. Но тот неуверенным движением дрожащей руки отстранил пачку, из которой торчала сигарета, и, не произнеся ни слова, прикрыл глаза, откинувшись на спинку сиденья. Полицейский тяжело дышал, крупные капли пота катились по его лицу, весь он странно передергивался, как будто молнии ударяли в его кишках.
Мальчики, получив подарки от священника, отошли и весело запрыгали на одной ноге — им хотелось поскорее показать родителям то, чем их одарил падре, однако и мать и отец любовались рекой, через которую по мосту сейчас проходил поезд.
Неожиданно Моргуша почувствовал, как его рот наполнился чем-то очень-очень кислым, сначала жидким, а потом плотным. Крепко зажав рукой рот, он сорвался с места и ринулся в туалет, где, опершись о стену, изверг из себя — через рот и нос — водопад: суп из креветок, авокадо, мясо, картофель, бобы, бананы, масло, кокосовое молоко… Все, что было поглощено перед отъездом.
— Падре… падре… — быстро прошептал пассажир, помогавший священнику достать чемодан; лишь только сейчас Феху рассмотрел его — это был очень высокий человек, говорил он с заметным гондурасским акцентом. — Падре, меня зовут Рамила, Лоро Рамила. Я принес вам кое-какие вещички, которые вы забыли у себя в комнате!..
— Ах да… — ответил падре Феху, не зная, как ему себя вести — он напряженно прислушивался к тому, что делается в туалете; он боялся, что Моргуша внезапно вернется и услышит его разговор с неизвестным. — Да, я так поспешно уезжал, что лишь на полпути вспомнил: забыл сувениры из Иерусалима… Да воздаст вам господь!
Рамила намеренно замолчал, чтобы священник услышал, как Моргуша освобождается от своего завтрака, а поезд дремотно, медленно полз по рельсам.
— Так вот, я хотел рассказать вам, как попали в мои руки вещички, забытые вами…
Священник, казалось, заинтересовался, однако его внимание по-прежнему было приковано к полицейскому в туалете.
— Как только тот военный, Каркамо, пришел за вами, чтобы увести вас в комендатуру, мы с товарищами решили охранять вашу комнату, пока вы не вернетесь. Я был в церкви. Спрятался за кафедрой и потому, сам того не желая, услышал, как вы жаловались Гуадалупской деве. И тогда я понял, сколь прекрасна вера, возвращающая человеку вечно живую мать, — ведь только матери можно поведать свои горести, лишь она одна услышит, — вы жаловались Гуадалупской деве, как ребенок. Затем вы сели на лошадей, которых дал евангелист… — Священник так и подскочил, услышав эти слова, и даже решил было пустить в ход… руки, хотя бы для того, чтобы окропить себя святой водой… да вот, как назло, вылилась она, пока он ехал на лошади.
— Вы уехали… — продолжал Рамила, — а я побежал в вашу комнату, думая, что, быть может, вы оставили там какое-нибудь письмо, что-нибудь еще, и нашел там эти вещички. К счастью, я поспел на поезд в Тикисате и сумел занять здесь стратегические позиции. Один из наших товарищей — большинство людей, работающих на железной дороге, заодно с нами, — сообщил мне, что в вагоне едет Моргуша. Мне передали, что полицейский, по-видимому, должен сопровождать вас, падре. Так оно и оказалось…
Священник поблагодарил его — упрашивая, умоляя взглядом, чтобы тот ушел.
— Я боюсь вас скомпрометировать… — сказал падре ему наконец, дипломатично давая понять, что незнакомцу лучше вернуться на свое место.
— А почему сейчас? Как только появится Моргуша…
— Что, так его называют?
— Да, это самый неприятный тип из всей секретной полиции. Кто знает, зачем выбрали его? Быть может, не столько для того, чтобы сопровождать вас до границы, сколько для того, чтобы спровадить вас куда-нибудь еще. Однако я должен вас успокоить — ни вы, ни я не можем скомпрометировать друг друга, я просто пассажир, которому захотелось поговорить с падре. Ведь никому не известно, что этот скот — полицейский, а вы — арестованный.
Тревога все больше и больше охватывала падре Феррусихфридо, теперь он не только боялся Моргуши, но и начал волноваться еще по поводу того, что услышал от Рамилы.
— Успокойтесь, падре, вы не одиноки! Будьте уверены, здесь вы под надежной защитой, и я тоже вооружен. Если этот мерзавец попытается что-нибудь сделать, мы тут же его прикончим. Самое главное — не скомпрометировать вас. Сейчас, когда он опоражнивает свой желудок, конечно, отменно подходящий момент, чтобы вытащить его в тамбур и, как будто желая помочь ему, сбросить с поезда. Пусть себе отправляется прямой дорогой в ад, там его давно уж поджидают…
Священник никак не мог успокоиться — он даже не слышал, о чем ему говорят. Рамила понял это.
— Успокойтесь, падре! Успокойтесь, я ухожу на свое место! Но прежде мне хочется сообщить вам, если вы пожелаете известить каких-то лиц — родственников, друзей, курию или мексиканское консульство… вы скажите мне, я все сделаю…
— Известить кого-нибудь… — повторил священник, вспомнив просьбу капитана Каркамо, однако мысли его испарились… (да, да, предупредить Росу Гавидиа, или Малену Табай, в Серропоме) испарились, как только он услышал стук двери туалета. Падре бросил взгляд на полицейского. Моргуша, держась за опустевший живот, еще не мог найти себе места — мутные глаза слезились, волосы повисли патлами; его пиджак, и брюки и даже туфли вымазаны — тщетно пытался он вытереть их носовым платком, который тоже был испачкан, так же как и галстук, и обшлага, и лацканы пиджака.
Феху хотел почитать молитвы, однако кожаный переплет «Божественных служб» и тонкие странички отсырели и слиплись — он вынужден был отложить книгу, но про себя он молился. Молился всем сердцем, обращаясь ко всем святым, прося о ниспослании благодати, пусть хоть кто-нибудь из них оторвется на мгновение от своих небесных дел, пожертвует блаженством райским и… пощекочет перышком в глотке субъекта, сидевшего рядом, чтобы тот опять поднялся и удалился…
И в самом деле, видно, кто-то из святых целителей, оторвав свое перо от священных писаний, пощекотал им в глотке Моргуши. Раз, другой, третий — тяжело отрыгнув, покрутив головой и как-то по-животному всхлипнув, Моргуша стремительно поднялся и, покачиваясь, будто пьяный, вдребезги пьяный, снова скрылся в туалете.
На этот раз священник — еле заметным жестом — подозвал к себе Рамилу. У падре Феху буквально во рту пересохло при воспоминании о просьбе капитана Каркамо. Предупредить Росу Гавидиа, или Малену Табай, в Серропоме, что в парикмахерской «Равноденствие» найдены документы, чрезвычайно компрометирующие ее…
Вспомнил он «Равноденствие» и крепко сжал в руках «Божественные службы», засунул книгу в карман сутаны. Возник в памяти и дон Йемо, который перед кончиной так осчастливил его — пожертвовал для церкви изображение Гуадалупской девы, Куаутемосины…
— Да, мне все-таки удалось возвести ее на алтарь!
— Я думаю, что ее оттуда убрали, как только вы уехали.
Со всем уже примирился падре, но эта весть была худшей из всех — он то широко раскрывал глаза, то зажмуривал их, боясь поверить…
— Скажите… говорите…
— И если ее еще оттуда не убрали, то уберут, потому что «Тропикаль платанера» распорядилась водрузить в церкви изображение святого Патрика…
— Святого Патрика?
— Да, он, как говорят, покровитель Нью-Йорка, и поскольку они разыгрывают из себя гватемальских патри…отов, то своего Патрика втаскивают на алтарь…
Рассмеялся Лоро Рамила, чуть не задохнулся своим смехом попугая лоро, который никогда не смеется сам, а только подражает смеху других, однако тут же пришлось Рамиле подавить приступ смеха, когда он увидел, насколько сражен этим известием падре Феху. Священник заговорил о том, как стали ныне злоупотреблять именем святого Патрика, которого в свое время уже использовали в качестве покровителя пиратов, хотя ничего общего он не имел ни с англичанами, ни тем более с американцами, и, наоборот, он всегда был настроен против тех и других, будучи апостолом Ирландии. Священник говорил и часто моргал, пытаясь сдержать слезы, как вдруг у него возникла мысль, что, мигая, он невольно подражает Моргуше. Рамила навострил ухо, пытаясь определить, что же произошло с Моргушей в туалете, — оттуда уже не доносилось никаких звуков. Полное молчание… Он поднялся. Пожалуй, лучше посмотреть. Взглянул и вернулся.
— Беспокоиться нечего, падресито, мы можем спокойно беседовать. Этот мерзавец уже ничего не чувствует, не видит и не слышит… Я пощупал его — такими холодными бывают только покойники.
— Быть может, надо помочь ему… может, он пожелает исповедаться…
— Ах нет, падре! Такой негодяй, да что вы! Нет! Уж не хотите ли вы открыть врата небесные перед преступником?
— Но разве вы не понимаете, что это мой долг… кроме того, могут осудить меня…
— Пусть его осуждают силы небесные!
— Не следует так говорить! Это же вечный огонь! Вечная жизнь в аду!
— Мало! Очень мало за все его кровавые злодеяния! Эх, пусть лучше мои глаза увидят, что он умер без отпущения грехов! Вы отсюда не двинетесь! Ах, как бы хотел я быть уверенным, что он отправится в ад!
— Кощунство!
— Кощунство?… Если бы я был уверен, что ад существует… меня одолевают проклятые сомнения, они не позволяют мне насладиться… Насладиться местью!.. Только бы этой кровавой бестии не удалось уйти от возмездия! Ведь это он расстреливал в порту забастовщиков, попавших в кольцо, — с одной стороны винтовочный огонь, с другой — акулы… А я видел, видел этих людей перед лицом смерти, наших товарищей, одетых в лохмотья, я видел, как они отступали на самый край мола, раненые, изувеченные, обливавшиеся кровью; я видел, как они падали в море, и вода становилась красной… А потом — акулы… и мертвая тишина… Эх, если этот бандит и останется жив, так только из-за вас. Если бы не вы, я давно бы пристрелил его. Не повезло мне! Впервые он попался мне на мушку… и вот я ничего не могу сделать из-за вас — иначе, конечно, осложнится ваше положение. Но уж чего я никак не смогу допустить — чтобы вы молились за него… да еще рукой помахали…
— Раз вы считаете, что я просто «машу рукой», так почему же вы не позволяете мне пойти? — спросил священник.
Ответ Рамилы был незамедлительным и неожиданным:
— Все из-за того же, из-за сомнений!.. Из-за сомнений! А вдруг окажется, что вы правы, и это его спасет!..
Дверь туалета распахнулась. Дальнейшие дискуссии были бесполезны. На пороге появился Моргуша, но тут же захлопнул дверь, — он настолько обессилел от безудержной рвоты, что не успел в нужный момент снять брюки: черепахой галапаго повис на его заду пластырь, начавший расползаться по бедрам, по икрам.
Ему стало легче. Просветлело в голове, как всегда, когда избавляешься от пищи — пусть через рот, через нос, через…
Но надо было умыться, надо было вымыться, надо было сменить белье, туфли, а как выйти отсюда? Как выйти?
Так он и сидел, закрывшись в туалете, пока не появились другие агенты, его подчиненные, которые ехали в вагоне второго класса — без формы, переодетые в штатское, как местные жители; пренебрегая своей обязанностью торчать всегда на глазах начальства, агенты уснули под монотонный перестук колес поезда, забыли даже о том, зачем они здесь и для чего в карманах у них пистолеты, пули, резиновые дубинки, от удара которых на теле жертвы не остается следа, свистки и наручники. («Как же все-таки очиститься, как выйти отсюда?» — горестно размышлял Моргуша, осторожно ощупывая одежду и боясь сделать лишнее движение: все промокло, покрылось изнутри горячей, липкой кашей.)
— Нет никакой нужды просить извинения. Если вы раскаялись, вы уже искупили свои греховные слова…
— Греховные, но они от чистого сердца, падре!
— От чистого?… Пречистая дева Мария!..
— А знаете, как обернулось дело, — продолжал Рамила в раздумье, — тот самый капитан, который просил вас известить эту учительницу в Серропоме, сообщить ей о документах, ведь чуть-чуть не бил убит в ту ночь, когда он по приказу коменданта нес бумаги, найденные у парикмахера, чтобы доставить их в комендатуру. Само собой понятно, даже комендант не знал, что в этих документах. Если бы ему это стало известно, он, очевидно, сам забрал бы все и тут же дал бы шифровку в столицу о том, что он раскрыл одного из наиболее важных наших связных…
Время от времени слышалось, как Моргуша приоткрывал двери туалета. Рамила и священник тут же умолкали, но как только раздавался резкий стук захлопнувшейся двери, они возобновляли беседу.
— Да, той самой ночью два наших товарища сидели в засаде, выжидая, когда пройдет капитан…
— А как они узнали, что он несет документы?
— Один из этих товарищей, друг детских лет Каркамо, случайно подслушал разговор во время траурной церемонии…
— Друг детских лет и… донес?
— Его долг был спасти товарищей по борьбе, и поэтому он не только сообщил о случившемся, но и сам пошел в засаду. Он и еще один хороший стрелок спрятались там, где должен был обязательно пройти капитан, направляясь в комендатуру. Там им предстояло покончить с капитаном, перехватить бумаги, иначе коменданту пришлось бы арестовывать почти всех жителей побережья…
После паузы — слышно было, как снова открылась и захлопнулась дверь туалета; Моргуша не решался выйти и выжидал, не появится ли кто-нибудь из его подчиненных, — Рамила продолжал:
— К несчастью, нам не удалось перехватить документы… бумаги попали в руки властей. Пришлось изменить план действий, ускорить ход событий. Один офицер — он, как обычно, спешил на свидание, кстати, его любовница почти что моя землячка, она из Гондураса, — возвращался со своим отрядом после ночного патрулирования и встретился с капитаном Каркамо буквально в нескольких шагах от того места, где капитана поджидали две заряженные винтовки. Таким образом, сам того не подозревая, этот другой офицер спас жизнь капитану Каркамо. Те, кто поджидал Каркамо, не стали стрелять, поняв, что в подобных обстоятельствах…
— Им просто не хватило храбрости… — перебил его священник, бросив своего рода вызов, по-мексикански.
— Им не хватало оружия… Термины — «храбрецы» и «трусы» годятся, скажем, для дуэли, но в такой борьбе, как наша, они не имеют смысла…
— Боже мой! — встрепенулся священник, ладонью провел по лбу и прикрыл глаза. — Что я наделал!.. Затмение нашло… проговорился, назвал имя, а человек меня просил… он на военной службе, офицер… его же расстреляют… Забудьте обо всем!.. Обещайте мне!.. Господом богом вас заклинаю, пусть никогда не сорвется с ваших уст имя капитана Каркамо… Но вы не будете молчать, ведь он — ваш враг… Донесите на меня, если хотите… Скажите, что это я узнал тайну бумаг, когда парикмахер вызвал меня, чтобы подарить мне изображение Гуадалупской девы, что некоторые из этих документов остались в моих руках и поэтому я смог предупредить учительницу, чтобы она бежала…
— Каркамо уже не враг. Успокойтесь, падресито, я больше всех заинтересован в том, чтобы никто не знал о Каркамо и о той великой услуге, которую он оказал нашему народному делу, изъяв компрометирующие документы. Самое важное сейчас — это Каркамо!..
— Простите, я не хотел, чтобы вы, узнав секрет… как я, злоупотребили доверием…
— …чтобы я, узнав секрет… узнав, что он будет вынужден вручить мне документы… Это был бы шантаж… А мы не заинтересованы в том, чтобы шантажировать или покупать военных, которые в минуту опасности, спасая свою шкуру или свое имущество, становятся на сторону народа или делают что-нибудь на благо народа, а затем снова меняют шкуру и становятся палачами… Каркамо — сейчас самое важное, как я вам уже сказал, потому что по его поведению мы теперь знаем, на чьей он стороне, и если бы ему сейчас что-либо угрожало, мы бы защищали его, мы делаем на него ставку…
— Спасибо, друг Рамила! Спасибо! Вы сняли с меня огромное бремя!.. Ваши слова… ваши аргументы… это, конечно, не спасает меня от меня самого. Я должен камнем бить себя в грудь, потому что не сумел сохранить в тайне имя человека, который неизвестно почему пошел на самопожертвование, поставил под удар свою жизнь — ради этой учительницы!
— Каркамо — самое важное!.. — повторял Рамила чуть ли не автоматически. — Роса Гавидиа, или Малена Табай — это, впрочем, одно и то же, будет схвачена, если ее имя упоминается в тех бумагах, которые капитан не успел прочесть. Может быть, мы не сумеем предупредить ее и спасти… Но самое важное сегодня, именно сегодня, — это Каркамо. Вы понимаете меня? Мы обязаны помочь ему избавиться от мундира, который отгородил его от народа и мешает ему сделать шаг…
— Я очень благодарен вам за то, что вы оценили должным образом мужество этого офицера. Мне кажется, ваши слова сняли камень у меня с души…
— Временами мне кажется, что мы все закрыты в какой-то огромной темной комнате. Мы тщетно ищем друг друга в темноте…
— Если я смогу чем-нибудь вам помочь, можете рассчитывать на меня…
— Этот китаец, нет, не тот, не молодой, а пожилой… — показал Рамила на двух пассажиров, которые продолжали сидеть в полной неподвижности в конце вагона, — сейчас, между прочим, они были почти единственными пассажирами в опустевшем вагоне — все условия для того, чтобы Моргуша смог разделаться со священником без свидетелей.
Рамила только успел указать священнику на старого китайца, но досказать не успел. Послышались шаги, раздались голоса у дверей туалета. «Одежду, ботинки, воды, мыла! Поскорее вымыться, немедленно переодеться!..» — требовал Моргуша от своих подчиненных; агенты наконец появились один за другим, осведомляясь, не нужно ли начальнику чего-нибудь…
— Чего-нибудь? Мер…завцы… сукины дети!.. — орал Моргуша, вне себя от ярости.
— Еще осмеливаются спрашивать, не нужно ли чего-нибудь, когда начальник сидит тут, как в тюрьме, в этом… и не может выйти!
Полицейские агенты поспешили на розыски. Вода, мыло, нижнее белье, костюм, туфли…
— Это его люди, — проронил Рамила сквозь зубы, не выпуская изо рта зажженную сигарету, — но не беспокойтесь, у нас тоже есть люди, они вооружены и готовы на все…
По спине священника пробежал холодок. Побережье дышало всеми легкими, а он — боже мой!.. только он, маленький, ничтожный человечек, не может дышать, не может говорить…
Не словом, а жестом он спросил у Рамилы, что тот хотел сказать по поводу старого китайца.
— Ах да, простите, я забыл… Китайцы поедут вместе с вами… вместе с вами пересекут границу, и там старый китаец вручит вам кое-какие документы…
— Документы?… — с трудом вымолвил священник.
— Не тревожьтесь. Это копии телеграмм, которыми обменялись «Тропикаль платанера» и министерство внутренних дел…
— Телеграммы?
— Я же сказал вам, не тревожьтесь. Китаец вручит их вам, когда вы пересечете границу и будете у себя на родине. Телеграммы подтверждают, что вы были высланы из страны не по просьбе, а чуть ли не по приказу «Платанеры». Компания обвиняет, вас в подстрекательстве католического населения, будто вы призывали выступать в поддержку всеобщей забастовки…
Из туалета доносилось какое-то бормотание, какой-то шум, возня. Моргушу мыли два полицейских агента, засучив рукава, тогда как остальные его подручные ждали возле двери, держа в руках одежду и ботинки.
— Содержание телеграмм столь недвусмысленно, — говорил Рамила, — что они могут служить доказательством. Располагая ими, вы можете открыть властям своей страны, прессе и своему церковному руководству подлинную причину вашей высылки, и таким косвенным путем вы поможете распространить правду. Нужно, чтобы за пределами нашей страны узнали, что здесь делается и о чем молчат информационные агентства…
— И тогда меня уже не смогут обвинять в поджоге?…
— В каком?… В поджоге часовни американских евангелистов?
— Хотя…
— Но ведь это наших рук дело…
— Ваших?… Тех, кто организует забастовку?…
— Наших…
— Порой что-то слышишь, но поверить трудно. Вы, таким образом, дали оружие нашим противникам, чтобы они незамедлительно расправились со мной, выслали меня по обвинению в поджоге. И, собственно, ни для вас, ни для меня это…
— Мы решили сделать это, когда в наши руки попали копии телеграмм, которые вам вручит китаец…
— Ничего не понимаю! Что же, для вас было бы лучше, если бы меня высылали из-за забастовки?…
— Нет, нет! Мы подожгли барак евангелистов-янки для того, чтобы они не использовали сам факт вашей высылки в своих целях. Они хотели запугать наших людей. Они, конечно, хотели представить дело так, что-де люди наши — покорные существа, вялые и нерешительные, уж если священника — обратите на это внимание, — священника и иностранца выбрасывают на границу… то с нашими людьми церемониться нечего… что же ждет тогда остальных?… — Он поднялся с места. — Я пойду к себе, вот-вот появится Моргуша… Как одеколоном несет… пытается заглушить зловоние… Ну, счастливого пути, и не забывайте!..
— Дайте мне руку, — попросил падре.
— Обе руки. Одной мало. И я даю вам обещание, что если мы победим, то ваша Гуадалупская дева вернется на свой алтарь и мы пригласим вас на празднества.
Рамила пошел на свое место, а священник беззвучно шевелил бледными, жухлыми, как высохшие листья, губами, будто смаковал мед надежды.
Душно. Небо казалось песчаным. Моргуша водрузился на свое место рядом с Феху и все что-то нюхал и нюхал вокруг себя, не переставая мигать. Китайцы сидели по-прежнему неподвижно. Феху пощупал уши. Казалось, от бесконечного монотонного шума колес и сами уши стали колесами. Неосторожный жест. Ужасная неосторожность. Ведь агентов тайной полиции в народе прозвали «ушами». Но, к счастью, Моргуша ничего не замечал, он все принюхивался — его преследовало зловоние, и ни на что другое он не обращал внимания. Падре решил, что самое благоразумное сейчас — помолиться. Из кармана сутаны падре Феху вытащил «Божественные службы», но тут же отложил книгу: похоже, надвигался ураган. Пыльная завеса на глазах превращалась в горячий ливень. Зарницы разрезали небо залпами расстрелов. На горизонте в багровом закате тонуло солнце, а далекие молнии сверкали, обгоняя одна другую. Падре Феррусихфридо зажмурил глаза. Он был уже не в поезде, а летел в беспредельном пространстве…
XXX
Взглядом — глаза покраснели от бессонной ночи и бессонной сьесты — капитан Каркамо поискал, с кем можно было бы поговорить. Он искал живых людей, а не призраков. Людей из плоти и крови, а не какие-то контуры, очерченные светлым пунктиром, словно детали механической игрушки, которую ему подарили в детстве и которую можно было бесконечно собирать и разбирать в разных комбинациях…
Если Роса Гавидиа… если Моргуша… если падре Феху… если успеют предупредить… если ей удастся спастись… если компрометирующие бумаги… Написано ли ее имя в тех бумагах, которые он оставил на письменном столе шефа?… Но прежде всего надо подумать о падре Феху и о Моргуше… Пересечет ли священник границу?… Удастся ли ему?… Не убьют ли?… Хотя, пожалуй, нет… побоятся скандала… Скорее всего, изобьют его до потери сознания, а затем в товарном поезде увезут в столицу и бросят в какой-нибудь подземный каземат… Для них нет лучшей улики, чем написанное на воротничке имя… Роса Гавидиа… Малена Табай… Серропом… Инкогнито… тупик.
К счастью, сегодня он был свободен. Ему захотелось пойти в поселок и выпить пива. Уйти — вот что надо сделать. Уйти из комендатуры.
Он задержался у дверей комнаты капитана Саломэ, спросил его, не надо ли чего-нибудь принести, но тот, отрицательно покачав головой, продолжал напевать танго, неуверенно подбирая мелодию на гитаре:
Розой пламени мужчины ее звали: в поцелуях обжигала губы. От пожара глаз ее они сгорали — берегись ее любви, она погубит…— Bye, bye!.. [44] — простился с ним Каркамо и пошел, а танго все еще звучало в его ушах, только теперь ему казалось, что его товарищ вместо слов «Розой пламени…» напевал: «Росой Гавидиа…»
Знал ли что-нибудь капитан Саломэ? Почему же всякий раз, как он заглядывал к нему, тот встречал Каркамо словами танго:
Роза пламени, счастливая, смеялась, роза пламени со всеми развлекалась. Падают и падают пронзенные сердца. — Ха-ха!.. Ха-ха! Девушка хохочет — и опять манят уста…Каркамо даже остановился, ему захотелось отбить такт ногой, бить ногой, точно лошадь копытом… Хаха!.. Ха-ха!.. Его преследовало это танго… Захотелось скрыться… Моргуша… документы… Компрометирующие документы… вчера вечером он их сжег — правда, не в очень удачном месте, но ничего иного не оставалось… Ха-ха!.. со всеми развлекалась… Ха-ха!.. счастливая, смеялась…
Он ускорил шаг. Надо бежать, забыться, освободиться от своих мыслей. Иначе зачем ему было уходить из комендатуры?… Пожариться на солнышке?… Лучше уж качаться в гамаке!
Густая тень листвы, ограды, банановые стволы, гуарумо, кактусы нопали; высохшие колодцы; дворики, где на веревках висит белье, а в некоторых сооружены небольшие очаги; в одном патио сушится на солнце распяленная на палках шкура быка, еще покрытая кровью и облепленная отчаянно жужжавшими мухами; ранчо под выцветшей от солнца соломенной кровлей, стены из необожженного кирпича, цинковые крыши, на которых зной точил свои когти; сонные коровы, огороды, где растет так много вкусного — редиска, салат. Какой-то мальчуган вытащил из земли редиску и размахивал ею, словно красной погремушкой, — только погремушка эта, с которой срывались песчинки, не звенела — вот-вот он вонзит в нее зубы.
Вдруг Каркамо услышал шаги. Кто-то шел позади.
— Вы сегодня свободны?
Уголком глаза ему удалось увидеть силуэт мужчины. Тот задал ему вопрос и пошел рядом. Это был гнусавый учитель Хувентино Родригес. С тех пор как он вылечился от алкоголизма, он перестал бродить по поселку, расспрашивая всех и каждого о Тобе.
— Вы сегодня свободны?
— Как видите, учитель. А у вас теперь бессрочные вакации? Сказали «стоп» спиртному и завоевали себе отдых до конца жизни…
— Увольнение до конца жизни, вы хотите сказать…
На главной площади поселка, где деревья — фикусы, гуарумо, сосны, кипарис, манго — столпились, чтобы дать место зеленой лужайке английского парка, открытого алькальдом, все замерло, даже воздух был плотный, как свинцовая стена.
— Куда это вы путь держите, мой капитан, можно узнать?
— К Пьедрасанте, пропустить пивка, — ответил Каркамо, ускоряя шаг; всего несколько шагов отделяло их от дверей лавочки, в которой, как всем известно, хозяин устроил нечто вроде таверны и пивной.
Лавочник в легкой спортивной рубашке, выпятив толстые губы, прикорнул в укромном уголочке рядом со старыми, страдавшими от блох псами, котом и взлетевшими при появлении капитана и учителя двумя голубями.
— Кто? Кто там?… Кто там? — сквозь сон пробормотал Пьедрасанта, недовольный тем, что прервали его сьесту.
— Мирные люди! — закричал Каркамо; после яркого солнца глаза его ничего не различали в полумраке, и он с трудом отыскал столик.
— Пьедрасанта! — приказал капитан, усевшись. — Дайте две бутылки пива, но со льда.
— Только одну, — поднял голос учитель, — я совсем не пью спиртного.
— Ну, в пиве так мало спиртного, — вмешался Пьедрасанта.
— Сколько бы ни было, но уж если капитан непременно хочет меня угостить, так мне, пожалуйста, малиновый со льдом.
— И пива не пьете?
— И пива. Благодарю вас.
— Это с тех пор, как его вылечили евангелисты, — сказал Пьедрасанта, уже совсем проснувшись. — По правде сказать, евангельского-то в них мало.
— Вылечили меня или нет, — заметил учитель, — к чему говорить об этом! Вечно он лезет не в свое дело — досталось бы ему в ту ночь… Так разделали бы ему физиономию, если бы жалко не стало…
— Когда? — спросил Каркамо; лавочник ушел за пивом для капитана и льдом для Родригеса.
— Какой лед вам принести, кусочками или раздробленный? — донесся голос Пьедрасанты.
— Раздробленный! — крикнул учитель.
— Ну конечно, если кусочками, так придется сосать, а он уже насосался…
Не прислушиваясь к словам лавочника, который еще что-то бормотал, Родригес стал объяснять капитану:
— В ту ночь ребята играли в бабки. Явился какой-то чудной человек и стал уговаривать поджечь барак евангелистов-янки. Кое-кто из ребят согласился, а мы остались — я стараюсь вообще держаться подальше от шума. Они уже ушли, и появился Пьедрасанта; он закричал, чтобы они никуда не ходили и что этот агитатор — коммунист…
В дверях появился лавочник, и учитель прервал свое повествование:
— Я рассказываю капитану то, что произошло с вами и покойником, которого вы назвали коммунистом…
— Покойником? — удивился капитан, обсасывая мокрые от пива усы.
— Что ж, при нынешнем правительстве коммунист и покойник — это почти одно и то же…
— Если бы послушались меня, — заговорил Пьедрасанта, — то так называемую часовню не сожгли бы, да и священник остался бы в своей церкви. По сути, сожгли-то священника…
— Вот именно, — поспешил сказать учитель, губы его со следами малинового напитка застыли от льда. — Его выслали, потому что не могли убить: он — священник, хотя его тоже обвиняли, будто он коммунист… Священник да еще иностранец… Э, блох лучше вытряхивать в другом месте!..
— А откуда узнали, что он — коммунист?
— Откуда? Он был сторонником забастовки, вот и все…
— Падре?
— Ну, Пьедрасанта, вы же это отлично знали!
— Я?
— Да, вы… вы же были его близким другом!
— Близким другом? Нет. Он сюда заходил выпить чашку шоколаду перед сном, и только… и платил за чашку так же, как платите вы за свои стопки. Каждый клиент для меня — друг, не правда ли, капитан?
— Бесспорно одно — никто не знает, за что его выслали, — подчеркнул Каркамо.
— Каждый устраивается, как может, — произнес лавочник, распростерши руки и склонив голову, совсем как на распятье. — Говорят, что его убили…
Капитан чуть было не подскочил на стуле.
— Кто сказал вам, что его убили?
И, спохватившись, что чрезмерный интерес к судьбе падре может показаться подозрительным, Каркамо добавил:
— Меня, конечно, встревожило такого рода сообщение. Если его убили в пределах нашей страны, поднимется шумиха в печати, возможно, вмешаются церковные власти, которые только и ищут, к чему бы придраться. Злых языков много. А теперь, чего доброго, будут обвинять командование зоны в том, что у нас нет порядка, что мы уже потеряли контроль над людьми, хотя это нам надлежит охранять плантацию и директоров Компании, управляющих, администраторов, десятников, проституток, обеспечивать покой сумасбродного алькальда, сумасбродных евангелистов… сумасбродных священников… — Он специально добавил это, чтобы отвести подозрения собеседников. — Я уж не говорю об охране железных дорог, складов с горючим, водоемов, электростанций, телеграфа, почты, радио, госпиталя, взлетных дорожек, шоссе и мостов… Да, я забыл еще сумасбродных спиритов, которые то и дело что-нибудь придумывают.
— Это, понятно, по части учителя… — заметил лавочник.
— Я спиритуалист, но не спирит…
— … Этих сумасбродных мальчишек, отпрысков миллионеров, нам приказано не трогать, что бы они ни вытворяли…
Каркамо нагромождал слова на слова, стараясь избавиться от навязчивого видения — отвратительнейший Моргуша стоит на подножке вагона в ожидании своей жертвы, которую он, он, он, он, Каркамо, ему передал собственноручно. Он представил себе окровавленное тело священника, сброшенного на ходу поезда, — всего вероятнее, именно так они сделали; он представил себе, как срывают с падре сутану, белье, воротничок, чтобы никто не смог опознать труп, и вдруг на воротничке обнаруживают написанные неуверенным почерком буквы… имена: Роса Гавидиа, Малена Табай, Серропом.
— Вы правы, капитан, — согласился лавочник, — действительно, всякий раз, что бы ни произошло, на военных сваливают вину. То, видите ли, они недосмотрели, то чуть ли не сами являются соучастниками… но что касается истории с падре Феррусихфридо…
— Как хорошо он запомнил это имечко! — воскликнул учитель.
— Он был моим соседом и моим клиентом. Ведь всем известно… Однако по поводу истории с падре Феррусихфридо Феху — я даже знаю его фамилию, хотя, быть может, учителю это тоже покажется странным, — не следует беспокоиться, капитан. Все это, как утверждают, произошло на границе.
— Странно, — опять вмешался Хувентино, — об этом не сообщали ни газеты, ни радио…
— Ну, вы меня развеселили! — воскликнул лавочник. — Газеты, радио? Сразу видно, что вы, учитель, еще молоды, хотя на вид вам лет немало — видно, алкоголь состарил!
— Мексиканское радио, Пьедрасанта! Я говорю о мексиканском радио!.. — зло откликнулся Родригес. — Коль скоро здесь нельзя говорить…
— Вполне резонно… — Каркамо увидел поддержку в словах учителя — поддержку и проблеск надежды.
— Более чем резонно! — подтвердил учитель. — Потому как, если Пьедра был прав, утверждая…
— Я, сеньор, не утверждаю, я повторяю…
— И хорошо, что повторяете. Вполне естественно, что мексиканское радио — а я слушаю его каждую ночь — непременно передало бы сообщение об этом. Речь идет об их соотечественнике, о священнике и… о преступлении, ведь они так любят скандалы и сенсации… а тут готовое блюдо…
В этот момент в дверях показался неожиданный посетитель, которого все мгновенно узнали.
Лавочник, стоявший спиной к двери, услышав шаги, обернулся и с трудом скрыл свое недовольство. Во всяком случае, ему удалось скрыть свое раздражение лучше, чем капитану Каркамо — свою радость. В таверну вошел Андрес Медина, товарищ детских лет капитана, после долгих-долгих лет разлуки они встретились на траурной церемонии в доме парикмахера, а потом Андрес исчез, и с тех пор капитан его не видел.
Пьедрасанта подошел к стойке и, ловко орудуя бутылками, налил стопку вошедшему, — таким образом он надеялся обезоружить и нейтрализовать своего врага, но все планы лавочника лопнули, хотя он и успел шепнуть капитану: «Это коммунист!.. Это коммунист!..»
Каркамо едва не воскликнул:
— Андрей! Андрей!
Но сдержался и, пожимая руку вошедшего, как незнакомому, даже опустил глаза.
— Выпейте стопочку с нами, — пригласил его Каркамо.
— Я ничего не пью, спасибо… сюда я зашел свести счеты с этим сволочным лавочником…
Пьедрасанта, сочтя благоразумным укрыться за стойкой, сделал вид, что ничего не слышит, однако Медина повторил громко:
— Это я вам говорю, мерзавец!
И он двинулся на Пьедрасанту. Хувентино хотел было взять его под руку и удержать, но Медина с такой силой рванулся вперед, что чуть не оставил рукав в руках учителя, и схватил стул. Если бы Пьедрасанта не успел выскочить в заднюю комнатку, то Медина расколол бы его голову, как арбуз.
— Свинячий окорок, хоть бы что-то мужское в тебе было!.. — Лицо Медины пожелтело, словно у него был приступ желтухи.
Желтый-прежелтый, он метался по комнате, как зверь в клетке, пока не появился какой-то мужчина, по-видимому помощник Пьедрасанты.
Увидев его, Медина закричал:
— А ну, позови этого труса! Пусть он не прячется за юбку жены! Пусть еще раз попробует сказать, что я коммунист!
— Успокойся, Андрей! Что случилось? — наклонившись к нему, вполголоса быстро проговорил капитан Каркамо, тогда как учитель разговаривал с помощником Пьедрасанты.
— А вот что… Этот сукин сын присутствовал при том, как подожгли сарабанду евангелистов-янки — правда, в той сарабанде никто не танцевал, там проповедовали всякую чушь. Разве это не чушь — разглагольствовать о боге, когда мы умираем от дизентерии и малярии, от истощения?… Слепые, туберкулезные, увечные… И не только мы, но и наши жены и дети…
— Ладно, не ораторствуй. Мне нужно срочно поговорить с тобой.
— Я тебя тоже искал… — успел вымолвить Медина до того, как к ним подошел учитель и предупредил:
— Уходите, не теряйте времени! Уходите!.. Я узнал только что: Пьедрасанта побежал звать полицию…
С улицы уже слышались чьи-то торопливые шаги, какие-то дробные удары, свистки. Все ждали в молчании.
Учитель, который пошел было к двери, вернулся.
— Ушел… Успел вовремя…
— Что ж, подходящий предлог, — капитан повысил голос, — хороший повод, чтобы перейти от пива к рому. Две стопки рома, — заказал он помощнику Пьедрасанты, но тут же поправился:
— Только одну. Сеньор не пьет. И принесите чего-нибудь пожевать — сыра или, пожалуй, оливок.
Лавочник возвратился в сопровождении судьи.
— Закономерно, — говорил судья, — мы дадим ход вашему заявлению. Но дело вот какое, следует уточнить… м-да… либо привлекать по обвинению в том, что он коммунист, либо по обвинению в том, что он поджигатель, что-нибудь одно, два обвинения сразу — это невозможно… — Пьедрасанта, выкатив глаза, смотрел на плюгавого, похожего на мышь судью, который все тянулся и тянулся вверх, даже привстал на цыпочки, как будто это могло придать больший вес его словам: — Именно так, либо по обвинению в том, что он коммунист, либо в том, что он поджигатель. Выбирайте сами. Какое из обвинений вы намерены выдвинуть?…
— Оба, сеньор лиценциат…
— Оба нельзя…
— Почему нельзя? Если он виноват и в том, и в другом?
— Вы утверждаете, что священник призывал поджечь евангелистов, следовательно, он был в числе поджигателей, которые действовали во имя своей веры, под влиянием религиозного фанатизма, так какой же он тогда коммунист? Не может быть, Пьедрасанта, не может быть!
— Раз так, то я обвиняю его в том, что он коммунист…
— А доказательства?
— Пожар, сеньор лицеи… пожар! Вам этого мало?
— Нет, Пьедрасанта! Пожар, как я уже отмечал, был делом католиков, которых подстрекал мексиканский священник!
— Но некоторые утверждают, что как раз Компания приказала поджечь… — проворчал лавочник, — кто их поймет…
— Это уже глупость…
— Не такая уж глупость, как вы думаете. Кому-то понадобился предлог, чтобы выслать падре, и пожар…
— Мы опять кружим на одном месте. Не принимая в расчет ваше последнее утверждение, которое, по моему мнению, является неоспоримой выдумкой, предположим, что в самом деле действовала Компания. В таком случае целесообразнее было бы использовать служащих Компании, а не коммунистов.
— Хорошо, тогда кто же этот человек?…
— Об этом я вас и спрашиваю. Несомненно, поджигатель. Вы слышали, как он подстрекал народ, вы выступили против него, и вот следствие: этот человек пришел к вам сюда, в ваше заведение, чтобы оскорбить вас. В совокупности все это может представить собой состав преступления, чрезвычайно серьезного преступления. И зачем же придумывать что-то еще? Зачем еще утверждать, например, что он коммунист?
— Как раз это-то и важно… Тогда его расстреляют…
— Точно так же, как и за участие в поджоге…
— Тогда мне безразлично. Обвиняю его как поджигателя…
— Ну и злое же у вас сердце… — запротестовал Родригес, вмешавшись в разговор. — Если меня вызовут в качестве свидетеля, я могу подтвердить, что именно сказал этот человек. Имейте в виду, я там был, я был очевидцем. Он сказал что-то вроде следующего: «Ребята, пошли посмотрим, как горит!..»
Пока Пьедрасанта спорил с учителем, судья подошел к капитану Каркамо.
— Такие страсти бушуют здесь, что я вас даже не узнал и не поздоровался. Да и военные так странно выглядят в штатском!
Они обменялись рукопожатиями, и судья, улучив момент, тихонько спросил у капитана:
— Ну, как прошла прогулочка с падре?
— Приказ есть приказ… — сухо оборвал его офицер; ему было очень неприятно, что судья напомнил о его роли палача, исполнителя приговора, находящегося на службе… кто знает — чьей…
— Отлично! Отлично!.. — воскликнул судья, потирая от удовольствия пухлые руки; он даже счел нужным вмешаться в спор лавочника с учителем, многозначительно пообещав: — Что касается беглеца, Пьедрасанта, то рано или поздно мы его выловим. Я полагаю, не сегодня-завтра будет объявлено осадное положение в республике, по всей территории республики…
— Так и будет. — Лавочник понемногу начал приходить в себя после пережитых страхов. — Наш судья — прорицатель, если говорит, значит…
— …получил известия от Компании… — ввернул Хувентино, голос которого после столкновения с лавочником стал еще более хриплым.
— От тех друзей, которых я имею в Компании… — поправил его судья, — все, что они знают, мне передают — и они, кстати, утверждают, что всеобщая забастовка неизбежна…
— А вы не думаете, что можно было бы уладить все без забастовки? — спросил лавочник, к которому вернулось не только самообладание, но и уверенность в том, что его имущество останется неприкосновенным, хотя несколько минут назад, — когда явился этот тип, и грозил убить его, и, по всей вероятности, собирался поджечь дом, — он не на шутку перепугался.
— Такое мнение существует и в Компании. Я могу сказать это, поскольку недавно завтракал с одним из ее управляющих. Все считают, что правительство огнем подавит мятежные очаги, как уже было сделано в порту и в Бананере. Срезать любую голову, которая поднимется. И, по моему убеждению, первая голова слетит с плеч здесь. Не знаю, слыхали ли вы о некоем Табио Сане, которого мы здесь поджидаем. Авторучка, которую мне подарил мистер Ферролс, полна чернил, чтобы подписать смертный приговор этому самому Табио Сану.
— Не забудьте, сеньор судья, что этого человека ждет также и народ, — прохрипел Родригес с подчеркнуто невозмутимым видом, — и не один, два, три… не пять, не сто и не тысяча — а тысячи рабочих пойдут встречать его на станцию…
— Извините… — подошел лавочник. — Я хочу узнать, не желает ли кто-нибудь выпить еще. Моя жена прислала мне из столицы бутылочку испанской анисовой, самой настоящей. Как думаете, может, откроем?
— Для меня анис чересчур сладок. Такие напитки не для меня… Пьешь их, когда колики мучают…
— Сеньору судье нравится, конечно, настоящий scotch [45], - проронил капитан Каркамо, который до сих пор не вступал в разговор и был как бы в стороне от всего происходящего.
— Мы пили его с друзьями из Компании. Что за букет! Однако это не значит, что я пренебрегаю вниманием и резервами нашего друга Пьедрасанты. Я предпочел бы пиво со льда.
— И нам, — сказал Каркамо, забыв, что учитель не пьет, — тоже холодного пива.
— Мне ничего не надо… — возразил Хувентино; капитан обернулся к нему:
— Я совсем забыл, все время подвергаю вас искушению. Не подумайте, что я хочу вас соблазнить. Да, кстати, можно ли спросить, чем вас вылечили?
— Грязью…
— То есть как это? — заинтересовался судья.
— Да, сделали какую-то смесь из грязи и воды, ничего больше, и разлили в четыре бутылочки. Затем подождали, пока грязь не начала тухнуть и не приобрела какой-то странный темный цвет, не то зеленоватый, не то кофейный…
— И все это вы должны были выпить? — нервно спросил капитан, не замечая, что ерзает на стуле.
— Да, в течение двадцати дней пришлось пить эту жидкость…
— Это ему сделала, — пояснил Пьедрасанта, — мать того сумасбродного мулата Хуамбо.
— У нее доброе сердце!.. — воскликнул Хувентино.
— Доброе — нет! Она вынуждена была это сделать, потому что вы, учитель, стали пить из-за Тобы. Но это старая история. А сейчас я пойду за пивом — пиво для судьи, пиво для капитана и… для меня. Я тоже выпью пивка, посмотрим, как оно пойдет после всех треволнений. И поговорим о забастовке и об этом Табио Сане, которого, сдается мне, я знавал в былые времена. Когда-то, давным-давно, он работал здесь на плантациях. Помнится, у него были выпученные глаза, чуть не выскакивали из орбит, лицо в шрамах, губы толстые и отвисшие уши, будто от слоновой болезни. Его легко узнать.
— С такими приметами… — рассмеялся учитель.
— Да, я бы признал его! — вспылил лавочник.
— Еще бы, я думаю! — сказал учитель. — Но только по таким приметам, о которых говорил здесь Пьедрасанта, рабочего лидера не узнать. Я слышал, наоборот, он худощавый, с узким лицом, глаза глубоко и близко посажены, а зубы белые, словно меловые. А кроме всего прочего, не придется опознавать его по приметам: на этот раз он приезжает под своим именем, совершенно открыто — как Табио Сан…
На чердак церкви забралась ватага мальчишек во главе с Боби (Боби Мейкер Томпсон, внук президента «Тропикаль платанеры», все еще гостил на вакациях в доме миллионеров Лусеро); они вскарабкались по давно забытым, шатавшимся подмосткам, похожим на скелет какого-то старого судна, пришвартовавшегося у церковной стены, — пролезли в большую щель. Боби заглянул вниз: церковь напоминала плавательный бассейн, куда сквозь редкие окошки проникал рассеянный свет, двери со стороны паперти были закрыты, — ну, точно покои почившего ангела.
Остальные ребята тоже стали искать щели, через которые можно было бы посмотреть вниз, — им нравилось глазеть сверху на людей в церкви, двигавшихся, как муравьи в муравейнике. Боби сказал, чтобы ребята следили за тем, что происходит в церкви, не отвлекаясь на всякие мелочи.
Мальчишки беспрекословно подчинились Гринго, как они его прозвали. Величественность, торжественная атмосфера церкви притягивала их. Интересно было наблюдать за людьми, которые переходили с места на место, молились, зажигали свечи, преклоняли колени, стояли или еще только входили… Но как же они входили в церковь, если двери со стороны паперти закрыты и святые в алтаре казались приговоренными к вечному заключению?
Оказывается, люди входили и выходили через двери ризницы.
Схватив комок засохшей грязи, Боби размахнулся и бросил его вниз — комок упал рядом с пюпитром и разлетелся на мелкие кусочки, подняв столбик пыли.
Кто-то из мальчишек возмутился:
— Гринго, не будь скотиной!
Другой комок грязи разломался возле женщины, стоявшей на коленях. Кто осмелился бросать камни в молящихся, кто осмелился на подобное кощунство, на такое святотатство?… Молившихся облетел слух: евангелисты!.. протестанты!..
Люди бросились врассыпную: одни пытались укрыться под сенью кафедры, в арке входа, а то и за купелью близ исповедальни, другие же, вообразив себя мучениками и мысленно приготовившись к тому, что неверные забросают их камнями, простирали руки, обращаясь с молитвой к всевышнему, падали на колени или лежали, распростершись на полу.
— Сейчас я заставлю эту старуху опустить руку одним strike… [46] — сказал Гринго и с размаху бросил комок.
Женщина от боли закусила губы, на мгновение зажмурила глаза, а потом стала открывать их все шире, шире и наконец свалилась на землю.
Из алтаря унесли Гуадалупскую деву. Индейцы, спустившиеся с гор, чтобы работать на плантациях, входили группами и, не обнаружив в церкви изображения богоматери-индеанки, торопливо крестились и бормотали под нос:
— Чудом пришла, чудом ушла…
Наиболее богомольные опускались на колени, точнее — на одно колено, еще точнее — на правое, и устанавливали зажженные свечи на полу среди букетов цветов, с которых от прикосновения дрожащих пальцев слетали лепестки.
Словно влюбленные в огонь, они безотрывно глядели на пламя свечей. Два черных зрачка следили, как колышется над фитильком, словно живой, золотистый огонек, поглощая желтоватый воск.
Одетые в чистые белые рубахи и штаны, в накидки, которые носят обычно жители побережья, они ждали, когда к ним вернется Гуадалупская дева, — ждали уже четыреста лет подряд, и лица их были безмолвны, бессловесны, молчаливы, лишь пламя свечей отражалось в глазах, сверкающих из-под падавших на лоб черных, длинных и жестких волос.
Под одной из балок чердака — между раскаленной цинковой крышей и прохладной тишиной церкви, в которой уже никто не двигался, — соратники Боби случайно обнаружили какие-то листки. Три пачки листков, на которых повторялись напечатанные большими буквами слова: «Всеобщая забастовка», «Справедливая забастовка», «Свободы и хлеба!» Мальчишки уже забыли о той битве, которую затеял Боби, бросая комки грязи в верующих, в панике покидавших церковь и причитавших: «Нас побили камнями, да, да, нас побили камнями!.. Протестанты!..»; «Они забрались на крышу церкви и оттуда побили нас камнями!..»; «Одна сеньора простерла ввысь руки, готовясь принять мученическую кончину, а в нее стали бросать камни, пока она не опустила руки!»; «Мало им было, что они прогнали приходского священника и украли богоматерь с алтаря… Теперь они хотят запугать тех немногих, которые еще приходят в церковь, крадучись через ризницу, яко тати!»
— Этот мусор надо передать полиции… — предложил мальчишка по прозвищу Петушок.
— Этот мусор пусть остается здесь, — решил Боби, — да, здесь, — подчеркнул он. — Пусть остается до завтрашнего дня, в полицию сообщать не будем, я решу, что с этим делать. А сейчас нам пора отсюда уходить, меня жажда совсем замучила.
— Сначала перекурим, — предложил Петушок.
— Идет, — согласился Гринго.
Из карманов появились измятые сигареты, спички без коробков, зажигавшиеся о стены или о подошвы ботинок, а в руках одного из ребят оказалась даже трубка.
Они с трудом спустились по раскачивавшимся подмосткам, приходилось подтягиваться на руках, пролезать между досками и, обхватив стойку руками и ногами, скользить по ней вниз. Спустившись на землю, ребята побежали к Пьедрасанте выпить чего-нибудь прохладительного.
— Ты чего хочешь?
— А ты?
— Я — клубничного!
— А я — апельсинового!
— А мне — лимонного!
Лавочник готов был их убить, так и хотелось вместо соков со льдом предложить им яду — кому цианистого калия, кому стрихнина, а кому шафранноопийной настойки… Как не вовремя нагрянула эта банда — судья только начал рассказывать о своей беседе с управляющими Компании по поводу забастовки, если она будет объявлена. Но кто ее объявит? Кто осмелится повесить колокольчик всеобщей забастовки на шею Зверя?…
— Сейчас разделаюсь с этими дьяволятами, — поднялся Пьедрасанта из-за стола, за которым сидели судья, капитан и учитель, который ни к чему не притрагивался, тогда как остальные потягивали пиво. А мальчишки уже проскользнули вдоль стен к стойке, алчно поглядывая вокруг; они носились, как одержимые, по залу, скользили по цементному полу, словно на коньках, и сами себе аплодировали; они кричали, прыгали, дико хохотали, хохотали, хохо…
— А мы, Пьедрасанта, прощаемся… — пропел, как обычно, судья: клиенты подошли попрощаться с лавочником, который уже начал дробить лед в металлическом тазике, приготовляя прохладительное.
— Мы оставляем вас с этой ватагой. Не забывайте, что эти голубчики — дети миллионеров, и к стенке поставить их силенок не хватит… — предупредил Каркамо, у которого до сих пор оставался неприятный осадок после угроз лавочника в адрес Андреса Медины.
— Привет, ребята! — воскликнул учитель, обращаясь к мальчишкам; он, казалось, с завистью наблюдал за их веселыми проказами. Судья, выйдя на улицу вместе с Каркамо и учителем, простился с ними и направился в другую сторону.
— Я обратил внимание, капитан, — проговорил учитель, фамильярно взяв под руку офицера, — на то, какое впечатление произвел на всех мой рассказ о том, как меня вылечили от запоя. Но, поверьте, меня вылечила не только эта грязь. Просто счастливое совпадение! Я обрел то, что придало смысл моему существованию, всей моей жизни… Но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас вы, похоже, спешите…
— Ничего подобного, учитель, я просто хочу поскорее пересечь площадь и укрыться в тень.
Учитель старался не отставать от капитана, но отчаянно хромал — ему недавно подарили новые лакированные туфли белоснежного цвета; они казались такими удобными, прохладными, а на самом деле жгли ноги, будто горчичники, да еще старая мозоль мучила, — и Родригес еле ковылял, стараясь ступать на каблуках, а не на носках, по гравию, которым была покрыта площадь.
— Я так и думал, — Каркамо вернулся к прерванному разговору, как только они достигли освежающей тени, отбрасываемой полуразрушенной стеной, — человек перестает пить либо когда отравится алкоголем, либо когда, как у вас, у него появляются иллюзии.
— Вот поэтому, капитан, надо видеть разницу между теми, кто пьет, потому что этого требуют его желудок, его кровь, потому что червячок гложет, и теми, кто пьет от пресыщения, от пустоты, потому что не знает, куда себя деть…
На этот раз офицер взял под руку учителя, как бы приглашая его продолжать.
— Тот, кто пьет, потому что этого требует его организм, — продолжал учитель, — может излечиться просто сильнодействующим слабительным, например тухлой грязью или тиной. Однако люди, потерявшие рай, как, например, я, не излечиваются, пока не найдут смысла жизни. Алкоголик похож одновременно на игрока и на самоубийцу. Он пьет не только ради удовольствия опорожнить стопку, он словно что-то пытается доказать. И зная, что вино для него — это яд, он, будто самоубийца, пьет, чтобы избавиться от чувства одиночества…
— Как вы всех разложили по полочкам, учитель! — воскликнул Каркамо и дружески похлопал его по спине.
— Еще бы! Я тоже служил в армии, и мне представлялось, что служил в батальоне самоубийц!
— Но, учитель, раз уж вы рассказываете о чудесах, так откройте мне, пожалуйста, кто этот святой или, скорее всего, эта святая, которая сотворила чудо. Ведь ясно, что вам помогла не протухшая тина… Какая-нибудь живая красавица заняла место Тобы?
Учитель вздохнул. Что-то кольнуло его в сердце при звуке этого имени, которое он так часто произносил, бодрствуя и во сне, пьяный и трезвый, когда оставался один и на людях. Тоба… Тоба… Тоба…
При свете солнца странно и грустно звучало пение цикад.
— Так кто эта красавица? — настаивал офицер. Его не столько разбирало любопытство, сколько развлекала мысль о красавице и Родригесе, таком тощем, что одежда болталась, словно с чужого плеча, а хриплый и гнусавый голос учителя способен был отпугнуть любую женщину. — Или красавица, или какая-нибудь выгодная сделка в тысячи долларов? — Офицер уже не скрывал улыбки, живо вообразив себе астрономическую дистанцию, отдалявшую учителя не только от тысяч — даже от одного доллара.
Учитель продолжал молчать, но капитан решил не сдавать позиций:
— Какое-нибудь путешествие, учитель?
— Когда я был молод, мне так хотелось по… полюбоваться, как уходят суда… суда… Да, суда!.. — Казалось, учитель то терял нить мысли, то снова находил ее, явно не обращая внимания на вопросы офицера, и вдруг спросил: — Капитан, какая из книг, прочитанных вами, понравилась вам больше всего?
— Да я не так много читал. «Рокамболь»… «Камо грядеши?»…
— Ага, раз вы читали «Камо грядеши?», вам будет легче понять меня, понять, во имя чего я оторвался от рюмки, изменил Вакху и забыл о божественном нектаре. Все потому, что я почувствовал себя христианином, одним из тех, кто скрывался в катакомбах, одним из тех, кого бросали на арену цирка — на растерзание диким зверям, и они шли на мученическую гибель ради веры, ради того, чтобы на земле воцарилось царствие божие…
— Ну, ну, учитель!.. Разве в наше время кто-нибудь верит в это?
— Мне достаточно того, что верю я! С чего-то надо начинать, и я начал с веры! И вы, капитан, будете с нами!
— Вам бы надо похлопотать, чтобы Компания открыла школу…
— Об этом и идет речь. Но нам не нужна милостыня, нам мало одной школы, нам нужно много школ. И вы, капитан, будете с нами!
— Только уточните, когда? — полусерьезно-полунасмешливо спросил офицер.
— Когда будет объявлена всеобщая забастовка! — с вызовом бросил учитель.
Каркамо побледнел. Даже ноги его в ботинках, вероятно, приобрели мертвенный цвет. Пробормотав что-то, быть может простившись, он быстро отошел. Лучше сделать вид, что ничего не слышал. Какая наглость! Какая безответственность!.. Следовало бы вздуть хорошенько этого забулдыгу… превосходно знает, что он, капитан, находится на военной службе, и с такой развязностью говорить с ним о за… заб… за… Забытьем, забвением, могильным забвением отдавало слово «забастовка». И в это мгновение он понял, что не было никакого смысла разыгрывать комедию, пытаться исполнять какую-то роль перед учителем, с уст которого слетело это слово… Ведь он сам чуть ли не по макушку увяз — и кто знает, возможно, больше, чем сам учителишка, — да, с тех пор как скрыл он документы Росы Гавидиа и обратился за помощью к священнику, желая предупредить учительницу об опасности…
Заведение Пьедрасанты прямо-таки трещало от истошных криков и завываний мальчишек. Они дико орали, требовали то одного, то другого — тот, кому только что хотелось клубничного сиропа, вдруг срывался с места и повелительно требовал лимонного, нет, лучше виноградного… да, лучше виноградного! А тот, что настойчиво добивался миндального с малиновым, внезапно просил миндального молока… «Мне апельсинового!..» — надрывался толстый сладкоежка, заставляя налить ему двойную порцию сиропа…
Лавочник терпеливо собирал крошки льда, разлетавшиеся из-под резца машинки, дробившей лед в цинковом тазике, и разливал мальчишкам сироп, пользуясь в качестве мензурки рюмкой. Стойку запятнали брызги сиропа: красные брызги клубничного и малинового сиропа, красные, как капли крови; желтые, лимонные, похожие на цвет волос Боби; фиолетовые брызги виноградного сиропа; молочные брызги миндального…
Обслужив всех, Пьедрасанта вытер руки о тряпку, висевшую на гвозде позади стойки. Ему даже показалось, что пальцы его стали длиннее, словно вытянулись от холода. В действительности же они просто окоченели, ногти побелели от льда, кончики пальцев сморщились, как у старика.
— Кто платит? — спросил он, ни на кого не глядя.
Мальчишки подходили к стойке, с наслаждением потягивали прохладительное, не поднимая глаз, еле переставляя ноги и нащупывая в кармане деньги, которые тут же, к отчаянию лавочника, становились липкими от сиропа…
Эти сосунки, как Пьедрасанта называл их, выводили его из себя. Они заглядывали сюда частенько, но на этот раз у него лопнуло терпение. Его преследовало воспоминание о столкновении с тем негодяем, который пришел сюда оскорбить его; раздражало лавочника и то, что окрестные жители не появлялись в поселке, напуганные слухами о забастовке; сердила затянувшаяся поездка жены в столицу — а тут еще эти несносные мальчишки подняли невероятный гвалт в таверне. Наконец он не выдержал:
— Отправляйтесь пить на улицу!
— Очень жарко, мы никуда не пойдем, — ответил ему Боби, прищурив глаза, блеснувшие, как два голубых кинжала, и не отрываясь от кусочка льда, окрашенного в багряный клубничный сок.
— То есть как это «не пойдем»?
— Не пойдем!
— Тогда я вас выброшу…
Ватага мигом окружила Гринго, стоявшего перед лавочником.
— Попробуй!.. — с улыбкой заявил Гринго.
Пьедрасанта предпочел уйти в заднюю комнату, его трясло от бешенства, он даже похолодел, — словно прохладительный напиток, который поглощали эти варвары. Он зажмурил веки, чтобы не видно было его глаз, горящих ненавистью…
«Они хотят во что бы то ни стало вывести меня из себя, — подумал он. — Они понимают, что нервы у меня расходились, но я им не доставлю такого удовольствия, нечего повторять им по сорок раз, чтобы они со всей своей музыкой отправлялись подальше. Эх, если бы не были они сынками… уж я разделался бы с ними как следует!»
Чууууууу!.. Чуууууууупп!..
Шумовой оркестр в его заведении продолжал буйствовать. И… карамба! — он чуть было не пустил руки в ход: так безобразно, так нагло вели себя маленькие бандиты. Чуууууууупп!.. Чууууууууппп!.. С такими адскими звуками они всасывали остатки сиропа и таявший лед, что казалось, способны высосать все, что находится в лавчонке Пьедрасанты.
— Вон отсюда, с-с-с…
Он не кончил. Ледяная пуля попала ему в глаз, а брызги сока из бокала Боби кровавой кляксой залили его щеку.
Не успел он прийти в себя, как в лицо ему полетели остатки из других бокалов — обрушился на него буйный разноцветный ливень, нестерпимый град острых льдинок.
Его оставили в темноте. Уходя, захлопнули двери. Он слышал какие-то удары, но не понимал, что они делают, а когда открыл глаза, то обнаружил, что в зале царит мрак, и побежал открыть двери.
Двери были закрыты средь бела дня, и не хозяином — зловещее предзнаменование!
Предвестие смерти!
Он обнаружил много, очень много осколков. Если кто-нибудь пройдет по улице и заглянет сейчас сюда — быть может, вернется судья, или капитан, или учитель — наверняка решит, что он обливается кровью, что этот коммунист вернулся и ножом изранил его лицо, а это… красный сироп, липкий, тягучий, как кровь.
— Нет, я не ранен… не ранен… — повторял он с каким-то сладострастием и яростью, преследуемый мошками, которые прилипали к его лицу, вились вокруг него, хороводом неслись за ним, пока он ходил во внутренний двор вымыть лицо, волосы, уши, шею и руки, пришлось даже снять рубашку, чтобы вымыть грудь. Даже на живот попало. Он сорвал полотенце, быстро обтерся и возвратился в заведение. Никого. Одни только мухи. Только мухи ищут человека, который внезапно исчез.
— Ах, боже мой!.. — вырвалось у него при одной мысли, что он не сможет отомстить этим проклятым мальчишкам, отродью богачей. — Боже мой, ниспошли забастовку! Я был против нее, а теперь молю тебя о ней!.. Забастовку!.. Забастовку!..
XXXI
Со скоростью ветра неслась ватага мальчишек во главе с Боби. Неизменно душное марево, ползшее по земле насекомыми, рептилиями, болотными миазмами, и стена взметнувших ввысь огромных крон могучих деревьев, рядом с которыми все остальное казалось ничтожно маленьким, — приводили мальчишек в неистовство, в исступление, возраставшее по мере того, как приближались они к побережью Тихого океана, накатывавшего на берег гигантские волны. Голода они не испытывали — давно уже пресытились — и срывали с ветвей фрукты, горячие, как только что вытащенный из печи хлеб, лишь от желания разрушать и губить все, что создано природой. Это был безудержный порыв, их разжигала необузданная жажда жизни, желание как можно полнее пользоваться всеми ее благами. Скорее стать мужчинами — выглядеть мужчинами. Господствовать над всем. Им хотелось ощущать себя сильными, и это был не только безотчетный инстинкт, в этом было что-то похожее на осмысленное стремление разрушать. Все, что попадалось им по пути, им хотелось разорить и уничтожить. Здесь — пичужку, там — гнездо, подальше — зверюшку, рядом — муравейник.
Они мчались куда глаза глядят, обуреваемые неуемной страстью завоевателей — покорять. А тропический зной еще более распалял в них этот неукротимый дух. Быть может, и побуждали действовать так какие-то ранее приобретенные познания о материи, о сущности жизни?…
Они потеряли голову от синего простора, опьянели от солнечного света — из мира покоя, изобилия и роскоши они попали в мир бурных проблем и теперь бросали вызов всем законам и порядкам. Это был бунт юных сил, бунт против всяких норм и пределов.
Позади остался залитый солнцем крошечный поселок, погруженный в дремоту сьесты. Мальчишки взобрались на откос, поросший высокими пальмами, здесь они должны были встретиться с другой компанией мальчишек, в которую входили сынки местных жителей, занимавших высокие посты в Компании. Тех ребят было больше, но они были настроены не так решительно и не отличались пунктуальностью. Боби и его банда буквально извелись, поджидая их; и чтобы убить время, они курили, жевали резинку, а кое-кто и прикладывался к металлической фляге с виски.
Послышались шаги. Ребята повернули головы, но, судя по всему, приближались не их друзья. Тех было бы слышно издалека, они обычно появлялись с дикими криками, размахивая мачете, и как раз из-за этих мачете поджидали их тут Боби и его соратники. Лишь с помощью мачете можно было расчистить путь вниз, к устью полноводной реки, туда, где, как говорили, появляются «металлические видения».
Шаги слышались все ближе и ближе. Наконец из кустов вышел голый индеец, в одной набедренной повязке. Ни дать ни взять — скелет с взлохмаченными волосами, худющий-прехудющий, зубы торчали вперед, а глаза вылезали из орбит, точно сверкающие на солнце мыльные пузыри из темного мыла.
— Никто… — нараспев произнес он, увидев их, — никто не сможет найти в себе силы против зеленого огня! Никто и никогда не сможет вырвать у земли ее власть, никто и никогда не сможет покорить зеленый огонь, который пламенеет внутри и зеленым кажется лишь снаружи. Все уничтожит этот огонь! Огонь, смешанный с землей! Огонь, смешанный с морем! И машина когда-нибудь устанет! И когда-нибудь охватит чужеземца желание спать, и в тот миг, когда остановит он свои машины, когда зажмурит он глаза, он будет захоронен, и все его богатство тоже станет костьми и ржавым железом — все то, что было человеческой красотой и блестящим металлом, все, что двигалось и жило!..
Самая темная слепота, зеленая слепота — слепота наступающей растительности поражает все, она опьяняет и проникает повсюду, овладевает всем живым и всем мертвым, и корни ее, расползаясь под землей, просверлят, пробьют себе путь, проникнут в здания и превратят их в развалины, уничтожат цементные фундаменты, стены, крыши, плотины, сокрушат храмы, и останутся лишь обломки и ямы, и ветер вознесет и разнесет их прах.
Рито Перрах говорит моими устами! Его именем я свидетельствую о том, что было, о том, что есть, о том, кто станет в конце концов владельцем этих пространств, ныне находящихся в чужих руках! На этот раз насилие будет исходить не от человека, а от стихии! Нужно ждать и надеяться, что придет время, и наступит победа, и чужеземцы будут высланы отсюда. Горе тому, кто не бодрствует ночью! Горе тому, кто не закрывает свой дом перед чужеземцем! Горе тому, кто забыл, что глаза погребенных открыты и ждут дня воцарения справедливости, ждут, чтобы сомкнуть в этот день свои веки и покоиться в мире!
Все находится в движении! Все — в извержении! Все — в змее! Деревья — это не деревья, а лишь части тела растительного змея, который выходит из-под земли, падает дождем с неба и жгучим ядом покрывает все, что должно быть уничтожено!..
Один из мальчишек протянул индейцу три пятицентовые монетки, чтобы тот кончил поскорее свою проповедь, и спросил его, не знает ли он что-нибудь о «металлических видениях».
Отмахнувшись от монет, индеец взглянул на солнечный закат и сказал:
— Прилив огня! Прилив молнии! Прилив металла!.. Рито Перрах читает загадки времени в этих видениях… Капли крови и пена забытья под дождем драгоценного огня разбиваются в брызги, в крошечные брызги…
Авраам Линкольн Суарес, вожак другой шайки, наконец прибыл во главе своих войск. Он объяснил, что им едва-едва удалось удрать из дому, а тем более с мачете. Некоторым пришлось прыгать из окна. Поэтому они задержались и пришли не все. Не все были и с мачете. Кроме того, стало известно, что, по слухам, вчера вечером собралась какая-то группа анархистов и поклялась взорвать динамитом все сооружения Компании: электростанцию, резервуары с водой, бензохранилище, мосты, плотины, железнодорожную станцию, поселок…
Боби поджал губы и устремил в пространство взгляд голубых глаз. Слово «забастовка» воскресило в его памяти картины пребывания у своего ужасного деда во время последней поездки в Чикаго… Индеец угрожает, что все здешние неоценимые богатства покроет зеленый огонь земли, непобедимая и неугасимая растительность, а тут еще анархисты готовятся уничтожить сооружения Компании, взорвать их динамитом, но ведь неизмеримо хуже забастовщики, которые мирным путем собираются вырвать эти богатства из рук их владельцев. Они хотят покончить с империей Мейкера Томпсона, человека, образ которого тут же возник перед Боби: хилый, с трудом передвигавшийся на длинных ногах, кожа пожелтела, стала почти землистого цвета, седые волосы, которые он то и дело ерошил, глуховатый, на губах часто выступает слюна, а глаза какие-то затуманенные, вечно хочет курить.
Это все то, что осталось от Зеленого Папы под пижамой из китайского шелка, скрывавшей одни кости.
Матери не хотелось, чтобы он, Боби, оставался с дедом и с ней.
Это было между событиями в Перл-Харборе и Хиросимой. Она вырвала своего сына из рук умиравшего деда. Из горла Зеленого Папы, разъедаемого раком, выходила какая-то тягучая слизь, которую, как мотки бесконечных нитей, убирали санитары в перчатках.
— Здесь с нами ему нельзя оставаться! — Мать была категорична. — Подальше, куда-нибудь на плантации! Туда не дойдет война, там спокойнее!
Дед уже не мог говорить. Он задыхался, на глазах Боби в горло деда ввели платиновую трубочку и установили ее легкими ударами молоточка. Удушье было таким тяжелым, что дед даже не изменился в лице, когда острый конец трубочки поранил ему гортань. Его волосы и уши, а также челюсти, которые он слегка сжимал, вздрагивали от каждого удара молоточка. И Боби увидел, как в глазах старика затеплилась благодарность к тому, кто дал ему жизнь, — она проникла в его легкие через узенькую трубочку…
Деду разрешили выпить маленькими глоточками бокал шампанского. Его положили в постель. Дед хотел, чтобы внук находился рядом с ним, однако врачи опасались, что на Боби медицинские процедуры могут произвести тяжелое впечатление, — Боби был здесь нежелателен, тот самый Боби, который по воле старика должен стать наследником его сказочных богатств.
Перл-Харбор!.. Хиросима!.. Эти слова все время повторяла мать… К чему еще аргументы! Перл-Харбор!.. Хиросима!..
Зеленый Папа наконец сдался… Его холодные руки — казалось, это кости источали холод, несмотря на то, что лицо больного пылало от жара, — пожали руки внука… Пусть живет внук, если умрет он!
Он попросил бумаги и авторучку — говорить он уже не мог — и написал: «Оставьте его здесь, со мной… Там ему находиться опасно… Учтите мои слова… Не посылайте его на плантации… Берегите его… Берегите его… Забастовка…»
Дрожащая рука не могла писать дальше. Пальцы не слушались. Через трубку из трахеи вырывались хриплые вздохи, какой-то глухой шум, будто он хотел кричать во весь голос, повторить то, что написал, и с чем не хотела согласиться его дочь. Дочь твердо стояла на своем: первым же самолетом Боби отправится в Центральную Америку, а старик пусть потерпит…
…Громкие вопли обеих мальчишеских ватаг, возня, больше дружеских тумаков, чем слов привета, — все это вернуло Боби к действительности. Они пошли вперед. Надо было успеть добраться до зарослей мангровых деревьев, пока не зайдет солнце. Боби и его группа шли гуськом за Линкольном Суаресом и его ребятами, вооруженными мачете, — те расчищали путь в этих плотных зеленых стенах тропической растительности, которая, похоже, шевелилась, шла вместе с ними, текла рядом с ними, как река. Слышались шаги, шелестевшие по опавшим листьям, и удары мачете. Мало-помалу, по мере того как ребята спускались к морю, растительность редела, у деревьев, казалось, больше, чем веток, было корней, покрытых известняком и высохшей голубой глиной, окаменевших.
Кто-то подал сигнал тревоги, и смолкло все: пение, свист, голоса мальчишек. Теперь они шли по заболоченным местам. Лианы и корни переплелись над тинистой западней, образуя гибкий, мягкий настил. Самые смелые из соратников Боби, нарушив общий строй, стали было прыгать и раскачиваться на лианах — им нравилось, что лианы пружинят и подбрасывают их вверх…
Линкольн Суарес запротестовал. Если они сейчас же не прекратят, он прикажет пустить в ход против них мачете. Ведь под ногами болото, которое может засосать того, кто сорвется, если вдруг лиана не выдержит…
Ужасно умереть от удушья, быть засосанным трясиной.
Шли, как призраки, стараясь не наступить всей ступней, затаив дыхание, — каждый понимал, что любой неосторожный шаг может стать последним. Наконец они добрались до песчаного берега — и сразу же, с места в карьер, помчались по твердой земле — будто паралитики, чудом обретшие способность бежать.
Они поднимались и спускались по огромным дюнам красноватого песка — с этих дюн была хорошо видна река, которая, приближаясь к морю, разливалась все шире и шире.
Листва затрепетала от стрел, пущенных из луков, от пущенных из рогаток глиняных пуль, твердых, как свинец, — и после каждого выстрела с шумом падали жертвы. Иволга. Но что значит убить одну иволгу, если вокруг тысячи иволг? Белка. Но что значит убить одну белку, если вокруг их сотни? Бедные охотники. Певчая птичка сенсонтле, у которой в горлышке звенели четыреста хрустальных колокольчиков, пропела им «добро пожаловать» — не знала бедняжка, что эти детские руки несут ей смерть. Да, но… смешно думать о смерти какой-то пичужки или каких-то пичужек там, где смерть подстерегала человека.
Они спустились на берег и словно погрузились в плотную массу знойного воздуха. Перед ними рассыпались яркие островки, но не цветы это были, а птицы, готовые вот-вот взмыть стремительно в небо при малейшей угрозе, а в воде безмятежно плескались невиданные электрические рыбы. Оргия. Опьянение зноем, как перебродившим соком сахарного тростника. Здесь можно было жевать зной, будто сахарный тростник…
Наплывал вечер, шуршащим бархатом покрывая землю и воду, распуская веер светляков. Они подошли к самой реке, воды которой были столь спокойны, что им представилось, что идут они по сельве, отраженной в воде, — распростершейся у самых ног сельве их мечты, тогда как подлинная сельва раскинулась над головами, живая сельва — бурлящая жизнью птиц, обезьян, попугаев и попугайчиков, гуакамайо, птиц красных и черных, розовых и белоснежных. Нет, это уже не река. Это звездный поток, впадающий в морскую тьму, укутанную не то облаками хлопка, не то сна. Они стояли молча. Почувствовали себя одинокими, отрезанными от мира. Кто-то вскрикнул. Среди зелено-голубых мангровых зарослей, больных водянкой, никогда не пробуждающихся от своего летаргического сна, внезапно появился огонек. Они теснее прижались друг к другу. Над поверхностью воды, в молчании, возникли язычки пламени, словно кто-то зажег под водой многоцветные плошки. Пылающая поверхность воды становилась все ярче, слепила. Воздушные стены, окружавшие их, постепенно меняли свой цвет, казались все более прозрачными.
За этим видением следовало другое и еще одно — переливались всеми тонами радужные краски, бесконечно причудливые, пока не погас в воде последний луч дня, словно полоса раскаленного докрасна металла, которую внезапно погрузили в воду.
А там, где у земли обнажаются десны и, словно зубы, гниют мангровые заросли, протянувшие голые корни, с восхищением созерцали «металлические видения» еще две пары глаз, не замеченные дружками Боби и Линкольна Суареса, которые, впрочем, смутно ощущали здесь чье-то присутствие. Под предлогом того, что хочет взглянуть на видения, капитан Каркамо отлучился из казармы — солдаты и офицеры были фактически на казарменном положении.
— Андрей, говорят, что ты коммунист?
— Говорят, но я не коммунист… — послышался ответ, будто всплеск на воде. — И чтобы выяснить это, ты заставил меня прийти сюда?
— Да, потому что я хочу, чтобы ты вышел из этой партии, чтобы ты не был коммунистом…
— Я уже сказал тебе, что я не…
— Беда в том, что все считают тебя коммунистом и на тебя уже нацелились, тебе угрожает стенка. Я не знаю, почему так думаю, но боюсь, что на мою долю, Андрей, выпадет командовать теми, кто тебя будет расстреливать… Это страшно!.. Ты же мой друг детских лет…
— Хочешь, я тебе скажу… — Голос Андреса Медины слегка вздрогнул, он не стал ждать ответа капитана, ему хотелось все скорее высказать, закричать… — Хочешь, я тебе расскажу, — повторил он, — ты, брат мой, не теряй головы, если придется командовать в момент расстрела. Я ведь сам чуть было не застрелил тебя…
— Меня?
— Да, когда ты нес бумаги, обнаруженные у парикмахера.
— Поэтому ты исчез с церемонии?
— Да, я поспешил уйти, мне надо было взять винтовку, а кроме того, со мной шел еще другой товарищ, мы решили, что эти бумаги не должны попасть в комендатуру… — Голос его оборвался: — Прости меня!
— И только из-за этого ты хотел меня убить?
— А как иначе можно было отобрать у тебя эти бумаги?
— Да, только у мертвого…
— И ты уже не смог бы говорить здесь со мной… — Медина подошел ближе к капитану и ласково провел по его плечу, пожал ему руку; он был похож на человека, освободившегося от тяжелого кошмара, — ты не смог бы говорить здесь со мной, если бы пошел туда, где мы тебя поджидали, один, но ты, брат, родился под счастливой звездой. Тебя спасло то, что ты был с капитаном Саломэ и его отрядом.
— Моя счастливая звезда или трусость двух храбрецов?
— Трусость?… Ну что ж! Мы действовали не из-за отваги или страха, мы выполняли свой долг. Что мы выиграли бы, если бы убили тебя, когда ты был не один? Мы смогли бы захватить эти бумаги лишь в том случае, если бы ранили, а то и убили другого офицера, — конечно, если бы ты был даже смертельно ранен, ты передал бы их другому. Когда тебе приходится кого-нибудь расстреливать, ты трус или храбрец?… Наверное, ни то и ни другое…
— Тебя это угнетает, Андрей?
Андрес Медина склонил голову на грудь.
— В тот момент мне было тяжело, да, мне было тяжело. Хочу быть откровенным с тобой. Но сейчас я этого не могу себе простить…
— Почему не можешь?…
— Тебе должно быть понятно…
— Ты даже представить себе не можешь…
— Тебе должно быть понятно…
— А ты, очевидно, даже представить себе не можешь, что обнаружил я в бумагах парикмахера… В этих бумагах было имя… ты знаешь чье?… Росы Гавидиа… написано на конверте… Я даже не помню, как схватил эти документы, спрятал их под мундиром, возле сердца — это имя мне приказало. Затем я наспех перебрал все бумаги, и хоть ничего не видел в ту минуту, я все искал, нет ли еще где-нибудь упоминания ее имени…
— Ты нам очень помог…
— Андрей, когда вы, коммунисты, даете клятву, чьим именем вы клянетесь?
— Я уже сказал тебе, что я не коммунист…
— Ведь ты же мог убить человека, который ничего дурного вам не сделал…
— А вы, когда вас посылают расстреливать кого-нибудь, как вы поступаете? А ведь они не коммунисты!
— Поклянись мне, Андрей, что ты никому не скажешь ничего из того, что я тебе сказал.
— Если тебе достаточно моего слова…
— С помощью верного человека я попытался передать Росе Гавидиа, чтобы она скрылась, спряталась, исчезла, потому что ее будут разыскивать живой или мертвой. Среди тех документов, которые я не успел просмотреть, — я уже говорил тебе, что их было много, — могло где-нибудь остаться ее имя, и как только его обнаружат, ее попытаются схватить. Я еще не знаю, получила ли она вовремя предупреждение, а ты бы смог разузнать…
— Не знаю, как это сделать, но обещаю тебе. И как только у меня будут известия, я дам тебе знать.
— Андрей, я не найду покоя, пока не буду уверен, что с ней 'ничего не случилось, что не зря, рискуя жизнью, я скрыл эти бумаги…
Спускалась ночь — мальчишки решили возвращаться восвояси. Они шли молча — утихли страсти, разгоревшиеся в соревновании, кто лучше владеет мачете или более метко стреляет из рогатки; они молчали еще и потому, что их сопровождали тучи москитов, мошек, комаров, которые залезали в нос, в рот, в глотку тому, кто пытался разговаривать на ходу, приходилось сплевывать после каждого слова. Молча они подталкивали друг друга, бросали камешки, набирали в карманы маленьких крабов или жуков.
Несколько слов, оброненных Линкольном Суаресом, заставили забыть прежние распри, и ребята снова оживились и зашумели.
— Прежде всего, — закричал шутливо Лусеро Петушок, — надо научиться правильно произносить свое имя, а то потом, когда объявят забастовку, со страху все забудешь…
Последовал взрыв хохота. Все опять загалдели. Линкольн Суарес, не обращая внимания на смех и шутки, продолжал:
— То, что я хочу рассказать, — не выдумки, это чистая правда! На плантациях сейчас все начеку, все — и управляющие, и интенданты, и администраторы, и десятники. Стало известно, что в Тикисате должен прибыть один из вожаков этой забастовки, какой-то Табио Сан. Заварушка будет!..
В темноте не видно было лиц, но каждый глубоко воспринял слова говорившего и отчетливо представил себе, что делается на плантациях. Слова Линкольна Суареса рождали во тьме образы. Знойный ночной мрак покрывает тела созвездиями золотистого пота. Издалека слышится глухой рокот моря, никогда не устающего вздымать свои волны. Как будто пауки всасывают все звуки до последней нотки и ткут паутину молчания, хотят опутать тенетами музыку ночи, но это им не удается.
В голосах соратников Боби — отчетливее, чем на их лицах, по которым червячками скользили капельки пота, — можно было уловить злость и ненависть, унаследованные от родителей, ненависть к забастовщикам, которых следовало бы повесить…
— Вы видели в кино… — донесся голос Боби, белобрысая голова которого вырисовывалась на фоне листвы. — Вы видели, как в кино тела расстреливаемых кажутся повешенными на дымке пулемета? Вот что надо сделать с забастовщиками… теке-теке-теке-теке… повесить их на дымке пулеметов… Теке-теке-теке-теке-теке… как в кино… теке-теке-теке-теке…
И дружки Боби — дети бизнесменов, которые дышали зелеными легкими своих плантаций и зеленью своих долларов, живо представили себе, как застрочат пулеметы в их руках… теке-теке-теке-теке-теке… огонь по забастовщикам, а те падают, повешенные на дымке… теке-теке-теке-теке-теке-теке-теке…
Правда, Линкольн Суарес и ребята из его ватаги дышали искусственными легкими — их отцы, высокопоставленные служащие Компании, всего-навсего получали жалованье, поэтому эти мальчики хоть и были настроены не менее решительно, но все же считали: прежде чем повесить забастовщиков на дымке пулеметов, следует разузнать, чего они хотят, а уж затем, в соответствии с законом, расстрелять их, если они не только забастовщики, но и что-то вроде коммунистов…
Разгорелись споры. Несмотря на весь пыл противников, несмотря на воинственность их жестов, в конце концов и дружки Боби вынуждены были признать, что выслушать забастовщиков стоит, ведь они — попрошайки, а не настоящие забастовщики, попрошайки, которым можно подкинуть деньжат, но зато и заставить работать больше.
Ребята из ватаги Линкольна Суареса пояснили, что речь идет не о попрошайках, не о том, чтобы подкинуть жалованья, не о том, чтобы увеличить рабочий день. Наоборот, забастовщики требовали больше заработка за меньшее время работы.
— Они всегда начинают с этого, — язвительно заметил мальчишка с мачете, — а кроме того, забастовщики требуют…
Лусеро Петушок поравнялся с Боби, толкнул его локтем и сказал вполголоса:
— Вздернуть их на рею!.. Тоже еще — они требуют!
— Лучше электрический стул, — процедил Боби сквозь зубы.
— Кроме того, забастовщики требуют… — В ушах сынков миллионеров настойчиво звучали эти слова, сказанные кем-то из ватаги Линкольна Суареса.
Требуют! Требуют! Требуют! Требуют! Требуют!
Теке-теке-теке-теке… требуют!.. требуют!.. текетеке-теке-теке-теке… требуют! теке-теке-теке… тре… теке-теке-теке… тре… тре… теке-теке-теке-теке-теке-теке-теке… Ничего… ничего уже не смогут потребовать те, кто повешен…
— Вздернуть на рею дураков! — уже громко крикнул Петушок.
Гринго не отвечал, но его голубые глаза, преследуемые черными глазами Петушка, окинули все вокруг и заметили блестевшие при свете луны, будто серебряные молнии, клинки мачете в руках мальчишек Линкольна Суареса, расчищавших путь в темном лесу.
Свет электрофонарика возвратил ребятам лица и потушил слова. Боби храбро подскочил к Линкольну Суаресу и лающим голосом в упор спросил:
— Так чего же требуют забастовщики?… — Знаменитый кулак его левой руки был готов обрушиться на челюсть противника.
Линкольн Суарес быстро отступил, чтобы дать простор своему мачете, на который он раньше опирался, а сейчас выставил перед собой.
— Так чего они требуют? — заорал Гринго.
— Среди всего прочего… — Линкольн Суарес с мачете в руках спокойно смотрел в лицо своего противника, чувствуя себя хозяином положения, — среди всего прочего они требуют, чтобы на плантациях говорили по-испански, а не по-английски, чтобы в обращении были бы наши деньги, а не доллары, — кстати, по стоимости они равны, — и чтобы здесь был поднят наш национальный флаг, а не флаг янки…
— Чепуха! — выплюнул ему в лицо Гринго.
— Для тебя это чепуха!.. — Не отступая, Линкольн Суарес поднял мачете и положил его на плечо. — Потому что ты и от своих отбился, и к чужим не прибился, и… ради чего тебя прячут тут на плантациях?… Ну-ка, скажи!.. Чего молчишь?…
— Так говоришь, что я не хочу идти на войну?… Скотина, не знаешь, сколько мне лет!
— Всем известно, ты скрываешься здесь, потому что боишься бомбежек!
— Боюсь, я?
Округлившиеся глаза Гринго сверкнули, как две вспышки голубого пламени на залившей его лицо бледности.
— Брось мачете, и тогда увидишь, мужчина я или нет! — крикнул он в ярости.
Линкольн Суарес — над его узким лбом повис чуб, словно петушиный хвост, — отбросил нож в сторону, прыгнул назад и напрягся, готовый ринуться на противника…
Всех парализовала пулеметная очередь… теке-теке-теке-теке… Одни бросились на землю. Другие помчались домой… теке-теке-теке… Это был настоящий пулемет. Настоящая пулеметная очередь… текетеке-теке-теке-теке…
XXXII
Зеленый свет открывал путь локомотиву, маневрировавшему на путях с товарными вагонами. Время от времени локомотив останавливался, и тогда вагоны стукались друг о друга. Легко, от одного толчка трогались с места пустые вагоны, медленнее — нагруженные, а затем уже по инерции вагоны двигались по путям, одни — в одну сторону, другие — в другую, на путях остался лишь состав, который должен был уйти на рассвете.
В хороводе красных фонариков, покачивавшихся в руках сигнальщиков, которые указывали путь машинисту, откатились в сторону три вагона, откатились в тупик. И здесь, меж кустарников и луж, покрытых нефтяными пятнами, остались эти вагоны, забытые фонариками, продолжавшими свой хоровод.
Кокосовые пальмы и банановые стебли. Высокий и тесно сплоченный мир звезд. Зной, как паразит, питается человеческим потом, прилипая к телу, проникая в тело, подавляя все живое, превращая его в какую-то аморфную и безвольную массу — словно губка неведомых миров, она ищет свежести в ночи и стремится вдохнуть глубже, чтобы не задохнуться.
Так думал Флориндо Кей, спрятавшийся среди кустов, — здесь во влажной и мягкой, прижатой к земле растительности, под стеблями, согнувшимися под двойной тяжестью — ветвей и плодов, его компаньонами были квакавшие чванные жабы.
Три вагона остановились в заросшем кустарником тупике, и тут же появился Паулино Белес. Золотой зуб светлячком поблескивал в черном от табака рту всякий раз, как только он поднимал сигнальный фонарик.
— Уже… — сказал он Кею, — но лучше подождем.
— Хотите затянуться? — предложил Флориндо сигарету.
— Нет, спасибо, вы уже знаете, что для меня табак — не затяжка, а жвачка… — И, переменив тон, он добавил: — Вчера вечером задали они жару. Не знаю, слышали ли вы пулеметы. Говорят, они не то пробовали пулеметы, не то учили обращаться с ними здешних, тех, кто еще плохо стреляет.
— Кто же этому поверит?…
— Вот и я то же самое говорю…
— Они хотят припугнуть людей, — сказал Кей. — Кому придет в голову ночью обучать стрельбе из пулемета? Хотят посеять панику…
— Посеять панику, говорите вы, но ведь это же не сульфат, который рассеивают по плантациям, чтобы уничтожить вредителей. Однако, судя по всему, вчера вечером они устроили шумиху, чтобы подлить масла в огонь. К счастью, сейчас луна — значит, не жди дождя. Это и нам на руку — пойдет дождь, люди попрячутся и будут отсиживаться где-нибудь, в такие дни и души-то словно подмокают… Который час?… Ребятам я дал время — они хотят его видеть, поговорить с ним. Конечно, надо знать, что к чему. Столько слухов, столько известий. Говорят, студенты в столице дали отпор полицейским…
— Самое главное — не терять даром времени. Вокруг зорких настороженных глаз больше, чем ясных звезд на небе. Если соберется слишком много людей, кто знает, чем это может кончиться…
— Пойдем выпустим его… — Паулино направился к последнему из трех вагонов, стоявших в тупике. — А после я объясню, что надо делать.
— Да, да, и поскорее, не то он там заживо изжарится, — сказал Кей, следуя за Белесом, — его спутник был коренаст, голова словно втиснута в плечи, шеи не видно; он шел и будто мерил расстояние своими длинными руками. — Зачем держать его взаперти, если можно уже выпустить? — продолжал Кей, выбирая путь между сухим кустарником и колючей проволокой. — Я представляю себе, что он сейчас думает: все провалилось, и теперь его в этом же вагоне отправят на мексиканскую границу, вышлют из страны…
Под нажимом Паулино сдвинулась с места дверь товарного вагона, освобожденная от щеколды. Сама ночь умолкла, боясь нарушить тишину; все прислушивались, не идет ли кто-нибудь, однако то, что почудилось отдаленным шумом шагов, оказалось всего-навсего ударами капель смазки о листья, лежавшие между рельсов. Никого. Лишь пофыркивал локомотив, неугомонно продолжавший свою возню, — он все двигался то туда, то сюда, будто голова какой-то огненной змеи разыскивала в ночи кусочки своего тела, восстанавливала свое тело, перед тем как потащить его вперед. Пронзительно трещали цикады, неуемно квакали лягушки.
Флориндо заглянул в темноту вагона и произнес:
— «Чос, чос, мойон, кон!»
— Кей! — послышался из вагона голос Табио Сана, раздались его неуверенные во мраке шаги.
— Октавио Сансур!.. — торжественно произнес его полное имя Флориндо и обнял прибывшего.
— А кто это с тобой?… — прервал его Табио Сан. — Ага, Паулино Белее, и, как всегда, с вывернутым пиджаком, наброшенным на плечи!
— Вы же знаете, товарищ, — ответил Белес, приподнимаясь на носках, чтобы пожать Табио руку, — что вывернутый пиджак — это мой пароль!
— Ну, как попутешествовали? — спросил Кей, но Сан прервал его:
— Ребята, меня страшно мучает жажда, вода уже давно кончилась, а жара просто невыносимая, а тут еще поезд запоздал…
— Вот воды-то у нас и нет! — воскликнул в отчаянии Паулино. — Единственное, что я с собой захватил, — так это… работу.
— Флориндо, а у тебя, кажется, есть, чем горло промочить? — спросил Сан и, прыгнув с подножки, жадно схватил бутылку — он был счастлив почувствовать себя свободным после бесконечных часов невольного заточения, пока ехал из столицы в Тикисате.
В вагоне он старался побольше спать, чтобы убить время в пути, но это ему не удалось — пока он спал, товарный стоял на остановке, пропуская какой-то поезд, по-видимому курьерский…
— Хуже всего… — сказал Табио Сан, пропотевший насквозь, — это то, что пришлось путешествовать в вагоне, нагруженном стеклом, — стеклянными листами, запакованными в деревянные рейки, один вид стекла разжигал во мне жажду, подчас мне чудилось, что вокруг меня огромные ледяные скалы, и все мерещилось, что на стекле появляются какие-то пузырьки или волны…
— А как Малена? — спросил Флориндо, пока Паулино закрывал вагон.
— Она скрывается в столице… — сообщил Сан. — Ей удалось бежать и…
— Ну, время у нас будет, тогда расскажешь, — Флориндо продолжал говорить с ним как с равным, на «ты». — Самое важное, что ей удалось бежать…
— Она ускользнула у них прямо из рук…
— К вашим услугам. — К ним подошел Паулино и обратился к Кею: — По-моему, будет лучше, если я пройду вперед и запущу мотор, так мы выиграем время…
— Что ж, это хорошо придумано, — ответил Флориндо, передавая Паулино ключи от грузовика, в котором развозил лекарства по окрестным аптекам, — но только потише, не давай сильный газ, чтобы не шуметь, и на стартер жми полегче, и бензина…
— Да, чтобы не забыть, — прервал его Паулино, — говорят, что товарищ, — теперь он обращался к Табио Сану, — работал в столице угольщиком, я даже с трудом его узнал, волосы у него побелели, будто зола их припудрила.
— Что делать — стареем, но это не самое страшное, лишь бы увидеть осуществленной нашу мечту…
— Здесь у меня все… — сказал Кей, когда они усаживались в грузовичок, которым правил Паулино; Табио Сана они усадили между собой. — Здесь у меня все — лекарства, оружие, пища, напитки и даже последние листовки, которые мы получили и спрятали на чердаке церкви. Паулино их оттуда забрал…
— Да, я унес их вчера вечером, — отвечал Паулино, ведя грузовик по извилистому шоссе, — должен вам сказать, что все три лозунга очень хороши, но больше всего мне по вкусу: «Свободы и хлеба!»
С побережья, утонувшего в ночи, доносился шум моря, словно там кипела похлебка из черных бобов, бурлила, бурчала.
— Где думаете проводить митинг? — спросил Сан.
— Сначала на Песке Старателей, — ответил Кей, — а вообще думаем провести не один митинг…
— На Песке Старателя… — поправил его Паулино, не отрывая глаз от дороги. — Нельзя допустить, чтобы из-за каприза каких-то глупцов изменили название. Ведь так всегда называлось это место неподалеку от Пещеры Старателя, где, как говорят, могли бы спастись те янки-миллионеры, которых унес ураган, если бы они укрылись в пещере.
— Это грузчики бананов, — пояснил Флориндо, которого начинало раздражать, что Паулино всюду сует свой нос. — Это они потребовали, чтобы так переименовали место. Там они готовили свою первую стачку и сами себя назвали Старателями.
— Превосходное название для тайного общества! — воскликнул Табио Сан. — Вот сейчас мы заговорили о грузчиках бананов, а интересно, на чем же все-таки остановил свой выбор Хуамбо? Вы помните его! Тот самый мулат, страшно упрямый, которого я хотел использовать для работы на побережье. Я был уверен, что нам он будет очень полезен, а вот пользы от него никакой.
— Он почти рехнулся, — поспешил ответить Паулино, на которого Кей зло поглядывал, не в силах заставить его замолчать, он казался каким-то чудовищем, восседавшим за баранкой, бестелесным чудовищем с огромной головой и двумя длиннющими руками, огромными, волосатыми.
— Я спросил о нем, потому что он собирался работать грузчиком, но ведь эта работа слишком тяжела для него!
— Он неплохо вел себя, когда вспыхнула стачка, — ответил Флориндо. — Он оставался вместе со всеми. А сейчас его нередко видят возле могилы отца, останки которого он то выгребает из могилы, то опять хоронит, — хочет узнать, открыты ли глаза у отца. Он принял всерьез эти разговоры насчет глаз погребенных…
— Да, вел себя он неплохо, но никто ему не верит… — опять послышался голос Паулино.
— Я сделал все, что смог, — продолжал Флориндо, — чтобы, согласно нашим планам, убедить его поступить на работу в контору управления. Ему это было бы очень легко, тем более что здесь, в доме миллионеров Лусеро, проводит свои каникулы Боби Томпсон, внук президента Компании. Чья рекомендация может быть лучше? Будет ли кто-нибудь в ней сомневаться?
— Вот именно, именно, будет ли кто-нибудь в ней сомневаться? — снова вмешался Паулино. — Знаете ли вы, товарищи, что в один прекрасный день, вскоре после своего приезда, этот самый Боби въехал на лошади прямо в контору управляющего?…
— А что делает здесь этот парень? — спросил Сан, глаза которого следили за темной лентой шоссе, убегавшего под колеса машины.
— Вначале говорили, что он на каникулах, — сказал Кей, который говорил не переводя дыхания, чтобы не дать вмешаться Паулино Велесу, — а потом вот остался…
— И никто не знает, в какую дудку он дует! — сумел все-таки ввернуть Паулино.
— Есть сведения, — продолжал Флориндо, — что между матерью и дедом мальчишки произошел серьезный конфликт в Чикаго. Опасаясь, что немцы будут бомбить Чикаго, мать не хотела, чтобы ее сын оставался там, и отправила его на плантации. Кое в чем она права. Здесь безопаснее. Уж если немцы или японцы будут бомбить эти места, то в последнюю очередь. Однако старик — он умирает, рак горла — считает, что внуку его здесь угрожает значительно большая опасность в связи с забастовками, чем там. Старческий маразм, кому хочется возиться с мальчишкой!
— Не такой уж маразм! — Сан передвинулся на сиденье. — Как истинный гангстер, старик полагает, что мы можем украсть мальчишку и будем требовать от старика в виде компенсации улучшения условий работы.
— А это мысль, — заметил Паулино.
— Мысль янки, — сухо оборвал его Сан. Грузовик остановился.
Далее Сан должен был идти пешком вместе с Флориндо, а Паулино — вернуть машину в гараж.
Они простились. Паулино просунул в окно дверцы огромную голову и длиннющую руку — оказалось, что ладонь у него совсем маленькая, — чтобы пожать руку Табио Сану, повторяя слова, уже сказанные им на станции, насчет золы в волосах. Паулино был уже немолод, несколько сутуловат — сказывались годы тяжелой работы, — глаза близко поставлены, мягкие красноватые складки у губ и морщины на лбу.
Смолк шум мотора, утонул во мраке свет фар — все погрузилось в молчание и темноту. Глаза постепенно привыкали к фосфоресцирующему пепельному свету звезд, а уши — к ночным шорохам.
За первыми шагами — первые взмахи рук… Трудно было отражать атаки летающего яда, жужжащего, назойливого, беспощадного. Москиты ели живьем. Ускорить шаг. Все равно. Лучше не обращать внимания. Временами приходилось не столько отгонять москитов, сколько отрывать, как коросту, приклеенную потом. «Искры тропиков», — подумал Кей, прислушиваясь к словам Сана.
— Малене удалось скрыться после того, как она получила предупреждение от Рамилы. И очень вовремя — она была уже на грани опасности. Когда пришли за ней, в школе ее не оказалось. Ее счастье! Она ушла в маленькую керамическую мастерскую, которую основала неподалеку от Серропома. И не вернулась. Они не только все обыскали, не только утащили ее вещи, они разграбили школу. Не обнаружив ее, они стали избивать служащих школы. В тюремной машине они увезли в столицу директора мужской школы и мастера по керамике — а это чудесный старик, Пополука, Индалесио Пополука, — а также одну учительницу, по имени… по имени… Ана Мария… да, Ана Мария… совсем еще дитя…
— А здесь, — сказал Кей, — вчера арестовали учителя Хувентино Родригеса, обвинив его в бродяжничестве. Но мы думаем, что кто-то донес на него, — он выступает за забастовку.
— Хорошо, очень хорошо, что и учителя включаются в нашу борьбу, такого еще никогда у нас не бывало! — воскликнул Табио. — А ведь люди этой профессии многое претерпели. — Студенты — те понятно, они всегда были искрами восстания. Но учителя…
Собеседники смолкли. Отовсюду врывалось в уши пронзительное, пронизывающее чуть не до зубов стрекотание цикад — стрекочущие потоки звуков обрушивала на них ночь, а веки, тяжелые от усталости, жары и сна, еще более тяжелели от многократно повторяющихся одних и тех же слогов, что зубрили лягушки, хоры лягушек… аэ… аэ… ао… ао… аэ… ао…
Голоса лягушек раздавались так четко, что оба, Табио Сан и Флориндо Кей, подумали, не передается ли это какой-то пароль великого заговора земноводных против звезд.
И невольно возникла мысль: а сами они, кто такие они сами? Поднявшиеся из болота нищеты и голода существа, бросившие вызов мулатов созвездию банановой монополии: «Чос, чос, мойон, кон…»
Этой же самой ночью — ночь, собственно, еще не вступила в свои права — Хуамбо повторял те же слова… «Чос, чос, мойон, кон…»
Никак он не мог понять, что же это светится: фосфоресцирующие жуки или светлячки?
По деревянным подмосткам, вдоль стены церкви, светящимися гусеницами ползли светлые пятна, заползали меж балок чердака, шарили то там, то здесь, словно искали что-то, но, очевидно, ничего не обнаружив, спускались — мигавшими скачками — на землю.
— Знаете что?… — сказал Лусеро Петушок, когда ребята в полном замешательстве спустились на землю и окружили его, потушив электрические фонарики. — Знаете, что я думаю… куда спрятали эти свертки? На кладбище…
Ватага разразилась громким хохотом, а один из ребят закричал:
— Эй ты, Петушок, думаешь, листовки раздадут покойникам?… Ха-ха-ха!.. У каждого покойника в руках листовка, и каждый читает: «Всеобщая забастовка!», «Справедливая забастовка!..» Что там еще было?…
— «Свободы и хлеба!» Боби даже не моргнул.
— На кладбище?! — сказал он. — Да ведь это самое настоящее приключение, — это идея! — И уже когда все тронулись в путь, он спросил: — Это близко?… Недалеко?… Кто знает?…
— Я знаю, как пройти, минуя поселок, но только там придется перелезать через изгороди…
— Вперед, boys, [47] — приказал Гринго.
Одни перепрыгивали через ограды, другие пролезали под колючей проволокой — на четвереньках, на локтях, на животе, — все спешили поскорее штурмовать кладбище, близ которого они как-то совсем незаметно очутились. Деревья папайя, отягощенные массивными спелыми плодами, казались какими-то богинями ночи с множеством грудей. Ветер отражался металлическими отзвуками в ветвях пальм. Ничто здесь не говорило о кладбище, если бы не кресты, которые свет фонариков время от времени вырывал из мрака, — и кресты и могилы укрывала не только темнота, но и буйно разросшаяся растительность.
От света вторгшихся на кладбище фонариков зашевелились гады и насекомые, просыпались совы — птицы из птичника смерти. Лучи электрических фонариков просверливали в разных направлениях мрак и освещали могилы, заросшие травой. Неожиданно всю ватагу будто парализовало: из одной могилы, близ которой они проходили, послышался какой-то шум, какой-то голос.
Боби благодаря своему высокому росту смог, вытянув шею, увидеть, что происходило на дне могилы, которую обстреливали стрелы лучей. Тут, тут, именно тут прячут листовки, — подумали все. Боби удалось разглядеть человеческую фигуру — кто-то как будто хоронил кости с остатками похожей на банановую шкурку кожи, череп с остатками волос, остатки зубов, вылезавших из безгубого рта.
Побледнев как мертвец, Гринго отшатнулся. Он не мог говорить — его бросало то в жар, то в холод. И он, конечно, немедля бросился бы бежать со страху, если бы не узнал, что тот, кто в руках держал человеческие останки, — непонятно лишь было, хоронил ли он либо выкопал их, — был Хуамбо.
Ослепленный лучами электрических фонариков, мулат испуганно прижался к стенке могильной ямы, но успокоился, как только среди лиц, в ливне устремленных на него горящих глаз, различил лицо внука своего хозяина.
Петушок, стоявший рядом с Боби, спросил мулата, что он делает, почему оскверняет могилу.
— Я говорю с погребенными! Отец говорит со мной!
— Дикарь! — в ужасе закричал Боби.
— Отец не оставлял меня в горах, нет! Я спрашивал его здесь, и он мне отвечал: нет! Отец дарил меня дедушке Боби, это да, но не оставлял меня в горах, чтобы меня сожрал ягуар, — это нет… — Кто мне сказал?… — Он прислушался к голосам и продолжал говорить: — Дедушка Боби мне это сказал однажды, дважды, трижды, сто раз, тысячу раз…Отец нет, отец меня не оставил в горах, чтобы сожрал ягуар! И я разрыл его, и говорил с ним, и просил прощения у него — закрыл ему глаза, открытые под землей глаза, как у всех бедняков после смерти, потому что они ждут… ждут… я разрыл его и просил прощения — за себя, за ягуара, который меня не сожрал, за Анастасию, которая его покинула… (Мулат потряс костями.) Прости, отец, прости, что я проклинал тебя, что плевал на землю всякий раз, как слышал твое имя! Я — твоя кровь и буду твоими костьми!
И он завыл: «Ау-у-у-у-у-у… ау-у-у-у… у-у-у-у-у…» Не переставая выть, он опустил на землю человеческие останки — очень осторожно, чтобы кости не ударились друг о друга или о землю, — сдвинул их в заранее подготовленную ямку. Однако дно ямы было, по-видимому, утрамбовано, и кости все-таки ударились, упав в слепое пространство смерти, послышался глухой стук. Зарывал он кости в молчании, и никто не слышал, что он повторял: «Чос, чос, мойон, кон!.. Чос, час, мойон, кон!..»
Никто не мог разобрать слов. Кто-то даже подумал, что он молится. Кто-то предложил забросать его камнями. Но воспротивился Боби, не только воспротивился, но и спрыгнул к мулату, который продолжал что-то жалобно бормотать. В липкой влажной земле, разрытой Хуамбо, горячей земле, от которой поднимались зловонные испарения, среди вырванных корней и старых истлевших досок Боби увидел еще какие-то останки.
— Не вытаскивайте меня отсюда! — протестовал мулат. — Заройте меня! Заройте меня! Боби, нет! Не вытаскивай меня, Боби!..
Объятая страхом, шайка кинулась врассыпную, но вскоре мальчишки снова вернулись к могиле и увидели, что Боби силой вытаскивает из могилы этого сумасшедшего, который заявил, что он покойник и что он просит его тоже захоронить.
Петушок, преданный Боби, колебался, не вернуться ли, но все же не смог — сильнее оказался страх.
И он бросился бежать к дому, к «Семирамиде». Там он залез в кровать и укрылся с головой, дрожа с ног до головы, не давала ему покоя мысль о том, что Гринго спит в этой же самой комнате, вон в той кровати, которая стоит пустая, и что он может появиться с минуты на минуту, что он придет сюда вместе с… с… с… — не осмеливался он сказать, — с… с… этим сумасшедшим, говорившим с покойником…
Когда Боби вернулся, Петушок уже спал; весь в испарине, голый, он разметался на постели, простыня соскользнула на пол и лежала, как белый пудель, — очень похожа была простыня на верного пса, дремавшего и одновременно сторожившего своего хозяина: одно ухо торчит, а нос уткнулся в лапу.
Боби разбудил Петушка и сказал:
— Конец нашей шайке! Эти трусы, мерзкие трусы, меня бросили! Завтра всем им скажешь, что нашей шайки больше нет!
Петушок не отвечал. Едва приоткрыв глаза, он понял, что Боби прав; понял это, повернулся на другой бок и уснул.
Псалмопение лягушек — аэ… аэ… ао… ао… аэ… — не столько было паролем и отзывом земноводных, как подумали Табио Сан и Флориндо Кей, когда слезли с грузовичка, сколько отсчетом времени течения воды в реке, похожего на течение жизни; как тиканье часов, разносились ритмичные звуки: аэ… аэ… ао… ао… аэ…
— А потом, — заметил Кей, — у нас уже не было нужды в Хуамбо, уже не нужно было, чтобы он поступил работать в контору. Мы получили очень ценные сведения от одного высокопоставленного чиновника, который имеет доступ в управление, в интендантство, повсюду.
— Он из наших сограждан? — спросил Сан.
— Да, он из столицы, — ответил Флориндо. — Он один из тех, кто был оторван от своего круга, от своего клуба, у кого осталось лишь имя, умение говорить по-английски, кое-какие познания в бухгалтерии, хорошие манеры да умение писать и поддерживать усыпляющую беседу. Вначале я испытывал к нему недоверие. Он сказал мне, что мы якобы встречались в столице, в одном притоне, который содержат француженки. Скажем прямо, не слишком подходящее место. Он объяснил мне, что ходил туда не ради развлечений, а чтобы не забыть французский язык. Как циник цинику, я ответил ему, что я тоже бывал там ради практики во французском. Поговорили мы с ним, поговорили, и как-то он начал жаловаться на Компанию. Я не придал этому значения. Такие жалобы частенько можно слышать от служащих, наших соотечественников, и даже от янки, начиная с самых высокопоставленных и кончая самыми мелкими чиновниками. Это модно: критиковать Компанию в доверительном тоне, среди друзей: «Только вам, но вы, пожалуйста, никому не передавайте…».
— Бандиты!
— Однако этот человек не ограничился критикой. Однажды он вдруг заговорил со мной о забастовке. Он высказал свое мнение, что забастовка — дело правильное, однако нельзя останавливаться на этом, надо вынудить Компанию пойти на большее. Я подумал, что он — провокатор, и прикинулся, что я, дескать, не понимаю ничего и эта тема меня не интересует. Он частенько навещал меня, потому что коллекционировал… как ты думаешь, что…
— Лекарства?…
— Это из-за француженок!.. Ха-ха!.. — рассмеялся Кей. — Ты близок к истине. Он коллекционировал флаконы из-под лекарств.
— Полные или пустые?
— Не знаю, но он искал их повсюду, как маньяк. Ему нравились всякие флаконы причудливой формы, склянки, пробирки из-под пилюль.
— А что этот тип думает по поводу забастовки? — спросил Сан.
— Он заодно с нами…
— Что за чертовщина!
— Я, разумеется, ему ничего не говорил…
— Тогда это скорее шпион, а не провокатор.
— Я так и подумал. До последней минуты я считал, что он шпион… Однако подожди, надо сориентироваться, а то за разговорами мы, чего доброго, собьемся с пути…
Он поднял голову к знойному, испещренному звездами небу. От земли поднимались горячие испарения. Духота становилась еще более невыносимой из-за сильного аромата цветов и тягучего, как бы маслянистого запаха спелых бананов.
— Пошли. Мы правильно идем, — сказал Кей, снова пустившись в путь и возобновляя беседу. — Документ подтвердил, что он помогал нам из искренних побуждений. Эту бумагу ты видел.
— И он тебе ее доверил?
— Очень ценный документ, тебе не кажется?
— Еще бы! Особенно сейчас. Хотя в документе и не выражено мнение государственного департамента, однако же мы смогли, на основании этого документа, установить точку зрения президента Рузвельта, который, по-моему, говорил об этой проблеме, не располагая достаточными сведениями.
Обратив внимание на то, что Кей молчит, Табио Сан продолжал:
— Во всем этом, дорогой мой Флориндо, есть один промах, который нам на руку и который мы смогли бы использовать в своих целях. Президент Рузвельт говорил о нашей забастовке с позиций государственного деятеля страны, где забастовка считается правом, а не преступлением, как у нас. И представляешь себе, что будет, если применить эти слова Рузвельта к нашей действительности, пусть даже речь идет только о забастовке, — подчеркнул он. — Ведь это же будет потоп! Мы наводним страну — не только одну Компанию — социальными реформами, потоком законов о труде! Мы освободим нашу экономику!.. — Сан чихнул.
— Доброго здоровья!
— Спасибо!
— А известно ли тебе… — продолжал Кей, — что Компания провела консультации в Вашингтоне по ультимативному предложению нашего правительства, провокационно утверждающего, что забастовка якобы подорвет фронт союзников? Если это так, ответили из Вашингтона, надо вести переговоры с рабочими. А как могут пойти на переговоры заправилы Компании, если Зверь из президентского дворца твердо убежден, что малейшая уступка рабочим будет означать его крушение, а с другой стороны, он понимает, что нельзя огнем и кровью подавлять забастовочное движение, раз из Вашингтона получено указание начать переговоры…
— Это еще одно подтверждение того, что правительство и Компания, а в более широком смысле — тресты и диктатура заодно. Если плагиат был бы позволителен, я мог бы сказать: как туча несет в своем чреве бурю, так «Тропикаль платанера» — диктатуру…
Табио Сан остановился, перевел разговор на другую тему:
— Я не сказал бы, что путь близкий… У тебя найдется сигарета, Кей?
После первых затяжек, как бы говоря с самим собой, он продолжал:
— Курить — для меня это значит дымить. Выпускать дым, видеть его, ощущать его запах. Для меня и, как я думаю, для всех тех, кто курит, это образ какой-то нестабильности…
После короткой паузы он продолжал:
— Так вот, товарищ Кей, что касается нашего движения, то, по-моему, дым отражает всю нашу нестабильность, нашу ирреальность. Мы не играем с огнем, как владельцы синдикатов. Мы, Кей, играем с дымом, да, с дымом, с некоей эманацией нашего мятежного духа, нашей революционной мечты…
— Значит, ты хочешь сказать, что…
— Я не хочу сказать ничего и хочу сказать все! Идем дальше. Те, кто окружает Зверя в президентском дворце, а именно пожизненные министры, секретари-чревовещатели, придворные охотники за теплым местечком, — все они убеждают его в том, что нет смысла беспокоиться по поводу разговоров о каких-то предполагаемых забастовках, поскольку в стране-де не существует иных организаций, кроме рабочих братств, которые годятся лишь на то, чтобы хоронить своих скончавшихся членов. А если кто и осмелится выступить, то не будет сочтено за беспокойство протянуть свой изящный пальчик к изящному звоночку и приказать отрубить голову…
— Вот этого-то он не сможет сделать! — воскликнул Кей, глубже засунул кулаки в карманы и покачал головой; внезапно остановившись, он посмотрел на Сана и сказал: — Даже сюда дошли сведения, что он себя чувствует как в западне…
— Конечно, однако надо иметь в виду, что последние удары Зверя, попавшего в западню, смертоносны.
— Но в таком случае, Сан, нужна уже не организация, а просто фонарь. Как я тебе сказал, сюда дошли сведения, что он чувствует себя как в западне, и даже те представители Компании, которые отлично понимают, до каких пор можно выжимать банан, начали вывозить свои семьи в Соединенные Штаты. Миллионеры Лусеро собрались в отпуск — разумеется, в Соединенные Штаты, вместе с детьми и со своим гостем, внуком Мейкера Томпсона. Более того, вчера вечером они палили из пулемета — своего рода демонстрация силы, однако это находится в противоречии со всем тем, что делают власти, которые не обращают внимания на газеты и листовки — раньше ты их не мог читать даже тайком, а сегодня они свободно распространяются. Полиция смотрит чуть не сквозь пальцы ра наши собрания, которые уже не проводятся конспиративно, даже, наоборот, широко рекламируются.
Кей понизил голос, оглянулся и чуть ли не шепотом сказал:
— Товарищ, нам удалось побеседовать с некоторыми офицерами, находящимися на действительной службе. Представь себе, мы обнаружили такое, что заслуживает особого внимания. Когда нашли бумаги в доме парикмахера, комендант приказал одному из офицеров — этот офицер в чине капитана был на траурной церемонии — отнести их в комендатуру. Поскольку этого ни в коем случае нельзя было допустить, мы с Андресом Мединой взяли винтовки и укрылись в засаде. Либо мы должны были его уничтожить, либо многие наши товарищи попали бы в руки полиции. Однако этот капитан, который, по нашим расчетам, должен был идти в комендатуру один, появился в сопровождении другого офицера, а также солдат, не то патрулировавших, не то возвращавшихся в комендатуру после дежурства. Так судьба спасла этого офицера, и он не был убит…
— Знаменитый капитан Каркамо… — прервал Сан.
— Почему знаменитый?
— Из-за бумаг… — поспешил сказать Табио Сан в замешательстве — слово «знаменитый» вылетело у него случайно, он вспомнил о другом: о записи в толстой тетради, на последней странице дневника Малены…
Да, для него капитан был знаменитым, и шум ветра в листве деревьев, обступивших тропинку, напомнил ему ту ночь в Серропоме, когда он, укрывшись под плакучей ивой, сходил с ума из-за проклятой фразы, из-за этой буквы «и», оставлявшей открытой главу, которую Малена посвятила своей неудачной любви.
— Скажи мне, Флориндо, откуда капитан узнал, что Малена — это Роса Гавидиа?
— Тот же вопрос мучил и нас, но Андрес Медина, хорошо знакомый с капитаном — они друзья детства, разъяснил нам, что чуда тут никакого нет и нет никакой тайны. Каркамо — в ту пору еще младший лейтенант — познакомился с ней на бале-маскараде в военном казино.
— Ах да, на бале-маскараде!..
Можно было подумать, что Табио Сан заинтересовался этой подробностью и не придал значения сообщению Флориндо, но на самом деле он повторил слова Кея о бале-маскараде потому, что Малена не упоминала об этом в своем дневнике.
— Все это выглядит даже несколько комично. Малена была одета в костюм крестьянки, а Каркамо был усатым гусаром. Она говорила тоненьким голоском, желая показаться более юной, а он хрипел, чтобы казаться более старым. Когда гусар представился крестьянке, она назвалась Росой Гавидиа. Они много танцевали. Шутили. Когда же настал час сбросить маски, крестьяночка оказалась уже вполне зрелой сеньоритой, а гусар — юнцом. Меня зовут не Роса Гавидиа, пояснила она ему, а Малена Табай. Но он попросил у нее разрешения продолжать называть ее Росой Гавидиа. Это должно означать, кокетливо рассмеялась она, что вы предпочитаете, чтобы я была помоложе…
Флориндо уже не спешил, очевидно, они были близко к цели, а ему хотелось успеть рассказать Табио Сану, какие причины заставили капитана Каркамо вспомнить о Малене спустя столько лет.
— Товарищ… — он негромко засмеялся. — Твой вопрос меня удивляет! Ларчик открывается просто… По-видимому, капитанчик этот, прочтя в бумагах, принесенных им в кабинет коменданта, имя Росы Гавидиа, вспомнил о юной крестьяночке, в которую когда-то был влюблен. Вспомнил Росу Гавидиа с бала-маскарада, а не Росу Гавидиа — революционерку, которую знаем мы.
— Ты так считаешь?… — произнес Сан рассеянно, словно думая о чем-то другом, а затем вдруг спросил: — А бумаги?
— Он их сжег. Но история с этим офицером не кончилась. С ним был другой офицер, тоже капитан, которого зовут Хосе Доминго Саломэ. Его хорошо знают гитаристы, давно известные здесь под именем Самуэлей. Их три брата. Самуэлон — старший, толстяк, добрый, как хлеб. Самуэль — средний, живой, лукавый, себе на уме. И, наконец, Самуэлито — младший, коренастенький, но задиристый, как щенок.
— И как же работали эти Самуэли?
— Давали ему уроки игры на гитаре и… распевали революционные песни…
Флориндо захохотал, но тут же спохватился и зажал рот рукой:
— Революционные песни… ха-ха-ха!.. В комендатуре?
— Вот именно, — сказал Табио Сан, — если бы не аккомпанемент гитар, можно было бы назвать это «Курсом революционной подготовки на дому… в комендатуре»… — Кей продолжал смеяться. — В один прекрасный день наши дети увидят, как в этих казармах люди поют революционные песни, только под аккомпанемент плугов, а не пулеметов…
— Эти песни перестанут быть революционными, если их запоют солдаты…
— Нет, нет, они останутся революционными, потому что армия перейдет на сторону революции!
Табио Сан и Флориндо подошли к дверям ранчо, притаившегося за деревьями. Темно. Даже собственную руку нельзя разглядеть. Последние шаги они прошли наугад, осторожно ставя ногу на сыпучий песок. Молчание. Шум деревьев. И дыхание многих людей. Дверь открылась, и вслед за Флориндо вошел Табио Сан. Им навстречу протянулись крепкие руки в мозолях. Глухие голоса, какие-то далекие. Все тонуло в темноте.
XXXIII
На рассвете Табио Сан вышел из дома, где он нашел убежище. С собой он захватил только то, что было в карманах, как человек, собравшийся дойти лишь до угла, хотя уходил он навсегда. Зола, покрывавшая землю, поглощала шум его шагов. Всю ночь напролет он вместе с Маленой сжигал бумаги, документы, печатные тексты — все это превратилось в горстку липкой пыли, влившейся в зольные моря, покрывавшие улицы и дома в призрачном селении, где мир, погружавшийся в пропасть, в небытие, пытался возродиться под лучами новых идей.
Он намеренно задержал Малену до позднего часа, чтобы перед рассветом, когда она заснет, он мог уйти незаметно. Однако она не спала. Даже не раздевалась. Вытянувшись на постели в комнатушке Худаситы, она не смыкала глаз. А сама старуха с помощью стульев и матраса переоборудовала столовую в спальню и улеглась в этой комнате, разделившей Малену и Табио Сана, чтобы не попутал их дьявол: ведь до победы он, Табио Сан, не имел возможности жениться, разве только под чужим именем, хотя даже и под чужим именем его могли бы узнать и отправить на тот свет; пока что цена за его голову не была отменена. Так что пока лучше так. Инстинкт Худаситы, ее чутье, чутье вдовы (муж давно умер, а единственного сына расстреляли) — ей стало казаться, будто никогда не знала она мужчин, и даже нравилось, когда к ней обращались «сеньорита», — подсказали ей решение отдать Малене свою комнату, как только девушка прибыла сюда из Серропома в поисках убежища. Здесь Малене все-таки было лучше — никто не мог заподозрить, что она скрывается тут, никто, кроме друзей, с которыми она должна была иногда встречаться по делу… И здесь она получала все новости, все известия — горячий, незатухающий уголь в пепле…
Что-то, видимо, готовится… войска приведены в боевую готовность… полицию вооружили автоматами… нескольких учителей арестовали… при выезде из города требуют указать имя и фамилию… проверяют документы у всех отъезжающих и прибывающих… обыскивают автомашины… ищут оружие… бомбы… динамит… и ничего не находят… ничего… бумаги… карикатуры… слухи… слухи… говорят, что говорят, что говорят… слухи… слухи…
Худасита поставила кофейник на огонь. Раздула угли. Надо поджарить хлебца. Как же можно уходить с пустым желудком?… Хотя бы немного горяченького…
Табио Сан согласился лишь выпить кофе. Малена и он пили поочередно из одной чашки, не притрагиваясь к хлебу. Он вышел из столовой, и Худасита крепко зажмурила набухшие слезами веки, чтобы не видеть, как он уходит; чуть не теряя сознание, она припала седой головой к полуобвалившейся стене.
Малена провожала его до патио. Последние шаги вместе, рядом. Они обменялись долгим-долгим поцелуем, и Малена осталась одна, прижавшись к холодной железной двери, влажной от утренней росы, уже не слыша его шагов, поглощенных золой, — будто он не ушел, будто увлекла его высшая воля, идея, придававшая смысл их жизни.
Сан ускорял шаги. Он не оборачивался, не хотел вызывать подозрений. Был момент, когда у него чуть не подкосились ноги; он услышал, что за ним кто-то идет, кто-то идет следом, совсем близко, все ближе и ближе, и он чуть не бросился бежать, как вдруг его осенила мысль, что это эхо его собственных шагов, которые стали слышны, как только он покинул зольники и вышел на городские улицы. Он выпрямился, словно желая освободиться от тяжести прожитых лет, расправил плечи, засунул руки в карманы, натянув на лоб фуражку с узким козырьком и подняв воротник пиджака. Он спешил — до того как наступит день, надо добраться до Центрального вокзала, а попросту барака, на котором красовалась широковещательная надпись: «International Railways of Central America» [48].
Улицы оживились, город просыпался, появились люди, автомобили, повозки, грузовики, велосипедисты; на перрон вышли пассажиры. Какие-то воинские части направлялись к Марсову полю. Усатые сонные офицеры ехали верхом. Мулы тащили орудия. Курсанты военных школ маршировали под барабанный бой или под военный оркестр.
Не теряя времени, Сан примкнул к толпе рабочих и пеонов-поденщиков, входивших в одну из боковых дверей вокзала, над которой все еще продолжали гореть маленькие лампочки. Миновав вокзал, он повернул направо к депо и тут же увидел — издалека разглядел — человека, которого искал. Это был настоящий мастодонт, больной слоновой болезнью. Заметив Табио Сана, человечище не спеша зажег сигарету и пошел вперед, оставляя за собой шум дождя и шелест резинового плаща, наброшенного на плечи.
Сан зашагал за ним следом по платформам, по рельсам и шпалам, шел мимо стрелок, перепрыгивал, спотыкался и спешил, спешил, во рту у него пересохло, нервное напряжение не покидало его ни на миг, пока не дошли они до вагонов, вытянувшихся на боковом пути.
— «Чос, чос, мойон, кон…»- это было все, что он услышал от железнодорожника.
Минутой позже он был уже в товарном вагоне, на ощупь отыскивал подготовленное ему место. Вытащил платок, чтобы вытереть вспотевшие руки и лицо, влажные волосы. Он слышал грохот проходивших мимо паровозов и далекий гул пробуждающегося города. Где-то неподалеку раздался перезвон колоколов, призывающих к мессе, столь отличный от звона паровозных и вокзальных колоколов. Хриплая сирена пронзила небо. Семь часов утра. Это с пивоваренного завода. За ней раздались завывания сирен лесопилок. Семь часов утра. Рабочие лесопилок, вероятно, уже подтащили бревна к зубьям пил. Нетерпеливо гудят автомобильные клаксоны. Опять пробка. На углу возле вокзала всегда пробки. Всегда. Доносится цоканье подков — это, очевидно, приехали за грузом на железнодорожные склады или, быть может, подвезли груз.
Он оторвался от многоголосых, таких разных шумов и снова стал повторять слова, сказанные ему Маленой при прощании, и то, что он сказал Малене, — сказал не для того, чтобы утешить ее, а потому, что сам верил в сказанное, непоколебимо верил. Думая об этом, он ощутил новый прилив сил. Он нащупал корзину с продуктами: сандвичи, фрукты, сигареты, фляга с водой — все приготовили товарищи.
«Мы, — сказал он Малене, — должны подготовить всеобщую забастовку, но искра появится с другой стороны, она вот-вот вспыхнет! Студенты университета и учителя, — она смотрела на него пристальным глубоким взглядом, как бы напоминая ему о том, что некогда он сомневался в возможности выступлений учительства, — утратили чувство страха перед Зверем, и взрыв уже неминуем. Мое место не в городе, а там, где больше сельскохозяйственных рабочих, на плантациях Южного побережья; другой товарищ будет работать в зоне Бананеры. На Южном побережье труднее, выступления, начавшиеся на Севере, не всегда находят там поддержку из-за отсутствия организации.
Когда в столице и в других городах развернется политическая борьба, мы, находясь на наших боевых постах — на Юге и на Севере, — будем требовать повышения заработка, введения социального обеспечения, трудового законодательства, а также раздела необрабатываемых земель…»
Откуда-то из глубины души поднималось совсем другое. Он что-то лепетал о своих чувствах, не мог найти нужных слов, чтобы сказать о таких простых вещах, как любовь. Неужели ему мешала говорить врожденная индейская молчаливость, когда думаешь много, но не можешь проронить ни слова? А может, он боялся, что признание в любви покажется ей нелепым? Или, быть может, боялся поступать так, как поступил бы… скажем, владелец лавчонки на углу… фабрикант… рантье… владелец кофейной плантации?…
Его внимание привлекли две маленькие, очень маленькие светлые точки — две голубовато-зеленые точки, удивительно крошечные, яркие и живые. В темноте вагона точки сверкали. А, светлячок кокуйо! Он не прикоснулся к нему. Таинственный фосфоресцирующий свет словно парализовал его. Пара лунных булавочных головок. Что делал тут этот светляк — камея табачного цвета? Почему он тут появился? Что это за символ, что означает его появление?…
Поезд резко дернулся, он услышал лязг сцепки, с трудом удержался на ногах, и его охватило какое-то странное состояние, будто он не знал, где он и что с ним. Началось зыбкое покачивание, теперь оно будет продолжаться в течение всего пути и, похоже, никогда не кончится. Порой им овладевало отчаяние. Когда зной и жажда становились совсем нестерпимыми, ему казалось, что рельсы тянутся в бесконечность и поезд мчится неведомо куда… Но теперь он уже не сойдет с поезда, не сдастся — до победы…
Обо всем этом он рассказал людям, ожидавшим его в ранчо под деревьями, после того как осушил целый кувшин воды — вначале с жадностью, потом помедленнее. Он попросил у них разрешения лечь на койку — сказывалась усталость от поездки в товарном вагоне. К тому же так ему легче было беседовать, он находился на грани бодрствования и сна. Одни присели на корточки, другие стояли, третьи расположились прямо на полу. Люди кашляли, почесывали в затылке, задавали вопросы. Каждому хотелось получше рассмотреть человека, растянувшегося на брезентовой койке.
Так это действительно Табио Сан? Некоторые его называли полным именем — Октавио Сансур. Да, он был все тот же Табио Сан, который много лет назад работал простым пеоном на плантациях Тикисате, только лицо у него сейчас неузнаваемо изменилось, исчезли прежние черты, под воздействием сока кактуса. Все это было похоже на странный сон.
…Аэ… аэ… ао… ао… — лягушки по-прежнему продолжали отсчитывать ход времени.
Много раз Табио Сан прерывал свой рассказ, останавливаясь на каких-то фактах или деталях, будто пережевывая их, прежде чем изложить перед этой аудиторией, молчаливой, как пропасть, перед простыми, закаленными трудом и борьбой людьми, с лицами, словно высеченными в скале. Неужели им казалось фантастическим, нереальным то, что в самом деле произошло с ним? Неужели его слова, его рассуждения тоже казались потерявшими свой облик, как бы под воздействием деформирующего гриба?
Он вынужден был признать: нет, не верили! Признать? Ужасное слово! Ужасное! Действительность выходила за пределы воображаемого, и особенно трудно было представить то, что он рассказывал о студентах университета. Воздев руки, словно копья, студенты стали требовать от Зверя, того самого, перед которым покорно простирались небо и земля, чтобы в течение двадцати четырех часов он согласился на их условия, иначе они объявят забастовку; их требования были изложены на листе бумаги — этот лист был актом провозглашения новой независимости.
Это было началом эпохи созидания.
Он не хотел бы произносить столь литературных фраз. Но как иначе назвать луч света, проникший в повседневную жизнь простых людей, — ведь это действительно эпоха созидания, развития, возрождения духа демократии. И если организованные рабочие выступят все вместе, то они заставят Компанию сдать позиции, заставят ее принять их требования и тем самым расчистят путь крестьянам и рабочим к власти…
Его слова звучали пламенно…
Теперь он был воплощением Жан-Поля Марата, освободителем пичужек в дни юности, человеком, жадно поглощавшим всю попадавшуюся ему на глаза революционную литературу, революционером-подпольщиком, первым выступавшим за дело народа и последним уходившим с поля боя, но сохранившим пламя борьбы.
Он снова представил себе студентов и учителей. И тут он почувствовал страх за Малену — оставшись в одиночестве, не имея возможности действовать, она может прийти в отчаяние и уйдет от Худаситы, ныне превратившейся в бродячую стену плача, и отправится искать помощи у героических людей, у людей, которые ставят на карту свою жизнь.
— Друг, — какой-то человек подошел к койке, на которой лежал Табио Сан, — вы не представляете себе, что значит работать на солеварне! И лучше вам никогда этого не знать…
— Да, друг мой… — откликнулся Табио Сан, который встал в знак уважения к этому человеку, продубленному солью и морем.
— Вот потому я и хочу спросить… Мы не слишком большая сила, но поддержим забастовку, если нам не дадут хорошего заработка, крышу над головой, сносные условия жизни. А сейчас, сеньор, мы отверженные, и нет более нищих, чем мы, бедные из бедных. Все превращается в прах там, где мы добываем соль из моря. Подумайте, соль подтачивает даже железо, снимает с него чешую, превращает и его в прах! А мы работаем голыми, шляпчонка на голове да повязка на бедрах! Только мы одни знаем, что такое жажда, разжигаемая солью!
— Да, конечно, если вам не повысят заработок и не улучшат условия жизни, надо бросать работу…
— Вот это мы и думаем сделать, когда объявят всеобщую…
Представляли ли себе студенты, выступившие перед Зверем со своими требованиями, что они борются также и за судьбу этих людей с солеварен, голых, умирающих от жажды, словно больные водянкой и заживо пожираемые солью?
Заговорил Флориндо Кей. Он попросил солевара Тойо Монтойю и других товарищей, чтобы они позволили Табио Сану поспать немного, — еще будет время поговорить послезавтра, на Песках Старателей, до или после большого митинга, на котором, очевидно, будет дан сигнал к всеобщей забастовке.
Люди начали растекаться, как вода в открытые шлюзы. Голос Флориндо умолк. Растянувшись на койке, Табио Сан ворочался, хотел улечься поудобнее, пытался уснуть. Он никак не мог отделаться от мысли о зное, об усталости и о человеке с солеварен. Да, в день торжества справедливости воскреснут мертвые, но не те, кто погребен под землей, а те, кто погребен здесь заживо, эти люди, напоминающие скелеты, с прозрачным, как крылышко мухи, телом, они воскреснут и заговорят, как здесь, у койки, Тойо Монтойя сказал перед уходом:
— Я ухожу, друг, дай мне руку, я ухожу, чтобы не говорить больше о самом себе…
Аэ… аэ… ао… ао… — продолжали отмечать ход времени часы лягушек…
— Не могу спать… — пожаловался Табио Сан Флориндо, не зная, слышит ли его тот, пристроившись рядом в качалке.
Аэ… аэ… аэ… аэ…
Он говорил таким тоном, точно разговаривал сам с собой, хотя рядом был Флориндо, и все повторял, что никак не может уснуть.
Его тревожила мысль о Малене. Роса Гавидиа — для товарищей и для этого капитанчика. Импульсивная. Нет, пожалуй! Решительная. Ничто ее не удержит, если она решит покинуть убежище и примкнуть к учителям, к борьбе. Худасита?… Обещание, данное ему?… А с другой стороны, ему было приятно, что она такая, что ни обещания, ни Худасита не способны ее удержать. Она покинет тот склеп среди золы и пепла и уйдет в город. Будто барельеф с профилем индейца из племени майя: нос орлиный, покатый лоб, легкие складки у губ — улыбающаяся нежность и сдержанная печаль…
Она уйдет и… тише, сердце!.. от угольщиков перейдет к «эскуилачес» [49] — в другую знаменитую подпольную группу.
До сих пор угольщикам и «эскуилачес» удавалось водить за нос тайную полицию, эту гидру многоголовую: военную, судебную, дворцовую, женскую, добровольную, сельскую…
В группу «эскуилачес» входили студенты университета и учителя. Это были представители революционно настроенных слоев интеллигенции и богемы, которые вначале, не желая бороться в открытую со Зверем, обезглавливали марионеток, наряженных в тогу и судейскую шапочку, короновали студенческих королев и под этим предлогом произносили зажигательные речи, а во время национальных праздников выступали с фарсами, с уничтожающими комедиями на гражданские темы. Ширмы, декорации, костюмы, световые эффекты, сам сюжет спектакля — все это было направлено против того, что стало трагедией всей страны. Актеры сбрасывали с себя маски и, словно самоубийцы, открыто бросали вызов Зверю, которого они называли Наполеоном у рояля, Ковровым тигром.
Немало агитаторов входило и в группу угольщиков. Правда, и не так много. Под предлогом скупки золы для мыловарен они появлялись в домах политических деятелей, потерявших свои посты, уволенных в отставку военных, бывших участников заговоров; не вызывая подозрений у полиции, угольщики проникали в дома этих людей, разнося в своих мешках, кроме останков живого — пепельного образа смерти, огонь жизни и борьбы: подпольные листовки, деньги, ручное оружие, типографские шрифты, инструкции…
Не имея меж собой никакого контакта и никакой договоренности, «эскуилачес» и угольщики действовали параллельно, не обращая внимания на то, «будет ли это беспокоить сеньора»…
Но зачем все-таки вновь и вновь возвращаться к этой мысли?
Табио Сан глубоко вздохнул — он никак не мог уснуть — и стал искать свой платок… в карманах… под подушкой…
Сон беспределен, как беспредельна земля, но только через очень узкую щель, как через врата небесные, можно проникнуть в его счастливые владения.
«Не уходи к „эскуилачес“, ты их можешь только скомпрометировать!..» — услышал он собственный голос; ему казалось, что он разговаривал с Маленой, как будто она была тут, где светили звезды и кричали лягушки, тут, в комнате, где под потолком вырисовывались какие-то призрачные тени, а на полу лежал ковер, хотя, быть может, это был не ковер — просто трава.
«Тебя ищут, Мален! Подумай, поразмысли, что ты будешь делать с „эскуилачес“… Да, это верно, их также. разыскивает полиция… тогда, тогда… у тебя есть еще время… еще не истекло время ультиматума — двадцать четыре часа, это значит тысяча четыреста сорок минут или восемьдесят шесть тысяч четыреста секунд, а на часах лягушек… аэ… аэ… аэ… ао… ао… ао… восемь миллионов шестьдесят две тысячи четких гласных… аэ… аэ… ао… ао… истекает время ультиматума…»
Ему показалось, что он даже застонал, когда подумал, что она уже ушла, что ее смертельно ранили, что он больше ее никогда не увидит…
Почему же он не взял ее с собой?… Разве возможна победа без нее?…
— Мален!.. Мален!..
Сердце бешено стучало, и ему пришлось повернуться на другой бок, расстегнуть воротник. Аэ… аэ… аэ…
Время ультиматума отсчитывают лягушки… Ао… ао… ао… Двадцать четыре… двадцать четыре роковых часа…
— Мален!.. Мален!..
Почему он не взял ее с собой? Разве можно завоевать победу без нее? Зачем ехать в карете — огромной, как театральный зал, катящейся на огненных колесах, влекомой лошадьми из дыма, а в ней мужчины и женщины с винтовками, плугами и знаменами, как приснилось дону Хуану Непомусено Рохасу? Бедняга, погиб, возвращаясь с работы! Ехал на велосипеде, не успел затормозить и врезался в гигантский американский военный грузовик. И одно из двенадцати колес проехало по нему.
Зачем ехать ему в триумфальной колеснице без Малены?
«Вперед, люди!.. Люди, вперед!..» — кричал он.
Но сейчас — без Малены — он почувствовал, что крик застрял у него в горле, как погасшая морская звезда…
Двадцать четыре… двадцать четыре э-э-э-э оэ-оэ… э-э-э… аэ… аэ… аэ… аэ… двадцать четыре э-э-э-э ча-а-а-аа-са роковых…
Останутся ли они, обнаженные, рядом?… Останутся ли они, обнаженные, рядом?…
Обнаженная Малена, обнаженный он, и их топят в каком-то бассейне…
Ласки, пузыри, и… вскоре вода становится все более плотной, плотной, и вот они могут шевелить только головами, а тела стиснуты смирительными рубашками из ледяных стекол…
Нет, это невозможно! Ему ведь надо идти в алькальдию — повенчаться с ней после победы, теперь он мог прийти с открытым лицом, под своим именем — Хуан Пабло Мондрагон… Октавио Сансур… Табио Сан… Под каким из его имен? А лед сжимает тело, уже нельзя пошевелиться во льду…
Но если они и поженятся, хотя, по правде говоря, разве человек не женится навечно, присоединяясь к хору пар, испрашивающих по… топ… потоп!., потоп!., как единственное решение — потоп — чтобы быть свободным, чтобы раствориться в реке, в озере, в море, в океане… аэ… аэ… аэ…
Их головы… растопилось зеркало льда в потопе, они лишились тел, только головы остались, и головы эти ищут другие тела…
Это, это и то… — тело крестьянки для Росы Гавидиа!
Это, это и то… — тело усатого гусара для капитанапехотинца Леона Каркамо!
А он?… Это, это и… он…
Он без своего тела, только голова, меж них обоих, между крестьянкой и капитаном, будто третейский судья, но ведь это были не боксеры, а влюбленные, и надо было разлучить их — какой ужас! — чтобы не было других мужчин и женщин, рожденных для того, чтобы стать пушечным мясом или мясом для фабрик…
Он вырвал крестьянку из объятий капитана. Крестьянка, учительница и революционерка, вместе с ней он поднимется на порог нового дня…
Кто-то будил его. Он поспешно освобождался от пут сна, еще цеплявшегося за ресницы, задержавшегося в веках… сна, покрывавшего обрывки видений, как покрывают крестьяне землей нагие срубленные ветви фруктовых деревьев.
Флориндо расталкивал, будил его. Он встал с койки, сонный, не понимая, что с ним происходит, зевнул, потянулся, протер глаза. Сначала надо умыться. Он подошел к водоему под сенью огромного дерева агуакате и погрузил руки в воду — быстрее пройдет усталость, — затем набрал воды в ладони, плеснул в лицо, отфыркиваясь и бурча, как капризный ребенок.
Запах кофе. Свежестью пахнет полотенце. Было очень рано, но день уже обжигал, как тлеющий уголь.
Тишина, только шепот молчаливых кустарников под чистым-чистым небом и под высокими пальмами.
Они завтракали — им было приятно смотреть друг на друга. Флориндо приготовил кофе, развел в кипятке молочный порошок, выложил хлеб, масло, ветчину, а Табио Сан поставил на стол — собственно, на большой круглый камень — две чашки, сахар в бумажном пакете, соль в высохшей банановой шкурке и вытащил ложку и нож. Сан выглядел постаревшим, Флориндо словно высох в тропиках. Сан все время что-то теребил в руках, он явно нервничал и ерзал на маленькой скамеечке. Наконец он поведал Кею, что покоя ему не дает мысль о судьбе Малены. Искра появилась оттуда, откуда меньше всего ожидали, — от студентов и учителей, и потому ему пришлось покинуть столицу, надо было спешить, события развивались с необычайной быстротой, и он не смог увезти Малену из ее убежища. Что делать?…
Он спросил отрывисто, будто откусил фразу меловыми зубами. Воткнул в рот сигарету, но больше мял ее пальцами, чем курил.
Значит, и его и ее судьба ставится на одну карту: забастовка?
Флориндо считал, что нужно предупредить товарищей в столице. Сообщить им, в каких условиях находится Роса Гавидиа, — оторванная от людей, она может решиться на поступок, который поставит под удар ее жизнь. Да, но как предупредить их? Железнодорожники уже бастуют. Кто мог бы связаться с ней?
Кайэтано Дуэнде!..
Эта мысль мелькнула у Табио Сана. Совершенно неожиданно возникло в памяти имя старого кучера и болтуна вслед за именем Пополуки. Оба казались ему сейчас всемогущими. Однако оба они в Серропоме, и нет никаких вестей от них, как ничего ты не знаешь о тех камнях, что миновал где-то на дороге.
На попечении этих стариков — на расстоянии они представлялись ему чуть ли не божествами — была оставлена Малена, когда он скрывался в подземелье; тогда он не терял надежды, что найдет ее, но чего можно было ожидать нынче, когда она жила у Худаситы? Ведь Худасита уже совсем не может двигаться, даже по городу.
Флориндо стриг ногти, чтобы как-то убить время до прихода товарищей, и не подозревал, что «клик-клик» маленьких ножниц, кусавших, как серебристое насекомое, полулуниями острых челюстей, раздражало Сансура, действовало ему на нервы.
Кваканье лягушек, раздувшихся под жарким солнцем за день, — вытаращив глазища, они купались в прохладной росе, — тонуло в звонкой трескотне пичужек, в шуме ветра.
Сансур с силой потер рукой грудь, словно отдирая от себя что-то чужое, отгоняя видения ночи.
Клик!.. Клик!.. Флориндо продолжал подстригать ногти; зажав сигарету в уголке рта, он устремил взгляд вдаль, словно ожидая каких-то событий.
Сансур время от времени промокал лицо платком, как губкой. Начало уже положено, думал он, студенты и школьные учителя предъявили Зверю ультиматум, и если в течение двадцати четырех часов он не примет их требования или не ответит на ультиматум, начнется университетская забастовка… («Мальчишество!» — подумал Кей…) что эта забастовка будет означать?… студенты-медики покинут госпитали и аудитории, студенты-правовики уйдут из судов и трибуналов, студенты инженерного факультета покинут министерства, студенты — химики и фармацевты бросят занятия в лабораториях министерства здравоохранения, акушеры оставят родильные дома, а самое главное — учителя прекратят работу в школах…
Да, положение складывалось так, что ему было необходимо выехать из столицы в Тикисате — занять свой боевой пост. Как только начнется забастовка в Бананере, ее должны поддержать здесь.
— Тс-с-с! — произнес Флориндо и тут же быстро встал, положил руку на пистолет и подошел к двери — его фигура четко вырисовывалась в прямоугольнике двери.
Шаги приближались. Кей настороженно замер в дверях, пока не узнал подошедшего. Это был Андрес Медина. Он пришел с новостями. И одна новость была подобна разорвавшейся бомбе. Зверь отменил конституционные гарантии, объявил осадное положение.
Сансур так и подскочил, а Кей принялся размышлять вслух:
— Отменил?… Что?… Гарантии?… Какие гарантии, если их никогда не существовало!
— Ха-ха-ха!.. — рассмеялся Сан. — Начался последний акт, и мы — до сих пор простые зрители этого политического спектакля — должны подняться на сцену и действовать.
Обращаясь к Кею, он добавил:
— Эх ты, Фома неверующий, ведь молодежь всегда славилась своей активностью независимо от того, существовали или не существовали конституционные гарантии. Однако сейчас мы видим нечто настолько исключительное, что трудно в это поверить. Впервые за десять лет правления Зверь прибегнул к такому средству, которым пользуются лишь самые слабые правительства! Почему?… Он понимает, что проиграл?
— Товарищ Сан! — воскликнул Кей, с жаром обнимая своего друга. — Я, конечно, неверующий, если говорить о вере, но коль скоро речь идет о деле… это совсем другое!..
— Такова… такова… такова реакция всех в эти часы. Медлить нельзя. Сейчас все поставлено на карту!
— И мы поставим! — Флориндо вытянул руку вперед, будто давая клятву, и, тут же сжав ее в кулак, взмахнул им, словно нанес удар. — Будем действовать! Будем бить беспощадно — в голову!
— Это, может быть, легко, а может, и не очень, — вмешался Андрес Медина, который отошел ополоснуть чашку и налить кофе из кофейника, стоявшего на огне. — Смею вас уверить, что не только Зверь, но и все остальные зверюги в мундирах не знают, что делать, за что ухватиться. С одной стороны, они боятся не выполнять приказы, с другой стороны, боятся их выполнять. Короче говоря, страх перед своим начальством и страх перед народом!
— Мы возлагаем много надежд… — сказал Кей, обращаясь к Андресу Медине, — на твой разговор с Каркамо, ведь он твой друг детства. Самуэли договорились с капитаном, которого они учат играть на гитаре. Я думаю, эти офицеры сообразят, что к чему, и захотят спасти свою шкуру…
— Все это так, но, по-моему, если они и встанут на нашу сторону, то не из-за шкурных интересов, — ответил Медина. — Они теперь заодно с нами, потому что поняли суть нашей борьбы.
— Не обольщайся, Мединита, иначе, чего доброго, сам попадешь в ловушку! — бросил Флориндо и засмеялся. Но, услышав слова Сансура, посерьезнел:
— Я никогда не представлял себе, что Зверь, чтобы подавить народное выступление, решится прибегнуть к наполеоновским методам. Но он еще дождется своего Ватерлоо…
— Не спеши, ватер-то будет, только без ло… — расхохотался Флориндо.
— Ну, разумеется, подтягивать подпругу легче, — опять вмешался Медина, — труднее удержаться на необъезженном жеребце. Вопрос сейчас о том, сумеют ли парни из университета и учителя после отмены гарантий выполнить свои обещания насчет забастовки в госпиталях, в судах и в школах…
— Думаю, что да… — Думаю, что нет.
Они произнесли это одновременно и тут же умолкли — ни один из них не стал отстаивать свою точку зрения, быть может, из деликатности.
— Единственно бесспорно, — продолжал Медина, — то, что уже свершилось. Эти парни посеяли дух противоречия повсюду. И там, где не спорят, — уже сражаются. Да что говорить, за примерами ходить недалеко. Взгляните, что делается в комендатуре. Комендант, в общем-то человек миролюбивый и даже трусоватый, отчитал капитана Саломэ, избил какого-то солдата, отдубасил капрала, чуть не замахнулся на Каркамо, но, правда, отыгрался на его помощнике. Повсюду царит возбуждение…
— То, что, по словам Медины, случилось в комендатуре, — сказал Табио Сан, быстро прохаживаясь по комнате, — произойдет и в высших сферах. Там все в полном замешательстве: они не знают и не видят своего противника и питаются только слухами, слухами и слухами. А слухи — язык пространства, так бывает, например, когда по телефону слышишь чей-то зашифрованный разговор и не можешь понять, о чем идет речь. Они понимают, что противник действует, но сами атаковать не осмеливаются, поскольку противник — это огромнейшая, миллионная масса. Власти были готовы, они организовали свои войска, свою полицию, свою печать, они использовали репрессивные законы и пропаганду, чтобы парализовать «нарушителей порядка». Как и ранее, они имели в виду «нарушения», скажем, в общеизвестной, обычной форме — покушения, мятежи, беспорядки, государственные перевороты, — однако они не были готовы ко всеобщей забастовке!.. Вот это-то и очень важно. Весь государственный аппарат, весь его механизм до самой малейшей детали уже был смазан, подготовлен, чтобы обрушиться на тех, кто действует, или на то, что действует, однако этот аппарат не приспособлен бороться против тех, кто ничего не делает, ничего не предпринимает — просто отказывается работать… Вы можете себе представить, — сказал он, немного помолчав, — что будет делать правительство, — а у нас такое правительство, которое всегда готово что-то делать, хотя бы ввести осадное положение и бросить войска на подавление, на уничтожение всех, кто выступает открыто против существующего режима, — что будет делать это правительство, если спокойно и тихо будут дезорганизованы школы, трибуналы, госпитали из-за отсутствия специалистов и практикантов, учителей. Забастовку, по-видимому, поддержат и адвокаты, и судьи, и высший медицинский персонал… Друзья мои, за то короткое время, которое остается в нашем распоряжении, пока еще не дан сигнал к действию, нам нужно тщательнее продумать нашу собственную тактику, если мы не хотим упустить подходящий час для посева, не говоря уж о сборе урожая. Прежде всего следует узнать, что собирается предпринять компания, когда начнется всеобщая забастовка…
— Ждет, когда армия пустит в ход пулеметы против забастовщиков… — Слова Флориндо будто расстреляли в упор молчание, воцарившееся было в комнате и отдалившее его, человека холодного рассудка, от темпераментного Сана; с трудом он удержался, чтобы не сказать вслух: «Таков итог всего. Посев-то будет, да только посев мертвецов, вот что они собираются сеять…»
Но он промолчал, встретив взгляд Медины.
— Правители Компании, — сказал Медина, — которые спят и видят, как армия пустит в ход пулеметы против забастовщиков, конечно, не дождутся этого. Времена изменились. Я уверен, что солдаты не будут стрелять, даже если получат приказ…
— Но, Андрес, — Флориндо взял его под руку и, не отпуская, продолжал говорить: — То, что ты сказал, очень серьезно, и мы хотели бы знать: это твои собственные домыслы или тебе это известно из достоверных источников?…
— И то и другое, товарищ. Это мое заключение, и, кроме того, я получил кое-какие известия. Почему я пришел к такому выводу? Товарищ Сан уже дал оценку обстановке. Все изменилось. За несколько часов ситуация коренным образом переменилась. Осуществилось многое из того, что до недавнего времени казалось мечтою. И кроме того, кое о чем я договорился с Каркамо. Он говорил со мною доверительно, и похоже, что он действует согласованно с капитаном Саломэ. Значит, пули не полетят в забастовщиков…
— Саломэ — тот самый, которого учат играть на гитаре Самуэли? — спросил Сансур, явно заинтересованный.
— Тот самый, — повторил Кей.
— А что касается Компании, то есть мнение, что она не будет становиться на дыбы, — продолжал Медина, — и пойдет навстречу требованиям рабочих. И вы знаете, почему?… — Табио Сан и Флориндо в этот миг подумали о документе, в котором была изложена точка зрения президента Рузвельта. — Очень просто. Президент «Тропикаль платанеры», этот старый Джо Мейкер Томпсон, сейчас умирает в Чикаго. Ввиду угрозы забастовки он посоветовал провести всюду повышение зарплаты. Он понимает, что такого рода расходы не причинят ущерба акционерам, коль скоро мы сами всю эту сумму возместим на… кока-коле… Ха-ха-ха!.. — Он засмеялся, покачав головой, будто опрыскал смехом все вокруг. — Вы не удивляйтесь, «Платанера» постарается отыграться на чем-нибудь другом, пусть даже ей придется эксплуатировать лишь кока-колу в нашей стране. Не только бананы, но и водичка здесь североамериканская…
— Ну и каналья этот старик! — воскликнул Сансур. — Агонизирует, еле-еле тянет…
— У него рак, — сказал Кей.
— Ну и ну, — отозвался Сансур. — В агонии, уже одной ногой в гробу, он все еще пытается вырвать у нас что-то, нанести нам удар, нейтрализовать забастовку путем прибавок к жалованью, а ведь это пахнет взяткой, подкупом…
— Он не церемонится и не скупится, — заметил Медина. — Компания будет действовать и через синдикаты, она будет давать подачки, чтобы выждать, пока мы устанем просить. Компания рассчитывает, что, как только будут удовлетворены экономические требования, рабочие нас покинут — и мы останемся одни-одинешеньки. Компания считает: далеко не всем рабочим ясно, что эти подачки дадут возможность Компании выиграть борьбу. Далеко не каждый понимает суть этих махинаций и вообще суть деятельности Компании в нашей стране. А она бросает на произвол судьбы то одну культуру, то другую, сокращает обработку плантаций, захватывает новые земли и их не обрабатывает. Я уж не говорю о других ее преступлениях, о всех ее темных делишках, в том числе о фальшивой бухгалтерии.
— Вот как раз поэтому я и говорил, что Компания попытается избежать открытого столкновения, она постарается пойти на уступки, на удовлетворение наших требований и таким образом парализует наше движение. А единственный выход — всеобщая борьба против «Тропикаль платанеры».
— Что ж, жребий брошен! — подытожил Флориндо.
Октавио Сансур подошел к двери, через которую в хижину ослепительным потоком врывался солнечный свет.
Отмена конституционных гарантий… Осадное положение… комендантский час…
Не отступит ли студенчество?… Не отступят ли учителя?… Действительно ли развернется забастовочное движение в университете, в средних учебных заведениях, в школах?… Закроются ли частные колледжи?… Поддержат ли забастовку в госпиталях, в судах? Будут ли стрелять войска в забастовщиков?… Пойдет ли на уступки Компания?… Падет ли правительство?…
С его бледных губ чуть было не сорвались еще два вопроса: «А Малена?… А Зверь?…»
Он зажмурил глаза, ослепленный ярким солнечным светом, а в голове неотвязно зудела мысль: «Оружие, пропаганда, полиция — вот в чем опора власти…»
XXXIV
— Ну, началось… — произнес Самуэлон, но конец фразы заглушил аккорд, который он сорвал со струн гитары, звучный аккорд народной песни, которую он все время тихо наигрывал, тогда как капитан Саломэ ему вторил.
— Да, кажется, началось… Официально мы знаем лишь одно: что правительство не сдает позиций… А вот эти аккорды у меня никак не получаются… — продолжал капитан, следя за пальцами гитариста, который одной рукой перебирал лады, а второй заставлял плакать струны. — Впрочем, есть и другие сведения. Студенты-медики уже покинули больницы и госпитали. В судах остались лишь судьи, они-то не могут объявить забастовку. Закрылись школы, потому что учителя бросили работу. Все меньше и меньше транспорта. Коммерция свертывается…
Самуэлон, внимательно прислушиваясь к этим сообщениям капитана, казалось, отвечал ему струнами гитары, подбирая маршевые мелодии, мажорные, боевые ноты. Струны говорили, кричали все громче, многозвучнее, неистовее, а капитан, с покрасневшими глазами и взъерошенными усами, продолжал уже громким голосом, словно забыл, что находится в комендатуре:
— И последняя, самая свежая новость: у него потребовали отставки.
— У кого?… — Над струнами гитары взлетела рука Самуэлона, взлетел голос Самуэлона, и хотя он прекрасно понимал, у кого могли потребовать отставки, ему так хотелось услышать это еще раз. — У кого? — повторил он. — У кого потребовали отставки?…
Офицер провел кончиком языка по пересохшим губам.
— У того… у кого следовало… — произнес он в конце концов.
Самуэлон начал наигрывать на гитаре национальный гимн, однако офицер перехватил гриф.
— Это запрещено! — закричал он.
Они оба замолчали, сидя рядом, они были похожи на провинившихся школьников, виновных в том, что они знают об отставке Зверя. Это уже само по себе было преступлением.
— Играйте, играйте для маскировки… — процедил Саломэ.
Самуэлон не знал, что делать — плакать, играть или прыгать от радости, и в струнах гитары от искал выхода своим чувствам. Сумеет ли он доставить такую важную весть тем, кто его ждет? Табио Сан, Флориндо Кей, его братья — Самуэль и Самуэлито и остальные Старатели уже собрались, чтобы обсудить вопрос об объявлении забастовки на плантациях «Платанеры».
— А вы, военные, что вы будете делать? — осмелился спросить Самуэлон. — Что вы будете делать, как только официально объявят об отставке Зверя?
— Мы?… — задумчиво произнес капитан Саломэ. — Мы будем выполнять приказы, мой друг, и продолжать учиться игре на гитаре.
— Я хотел вам сказать, что слух-то у вас есть, но только нужно упражнять пальцы, почаще делайте вот это движение — будто вы ловите блох, потому что это… — он прижал гитару к груди, — это большущая блоха, и если бы она могла говорить, то открыла бы пасть и попросила вас почаще повторять уроки.
— Мы и так упражняемся без конца… — Капитан отложил в сторону инструмент, встал и направился было к двери, но затем вернулся и снова сел. — Вот вы говорите, что у гитары — пасть, но, пожалуй, вот у кого действительно большая пасть — у тех, кто разглагольствует о забастовке, а подкинут им какую-нибудь малость, так они сразу же и заткнутся.
— Бывает и так, — ответил Самуэлон, на которого слова капитана подействовали, как струя холодной воды, и он даже поежился.
Он встал и положил гитару на постель капитана.
— Все здесь с нетерпением ждали, — продолжал капитан, — прибытия вашего вожака, и, однако, ничего не произошло, даже до сих пор неизвестно, прибыл ли он.
— Собственно говоря… — начал было Самуэлон, но, тут же спохватившись, что чуть было не проговорился, замолчал… Все-таки на этом человеке мундир офицера!.. Нет, он не выдаст даже под пыткой!.. Ни звука о том, где Табио Сан!..
— Ловкачи эти из Компании! — воскликнул капитан, глаза его вызывающе смеялись. — Пошли на все требования рабочих, и вот никто не шевельнулся — ни в Бананере, ни здесь, в Тикисате.
— Еще не ясно, начальник, пока еще ничего не ясно. Слухи всякие ходят. У рабочих много других требований, а Компания на них не отреагировала…
— Ну и что ж, что не отреагировала? Какой реакции еще ждать от них? Им главное — сорвать забастовку!
— Пока разногласий нет… — с трудом выдавил из себя Самуэлон, у него горели ноги — так хотелось сорваться с места, у него горели губы — так не терпелось скорее передать новости, у него горело все тело — так хотелось лететь скорей с важной вестью. — Пока среди наших нет разногласий, а среди ваших они появятся сразу же, как только станет известно об отставке, тогда-то и станет ясно, что у Компании руки коротки…
— И что это должно означать?
— Что это должно означать, спрашиваете вы? Вы что, не знаете, что эти паскудные правительства и Компания одним миром мазаны! Ведь другого такого удобного случая, как нынешний, не дождешься! Бить их нужно всех! Да, хотя насилие — это зло… Злом надо отвечать на зло! Расквитаться раз и навсегда и с тем и с другой!
Самуэлон шел, не чувствуя под собой ног, не зная, петь ли ему, кричать ли… смеяться, плакать, прыгать… обнимать вечерний воздух… обнимать солдат… стоявших на карауле, прижавшись один к другому, как куры на насесте… Ведь потребовали отставки у сеньора президента! (Невероятно!.. Отставки — и у кого? У сеньора президента?…)…Подаст ли он в отставку или уже подал, остался он в президентском кресле или отказался от него, но у Зверя теперь нет силенок!..
Ушел Самуэлон, а капитан взял гитару с постели и хотел было повесить ее на место, но, когда он ощутил инструмент в руках, ему захотелось потрогать струны, извлечь из гитары какие-то звуки, ведь это не звуки были, а мысли его…
— Подаст в отставку? Или не подаст?… Сообщат ли об этом в приказе по армии?…
Служить правительству, которое действительно поддерживает народ… За все годы, пока он носит мундир, никогда не приходилось ему задумываться над этим… не чувствовать, что тебя ненавидят… что тебя ненавидят и солдаты, насильно мобилизованные в армию… что тебя ненавидят и те, которых ненавидят, ненавистные начальники… ненавидят люди…
Как последние струйки молока из выдоенного вымени, вытекали из-под его пальцев беспорядочные струйки звуков…
Что делать?… Что сделать, как противостоять ненависти, такой липкой, такой глубокой, что ее даже трудно понять?… Можно ли ждать еще? Тем более сейчас, если будет получено подтверждение сообщения об отставке!
Он подтянул ремень, надел мундир и вышел из комнаты. Надо проверить караулы. Все люди — на своих местах, все спокойны и ничего не знают о событиях в столице, не ведают о том, что сеньор президент, возможно, с минуты на минуту подаст в отставку, хотя этими вестями, казалось, был насыщен воздух…
Часовой. Офицер. Солдаты. Все на своих местах. Стемнело. Ночь на побережье наступает мгновенно. Далеко раскинулось серебристое яркое зарево, поднимавшееся от зданий Компании и казавшееся еще более ярким в эту черную-черную ночь. Тщетно искал он хотя бы одну звезду. Небо — антрацит. И подумать только, сколько миллионов звезд блестит в каком-то другом небе! А здесь ни одной. Лишь Млечный Путьогней «Тропикаль платанеры». Чужой, искусственный свет. Свет, принесенный сюда чужими. Свет чужестранцев. Сколь печальна эта чернота, эта слепая чернота неба! Кроме чужого света, все остальное — тьма, тьма и тьма…
Все-таки правы были Самуэли, когда не то радостно, не то печально, не то напевали, не то выкрикивали слова песни:
У собаки — собачья доля: дни свои провести в неволе… Что не так, Чон? Что не так, Чон?… Я скажу вам, что в нашей стране наш удел — родиться пеоном… Что не так, Чон? Что не так, Чон?… Иностранец на нашей земле выступает всегда патроном… Что не так, Чон? Что не так, Чон?…Он вернулся к себе в комнату и, растянувшись на постели рядом с гитарой, невольно повторял: «…родиться пеоном… родиться пеоном… родиться пеоном…»
По ступенькам лестницы поднимался комендант, и у капитана Саломэ мелькнула мысль — знает ли он?… Знает ли он об отставке?…
Судя по тому, как тяжело он ступал, комендант был расстроен, чем-то подавлен…
Должно быть, знал, что это не просто слухи и что наступает пора великих перемен в стране…
И уже более радостно капитан Саломэ повторил:
— В нашей стране наш удел — НЕ пеоном родиться… НЕ пеоном родиться.
Вовсю зевает Важный Зевун, зевает, сплевывает, откашливается, тяжело ступают по скрипучим доскам его сапоги…
Всю свою жизнь провел комендант на военной службе — и кем же он был…
Пеоном? — Нет! Хозяином? — Нет! Патроном? — Нет!
И все же он поднимался по лестнице так, будто был хозяином вселенной в форме полковника, а ведь был ничто… ни хозяин, ни пеон, ни патрон… просто десятник!.. Шаги коменданта затихли, он прошел в свой кабинет. Послышался щелчок выключателя. Включил свет в этом великом молчании, прерываемом лишь кашлем, хриплыми вздохами да зевками.
Не слишком много времени шеф оставался в кабинете. Слышно было, как он выключил свет и прошел в свою квартиру. Слушая, как удаляются его шаги, капитан Саломэ вспомнил высказывания коменданта, этого старого полуночника, жизнь которого ограничивалась казармой.
— Я уже выплатил свое, — повторял он всякий раз, когда у него было хорошее настроение, — а теперь вы, молодежь, должны платить! Кто-то всегда должен платить. Я восполнил дебет, выдержав на своей шкуре все, и мной были довольны, и я был доволен. Общество требует, чтобы мы выплачивали свои долги, а наш долг — в подчинении старшему, в выполнении солдатского долга. Я уплатил сполна, — об этом свидетельствуют упоминания в приказах, награды, повышения…
Хотя и не было тут коменданта, но его высказывания навязчиво всплывали в памяти капитана, растянувшегося на постели.
И он чувствовал, как в этом ночном зное, в этом пространстве — молчаливом и черном — уже нечем было заполнить пустоту: недостаточно почестей, удовольствий, благодарностей, медалей, повышений. Жизнь военного пуста, если он оторван от народа. Да, у военного под мундиром должно биться сердце народа, только тогда не будет ощущаться пустота — та самая пустота, которая сейчас так остро воспринималась. И в конце концов разве не кончились крахом все его попытки вырваться из казарменных будней, поиски выхода… в попойках. Ну и что ж, кутежи всегда кончались тем, что, напившись, он плакал от бешенства и бессилия. Его приводила в уныние необходимость затыкать рот какому-нибудь недисциплинированному подчиненному, который любой ценой и через любую дверь хотел бежать от военной службы. Да, единственным выходом была свобода. И из военных лишь один нашел этот выход — Боливар!
Имя Великого капитана — офицера, в груди которого билось сердце народа, — такого же капитана, как он, вызвало у него другие воспоминания. Еще в годы учебы в военной школе он и его друзья преклонялись перед Боливаром, но карьеры они себе не сделали, будто были заклеймены раскаленным железом, зато головокружительную карьеру сделали из их выпуска те, кто избрал своим идеалом Чингисхана, Александра Македонского, Цезаря, Наполеона.
— Разве существует какой-нибудь рецепт, чтобы стать Боливаром? — спросил его с саркастической улыбкой генерал X. во время экзаменов.
— Да, — ответил он, — есть один рецепт (где-то довелось ему читать об этом) — следует принять добрую дозу того могущественного снадобья, которое называется «народ»!..
И кто знает, почему в юные годы, когда его обуревал беспредельный романтический энтузиазм преклонения перед Боливаром, не стал он вожаком среди кадетов! А ведь для этого были все основания. Что верно, то верно, выпускной экзамен выдержал с высшими оценками, однако выше капитана не дослужился. Словно какие-то невидимые цепи прошлого сковали его и обрекли нести службу в этом адском климате, где сама земля, казалось, была тюрьмой и могилой.
Забывшись, он проспал до рассвета — влажная от пота простыня буквально прилипала к телу, а голова прилипала к подушке, набитой кроличьей травой, однако даже на такой подушке не ощущалось свежести. Рядом на постели лежала гитара, и когда он, повернувшись на бок, случайно задел ее локтем, нестройно и тревожно загудели струны — заставили его открыть глаза. Полусонный, он опять смежил веки, на ощупь взял гитару и положил под койку, словно опустил на дно реки, которую никак не мог переплыть, не мог выплыть из потока мыслей — подтвердится ли весть об отставке, поднимется ли новая заря для людей, жаждущих свободы, или только наступит глупейший рассвет глупейшего дня для скота и для рабов.
Скоро разнесется эхо барабанов и горнов (во славу чего?), а после того как сыграют зорю, начнется уборка (к празднику?); непричесанные женщины в несвежих сорочках будут хлопотать, готовить завтрак, кормить младенцев и своих возлюбленных, а позднее, когда взойдет солнце, комендант станет стрелять по мишени — его обычное занятие по утрам.
Одним прыжком капитан Саломэ вскочил с кровати. Ему хотелось поскорее узнать, не получено ли подтверждение об отставке. В душевой он обычно всегда встречал Каркамо либо кого-нибудь еще из офицеров, а сегодня — никого. Никто еще не встал. Видимо, он первый. Что ж, может, это к удаче. Быть может, именно нынче утром придет официальное подтверждение и… как это великолепно! — сегодня его свободный день, он сможет отпраздновать событие как следует вместе со своей красоткой. Но не только лепестками роз устлан путь. Ведь если будет получено официальное сообщение, войска, чего доброго, переведут на казарменное положение, из казарм не выпустят даже тех, у кого сегодня свободный день. Что ж, самое главное — чтобы известие об отставке подтвердилось, пусть даже сегодня он не встретится со своей красоткой. Он побрился, налив горячей воды из термоса. Вестовой принес начищенные туфли.
И хотя не было никаких вестей об отставке, однако все в комендатуре переглядывались, следили друг за другом, чувствуя себя как-то неловко в своих мундирах и на своих постах. Все чего-то ждали, и никто не осмеливался сказать, чего… чего-то ждали и люди, проходившие мимо комендатуры, и ответ на свой немой вопрос искали на лицах солдат и офицеров.
Весть не подтвердилась. В доме старых Лусеро в честь этого были подняты бокалы, еще раз подняты, еще раз… так что к своей красотке он забрел уже навеселе.
— Был ли я счастлив или… не был? — спросил он, войдя в дом и блестящими глазами обводя комнату, а когда увидел женщину, вышедшую ему навстречу, обнял ее и сказал: — Ведь в этом кабаке мы сбились с пути, не так ли? Почему же та толстуха не назвала свой закуток, скажем, просто: «Я счастлив»? С тех пор и, видимо, на всю жизнь я остался капитаном, а ты потеряла все, что имела, потеряла вместе со мной! Капитан… мне больно, любовь моя, мне больно! Капитан, а ведь я должен был быть сейчас по меньшей мере полковником или бригадным генералом! Эх, я еще тогда все это предчувствовал!.. Вот был я у дона Лино Лусеро и сказал ему, что как только познакомился с тобой, то хотел было просить отставки, купить здесь, на побережье, землю и разводить бананы. Сказал я ему об этом, а он вместо этого предложил распить с ним виски, я один выпил целую бутылку. А что же ты, даже не приглашаешь войти…
— Но ты мне не дал сказать…
— Вот я и говорю, что надо всегда слушаться своего сердца! Капитан… что ж, ничего не поделаешь! Дон Лино отговаривал меня заниматься разведением бананов, и я было поверил в свою военную карьеру. А тут еще масла в огонь подлила хозяйка этого кабачка «Был я счастлив». Сказала она мне, что все мы, Саломэ, были храбрецами из храбрецов и что она была не просто знакомой моего дяди, которого потом расстреляли! И вот все сходится на том, что мне надо остаться капитаном, даже ты так считаешь.
— Вот как… хочешь на меня свалить вину!
— Конечно, если бы не было тебя, так я, быть может, не выдержал!
— Значит, тебе тяжело? Это ты хочешь сказать? Так иначе тебя расстреляли бы, как твоего дядю!.. — Она бросилась ему на шею, крепко-крепко обняла и на ухо, чуть не касаясь его губами, сказала: — Вы, Саломэ, все в конце концов становитесь похожими на тени, влюбленные в собственную мечту. Ты помнишь, не это ли самое сказала и та женщина?…
Он не отвечал. Он чувствовал, как прижимались к нему ее упругие груди, выдававшиеся под прозрачной сорочкой, как переступала она с одной ноги на другую.
Кто-то закричал за дверью:
— С вашего разрешения… с вашего разрешения… — И, не дожидаясь ответа, в комнату вошел мальчик, застав их в объятиях: — Телеграмма для капитана…
Пока Саломэ доставал монетку, чтобы дать на чай, мальчик растерянно повторял:
— Теле… для капи…
Получив чаевые и расписку адресата в получении телеграммы, он молниеносно умчался — сверкнули молниями босые ножонки, а капитан поспешно распечатал телеграмму, прочел ее и положил в карман вместе с бумажником. Затем, закрыв дверь на щеколду и на ключ, он сел на край постели, рядом с Кларой Марией, которая нетерпеливо сбросила с себя все, кроме весьма прозрачного голубого фигового листка в виде трусиков.
— Голубка моя!.. — промолвил капитан, лаская женщину.
— Что было в телеграмме? — спросила Клара Мария.
— Э… Служебная…
— Ах, ты служишь… у нее?
— У кого это — у нее?
— У другой! А почему же ты спрятал? Почему ты не показал телеграмму мне, бандит ты этакий!
— Я же сказал тебе, это по службе, служебная телеграмма…
— Покажи! Если она действительно служебная, я не буду ее читать! Я уверена, что она от твоей новой любовницы!.. Ну знаешь ли, это слишком: приходить сюда, твердить, что ты меня любишь, что ты — мой, а я — твоя, что без меня ты не можешь жить… Ах, оставь!.. Дай мне одеться… Ну ладно, можешь считать меня дурой… дурой… Уходи!.. Слышишь… Уходи!.. Я не хочу тебя видеть! Я не хочу, чтобы ты являлся сюда! Как это я не раскусила тебя раньше?… Покажи… А ну, покажи телеграмму!..
Саломэ вынул из кармана телеграмму, но вместо того чтобы отдать ее Кларе Марии, разорвал пополам, на четвертушки, на восьмушки, на… пока не остались маленькие бумажные клочки.
Клара Мария застыла на месте, словно парализованная. Она сидела на кровати, прислонившись к глинобитной стене, и, казалось, слилась с неоштукатуренной глиной.
Вдруг она сорвала с вешалки желтое платье, натянула на себя, перевязала волосы лентой апельсинового цвета.
Она остановилась на пороге спиной к Саломэ. Капитан медленно застегивал рубашку, пуговицу за пуговицей, в ожидании, не изменит ли она своего решения. Нет. Застегнув и пиджак, он взял шляпу — настолько привык к фуражке, что еще подумал, ему ли принадлежит эта шляпа, — положил в карман револьвер, длинноствольный, сорок пятого калибра, лежавший на столе, вытащил из пачки сигарету, зажег.
— Дай мне сигарету, — сказала она, не оборачиваясь.
— С удовольствием… — отозвался он, довольный, что она наконец заговорила.
— Сигарету дают приговоренному перед расстрелом, прежде чем… — Она зажала сигарету в губах и ждала, когда капитан даст ей огня, однако тот как бы в шутку поднес спичку к ее глазам.
— Не будь скотиной, ты оставишь меня без ресниц!
— Чуточку опалю…
— Можешь хоть всю опалить эту свою любовницу… эта дура, должно быть, ждет тебя в своей конуре!
— Клара Мария, я ухожу…
— Прощай, Педро Доминго!..
— Мы расстаемся друзьями?
— Друзьями…
И, пожимая ему руку, она проронила:
— Мне незачем получать телеграммы, моя любовь неподалеку.
— Помощник управляющего?
— Я сказала — «моя любовь», значит, говорю не об этом рыжем гринго, который, когда проходит, всегда стучит в мою дверь и кричит: «Отдайся мне, приласкай меня, я подарю тебе автомашину и уйду!..» Нет, я говорю о моей настоящей любви, о белокуром юноше…
Саломэ сжал кисти ее рук.
— О ком?
— А тебе-то что, раз ты меня не любишь? Ухаживай за другой, за той, которую ты любишь! Комедиант! Лжец! Оставь уж меня с моим…
Она попыталась вырвать свои руки из рук капитана, но не смогла. Объятый бешенством, он сжимал ее запястья все крепче и крепче.
— Это ведь неправда… Признайся, что это неправда!
— А что неправда? Что неправда?… Ха-ха!.. У тебя — телеграмма, у меня — любовь. Когда мужчина пожелает, так все к его услугам, а женщина пусть остается ни с чем! Вот что вам нравится! Вы хотели бы иметь все, и землю, и телеграммы! Почему ты порвал телеграмму?… Почему не дал мне прочесть? Потому что там было имя этой шлюхи?… Я так и чувствовала, мне сердце подсказывало… И потому вчера вечером я встретилась с моей новой любовью… Белокурый юноша с глазами гринго, но он не гринго!
Капитан с отвращением оттолкнул ее от себя, выплюнул окурок, уже давно потухший, и повернулся к ней спиной.
— Прощай, Педро Доминго! Как тебя безобразно зовут… Педро Доминго! А вот мою новую любовь зовут…
И она произнесла какое-то имя, которого он уже не расслышал.
XXXV
Боби и Хуамбо затерялись в ночи. Едва вступив в ночную тьму, сразу чувствуешь, насколько она плотна. Куда поставить ногу? На землю? На землю или на тьму? Погружая ногу в темноту, не ощущаешь почвы, но если сначала нащупаешь носком, то поймешь, что нога коснулась чего-то плотного. Грязь и мрак. Жидкая грязь незаметно переходит в воздух, которым ты дышишь, который обволакивает тебя, который пахнет тинистой топью, гнилыми листьями, дождем и мокрой шерстью дикого зверя. Боби ничего не говорил. Он потел. Пот обливал его неподвижное тело. Прежнее тело. Теперешнее тело. Всегдашнее тело. Только сейчас сраженное, измученное, спотыкающееся. Она втащила его с улицы. По-кошачьи. А завтра, очевидно, он сам сюда вернется. Любовь, отдающая каким-то странным ароматом. Ароматом цветов ночной красавицы — уэле де ноче. Брачным, свадебным ароматом. Он мчался верхом и стлался, как ползучее растение киламуль, что ткет своими вьющимися плетьми паутину. После скачки по беспредельной равнине перехватывает дыхание. Кто натягивает поводья? Наконец, наконец, наконец. Зачем еще натягивать? Опять скользит кошачьей лапкой по позвонкам, за ушами, по шее — и кровь смерчем подступает к голове, а возвращается сном. Мозг, словно легкие, действительность превращает в сон, во что-то эфемерное, в неудержимое, захватывающее бегство без слов… Но это не было сном… реальным было ощущение непрестанного бега пульсирующей крови — перехватывает горло, уже невозможно ни вздохнуть, ни проглотить слюну…
— Хозяин!.. Хозяин!.. — громко позвал его Хуамбо с порога. — Зачем ты вошел?… Эта женщина плохая!.. Лучше тебе уйти!.. Не медли, хозяин, не медли!..
Из рук его ускользнул Боби — и ответила Клара Мария:
— Плохо твой матери будет, несчастный!
Это были только тени, тени в одежде людей, а под одеждой — живая человеческая кожа, пот.
Хуамбо, насмерть перепуганный, убежал — не заметил, как добрался до родного ранчо.
— Мать, не спишь?
— Нет…
— Мать, уже разбудили?
— Да.
— Мать, слышала, что гнилая женщина украла ребенка?
— Зачем увел ребенка на эту улицу?
— Не на улицу, а в рощицу.
— Увел?
— Увел.
— Самбито!
— Мать, не плачь! Слезы возвращаются, как осы, и жалят Самбито. Не Самбито ребенка увел, а женщина увела! Увела, чтобы спрятать его. Он сам хотел. Не хотел быть больше начальником. Шайка разбежалась, шайка покинула его среди мертвецов…
Мать мулата поднялась, будто поддерживаемая дрожащими своими морщинами, как пружинами, и ощупью, ощупью — длинны пальцы у слепой — отыскала двери ранчо.
— Пошли, Самбито, ребенок среди мертвецов!
— Нет, мать, ребенок вышел со мной! Шайка его покинула, он вышел со мной…
— Нет, Хуамбо, ребенок среди мертвецов!
— Ребенок в «Семирамиде», в доме Лусеро!
— Он среди мертвецов, Хуамбо, среди мертвецов! Пошли! Он останется, останется среди мертвецов, если его не заберут отсюда!
— Нет, мать, сюда его привезли, чтобы спасти от огненного ливня!
— Пусть его заберут! Пусть его заберут!..
Кружится голова. Кружится голова от зноя, как только ступила она за порог и глотнула горячего воздуха. Так закружилась голова, что она остановилась возле кактусов. Много колючек на лепешках кактуса опунции, и плоды его покрыты, как шерстью, острыми, цепкими волосками, что вонзаются иглами в руки, шарящие, плавающие в раскаленном ночном воздухе. Руки — горсточки костей — вылезают из накрахмаленных рукавов. Молчание.
Хуамбо хотел увести старуху домой. Но она продолжала настаивать на своем. Надо спасти Боби, спасти его от мертвецов. Мулату нужно пойти в «Семирамиду», дать знать миллионерам Лусеро об опасности, которая нависла над мальчиком. Если перед угрозой забастовки бежали все местные богачи, так чего ждут Лусеро, почему не упаковывают чемоданы, почему не спасают шкуру? Забастовщики убьют Боби, чтобы покончить с семейством Мейкера Томпсона. Он единственный мужчина, оставшийся в этой семье, и они выместят на внуке всю свою ненависть к его деду.
Хуамбо так и не понял, с которым из братьев Лусеро он говорил. Все они были старые, все толстые, у всех очки и седина, все смотрят недоверчиво. Нет, забастовки не будет. Его Зеленое Святейшество со своего смертного одра распорядился, чтобы рабочим дали все, чего они просили или просят. Обо всем этом сообщил мулату, бормоча себе под нос, тяжело вздыхая, будто раздувая кузнечные мехи, седовласый очкастый, недоверчиво глядевший толстяк. Один из Лусеро. Следовательно, не существует никакой опасности для Боби. Лусеро угостил мулата сигарой и дал знать, что беседа окончена.
Опьяневшему от дыма Хуамбо показалось, что он затягивается не сигарой, а горящей головешкой.
Шел он и шел с зажженной сигарой, обволакиваясь дымом, на поиски Боби. Не было Боби в «Семирамиде», убежал куда-то без своей шайки и никому не сказал, куда убежал. Мулат знал, где Боби, но так ему не хотелось встретить его там. Не хотелось увидеть его там, из своей засады — живая изгородь с горячими листьями, скользкая тропинка уходит из-под ног. Сколько раз, когда он еще не был пьян от дыма, мулат приходил туда, в этот самый уголок, именно сюда, и, как приговоренный к тюремному заключению… На вольном воздухе и под чистым небом… привороженный к одному месту, как все влюбленные, стоял перед белым домиком, примостившимся на самом краю насыпи. Зубы его начали выстукивать мелкую дробь, как только он увидел, что мальчик уже там, под покровом душного мрака, и тогда он сказал мальчику, что пришел проститься. Боби сжал кулаки в карманах штанов, заметив лицо мулата, походившее на подгоревшую булку, без единого волоска на голове, с еле заметными бровями и ресницами. Мулат едва переставлял ноги, сгорбился и, казалось, благодарил Боби за то, что тот не оставил его в одиночестве. А Боби хотелось, чтобы мулат исчез. Хотелось дунуть — и пусть мулат растает в воздухе. Однако Боби все же улыбнулся ему, довольный, что Хуамбо сопровождает его, — Боби был доволен не потому, что он чего-то боялся, хотя он и испытывал какое-то неприятное чувство от пустоты вечера, от незримого присутствия шагающих по улицам прохожих, — он боялся сойти с ума от этого тоскливого, непонятного и страстного ожидания. До каких пор может расширяться грудная клетка, в которой бешено бьется, не находя выхода, сердце, а в крови растворяются остатки былого желания, властной физической потребности видеть ее, быть с ней!
Хуамбо, конечно, мог оставаться — в глубине души Боби был даже признателен ему за заботу. Стремительно менялся ход мыслей Боби. Хуамбо мог оставаться, но с условием — тщательнее спрятаться, не появляться, поскольку она заставила Боби дать клятву, что он впредь будет приходить один. Помня об этом предупреждении, Боби прижимал палец к губам — да, да, он делал это всякий раз, как только мулат пытался что-то сказать. Боби выговаривал мулату за малейшее неосторожное движение, заставляя его сидеть тихо-тихо в листве живой изгороди, позади которой тянулись маисовые поля, а впереди виднелся белый домик на краю насыпи. Слышен был лишь шорох пробиравшихся или скользивших в зарослях животных, царапанье когтей о стволы деревьев да шелест крыльев.
В недосягаемо высоком небе появились первые звезды. Быстро слепла земля. В воздухе разлилась влажность плачущей воды. Кто-то выглянул из двери. Никого. Снова выглянул. Нет, никого. Надо ждать. Мулат знаками показывал: «Пора уходить. Она просто захотела посмеяться над тобой». Боби закрывал и открывал глаза. «Открою — выйдет», — говорил он себе. Открывал — и никого. Все оставалось на своих местах. Тишина. О жизни напоминали шаги людей, возвращавшихся с работы или садившихся в автомашины — куда-то уезжали, быть может, навсегда. Но для Боби ничего не существовало, пока не откроется дверь в белом домике, последнем на насыпи домике под цинковой крышей, сверкавшей лазурью. Не может быть, чтобы ее там не было, думал Боби, ему так хотелось подойти, в несколько прыжков очутиться у двери, постучать и спросить. А что, если послать мулата? Нет, он дал клятву, что будет приходить один. А что, если бросить камешек на крышу? Он сумеет — рука не подведет. Надо найти камешек. В темноте почти ничего не видно, однако если поискать на ощупь ногой, то можно найти. Но почему бросить камешек на крышу, а не в дверь? Удар камнем в дверь. Ведь это больше похоже на сигнал, что он ее ждет.
— Плохая женщина!.. Плохая женщина!.. — бормотал мулат, обливавшийся потом, но преисполненный счастья: на этот раз мальчика постигнет разочарование и они вернутся. Хуамбо даже подталкивал Боби в плечо, заставляя идти.
Они уходили. Боби брел впереди с опущенной головой, в отвратительном настроении, а Хуамбо шел, не скрывая своей радости, будто двухвостая собака от удовольствия виляла хвостами — так он размахивал руками. Но внезапно раздался какой-то шум. Распахнулась дверь, и фигура женщины, одетой в желтое, закачалась в свете чего-то похожего на мыльный пузырь.
— Злодейка! — проворчал мулат. Он хотел задержать Боби, преградить ему путь, не пускать его, пусть бы тот даже набросился на него, — хотел опуститься перед ним на колени, взывая к нему, умолять его, но тут же отказался от этой мысли — таким счастьем просияло лицо маленького хозяина, — и не прошло минуты, как мальчик, словно подхваченный ветром, умчался.
«Светильник… лампада… светляк… звезда… что горит в руке этого нежного создания?» — думал Боби, приближаясь к ней. А тем временем Хуамбо, припав к живой изгороди и вглядываясь в темноту воспаленными глазами, спрашивал самого себя: почему злодейка не зажгла в доме электричество и что это еще такое — встречать Боби полуодетой, в полутьме, подняв фонарик, чтобы осветить путь, и поджигая ему волосы золотистого шелка, шелка не от шелковичного червя, а от золотого.
Он смотрит на нее, смотрит, смотрит… схватил ее в объятия и не может налюбоваться ею. И она тоже смотрит, смотрит, смотрит на него, ничего не говоря, — не то с любопытством, не то с удовлетворением следит за дрожащей рукой Боби, ласкающей ее, ласкающей ее груди, влажные и податливые, сосочки, подобные бутонам бегонии, готовым вот-вот расцвести.
Закрыли они дверь. И нежное благоухание янтарных духов сменилось вонью дыма от навоза, который жгли, чтобы прогнать москитов, комаров и всякую прочую нечисть.
Вошли они в домик. И никого больше. Звук радио.
Хуамбо снял башмаки и, держа их в руке, проскользнул вдоль изгороди к задней стене дома, припал глазом к первой попавшейся щели. Она лежала обнаженная, тело кофейно-золотистого цвета выделялось рядом с белоснежным телом Боби. Их освещал лишь свет музыки — свет включенного радиоприемника. Приемник стоял у постели, которая как бы ходуном ходила, подпрыгивала, танцевала — по мере того как следовали они ритму безумной, разжигающей музыки, заражавшей их своим эпилептическим буйством.
— Хозяин, укроти эту гремучую змею! — Хуамбо переминался с ноги на ногу, продолжая подглядывать. — Хозяин белый, а змея нет. Что это такое? Где это видано? Что это за музыка?! И слов не разберешь!.. Ж-ж… ж-ж… ж-ж… вдвоем… ж-ж-ж-ж-ж… з-з-з-з-з… — Зудящее жужжание, сочившееся из радиоприемника, проникало мулату в нос, в рот, щекотало в глотке, хотелось чихать. Мулат уже не знал, что лучше — сплюнуть или проглотить слюну. По лицу его стекали ручейки пота. Он тяжело дышал.
А под джазовую музыку Боби, охваченный каким-то демоническим исступлением, вытанцовывал, как безумный, нечто похожее на суинг в этой черной тропической ночи все быстрей и быстрей… Уа… уа… уа!.. музыка звучала громче и громче, а сил у них оставалось все меньше и меньше… Рычание кларнета — звериное, дикое рычание джунглей — вызывало новый эпилептический приступ, но они уже не владели собственными телами, развинченными, безвольными, и отдавались волнистым спадам саксофонов, которые внезапно переходили к задорным, подстегивающим синкопам, поддержанным шпорами цимбал, скорбными стонами контрабаса, неожиданно врывающимися и так же неожиданно исчезающими аккордами рояля, — спазмы и экстаз, секс-сакс, сакс-секс, синкопы за синкопами, обнимаясь, ласкаясь, целуясь, они изощрялись в поцелуях, поцелуях-словах, поцелуях-укусах, поцелуях-словах-укусах… незрячие, беспомощные, плачущие потом…
… мертвой змеей откинулась она в сторону, а Боби положил голову на ее плечо, закрыл глаза, чужими стали руки, уши слышали и не слышали песенку, что изрыгал радиоприемник:
Play that sing, jazz band! Play it for the lords and ladies, for the dukes and counts, for the whores and gigol-l-l-l…[50]Внезапно, после сухого щелчка, передача оборвалась. Но оборвалась она не потому, что приемник вышел из строя. Боби открыл глаза и увидел, что приемник включен, полон этих тихих шорохов-червячков, которые, казалось, пожирали труп звука. И вместо песенки он услышал голос, объявивший драматическим тоном:
«Внимание! Внимание! Через несколько минут будет передано сообщение канцелярии президента республики!..»
Злодейка протянула руку к радиоприемнику, выключила его и в темноте обняла Боби.
Тщетно прижимал мулат лицо к решетке, его глаза ничего уже не могли различить — хотелось ему забросить глаз, как хрустальный шарик, в темноту, туда, откуда неслось тихое, будто сонное бормотание. Он плотно-плотно прижал ухо. О чем это сообщение?… Ничего не слышно… А те не спали, целовались… О чем могло гласить сообщение канцелярии президента?… Должно быть, что-то важное… прервать передачу — и так поздно… он еще крепче прижал ухо… ничего не было слышно, кроме непереводимого языка постели, певшей свою песню уже без музыки, песню тел, затерянных во тьме…
«О чем могло быть это сообщение?» — почесал Хуамбо затылок, вглядываясь в ночь, будто искал ответа не то во тьме ночи, не то в собственных глазах, когда поднимал веки, и тогда белки, сверкая белизной, делали его лицо похожим на череп.
Таким его увидела злодейка из комнаты, через решетки, во мраке ночи. Увидела и с перепугу чуть было не перекрестилась. Ее измучила жара, ее угнетала мысль о том, что она изменила своему мужчине с этим белокурым мальчишкой, заснувшим в ее объятиях, как ангелочек. Она поднялась, чтобы умыться. Свет не зажигала. Бесшумно. И пока она умывалась, ей пришла в голову мысль открыть окно и облить водой мулата. Но, пожалуй, будет скандал — проснется блондинчик. Лучше расправиться с мулатом на улице. Выйти и поколотить его шваброй. Она набросила на себя халатик, проскользнула к двери. Хуамбо от неожиданности почти не оказал никакого сопротивления. Он даже не защищался от ударов, от острых ногтей разъяренной злодейки, которая набросилась на него, царапала, била и в то же время, верная своим привычкам, обшарила его карманы, но, впрочем, ничего не нашла, кроме вонючей тряпки, в которую были завернуты человеческие кости.
Ее бил озноб, будто она внезапно после тропической жары окунулась в ледяную воду. Она никак не могла сообразить, куда ей деть человеческие кости, еще покрытые жиром… Бросить возле дома — нет!.. Перед дверью — ни в коем случае!.. И она помчалась за мулатом, который, перепрыгнув через изгородь, скрылся в зарослях маиса.
Совершенно обезумев, она кричала:
— Проклятый! Проклятый! Скажи той, которая подослала тебя бросить кости покойника перед моим домом, пусть не посылает телеграммы! Пусть не тратит деньги на телеграммы! Пусть сама сюда придет! А тебя, мерзавец, если ты вернешься и будешь мне подбрасывать кости покойников, в другой раз я не выпущу живым! Слушай хорошенько, несчастный! Слушай! Живым отсюда не выйдешь!
Она забросила кости подальше, как можно дальше. Вытерла руки влажными листьями, но пальцы словно онемели, во всем теле ощущалась какая-то слабость — это из-за костей покойника, что, конечно, велела положить перед ее дверью та проклятая, которая прислала телеграмму. Ей представилось, что уж теперь-то она потеряет навсегда своего Педро Доминго. Хотя и называла она его безобразным, однако это была ее старая любовь — единственный человек, которого она любила. Это был настоящий мужчина — с ним были связаны воспоминания о кабачке «Был я счастлив», а все остальные, в том числе и щенок, что валяется сейчас на ее постели, — это только случайные, только случайные встречи.
В полной темноте пересек Хуамбо поселок. И когда белый домик остался уже далеко позади, он вдруг обнаружил, что его пальцы, грубые, как корни, сжимают что-то мягкое — оказалось, что это был клок волос, волосы женщины, которая была для него воплощением злого духа, духа с телом злодейки, одевшего ее платье и подстерегавшего его, когда он подглядывал. Надо бежать, а может, и не стоит бежать — разожмет он руку и, чего доброго, вместо волос увидит гитарные струны, тогда, значит, встретился он с самой Сигуамонтой, Зеленой Сигуамонтой, которая иногда бродит ночью по банановым плантациям и крадет понравившихся ей мужчин.
И все же он остановился. Не было другого света, кроме света звезд, огромного множества звезд в небе — кто знает, почему, но этой ночью не загорелись прожекторы, фонари и четки электрических лампочек во владениях Компании. Так или иначе, у него не было времени раздумывать, волосы то были или кишки, что свешиваются с головы Зеленой Сигуамонты, вечно голодного призрака, жаждущего мужчин. Некогда разбираться в том, что же он сжимал в потной руке. Помутилось у него в глазах, кровь прилила к голове, как только он понял, что злодейка украла у него косточки священной руки его отца, которые он носил в кармане.
Он соображал с трудом. Раз, и два, и три, снова и снова обыскивал он свои карманы, дрожащими руками выворачивал их наизнанку, как покинутые гнезда, как пустые наволочки. А быть может, они выпали, а быть может, он потерял их, пока эта ведьма избивала его шваброй? Он попытался присесть — уже столько времени он на ногах, пытался присесть на корточки, но не удержался, упал, шмякнулся, словно тюк грязного белья. Разве их сейчас найдешь? В этой кромешной тьме — ни одного лучика света. А разве можно оставить их лежать где-то? Нет, нельзя, нельзя! Он вытер пот, стекавший по щеке, — потная щека приклеилась к шелудивой стене. Нельзя потерять косточки руки Агапито Луисы — его отца, который дружески протянул ему правую руку, протянул оттуда, где он лежал с открытыми глазами, уже на веки вечные. Надо дождаться рассвета, пусть взойдет солнце. На четвереньках, ползком, вернется он туда, и если злодейка украла их, то он заставит ее вернуть их — кто знает, чего это будет ему стоить.
Предрассветная темнота господствовала повсюду, но поселок пробудился. Открылись двери. Распахнулись окна. Жители идут, будто заключенные. Дымят сигареты, руки за спиной. Женщины неподвижны, во рту жевательная резинка. Если начнешь говорить — надо ее выплюнуть, а если продолжаешь жевать — проглатываешь слова. Лучше уж жевать резинку: все равно то, что хочешь сказать, не скажешь. То, что нельзя объяснить, лучше не объяснять…
Вести были такие, что всю ночь никто не сомкнул глаз. Скупое сообщение канцелярии президента республики предупреждало, что будут приняты суровые меры против тех, кто попытается проводить манифестации, а также против всех тех, кто покинет свои рабочие места в госпиталях, в судах, в трибуналах, против тех торговцев, которые закроют свои магазины, против тех учителей, которые не придут в школы, и против тех отцов семейств, которые запретят своим детям идти на занятия. Смертная казнь вводится за саботаж, за распространение слухов, за прекращение работы на водопроводе, на электростанциях, на железнодорожном транспорте, за сокрытие оружия, бомб, взрывчатки, за печатание и распространение листовок, содержащих подстрекательские призывы к гражданам поддержать забастовку…
Было и много других вестей, но передавали их только близким знакомым или родственникам. Пассажиры, прибывшие из столицы проездом через Тикисате, рассказывали, что после столкновений с полицией тысячи мирных демонстрантов, заложив руки за спину, проходили перед Национальным дворцом, в котором засел Зверь с министрами, секретарями и адъютантами.
Что делать? Почему не принимают меры, чтобы прекратить это молчаливое шествие, эту манифестацию людей, которые не людьми были, а призраками, поднявшимися после четырнадцати лет диктатуры и вышагивавшими молча, как куклы, слышен был лишь шум шагов по асфальту… шагов протеста? Где, где начальник полиции? Зверь должен сорвать злость на ком-то из приближенных. Он избил начальника полиции. Сместил. Назначил нового. Приказы. Кони. Каски. Упряжь. Подковы. Топот лошадей, выбивавших искры о булыжник. Меднокожие солдаты в огненной форме и офицеры, державшие обнаженные сабли, должны оттеснить с площади бесконечную колонну призраков, невидимую толпу, которая двигалась под монотонный шум шагов! Только призраки — этим-то все и объяснялось — могли бросить вызов Зверю, засевшему в дворцовой клетке… «Да, сеньор президент!..» «Нет, сеньор президент!..» — наперебой кричали адъютанты, сбившиеся с ног.
«Что это такое, — рычал Зверь, — это призраки или не призраки?…»
— «Нет, сеньор президент!..»
— «Да, сеньор президент!..»
Он отходит от окна, волоча ногу, идет в глубину только что отделанного черным деревом кабинета, еще пахнущего свежей древесиной. На столике, рядом с его письменным столом — из красноватого, цвета мяса, дерева каобы с инкрустациями — раскинулись джунгли телефонов, два ряда телефонов, серебристых, оскалившихся, как зубы огромного хохочущего металлического черепа. Одного звонка достаточно, чтобы открыть огонь по манифестантам, развязать бойню, но Зверь не решается, колеблется — он останавливается перед каждым телефоном. И все, кто прибежал во дворец получить приказ, все, кто окружает его в президентском кабинете, теряют голову, заметив его замешательство, его раздумья, следует или не следует отдать приказ огнем и кровью разделаться с забастовщиками и большевиками — лишь приверженцы этой доктрины могут здесь проводить подобные демонстрации! «А к каким методам они прибегают?… Да, эти методы — так похожи на большевистские! — твердил маленький человечек с голосом цикады, самый страшный из секретарей диктатора. — Одновременное проведение демонстраций на Центральной площади и на соседних улицах — они хотят поразить иностранцев. Они вовлекли в демонстрацию всех прохожих, мужчин и женщин, которые шли по своим делам, и когда те менее всего этого ожидали — их заставили идти посередине улицы, выстроили в колонны. Полиция не успела разогнать колонны, она была захвачена врасплох. Не было времени и у кавалерии, которая пыталась преградить путь человеческой лавине, катившейся по площади и подступившей к дворцу».
«Ага, значит, это не призраки?» — Зверь круто обернулся, взмахнул рукой и тут же остановился в раздумье. «Нет, сеньор президент, это не призраки, это большевики!» — ответил кто-то из секретарей. Однако министр иностранных дел дипломатически дал понять, что не следовало бы называть демонстрантов большевиками, поскольку государство находится в состоянии войны и официально является союзником России, и что благоразумнее этих демонстрантов следовало бы назвать «наци-фашистами». Такого рода высказывание заставило Зверя сжать зубы — ему куда больше по душе были наци, чем большевики. И он приказал заткнуться этому дипломатишке, министру иностранных дел. Адъютанты бросились закрывать окна — испугались, что до президентских ушей донесутся уже не звуки шагов молчаливых призраков, а крики студентов и учителей, требовавших его отставки.
«Нет, сеньор президент!..», «Да, господин президент!..» — вконец сбились с толку адъютанты, они вытягивались в струнку, щелкали каблуками, ударяя рукой по кобуре с пистолетом. «Однако чего они просят? Моей отставки?» — рычал Зверь. «Нет, сеньор президент!» «Нет, сеньор президент!..» «Надо вступить с ними в переговоры!» — посоветовал министр иностранных дел. «Я сам знаю, что должен делать, сукин ты сын!» — рычал Зверь, загнанный в угол человеческим морем, расплескавшимся по площади. Он не сказал, что именно… («Пусть подаст в отставку!.. Пусть подаст в отставку!.. Пусть уходит!.. Пусть уходит!..») И в этот момент он принял решение.
Пассажиры, рассказывавшие обо всем этом в Тикисате, не знали, какое решение принял в конце концов диктатор. Говорили о каких-то переменах в политике. Однако не оказалось политических заключенных, которых можно было бы освободить. Диктатор вовсю пользовался своими правами — всех политических заключенных он отправлял только под землю. Эмигранты не желали возвращаться, хотя он распахнул перед ними двери отчизны. Толковали об отставке министров. Передавали, что некоторые начальники департаментов, имевшие частные кладбища, будут смещены. Толпа уже не только требовала отставки диктатора, но обливала его бранью. А он отсиживался в своей западне, натянув пулезащитный панцирь, вышагивал взад и вперед по кабинету, волоча ногу, с пистолетом на поясе и хлыстом в руке.
«Нет, это не призраки, а большевики… большевики!..» — он без конца повторял эти слова, пока не поверил в них сам, и тогда пришло решение: отдать страну в руки «большевиков». По его убеждению, разброд будет настолько велик, что его вновь призовут править страной, и потому — хотя приближенные ожидали, что он подпишет приказ о массовых репрессиях, о массовом уничтожении, — он проявил некую слабость. Рассчитав, что благоразумнее не прибегать к пулеметам, он издал указ о погашении английского займа и объявил, что государство свободно от каких-либо платежей. Он решил национализировать германскую собственность, чтобы заявить о приумножении национального богатства. Он согласен даже уйти, конечно, в расчете, что его немедля призовут обратно, — но об этом, разумеется, никто, кроме него самого, не знал. И все напряженно следили за каждым его жестом, восхищались его хладнокровием, спокойствием, с которым он реагировал на оскорбления, и все приходили в ужас, услышав выкрики: «Смерть ему! Смерть! Смерть!» Все было парализовано этой атмосферой надвигающейся грозы, штурма, линчевания, расстрелов, эшафотов, пожаров…
Пассажиры, привезшие эти вести из столицы, — ночной поезд останавливался в Тикисате и следовал далее на юг — недоумевали, что же происходит на банановых плантациях, почему до сих пор здесь не объявлена забастовка, чего ждут крестьяне?
Рассвет еще не наступил. В дождевых лужах золотыми брызгами отражались звезды. Скот мохнатыми тенями лежал на лугах, омытых дождем и лунным светом. Запели петухи. Возвращался сокрушенный Хуамбо — вооружившись электрическим фонариком, он искал около дома злодейки, между насыпью и живой изгородью, кости руки своего отца.
Они были там. Он нашел их, он взвешивал их на ладони, преисполненный благодарности, и размышлял, не утратили ли они своих магических свойств. Вдруг он почувствовал, будто порывом ветра ударило в лицо и какая-то темная фигура двинулась на него, угрожающе размахивая бичом. Он не стал разглядывать. С ловкостью ягуара он прыгнул на маисовое поле. Она осталась в темноте, уже отливавшей оливковым цветом, и предрассветную тишину разорвали ее вопли:
— Если я тебя еще увижу здесь, если ты еще раз бросишь могильную землю и кости перед моим домом, возле моих дверей, так и знай! — не выпущу тебя живым! Клянусь тебе! Клянусь, что убью тебя! Та, которая заплатила тебе, чтобы ты накликал на меня зло, — та, которая послала телеграмму, — уже оплатила твою смерть! Слушай меня хорошенько: она уже заплатила за твою смерть! Если ты еще раз вернешься сюда, живым не уйдешь!..
Хуамбо бежал, мокрый от пота и росы — никогда он не был более счастлив, чем сейчас, сжимая в кулаке кости руки отца, — он затерялся на плантациях, под банановыми листьями, в этот час ранней зари, когда даже молчание приобретает цвет.
XXXVI
Временами казалось, что все то, о чем толковали в эти часы рассвета — уже знойные, изнуряющие, пропитанные влагой, сверкающие светляками и капельками росы, — не имеет никакого смысла. До самой зари шел горячий спор, объявлять или нет забастовку на банановых плантациях. В едва освещенном ранчо битком набились делагаты, прибывшие из далеких лагерей, из усадеб, из поместий, с плантаций Компании. Лиц нельзя было разглядеть. Они скрывались под широкополыми пальмовыми сомбреро. Одни сидели без рубашек, и тела их, усеянные капельками пота, казались стеклянными. Другие были одеты в рубашки или в кожаные куртки с бахромой на рукавах. Лампа, прикрытая полупрозрачным абажуром, отбрасывала свет на стол президиума, покрытый бумагой. На столе — чернильница, стаканы с водой, авторучки, карандаши, сигареты. И руки людей, сидевших в президиуме, — руки усталые, расслабленные или, наоборот, нервные, вздрагивающие, — так непохожи они на руки Табио Сана, неподвижно лежавшие на столе, будто руки статуи. Но вот он шевельнул мизинцами, затем движение передалось и другим пальцам, они судорожно сжались, словно при звуке погремушек ядовитой зеленой змеи — зеленых долларовых банкнот, хруст которых слышался в выступлениях тех, кто открывал огонь против забастовки, уверяя, что Компания, сделав первые уступки, пойдет и на последующие, что она обещала платить еще больше, обещала улучшить условия труда.
— Да, так мне кажется, — убежденно говорил какой-то человек с острым носом, который откинулся на стуле так, что спинка упиралась в бамбуковую стену ранчо, и он чуть ли не полулежал: раскачиваясь на стуле, он потерял равновесие и наверняка хлопнулся бы на пол, если бы вовремя его не поддержал сосед.
— Не пугайтесь, товарищ! — сказал Табио Сан. — То, что случилось сейчас с вами, может случиться и со всеми нами, если мы прислушаемся к вашему мнению, если мы поверим в обещания Компании увеличить заработок. Обещания, данные просто так, без поддержки со стороны профсоюзов, подобны бамбуку, из которого сооружены стены этого ранчо. Лианы, которые его поддерживают, могут сгнить, и стволы бамбука распадутся, важно вовремя их укрепить — это в наших интересах, а в интересах Компании — окончательно сорвать забастовку. Их обещания увеличить заработок повиснут в воздухе, как этот бамбук без креплений. Естественно, при первом самом легком ударе все рухнет. Поэтому я настаиваю, чтобы мы ни в коем случае не шли на соглашения с Компанией, какими бы посулами она нас ни покупала, пусть это будет обещание прибавить жалованье или улучшить условия труда. Каждому понятно, что Компания предпринимает все это, чтобы подорвать наше единство, не дать нам организовать профсоюз. Профсоюз — это значит коллективный контракт, социальное обеспечение, оплаченный отпуск, пособия…
— Предположим, что все будет так, — настаивал остроносый, — однако нам следует согласиться на увеличение заработка, принять этот великодушный жест. (Слова «великодушный жест» вызвали бурный протест присутствовавших…) Хорошо, я снимаю это определение «великодушный жест». Но нужно согласиться на прибавку, а уже потом, когда пройдет какое-то время, организуем профсоюз.
— Это будет означать, — живо откликнулся Сан, — что мы построим ранчо из бамбука без прочных креплений, и все рухнет на нашу голову…
Слова Сансура вызвали одобрение Старателей — в эту группу входили грузчики бананов, самые горячие сторонники забастовки и самые решительные люди, потому что — как они сами говорили — тот, кто стоит ниже всех, должен подняться всех выше.
— Нет, товарищи делегаты, — продолжал Сансур, — принять эти подачки до организации профсоюза означало бы одно — кусок хлеба сегодня и голод завтра. Вопрос о прибавках Компания должна обсудить с законными представителями профсоюза, который будет организован нами. Это первое условие. Еще в начале нашего собрания я предупреждал и сейчас снова повторяю, что сегодня нам нет необходимости обсуждать вопрос — объявлять или не объявлять забастовку, принимать или не принимать предложения Компании. Наша первостепенная задача — организация профсоюза, который впредь будет нашим законным представителем. Как только мы покончим с этим, будем обсуждать вопрос о прибавках, а также и о том, какие требования будем выдвигать во время забастовки. Я надеюсь, что все согласны с моим предложением по повестке дня.
Хотя среди собравшихся пронесся гул одобрения, однако несколько человек встали и заявили, что они требуют прежде всего обсудить вопрос о забастовке и прибавках. Некоторые даже хотели покинуть собрание.
— Успокойтесь! Успокойтесь! Спокойнее, друзья! — послышались голоса.
— Разрешите мне сказать… послушайте… выслушайте меня.
— Нечего его слушать! Пусть заткнется!
— Потише! Послушаем, что он скажет! — подбадривали какого-то человека, который, подняв руку, настойчиво просил слова; это был высокий широкоплечий крестьянин.
Он закричал:
— Тише!.. Тише, товарищи! Тише!.. — И как только воцарилось спокойствие, он произнес: — Среди нас находится один человек. Хоть он и молод, но голос его силен!
И когда шум окончательно затих, поднялся другой оратор.
— Давай, товарищ, закати-ка речь!
— Что за чертовщина! — послышался голос из задних рядов. — У него даже что-то там написано.
— Товарищи, вот эта бумага, — и он поднял руку с каким-то листком, — вам лучше меня расскажет о том, что происходит в столице, где уже объявлена забастовка. Я получил письмо. Мне привез его мой родственник, который находится сейчас здесь рядом со мной, — и он похлопал по плечу человека в ковбойской шляпе: — Он только что приехал. В столице ждут, что мы их поддержим, проявим солидарность. Они надеются, что мы займем твердую позицию, а то Компания вот такими мелкими уступками будет водить нас за нос…
— Ого! А как же прибавочки? Они нам обещают больше, чем мы просили!
— Это даже не уступки — нам просто показали палец, намазанный медом, чтобы мы заткнулись. Как бы не так! Люди в столице, которые живут, конечно, лучше нас, уже объявили забастовку! Спрашивается, почему там объявлена забастовка? Почему закрылось все — торговля, банки, школы, госпитали?
— Из-за политики! — снова закричал кто-то из задних рядов; нельзя было разобрать, кто это кричит, он стоял у бамбуковой стены ранчо, сквозь щели которой проникали лучи дневного света… «Совсем как через решетки вечной тюрьмы крестьянской нищеты», — подумал Табио Сан, к которому вернулось самообладание, его руки лежали спокойно и неподвижно на столе.
— Об этом здесь не говорится! — закричал человек с бумагой. — Забастовку объявили из-за того, что выкинули на улицу каких-то школьных учителей и каких-то санитарок несправедливо уволили!
— Для забастовки годятся любые предлоги!
— Кто это там яду подливает? — раздался чей-то глухой голос.
— Этого мерзавца, видать, гринго подкупили!
— Росо Контрерас?
— Известно, он, кто же еще?…
— Но в письме дальше говорится…
— Бумага все стерпит! — настаивал Росо Контрерас.
— В письме говорится, что столица стала пустыней, нет автомашин, нет людей, все пусто, нет газет, городу грозит остаться без света и без воды…
— И все это из-за каких-то санитарок и учителей. Смех, право, разбирает! — вмешался седоватый, стриженный под машинку, человек, стоявший рядом с Росо Контрерасом; кое-кто заметил, как Контрерас подтолкнул его локтем, как бы напоминая, что пора выступать.
— Не только из-за этого! — сделал шаг вперед человек, привезший письмо. — Я сам приехал из столицы, сейчас там требуют, чтобы правительство изменило свою политику, сменило…
Старик хотел было продолжать, но у него пересохло во рту. Кто-то подал реплику:
— Откашляйся сначала, дядя!
— Я думаю, что если мы начнем здесь забастовку ради того, чтобы поддержать их, значит, мы будем таскать для кого-то каштаны из огня. У меня семья, дети, внуки, всем им нужно что-то есть, а что я им дам, если будет объявлена забастовка? Все остановится, и мы останемся без денег. Ребячество все это! — Он взглянул на юношу, державшего письмо в руках. — Нас хотят втравить в заваруху, которая нам ничего не даст. Вот вам мое последнее слово: соглашаемся на прибавки, и все тут.
— Мне кажется, уже поздно, — вмешался один из делегатов, сидевших за столом.
— Поздно?… Скорее еще слишком рано! — Эти слова вызвали бурный смех.
— Ладно, — продолжал делегат, — рано или поздно, это все равно. Я хотел предложить вам — давайте спросим Чуса Марина, который пока что ничего не сказал, непонятно, согласен он или нет…
Все обернулись к тому, чье имя было названо. Чус Марин встал.
— Товарищи… — сказал он и замолчал, как бы обдумывая свои слова и медленно перебирая огромными волосатыми руками пальмовое сомбреро. — Я думаю, что мы забываем об одном. Мы здесь, в Тикисате, в долгу перед теми, кто выступал в Барриосе и в Бананере, когда столько портовиков погибло под пулями, прямо в порту или в море, в зубах акул. Я вовсе не хочу сказать, что мы вели себя как трусы, это было бы неправдой; все дело в том, что нет у нас организованности, нет активной, действующей силы. Потому-то мы и в долгу перед нашими товарищами. И я прошу, чтобы те, кто председательствует на этом собрании, были бы назначены временным руководством профсоюза трудящихся Тикисате…
Его слова были встречены аплодисментами.
— И, кроме того, прошу, чтобы сейчас же здесь был составлен акт о том, что согласно нашему желанию основывается профсоюз трудящихся Тикисате. Все мы, присутствующие здесь, его подпишем. А на протяжении ближайших трех дней его подпишут и остальные как члены-основатели…
— Очень хорошо… Здорово!..
— И чтобы руководство нашего профсоюза… — люди поднялись со своих мест, а те, кто стоял, подошли ближе к столу президиума, — дало клятву, пусть поклянется перед нами…
Даже те, кто не был сторонником забастовки, согласились с предложением Чуса Марина; его поддержали и те, кто, видимо, выполнял здесь полученные где-то задания, а также и те, кто опасался «пустых» дней — когда никто не заработает денег для себя и своих семейств, — теперь они почувствовали, что опасность отдаляется. Они соглашались на все — только бы не обсуждать и не принимать решений насчет забастовки…
После того как члены нового руководства дали клятву, Чуса Марина попросили написать текст акта об организации профсоюза, и этот документ был подписан всеми. А затем — солнце уже поднялось достаточно высоко и в эту пору невольно испытываешь что-то похожее на стыд из-за того, что ты встретил наступление нового дня, не сомкнув глаз ночью, — все приняли решение собраться попозже, чтобы обсудить вопрос о забастовке.
— Как так о забастовке? Не опережайте событий, товарищи! — обрушился Росо Контрерас на Чуса Марина. — Не забегайте вперед, товарищи! — обратился он ко всем, кто, подписав акт, еще стоял рядом с Чусито, поздравляя его, дружески похлопывая по спине. — Нечего спорить насчет забастовки, пока мы не разрешим вопрос, примем мы или не примем прибавку, обещанную Компанией!
Табио Сан решил не дать ему говорить. «Предатель, — мелькнула у него мысль, — никогда не думал, что так скоро придется пустить в ход кулаки!..»
— Поскольку профсоюз трудящихся Тикисате уже основан, то излишне болтать о прибавках, тем более Компания выдвигала первым условием, что мы не должны создавать никаких организаций. А теперь это дело уже решено. Вместе с солнцем сегодня утром у нас родился свой профсоюз…
Росо Контрерас только сейчас понял, что его карта бита, однако все еще не мог успокоиться.
— Товарищ, конечно, прав… — И не без задней мысли он добавил: — Однако это никоим образом не лишает нас возможности обратиться к Компании с просьбой, чтобы она отменила это свое условие и ввела прибавку, тогда нам не придется идти на забастовку.
— Действительно, — ответил ему Сан, — мы будем настаивать на прибавке. Это одно из основных наших требований. Но прибавка не как благодеяние, а при условии… при условии, что ничего иного мы не хотим! Им придется сделать нам уступки, согласиться на прибавку. Право — на нашей стороне. Однако нам надо выиграть больше, и последнее слово не за Компанией. С нынешнего дня мы будем говорить с ней как равный с равным. Мы уже не какие-то бедняки-одиночки, действующие разрозненно, каждый, кто как сможет, а могущественное профсоюзное объединение, и вопрос ныне ставится так: либо Компания удовлетворит наши законные требования, либо мы объявляем забастовку.
Слова Табио Сана вызвали оживление. Не всем по душе была мысль о забастовке. Еще свежи в памяти воспоминания о том, чем закончились забастовки в Бананере — пулеметными очередями!.. Было ясно и то, какие последствия вызовет забастовка: будут страдать жены и матери, невинные дети — им нечего будет есть, а мужчинам придется бродить без работы.
Неожиданно, когда обстановка уже изрядно накалилась, появились братья Самуэли — Самуэлон, Самуэль и Самуэлито. Они размахивали руками и звали тех, кто уже вышел из ранчо, потягиваясь и зевая. Они кричали, что принесли важные вести.
— Товарищи, — заговорил Самуэлон, — мы пришли издалека, шли всю ночь. Нам нужно было отыскать одного человечка и срочно получить у него очень важную бумагу. Из Бананеры сообщают… сейчас я вам скажу. Нам предлагают послезавтра в ноль часов объявить забастовку на всех плантациях «Тропикаль платанеры». Это будет забастовка в поддержку наших требований и вместе с тем — в поддержку той забастовки, которую объявили в столице студенты, врачи, шоферы, учителя, судьи и торговцы… Там уже закрыто все, даже кинотеатры, мало кого встретишь на улице…
Росо Контрерас вылил на них ушат холодной воды:
— Как это чудесно! В Бананере, видать, не дураки, хотят притянуть нас к себе. А для такого воздушного змея у нас и бечевки нет. Во всяком случае, те, кто послал меня сюда своим представителем, заявили, что если забастовку объявят по какому-нибудь другому поводу, а не из-за жалованья, то они вначале должны будут обсудить…
— Точно такое же предупреждение было сделано и мне. Поэтому я лучше уйду, пока не поздно, — вмешался Симилиано Кой. — Здесь такую забастовку, как хотят в Бананере, провести не удастся — ни к чему хорошему она не приведет, шуму наделать можно, а того, что хотим — не добьемся. Надо выиграть время…
— Чепуха!
— Старушечья болтовня!
— Ты хочешь сказать — дать время Компании, не так ли?
— Дать время пиявке, чтобы высосала из нас побольше крови!
— Дайте объяснить!.. — повысил голос Симилиано Кой, откашливаясь и прочищая горло.
— Тише, товарищи, каждый имеет право высказаться!
— Надо послушать! Пусть говорят!
— Заткнитесь! Что, за чертовщина! Дайте ему сказать. Говори! Валяй!
— То, что я хотел сказать, не чепуха, как мне заявили вот эти… — указал Кой на группу Старателей, которые сначала не стеснялись выражать свое возмущение и требовали не давать ему слова, а теперь, после того, как их призвали к порядку, выжидательно молчали. — То, что я хотел сказать, лучше сказать сейчас, пока не раздался выстрел и пуля не вылетела не через ствол, а в обратную сторону… — Он смолк, проглотил слюну, поморгал, оглянулся, будто разыскивая когото и ожидая подсказки, и, наконец, вымолвил: — Я хотел сказать, товарищ, я не против этой забастовки, которую нам предлагает «Платанера»… — У Старателей его слова вызвали вздох облегчения. — Вот что я хотел сказать, а точнее, пояснить. Чтобы вышла у нас эта самая забастовка, есть два пути: либо нам дадут какое-то время, чтобы мы могли потолковать с людьми, либо надо будет собрать всех рабочих на большой совет, и пусть они сами решают, что делать.
Со всех сторон раздались голоса:
— Он, может, и прав!
— Хоть и конопат, да умом богат!
— А рожа что рогожа!
— Может, трахнули из-за угла мешком?
— Хорош господь бог тогда, когда не выступает против забастовки! — закричал кто-то из Старателей.
— Подожди, подожди! Вот он тоже объявит забастовку!
— А он уже объявил… после того как мир сотворил… Сейчас небо и земля сами по себе, но и они, чего доброго, объявят забастовку, тогда это уже будет день Страшного суда!
Табио Сан постучал ладонью по столу — сосновой доске на четырех ножках — требуя, чтобы не отвлекались и прекратили обсуждать предложение этого…
— Симилиано Коя, — выкрикнул свое имя выступавший, который стоял между Росо Контрерасом с его сторонниками и Старателями, горевшими желанием немедля здесь же объявить забастовку.
Тут попросил слово Самуэлито.
— Как товарищ Кой здесь сказал, делегаты уполномочены лишь на то, чтобы объявить забастовку, требуя повышения заработка…
— Не все! — предупредили Старатели.
— Хорошо, большинство, — продолжал Самуэлито, — но, я думаю, нам выгоднее выиграть время…
— То же самое и я хотел сказать: выиграть время… Я так, простите, и сказал, дать время времени…
Однако никто не слушал разъяснений Коя, а Самуэлито продолжал:
— Самое выгодное для нас — выиграть время. Пусть сегодня же утром присутствующие здесь делегаты переговорят с теми, кто их послал, и тогда можно готовить собрание рабочих, общее собрание. Надо будет собраться завтра до объявления забастовки. Сегодняшний день уже наступил — день, когда товарищи из Бананеры предложили нам начать обсуждение. Собрание можно провести на Песках Старателя…
— Старателей! — послышались голоса.
— Так что же, значит, идти у чужих на поводу?
— И для чьей пользы?
— Только не для моей!
— Ну и бессовестный народ пошел!
— Торгуются, как проститутки!
— Ты за что меня обозвал бессовестным?
— Поделом! Я же, по-твоему, торгуюсь!
— Заткнись… б…бананом!
— Попробуй сам!
— Что у тебя из глотки торчит?
— Ах, вот ты как!..
Крики переходили в ругань, страсти разгорались.
Самуэлито все же заставил себя выслушать, несмотря на шум и гам. А Старатели предложили сейчас же объявить забастовку, опережая рабочих Бананеры.
— Нечего спешить, — вмешался Самуэлито, — мы не пари разыгрываем, здесь дело серьезное, а то потом придется в затылке чесать!
Его поддержал Самуэль.
— Да, как уже сказал мой брат, не все уполномочены сегодня же дать ответ товарищам из Бананеры… — Его прервали восторженные крики, приветствовавшие героических рабочих Бананеры. — Но поскольку это дело не шуточное, то завтра мы, все рабочие Тикисате, сможем собраться и уже окончательно — без всякой сумятицы — решить, идем мы на забастовку вместе с рабочими Бананеры или не идем. Итак, завтра мы должны ответить: да или нет. По-мужски ответить.
— Конечно, да!.. Конечно, да!.. Так и будет!.. Так и будет!.. — отовсюду неслись возбужденные крики.
В конце концов решили на следующий день провести собрание на Песках Старателей.
Один из Старателей подошел к столу, спиной к которому стоял Табио Сан, — он о чем-то говорил с Флориндо Кеем.
Обернувшись, Табио Сан лицом к лицу встретился со старым Старателем.
— Вы, конечно, уже забыли, как меня зовут — Эфраин Сальватьерра, и, быть может, не помните, что мы когда-то работали вместе. Тогда вы выглядели по-другому, лицо совсем другое, не узнать. Как поживаете?
— Хорошо, сеньор Эфраин, вот снова здесь…
— Я, быть может, и последний человек, но решимости у меня по-прежнему много, и мне, например, не очень-то нравится, что вас называют Сан, с нас уже хватает дяди Сэма… — Он засмеялся, синеватые губы раздвинулись, обнажив крепкие белые зубы. — Лучше, если мы будем называть вас Сансур, так точнее, верно?
— Во всяком случае, я — это я.
— Оно, конечно, по имени зовут даже святых, и мне думается, что Сан не звучит, лучше Сансур, похоже на Санто дель Сур… [51] Вот я заставил замолчать одного типа, он бродил тут, вынюхивал да выведывал, кто вы такой — рабочий или агитатор. Сукин сын, я ему сказал, чего ты хочешь, этот человек вместе с нами здесь работал, вместе с нами вырубал заросли, сеял на своей делянке, собирал урожай — маис и бобы — себе на пропитание, а потом исчез, как все, и вернулся, как все возвращается — подобно имбирному корню. Все улетучивается — подобно запаху тамаринда!
Очень немногих слов было достаточно Табио Сану, чтобы вспомнить былые времена, когда он — с лицом, измененным под воздействием ядовитого кактуса, — бродил по этим плантациям. Горячо обнял он Сальватьерру — еще крепкого старика, костлявого и жилистого, с такой черной кожей, будто обуглилась она под солнцем, и с белой бородой, мягкой-мягкой, — в нем было что-то от Пополуки и что-то от Кайэтано Дуэнде.
Подошел Флориндо Кей и прервал его воспоминания. Однако Табио Сан не дал ему и слова вымолвить, поспешил высказать свою мысль:
— Нужно бросить в работу наших людей, не теряя ни минуты. Я почти уверен в том, что Компания попытается обезглавить наше движение и увеличит заработки, не поскупится на туманные обещания кое-каких улучшений, об этом уже поговаривают. Компанию, видно, не смущает то, что наш профсоюз уже образован. Если это случится, Флориндо, мой дорогой Флориндо, то мы проиграем. Будет очень трудно вовлечь людей в забастовку солидарности с рабочими Бананеры, со студентами, учителями, со всей страной, вступающей на путь всеобщей забастовки!.. — Он замолчал — они удалялись от ранчо, в котором проходило собрание, продолжавшееся до наступления дня, — уже пора было вернуться в свое убежище, в другое ранчо, не меньшее, но более спокойное, с бородатой крышей, свисающей до земли, с зарослями бурьяна вокруг. — Свобода, Флориндо, имеет более притягательную силу, чем хлеб! Я как-то никогда раньше этого так не ощущал! За свободу поднимаются даже камни, а бастовать из-за хлеба — кое-кого еще берут сомнения.
— Здесь был… — произнес Флориндо, следовавший за Сансуром, когда тот уже наклонил голову, чтобы войти в ранчо, служившее ему убежищем. — Искал тут тебя… — Сан бросился в гамак, будто камень в колодец. — Искал тут тебя товарищ Паулино Белее с вестями от Росы Гавидиа…
— От Малены? — Табио Сан широко раскрыл глаза, ему даже показалось, что под его тяжестью гамак прорвался, и, вместо того чтобы погрузиться в сон, он покатился куда-то в пустоту.
Табио Сан схватил Флориндо за руку — столь сильным было ощущение, что он падает, и, пристально глядя в лицо друга, повторил:
— Вести от Малены?…
— Да…
— Как же он их получил? Ведь место, где скрывается Малена, засекречено?
— Нет, она уже не скрывается…
— Ее раскрыли?
— Она…
— Она сдалась?
— Нет, она вышла из подполья и теперь участвует в борьбе на улицах.
Сансур зажмурил глаза, опять раскрыл, поискал взглядом друга, который сжал его руки, как бы воодушевляя и подбадривая его.
— Так я и знал… — Он тяжело вздохнул, будто вез на своих плечах гору. — Сердце меня не обмануло…
— Велес рассказывает, что Малена выступила с великолепнейшей речью, очень мужественной. На студенческом митинге она требовала голову Зверя…
— Голову или отставку? — спросил Сан.
— Нет, она, видимо, решила, что мало отставки… Голову! — и уже совсем тихо, увидев, что Табио опять рухнул в гамак, Флориндо повторил: — Лишь один бог знает, почему лягушки сидят под камнями! Лишь бог знает, почему сирены плавают в глубинах моря!.. Лишь бог знает, для чего женщины созданы…
Раскачиваясь в гамаке, забыв о самом себе, о собственной тяжести и о тяжести собственных мыслей, Табио Сан нервно сжимал пальцы и молчал, словно потерял дар речи, словно его ударили по голове. Ему казалось, что он рухнул с высоты. «Наконец!..» — повторял он про себя, с трудом переводя дыхание. Временами он вглядывался в окружающие предметы, временами перед ним возникал образ Малены, которая поднялась на баррикаду во фригийском колпаке с белоголубым знаменем — национальным знаменем Гватемалы — и требует громким голосом — могучим, как камни Серропома, — голову тирана. Сердце едва не вырывалось из груди. А память восстанавливала прошлое — ту ночь, когда, стоя спиной к книгам в библиотеке школы, Малена плакала и была подобна изваянию на носу древнего корабля, которое плачет брызгами волн; в ту ночь она, показав ему свой дневник, просила его уйти, покинуть ее. И вот в той же позе она представилась ему на баррикаде — только она не плачет, она требует отмщения; волосы развеваются, как пламя горящих факелов; во весь голос она требует: го-о-о-лову тирана! Глаза ее устремлены в вечность, туника и покрывало каскадами ниспадают к обнаженным ногам, обутым в сандалии, — совсем греческая богиня! Сердце билось все сильнее и сильнее, и в глазах его исчезало видение Малены-мстительницы; он чувствовал, как цепенеет его тело, как тревога за судьбу скромной учительницы из Серропома все сильнее охватывает его. Просить голову тирана, когда другие лишь требуют его отставки. Почему же голову? Почему эта сельская Саломея — строгий костюм, туфли на низком каблуке, мужские наручные часы, походка классной дамы, — почему эта плебейка посягает на коронованную голову? Его меловые зубы блеснули, как будто он пытался выжать улыбку на встревоженном лице; да, он усмехнулся, представив себе облик Mалены-директрисы, и тут же подумал о своем, не менее смешном и не менее жалком виде — не похож ли он сейчас на беспомощную рыбешку, запутавшуюся в сетях, — в этом гамаке, подвешенном на кольцах в ранчо, — рыбешка бьется в золотых лучах солнца. Вернуться в столицу? Это было бы всего благоразумнее. Защитить Малену. Это самое малое из того, что он мог сделать. Бежать в столицу. Но что мог сделать он, когда голова его оценена властями. Если он еще и жив, то только потому, что товарищи заботливо его охраняют. Сказать им, что он отправляется на помощь Росе Гавидиа? Ему, конечно, ответят, что девушка может действовать сама по себе, а если не сможет, тем хуже для нее… Он ворочался в гамаке, а мысли не давали покоя, слова текли одно за другим: «Что ты думаешь, ты, горе-Марат? Почему ты считаешь, что Малена поступает безрассудно, требуя голову Зверя, не довольствуясь его отставкой? Разве это не компенсация за твою голову? Разве не требовал он, чтобы тебе отрубили голову и принесли ее, окровавленную, мертвую, на золотом блюде, которое ему подарило его Зеленое Святейшество? Разве он не требовал, чтобы отдельно ему поднесли в бокале с солью, лимоном, перцем и кетчупом твои глаза, чтобы он мог выпить их, как два сырых яйца?»
Сан резко перевернулся в гамаке. Что можно сделать, как помочь ей, защитить ее? «Защитить ее… ты защитишь ее… ты?., ты?…» Он остро ощутил тишину. Мелькнула мысль: «В конце концов… в конце концов… ничего!..» Ничего он не может сделать, ничем не может помочь, и, кроме того, нельзя покинуть свой боевой пост, когда на карту поставлена всеобщая забастовка на плантациях «Тропикаль платанеры»! Поддержит или не поддержит Тикисате стачку, которую объявят рабочие Бананеры в ноль часов следующего дня? Можно ли рассчитывать, что поддержат, пока рабочие не организованы, пока не пробудилось еще их классовое самосознание, тем более что Компания, несмотря на наличие рабочего профсоюза, будет и впредь предлагать повышение заработков, улучшение условий труда. Остается одно — действовать быстро. Если не удастся начать всеобщую забастовку — тогда надо поставить вопрос о символической стачке — двенадцатичасовой, двадцатичетырехчасовой или сорокавосьмичасовой, по возможности дольше, хотя и в этом случае Компания может одержать победу; ее план прост — убить в зародыше профсоюзное движение.
А… если откажутся?… Если рабочие откажутся поддержать символическую стачку, чтобы не потерять обещанных Компанией прибавок?…
Он вылез из гамака, моментально забыв о Малене, — его охватило какое-то тяжелое предчувствие, — и пошел искать Кея. Тот занимался приготовлением завтрака — он подлил чуть-чуть холодной воды в кипящий кофе, чтобы скорее отстоялся, потом выложил на стол сахар, кусочки хлеба, ломтики свежего сыра и ветчины. Оба были поглощены своими мыслями и долго молчали, прежде чем сделать первый глоток.
— Вот дьявол! — воскликнул Кей, чуть было не выплюнув горячую жидкость, и быстро втянул в себя воздух, словно желая остудить язык.
Табио Сан заговорил о своих опасениях по поводу всеобщей забастовки: потерпеть поражение — худшее из всего, что может произойти, и в силу этого следовало бы призвать рабочих к молниеносной стачке, к стачке всего на несколько часов.
— В таком случае я смог бы поехать…
Казалось, вместе с хлебом и ветчиной он хотел разжевать и проглотить свои слова. Кей сразу же понял, что Табио Сан, конечно, хочет ехать из-за Малены, но ничего не сказал — ему было ясно, что любые его доводы были бы бесполезны. Табио Сан пытался найти выход из положения: долг заставлял его оставаться здесь, а любовь звала лететь, лететь на помощь той, которая бросала вызов на баррикадах столицы… Там решалась ее судьба… Что мог сделать Табио Сан, когда решалась и их общая судьба, судьба всех — все они захвачены потоком и каждый предоставлен самому себе.
— Надо будет еще хорошенько все продумать, все изучить и быть наготове, когда загудит сирена. Мне кажется, что это чрезвычайно важно, — говорил Кей, проглотив кусок. (Сколько мыслей исчезло вместе с этим кусочком сыра, с этим кусочком хлеба, с этим глотком кофе!) Он не показал вида, что ему понятна внутренняя борьба, происходящая в сердце друга. — Действительно, важно… важно обсудить проблему символической стачки, забастовки на двенадцать часов, на двадцать четыре или на сорок восемь часов…
— Об этом и я думаю, — подхватил Сан, пытаясь освободиться от своей тревоги, от мыслей о Малене. Он видел, как она выходит из маленькой лачуги в предместье углежогов, где он покинул ее с Худаситой, как она спешит на студенческие собрания, на демонстрации, на баррикады.
— Несомненно… — послышался голос Кея, который искоса поглядывал на Октавио Сансура, Хуана Пабло Мондрагона, этого бунтаря, заговорщика, революционера-подпольщика, человека, всегда находившегося на передовой, на самом опасном участке борьбы. — Несомненно, товарищ, мы уже не можем выжидать и не можем прибегать к тактике отхода. А в конце концов, разве не подобной тактикой определялась бы символическая стачка? У нас нет другого выхода, кроме всеобщей забастовки. Сегодня и завтра мы должны мобилизовать всех, кто может нам в этом помочь.
Сан поднялся с места.
— Есть ли какая-нибудь возможность разузнать о Малене?… — Сколько чувства было в его голосе, когда он произнес ее имя!
— Прямой — нет… — Встал и Флориндо и, подойдя к Табио Сану, дружески похлопал его по плечу. — И будет лучше, если… pas de nouvelles… [52] Тебе не кажется?…
Табио Сан не отвечал. Гамак, пот, мошки, зубочистка…
Надо подождать товарищей и обсудить с ними план действий.
Бесполезно раскачиваться в гамаке, все равно не чувствуешь никакой свежести. Скрип колец гамака выводил его из себя. А тут еще привязывались надоедливые мошки, липли к лицу.
— Надо поскорее достать радиоприемник, — сказал Табио Сан, расправляясь с очередной мошкой, впившейся ему в шею.
— Я уже поручил Андресу Медине, — ответил Кей. — Он должен принести приемник с батареей. Кроме того, у меня дома работает товарищ, который знает стенографию. Уже двое суток он записывает все официальные радиосообщения из столицы. — Заметив жест Табио, как бы спрашивавшего, для чего могут понадобиться сообщения, прошедшие цензуру, Флориндо, затянувшись сигаретой, добавил: — Записывается также информация, которую передает радио Мексики, Панамы и Кубы…
Табио Сан устроился в гамаке поудобнее — он уже отвык спать в гамаке, а ему нужно было выспаться, прежде чем придут люди.
— Удар, — сказал он, покачиваясь, — должен совпасть с надвигающимся политическим кризисом, который, в свою очередь, углубит забастовка на плантациях… Тогда это будет действительно удар… — повторил он, устремив пристальный взгляд куда-то в пространство, словно желая предугадать будущее.
Татуировкой покрывали мошки его тело. Сетка гамака впивалась в потную кожу. Он все сбросил — рубашку, брюки, туфли, остался в одних трусах. Растянувшись в гамаке, искал он сна, однако как далеки друг от друга веки на глазах и как трудно зажмурить, сомкнуть их — они так же далеки друг от друга, как фешенебельные квартиры многоэтажного здания, где живут белокурые люди, жующие табак или жевательную резинку, от подвалов, набитых человеческими отбросами — мужчинами, женщинами, лишенными надежд, детьми, одетыми в лохмотья…
Но вот уже повсюду, врываясь в двери и окна, отдаваясь эхом по крыше, проникая в патио и коридоры, раздается гневный голос Малены, поднявшийся над пепельными полями и требующий голову тирана. И похоже, в самом деле претворяются в жизнь ее слова — огонь можно найти и под пеплом. Табио Сан зажмурил глаза — ведь говорят, что в день воцарения Справедливости закроют глаза погребенные. Чудо свершалось. Народ воскресал.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
XXXVII
Гривы, глаза, хлысты, шпоры, каски, стремена, и пылища — всадники и кони будто стерли линию дороги, и меловая пыль, взвихренная ими, осела на листве деревьев да на темно-темно-синей, почти аспидной доске неба. Укрывшись в кустарниках возле хижины, где находился Табио Сан, дозорные переглядывались друг с другом — благо расстояние было велико — и взглядами как бы совещались меж собой. Ловкие, гибкие, они, как зайцы, рассыпались среди густых кустов эскобильи, спасаясь от цепких колючек «лисьего хвоста», острых когтей сарсы и зорко следя за каждым, кто приближался к ранчо; другие взбирались по откосу к хижине с тревожными вестями, а третьи, самые отважные, оставались на сторожевых постах с винтовками и мачете в руках, готовые ответить врагу острым лезвием и свинцом.
Ослепляющий полдень. Земля и небо затаили дыхание. Зной нестерпим. Все ближе и ближе столбы пыли. Табио Сану доставили первые сообщения о том, как настроены пеоны на плантациях — за забастовку или против нее. То и дело люди, собравшиеся в ранчо, выходили на порог, чтобы посмотреть, что происходит вокруг. Они готовы были — в случае опасности — превратить Табио Сана в невидимку, помочь ему спуститься по глухой тропинке в овражек-тайничок, со всех сторон закрытый тесно переплетенными лианами и непроходимыми зарослями.
— Это либо сельская, либо конная… — заметил один из тех, кто вышел из ранчо и наблюдал за приближавшимся облаком пыли.
— Та или другая — одинаково хорошо, тезка, что сельская, что конная…
— Не совсем одинаково. Сельская — это значит полиция, а конная — стало быть, военная, — кавалерия.
— Разница, конечно, есть, что верно, то верно, — но обе верхом… — вмешался третий, коренастый и широкоплечий человек, стоявший близ двери, чтобы в случае чего скрыться побыстрее — не из-за трусости, а «потому как семья большая».
Но пока что повода для тревоги не было. Кто сказал «страшно», тот умер накануне, и уже труп трупом! Люди на лошадях ехали из окрестных селений по своим делам. Да и трудно было бы сейчас отыскать какую-нибудь власть в деревнях и поселках. Алькальды и альгвасилы куда-то улетучились, как только донеслись первые вести о беспорядках в столице. А гарнизоны получили приказы не покидать казарм, и если прикажут — сражаться до последнего патрона. Какая странная тишина! Молчание пустоты, пустынных площадей и улиц, прекративших жить своей обычной жизнью и замерших в ожидании, быть может, — потусторонней. На деревьях висели удивительные плоды. Это были полицейские, которым не удалось скрыться. В панике они даже пытались сбросить с себя форму, и был, например, такой случай, когда двое полицейских, подобно сиамским близнецам, пытались натянуть одни и те же штаны толстого сержанта, по штанине на брата, и в таком виде бежать.
— С-сукины дети!..
Выкрики и выстрелы, опалившие воздух, внезапно раздались из туч пыли, поднявшихся под крышами Тикисате. Это улепетывали те, кто опасался встреч с вооруженными людьми в поселке или на плантациях. Не знали беглецы, что люди уже давно запаслись пулеметами и тщательно их припрятали. На пустынных улицах и под сенью банановых листьев люди, потягивая агуардьенте из бутылки с этикеткой, на которой изображен тукан с огромным клювом, говорили о забастовке, а если иные и не говорили вслух, так все равно думали о том, что пора снести головы кое-кому из гринго, сжечь их дома и очистить продуктовые лавки Компании!
Много раз пытался управляющий Компании переговорить по телефону с комендантом, но связь была прервана. Потеряв всякую надежду соединиться по телефону, управляющий послал своего секретаря, Перкинса, просить полковника, чтобы тот направил воинские части охранять жизнь и интересы североамериканцев, которые, — разумеется, отнюдь не ввиду опасности — перестали было пить виски (впрочем, некоторые, наоборот, увеличили дозу), разжигать трубки и чавкать жевательной резинкой. С диванов и качалок они любовались небом из окон своих коттеджей, где всегда царила искусственная весна, и делали вид, будто ничего не случилось, — они были уверены, что ничего не может случиться, ведь если какой-нибудь метис осмелится тронуть хоть один волос на голове североамериканца, то флот Соединенных Штатов обстреляет побережье, а военные самолеты затмят небо этой крошечной страны.
Через некоторое время управление Компании уже не просило, а требовало выслать войска для охраны плантаций, ссылаясь на то, что правительство этой страны взяло на себя обязательство гарантировать не только безопасность и жизнь граждан США и неприкосновенность их собственности, но и охрану тех пеонов, которые, удовлетворившись предоставленными им прибавками, откажутся участвовать во всеобщей забастовке, к чему их призывала кучка агитаторов.
В кабинете комендатуры убивал время полковник, также ослепленный и разбитый знойным днем, — зевок следовал за зевком, одни зевки словно останавливались на полдороге, другие гасли еще на губах, будто всосанные в воронку. Зевун был верен себе: не получив приказа сверху, он не пошевелил и пальцем, и солдаты оставались в казармах. А приказа все не было и не было.
Несколько раз он посылал в столицу шифровки, но военное министерство отвечало одной и той же фразой: «Ждите приказа». Но вот только что его уведомили, что он вскоре получит инструкции непосредственно из президентского дворца. Это сообщение было получено одновременно с перехваченным по радио важным сообщением «Голоса Латинской Америки»… из Мехико.
Радист услышал это сообщение из Мехико — услышал, но не осмелился повторить его, не смог бы повторить даже про себя. Как же доложить об этом коменданту? И все же надо было идти — он вытянется в струнку и выпалит все прямо в лицо начальнику. Он снял наушники и почесал за ухом, затем почесал затылок. Волосы, казалось, пропитались холодным потом от того, что он услышал. Шею сковали ревматические боли. Невралгический озноб, дававший себя знать и ранее, охватил все тело. Он встал, резко отодвинул кресло — пронзительно проскрипели давно не мазанные колесики ножек. Надо идти в кабинет полковника. Но как войти? Изобразить растерянность? Эту идею пришлось сразу же отвергнуть — нелепо, ведь он в военной форме. Войти с веселым видом. Нет. Нельзя, его могут заподозрить в благожелательном отношении к бунтовщикам… Принять равнодушный вид? Быть может, но… вдруг сочтут это за проявление неприязни к верховному вождю?…
И все-таки он превозмог себя, вошел в кабинет коменданта, автоматически произнес: «С вашего разрешения, начальник!» — и забормотал-забормотал, проглатывая слова, проглатывая звуки:
— От… от… от…
— Чего там еще?… От кого?
— …ставка…
Зевун поднял брови. В его глазах заискрилось любопытство, уши и нос покраснели, он стал крутить усы, спускавшиеся ветвями плакучей ивы. Давно не стриженные ногти поблескивали наперстками, прозрачными наперстками, сделанными будто из тараканьих крылышек.
— Отставка? Моя отставка? — переспросил он, словно сам сомневался в том, что сказал, и тут же подумал: неужто меня лишили жезла? Значит, меня уволили в отставку, чтобы не смещать и дать мне какой-то шанс! Очевидно, Компания потребовала снять меня, немедленно снять за то, что я не послал воинские части, которые она просила для охраны плантаций.
Радист подтвердил, что речь действительно шла об отставке. И после длительного молчания, которое еще более подчеркивалось жужжанием мошек, тиканьем часов и глухим перестуком телеграфного ключа, комендант поднял глаза, помутневшие от страха, к портрету господина президента: портрет, висевший высоко в центре стены, господствовал над кабинетом.
С огромным трудом он выдавил из себя:
— О-о-о…н-н? — и осмелился показать пальцем на того, кто красовался в форме дивизионного генерала с клоком волос на лбу a la Наполеон.
Зевун обалдел. Покорный слуга, подручный, подначальный, подчиненный, считавший себя близким к верховному вождю, сейчас, когда все могущество вождя кончилось, превращался в бледное пятно, хотя лицо, шея, руки побагровели.
— Э-э-э-э… это твердят уже много дней, и этого, видать, кое-кто давно хотел, и даже по радио об этом болтают!..А-а! Скотина, кто позволил тебе слушать мексиканское радио?… Что, у нас нет своего радио? Разве наши радиостанции хуже радиостанций Мексики?…
Тщетно было доказывать ему, что местные радиостанции, равно как и Национальная радиостанция в столице, уже много часов подряд передают только военные марши.
— Убирайся сейчас же, если не хочешь, чтобы я превратил тебя в лепешку! Завтра же отправишься под арест! Иди и слушай другие радиостанции, но только не мексиканские!
Вернувшись к себе, радист натянул наушники и, волнуясь, — не столько потому, что боялся встретить подтверждение известия, сколько потому, что старался точнее выполнить приказ, — стал крутить верньер приемника и искать другие станции, передающие последние известия. И все станции — Панамы, Кубы, даже Би-би-си — все подтверждали эту новость. Он вернулся в кабинет начальника, но вымолвить что-либо он уже не мог.
— В-в-в-в-в… в-в-в-в… — Губы отказывались ему повиноваться.
— В-в-в-в-в? Что еще? — Зевун поднялся с угрожающим видом, готовый обрушить хлыст на своего подчиненного, но не успел — как раз в это мгновение ему понадобилось подтянуть брюки…
Радист наконец смог сказать, что во всех передачах из Панамы и Кубы также подтверждается это известие — он стал навытяжку и с трудом удерживался от того, чтобы не поднять руки к ушам, — они зудели и чесались так, словно их все еще прижимали наушники.
Шеф отослал его на место, строго наказав немедленно передавать каждую новость, которую услышит, но только «достоверные сведения, слышишь, достоверные…».
Зевун рухнул в кресло. Перед младшим чином он старался показать, что не верит этим сообщениям, но наедине с самим собой не было смысла притворяться. Все ждали приказов, но некому было их отдавать. Потому-то и последнее указание из военного министерства гласило, чтобы он ожидал инструкции непосредственно из президентского дворца. Он бросил хлыст на стол, откинулся в кресле и, совсем как гринго, забросил ноги на стол.
— Могло быть хуже, — подумал он вслух, — закрутился бы я тогда волчком! Черт знает, что могло случиться… Прости-прощай тогда чин полковника! Конечно, было бы хуже, если бы, послушавшись гринго, я послал своих людей охранять плантации! Солдаты, услышав такое сообщение, могли взбунтоваться, примкнуть к забастовщикам… Пусть остаются здесь, со мной, запертые в казармах, по крайней мере они не узнают, что там делается!
Он ударил хлыстом по письменному столу. В дверях показался адъютант. Комендант приказал:
— Сходи-ка, посмотри, здесь ли капитан Саломэ? Если здесь, передай ему, чтобы перед уходом зашел ко мне, пусть сразу же проходит в мой кабинет!
Адъютант исчез и, вернувшись, доложил, что капитан Саломэ уже ушел.
— А куда?
Адъютант опять исчез — разузнать. Вернувшись, доложил:
— Он не сказал, куда ушел, но, поскольку у него приступ малярии, то, вероятно, к врачу, в госпиталь Компании.
— Точно. Он просил у меня разрешения. Я не подумал, что он уйдет так скоро. Можешь быть свободен!..
Адъютант не успел снова исчезнуть, как полковник сорвался с кресла и помчался вниз — проверить караулы и приказать, чтобы никто, ни один человек, не покинул казармы без его личного разрешения. Он также приказал никого не пускать в комендатуру, кроме капитана Саломэ и солдат, отправленных за довольствием.
В свой кабинет он не вернулся, а прошел в комнатушку радиста, расположенную позади комендатуры, и сам начал выстукивать ключом номер: 25… 25… 25…
По всей стране — по всем телеграфным линиям — выстукивали этот номер… 25…
Но 25 — секретный телеграфный код прямой связи с кабинетом господина президента — не отвечал…
Бесконечная июньская ночь. Небо, очистившееся от вчерашних и позавчерашних туч, выглядело новеньким, совсем как свежая кожица после того, как сошла болячка. Звезды казались только что вымытыми и светились ярко, не мерцая. К звездам взлетела ракета. Одна-единственная. Ракета взвилась бешеной змеей, златоглавой, с хвостом дыма. В прежние годы в ночь на 29 июня шумели праздники, все небо испещряли ракеты — радостно наступал день святых Петра и Павла с бородками льющейся воды над озерным молчанием банановых плантаций, мерно взмахивавших в знак приветствия своими зелеными мечами. Сколько ликования, вспышек шутих бывало в этот день; сколько звучало аккордеонов, гитар и маримб; сколько поглощалось горячительных напитков, сколько тамалей, пирогов из маисовой муки, выхваченных прямо со сковородки; сколько женщин забывало тогда обо всем под покровом банановых листьев…
А сейчас… уж лучше бы начался ливень. Ну что хорошего в том, что улучшилась погода, — необычно для этой зимней поры с ее тропическими затяжными ливнями? Праздника не было в эту ночь на 29 июня… 25, 25, 25 — продолжал вызывать полковник, все более и более приходя в отчаяние… — эта ночь ничем не отличалась от других, обычных ночей здесь, на побережье. Неумолчно и ритмично квакали лягушки и жабы, тараща из-под нависших брюхатых век глазки горящей серы. Пропилит-пропиликает одинокий кузнечик, переживший миллионы своих собратьев, умирающих, пиликая день-деньской ради того, чтобы набить опилками молчания матрасы ночи. Где-то пронзительно протрещат сверчки, как бы подливая масла в огонь очага, на котором поджариваются воздух и земля, гигантские деревья конакасте, гуарумо и сейбы, лианы, устремившиеся ввысь стволы деревьев пало-воладор, рассыпающие искры с высоких сучьев, что горят факелами, перекликаясь с далекими зарницами бушевавшей где-то бури. А зарницы рассеивают золотую пыль над морем, улучив мгновение, когда пролетят огромные морские птицы, со свистом пронизывающие ночной воздух, пожирающие мрак и пространство.
…29, 29, 29… полковник, совсем потеряв голову, не отдавал себе отчета в том, что он делает, — он набирал число текущего дня, и только что спохватился — …25, 25, 25… нет, нельзя представить, что верховный вождь бросил всех на произвол судьбы… 25, 25, 25… он снял мундир — воздуха, воздуха, больше воздуха! Ему не хватало воздуха даже сейчас, когда он остался в одной рубашке, из коротких, как бы зевающих рукавов которой торчали волосатые руки, — рукава, похожие на зевки, — это все, что осталось от прежних зевков, зевков былого самодовольства и удовлетворения, что так легко выкатывались из его рта, и даже усы теперь тяжело повисли, точь-в-точь гребень дохлого петуха.
Тикисате… Бананера… Объявят ли они забастовку одновременно?… Ничего не известно было в эту ночь на 29 июня — все неопределенно, все повисло в воздухе… Тинистая влажность. Людская масса истекала огненными слезами. Ветер то дул, то затихал — и почти не приносил облегчения людям, полузадушенным зноем. Мужчины, одетые в парусину цвета дождевой тучи — зеленоватые лица, тяжелое дыхание, — одни вытянулись, как пальмы, другие прильнули к земле, как земноводные. Сейчас они должны решить вопрос — объединят ли свои усилия Бананера и Тикисате — два важнейших рабочих центра страны.
Студенты, учителя, специалисты, коммерсанты, журналисты, банкиры, даже ростовщики — все бросились в поток политической борьбы, стремясь покончить с тиранией Зверя. Однако, если не объявят всеобщую забастовку на плантациях Бананеры и Тикисате — а именно в Тикисате решение еще не было принято, — не будут вырваны корни тропической диктатуры и она сохранит весь свой яд.
Обо всем этом думал Табио Сан. Волосы его слиплись от пота, пот покрывал лицо. Табио Сан! Табио Сансур! — громко звал он, будто потерял самого себя. Ручейки пота, обжигающие, бесконечные, надоедливые, скатывались по его лицу, а он не обращал на них внимания: ему казалось, что сердце бьется не так, как раньше. Его мучила нерешительность рабочих, все еще продолжавших обсуждать вопрос — поддерживать забастовку или нет. Если этот торг затянется, может угаснуть боевой дух. А ведь именно сейчас из столицы стали поступать важные сообщения — там ожидали самого худшего после студенческой демонстрации, после манифестации женщин, одетых в черное, которые прошли в полном молчании перед президентским дворцом. Женщин пыталась разогнать кавалерия, полицейские бросали бомбы с удушливыми газами, но ни каски, ни сабли, ни бомбы не могли нарушить процессию, которая воплощала скорбь и грозный молчаливый гнев народа.
Были жертвы… Как там Малена?… Не случилось ли с ней чего-нибудь?… Быть может, она ранена, избита, увезена в госпиталь?… Быть может, она арестована? Или… или… Табио весь оцепенел от внезапно мелькнувшей мысли — убитая, лежит на мостовой…
Других известий не было. Лишь отрывочные сведения, полученные от пассажиров, проезжавших через Тикисате, а те либо мало знали, либо не хотели рассказывать — опасались, что язык может их подвести: пока еще не подтверждено известие об отставке Зверя, все может случиться. В лавине всевозможной информации в эти дни — в Европе активизировалось наступление союзников — иной раз проскакивали скупые сообщения, передаваемые иностранными радиостанциями, а местные радиостанции и Национальное радио уже набили у всех оскомину, без конца угощая военными маршами, маршами и маршами.
Нет вестей от Малены, нет решительного ответа от рабочих с плантаций. Сколь бесконечна эта ночь на 29 июня… бесконечна, безысходна…
Сан склонил голову, охватил ее руками, опираясь локтями о грубо сколоченный стол, за которым писал при свете керосиновой лампочки, источавшей больше копоти, чем света, — фитилек поник, и ничто не помогает, сколько его ни поправляй бурыми от никотина пальцами. Сигарета за сигаретой — он жадно поглощал их; не докурив одну, зажигал другую, закуривал с каждым, кто входил в ранчо.
И этот день, который так хорошо начался — основанием профсоюза, — кончался бесславно: люди сдавали позиции, забастовке грозило поражение!
Люди входили в ранчо — одни снимали башмаки, сбивая с подошв пыль и грязь, сбрасывали истертые донельзя носки; другие, закинув ноги вверх, курили, спали или что-то мурлыкали себе под нос, спасаясь от усталости и от навязчивых мыслей, преследовавших, как мошки.
После того как они прошли многие и многие лиги, заглядывая в бараки, ранчо, лагеря, «обжорки», столовые, склады и беседуя с людьми, им так и не удалось определить отношение к забастовке. У того, кто твердо высказывался против забастовки, в кармане уже звенели эти несчастные сентаво — прибавка, а их семьи получили продукты — маис, бобы, хлеб, мясо, сахар, рис, картошку и кофе из продуктовых лавок Компании.
Если Компания выполнит свое обещание о прибавках после того, как станет известно об организации профсоюза в Тикисате, то рабочие откажутся поддержать забастовку в Бананере. Забастовка начнется завтра в ноль часов, она парализует работу на Атлантическом и Тихоокеанском побережьях, на всех плантациях — она сольется со всеобщей забастовкой, объявленной в столице и поддержанной в остальных частях страны. Люди не только бросили работу, многие даже не выходили на улицы, верующие не посещали церковь, рыночные торговцы ушли с рынка. Забастовка — это протест, пусть запоздалый, но все же протест против расправы в порту, где пули и акулы свели счеты с теми, кто грузил бананы на торговые суда, с портовыми рабочими, у которых не было ничего, кроме сердца и набедренной повязки, и которые в лицо надсмотрщикам «Платанеры» бросили: «Хватит!.. Баста! С нас хватит!..» До сих пор звучат в ушах эти слова, и ныне их подхватят рабочие всех плантаций.
Именно это и предлагали товарищи из Бананеры. Забастовкой дать гринго по физиономии, — как сказал один из них. Баста! Они только предлагали, а не заставляли. Даже это приходилось разъяснять. Находились клеветники, распространявшие слухи, что, дескать, организаторы забастовки идут у кого-то на поводу, что люди из Бананеры хотят навязать свою волю, — и потому всюду приходилось объяснять: это — только предложение, последнее слово остается за рабочими Тикисате. И все же если не считать Старателей, работавших грузчиками бананов, и анонимных героев трагедии в порту, — энтузиастов было мало. Большинство не приняло идею забастовки, и это большинство собиралось проголосовать против. Этим большинством были вечные молчальники, которые боятся рискнуть хотя бы ногтем, скомпрометировать себя даже пустяком; это были те, кто не видит дальше собственного носа, те, кто клюнул на приманку агентов Компании, раздававших доллары из-под полы, — Компания оставалась верна своей обычной политике подкупов; это были трусы, предпочитавшие прятаться по углам; они боялись наемных убийц, оплаченных Компанией, которая не поскупится не только на доллары, но и на пули.
— Нет, у этих людей нет даже малейшего представления о том, что мы их защищаем! — Табио Сан, казалось, глотал эти пережеванные, перемолотые слова, которые превратились в слюну противоречивых мыслей; он был готов скорее обвинять рабочих, чем защищать их.
«Да, да, — думал он, — забастовка должна вспыхнуть, как пламя, и если в деревне она не нашла нужной поддержки, то только потому, что мы недостаточно четко и ясно разъяснили крестьянам ее идею. Они еще не осознали всю важность проблемы, когда речь идет не о хлебе насущном, а о стране нашей, о стране, которую некому, кроме них, защищать. И верующим следовало бы изменить слова молитвы: не хлеба испрашивать, а Родину — Отчизну „нашу насущную даждь нам днесь…“».
Он поднял голову и обратился к тем, кто вернулся с плантаций, — их с трудом можно было разглядеть при тусклом свете фитилька:
— А вы объявили Компании, что пришли в качестве уполномоченных профсоюза?
— Самое первое, что мы сделали… — опередил Андрес Медина пытавшегося что-то сказать Самуэлито, — мы заявили, что мы представители недавно созданного профсоюза трудящихся Тикисате.
— И управление согласилось? И они не чинили вам препятствий, признали вас как уполномоченных? — продолжал расспрашивать Табио Сан.
— Не только согласилось, — на этот раз Самуэлито удалось опередить Медину, — но мистер Перкинс, представитель управления, — мы обсуждали все дела с мистером Перкинсом, — сказал нам, будто он очень доволен, что мы вошли в делегацию профсоюза трудящихся Тикисате.
— Проглотили пилюлю…
— Жулики…
— А что им еще остается?…
— Это просто хорошая мина при плохой игре…
Они перебивали друг друга. Сгрудились вокруг Табио Сана.
— Прежде всего, конечно… — продолжал Самуэлито. — Прежде всего мы поставили перед ним вопрос — прямо с порога, чтобы не было никаких сомнений, — теперь, после организации нашего профсоюза, не откажется ли Компания от своих обещаний?
— Ну назад они не попрут! А что им делать? Они — гринго! Бедняги, они не виноваты в том, что такими родились! Но они не дураки!
— Действительно, — вмешался Медина, обернувшись к только что говорившему — старому Старателю, обожженному пламенем солнца и пламенем рома, — мистер Перкинс не только подтвердил, что Компания сдержит слово, но и обещал еще больше повысить заработок при условии, если на плантациях будет прекращена агитация и разговоры о забастовках…
— Другими словами, хотят купить наше молчание! — взорвался старик с багровым лицом, от ярости он даже не мог говорить и лишь изрыгал слюну.
— Только это и обещал? — крикнул кто-то.
— Соглашателей — вот кого они ищут, — прозвучал еще один голос, — и смотрят, не поддадимся ли мы!
Табио Сан успокоил самых горячих и решительных, которые готовы были схватиться за мачете.
— Есть такие праздники, которые воняют черт знает чем… — заметил старик с багровым лицом, — празднуют в надежде, что все урегулируется без забастовки, и поносят матерей агитаторов, прославляя Компанию, совсем как американский журнальчик на испанском языке «Селексьонес»: «Прогресс и достижения синдикализации в Центральной Америке», «Банановый синдикат добрых дел».
— Сейчас не время сражаться, час сражения еще пробьет, — сказал Табио Сан.
— У нас еще есть весь завтрашний день! — подскочил Медина. — И потом, кто сказал, что мы проиграли?
— Никто этого не говорил, — попытался заставить себя слушать Самуэлито, — но нельзя давать выход слепой ярости. Если сегодня мы начнем с угроз, то есть опасность, что завтра к ночи у нас не будет большинства, а оно необходимо, чтобы объявить забастовку!
— Большинство покойников — вот что может оказаться сегодня или завтра! Принесите счеты, чтобы считать трупы.
— Готовы?… — Самуэлон резко повернулся к задирам, которые уже подняли мачете и подпрыгивали, вздымая клубы пыли, будто боевые петухи; услышав окрик гиганта — а Самуэль, надо сказать, был довольно долговязым, — драчуны утихомирились, хотя и не хотели слушать каких-либо доводов: такие уж они забияки, плюются больше, чем выплевывает искр огненная шутиха. Под черно-золотым небом нынешней ночи они собрались было погулять во славу святых Петра и Павла, но остались без праздника.
Воспользовавшись паузой, вызванной окриком Самуэлона, Флориндо Кей призвал всех к порядку. Он объявил, что у него — последние новости. Сенсационные… сенсационные!..
— Миллионеры Лусеро завтра уезжают! — провозгласил Кей. — Я только что из «Семирамиды». Сейчас они готовятся к отъезду.
— Завтра? — Табио Сан поднял брови, как два вопросительных знака над запавшими глазами: он спешил узнать поподробней об этом отъезде, очень напоминавшем бегство.
— Да, завтра!.. — подтвердил Кей.
— Это означает, что они не чувствуют себя уверенно! — воскликнул Табио Сан, прерывая Флориндо. — А разве не они считали, что Компания, пойдя на уступки, сумеет нейтрализовать забастовку?
Флориндо Кей поднял руку и, размахивая указательным пальцем, продолжал:
— Нет и нет… Их вызвали из Чикаго! Джо Мейкер Томпсон, знаменитый Зеленый Папа, находится в очень тяжелом состоянии и перед смертью захотел увидеть внука.
— Пусть подохнет, не увидев его! Пусть молния разразит их обоих! — закричал Андрес Медина.
— А не кажется ли вам, что эти сеньоры чрезвычайно уверены, — подал голос Самуэлон, не то утверждая, не то спрашивая, — очень уверены в том, что забастовки не будет, ничего не произойдет и все останется по-прежнему…
— Слишком уверены — нет! — оборвал Кей.
— В таком случае это просто предлог! Они удирают, боятся, как бы не скрутили им руки… Какой удобный повод — внук Мейкера Томпсона!
— Да, я не думаю, что они очень уверены, не думаю… — настаивал Флориндо, дружески положив руку на плечо Самуэлона, — и считаю, что это просто предлог, даже если все это так и есть на самом деле. Ведь есть же предлоги столь своевременные, что даже перестают быть предлогами!
— Ну, мы так далеко уедем, если дон Флориндо начнет игру со словечками! — запротестовал Самуэлон и тут же бросил вызов Кею: — Раз вы утверждаете, что они не очень уверены, стало быть, вы сможете сказать — почему?
— А вот другая сенсация. Полковник отказался выслать солдат охранять плантации…
— Ну и ловкач!
— …хотя было столько просьб со стороны Компании, даже управляющий лично просил. Коменданта просили, чуть не умоляли со слезами на глазах, а потом стали угрожать ему отставкой, грозили даже тюрьмой, обвиняли в сообщничестве с забастовщиками, использовали все средства нажима, но так и не получили ни одного солдата. Он засел в комендатуре, выставил часовых с автоматами, которые никого не подпускают.
— Вот так клопишка! — захохотал старик с багровым лицом; из темного угла, где он сидел, сверкнули его глаза, в них засветилась и радость, и вместе с тем недоверие.
— Вот в том-то и суть, он, конечно, не ради нас старается!..
— Такое разъяснение мне по вкусу!
— Не ради нас, не ради наших прекрасных глаз!
— Понятно, Мединита, понятно, и потому-то я и сказал, что такого рода объяснение мне по вкусу, — продолжал Кей. — Мы и так хорошо знаем, что он делает все это ради того, чтобы спасти собственную шкуру, а нам-то, в общем, все равно. Без военной поддержки могучая Компания — ничто, и тем, кому подкупом или угрозами удалось склонить чашу весов не в нашу пользу, придется подумать: а не изменить ли свою тактику? Это мы увидим завтра ночью. Так или иначе, у меня появляется оптимистическое настроение. Большинство, безусловно, будет с нами.
— А я думаю, — сказал Самуэлито, — что позиция полковника наносит больший ущерб нам, чем подрывает позиции Компании, как говорил Флориндо.
— Конечно, он только взглянул с тротуара на комендатуру, а с тротуара много не увидишь, — добавил Самуэлон, не скрывая своего удивления, что его брат, Самуэль, до сих пор молчит. А у того от зубной боли глаза на лоб вылезали.
— Да, — подал голос Медина, — я, как и Самуэлито, полагаю, что полковник наносит нам вред — было бы лучше, если бы он послал на плантации войска. Тогда мы могли бы рассчитывать, что солдаты пойдут вместе с рабочими.
— Оставим схемы, — вмешался Табио Сан, который, казалось, прислушивался к разговорам, на самом же деле он был погружен в свои мысли. — Оставим в стороне схемы, — повторил он, — солдаты не выступят вместе с рабочими, и полковник прекрасно понимает, что делает. Он знает, что происходит в подобных случаях: из чувства страха или потому, что не хочет больше служить в армии, солдат бросает оружие, снимает с себя форму и бежит в родные места, откуда его притащили силой, чтобы не сказать — связанным по рукам и ногам… — Он помолчал немного, потом продолжал: — Что верно, то верно, бегство миллионеров Лусеро — а мы не можем назвать это иначе — и отказ полковника выслать войска для защиты Компании и ее служащих-янки заставляют нас еще раз внимательно изучить обстановку…
— Повторяю, это не бегство…
— Это бегство, Кей, — подчеркнул Табио Сан, — а если нет, тем лучше. Тяжелая болезнь или смерть Зеленого Папы ослабит, пусть даже на какое-то краткое время, позиции Компании, пока не соберутся акционеры и не выберут новое Зеленое Святейшество…
— Я видел телеграммы, — нетерпеливо перебил его Флориндо. — Старик боится умереть, не повидав внука…
— Пусть его увозят… — промолвил Самуэль, с трудом выговаривая слова, зубная боль донимала его все сильнее. — Пусть увозят… Я хотел сообщить вам: один мальчишка, по имени Линкольн Суарес, рассказывал, что Боби — смертельный враг забастовщиков, презрительно называет их попрошайками и говорит, что всех их нужно перестрелять из пулеметов.
— Да, пусть увозят его внука и всех прочих родственников, — сказал Медина. — Пусть бы только информационные агентства не придумали версию, будто его увезли специально, чтобы мы его не похитили. Они ведь способны на все. Помните, что говорили они в прошлый раз? Разве не распространяли слухи о том, что мы хотим его похитить, чтобы заставить Компанию удовлетворить все наши требования? Эти люди не видят разницы между забастовщиком и гангстером…
— И, наконец, третье сенсационное сообщение! — закричал Флориндо, выждав, когда воцарится молчание и когда будет слышно каждое его слово: — Президент республики вызвал генералов армии во дворец, чтобы вручить им заявление о своей отставке!
— Кончился!
— Он кончился для них! Для нас — нет! Ничего еще не кончилось! Это только начало! Игральные кости брошены, и теперь настала пора сказать: мы начинаем заново!
XXXVIII
Жужжит и жужжит швейная машинка. Склонилась над ней Клара Мария — голая по пояс, голова обернута мокрым полотенцем, ноги в тазу с водой. Жара душит. Выпаривает мысли. Не хочется ни о чем думать. А надо приниматься за дела. Надо сузить платье кремового цвета. Аи-аи, как похудела! Затекла рука, и донимают мурашки, преследует какой-то зуд, какая-то боль в локте, в плече, но от работы она не отрывается. Надо сузить юбку, а здесь, на груди, прострочить. А то, пожалуй, лучше сделать вытачку. Еще немного убрать. После бесчисленных любовных схваток опустились грушами груди, и это уже заметно, хотя она постоянно носит специальную грацию. В самых кончиках двурогой луны — двуполюсный магнит, притягивающий, манящий! Жужжание швейной машинки заглушило шаги вошедшего. Взгляни, кто это! Что-нибудь, конечно, неприятное: кобель что-то лает, не к добру. Ошеломлена, поражена была Клара Мария, увидев самого капитана Педро Доминго Саломэ, бледного как мертвец. И сразу же нахлынули другие чувства — счастье, радость и гордость охватили женщину: вернулся сам, по своей воле, не дожидаясь ее зова, как случалось прежде, когда приходилось вымаливать встречу перед образом святого Антония, обрызганным агуардьенте и обкуренным сигарой-самокруткой.
Но вся радость улетучилась молниеносно, даже слезы выступили на глазах, как только она разглядела его — какой он больной, хилый! Человек, стоящий на краю могилы. Остекленевшие глаза, не мигая, уставились куда-то вдаль; дышит он словно животом, а не легкими, и пахнет от него скверно-прескверно…
Он даже не обнял ее. Бедняга! Лишь провел рукой по плечам, как бы желая удостовериться, что она тут… вся, не исчезла. Температура, по-видимому, была настолько высока, что он уже еле-еле соображал, — ощупью нашел постель. Рухнул на койку, доска доской. Попросил стакан воды. Она ушла и через минуту вернулась. Не сразу. Не могла же она подать ему воду в стакане, которым пользовалась каждый день. Вынула из шкафа голубовато-бирюзовый графинчик, цвета незабудок, и стакан такого же цвета. Как раньше.
— У тебя опять малярия, надо будет растереть… — вздохнула она, прислушиваясь, как жадно глотает он воду.
Педро Доминго воспаленными глазами заглянул в глаза Клары Марии, присевшей на край постели. Согласен на все. Она стала гладить его, вначале нежно, потом все сильнее и сильнее, будто делая массаж, — во время приступа малярии даже легкое прикосновение к суставам отзывается адской болью.
— Немного погодя, — сказала она ему, — я натру тебя спиртом с хиной.
Капитан попросил, чтобы она дала ему передохнуть. Лечение — после, а сейчас ему хотелось растянуться на постели, закрыть глаза, держа ее руку в своих горячих, пылающих жаром руках.
«Не так уж плохо, что у тебя есть Клара Мария… хотя бы как козел отпущения…» — подумала она, но вслух ничего не сказала. Лучшее слово — то, которое не высказано, и, наклонившись над ним, она прижалась щекой к его щеке, раскаленной и колючей, — видимо, последние сутки он не брился.
Шумы дня — гул грузовиков, грохот телег, свистки далеких паровозов — отвлекли мысли Клары Марии. Незаметно, как только Педро Доминго, ее любимый, заснул, она постепенно высвободила свою руку из его ладоней и ушла. Она развела в глубокой тарелке беловатый порошок хины в спирту — если натереть спину, можно облегчить хотя бы немного приступ малярии, — в этом лекарстве она была уверена, иначе не звали бы ее Клара Мария из кабачка «Был я счастлив». Была ли она счастлива с ним? Очень счастлива. Он по-прежнему лежал, вытянувшись на постели. Она не стала его будить. О чем-то вспомнила. Да, надо проверить карманы. В этом деле она была искусна. Но теперь она искала не деньги, а какое-нибудь письмо или фотографию той, что послала телеграмму. Негодяйка! Проклятая! Чтоб ее молния поразила!.. Ничего не нашла. Она сняла с ремня пистолет сорок пятого калибра с инкрустациями из перламутра на рукоятке и длинным вороненым стволом, положила на ночной столик около постели, где стоял приемник.
Ей не давал покоя вопрос: почему он сегодня пришел к ней? Этот вопрос словно повис в воздухе, как колибри над цветком, словно парил меж ресниц. Зачем он пришел? Ищет сочувствия, потому что ему плохо? Ищет любви, потому что ее любит? Неужели малярия оказалась сильнее останков покойника, что послала с мулатом бросить перед дверьми ее дома та, неизвестная, отправившая телеграмму? Ведь та посылала свой зловещий дар, чтобы вырыть пропасть безразличия и вражды между ними, а если бы ей не удалось разлучить их, то она попыталась бы вырыть пропасть вечности между ними. Если не разочарование в любви, так смерть. Будто тяжкий приговор обрушился на них. Ложные догадки, предрассудки. А если она сама захватила врасплох мулата, сама вырвала у него кости из рук! Приговоры исполняются. И вот сейчас ее возлюбленный здесь, лежит, похожий на покойника! Глаза ее заволокли слезы. Разочарование в любви или пропасть вечности? Что лучше? Почему же, бог мой, они должны разлучиться, забыть друг друга или умереть — почему? Кто из них должен умереть?… Нет, это не ладони были сомкнуты в порыве отчаяния. Это было сердце, разорванное пополам, и прикосновениями пальцев она пыталась сшить обе его половинки. Разве у той, неизвестной, сил больше, чем у нее? Почему тогда та призывала на помощь покойников? Потому что, как ей говорила Тонина Сансивар, нет никакого средства против земли с кладбища, если ее соскребут со дна могилы после черной мессы? И эта собака с помощью мулата вершила свое дьявольское дело при свете луны — тогда, когда полнолуние сменяется последней четвертью — голая, спереди налеплены светляки, пониже спины — дохлая летучая мышь, груди обрызганы каплями жабьего яда, а к животу над пупком привязан портрет Педро Доминго Саломэ…
Обо всем этом поведала ей Тонина Сансивар, старая кумушка с пропитым голосом, как у того зобатого бродяги. Она сказала ей, что почти нет средств против заклятия, если взять земли у покойника и высыпать ее перед дверьми или на пороге дома, ибо тогда один из двух должен погибнуть, если они не позабудут друг друга, если не разлучатся, если не перестанут любить.
По-матерински склонившись над капитаном и вглядываясь в его лицо, еле-еле сдерживая рыдания, она приблизила губы к уху возлюбленного, горевшего в лихорадке, и стала просить, чтобы он покинул ее, чтобы забыл ее, чтобы не думал больше о ней.
Клара Мария тяжело вздохнула. Опустошенная, разбитая, она понимала, что теряет все, разлучаясь с человеком, с которым провела лучшие годы своей жизни, и уже не сможет удержать его, даже если и попытается — даже если и попытается, все равно она потеряет его: он будет обречен на смерть. Лучше!.. Лучше пусть умрет!.. Эти страшные слова она едва не произнесла вслух. Резким жестом, тыльной стороной руки она провела по губам, точно хотела убедиться, не сорвались ли случайно эти слова с губ. Легла рядом с ним и шептала ему: «Любовь моя, вы слышите меня? Я вас теряю… — Она говорила ему „вы“ из какого-то кокетства. — Вы знаете, что я вас теряю?… Подумайте, красавчик, подумайте, сколь велико мое самопожертвование…» — и вдруг ей самой стало тошно от этих слов, от этой льстивой лжи. Самопожертвование?… Комедиантка!.. Хочешь не хочешь, а потеряешь его, нет, все равно он не сможет остаться с тобой, с Кларой Марией, той самой, из кабачка «Был я счастлив», — вздохнула она, вздохнула, еще раз вздохнула, — …останется с той, другой или со смертью… — опять вздохнула она. — Чем удержать его?… Конечно, много, слишком много совпадений, и нельзя не поверить Тонине… а вдруг это простая случайность?… Надо бы вспомнить, когда появился мулат, чтобы посеять землю покойника перед ее дверьми — до того ли, как была получена телеграмма и ушел Педро Доминго? Или после? А телеграмма… почему не доставили ее в казарму? Разве это не случайность, что телеграмму принесли сюда?… Ведь она всегда наводила о нем справки у караульных, посылала ему записки или просто вызывала его, почему же она не сделала этого теперь, не потому ли, что земля покойника парализовала ее? Не для того ли, чтобы отомстить капитану за обман, чтобы удовлетворить свою страсть — души, а не тела, — она связалась с этим юным рыжим гринго с голубыми глазами и даже пустила его в свою постель?… Ха-ха! Джаз, джаз!.. Но бесполезно сейчас ломать голову над тем, чего уже ни исправить, ни изменить. Что было, то было. Вероятно, из копчика покойника был пепел, посеянный перед ее порогом. Как случилось, что она искала забвения с тем щенком!.. Была холодной, пошла по сходной… Она чуть не рассмеялась вслух, даже в горле защекотало, когда вспомнила: джаз-джаз-джаз!..
— Прости меня, — сказала ей Тонина Сансивар напоследок. — Разбила я твое сердце, но не могла скрыть от тебя, насколько мрачно все это. И только ты можешь исправить дело, если смоешь кровью или огнем «тоно» покойников, подброшенных тебе. Кровью надо смыть, кровью того, кто сделал тебе зло, или огнем, в котором тебе самой придется превратиться в пепел, — поджечь самое себя и сгореть. Когда на человека падает это «тоно», очень трудно от него избавиться. Кровью или огнем! Что касается нас, «тоно» это, как и душа, всегда с нами, оно важнее души, сопровождает нас и после смерти.
Тонина зажгла сигарету — табак в туго завернутом высохшем маисовом листке — и потягивала ее, едва прищурив выпученные глаза, даже веки не прикрывали глаз. Затем назидательным тоном, окутав слова табачным дымом, добавила:
— Когда мы родимся, нам дается душа, и «тоно». И оно более близко нам, чем душа. Сейчас я тебе разъясню. В предчувствии смерти душе становится страшно, и она улетает, уходит, исчезает, до того как труп станет холодным, а «тоно», наоборот, остается, продолжает оставаться с нами, потому что «тоно» — запомни раз и навсегда — это запах животного, данный каждому, каждый христианин пахнет каким-нибудь животным, это и есть запах — его «тоно». Понимаешь?… (Единственное, что дошло до сознания Клары Марии: вместе с возлюбленным она потеряет все — и душу, и «тоно», все…) И вот тебе, дитя мое, подкинули «тоно» покойника, подкинули под порог, в щель, куда не проникают, уверяю тебя, бедняжка, ни воздух, ни свет, ни солнце, где может лежать все гнилое, все червивое, все окаменевшее, все, что стало прахом несчастных покойников…
Потирая высохшие руки, не выпуская изо рта потухший окурок, Сансивар сказала:
— Вот и сделай вывод. Твое тело как бы разрисовали известкой костей скелета! Ты должна понять, что на тебе «тоно» покойника, и не одного, а многих, многих покойников! Если бы только один был, можно было бы помочь тебе — надо было бы лишь узнать, какое «тоно» было у покойника. Но зло, которое тебе причинили, можно поправить только кровью или огнем. Не давай больше сыпать кладбищенскую землю перед твоей дверью, а если это случится — и мужчину от тебя оторвут, и жизнь свою потеряешь…
Вернувшись домой, она перетащила постель, ночной столик, радио, джутовый коврик, тазик, образ святого Хоакина с младенцем в угол комнаты, к окну, чтобы видеть, что делается перед домом. И если мулат придет еще раз, то уже не уйдет отсюда. Исцарапать его, искусать, изрезать ножом, изрубить мачете, что лежал на кухне, — пока не омоет он своей кровью землю и не смоет «тоно» покойника… и если та, что посылала телеграмму, будет и впредь посылать их, то ей придется посылать их мертвецу, хотя ее, Клару Марию, мертвец совсем не устраивает…
Она погасила электричество и зажгла светильник. Ее возлюбленный спал, изнуренный лихорадкой. Придется разбудить его, чтобы натереть спиртом с хиной, а потом пусть еще поспит, прежде чем идти в комендатуру… Бедный, бедный, он даже пришел в своем лучшем мундире. К каким часам ему нужно быть в комендатуре? Если рано утром, то это не страшно. Однако по радио передают такие сообщения — как это позволили ему уйти? А быть может, он сбежал? Во что-то впутан? В свое время он не добился повышения в чине и, быть может, сейчас представится подходящий случай?… Она с грустью смотрела на него. Подходящий случай для него и… не для нее… для другой… Если в чем-то попался… Эти военные всегда погибают стоя. Но рисковать сейчас, когда он так болен… И что с ним? Быть может, этот жар не от малярии, может, у него какие-нибудь неприятности? От этого разболелась печенка, а потом расходились нервы. Да, это, должно быть, так. Он во что-то впутан. Что-то он и раньше говорил. Раньше, когда была любовь, а сейчас ее почти уж нет, завтра же и вовсе ничего не останется. Раньше они говорили не так, как потом, когда он приходил, раздевался, ложился… Как животные… конечно, и от слов устаешь, и все всегда кончается одинаково… или… или… быть может, уже не о чем было говорить, совсем как те скоты, которые скалят зубы и полагают, что смеются; которые хватают женщину и считают, что любят; которые, когда они рядом с тобой, думают, что они действительно близки, а на самом деле — аи, боже мой! — дальше, чем луна от солнца. Раньше — да, — он был такой общительный, разговорчивый, рассказывал ей о службе, о карьере, о повышениях, и хотя не дали ему чина выше капитана, он часто с гордостью говаривал: «Для военного жить значит служить! Единственный порок у военного — это служба!»
При этих словах она всегда заливалась хохотом, опрокидываясь навзничь… А совсем недавно, когда она напомнила ему эти слова, он отрезал: «Это я говорил? Я был, должно быть, слишком пьян или слишком юн! Для военного жить значит служить? Ха, то же самое, что быть слугой в ливрее или лакеем, все равно!..»
А если не будить его — просто расстегнуть мундир и рубашку и растереть? Зубы больного выбивали мелкую дробь. Жар сменился ознобом. Она поискала, чем укутать его. Накрыла. Подумала о том, что было бы хорошо приложить к ногам горчичник, следует принять все меры против болезни. А вдруг и в самом деле он замешан в каком-нибудь опасном деле — сейчас все говорят о падении правительства. Галуны нелегко достаются. Разве сможет он, обойденный по службе капитан, получить другой чин, вытягиваясь перед Зевуном или бренча на гитаре с этими Самуэлями, которые так не нравились ей — она и сама не знала почему. А теперь, должно быть, во что-то впутан… Теперь он, пожалуй, станет полковником, не ниже, и его… их… переведут в столицу… Поэтому благоразумнее не напоминать о телеграмме, не заводить скандала… да, да, их переведут в столицу — с ней или с другой, быть может, там ее не достанет «тоно» покойников.
А если послушать радиоприемник — тихонько… Включила и мало-помалу стала усиливать звук… быть может, передадут сообщение… искала, искала, искала… ничего, кроме военных маршей… странно, что в эти часы не передают обычную программу… марши… марши… марши… марши… мар… Забывшись, Клара Мария, вместо того чтобы приглушить звук, увеличила громкость — и ее окатил душ джазовой музыки, напомнив о юном гринго с голубыми глазами. В ту же секунду она выключила радио… Закрыла глаза, а сердце билось — билось в груди…
«Прекрасное имя — Боби Томпсон!.. — подумала она. — Должно быть, уехал. Только поэтому и уступила ему во второй раз… Только поэтому?… Э-эх, себя обманываешь, ты же ему уступила, потому что он тебе нравится! Нет, нет!.. — Она даже покачала головой, обращаясь сама к себе: — Богом клянусь, что нет! Первый раз — да, не стану отрицать — это было сумасбродство, каприз, захотелось быть с ним, захотелось быть только с ним, „самоизоляция“, так, кажется, говорил тот учитель, гнусавенький, которого арестовали за то, что он агитатор, а кого он агитировал, только ораторствовал без конца перед бутылкой спиртного — пить или не пить. Да, в первый раз — да, я чуть сама не позвала юнца-гринго, а вот во второй раз… он ведь уезжал, надо было проститься с ним, как это делают современные люди, под джаз:…vanguard jazz…» [53]
Bye-bye! [54] — он, должно быть, уже уехал, далеко, а сейчас остается только вспомнить его — и рядом со своим мужчиной, который уже был не «ее мужчина», он принадлежал другой, а может, и костлявой с косой. Надо смириться с мыслью о потере, если не хочешь страдать и страдать. Смириться? Но на ней заклятие — и в этом виноват мулат, который подбрасывал кости по приказу той, проклятой, пославшей и телеграмму, и останки покойника. По спине побежали ручейки пота. Нет, это не истерика, это слезы. Она плакала всеми своими порами, как плачет душ или лейка… ах! Если бы можно было смыть с себя этим потом, этими рыданиями проклятие могильной земли, тяжелым бременем давящей на ее плечи. В каком-то журнале она читала историю одной мумии. Вот Сансивар, Тонина Сансивар, не сумела или не пожелала объяснить ей научно, что с ней творится, а ведь она обращается в мумию… мумию… она — мумия, а та, другая — живая!.. Быть вместе с мертвыми?… Что-то об этом говорила ей Тонина Сансивар, говорила под большим секретом, и, быть может, слова ее имели двойной смысл… Прах покойника бросили на нее, чтобы не оставить места живому… ха, ха!.. а у нее хватит места и для всех покойников, и для всех живых!.. Но сейчас не в этом дело, надо принять все меры, чтобы не обратиться в мумию…
Она откинула волосы, упавшие на лицо, и встала. Прежде всего двигаться, не лежать, не сидеть как мумия на краю постели перед выключенным радиоприемником. Жизнь — это движение. Поднимешься — и сердце бьется. Этот мулат, должно быть, бродит тут, рядом, зная, что ее любимый вернулся, и снова попытается подбросить кости покойника. Она быстро подошла к двери и резко распахнула ее. Никого. Вздрагивают звезды в небе. Вздрагивает ее тело. Ночь горячая, влажная, душная. Если она встретит его, то убьет, убьет тем маленьким мачете, что лежит на кухне. А сейчас надо подождать, подождать за дверью, здесь, рядом с деревянным крестом, на котором вырезано сердце Иисусово, и рядом с образком Гуадалупской девы, который подарил ей падресито Феху и который она украсила освященными букетиками. Если встретит мулата, она убьет его — кровью смоет проклятие, висящее над ней. Никого. Никого. Даже не верится. Сердце бьется сильно, и явь уже не кажется явью. Она положила мачете в угол, туда, куда она обычно его прятала; провела рукой по лбу, стараясь успокоиться. Сейчас, кажется, стало лучше. Лучше. Во имя справедливости она чуть было не совершила преступление, но какие законы или кодексы могли бы наказать тех… Разве существует смертная казнь для цех, кто крадет чужую любовь, кто наносит удар в спину? А ведь любовь во много раз важнее, чем жизнь. Разве можно сравнить настоящую любовь, любовь, в которой ты находишь спасение от всех горестей, от будничной жизни, с той любовью, которую изображают в театре или о которой пишут в книгах? Тем серьезнее преступление той, которая покушается на чужую любовь. Тем серьезнее преступление той, которая прибегает к таким средствам ради достижения своей цели. Даже в кино она подобного не видала. Вступить в союз с покойниками, с прахом покойников, с ночью, потому что ночью можно причинить больше зла. Вступить в союз с тенью, с тьмой, с мраком, с кровавым мулатом, которого она прогнала прочь. Дверь ее дома лишь приперта, не закрыта на ключ или на щеколду, чтобы поскорее, одним ударом распахнуть ее и захватить врасплох мулата, если тот опять придет колдовать. На этот раз ему не уйти. Но откуда это предчувствие? Почему ей кажется, что именно этой ночью мулат придет? И она подумала о любимом… Шаги? Она прижалась ухом к двери и замерла, затаив дыхание. Да, ясно слышны шаги. Пусть подойдет… Она не схватила мачете, чтобы броситься на мулата и отрубить ему голову. Она вдруг увидела, что больной, лежа на постели, пытается ногами сбросить простыню… как будто хотел уйти, уйти от нее, уйти к той, которая послала телеграмму. Он что-то бормотал, с кем-то прощался, но слов нельзя было разобрать в лихорадочно дробном стуке зубов.
Клара Мария подошла к больному, прислушалась к обрывкам слов, которые вырывались у капитана Саломэ, и эти кусочки слов представились ей костями — ей все не давали покоя кости, что она нашла у мулата в кармане той ночью, когда застала его сеявшим зло перед ее дверьми. Кружилась голова, кружилась даже от тусклого света светильника, поглощающего собственный свет; кружилась голова — как бы сквозь туман и мрак уплывало в неизвестность ее мумифицированное тело — зеленое лицо, гладко причесанные волосы, отливающие мертвым глянцем скулы, застывшая гримаса искривленных губ, засушенная улыбка. Она не поняла вначале, что бормотал капитан, и только после, подумав и попытавшись связать слова, которые ей удалось расслышать, уяснила, что действительно он, кажется, в чем-то замешан и что эту форму надел в ночь на 29 июня только потому, что…
Может быть, удастся выяснить что-то из сообщений радио? Она снова включила бы радио, но опасения опять услышать джаз подавили ее любопытство, а услышать джаз — это как бы упасть в объятия юного гринго… именно сейчас, когда у нее находится он, ее мужчина. Вздохнул светильник — вздохнула и она; светильники вздыхают только по душам неприкаянным, она же вздохнула, вспомнив Боби. Это было безумие, когда он пришел во второй раз. Превратил ее в какую-то жевательную резинку, гибкую, липкую… Мумия? Мумия — она? Быть может, мумия — для этого офицеришки, который все никак не мог шагнуть выше капитана, и всякий раз, когда его товарищи получали повышение, он, казалось, получал понижение и казался самому себе не человеком, а пичужкой. Вот для него — да, она была мумией, самой что ни на есть настоящей мумией! Но она не была мумией для мальчишки с голубыми глазами, — никогда она близко не знала людей с голубыми глазами, только чувствовала их на расстоянии, — для этого юного гринго, который возродил в ней молодость, она снова стала живым существом, безудержным и буйным…
— Отпустите меня!.. Отпустите меня!..
Только сейчас она поняла, что обнимает не гринго, а капитана… и она отбросила его, как пылающий уголь. Он и впрямь пылал, как уголь: беднягу сжигал жар.
— Отпустите меня!.. Отпустите меня!.. — продолжал твердить в бреду больной, не пробуждаясь; похоже, он пытается освободиться от кого-то, кто придавил его, не позволяя шевельнуться.
— …других нет… нет… — бредил он, — других нет… только я… отпустите меня… отпустите… только я… Компания и правительство… Сокрушить их… кажется сном… — Как бы набираясь сил, он пожевал губами и повторил: — Кажется сном… кажется сном… Проклятый?… Ах, так… нам заплатишь!.. — Внезапно четко произнес: — К чему чины, если во мне не нуждаются?… — Легкий стон сорвался с его губ, он с трудом вытащил из-под себя левую руку — он продолжал лежать ничком — и стал ощупывать онемевшими пальцами вышивку на подушке. — Нет… нет… Самуэлон, этот пассаж у меня не получается… — Он шевелил пальцами на подушке. — Другой рукой лучше… полными аккордами?… Плохо слышу… аккордами?… От огненных струй факелов — к струнам кишок… — Он понизил голос до шепота, словно боялся, как бы его не услышали… — От факелов — к струнам… в этот день он заплатит за все… сполна… никаких повышений… чтобы только не сдвинули с места — чтобы оставили в банановом феоде со своими двумя капитанами и двумя сотнями солдат… а теперь что за важность, Самуэлон, что за важность, Самуэлон, что за важность, если не столь точно будем следовать нотам, раз повышаем тон… полутон… полутона мы понижаем, и уже слышно, как поднимается толпа… народ поднимается, добирается до последних… народ даст повышение…
Клара Мария разомкнула губы, но не проронила ни слова. Послышался такой звук, словно лопнула паутина слюны. «Что-то заваривается против полковника, — подумала она, — против Зевуна». Ладонью она приподняла горячие, липкие волосы, не отдавая себе отчета, зачем это сделала, — хотя, быть может, просто захотелось почесать голову. Почесала в голове, надеясь, что зуд пройдет, а зудело где-то внутри, и, растрепав волосы, черные, блестящие от пота, она начала заплетать косу…
Ей стало страшно — Педро Доминго лежит как мертвец, закрыв глаза, лицо неподвижное, ни кровинки, при тусклом свете светильника кожа похожа цветом на пемзу. Он приподнял руку, так и застыла она в воздухе, откидывая тень на стену… Разбудить его… Встряхнуть его… В таком почти бессознательном состоянии вряд ли он может даже шаг шагнуть… Она прислушалась, не идут ли часы… Как будто остановились… Недаром говорят, что часы останавливаются или отстают, когда кто-нибудь бредит… Не стала будить его… Лишь опустила его руку… Не стала будить… Какие-то непонятные слова — может быть, слова любви? — тянулись с его языка. Напрягала она слух, все еще мучила ее слепая ревность, прислушивалась к каждому звуку, произнесенному им, и вдруг ей послышалось, что он назвал какое-то женское имя, может, это та, что прислала телеграмму, но она вовремя спохватилась: Роса, о которой он упомянул, это Роса из его любимого танго!.. Вздрагивают его ресницы, выбивают мелкую дробь зубы, и несет он сумасбродный бред от боли, от страдания…
А в сознании больного проносились образы живых людей: капитан, который учится играть на гитаре; Самуэлон, Старатель-забастовщик и революционер; Каркамо, один из двух капитанов, осужденных быть капитанами всю свою жизнь, чтобы не нарушить рутину в банановом феоде полковника Зевуна. Под аккорды гитары капитан-ученик все повторял и повторял — в отчаянии или вызывающе — слова танго: «Роза пламени со всеми развлекалась…», не то; «Роза пламени, счастливая, смеялась…» Х-ха!.. ха…
Клара Мария слышала хохот и не понимала, почему он смеется, почему вдруг вспомнил это танго, и не могла сообразить, что насмешливый хохот этот входил тоже в напетое танго.
— Бедняга, — сказала она с жалостью. — Бог знает, в какую историю он впутался! Смех этот не от хорошей жизни… плохо, если он связан с забастовщиками, а правительство не падет, и плохо, если он защищает правительство, — это, конечно, его долг, — а победят забастовщики… — Она покачала головой. — Да разве может быть хорошо в нашей стране, и так худо, и так худо…
— Ха… ха… ха… — хохотал больной, — ха… ха… ха… ха… ха… ха… ха… Нет, Самуэлон… нет, Самуэлон!.. Быть гражданином этой страны — это не значит родиться пеоном, иностранец уже не выступает па… па… трон… — В этот момент капитан так резко повернулся, что если бы она не подхватила его, он упал бы с постели.
Она подхватила его чуть не на лету, положила голову на подушку, стерла пот со лба, с носа, с век, с подбородка — отерла все лицо платочком, распространявшим аромат духов, и слегка похлопала его, как ребенка, чтоб крепче уснул. Конечно, здесь он вне опасности, а на улице, если он действительно впутан во что-то, — он, бесспорно, в чем-то попался, на улице его могут убить.
Она разделась. Но и это не спасало от жары. Места не находила женщина. Ей представлялось, что все окружающее каким-то тяжким бременем повисло над ней, не касаясь ее, точно темные тучи. Взмахнула рукой, словно желая отогнать наступающую на нее мебель — движутся на ножках столы и стулья, вышагивают часы, тикающие, точно механическая мошка, и на нее сыплется прах мертвого времени… Снова ее охватили раздумья, но она уже не в силах была о чем-либо думать. Погасила светильник и пристроилась рядышком со своим возлюбленным — в карете сна можно умчаться от любого зла, так хорошо покачиваться на мягких рессорах дремоты, — однако взгляд, уже помимо ее воли, опять обратился к двери: вдруг явится мулат? Это более чем вероятно, ведь он знает, что капитан вернулся, находится здесь. Но сейчас мулат живым не уйдет! Защищая свою любовь и свою жизнь, она была готова на все. Нет, живым он не уйдет.
XXXIX
— Спокойной ночи!.. — раздавалось в «Семирамиде». — Спокойной ночи!.. — Прислуга расходилась по домам. — Спокойной ночи!.. — Все ложились спать: завтра утром рано вставать, в Чикаго уезжают дон Хуан Лусеро с Боби Мейкером Томпсоном.
Только дон Хуан будет сопровождать Боби Мейкера Томпсона. Остальные члены семейства Лусеро остаются в Тикисате.
Бежать отсюда, решил дон Хуан, нет необходимости, надо лишь поспеть вовремя, чтобы ставший жертвой рака, полупарализованный, а теперь к тому же заболевший воспалением легких Зеленый Папа, этот пират, ныне плавающий в морях морфия, успел взглянуть на юного внука — белокурого и голубоглазого. А Боби в это время покачивался в кресле-качалке, забытом на террасе. Нараставшее беспокойное чувство приводило его в отчаяние, хотя он знал, чем оно вызвано, но не хотел себе признаться в этом — и, откинув голову на спинку и ухватившись за подлокотники качалки, пытался забыться, не чувствовать запахов ночи, пьянящего аромата цветов, листвы и травы в росе.
Эти запахи. Этот мучительный запах, нет никакой возможности избавиться от него. Он глубоко вздохнул, наполнил легкие воздухом, попытался освободиться от неприятного ощущения, а тут еще затекли ноги, мучили смутные и неодолимые желания, как он ни старался подавить их… и он качался, качался в кресле-качалке… Что же делать?… Куда пойти?… Впрочем, он знал, куда, но…
Он зажмурил и вновь открыл глаза, не прекращая покачиваться на кресле, каждый раз отталкиваясь ногой — с каждым разом все легче и легче, — откидываясь на спинку, откидывая голову на спинку, чтобы свободнее было дышать. Да, так было легче. Засунув руки в карманы брюк, он чувствовал сквозь ткань, влажную и грязную, как пульсирует, бушует кровь в реках без устья.
Что же задерживало его?… Она не ждет его? Ну и что ж, пусть будет приятный сюрприз… Ага, он сказал ей, будто уезжает сегодня, 29-го, а сам уедет только завтра?… Тем лучше!.. Они попрощаются… снова ритмы джаза!..
Он поднялся, словно огонек взметнулся, словно он сам себя поджег спичкой. Но тотчас же решимость покинула его, и он опять бросился в качалку. Промелькнула мысль — проще простого: надо расстегнуть ворот рубашки, голову опять откинуть на спинку, надо передохнуть. Руки, как когти, вцепились в подлокотники кресла. Было страшно идти одному в эту знойную ночь побережья. Вслепую, с закрытыми глазами, проникнуть в черную лихорадку кипящей и бурлящей ночи, где тебя подстерегают жестокие шипы и колючки, где предательски манят к себе орхидеи на мхах и папоротниках, прикрывающих бездонные провалы и ямы, где что-то хищное летает, ползает или бродит беспрестанно.
И другие страхи привязывали его к креслу. Родные и друзья — а у миллионеров всегда много родных и друзей — приходили прощаться с доном Хуаном Лусеро и рассказывали — как страшные сказки, сеющие в душе тревогу и страх, — о том, что происходит в стране. По слухам, в эту ночь в стране должны произойти важные события. И еще никому не известно, подаст ли в отставку «сильный человек». Они оказались брошенными на произвол судьбы, когда этот болван Зевун оставил солдат в казармах и, вместо того чтобы защищать интересы Компании, решил спасать свою шкуру — ему наплевать на то, что бандиты, — а у них кони! — вовсю распоясались, нападая, поджигая, насилуя, вешая людей на деревьях и телеграфных столбах. Приближенные дона Хуана Лусеро — ведь он уезжает — шептали ему на ухо, что они завидуют ему, что они поздравляют его с тем, что он увозит Боби. Чем дальше, тем лучше. К чему нести ответственность еще и за внука президента Компании? Да, чем дальше, тем лучше. Забастовщики, как только увидят, что они проиграли, постараются похитить его. Мальчуган такой непослушный, бродит, где хочет, и делает, что только взбредет ему в голову. А если его похитят, они потребуют в виде выкупа удовлетворить их требования и даже больше. В таких случаях тормоза не действуют. Впрочем, это еще не самое худшее.
Дед! Дед! Вот взглянет он в глаза внука — и отдаст забастовщикам все, что те ни попросят, — отдаст им все свои акции в Компании — при мысли об этом Лусеро настораживались, — лишь бы внук вернулся живым и здоровым. Ведь это мать послала его сюда. Старик не хотел. Опасаясь, что японцы или немцы будут бомбить Чикаго, мать отправила мальчика на плантации. По крайней мере хоть там — прикидывала истеричная сеньора — не погибнет, спасется семечко Мейкеров Томпсонов, наследник его Зеленого Святейшества. Эта женщина была истинной представительницей семьи Томпсонов, даже перещеголяла всех их, недаром Боби был удивительно похож на того просоленного пирата, который в былые времена не щадил побережье Карибского моря и не щадил людей — берег моря человеческого страдания.
Некоторые считали, что Компания уже не сможет с прежней решительностью вести борьбу против забастовщиков: а вдруг что-нибудь случится с Боби? Да, да, пусть его увезут. Чем дальше, тем лучше. Завтра они улетят. Полетят в двухмоторном самолете. Если бы не эта тьма, можно было бы разглядеть самолет на взлетной дорожке — пустыре между плантациями, — вырисовывавшийся на фоне банановых листьев, как огромная стрекоза.
Боби устремил взгляд голубых глаз в ночную тьму, замершую в молчании, которое нарушали лишь совы, пролетая со свистящим завыванием ветра; тьму ночи не нарушал огонь, зажженный человеком, — только звезды да светляки, светляки да звезды, а все остальные обитатели, казалось, исчезли, и земля погрузилась в свой вечный сон. Боби, встревоженный, встал. Прошел по террасе из конца в конец. И вся терраса окутана мраком. Куда идти, зачем искать что-то там, на горизонте, где поднимается молочная пелена над зданиями Компании? А кругом все тонет во мраке. Во мраке — комендатура, во мраке — улица поселка, во мраке — железнодорожная станция. Лучше пойти спать. Он зажмурил глаза — и ему стало стыдно перед самим собой. Зачем идти в свою постель? Он быстро открыл глаза и стал искать, искать, искать в этой беспредельной темноте, в перешептывании листьев, в легком звуке скатывавшихся со лба капелек пота, в слюне, которую он сплевывал и сплевывал, в ограде из агав и пиньюел… ему виделись маисовые поля и белый домик на краю насыпи… Пусть она не ждет его сегодня, но все же выйдет на порог, услышав мелодию джаза, которую он просвистит, выйдет ему навстречу, счастливая, что он не уехал.
Он растянулся на краю постели в одежде, не зная, что предпринять — уйти или остаться…
Не подымаясь с кровати, разделся. Все его приводило в отчаяние, сердило, возмущало, раздражало. Оторвалась и покатилась куда-то пуговица — никак не пролезала сквозь петлю. Боже мой, как трудно снять с себя рубашку, когда лежишь! И стянуть штаны. Какие-то странные движения. Барахтаясь, будто ребенок, который пытается освободиться от пеленок, он кое-как высвободил ноги. Белье падает на стул, стоящий между его кроватью и кроватью Петушка Лусеро, который спит рядом. Очередь за башмаками. Один. Другой. Затем носки. Освобожденные пальцы растопырились веерами. Возникло ощущение, что это кончики магнитов. Он поджал их, но было уже поздно. Его парализовал какой-то толчок. Боби притих и лежал без движения. Он внезапно вспомнил запах той женщины — этим запахом пропиталось его тело. Оно передало запах постельному белью. Он вспомнил ночь, когда наслаждался ароматом ее тела, ласкал ее, познавал ее тайны… И тут же понял, что сейчас он — без нее и с ней — остался ее запах, глухо отдавалось эхо ее голоса, в памяти возникли и отблеск ее улыбки, и жест руки, поднятой к волосам, ее взгляд…
В соседней спальне — слышно было — тихо беседовали братья Лусеро, время от времени они покашливали.
— Забастовки не будет… — произнес один из них сонным голосом, как бы нехотя.
И эти три слова «Забастовки не будет…», «Забастовки не будет…», «ЗАБАСТОВКИ НЕ БУДЕТ…» — захватили сознание Боби, оглушили его. «Повесят их?… — спросил он себя. — Повесят забастовщиков на дымок пулеметов?…»
Немного погодя, когда казалось, что братья уже уснули, до него донеслось:
— Я не оптимист… (Кто же это говорит, не дон ли Хуанчо?), но я человеческое существо и как человек говорю, что единственно гарантированное из всего в этом мире и… в потустороннем… — это — сомнение…
— И поэтому… — прозвучало в ответ, — уверяю тебя — забастовки не будет. Мы выиграем, ты же знаешь, что вожаки забастовки нарочно вовлекли людей в профсоюз, понимая, что это может захлопнуть двери перед каким-либо соглашением. Однако управляющий сообразил сразу — он принял делегатов пресловутого профсоюза трудящихся Тикисате и дал им понять, что пойдет навстречу всем их просьбам и требованиям, если они не поддержат подрывную забастовку в Бананере, которая должна начаться завтра в ноль часов. И люди из делегации — одни по собственной воле, а другие нехотя — приняли предложение управляющего как начало разрешения конфликта. Последнее слово предоставляется общему собранию рабочих, которое проводится завтра ночью и на котором, как я понимаю, будут присутствовать два полномочных представителя Компании. Эти гринго — практичные люди, знают, что крохоборством не выиграешь…
Боби засовывал голову под подушку, чтобы не слышать говоривших, отделаться от голосов, доносившихся из соседней комнаты, чтобы ничего не мешало ему мечтать о той, аромат которой он ощущал. Ах, если бы она была здесь! Ему доставляло удовольствие гладить, сжимать, растирать, чуть не рвать накрахмаленную простыню, с силой тереть ею лоб, щеки, ноздри, подбородок, на котором выступал золотистый пушок. Странная вялость. В соседней комнате братья уже смолкли, но их последние слова — «Хорошо, опасность, к счастью, исчезла, самое главное — загорелись огни!» — продолжали отзываться в ушах Боби, и он повторял про себя: «Если опасность исчезла, если загорелись огни, так почему я здесь!..» Он повернулся — лежа на спине легче думать… «Почему я здесь?… Старики уже уснули… А что, если добраться до домика на насыпи, просвистеть джазовую мелодию?… Почему я здесь?… А если я оденусь… Конечно, чего еще раздумывать… меня никто не услышит, как выйду… посвищу… она открывает дверь… какие ножки!.. А если разбудить Петушка Лусеро, чтобы проводил?…» Он уже потянулся к спящему приятелю — кровати стояли близко, однако, едва прикоснувшись к горячей потной руке… отказался от своего намерения… Лучше оставить записку на столе… открыть ему секрет… адрес… дом… намекнуть…
Голышом он прошел на террасу и остановился, пораженный. Это была не та ночь, которую он только что видел. Это уже не была ночь на 29 июня. Совсем другая. От зданий Компании — его Компании (временами в нем пробуждался Мейкер Томпсон) — поднималось зарево огней, оно разлилось по всему горизонту, отблеск падал светящимся ливнем на банановые плантации. Опасность миновала. Явно. Даже собаки лаяли по-иному. Они лаяли, но в лае уже не ощущалось тоски и страха, как это было, когда господствовал мрак. Чувствовалась свежесть рассвета. В здешнем пылающем климате это как бы перевал: единственные часы, когда можно дышать.
Он быстро оделся — так поспешно, будто его одевало множество рук. Хотел было разбудить Петушка, да некогда… Нужно скорее выйти из дому, скорее погрузиться в утренний туман, в горячую траву, в зелень, ощутить под ногами влажную землю, идти, идти, идти, освобождаясь от самого себя, покидая тюрьму, идти навстречу счастью…
Клара Мария наконец-то забылась в счастливом сне. Она потрогала возлюбленного, лежавшего рядом, — так давно он не спал здесь, — и прильнула к нему, словно вода к прибрежной скале. Бессознательно она прислушивалась ко всем звукам, доносившимся с улицы… Свежесть рассвета. Единственный час, когда на побережье можно спать. Если вообще можно говорить о сне. Хоть остаток ночи — поспать. Но… что это?… Кто-то бродит возле дома. Нет, на этот раз ей не почудилось. Может, кто-нибудь шпионит — нет, не может быть. А впрочем, пусть шпионит — все равно темно. Она успокоилась, но тут же приподнялась, взяла край простыни, хотела натянуть ее… нет, нет, не натянуть, она сжала ее рукой. Села в ногах постели — скорее прислушивалась, чем вглядывалась. Вздрогнула. Совсем проснулась. Шаги мулата. Похоже, его движения, он опять сеет перед дверью кости мертвеца. К счастью, она босиком — не услышит он, как она подойдет. И дверь только прикрыта. Осторожно поднялась с постели. Потихоньку отошла. Рядом с дверью был мачете. На этот раз она выпустит из него кровь, смоет «тоно» мертвецов, которое мулат наслал на нее уже не для того, чтобы бросил ее капитан, а для того, чтобы она овдовела. Она остановилась. Стояла бесшумно. Что-то удерживало ее. На столике, на котором лежали спички и стоял светильник, ее рука нащупала какой-то предмет. Уже не медля подошла к двери. И стала стрелять, стрелять из пистолета в темную фигуру, пока не опустел магазин…
Выстрелы заставили капитана Саломэ вскочить с постели. Комната была полна дыма. Капитан подбежал к Кларе Марии и заметил тень, которая метнулась вверх по насыпи, зашаталась.
— Что ты наделала?
— Это мулат! Мулат!..
— Какой мулат?
— Тот, который подбрасывал к моей двери кости покойника!
— Если ты его не убила, то, должно быть, тяжело ранила!..
Молчание сгущалось. Вглядываясь в темноту, капитан сказал:
— Он там упал… Пошли!
Она не могла двинуться с места. И Саломэ один побежал к тому месту, где упал человек. Кто это? Он щелкнул зажигалкой, всмотрелся и сразу же вернулся.
— Убила?… — едва разжав окаменевшие челюсти, спросила Клара Мария каким-то мертвым голосом, в душе надеясь, что капитан скажет — нет.
— Да, но это не мулат…
— Кто?
— Внук президента Компании!
— Не может быть… он уехал… — И, спотыкаясь о камни, о корни, она пошла, нет, побежала, помчалась. За нею следовал капитан. Огоньком зажигалки осветил лицо Боби.
Руки и живот Боби были в крови, золотистые волосы пахли гарью. Меж полусомкнутых век отсвечивали бликами голубые глаза, полуоткрыты были губы…
Очнувшись, Клара Мария — она уже лежала в постели — услышала, как капитан мыл руки, натягивал мундир. Затем он подошел к ней и сказал:
— Я зажег свет, но ты этого даже не заметила… — Почему он говорит так, будто ничего не случилось, будто все это был сон, кошмар? — Мне пришлось тщательно осмотреть тебя, не осталось ли где-нибудь следов крови… на тебе, и у двери, и там, где он упал…
Клара Мария зажмурила глаза, две большие слезы скатились по ее щекам — нет, это был не сон, не кошмар, это была правда. А действительность не смоешь, как кровь…
— Сейчас, — продолжал капитан, застегивая последние пуговицы мундира, — я пойду в казарму, а ты не выходи из дому. Никто ничего не видел. Вина падет на забастовщиков или на бандитов, что бесчинствуют здесь. Если тебя спросят, если будут допрашивать, скажи — ты только слышала выстрелы, больше ничего.
— Дай глоток… — Она с трудом разжала губы. Капитан подошел к шкафу, достал бутылку коньяку с двумя стаканами.
— Я тоже выпью, — сказал он и наполнил стаканы до половины.
Она поднялась, дрожащей рукой схватила бутылку, налила свой стакан до краев и залпом выпила. Еще налила, коньяк даже плеснулся через край, и опять проглотила залпом со слепой алчностью убийцы. Алкоголь сразил ее. Она повалилась ничком — бессильная, безвольная, ногти вонзились в ладони, зубы — в побелевшие губы, по телу пробегала конвульсивная дрожь. Временами слышалось всхлипывание…
Капитан взял пистолет, запер дверь на ключ изнутри, а сам выскочил в окно.
Рассвет еще не наступал. Никогда не кончится эта ночь!
XL
— Ушел в отставку! У-ше-е-е-ел! У-ше-е-е-л!
Толпа кричала, повторяла хором. Металлические, бронзовые лица бедняков — вчера они были глиняными; черной пеной взлетают волосы — вчера они были безвольными нитями; львиными когтями стали ногти — вчера они казались вылепленными из хлебного мякиша; босые ноги бьют об асфальт, как конские копыта — вчера они скользили в неслышной походке раба.
— У-ше-е-е-е-л! У-ше-е-е-е-л! У-ше-е-е-е-е-е-л!..
Заполняя улицы и площади городов, отвоевывая их у солнца, разливаясь бурными потоками, толпа кричала, повторяла хором:
— У-ше-е-е-е-л! У-ше-е-е-е-л! У-ше-е-е-е-е-л!..
Одни плакали от радости, другие смеялись, третьи плакали и смеялись одновременно, четвертые, как Худасита, — ай, больше не увидит она своего расстрелянного сына! — молчали, утопив слова в рыданиях…
— У-ше-е-е-е-л! У-ш-е-е-е-л! У-ше-е-е-е-е-е-л!..
Поверить в это. Поверить. Вначале поверить — привыкнуть к мысли, что уже свершилось казавшееся невозможным. Убедиться, осознать, что это не улетучится вместе с произнесенным словом, не исчезнет при пробуждении, как сон. Люди вскочили сегодня рано утром с постели, испуганные, растерянные, накинув второпях что под руку попалось, спешили выбежать на улицу, выглянуть в двери или окна, желая услышать подтверждение новости. Беспорядочные шаги. Люди срываются с места, бегут, обгоняя всех и вся. Трудно поверить, а как уточнить, у кого спросить, верно ли то, что сообщило радио, — действительно ли президент подал в отставку, хотя в неумолчном гуле толпы волнами набегало:
— У-шел! У-шел! У-шел!
Услышать это. Мало услышать это. Сказать это. Мало сказать это. Нужно выкрикивать — кричать в это раннее утро, когда солнце уже выливало ведрами зной и повсюду разливался терпентинный запах. Зверь капитулировал. И это не был очередной маневр. Радио объявило о формировании военного кабинета.
— У-шел! У-шел! У-шел!
Все хотели слышать это, всем было нужно слушать это, сказать это, кричать это. И тому парнишке, который подъехал на рысистой лошади без седла, и старику, который очнулся от чуткой дремоты. И тому, кто вылезал из автомашины, и тому, кто поднимался в грузовик, и тому, кто работал, и тому, кто, бросив работу, присоединился к толпе:
— У-шел! У-шел! У-шел!
Братья и сестры, родители со своими детьми и дети со своими родителями, супруги, дяди и тети, племянники и кузены, зятья и тести, слуги жадно вглядывались друг в друга и, не говоря ни слова, онемев от радости, чуть не одурев от смеха и рыданий, бросались друг другу в объятия. Наконец-то они почувствовали себя воскресшими, живыми после многомесячномноголетней агонии под этой крышей, в этом доме. После молчаливого умирания каждый день, каждый час, каждую минуту, когда приходилось глотать свои слова и подавлять чувства, когда хотелось заглушить тоску домашней суетой или алкоголем, чтобы ни о чем не думать, ничего не ощущать…
Но не только родственники и друзья заключали друг друга в объятия. Незнакомые, никогда доселе не видавшие друг друга, крепко обнимались, крепко пожимали руки, празднуя, — они живы, они свободны!..
— Живые, свободные, и у себя дома!.. Пропустим еще глоточек!.. Давай еще обнимемся!.. Дайте-ка мне те пять лилий!..
Все возбуждены, устоять на одном месте невозможно, от возбуждения никто не стоит на месте, прыгают, все пришло в движение. Спелыми томатами покраснели глаза на солнцепеке; будто от едкого перца льются слезы; от всех пахнет агуардьенте, запах паленой кожи; из ноздрей, как из орудийных стволов, вылетает табачный дым; пальмовые сомбреро надвинуты на уши; струйками стекают усы…
— Без дураков, кто не с нами, тот сволочь! Хватит молчать — рабочему слово!
— Смерть гринго!
— Да здравствует Бананера! Да здравствует Тикисате!
— Долой гринго! Долой гринго!
— У-шел! У-шел! У-шел! У-шел!
Часовой не выстрелил в дона Хуана Лусеро и не уложил его тут же лишь потому, что в последнюю минуту тот послушался и остановился. Лусеро совершенно ничего не соображал от возбуждения, он был настолько взбудоражен, что шел, совсем не отдавая себе отчета, куда и зачем он идет. Резкий щелчок винтовочного затвора — еще мгновение, и его свалил бы выстрел в упор — заставил дона Хуана замереть на месте.
— В полицейском участке нет никого! — крикнул он часовому, губы его дрожали, он был вне себя от горя, скорби, испуга. — Ни полицейских, ни альгвасилов — никого! Единственная власть — комендант, мне нужно срочно его видеть!
— А чего тебе нужно? — Солдат обратился на «ты» к дону Хуану; часовой был неприступен, полон сознания собственной силы, прищуренные миндалевидные глаза холодно смотрели на дона Хуана, застежка каски затянута под подбородком.
Лусеро, уже не обращая внимания на то, что часовой продолжал держать винтовку на прицеле — солдат все еще считал, что незнакомец собирался ворваться в комендатуру, пояснил: сегодня на рассвете был убит внук президента Компании, а труп нельзя трогать без разрешения властей.
— Сегодня коменданта не увидишь, — отрезал часовой, и каска качнулась у него на голове. — Сейчас же убирайся, мне приказано стрелять…
У Лусеро мелькнула мысль о пуле, которая могла вылететь из винтовки, попасть в его сердце и отправить в вечность. Автоматически переставляя ноги, он отходил, не оборачиваясь, опасаясь, как бы часовому не взбрела в голову мысль выстрелить ему в спину.
Труп Боби уже лежал в гробу, в помещении управления. Его положили на металлический конторский стол — между телефоном, пишущей машинкой, арифмометром и машинкой для чинки карандашей.
— Компания все предусматривает, как предусматривает все и любое наше предприятие, действующее в тропиках, — заявил управляющий дону Хуану, который, опираясь рукой на плечо Петушка, никак не мог решиться взглянуть на деревянный ящик цвета слоновой кости. — Как видите, мистер Лусеро, на наших складах в любой момент есть гробы made in…
— Единственное, чего нам тут пока не хватает, так это электрического стула… — пробормотал, не то изливая гнев, не то пытаясь сострить, старший интендант, перемалывавший золотыми зубами табак. — Тогда забастовщики узнали бы, можно ли убивать безнаказанно…
— А по-моему, если позволите мне сказать… — произнес один из старых чиновников управления, не прекращая жевать чикле (чакла… чакла… чикле… чакла… чакла… чикле…), — а по-моему, это не забастовщики… какой им смысл?… (Чакла, чакла… чикле…)
— Да-а-а!.. — Не расставаясь с табаком, старший интендант пожал плечами и развел руками, будто развернула крылья птица, собирающаяся взлететь.
— Вина… — вмешался молодой служащий, уроженец Иллинойса, который грыз арахис, складывая скорлупки аккуратной кучкой на гроб. — Вся вина ложится на власти. Нет власти нигде…
— Чакла… чакла… чакла… чикле… — снова зачавкал чиновник, и непонятно было, то ли он просто жевал чикле, то ли произнес что-то, однако всем стало ясно, что он сказал: «Мистер Лусеро — вот кто виноват… — чикле… чакла… чикле… чакла… — знал мистер Лусеро, что для Боби опасно, что… — ча-кла… чикле — ча-кла — ча-чи-ча…»
— Опасность заключалась в том, что его похитят, и отлично… — проговорил молодой уроженец Иллинойса, зеленые глаза выделялись на лице такого же цвета, как гроб слоновой кости; говорил он и выплевывал хрупкие скорлупки арахиса, выплевывал в кулак и, похоже, насвистывал: «Развеяться хочешь, мой светик? Купи арахиса пакетик…»
— А что… — продолжал тот, что жевал чикле. — А что не забастовщики виноваты в его гибели, так вполне понятно. Они могли его похитить и потребовать выкуп, но убивать… нет.
— Я думаю, что дед не переживет подобного известия! Какое варварство! Варварство!.. — Дон Хуан Лусеро повернулся к ним, хотя на самом деле никого не видел и никого не слышал и, казалось, разговаривал с призраками, да и сам он стал каким-то другим Хуаном Лусеро, фигуркой из мутного стекла.
— Сообщение было передано по телеграфу со всеми подробностями, — сказал старший интендант, и в уголках его рта зажелтели подтеки от разжеванного табака.
— Адресованное… ко… — поспешно спросил Лусеро, и оборвавшееся «о» осталось в открытом рту солоноватым следом высохшей слезинки.
— Ко… му? Матери! Матери! — успокоил его старший интендант, понимая, что Лусеро взволновали вовсе не какие-то сантименты: вдруг старик, узнав о случившемся, запросто аннулирует то, что он обещал Хуану Лусеро оставить по завещанию, если тот будет хранить Боби как зеницу ока?
Дон Хуан Лусеро глубоко вздохнул, вытащив платок из кармана, вытер пот. Он поджидал Петушка, которого послал в «Семирамиду» разузнать, нет ли новостей из столицы.
Чикле… чакла… чикле… чакла… — ритмично раздавалось у гроба чавканье чиновника, невозмутимо — как жвачное животное — жевавшего чикле, и столь же ритмично чавканью вторило легкое пощелкивание скорлупок арахиса: уроженец Иллинойса, будто прожорливый грызун, уничтожал орех за орехом.
— Телеграмма адресована матери, а уж она постарается сохранить ее в тайне, примет меры, чтобы Мейкер Томпсон ничего не узнал.
— Вы полагаете?… — Услышанное дон Хуанчо воспринял как лекарство — всегда эти гринго придавали ему сил — они хоть и плохо говорили по-испански, но неизменно с таким апломбом, с такой самоуверенностью, что так и чудилось, будто не слова они произносили, а выкладывали деловые бумаги, одну за другой.
— Я не полагаю, мистер Лусеро, я в этом уверен. — Сквозь очки в золотой оправе на него глядели живые глазки старшего интенданта, который не переставал двигать челюстями и, перекатывая во рту кусок табака, собирался продолжить разговор. — Вы же знаете, что старик возражал против отъезда мальчика из Чикаго.
Дон Хуанчо утвердительно кивнул.
— Мать отправила Боби сюда. Опасалась, что сына убьют в Чикаго, если японцы или немцы начнут бомбить город…
— Вот видите, видите, как получилось… — вырвалось у Лусеро. — приехал, чтобы здесь погибнуть…
Руки его бессильно повисли. Он совсем пал духом. Чикле… чакла… чикле… чакла… — раздавались ритмичные звуки.
— Будем надеяться, что дед умрет, так и не узнав ничего, — добавил Лусеро, и на этот раз его слова прозвучали на редкость искренне. — Зачем ему передавать? Пусть умрет с уверенностью, что здесь он оставил наследника, внука, который так на него походил! Боже мой, какой рок судьбы! Что ждет всех нас после этих забастовок!..
Чикле… чакла… чикле… чакла… — Рядом с гробом цвета слоновой кости, в котором покоилось тело Боби, непрестанно раздавалось чавканье, а молодой грызун из Иллинойса с зелеными глазами продолжал грызть арахис, по-прежнему аккуратненько складывая скорлупки на гроб, и тихо-тихо, почти одним дыханием своим насвистывал: «Развеяться хочешь, мой светик? Купи арахиса пакетик…»
Аурелия Мейкер Томпсон — накладные ресницы, каждая из которых, как тоненькое перышко, торчала отдельно, волосы, отливающие лазурью, гибкая шея и стройное тело — результат массажей, гимнастики, диеты и парафиновых ванн — погасила сигарету, ткнув в пепельницу среди других окурков свой, чуть тронутый губной помадой. Она подошла к дверям залы — еще в окно заметила, как курьер прошел в сад и вручил телеграмму слуге. Она ждала этой телеграммы со страстным нетерпением. Наконец-то будет сообщено точное время прибытия Боби в Чикаго. Она перехватит сына в аэропорту и доставит его — со всей скоростью, какую только можно выжать из автомобиля, — чтобы дед успел увидеть внука. Сегодня утром, вырываясь из забытья, вызванного наркотиками, удушьем и агонией, он звал Боби, издавая какие-то завывания, похожие на попискивание мыши и скрип старой мебели.
Ничего не понимая, она стояла с телеграммой в руке. Буквы то подскакивали, то западали — как клавиши механического пианино. Она окаменела, словно покачиваясь в пустоте, пытаясь уловить значение слов, но буквы скакали перед глазами и куда-то убегали, буквы телеграммы, машинописные огромные буквы, за которыми ей виделся образ шумного существа, которое уже не было больше внуком Мейкера Томпсона… уже не… уже не… уже не… бессознательно повторяла и, наконец, потеряла отрицание «не», и в голове отдавалось нервным тиком только одно уже… уже… уже…
Она зажмурила глаза, сжала веки крепко-крепко-крепко, а открыв, осознала, что идет к спальне отца, идет и механически твердит:
— Убили Боби! Убили Боби! Убили Боби!..
Старик приподнялся на постели — глаза из стекла и тумана, мертвые волосы прилипли к черепу, а сам похож на скелет меж шелковых простыней — и не дал ей говорить. Во рту его клокотала и пузырилась слюна, жиденький смех слетал с губ, жестами и гримасами больной выражал свою радость, в потоке всхлипывающих завываний из открытой ямы рта (разжались леповиновавшиеся челюсти) вырвалось:
— Боби… Боби… Боби… с-сейчас… был… здесь!.. Здесь… здесь, со мной!..
Аурелия скомкала бесчувственной рукой телеграмму; еле сдерживаемые слезы жгли ей глаза. Она подошла к умирающему, который все еще пытался жестикулировать, счастливый, безмерно счастливый, что Боби сидел только что на краю его постели, рядом с ним…
Сраженная горем, Аурелия стиснула в кулаке скомканную телеграмму. Не могла она сообщить ему эту ужасную, страшную весть. Надо было задушить ее в себе. А если бы она и сказала, он все равно не поверил бы, что Боби убит. На краю постели он даже видел место, где только что сидел мальчик, ощущал вес его невесомого тела, созерцал его образ… И она невольно протянула свою дрожащую руку… хотела ощупать это место… ощутить кончиками пальцев… притронуться к щеке… губам… закрытым глазам… к голове… Но голос Мейкера Томпсона оборвал все…
Выкатив глаза, ищуще вглядываясь в пространство, он хрипло закричал:
— Найдите его!.. Най-дите!.. Най…
Аурелия инстинктивно оглянулась — в комнате никого. Она была одна, совсем одна, между отсутствующим трупом ее сына и коченевшим телом ее отца, его Зеленого Святейшества, отошедшего в иной мир.
— У-у-у-ш-е-е-л! У-у-ш-е-е-е-л! У-у-ш-е-е-е-л!..
Пылающее солнце. Пальмовые сомбреро. Глиняные лица пересечены ручейками пота, будто плачут жидким стеклом. Люди словно выточены из мангровых корней, приземистые, кряжистые, — больше нервов, чем сухожилий, больше сухожилий, чем мяса.
— У-у-ш-е-е-е-л! У-у-ш-е-е-е-л! У-у-ш-е-е-е-л!..
То и дело взлетало это слово, заставляя жителей покидать свои дома, заставляя их как безумных прыгать и обниматься на улицах и площадях. Импровизированные бродячие оркестры соперничали меж собой, наигрывая маршевые мелодии. Отовсюду слышался перезвон маримб. Взрывались шутихи и ракеты — смельчаки, пешие и конные, стреляли в воздух из ракетниц; они протягивали руку, нацеливались в небо и стреляли, чтобы небесная голубизна стала свидетельницей их радости. Пьяные обнимались, свиваясь в живые клубки, — они видели в лице друг друга облик Свободы…
— Свободы, но либеральной, свободы — либералов! — ораторствовал какой-то человек; он никак не мог разогнуться от того, что перегрузился спиртным, а падавшие на глаза спутанные волосы мешали ему смотреть.
— Эх, дурачина ты… — отвечал ему приятель. — Эта свобода — свободомыслящих!
— Нет, сеньоры, — подошел к ним деревенский аптекарь, пытавшийся сохранить равновесие на непослушных ногах; вылезавшая из брюк рубашка его торчала сзади хвостом, шляпа надвинута набекрень, в руке он держал бутылку. — Сво-о-о-бо-о-д-да… — язык у него, казалось, прилипал к гортани, — …э-т-т-а… гли-це-рино-фос-фат-ная!..
Весело смеясь, он спускался по улице и повторял: «Ушел!.. Ушел!..» Пустую бутылку он засунул под мышку, а другой рукой энергично рубил в такт: «Ушел!.. Ушел!..»
И кузнец вторил глухим голосом ветра, проносившегося по переулкам: «Ушел!.. Ушел!.. — удар следует за ударом, кулаки его как бы выкованы на наковальне, взмахивает он молотом и верит, что подковывает подковой счастья эту великую весть, потрясающую весть… — Ушел… Ушел!..» А сапожник подбивает почти невидимыми гвоздиками желтой бронзы башмаки новой жизни, которая уже появилась, звонко идет на смену тупой, дикой и вонючей эпохе подавшего в отставку…
— Свобода!.. Ушел!.. Ушел!..
Под визг рубанка, под смех стружек и чихание опилок, под скрежет зубов пилы-ножовки бросает в воздух плотник магическое слово: «Свобода! Свобода! Свобода!..» — и каменщик подхватывает: «Свобода! Свобода! Свобода!» — и пригоршнями бросает это слово, как крепкий раствор на воздушные стены. «Свобода! Свобода!» — набирает литеры этого слова наборщик из кассы своего сердца. «Свобода! Свобода!» — ткач утком выводит слово на радужно-цветастой основе. «Свобода! Свобода!» — гончар обжигает горшок на огне, и стенки его пылают багрянцем… Свобода! Ушел! Ушел! Ушел! Свобода!.. Свобода!..
Звонок… еще… еще…
Тикисате беспрерывно вызывает Бананеру…
Бананера… Бананера… вызывает Тикисате… Тикисате вызывает по радио Бананеру…
Алло… алло… Бананера? Алло! Алло! Бананера? Бананера? Тикисате вызывает по телефону…
Те… те… те… те… тебя, Бананера… тебя, Бананера, те… те… те… тебя, Бананера, Тикисате вызывает по телеграфу…
Все средства сообщения в руках народа, но никто не отвечает. На месте все: верньеры, рукоятки, телеграфные ключи, микрофоны — и повсюду пустота. Пусто в конторах, пусто у аппаратов, покинутых телеграфистами и радистами, которые присоединились к народному торжеству. Прошел первый взрыв радости — безграничной, беспредельной радости, отзвучали здравицы и крики, похожие на укусы жаждущих свободы и срывающих с неба кусочки ее голубизны, — и мало-помалу все слилось в какую-то печальную какофонию, время от времени разрывавшуюся после глотка агуардьенте праздничными выстрелами.
Бананера наконец ответила.
Тикисате предложил перенести начало забастовки с ноль часов на девятнадцать часов того же дня. Если основная масса трудящихся, занятых на банановых плантациях, не выступит немедля, то нынешний политический кризис выльется лишь в простую перемену декораций, в простую перестановку тех же действующих лиц, пожирающих народ и отрыгивающих тиранией, а само слово Свобода окажется дивным цветком, растерявшим лепестки.
Бананера согласилась. Таким образом бастующие выигрывали пять часов, и можно было воспользоваться начавшимися повсюду волнениями и помешать «Тропикаль платанере» подорвать единство трудящихся, которые теперь требовали уже не только прибавки к заработку и улучшения условий жизни и труда, но и землю.
— Землю!.. Землю!.. Ве-е-е-р…ните нам землю! Ве-е-р-рните нам землю!..
У- у-ш-е-е-л! У-у-ш-е-ел!..
— Свобода! Свобода!.. Хлеба и свободы!.. Землю и свободу!..
Флориндо Кей подумал о Парижской коммуне, в ушах его звучала органная музыка, вспоминалась фраза из какой-то песенки: «Mais il est bien court le temps de cerises…» [55] Волосы его были взлохмачены, глаза защищены от солнца темными очками, рукава рубашки засучены — поджаривался он в своем фордике, в поселок он приехал не ради празднеств — праздниками были заняты организаторы профсоюза и руководители забастовки, которых обвиняли в убийстве Боби Мейкера Томпсона, — он приехал сюда, чтобы узнать, нельзя ли установить контакт с капитаном Педро Доминго Саломэ через Самуэлона, учившего того играть на гитаре, и с капитаном Леоном Каркамо, пользуясь содействием Андреса Медины, его друга детских лет. Оба капитана, Саломэ и Каркамо, обещали свести счеты с Зевуном, захватить комендатуру и в нужный момент встать на сторону народа, а этот момент как будто настал…
К автомобилю Кея почти одновременно подошли Медина и Самуэлон. Невозможно проникнуть в комендатуру. Невозможно. Нельзя даже приблизиться. Часовые не подпускают никого. В комендатуре что-то происходит, но никто ничего не знает, а телефонные провода перерезаны или отключены. На шпиле башенки развевается флаг. С террас глядят установленные на треножниках пулеметы в боевой готовности. Ниже — слепые, зашторенные окна, закрытые двери. Ходят взад и вперед часовые, отрывающие шаги свои от молчания. И всюду царит знойная дремота. Однако зной не может сдержать сверкающие солнечными бликами человечьи реки, потоки тысяч пальмовых сомбреро, то большекрылых, то похожих на плетеные корзинки. Люди, люди разливаются по улицам. Они кричат. Но теперь раздаются уже не здравицы, а угрозы — люди размахивают сомбреро, обнажают мачете. Как было бы здорово вытоптать на площади газоны, уничтожить английский парк, разбитый алькальдом, а его самого вздернуть на фонарь, сбросить на землю статую диктатора, не оставить ни камня от заведения Пьедрасанты, где за досками и каменной мельничкой для размола какао нашли образ Гуадалупской Девы — тот самый, который парикмахер подарил для приходской церквушки мексиканскому священнику Феррусихфридо Феху, высланному потом из страны по обвинению в агитации. Ну и история произошла: «Тропикаль платанера» воспротивилась тому, чтобы Гуадалупская дева красовалась во владениях Компании, изгнала священника-мексиканца, а образ индейской богоматери был обнаружен среди хлама Пьедрасанты, верного лакея Компании.
Радость охватила тех, кто атаковал заведение Пьедрасанты. Богатство лавочника разошлось по рукам: продукты, спиртные напитки, мельнички — для размола какао и маиса, машинка для поджаривания кофе. Все были безмерно счастливы своими приобретениями, к тому же здесь было вдоволь вина, пива, коньяка, виски — и все это даром. Изображение богородицы вручили женщинам, которые, сияя, терпеливо ожидали, когда и им что-нибудь перепадет. Женщины подняли священный образ, правда, не из роз, а из пыли и паутины и, в один миг обтерев его своими шалями — ребосо, понесли в церковь. Слова песнопений смешивались с криками толпы:
— Ве-е-ер-ните нам землю!.. Землю!.. Землю!..
— Хлеба и свободы!
— Земля и свобода!
— Землю! Землю! Землю!
Пречистая наша зачала беспорочно…— Свобода!.. Свобода!..
Аве, Мария, благодати исполненная…— Уш-е-е-л! У-ше-е-л! У-уш-е-е-л!..
Превыше тебя лишь господь, лишь господь…— Землю!.. Землю!..
— Ве-е-ерните нам землю! Землю!.. Землю!..
Темные, липкие, возбужденные, как бы порожденные дремотой деревьев, толпы двигались от плантаций к поселку, оставляя позади обработанные поля, сверкавшие в лучах заката вечерней росой; от земли подымались испарения, как от огромных кастрюль, из которых соком банановых плодов, обсыпанных звездочками или золотистыми искорками, разливался зеленый, влажный вечер… Медленный марш человеческих муравейников иногда задерживался ненадолго — близ площадей, у станции, в ожидании поездов с новостями. Повсюду шумели толпы, пусто было только возле комендатуры, где часовые и пулеметы охраняли расчищенную площадку.
Вскоре в этом потоке пальмовых сомбреро, таком слитном до подхода к площади, стали возникать какие-то водовороты, и от потока отделились человеческие реки и ручейки. Люди устремлялись в одном направлении — на перекресток, где какой-то мужчина обращался к собравшимся…
Голос был его…
Кей выскочил из автомашины и прислушался.
У Медины и Самуэлона сомнений не было. Голос был его…
Они молниеносно обменялись взглядами и, не говоря ни слова, врезались в толпу. Самуэлон шел во главе, он был самый большой (он шел, посмеиваясь и приговаривая: «Дайте дорогу быку!..»), за ним следовал Флориндо, замыкал шествие Андрес Медина, маленький, нервный.
— Какое безрассудство! — ворчал Кей. — Какое безрассудство!
Его охватило отчаяние: их продвижение в толпе становилось все медленнее и медленнее, проталкиваться было все труднее и труднее — они приближались к площади, тут толпа была более плотной, и, наконец, двигаться стало совершенно невозможно, им уже казалось, что они не только не продвигаются, но, наоборот, их относит назад. Человеческая масса — море шляп, голов и людей — перемещалась вместе с ними.
— Безрассудство! Безрассудство!..
— Послушай, Кей, дорогой, не стоит говорить об этом! — обернулся к нему Самуэлон; он действовал в толпе как боксер: отодвигал в сторону слабых, проталкивался между сильных — его силе и весу никто не мог противостоять. Трудно было представить его с гитарой в руках…
Он немного передохнул и сказал:
— А мне нравятся люди, которые все ставят на карту, вот как Сан! Он человек бури и идет наперекор бурям!
— Земля и свобода! Земля и свобода!
— Ве-е-ер-ните нам землю!.. Ве-ер-ните нам землю!.. Землю!..
Громкие крики стихали по мере того, как люди приближались к оратору, около которого было тихо…
— ЗЕМЛЮ!.. ЗЕМЛЮ!.. Землю… лю… лю… ю… ю… ю!..
— Долой гринго! Долой гринго!..
— Долой! Долой!
— Вон их! Вон… их! Вон… их!..
— Долой!.. Долой!.. Долой гринго!..
Голоса звучали сурово и жестоко. Что-то, по-видимому, произошло, пока они — Кей, Медина и Самуэлон — пытались, хотя и безуспешно, установить контакты с капитанами Каркамо и Саломэ.
События развернулись столь стремительно, что Табио Сан покинул свое убежище и пошел во главе наэлектризованной толпы, направлявшейся к площади, чтобы объявить забастовку. «Время терять нельзя — нужно потребовать возвращения земель и изгнания гринго…»
— Вон их! Вон их! Вон!
Мистер Перкинс только что заявил, что Компания не намерена повышать заработки и улучшать условия рабочих, даже если и будет объявлена забастовка. Наоборот, Компания решила провести массовые увольнения, поскольку предполагает отказаться от этой банановой зоны и не будет больше обрабатывать ни одного дюйма проклятой земли.
Вырывать банановые растения! Так приказали из Чикаго. Но плантации вырывать не стали, оставили гнить на корню; пусть плантации придут в полную негодность, если только не будет другого распоряжения Компании.
Однако других распоряжений, судя по всему, ожидать не приходилось. Гневом, бешенством и яростью звучал голос Аурелии Мейкер Томпсон, отдававшей приказ управляющему Тихоокеанской зоны, которого она сместила с поста, прокричав по телефону: «„Платанера“ — это я!»
Аурелия Мейкер Томпсон не обманывала. Не считая собственных акций, она унаследовала акции своего отца и своего сына, которого Зеленое Святейшество назначило наследником всех владений. Чикагские газеты, да и пресса всего мира сообщили о смерти Green Pope [56] и о прибытии самолета с останками Боби Мейкера Томпсона. Могила в небе — пришла Аурелии в голову бредовая мысль, — могила в небе, могила сына, поддерживаемая в воздушном пространстве двумя крестами вращающихся пропеллеров.
Ее пожелание было исполнено. Целый месяц в воздухе парил самолет с телом ее сына, самолет-могила. Да, так она могла быть уверена, что ее сын уже на небе. С другого самолета доставлялось горючее, чтобы самолет-могила не приземлялся. В один прекрасный день он упал в море. Но это была сентиментальная ложь. Труп Боби упал на руки акционеров, которые тайно погребли его рядом с дедом. — Пиратом, как чаще называли старика, потому что лучше подходила ему эта кличка. Они опасались, что даже самая могущественная Компания Карибского бассейна может обанкротиться, если каждый из ее основных акционеров вздумает устраивать летающие могилы своим умершим близким. Опасения возрастали из-за приказа сократить район плантаций в Тикисате. Это был смертный приговор тем землям, с которых они ничего не смогли получить, — акции Аурелии перевешивали. А Аурелию Мейкер Томпсон уже захватила новая идея — выстроить готический собор, который своей формой походил бы на стволы бананов, — по ее мысли, он должен стать выражением американской готики: колонны, тонкие внизу и утолщавшиеся кверху, почти невесомые, арка из приникших друг к другу банановых листьев, цветы из настоящего изумруда. Она совсем сходила с ума: как-то вызвала к себе друга из государственного департамента и попросила его — он был влиятельным человеком — выслать войска в Тикисате («Идиоты, они перебрасывают войска в Европу, — говорила она, — тогда как нужно было бросить их в Тикисате!..»). И обо всем этом она говорила с такой же легкостью, с какой заказывала яхту, чтобы искать тело сына в морской пучине…
Голова раскалывалась от зноя, оглушали непрекращающиеся крики толпы. Наконец-то увлекаемые толпой Кей, Медина и Самуэлон смогли добраться до угла, где Табио Сан, окруженный Старателями, полуголыми либо одетыми в лохмотья, обращался с речью к собравшимся.
— …такого рода решение, — говорил Сан в тот момент, когда три друга очутились рядом с ним — одежда на них была изорвана, а тела, казалось, были высосаны огромной змеей — человеческим морем — и выброшены наружу, — такого рода решение вопроса не отвечает нашим интересам…
— Н-е-е-е-т!.. — поднялась буря голосов. — Н-е-ее-т!.. Н-е-е-е-т!..
— Если мы будем ждать, как здесь некоторые считают, что появится какой-нибудь другой Эрменехильдо Пуак и отдаст в заклад свою голову колдуну, чтобы разразился новый ураган и смел с лица земли наших врагов, это значит возложить на сверхъестественные силы разрешение тех проблем, которые надлежит разрешить нам самим, и путь у нас один — забастовка!
Аплодисменты заглушили его голос.
— Нечего ожидать от неба того, что небо не дает! Нечего ожидать дождя — мы же не лягушки!
Раздался взрыв хохота, а потом — новые аплодисменты.
— И, кроме того, товарищи, спрашивается, какая выгода нам от того, что будут уничтожены богатства нашей земли, которые являются не только собственностью их капитала, но и продуктом нашего труда? Отвечаю: эти богатства — наши… Слушайте хорошенько: НАШИ!.. И повторяйте со мной: НАШИ! НАШИ!.. Именно так, они — НАШИ!.. НАШИ!.. НАШИ!..
— НАШИ!.. НАШИ!.. НАШИ!.. — кричали люди до хрипоты в горле.
— Это наши богатства, нельзя забывать! И нужно позаботиться о том, товарищи, чтобы никто не начал бы уничтожать их и не позволил уничтожать другим — ведь это значит уничтожать свое добро! Тот ураган, что сейчас возникает здесь, на площади — и пусть это слышат все, кто должен слышать, — не плантации будет разорять, а вершить справедливость!..
— Очень хорошо, товарищ! Правильно!
— Конечно, никоим образом это не означает — мы были бы неблагодарными, а этого нельзя, товарищи, допустить, — что мы не одобряем самопожертвования Эрменехильдо Пуака, героя такого же величия, как и те, кто пал в порту, погиб на гудронированной набережной или в море, среди акул, в дни славной борьбы. Это никоим образом не означает, что мы не одобряем священную месть Рито Перраха. Они… у них не было других средств, чтобы выступать против могущественного врага, у них не было такой силы, которая возникла сегодня, сокрушительной силы, которой располагаем мы: союз организованных трудящихся, борьба революционных масс! Здесь, на этой площади, нашей волей к борьбе создается новая политика в нашей стране — политика революционных масс!
— Да-а-а-а-а!.. — волной раскатилось по площади.
— Но и те, кто опередил нас в попытке объединить и сплотить наши силы — я говорю о Майари и Чипо Чипо, — это тоже наши герои! Наши герои! Объятиям и богатствам Пирата, Зеленого Папы, Майари предпочла воду, морскую гладь, а Чипо Чипо ушел в реку, ушел в реку с песней «Я знаю поэзию воды, только я… только я…». Мы тоже это знаем, Чипо Чипо! Мы понимаем, что лучше броситься в реку навстречу крокодилам, чем идти на соглашение с врагами! Соглашение, уступки — это капитуляция перед теми, кто нас эксплуатирует? Нет!
— Н-е-е-е-е-т! Н-е-е-е-е-е-е-т!.. — откликнулось человеческое море.
— Мы не с теми, кто нас безжалостно эксплуатирует, мы и не с теми, кто болтает о том, что можно улучшить условия труда на плантациях Компании, и создает лживый образ милосердного эксплуататора. Все это смел ураганный ветер, когда унес с собой Лестера Мида, миллионера, который сеял среди нас пагубную идею — ожидать благодеяния сверху, как будто мы своими руками, не способны добиться всего, чего хотим! Сейчас идет борьба другого рода. Мы окрепли, и врагу не остается ничего иного, как обливать нас клеветой, называть нас убийцами, обвинять нас в том, что мы якобы расправились с внуком президента Компании. Они отказываются говорить с нашими делегатами, они одним росчерком пера аннулировали все свои прежние обещания увеличить заработок, принять меры против дороговизны. Теперь они не признают делегатов нашего профсоюза, хотя лишь вчера принимали их и беседовали с ними. Я уже не говорю об их угрозах прекратить работы и вызвать массовую безработицу. Товарищи, эту борьбу мы начали подготовленными и небезоружными! Мы сплочены. Единство — гарантия победы. А победим мы сегодня или завтра — это не столь уж важно. Зато мы уверены в победе, абсолютно уверены в том, что наша сила могущественнее их оружия, их миллионов и интриг! Самое важное для нас — бороться в едином строю, плечом к плечу, формируя единый фронт борьбы, оставаться едиными, как едины мы сейчас, когда на все их провокации готовы ответить забастовкой!
— Даа-а-а-а! Сейчас же!.. Сейчас же!..
— Забастовка приведет нас к победе!
— Да-а-а-а! Д-а-а-а!
— Провозгласим же здравицу трудящимся Бананеры! Да здравствует Бананера!..
— Да-а-а-а здра-а-а-вствует!
— Здравицу рабочим Тикисате! Да здравствует Тикисате!..
— Да здра-а-а-вствует!
— Здравицу — вечную — трудящимся мира!
— Да здра-а-а-вствует… да здр-а-а-а-вствует… да здра-а-а-вствует!..
Старатели преградили путь разбушевавшейся толпе, которая хотела поднять на руки Табио Сана и на руках пронести его. Сомбреро, лица, усы, мачете наплывали волнами, сталкиваясь друг с другом, приветствовали друг друга и терялись в прибое аплодисментов, а ночь сеяла звездный золотистый песок в часах вечности.
— Бастуем! Бастуем!
— Бастуем сегодня же! Бастуем сегодня же!
— Забастовку — сегодня! Забастовку — сегодня! Забастовку — сегодня!..
Крики переполняли улицы; словно несся всесокрушающий ураган, ураган лиц, рук, голов, глаз, ног, плечей, кулаков; порыв людей, движимых единой волей, — ураганной, ослепляющей, неумолимой, безмолвной, глухой, непримиримой…
— Забастовка! Забастовка! Забастовка!.. — нарастал клич. Приближался час, когда отзвук этого слова должен прозвучать и в Бананере. — Забастовка!.. Забастовка!.. Забастовка!..
На ночную смену собрались было выходить бригады по окуриванию плантаций, но они сбросили с себя рабочую одежду, перчатки, маски, каски, аппараты. Их примеру последовали чистильщики, готовые выступить на охоту за вредителями. Ночь черной лавой заливала все вокруг, она освежала, проникала повсюду и была плотной и легкой.
Среди деревьев, опьяненных усталостью и теплом человеческих тел, мелькнул, прорезал тьму и исчез прожектор локомотива, тянувшего полдюжины порожних товарных вагонов. Железнодорожники выполняли свое слово. Это был поезд для тех товарищей, которые отправятся в Бананеру. Долгий и сложный путь — но для тех, кому выпало счастье отправиться делегатом, этот путь представлялся песней. Они уже чувствовали себя как-то по-другому, хотя прошло так мало времени с той поры, когда ночные смены бросили работу. Зимние светляки сигналили своими фонариками, словно отсчитывая секунды — но то были не светляки, а искры от факелов.
Бурлило беспредельное людское море, и, казалось, был слышен каждый звук, все как будто было слышно, только не то, о чем говорили делегаты профсоюза, позы которых и жесты были видны в окна алькальдии. Здание муниципалитета окружили рабочие, ожидали официального объявления забастовки, хотя фактически уже все, кто должен был этой ночью выйти на работу, не вышли, и сейчас стояли с факелами, с зажженными лучинами окоте.
— У-у-у-у-шел! У-у-у-шел!..
— Земля и свобода!..
— Свобода! Свобода!
— Землю и свободу!..
Возбуждение толпы нарастало — гремели крики, взлетали сомбреро, звенели мачете, поднимались и опускались факелы и горящие ветви, похожие на лапы дьяволов.
Или делегаты объявят забастовку, или разъяренная толпа разгромит алькальдию. Из здания муниципалитета вышли уполномоченные и сообщили, что речь идет не о забастовке — это дело решенное, — а теперь обсуждают новые требования, предъявляемые Компании.
Шум и крики наконец прекратились — после многих и многих просьб Табио Сана. Воцарилась тишина, и он начал читать сообщение об объявлении забастовки: «Профсоюз трудящихся Тикисате, собравшись…» — аплодисменты не позволили ему продолжать.
Никто не знал, что происходило в комендатуре, и теперь чрезвычайно важно было успеть взять под свой контроль станцию, чтобы делегаты смогли уехать в Бананеру. По толпе пробежал ропот: «На станцию… на станцию… надо выиграть время… успеть там зачитать объявление о забастовке и обращение к рабочим Бананеры… прочесть там…»
Люди двинулись к станции — потоки белых пальмовых сомбреро, на которые пламя факелов бросало отсвет. Двинулись по проселочным дорогам, испещренным лужами после недавних дождей, по улицам, сырым от ночной росы.
Сопение локомотива прерывало голос Табио Сана. Под лучом прожектора, установленного на локомотиве, в багровых отсветах топки Табио Сан, взобравшись на переднюю площадку машины, читал решение трудящихся Тикисате, и тысячи факелов взмахами приветствовали каждый абзац, каждую фразу, каждое слово, будто сами звезды спустились в руки этих людей, чтобы разжечь пожар борьбы.
Внезапно локомотив погасил огни. Табио Сан почувствовал, как наступившая тьма поглотила его бумагу. Сможет ли он соскочить, как только поезд тронется? Со стороны комендатуры донеслась перестрелка. Сначала — беспорядочные залпы, затем — отдельные выстрелы и, наконец, пулеметные очереди перерезали тишину. Были слышны разрывы бомб и гранат.
Табио Сан на ходу спрыгнул с поезда. Он должен предупредить бойню. Треск пулеметных очередей смешался с восклицаниями этой мирно настроенной толпы, которая, как только исчез поезд с делегатами, повернула вместе с факелами навстречу смерти.
Немного погодя запылало здание станции. Пулеметный огонь прекратился, слышались лишь отрывочные винтовочные выстрелы. Стало известно, что стычки разгорелись в казармах — солдаты, прибежавшие оттуда, сообщили, что капитан Каркамо поднял восстание. У Самуэлона и Медины известия были более точными. Выступление военных потерпело поражение. Вовремя не подоспел капитан Саломэ, которому было поручено взорвать склады с боеприпасами, а Каркамо и группа следовавших с ним солдат, оставшись без поддержки, не смогли долго сопротивляться.
Рабочие начали расходиться — незачем вмешиваться. Это «делишки военных». И каждый скрывался в свою берлогу, в свой клоповник, в свой угол, иногда настолько тесный, что едва вмещал своего хозяина, и к тому же этот «дом» порой был не на земле, а в воздухе — иногда домом служил гамак. Вернуться по домам. Таков приказ. Продолжать сохранять спокойствие, не терять контакта с руководством профсоюза, а оно с этого момента беспрерывно заседало.
Табио Сансур обо всем этом узнал от одного из Старателей.
День уже вступал в свои права. Пение окрестных петухов разбудило солнце — оно подымалось в перьях пламени, золотом расстелившегося по зеленоватому, какому-то ненатуральному небу, над кактусами, над вытянувшимся ввысь пало-воладором с длиннющим стволом и несколькими веточками на верхушке, над высокими кокосовыми пальмами, над деревьями с листьями тигровой окраски, листьями-стражами, листьями-гитарами, над лианами, смахивавшими на леску для подводной рыбной ловли.
От другого Старателя Табио Сан узнал, что капитан Каркамо ранен и укрылся в пещере на Песках.
Его искали среди трупов, принесенных на кладбище, но тела Каркамо там не оказалось. Одиннадцать тел в желтоватых солдатских формах с их скромной амуницией — лица в крови, география смерти нарисовала карты на ткани одежды.
Вырыли лишь одну могилу — смерть иногда покупает или продает оптом — и засыпали землей. Неглубока была могила, и немного было насыпано земли: ведь это солдаты!
Внезапно на кладбище появился Хуамбо, который, превратив тачку в некое подобие катафалка, вез тело какой-то женщины, то ли мертвой, то ли пьяной. Хоронившие солдат вышли ему навстречу — не дали сбросить его груз в общую могилу. Похоже было, что женщина погружена в летаргический сон. «Пусть так, — сказал мулат, — но я хочу ее зарыть живой…» Один из присутствующих отбросил лопату и рукой, испачканной в земле, отвел паутину волос, закрывавшую лицо женщины. И узнал ее. Это была женщина, которая с капитаном Саломэ… Мария Клара… Клара Мария… Как же ее звали? «А по-моему, ее стоит зарыть живой!» — сказал тот, кто признал ее, и, утерев тыльной стороной руки сопливый нос, он добавил: «Собаке собачья смерть, это из-за нее мы целыми ночами дрогли под дождем, пока она и капитан Саломэ…» — он сделал выразительный жест. «Что ты, что ты!.. — запротестовал его товарищ. — Как же можно зарыть живой!..» — «Так или иначе, ее прикончат, — промолвил Хуамбо еле слышным голосом, закатив глаза так, что белели одни белки. — Лучше похоронить ее сейчас… как расстрелянную…» — «Расстрелянную? А за что? — вмешался другой солдат. — Уж кого расстреляют как пить дать, так это капитана Саломэ, если схватят живым. Ну а эту, зачем же эту?» — «Как зачем? Чудно, что не знаете! — воскликнул мулат. — Ее надо расстрелять, потому что надо расстрелять… она убила Боби…»
«Его прихлопнули забастовщики! Не говори чепуху!» — отозвался солдат с лопатой, отмахиваясь от тучи зеленых, розовых, черных мошек, слетевшихся на трупный запах. «Она его убила!.. — повторил Хуамбо, указывая пальцем на неподвижное тело Клары Марии. — Она мне призналась, просила меня уложить ее среди погребенных…»
Позабыв об убитых солдатиках, жарившихся на солнце и сплошь покрытых мошками, те, кто стали могильщиками волею обстоятельств, слушали печальный рассказ Хуамбо.
— Как только она поняла, — это ее слова, — что убила Боби, она начала пить агуардьенте… глотать стаканами — и не для того, чтобы забыться, а чтобы убить себя… не хватало у нее мужества выпить другой яд или броситься под поезд… глотать спирт — вот все, что она могла… переход от опьянения к смерти не столь заметен, быть может… пила она и пила и начала потихоньку охлаждаться… тряпками стали руки и ноги — тряпками, по которым ползали муравьи… и головой ударилась об угол, но сознания она не потеряла, потому что откинула голову назад, как можно дальше назад, и уже ничего не чувствовала…
Такой и нашел ее мулат — без сознания, неподвижной, далекой от жизни, холодной как лед — сначала он даже не сомневался, что она мертва. Однако он подошел, осторожно приоткрыл глаз, подняв веко — такое тяжелое, будто ресницы были из свинца. Этот остекленевший глаз, еще подернутый последними каплями влаги из опустошенной бутылки, и разглядел Хуамбо. Она сразу же встрепенулась. Скрюченными пальцами, как когтями, она пыталась разорвать воздух, отделявший ее от того, кого она вначале посчитала видением алкогольного кошмара… «Я… я… — едва слышно выдавила она, — я убила Боби, а хотела убить тебя… Я… я… хотела убить тебя… когда ты будешь подбрасывать кости покойника… землю покойника… вот что, унеси меня, слышишь, отнеси меня на кладбище, туда, откуда принес мне горе!..» И опять погрузилась в забытье…
Солдаты, зарывавшие солдат, заставили мулата увезти женщину домой, прежде стукнув его хорошенько прикладами по спине. Даже лопатки мулата отозвались, как старая цинковая крыша.
Пустынная улица. Впервые видит она, что покойника несут с кладбища. Везут на тачке. Лишь собаки плетутся позади. Впервые покойник возвращается с кладбища домой. По насыпи вниз — до живой изгороди, где в ту ночь он поджидал Боби, а потом поднялся к дому и стал подглядывать, как свой последний джаз танцевал Боби со Злодейкой, а потом Хуамбо, убегая, потерял косточки отцовской руки. На этот раз он уже не уложил тело женщины в тачку. Слишком много работы. Просто схватил ее за руки и втащил на тачку, а ноги ее волочились по земле, словно заметая следы преступления, следы крови Боби, крови из его сердца, которая впитывалась в землю и превращалась в струпья.
Мулат зажмурил глаза и вдруг разрыдался. Но тут же отбежал в сторону и затонувшими в хрустально дрожавшей мгле глазами огляделся вокруг. Никого. Он один на улице. Все бастовали. Мулат побежал на плантацию. Никого. Он один на банановых плантациях. Рабочие были у себя дома, в лагерях. Спали. Некоторые сидели на пороге и смотрели, как проходит день — первый день забастовки. Собравшись в помещении профсоюза, уполномоченные ожесточенно спорили — временами казалось, что от слов они перейдут к рукопашной, разъяренные, взбешенные.
Вопрос заключался в том, как бороться дальше против Компании. Уже миллионами долларов исчислялись потери, которые понесла Компания не только из-за забастовки, но и от вторжения сорняков, вредителей, лавины насекомых, за какие-то часы пожиравших, уничтожающих и заставлявших гнить бананы. Насекомые-вредители оказались хорошими союзниками, хотя никому это и в голову раньше не приходило. Потянулись первые дни забастовки, протекла первая неделя. Люди спали днем и ночью, лениво прислушиваясь, как ползет время. Наступала зима, проливные дожди следовали один за другим. Вышли из берегов каналы, водоемы. Заливало поля. Еще один союзник! Люди просыпались ночью — дождь шел. Засыпали снова и снова пробуждались — дождь сменился грозой. Лучше. Молний, побольше молний! Огненные зигзаги, точно клешни огромных золотых крабов, охватывали небо. Молний, побольше молний! Уже не найдется такого хранилища или склада, где можно будет спасти бананы, продукты. Скот разбежится из корралей и — прощай тогда коровы, быки, лошади. Грома, побольше грома, громогласного, бездонно громыхающего! Как здорово, что льет дождь, теперь благодаря забастовке нет нужды выходить на поле! Если бы не стачка, артели полуголых людей под командой чужеземных десятников тянулись бы сейчас на работу. Дождь идет над забастовкой. Женщины, пораженные бездействием мужчин, следили за ними. Они хотели покончить с законами, с порядком, установленным хозяевами. Они хотели другого закона. Нового закона. Справедливого закона. Приходилось многое передумать и женщинам: не считая отдельных случаев, мужчины вели себя спокойно, редко-редко притрагивались к стопке, совсем не брали в руки мачете. А кое-кто уже стал расставлять силки, западни, чистить ружья, собираясь на охоту. Другие занялись рыбной ловлей, авось что-нибудь клюнет на приманку — опять же помощь семье в этот тяжелый час. Все были заботливы, спокойны, сосредоточенны. Женщины никогда не видали мужчин такими. Никогда. Да, они выглядели необычно. Шел дождь. Шел дождь над забастовкой.
Шел дождь над забастовкой, и уже нашлись такие, которые стали сеять панику; они полагали, что не наладится ничего и забастовка обречена на провал. Вернуться на работу? Оставалось это. Быть может, удастся договориться с новым управляющим. Но новый управляющий не приезжал. Прошло еще несколько дней, и разнесся слух, что новое правительство намерено вмешаться в конфликт и поддержать рабочих. Но так только говорилось. Когда дождь переставал лить, люди обменивались сигаретами-самокрутками и вестями…
Да, да, он был ранен, его увезли в столицу!.. Саломэ!.. Нет, Каркамо. Это его ранили! А Саломэ!.. О нем ничего не слышно!.. Зевуна перевели в военное министерство!.. Ну и как там ему, лучше?… Ясно, лучше, заплатил за это место убитыми солдатиками! А другой комендант прибыл?… Другой… Да, какой-то полковничек!.. Уже приходил в профсоюз!.. Требовал закрыть?… Нет, зашел познакомиться, передать свой приветик и сказать, чтобы продолжали, дескать, вопрос о забастовке будет решен, начаты переговоры с Компанией, которая якобы готова на все!.. И что ему ребята ответили?… Сказали, что это дело не пройдет, хотя, похоже, придется пойти на соглашение!.. А Бананера?… В том-то и дело. Ждут, что ответит Бананера, — примет или нет условия нового трудового договора?… А кто оттуда должен приехать?… Говорят, Рамила… Это еще какой Рамила?… Я, право, не знаю его, но говорят, что он руководит движением в Бананере и что он привезет ответ!..
Дождь идет над забастовкой. Дождь идет над забастовкой — и уже трудно сосчитать потери Компании. Много банановых стволов лежит на земле, много листьев сгнило, много гроздьев зрелых плодов разбилось о землю, — горы гнилья растут, покрывая собой все, что не смыла вода… Каким-то будет ответ Бананеры? Таким же, что и рабочих Тикисате: НЕТ!.. Тогда, значит, не будет соглашения?… Никакого, если Компания не сдастся!.. Вряд ли этого удастся достичь, она не сдалась, даже когда был ураган, и, вместо того, чтобы улучшить положение грузчиков бананов, предпочла расстрелять их в порту из пулеметов! Компания есть Компания!.. И этого нельзя забывать!..
Расчищалось постепенно небо, появилось солнце, всплескивая бликами на затопленных плантациях, будто мчался по ним многокопытный конь и подковы сверкали серебром. Весть о победе залила все сияющим светом. Могущественной Компании пришлось принять условия рабочих.
Табио Сан в сопровождении Рамилы покинул здание Компании в столице. Только что подписаны новые трудовые договоры. Малена поджидала его у дверей. Винтовка на плече, волосы наскоро перехвачены лентой — на бледном лице усталость после уличных боев. Она подошла к нему, обняла и поцеловала при всех. Друзья и знакомые, собравшиеся тут в ожидании последних известий, приветствовали их аплодисментами.
В ноль часов всеобщая забастовка будет прекращена. Да, да, и в Бананере и в Тикисате.
Диктатура и «Тропикаль платанера» падут в одно и то же время — и тогда смогут закрыть глаза погребенные, ожидавшие дня Справедливости. Нет, сейчас еще нет, пока жизнь остановилась на пороге этого великого дня. Но из слов рождается надежда, а слова эти: «Другие женщины и другие мужчины будут петь в будущем». Но прислушайтесь, они уже поют, и это не другие, это они, это народ, это… Табио Сан, Малена Табай, Кайэтано Дуэнде, Пополука, Лоро Рамила, Андрес Медина, Флориндо Кей, Каркамо и Саломэ, капитаны, углежоги, учителя, студенты, наборщики, Худасита, торговцы, пеоны, ремесленники, дон Непо Рохас, Старатели, Самуэли, Хуамбо-Самбито, его отец и мать, Тоба, Анастасиа, Гнусавый, Пьянчуга, падре Феху, Майари, Чипо Чипо, Эрменехильдо Пуак, Рито Перрах… Одни живые, другие мертвые, и те, пропавшие без вести, — все, вы слышите — они поют…
Примечания
1
Бизнесмен, делец (англ.).
(обратно)2
Искаженное от United States — Соединенные Штаты.
(обратно)3
Испанский (искаж. от англ. Spanish).
(обратно)4
Бог мой (англ.).
(обратно)5
Щека к щеке (англ.).
(обратно)6
Игра слов: estribo (исп.) — стремя.
(обратно)7
Pascua — пасха (исп.).
(обратно)8
Вечерняя католическая молитва.
(обратно)9
«Donna e mobile…» (ит.) — фраза арии герцога из оперы Верди «Риголетто».
(обратно)10
Та, которой очень домогаются (разговорное фамильярное выражение).
(обратно)11
Игра слов: padre santo — святой отец, padre Santos — падре Сантос (исп.).
(обратно)12
В силу самого факта (лат.).
(обратно)13
«До скорого, дорогая! Жан-Поль» (фр.).
(обратно)14
От слов: tan — таков (исп.), credo — символ веры (лат.).
(обратно)15
Царствие мое не от мира сего… (лат.)
(обратно)16
«Господь с вами…» (лат.) — обращение священника во время богослужения.
(обратно)17
Мороженое (англ.).
(обратно)18
На манер Буланже (фр.).
(обратно)19
Игра слов: piedra — камень (исп.).
(обратно)20
Perro — собака (исп.).
(обратно)21
Key — ключ (англ.).
(обратно)22
Rey — король (исп.).
(обратно)23
Табельщик-контролер (англ.).
(обратно)24
Биографический справочник «Кто есть кто».
(обратно)25
Хорошо… (англ.).
(обратно)26
Мальчик! (англ.).
(обратно)27
Сию минуту! (англ.).
(обратно)28
Одну минуту, пожалуйста… (англ.).
(обратно)29
Очень польщен, очень!.. (англ.).
(обратно)30
Заткнитесь!.. (англ.).
(обратно)31
Piedra santa — святой камень (исп.).
(обратно)32
От англ. «good day» — добрый день.
(обратно)33
«Свидетель».
(обратно)34
Исповедаюсь, боже… (лат.)
(обратно)35
Господь с вами! (лат.)
(обратно)36
Среди индейцев (фр.).
(обратно)37
Вот Верден!.. (фр.).
(обратно)38
Вот такси Марны! (фр.).
(обратно)39
Вот «берты»! (фр.).
(обратно)40
«Свет» (фр.).
(обратно)41
Черт побери!.. Черт побери!.. (фр.).
(обратно)42
Заупокойная молитва.
(обратно)43
Loro — попугай (исп.).
(обратно)44
До свидания!.. (англ.).
(обратно)45
Шотландское виски (англ.).
(обратно)46
Удар (англ.).
(обратно)47
Ребята (англ.).
(обратно)48
«Международные железные дороги Центральной Америки» (англ.).
(обратно)49
Школяры (исп.). Выражение, распространенное в Гватемале.
(обратно)50
Играй эту песню, джаз-банд! Играй ее для лордов и леди, для графов и герцогов, для шлюх и котов-сутенер-р-ров… (обратно)51
Santo del Sur (исп.) — святой Юга.
(обратно)52
Никаких новостей… (фр.).
(обратно)53
Джаз-модерн (англ.).
(обратно)54
— Прощай! (разг. англ.).
(обратно)55
«Но ведь быстро пролетает пора вишен…» (фр.). Песня Жана Батиста Клемана, члена Парижской коммуны 1871 года.
(обратно)56
Зеленый Папа (англ.).
(обратно)
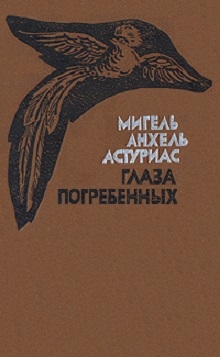

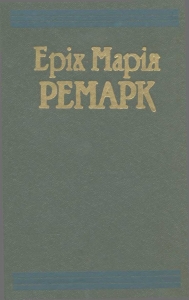
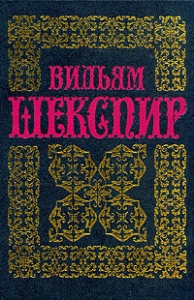
Комментарии к книге «Глаза погребенных», Мигель Анхель Астуриас
Всего 0 комментариев