Мартин Андерсен Нексе Дитте — дитя человеческое
Перевод с датского
В. Неустроев Книга любви и ненависти
Иду, чтобы сгореть как можно
ярче и глубже осветить тьму жизни.
М. Горький, «Человек»Роман «Дитте — дитя человеческое» — выдающееся явление литературы XX века. Его автор Мартин Андерсен Нексе (1869–1954) — известный датский писатель-коммунист, основоположник национальной пролетарской литературы. Замечательный художник слова и общественный деятель, он был верным другом Советского Союза, страстным пропагандистом идей Ленина, активным антифашистом, последовательным борцом за мир и социальный прогресс. Всем своим творчеством и в первую очередь монументальными романами «Пелле-завоеватель» (1906–1910), «Дитте — дитя человеческое» (1917–1921) и «Мортен Красный» (1945–1954), в идейном отношении составляющими эпическую трилогию, посвященную датскому революционному движению, Нексе вписал новую страницу в историю национальной и мировой литературы. М. Горький, высоко ценивший Нексе, как талантливого художника, борца и гуманиста, называет его имя среди тех «светлых имен», «суровых судей буржуазии своих стран… которые умеют ненавидеть, но умеют и любить». Творчество Нексе во многом носит автобиографический характер. Выходец из народа и последовательный борец за его интересы, писатель именно в народе видит подлинного героя истории.
«Дитте — дитя человеческое» — самая лирическая книга Нексе. И одновременно книга глубоко философская и социально-психологическая. Дитя человеческое… Этими словами, полными душевной теплоты и величия, автор определил свое отношение к героине романа Кирстине Манн, которую окружающие называли попросту Дитте. Роман повествует о нелегкой судьбе женщины из народа, молодой годами, но много пережившей. По словам самого писателя, она «видела немало горя и в борьбе пролетариата играла не меньшую роль, чем мужчина». Еще ребенком, который сам нуждался в заботе со стороны других, Дитте должна была трудиться сначала дома, а затем в людях. Через всю свою недолгую жизнь она с честью и гордостью пронесла «долг матери» не только по отношению к своим детям, но и к чужим.
Дитте принадлежала к «самому древнему и самому многочисленному в стране роду Маннов», а «Манны ведь так же неисчислимы, как песок морской». Фамилия «Манн» в переводе означает «человек». Этим автор, несомненно, хотел подчеркнуть глубокую человечность образа героини. Ей свойственны подлинно народные черты — доброта и чувство ответственности, любовь к труду и ненасытная жажда борьбы за счастье и справедливость. Уже в ярком обобщающем вступлении писатель раскрывает величие и силу народа, его веру в разумное переустройство мира. Дедушка Сэрен, бабушка Марен, отчим «Паре Петер Хансен, старая Расмуссен, наконец, сама Дитте — воплощают эти черты. Каждый из них по-своему приходил к выводу о том, что трудящиеся могут рассчитывать только на самих себя, хотя они еще и не знали, каким путем возможно осуществить переустройство общества.
Повествование о роде Маннов развертывается в романе эпически, неторопливо и величаво. В стиле, напоминающем древние саги, рассказывается об одной из ветвей этого рода, пустившего корни на пустынном берегу Каттегата, о характере их далеких предков — людей неприхотливых и упорных, много работавших, но остававшихся бедняками.
Роман Нексе — книга большой мудрости. Ее философская концепция раскрывается в глубоком и тонком переплетении истории и современности, личного и общественного.
Действие романа строится как бы наподобие музыкальной фуги: автор постоянно возвращается к интересующей его главной теме — судьбе человека и человечества. Именно эта тема получила широкое, конкретное воплощение в истории рода Маннов.
Дитте была истинной представительницей Маннов, а они в трудную пору всегда сплачивались и вступали в борьбу за свое право. Широко известная с древних времен «песнь великой беды» превращается в песнь борьбы и становится особенно актуальной в современных условиях. Так в романе подчеркивается мысль о связи эпох.
Ярко и убедительно эта тема раскрывается в экспозиции, повествующей о том, что еще сравнительно недавно — всего полвека тому назад, — когда Сэрен Манн, дед Дитте по матери, начинал свою трудовую жизнь, северное побережье еще не было застроено богатыми виллами, а поселок Маннов представлял собою всего лишь кучку горбатых домишек, словно сохранившихся с незапамятных времен и потому напоминавших древнее становище. Некогда Сэрен с женой Марен владели хутором. Но море безжалостно поглотило большую часть земли. Отныне им предстояло жить лишь воспоминаниями о былом. Только из кратких, но чрезвычайно выразительных авторских реплик читатель узнает о том, как Сэрен в юности отправился в дальние плавания, а затем, по образному определению автора, стал «амфибией», то есть, как многие первые поселенцы на Севере, наряду с рыболовством, занимался и земледелием. И, конечно, в разорении Хутора на Мысу повинно было не только море, но и жестокие законы буржуазного мира.
Судьба далеко разбросала детей Сэрена: сыновья обрабатывали землю где-то в Америке, старшие дочери были служанками на хуторах. Лишь младшая Сэрине «засиделась дома». Но именно она и стала матерью героини романа, «незаконнорожденной», а потому и «незваной гостьей на здоровом теле общества», как утверждала мещанская мораль.
С момента рождения Дитте в повествовании усиливаются две интонации: лирически-взволнованная и публицистически-гневная. Вдохновенно, с любовью автор говорит о своей героине, о людях труда и борцах, с ненавистью — о силах социального зла. В противовес защитникам собственности, утверждавшим одну ценность — деньги, Нексе выступает с гуманистической программой защиты личности, ее прав. Рождение человека, по его мысли, многозначительный факт — ведь каждый человек рождается под своей звездой. Человек — явление неповторимое.
Главы романа, повествующие о рождении и смерти героини, служат рамкой событий огромного значения. И все же писатель не ограничивается, так сказать, хроникой происходящего. История Дитте не может оставить его в роли спокойного наблюдателя. Нексе, по сути, сам становится участником событий. Его голос вторгается в повествование, «комментирует» происходящее. Так возникают на страницах романа философские рассуждения о новых человеческих существах, появляющихся на свет и становящихся «слагаемым в общей сумме человечества», раздумья о трагизме положения жалких «незаконнорожденных», которых уже повитуха, учитель и пастор награждали шлепками.
Волнующее повествование о настоящем Человеке проникнуто большим чувством. С трогательным вниманием автор описывает мельчайшие эпизоды в жизни героев, но отнюдь не заслоняет «мелочами» главного. И в философских комментариях, и в ярких широких экспозициях предстает жизнь отдельного человека и всего общества. Романтическим пафосом, гордостью за человека проникнуты строки о людях труда, о их высоком назначении в жизни. Волнующи и рассуждения писателя о смерти человека. Если Сэрен уходит из жизни умиротворенным, считая свое тихое увядание неизбежной необходимостью, то безвременная смерть Дитте и гибель маленького Петера, естественно, вызывают у автора протест. В противовес мистической проповеди безумного Анкера, в романе выдвигается принцип вечного животворящего начала, недаром прожитой жизни, идея бессмертия человеческого разума и победы справедливости. Похороны Петера превращаются в мощную демонстрацию протеста, а смерть Дитте символически рисуется в тот момент, когда «издали доносилось пение — марш социалистов».
В отличие от «стремительных» и лаконичных рассказов о прошлом, страницы, повествующие о происходящих событиях, отличаются исключительной обстоятельностью описаний и характеристик. Нексе чрезвычайно выразительно рисует образ Дитте и окружающую ее среду. Здесь палитра красок художника удивительно богата. Шаг за шагом, год за годом развертывается жизненный путь героини. Дитте была «удивительным созданьицем». Отверженная, «обиженная судьбой», она тем не менее уже с детских лет стремилась доказать свое равноправие. Казалось, сама природа была к ней намного щедрее, чем люди. В детстве опорой Дитте были бабушка и дедушка, обучавшие ее науке жизни. От них она узнала правду о несправедливом отношении богатых хуторян к бедноте и батракам. «Безбожник» дед и старая Марен осмеливались критиковать даже церковное вероучение, так как видели, что «божий закон в кармане у богачей». Как часто впоследствии Дитте убеждалась в справедливости этих слов. Старая Расмуссен образно говорила, что бога «никогда не оказывается, когда к нему стучатся бедняки». Марен была женщиной мудрой и решительной. С открытой доброй душой. И все же она с внучкой остались одинокими. Нелегко было им переживать это отчуждение. Но невозмутимость Марен многим была не понятна. И она слыла знахаркой, колдуньей, даже ведьмой. И все же Дитте знала, почему бабушка говорила «вещим голосом»: ведь «слово», с которым она обращалась к людям, должно было приносить им не зло, а добро. В лучшую пору жизни Марен «верховодила в доме». Худо пришлось ей после смерти Сэрена. Холод и голод ожесточили ее, порою порождали упрямое озлобление. И именно потому она не боялась «искушать судьбу». Дитте нравилось, что бабушка ни перед кем не отступала. Для маленькой Дитте бабушка составляла, по сути, весь мир: ведь и знахаркой она, по представлениям девочки, была потому, что знала все.
Внезапная смерть Марен многим казалась загадочной. Сэрине, ее дочь, была заподозрена в убийстве с целью заполучить спрятанные старухой деньги, которые еще дедушка сумел взять, как «откупные», с хозяина Хутора на Песках: ведь это его сын был отцом Дитте. Более полно характер своей матери Дитте узнала уже в пору, когда она поселилась на хуторе Сорочье Гнездо — в семье Сэрине и отчима Лapca Потера. Сэрине была холодна и заносчива в отношениях с людьми, сурова в обращении даже с собственными детьми. Она уже давно подумывала, как завладеть деньгами матери. В ней было гораздо больше хитрости и корыстных расчетов, чем дочерней привязанности. Слово «деньги» в ее ушах «звенело», постоянно «кипело в мозгу», вселяло надежду на «счастливый случай»… Дитте относилась к матери безразлично, порою враждебно. В девочке было развито чувство справедливости, а Сэрине в этом отношении представляла собою прямую противоположность. Дитте росла в тяжелых противоречивых условиях, и это во многом определило ее характер. Мир, окружавший Дитте, часто представал в резких контрастах. Картины природы казались ей сказочными видениями, безмятежными и прекрасными, в доме же матери царил настоящий хаос. Девочка рано познала горе, но присущий ей оптимизм помогал преодолевать невзгоды.
Кроме детей, для которых Дитте сразу же стала «настоящей мамочкой» и смотрела на их шалости со снисходительно-мудрой улыбкой, симпатию у Дитте вызывал отчим. Он тоже руководился в своих поступках чувством справедливости. Неудачи и несчастья, перенесенные Ларсом Петером, не ожесточили его. Всю свою жизнь он мечтал «по-настоящему взяться за землю», пробовал стать рыбаком, но всюду его словно преследовало проклятие. Мещанская молва закрепила за ним обидную кличку «живодера», намекая на его профессию сборщика падали и старьевщика. Богатые хуторяне создавали одну за другой вздорные выдумки об «отверженном». Тихий и флегматичный, он научился обходиться без людей, считал, что для того, чтобы «водиться с людьми» (как это умел делать его брат Йоханнес), надо быть «гладеньким, чистеньким снаружи и холодным внутри». После ареста жены он как-то совсем сник, стал еще тпше. Действительно, теперь на крыше его дома уже не селился аист, а, образно говоря, «гнездилась зловещая птица бед и махала своими черными крылами». Трагедия Ларса Петера состояла в том, что усилия одиночки, человека труда, как бы ни велика была затрата его энергии и воли, разбиваются под ударами «обстоятельств» — наступлением крупных собственников, настоящих живодеров.
Сорочье Гнездо продается с молотка. Ларсу Петеру и его семье предстоит нелегкая доля скитальцев. Мужественно переносил он несчастье. Но жестокие уроки жизни не проходят для него даром. Поселившись в рыбачьем поселке, находившемся в цепких лапах богатого трактирщика, Ларс Петер как бы прозревает. Новое «житье-бытье» сначала ставило его в тупик. Но самовластие владельца поселка было настолько нестерпимо, что даже Ларс Петер, который до тех пор «во всем видел только хорошее», потерял терпение и вдруг взбунтовался против трактирщика. Казалось, «бунт» этот не имел ощутимых внешних результатов, — ведь все осталось по-старому. Однако клевете богатея противопоставлен справедливый суд народа. В столкновении Ларса Петера с трактирщиком масса людей становится на сторону поборника справедливости. Именно это событие оставило след в сознании простых людей.
Иным предстает характер Йоханнеса. Бродячий ремесленник и мелкий торговец, он уже самими обстоятельствами жизни был поставлен перед необходимостью «переходить с места на место». В отличие от брата, стремившегося к «оседлой» жизни и сохранившего наивную веру в возможность собственного успеха, Йоханнеса влекла романтика бродяжничества. В нем, как и в Кристиане, старшем сыне Ларса Петера, в котором также текла «беспокойная кровь», привлекает юношеский задор, порою стихийный протест, хотя осмыслить происходящее он не в состоянии. Все чаще в отношения с людьми Йоханнес вносил «разлад и ожесточение». Недаром впоследствии он находит пристанище в доме Баккегоров, на незавидном и двусмысленном положении любовника вдовы Карен, женщины своенравной и жестокой.
Важное место в романе занимает образ Карла Баккегора, младшего сына Карен. Вначале мы его видим в условиях усадебной жизни, в холодном родительском доме. Здесь и происходит знакомство Карла с Дитте. Воспитанный в духе мещанских предрассудков и религиозной морали, юноша не смеет и думать о женитьбе на батрачке. Нексе ярко обрисовал трагическую судьбу Дитте и Карла, невозможность их счастья.
Казалось, Карл меньше всего годился в герои. Даже внешний вид его был какой-то странный. Тощий, длинный и «постный, как пятница», он больше походил на тень. Постоять за себя Карл не мог, у него просто не хватало смелости проявить самостоятельность. Но Дитте разглядела в этом человеке и другие качества, стремилась воздействовать на его сознание. Она понимала, сколько обид и страданий выпало на его долю, и дарила ему свое участие. В дальнейшем характер Карла предстанет в сложной эволюции. В пятой части романа, символически названной «К звездам», он уже городской рабочий (вернее, безработный по большей части), он становится ближайшим другом Дитте, стремится всячески облегчить ее участь. Читатель узнает о его бегстве из-под домашней тирании. К этому времени в сознании Карла происходит решительный перелом, он сбрасывает «тяготевшее над ним проклятье», расправляет «морщины на лбу», задумывается над происходящим. Вместе с Мортеном он обсуждает план предстоящей рабочей демонстрации. Правда, самый процесс эволюции сознания Карла, трудности, встречавшиеся на его пути, в романе достаточно не раскрыты, не показаны в действии. И это понятно: ведь такого рода характер лишь начал обозначаться в самой действительности, и писатель счел возможным «пунктирно» наметить его и в романе. На примере идейной эволюции Карла, сына богатых землевладельцев, Нексе, по-видимому, хотел показать глубину тех социальных изменений, которые происходили в стране и начали захватывать и непролетарские слои.
Теперь Карл отказывается слепо верить в промысел божий и признает только один закон — закон собственной совести. Конечно, суждения его в области политики были еще очень туманны. Он как-то инстинктивно чувствовал симпатию к революционным настроениям Мортена и, наоборот, не принимал лозунгов реформиста Пелле.
Так же как и Карлу, Дитте много пришлось претерпеть от людской злобы. И все же она училась отстаивать свое право. Дитте мужала в труде. Ведь недаром у нее были «натруженные красные шершавые руки», которые многие справедливо называли «золотыми». В своем труде, нередко изнурительном, она находила удовлетворение, видела пользу. Дитте казалось, что она уже давно стала взрослой, хотя только после конфирмации ей было «положено» поступить в услужение.
Сначала это был Хутор на Холмах — мрачное поместье Баккегоров. Хозяйка его Карен, женщина немолодая, но взбалмошная, обладавшая «вздорным характером», строго держалась философии — «кто беден, тот сам виноват в этом». Многое в хозяйке казалось Дитте странным: и ее ненависть к собственным детям, и высокомерный тон по отношению к слугам, и какая-то собачья преданность к «молокососу» Йоханнесу…
«Чистилищем» Нексе назвал период жизни Дитте и остальной семьи Ларса Петера в рыбачьем поселке. Воссоздавая окружающую жизнь, писатель нередко дает ее через восприятие героини. Авторский комментарий часто вторгается в повествование, когда заходит речь о трактирщике, фактическом хозяине поселка. Стиль романа становится сложным: в обобщениях большую роль начинают играть символика и аллегория, авторские отступления насыщаются глубоким философским содержанием, все чаще используется присущий публицистике писателя прием полемики, памфлетной характеристики. Трактирщик показан как своего рода «оборотень». С ханжеским лицемерием он может рассуждать о божьей благодати, назойливо повторять, что он, «никому не обидчик». Но Дитте понимала, что рыбаки не случайно именовали его Сатаной, Людоедом. И действительно, перед людьми он часто представал в разных обличьях: то он был похож на тролля, то напоминал какую-то диковинную заморскую птицу. Его постоянной потребностью было желание прибрать к рукам вся и всех. Поэтому жизнь поселка раскрывается как своего рода история, повествующая о людском горе, стыде и преступлении. Для многих он казался загадкой, и они боялись его. Только Ларс Петер попробовал было возмутиться да Якоб Рулевой искал «слово», которым он смог бы одолеть сатану в облике трактирщика. Но и трактирщик оказался в зависимости от более крупных акул. Символичным представляется его самоубийство в момент, когда на свет появляется новое существо — ребенок Дитте.
Новым этапом стала для Дитте жизнь в столице. Копенгаген, о котором она так много мечтала, встретил ее неприветливо. Нелегким было для Дитте испытание в детском приюте, где она была кормилицей. Еще более трудно было расстаться с сыном, отданным на воспитание в чужую семью. Расстаться и — главное — потерять на него право. Но жизнь скоро втянула ее в свой круговорот. Как и многие служанки, ее подруги, Дитте вынуждена была часто менять места, стала как бы странствующим подмастерьем.
Такова сложная панорама жизни, на фоне которой рисуется в романе биография Дитте, умевшей не только страдать, но и верить в лучшую жизнь, трагическая история «женщины-героя», которую, по словам Клары Цеткин, «сумел нарисовать только один из западноевропейских писателей — Мартин Андерсен Нексе».
Внешне казалось, что сама Дитте и теперь в городе была далека от общественных интересов и политики: где ей, усталой и замученной повседневным трудом, было думать о чем-либо? Но она не была безразлична к окружающему. Еще дома при встрече с социалистами, городскими каменщиками, она не испугалась, подобно другим, а с любопытством приглядывалась к ним. В столице ее собственный демонстративный уход из приюта, где она, попав за «кулисы жизни», увидела различные злоупотребления, был своеобразным протестом, хотя еще слабым и стихийным.
Словно птица, засидевшаяся в клетке, Дитте не скоро свыклась с тем, что клетка вдруг оказалась открытой. Но если прежде в отношениях с людьми она обычно следовала «естественному порыву сердца», то со временем (хотя еще долго посмеивались над ее «деревенской простоватостью») перестала многое принимать на веру.
Нелегко было ей стать матерью «незаконного» ребенка, скрывать это, выносить причуды хозяек, быть безработной, голодать. От Карла вестей не было долго. Оставался один удел — одиночество. Мечта ее о своем доме и семье так и не осуществилась. Все строптивее становилась она с годами: видно, давал знать о себе свойственный ей «мятежный дух», требовавший ответа на удары судьбы. А нужно было оставаться бессловесной — «молчи и делай свое дело».
Лишь ненадолго в семье писателя Ванга Дитте, казалось, обрела нормальное человеческое существование, попала, как она говорила, в «страну обетованную». Либерал Ванг привлекал служанку своей симпатией к беднякам, сочувствием к ней самой. От него она узнала о рабочих демонстрациях. Рассказывая детям «сказку про Дитте», он говорил, что у Маннов есть сильное оружие против злого тролля — сердце. Конечно, самой Дитте еще было трудно разобраться в наивных суждениях Ванга. Ей было отрадно чувствовать себя полноправным человеком среди образованных людей. Из окон виллы Вангов и Копенгаген нравился ей больше. Здесь она узнала «настоящее чудо» — книгу. Ее чувство к Вангу было одухотворенным — ведь именно он зажег ее сердце, внес свет в ее сознание.
Однако иллюзии Дитте в отношении Ванга длились недолго. От ее безграничного доверия к нему вскоре не остается и следа. Ей приходится оставить дом писателя. Доведенная нуждой до отчаяния, она уже по-новому посмотрит на Ванга и его идеи. В эпизоде, рисующем их случайную встречу на улице, с необыкновенной силой показано, какая пропасть разделяла их. Возможно, обвинения, брошенные Дитте в лицо Вангу, были слишком резкими, но в ней клокотали злоба и ненависть. Ведь он обманул ее надежды. Но минутой позже Дитте уже охватили стыд и отчаяние. Она понимала, что он не хотел надругаться над ней, и все же Ванг был повинен в том, что, подняв ее к свету, дал снова упасть в яму.
Ненадолго на пути Дитте оказывается молодой рабочий Георг. Живой, веселый и добрый, он во многом был близок ей самой — мерилом ценности человека и для него было доброе сердце. К тому же он стремился привлечь ее внимание к политическим событиям. И все же мечта Дитте не сбылась и на этот раз. Безвременная гибель Георга окончательно надломила ее. Рождение маленького Георга, приемные дети, воспитанию которых она отдавала все свои силы, были последним ее утешением.
Финал романа глубоко оптимистичен. Болезнь, страдания и горе не вытравили в Дитте любви к жизни, и она полна веры в светлое будущее. Показателен в этом отношении ее последний — во многом символический — разговор с Мортеном. Глубокомысленным напутствием молодому писателю, связавшему свою судьбу с пролетариатом, явились слова умирающей о необходимости верить в свое призвание, бороться за то, чтобы поднять людей из бедности и нищеты, сохранить их чистоту и доброту. Не перекликается ли эта мысль с идейно-эстетической позицией самого Нексе, говорившего о великом назначении человека — «сеять вокруг прекрасное, доброе»? Одна из бесчисленных безымянных тружениц, Дитте «сделала мир богаче».
В 1948 году в «Открытом письме голландскому рабочему» в связи с обсуждением фильма, снятого по роману «Дитя человеческое», Нексе дал интересное и исключительно важное определение центральной идеи романа, характера его положительных героев. Писатель подчеркнул, что изображение в романе трудовой деятельности людей было обусловлено настоятельной необходимостью раскрыть действительные условия жизни трудящихся при капитализме в период, предшествующий поре их пробуждения, стадии формирования революционного сознания и начала организованной борьбы.
Если хозяин рыбачьего поселка, по определению Нексе, предстает «истинным представителем всемогущего капитализма», то ни Ларса Петера, ни других рыбаков еще «нельзя назвать тем, что мы называем сознательными пролетариями… Они предпролетарии. Они совершенные невежды во всем, что касается движения низших классов, а для того, чтобы быть достойным звания пролетария, человек должен бороться против всякого угнетения, независимо от того, относится это к белым, черным или желтокожим».
Так самим Нексе определен характер показанных в романе событий, вскрыто их не только национальное, но и всемирно-историческое значение. Мечта народа о лучшей жизни еще не получает здесь конкретного воплощения, но явно намечается в сознании простых людей: они начинают понимать свое бедственное положение и необходимость что-то предпринять. Не случайно эпиграфом к заключительной части романа автор берет слова собственного стихотворения 1907 года, посвященного погибшему датскому революционеру Софусу Расмуссену, который, по словам поэта, «бросил жар сердечный в холод бездны вековечной». И, конечно, эти слова с полным правом можно всецело отвести к героине романа.
Жизнь Дитте, одной из тысяч безвестных тружеников, ее самоотверженность и неиссякаемая любовь к людям не проходят бесследно. Роман наглядно убеждает в том, что сердечный жар, отданный массам, растопил лед инертности, рассеял мрак недоверия. Словно орлиным взором, писатель окидывает вселенную, пронзает пространство и время, когда в связи со смертью героини говорит, что опустевшее место ее в мировом пространстве «должно быть зарегистрировано на все времена». Ведь именно она «взялась за свое дело и до конца не складывала рук».
Интересно в этом плане предлагаемое в романе истолкование народной легенды о звездных мирах. «Около полутора миллиарда звезд насчитывается в мировом пространстве… — пишет Нексе. — …полтора миллиарда человеческих существ живет на Земле. Одинаковое число! Недаром утверждали в древности, что каждый человек родится под своей звездой». Но в мире о людях думают мало. С горечью автор говорит о том, что если для открытия новых звезд строят дорогостоящие обсерватории, то появление простых людей происходит незаметно, при полном безразличии к их судьбам со стороны так называемых высших слоев общества. А ведь со смертью человеческого существа «угасает светоч, который уже никогда не зажжется вновь, потухает звезда, быть может, необычайной красоты, во всяком случае отличавшаяся своим собственным, никогда ранее не виданным спектром».
Нередко в своих описаниях Нексе использует народные легенды. Явления природы получают в романе научное объяснение. Многие герои, хотя и очарованы красотой окружающего мира, все же не воспринимают его в ореоле мистических тайн. Писатель объясняет несостоятельность религиозных и иных ошибочных представлений о мире.
Часто его герои, люди севера, вынуждены вести борьбу с суровой природой. Необходимость бороться с природными условиями — каменистой почвой или морской стихией — является, по мысли писателя, одним из главных законов жизни человека. Несколько поколений Маннов вступали в единоборство с морем, спасая от размыва землю клочок за клочком: «…они боролись до последнего, держались за землю обеими руками и к морю за куском хлеба прибегали только в крайности».
Картины природы приобретают в романе определенный смысл. Земля для крестьянина — кормилица-мать. О ней в народе сложено немало прекрасных, хотя нередко и суровых песен и сказок. Нексе чутко прислушивается к ним и лирически мягко, иногда с юмором воспроизводит эти народные сказания в своем романе. Естественно, что многие образные описания природы даются при этом в обобщающе-аллегорическом плане. Зима, несущая бедноте нищету и голод, суровая, с такими холодами и метелями, что «птицы мерзли и просили подаяния под окнами». «Лютое время зима — бедствие для мелких пташек. Но бедному люду зимою прямо в ад… Как злой призрак, начинает она тревожить умы бедных людей, едва минуют долгие дни… Мрак и холод — свирепые кони зимы. А правит ими сам князь тьмы — сатана, взгромоздясь на страшную кладь из нужды, забот и горя». Писатель не ограничивается нарисованной картиной. Выражая думы и чаяния бедняков, он комментирует нарисованное. О мрачном ездоке он пишет: «Перевернуться бы ему по дороге со своей кладью или вывалить ее, к примеру» У Дверей богатых!.. Любопытно бы поглядеть, как они примут сатану с его хламом? Но сатана знает свое дело! Он не подъезжает с мусором к парадной двери, а к черному крыльцу с праздничным пирогом».
Автор и в этих случаях далек от настроений мрачной безысходности: ведь «нужда вызывает и удивительную доверчивость и общительность». Долгой зиме приходит конец. Вот солнце «брызнуло на дюны», прогоняя туман, который свертывался, «словно белая пелена», и открывал широкие просторы. Раннее утро обычно встречало Дитте особым ароматом, очаровывало светом и свежестью. Но не каждому дано проникнуться очарованием утра и моря. Многие из окружающих, хмурые и черствые, часто недоумевали, зачем это девчонка бегает «глазеть на море».
Городской пейзаж в романе дается уже иначе. Чахлая растительность, слабые лучи солнца, едва пробивающиеся сквозь дым фабричных труб. Домашняя обстановка — сырой подвал «Казармы», где жила Дитте, не лучше: скученность, мрак и удушливый воздух. Велика трагедия простых людей в большом городе. Особенно ярко состояние безысходности передано в эпизодах их тяжелой борьбы за существование. Впечатляюще воссоздана симфония ночного города в момент, когда маленькие Петер и Эйнар с риском для жизни отправляются в гавань на «промысел» — собрать жалкие остатки каменного угля. Типичная картина жизни городской окраины — нищета, безработица. Вот и Дитте в трудный момент, ради спасения больного Карла, сама больная и голодная, решается просить милостыню. Но и это оказывается бесполезным: «Трудно отыскать иголку в сене; найти в городе с полумиллионным населением пять крон оказывается еще труднее. Дитте пришлось убедиться в этом».
Постановка больших философских и социальных проблем, глубина анализа идей и событий требовали от автора мастерского владения различными стилевыми приемами: внутренний монолог, полный взволнованной патетики, подтекст и страстный публицистический комментарий, калейдоскоп событий, красочные описания… Нексе широко использует в романе народные поговорки, часто злые и острые, но всегда точные, воспроизводит сочную, образную речь крестьян и рабочих. В романе широко сказалось глубокое знакомство автора с датским народным творчеством. Роман насыщен не только пословицами и народными речениями, но в самом авторском тексте чувствуется отражение и народной песни, и народного сказа. Своеобразен язык многих героев — афоризмы Сэрена и витиеватая речь трактирщика, проникнутые глубоким внутренним содержанием слова старой Марен и Ларса Петера, насыщенный библейскими речениями язык Карла…
Роман о Дитте пользовался огромным успехом не только на родине писателя, где он печатался в рабочей прессе, как «роман с продолжением», но и во многих странах мира. Слава романа вполне заслуженна: его герои и идеи живут в сердцах миллионов читателей.
В. НЕУСТРОЕВ
ДИТТЕ — ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
{1}
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I Родословная Дитте
Если у человека насчитывается несколько поколений предков, значит — он высокого происхождения; так обычно принято считать. Таким образом, Дитте происходила из знатного рода. Она принадлежала ведь к самому древнему и самому многочисленному в стране роду Маннов.
Родословного древа Маннов не имеется, и составить его был бы труд не малый, — Манны ведь так же неисчислимы, как песок морской. Все прочие роды ведут свое начало от рода Маннов, все они в течение времен всплывали на поверхность из его глубин и туда же погружались снова, когда силы их иссякали и заканчивалась их земная миссия. Род Маннов можно уподобить мировому океану: воды его, испаряясь, легко возносятся к небесам и снова возвращаются обратно в виде дождевых капель.
По преданию, род Маннов пошел от деревенской батрачки, которая садилась отдыхать на сырую землю прямо голым задом. От этого она забеременела и родила мальчика. Она передала женщинам рода Маннов пренебрежение к нижней одежде и необыкновенную плодовитость. И до сих пор идет о них молва — будто бы стоит им постоять в дверях на сквозняке, как им сразу ветром «надует» девочку. А чтобы родить мальчика, им достаточно «пососать льдинку». Поэтому неудивительно, что сородичи Дитте были так многочисленны и выносливы и что все спорилось у них в руках. За что они только не возьмутся, все оживает и приносит плоды. Это стало характерной их чертой.
На мальчишке-первенце долго оставалась печать сырой липкой земли; ибо ребенок постоянно лежал мокрым и ножки у него были кривые. Но вот мальчик подрос, выправился и стал умелым хлеборобом. Он положил в стране начало настоящему земледелию. То обстоятельство, что у него не было отца, очень его занимало и стало для него наиболее существенной жизненной проблемой; в часы досуга он создал себе на этой основе целую философию.
Нелегко было угнаться за ним в ходьбе, да и в работе не знал он себе равного, однако у жены своей был в подчинении. Рассказывают, что когда жена с громкой бранью выгоняла его, он обычно бродил вокруг своего дома и похвалялся, что глава семьи все-таки он. Потому ему и дали прозвище «Манн». И вплоть до настоящего времени многие мужчины из этого рода находятся под башмаком у своих жен.
Одна ветвь этого рода пустила корни на пустынном берегу Каттегата и основала там поселок. Произошло это еще в те времена, когда из-за лесов и болот местность была непроходимой и туда добирались только по морю. Прибрежный риф, куда приплыли на ладьях поселенцы и на руках перенесли на берег своих жен и детей, цел и поныне; белые морские птицы в течение веков вьются над ним днем и ночью.
Типичные родовые черты были присущи и этой ветви рода человеческого: два глаза, посредине лица — нос, рот, умеющий и целовать и кусать, да еще пара крепких, ловких рук. О том, что отпрыски этой ветви являлись коренными Маннами, свидетельствовал и тот факт, что их душевные свойства были в большинстве случаев гораздо богаче, чем условия их жизни. Представителей этого рода можно распознать повсюду уже по одному тому, что все их дурные свойства легко объяснимы, если проследить до самой первопричины зла; откуда же брались добрые свойства — установить не удалось, — очевидно, они были заложены в них самою природою.
Местность, в которую попали пришельцы, была дикая, пустынная, но им пришлось с этим примириться; они начали ставить себе хижины, рыть канавы, прокладывать в лесах тропы. Люди они были неприхотливые, упорные, им свойственна была ненасытная жажда деятельности. Никакой труд не казался Маннам слишком тяжелым или неблагодарным, и скоро самый вид всей местности свидетельствовал о том, какие люди в ней поселились. Однако Манны не умели закреплять за собою плоды своих трудов; они позволяли другим присваивать эти плоды и поэтому при всем своем усердии и трудолюбии по-прежнему так и оставались бедняками.
Еще добрых полвека тому назад, — пока северное побережье не заполнили дачники, — поселок был просто группой горбатеньких, почерневших хижин, сохранившихся как будто с самого его основания и придававших ему вид древнего становища. По всему берегу лежали опрокинутые лодки и валялась разная рыболовная снасть; вода в бухточке была вонючая от выброшенной туда и гниющей там рыбы — угрей и других подобных им морских обитателей, которых из-за странного вида считали морской нечистью и в пищу не употребляли.
Минутах в пятнадцати ходьбы от поселка, на стрелке мыса, проживал Сэрен Манн. Молодость свою он, как почти все его сверстники здесь, провел в дальних морских плаваниях, а потом стал рыбачить на родине — тоже по здешнему обычаю. Но по своему происхождению он был скорее хлеборобом, одним из тех отпрысков рода Маннов, которые положили в стране начало настоящему земледелию, чем и прославились. Сэрен Манн был сыном хуторянина, но, возмужав, женился на дочери рыбака и наряду с земледелием занимался рыболовством — как и первые поселенцы.
Однако землей ему бы не прокормиться; от большого хутора уцелел только клочок дюн — скудное пастбище для десятка овец. Теперь над тем местом, где находился хутор, кипел белой пеною прибой да с криками носились чайки. Все прочее поглотило море.
Единственное, чем могли похвастаться Сэрен, и особенно его жена Марен, это то, что предки Сэрена были хуторяне.
Всего лишь за три-четыре поколения до Сэрена хутор процветал; владельцы его располагали участками удобной земли на суглинистом выступе в море; жилой дом и хозяйственные постройки из массивных дубовых бревен — обломков кораблей, образовавшие четырехугольный двор, видны были издалека и казались прочнее прочного. Но море вдруг начало подмывать выступ. И трем поколениям подряд приходилось переносить хутор все дальше в глубь береговой полосы, чтобы он не сполз в море, и с каждым разом размеры его уменьшались, чтобы легче было его отодвигать. Да и надобности теперь не было в большом доме и просторных службах, раз земельные угодья пожирало море. От всех зданий, состоявших из деревянного каркаса с глинобитными стенами, уцелел только один жилой дом, который предусмотрительно был перенесен подальше от моря, на дорогу, пролегавшую через дюны.
Море перестало разрушать этот берег, — оно уже насытилось землей Маннов, поглотив лучшие ее участки, и теперь подбиралось к драгоценной пище в других местах.
А здесь оно даже старалось прибавить кое-что от себя, выбрасывая на берег песок, который и откладывался широким поясом дюн вокруг обрыва, а в ветреную погоду даже засыпал клочки обработанной земли. Под редкой щетиной растительности на дюнах еще можно было различить следы плуга на старых пашнях, тянувшихся к обрыву и как бы повисших в воздушной синеве над морем.
За многие годы у Маннов сложилась привычка: утром после ночного шторма первым долгом обходить свои береговые участки, проверяя, на сколько еще ограбило их море. Рыбаки и другие люди, вывозившие отсюда песок, способствовали разрушению берега, и случалось, что в морскую пучину обрушивались целые поля с посевами, и долго потом виднелись под водою полосы земли с зелеными всходами или со следами плуга и бороны.
Горько было смотреть Маннам, как неотвратимо гибли их земельные угодья, с каждым унесенным волнами клочком земли, политой их трудовым потом и дававшей им хлеб насущный, уплывала частица их существования, умалялись они сами. С каждою саженью, на которую ближе подступало к их порогу море, пожирая их кормилицу-землю, убывало их благосостояние, умалялось их значение, мельчал их дух.
Они боролись до последнего, цепко держались за землю и только в крайности прибегали к морю за куском хлеба. Сэрен сдался первым; взяв жену из рыбацкого поселка, он и сам стал рыбаком. Но радости это принесло мало. Марен забыть не могла, что муж ее родом из хуторян и что это сказалось на потомстве: сыновья и знать не хотели моря; у них руки зудели, просились обрабатывать землю; дети стремились пристроиться на хуторах, они шли либо в сельские батраки, в поденщики, либо в землекопы. Понемножку откладывали деньжонки, а скопив на билет, уезжали. Теперь все четверо сыновей занимались земледелием в Америке. Вести от них приходили редко. Как видно, тяжелые условия жизни ослабили и родственную связь между членами семьи. Дочери одна за другой пристраивались в услужение, и родители постепенно потеряли их из виду. Лишь самая младшая, Сэрине, засиделась дома сверх тех сроков, когда дети бедняков Обычно вылетают из родного гнезда. Она была слабенькой, и родители ее любили и баловали, как единственное оставшееся при них детище.
Долог был путь предков Сэрена с берега моря наверх к пашням, — трудом многих поколений создавался Хутэр на Мысу. Спуск вниз оказался, как всегда, гораздо быстрее, а на долю Сэрена пришлась самая трудная часть этого пути. Ко времени его вступления в права наследства успели уплыть не только пашни, но и последние остатки добра, нажитого его прадедами. Остались лишь жалкие крохи.
Конец во многом оказался сходен с началом. Сэрен напоминал первых Маннов, между прочим, и тем, что тоже был в некотором роде амфибией: умел приложить руки ко всему понемножку и на суше и на море — и к земледелию, и к рыбной ловле, и к ремеслу. И все-таки ему едва удавалось заработать себе на пропитание, нечего было и думать о том, чтобы припасти лишний грош. Одно дело — быть на подъеме и совсем другое — барахтаться внизу. Вдобавок он, как большинство Маннов, стеснялся брать себе даже то, что приходилось ему по праву.
В роду Маннов привыкли к тому, что другие пожинали лучшие плоды их трудов. Про Маннов и поговорка сложилась, что они словно овцы: чем короче их стригут, тем гуще они обрастают шерстью. Даже неудачи не научили Сэрена крепче стоять за себя.
Когда из-за непогоды нельзя было выйти в море, а на пашне нечего было делать, Сэрен сидел дома за починкой непромокаемых сапог для соседей-рыбаков. Но ему редко платили за эту работу. «Не можешь ли подождать до другого раза?» спрашивали его, и Сэрен не возражал, ему казалось, что это надежно, как копилка. «Таким образом мне подкопится малость на старость лет!» — говорил он. Марен с дочкой частенько пилили его за беспечность, но Сэрен думал иначе и всегда поступал по-своему. Он-то знал женщин: им подавай все сразу и все будет мало.
II Опухоль
Сэрен и Марен уже вырастили детей — всех восьмерых; и сами были теперь не первой молодости. Годы и тяжелый труд начали сказываться, так что не плохо было бы и припасти кое-что к старости. Самая младшая дочка Сэрине тоже была уже взрослой и давно могла бы вылететь из гнезда и если сидела дома на шее у стариков, то на это были особые причины.
Девчонку порядком избаловали, как часто балуют в семье самых младших детей. Говоря правду, она была неженка и боялась чужих людей. «Да и что худого, народив на свет столько ребят, придержать себе на утеху хоть одно детище? — рассуждала Марен. — Холодновато становится в бездетном гнезде!» Сэрен, в сущности, был того же мнения, хоть и ворчал немножко; ему казалось, что и одной бабы в доме больше чем достаточно.
Родители они были чадолюбивые и, редко получая вести от других своих детей, еще крепче привязывались к младшей. Так вот и вышло, что Сэрине оставалась дома и лишь время от времени ходила на поденную работу в рыбацкий поселок или на ближайшие хутора за дюнами. Она считалась красивой девушкой, и отец не мог не согласиться с этим, но все же, на его взгляд, в ней не было настоящей жизни. Пожар ярко-рыжих волос вокруг нежного, чуть веснушчатого лба, ручки, словно игрушечные, и постоять за себя она не умела. Никогда не смотрела в глаза тому, с кем говорила, но робко блуждала взглядом вокруг, — вообще она легко могла сойти за барское дитя.
Поселковая молодежь вздыхала по ней, и парни вечно бродили по дюнам вокруг дома, особенно в теплые тихие ночи. Но она пугливо пряталась от них.
— С придурью уродилась! — говаривал отец, видя, как упорно она закрывала свое окошко.
— Нет, с умом, — возражала мать. — Увидишь, подхватит себе парня из богатого дома.
— Пустая твоя голова, — ворчал Сэрен на ходу. — Вбивать самой себе и девчонке в голову такие бредни!
Сэрен любил жену, но насчет ее ума был не особенно высокого мнения. Когда сыновья, подрастая, делали что-нибудь не так, как нужно, отец всегда говорил: «Вот и Марен мирилась с этим. Она ведь не хуже Сэрена знала, что в конце концов дело-то вовсе не в уме.
Раза два в неделю Сэрине относила в город на продажу отцовский улов рыбы и возвращалась домой с покупками. Пешком до города путь был не близкий, местами дорога шла через лес, где в темные вечера часто попадались бродяги. Конечно, Сэрине боялась.
— Тьфу ты, — сердился Сэрен. — Надо же девчонке всего испытать, иначе никогда из нее человека не выйдет.
Но Марен хотела поберечь свое детище, пока оно еще было около нее, и устроила так, что дочь подвозили на телеге из Хутора на Песках — оттуда как раз в эти дни посылали в город за дрожжами для пива.
С одной стороны, это было не плохо, — Сэрине больше не приходилось опасаться бродяг и других людей, встречи с которыми могли быть неприятны для робкой молодой девушки. Но, с другой стороны, такое удобство не оправдало себя. Оказалось, что длинные пешие прогулки не только не вредили слабому здоровью Сэрине, но даже приносили пользу; теперь же она совсем избаловалась и даже в пище стала разборчивой.
Впрочем, это понятно, коли девушка такая изнеженная, и хоть трудно было теперь Марен доставать то одно, то другое, на сердце у нее стало как-то спокойнее. Исчезли последние сомнения, материнское сердце наконец окончательно уверовало, что Сэрине уродилась «благородной» — разумеется, «милостью божьей», а не по естеству. Ведь Марен безошибочно знала, кто приходится Сэрине матерью, а кто отцом; так что, если бы Сэрену вздумалось усомниться, — ого!.. Бывали же случаи, что такие «благородные» дети попадали в люльки к беднякам и всегда на счастье родителям. И разве это еда для такой, можно сказать, прирожденной барышни: селедка да картошка, камбала да картошка и лишь изредка кусочек шпика? Как же было не побаловать ее? Марен и баловала, а Сэрен, видя это, только сплевывал, словно ему в рот что скверное попало, и уходил от греха подальше.
Но ведь детей легко испортить баловством, и когда дело дошло до того, что Сэрине стало тошнить даже от яичницы, то сама Марен поняла, наконец, что перестаралась, и повела дочку к знахарке. Три раза промывала знахарка нутро Сэрине, и когда это не помогло, пришлось Сэрену добывать лошадь и телегу, чтобы отвезти мать с дочкой к гомеопату. Скрепя сердце согласился он на это. Не то, чтобы Сэрен не любил дочку или совсем не допускал, что Марен была права, когда уверяла, будто девчонка «наспала себе эту хворь»: какая-нибудь зверюшка или другая нечисть заскочила во время сна в рот ей и прошла в нутро, а потом стала выдувать у нее из глотки всякую еду. Слыхал он не раз про такие случаи. Но Сэрену решительно не нравилось, когда из-за этого люди напускали на себя такую блажь на посмешище всему поселку гоняли бы на лошади в город к гомеопату, как бары какие, когда довольно было бы, пожалуй, один раз принять глистогонное.
Понятно, что в семье решающий голос принадлежал Сэрену, — но иногда и Марен удавалось поставить на своем, особенно в серьезных случаях, когда дело касалось блага их потомства. Тогда Марен покидало благоразумие, она отказывалась принимать все доводы Сэрена и стояла на своем, как скала, которую ни перескочишь, ни объедешь. Уж потом Сэрен и досадовал, что ему не подвернулось на язык в нужный миг то волшебное словцо, которое низводило Марен с облаков. Ведь она была настоящей дурой, особенно когда дело касалось потомства. Но, с пустой головой или вовсе без головы, — она в такие важные минуты говорила как будто от лица самой судьбы, и у Сэрена хватало ума замолкать.
На этот раз похоже было, что Марен в самом деле права. Прописанное гомеопатом лекарство — молоко с содой — чудесно подействовало на Сэрине. Она расцвела, стала полнеть — любо-дорого взглянуть было.
Но всему есть предел. Сэрен Манн — отец и кормилец семьи — первый подумал так. А потом и Марен должна была в один прекрасный день сказать себе, что теперь дочка хорошо поправилась. Однако Сэрине все продолжала пухнуть. И пошли у матери с дочкой разговоры — что бы это такое могло быть? Водянка, что ли? Или ожирение? Вообще догадок было много, и мать с дочкой постоянно шушукались между собой, но стоило войти отцу, — умолкали обе.
А он просто сам не свой становился, — на каждом шагу чертыхался, вечно брюзжал. Им обеим и без того приходилось тяжко, особенно бедной девчонке! Да разве этакий чурбан отец догадается пожалеть больную? И наконец Сэрена словно прорвало, с такой злобой и ехидством он крикнул:
— Да девка просто с прибылью! Только и всего!
Тут Марен бурей налетела на мужа.
— Что такое ты болтаешь, пустая голова? Можно подумать, что это ты родил восьмерых детей? Или девчонка тебе в чем-нибудь призналась? Стыд и срам заставлять ее слушать такие паскудные речи. Ну, да уж раз начал, так продолжай. Спроси у нее сам. Отвечай отцу, Сэрине! Это правда, что ты ждешь ребеночка?
Сэрине, понурая, страдающая, испуганная, сидела у печки.
— Тогда это было бы, как с девой Марией, — прошептала она, не поднимая головы. И вдруг вся поникла и зарыдала.
— Вот сам видишь, какой ты безголовый! — с сердцем крикнула Марен. — Девчонка чиста, как младенец в утробе матери. Это у нее опухоль сделалась от болезни, понимаешь? А ты в доме ад устраиваешь, когда девчонка, может быть, смерть в себе носит.
Сэрен Манн втянул голову в плечи и был таков, сбежал в дюны. Уф! Пронесло! А как это она обозвала его? Он — пустая голова?! В первый раз за всю их совместную жизнь случилось такое. Так бы и бросил ей сейчас же это прозвище обратно, чтобы оно не осталось за ним. Но сунуться к взбеленившейся бабе и ревущей девке… Нет, уж лучше подождать!
Сэрен Манн был человек упрямый, и уж что взберет себе в голову, того не вырубишь и топором. Он не говорил ни слова, но на лице у него так и написано было: «с бабами только свяжись, сам не рад будешь!» И Марен не сомневалась насчет его истинного мнения. Ну, да пусть думает, что хочет, лишь бы молчал. И без того девчонка мучается, пьет керосин, ест зеленое мыло, совсем как полоумная. Люди говорят, это помогает от внутренней болезни. Не хватает только, чтобы собственный отец загнал ее своими насмешками в могилу!
С того дня Сэрен избегал сидеть дома, и Марен ничего против этого не имела, — по крайней мере, не торчит перед глазами, не злобствует! А он если не выходил в море на лов, то копался на своем участке или мастерил что-нибудь, а то просто беседовал с рыбаками, сидя на скамейке на высокой дюне, откуда виден был каждый парусник, входивший в бухту или уходивший из нее. Домашние по большей части не тревожили его, но, когда Сэрине становилось очень уж плохо, прибегала Марен, в своей материнской тревоге такая жалкая, что больно было глядеть на нее, умоляла мужа свезти наконец дочку в столицу и показать врачам, пока еще не поздно. Случалось, что Сэрен выходил из себя и, не стесняясь, кричал во всеуслышание: «Да черт тебя побери, старую дуреху, — сама родила восьмерых, а не видишь, что с девкой?!»
Однако Сэрен тотчас же раскаивался, — ведь нельзя же было ему совсем обойтись без семьи и дома, а стоило ему переступить домашний порог, подымался настоящий содом. Но как же быть? Иной раз всякое терпенье лопнет и надо отвести душу, не то сам дурак дураком станешь от этого бабьего вздора. Во всяком случае, его иногда так и подмывало подняться на самую высокую дюну и оттуда выкрикнуть на весь поселок то, что он думает, — просто назло своим бабам.
И вот однажды, когда Сэрен на берегу прикреплял грузила к сети, сверху сбежала к нему, подбирая юбку, Марен.
— Ну, теперь как хочешь, а посылай скорее за донатором! Не то помрет у нас девчонка! — крикнула она. — Сил нет слушать, как она вопит!..
Сэрен, до которого уже долетели крики из хижины, страшно рассердился, запустил в жену камешком и заорал:
— Да тебе черт уши заткнул, что ли? Не разбираешь, отчего она кричит? Марш за повитухой, да живо, не то я тебя подгоню!
Увидев, что он встает, Марен повернулась и побежала наверх домой. Сэрен пожал плечами и сам пошел за повитухой. Потом до самого вечера бродил около дома, но внутрь не заглядывал, а вечером направился в ближний погребок, куда редко захаживал: не до того, коли хочешь содержать в порядке двор и домашнее хозяйство. Дрожащей с непривычки рукою взялся он за щеколду, рывком распахнул дверь и вошел, обуреваемый самыми противоречивыми чувствами.
— Ну теперь небось опухоль спадет, — сказал он, пытаясь подбодрить себя. И весь вечер твердил одно и то же, пока не добрался до дому.
Марен бродила по дюнам, поджидая его. Увидев, в каком он состоянии, она валилась слезами.
— Ну теперь небось опухоль… — начал было Сэрен с самой презрительной миной и сразу осекся: рыданья Марен задели его за живое, перевернули в нем сердце; он не выдержал, обхватил жену за шею и заплакал с нею вместе.
Старики просидели на дюнах, прижавшись друг к другу, до тех пор, пока не выплакались. Новое существо на пути своем в жизнь встречало только неприязнь; теперь над ним были пролиты первые слезы.
После того как старики вернулись к себе и для родильницы с ребенком было сделано все, что нужно, Марен, лежа около Сэрена в широкой постели, взяла руку мужа в свои. Так всегда засыпала она в дни молодости. И теперь она снова испытала сладость тех дней. Оживило ли ее неожиданно появившееся в их доме дитя любви или что другое?
— Ну, теперь поверила, что девчонка-то младенца ждала? — спросил ее Сэрен, когда они уже почти засыпали.
— Да, конечно, — ответила Марен. — Но диковинно все-таки. Как же без мужчины-то?..
— Ох, поди ты со своей чепухой! — сказал Сэрен. И они заснули.
Да, пришлось все же Марен сдаться. «Хотя, — как говорил муж, — чего доброго, она вдруг опять начала бы городить про опухоль. Бабу сам черт не разубедит, если она что-нибудь заберет себе в голову».
Но, разумеется, у Марен хватило ума не отрицать того, в чем убедился бы и слепой, хотя и ощупью. И тем легче было Марен признать жестокую правду, что вопреки всем слезам и клятвам невинной девственницы, в этом все же был замешан мужчина, да еще живший по соседству. Это был сын самого владельца Хутора на Песках, тот самый, что, возвращаясь из города по вечерам, подвозил домой Сэрине, которая боялась идти темной лесной дорогой.
— Нечего сказать, славный способ ты придумала уберечь девчонку от бродяг! — сказал как-то Сэрен, косясь на малютку.
— Что ты мелешь зря? Я думаю, сын хуторянина все же получше бродяги, — обиженно ответила Марен.
Она считала себя правой! Разве не говорила она всегда, что Сэрине высоко взлетит? В девочке была благородная закваска.
И вот однажды пришлось Сэрену надеть праздничный костюм и отправиться на хутор.
— Да, так, значит, девчонка-то родила, — приступил он прямо к делу.
— Вот как? — отозвался сын хуторянина. Сэрен застал его на гумне вместе с отцом, они перетряхивали солому. — Что ж, дело возможное.
— Да, но она прямо на тебя говорит, что ты отец.
— Ишь ты! А может она доказать это?
— Она может присягнуть. Так что лучше тебе жениться на этой негоднице.
Сын хуторянина громко рассмеялся.
— А! Ты еще зубы скалишь? — Сэрен схватил вилы и пошел прямо на парня. Тот, побелев от страха, отступил за молотилку.
— Постой-ка, Сэрен, послушай… — вмешался сам хуторянин. — Давай мы с тобой, старики, выйдем на двор да потолкуем. Молодежь нынче такая несуразная… Так вот, видишь, я не думаю, чтобы сын мой женился на твоей дочке — виноват он там или не виноват, — начал хуторянин, когда они очутились на дворе.
— Заставить можно! — угрожающе сказал Сэрен.
— Видишь ли, заставить его мог бы только суд, а судиться она не пойдет, насколько я ее знаю. Но если бы речь зашла… о том, чтобы… чтобы он помог ей пристроиться, то… Хочешь двести далеров раз навсегда?
Сэрен прикинул в уме, что это огромная сумма за такого жалкого детеныша, и поторопился согласиться, чтобы хуторянин не успел раздумать.
— Но чтобы впредь язык держать за зубами! Никакой тени на семью нашу не наводить и тому подобное! — добавил хуторянин, провожая Сэрена до ворот. — Ребенок получит фамилию матери, а с нами всякие счеты теперь покончены.
— Ну, разумеется, — ответил Сэрен, переминаясь; ему хотелось поскорее уйти: двести далеров лежали у него в кармане, и он боялся, как бы хуторянин не потребовал их обратно.
— На днях я занесу тебе бумагу, и ты распишешься в получении денег. Лучше, если все будет сделано по закону. — Хуторянин произнес это слово так твердо и привычно, что у Сэрена сердце екнуло.
— Да, да, — согласился Сэрен и, держа шапку в руках, вышел за ворота. Вообще он не очень-то ломал шапку перед кем бы то ни было, но двести далеров внушили ему почтение к хуторянину. Значит, хозяева Хутора на Песках были из тех людей, что не только перелезают через изгороди соседей, но умеют и расквитаться за потраву.
Сэрен зашагал по полевым межам. Такой уймы денег у них с Марен не бывало в руках отроду. Удалось бы только позаманчивее разложить перед нею эти бумажки, чтобы ее проняло, а то ведь она забрала себе в голову выдать дочку за сына хуторянина.
III Человек родился
Около полутора миллиардов звезд насчитывается в мировом пространстве, и, как известно, полтора миллиарда человеческих существ живет на земле. Одинаковое число! Недаром утверждали в древности, что каждый человек родится под своей звездой.
Сотни дорого стоящих обсерваторий возведены на земле — и на равнинах и на горных высотах, и работают в этих обсерваториях тысячи талантливых ученых, вооруженных самыми чувствительными приборами, и ночь за ночью исследуют мировое пространство, наблюдают и фотографируют. Всю свою жизнь они занимаются одним делом, — стремятся обессмертить свое имя, — открыть новую звезду, прибавить еще одно новое «небесное тело» к уже известным полутора миллиардам, вращающимся в мировом пространстве.
Ежесекундно рождается на земле новое человеческое существо. Вспыхивает новый светоч, новая звезда, которая, возможно, будет светилом необычайной красоты и, во всяком случае, отличаться своим собственным, никогда еще не виданным спектром. Каждую секунду приветствует землю новое существо, которое, быть может, наделено гениальностью и будет сеять вокруг доброе, прекрасное. Каждую секунду нечто, никогда еще не виданное, становится плотью и кровью, ведь ни один человек не бывает повторением другого и сам он — явление неповторимое. Каждое новое существо подобно тем кометам, которые только раз в течение веков пересекают орбиту Земли и лишь на короткое время чертят над нею световой путь свой. Мгновенная фосфоресценция между двумя вечностями тьмы! И люди радуются каждой новой загорающейся жизни человеческой! Стоят у колыбели новорожденного и смотрят на него, стараясь угадать, что нового принесет он миру?
Увы! Человек не звезда, открытием и регистрацией которой можно стяжать себе славу. Очень часто это лишь незваный-непрошеный гость, прошмыгнувший украдкой в мир за спиной честных, ничего не подозревавших людей и тайком прошедшей сквозь девятимесячное чистилище. И сохрани господь пришельца, если у него «бумаги не в порядке»!
Дитя Сэрине храбро пробило себе путь на белый свет. Как лосось, прыгающий против течения, перескочило оно через все препятствия: слезы, запирательство, плодоизгоняющие средства. И вот малютка с красненьким сморщенным личиком появилась перед глазами людей. Теперь ей нужно было попытаться смягчить их сердца.
Буржуазное общество быстро свело свои счеты с нею — незваной гостьей; конечно, каждый новорожденный человек становится новым слагаемым в общей сумме человечества, но его официальному признанию должны предшествовать: обручение, свадьба и обзаведение родителей своим хозяйством, начиная с люльки и детской колясочки, а затем, когда ребенок вырастет, снова потребуются обручальные кольца, свадьба и появятся новые дети. Но большей частью ничего этого не бывает, если ребенок осмеливается — как дочка Сэрине — появиться на свет жалким «незаконнорожденным» ребенком.
Соответственно этому с нею с первой же минуты и обходились без всяких сентиментальностей, не считаясь с ее хрупкостью и беспомощностью. Незаконнорожденная — значилось на бумажке, переданной повитухой школьному учителю; незаконнорожденная — помечено было затем и в метрическом свидетельстве. И повитуха, и учитель, и пастор — все были заодно, являясь первыми справедливыми мстителями за попранный порядок, все от чистого сердца давали шлепки малютке. Какая польза была девочке от того, что ее отец сын хуторянина, если он не признал своего отцовства — откупился от свадьбы и от всего прочего. Малютка была каким-то уродливым наростом, лишаем на здоровом организме трудолюбивого, благоустроенного общества.
И для собственной матери она оказалась такою же обузой, как для всех прочих. Оправясь после родов, Сэрине сообразила, что она, так же как и ее сестры, может пристроиться служанкой. Ее страх перед чужими людьми совсем исчез, и она нашла себе место где-то в окрестностях. Малютка осталась у деда с бабкой.
Никому на свете, даже старикам, рождение девочка не было в радость. Но все-таки Марен слазила на чердак и разыскала там старую деревянную люльку, уже много лет служившую хранилищем для сетей и разного хлама. Сэрен подбил новые полозья, и бабушка стала не без труда раскачивать люльку опухшими ногами.
На стариков существование малютки тоже ложилось пятном; в конце концов, пожалуй, именно на них. Они-то ожидали от младшей дочери невесть чего, а вот тебе и вся честь и прибыль — незаконнорожденная внучка в люльке! Соседки им даже иногда глаза кололи. То забегут за чем-нибудь к Марен и кинут ей фразу: «Ну, каково на старости лет снова с малышами возиться!» То рыбаки в гавани или в погребке добродушно пристанут к Сэрену: «Ты у нас хоть куда! Еще ребят плодишь! С тебя причитается!»
Но с этим старики скоро смирились. И теперь, когда им пришлось снова возиться с малюткой, в их памяти воскресло многое, давно забытое, давно прошедшее, как будто молодость вернулась к ним. Право, точно они сами произвели ее на свет! И разве можно было не привязаться к такой беспомощной крошке?
IV Первые шаги Дитте
Да, нередко бывает и так, что одна женщина носит ребенка в своем чреве, а другая отдает ему свое сердце. Нелегко было Марен на старости лет снова принять на себя обязанности матери, — тем более нелегко, что сердце у нее было горячее. Настоящая-то мать была как за горами, за долами, находилась в услужении, а здесь ребенок надрывался от крика.
Бабушка ухаживала за малюткой изо всех сил: доставала ей хорошее молоко, давала соску из жеваного хлеба с маслом и сахаром, но грудью кормить малютку, конечно, некому было. И часто, лежа на руках у бабушки, она тыкалась чмокающим ротиком в увядшую шею старухи, водила ручонкой у нее за пазухой и словно просила ее о чем-то своим настойчивым взглядом.
— Вишь, как ее тянет? Природа-то что значит! — говорил Сэрен.
А Марен, старая благоразумная Марен, не могла удержаться от слез.
Восьмерых ребят выкормила она своей грудью, одного за другим, и как ни давно это было, сейчас все снова оживало в ее памяти и в сердце. Живо вспоминалось ей, как чудесно это было, когда ребеночек лежал у ее груди, играл соском, словно котенок мышкой, то теребил его, то терся об него носиком, то как будто терял его и вдруг набрасывался на него и сосал, сосал, посапывая от усердия, захлебываясь и воркуя, а глазенки при этом все больше и больше соловели и делались совсем сонными. Потом он отваливался от груди всем своим разомлевшим тельцем и засыпал сытый, усталый. Теперь Марен казалось, что за всю ее долгую жизнь не было у нее более блаженных минут, чем те, когда она согревала, насыщала и убаюкивала у своей груди маленькое, беспомощное существо. Даже в молодости танцы и веселье в кругу подруг и, сверстников не давали ей такой радости. Она и сейчас порой как будто ощущала новый прилив молока. Руки Марен до сих пор еще словно чувствовали тяжесть малюток, с каждым днем наливавшихся, выраставших и прибывавших в весе от ее молока. И ее охватывало жгучее желание стать снова молодой и приложить к полной груди малютку-внучку.
Марен удивлялась поведению своей дочери. Сэрине редко к ним наведывалась, да и то только вечером, в сумерки, чтобы никто не мог увидать ее. Никакой нежности к ребенку она, по-видимому, не питала. Сама она стала такой крепкой, пышной и ничем больше не напоминала веснушчатую тщедушную девушку — неженку и недотрогу. Налилась соками, расцвела и стала такой самостоятельной, уверенной в себе. Подобные превращения не редкость, многие хилые женщины преображаются после рождения первого ребенка, словно сбрасывают с себя злые чары.
Сама же малютка Дитте, по-видимому, не особенно-то и нуждалась в материнской нежности. Несмотря на искусственное питание, она хорошо развивалась и скоро стала уже настолько большой и крепкой, что могла таскать на ножонках деревянные башмачки и бродить по дюнам, держась за руку деда, а стало быть, под самою надежною охраною.
Вообще же за ней плохо присматривали Малютка была такая непоседа, а у Марен всегда находилось немало дел, которыми никак нельзя пренебречь. Ведь не бросать же поминутно работу и бегать за девочкой, а за это время молоко уйдет или каша пригорит! Марен была хозяйка рачительная, и порой нелегко ей было смотреть за Дитте. Ну, да бог милостив, а без шишек ни один ребенок не вырастает.
Дитте постоянно и набивала себе шишки. Ей еще радоваться надо было, что она растет у бабушки с дедушкой. Любопытная девчурка совала свой носик везде и всюду и просто чудом божьим не оказывалась иной раз под рассыпавшейся поленницей. Всякие беды постигали ее по сто раз на день — всё из-за ее любопытства и недомыслия. Всегда она кидалась вперед, не глядя перед собой, и хорошо, если дорога оказывалась ровной, — иначе она летела кувырком. Поэтому головенка у нее была вся в шишках и царапинах, однако Дитте не стала осторожнее. Хорошо еще, что ее не лечили шлепками. Когда ей бывало очень уж больно, дедушке стоило только подуть на ушибленное местечко или же бабушке приложить к шишке холодное лезвие ножа, как боль исчезала.
— Прошло, — говорила Дитте, повертывая к бабушке или дедушке улыбающуюся рожицу, хотя на длинных ресницах еще дрожали слезинки, а кожа на щечках покраснела от слез.
— Ну, еще бы, — отвечала бабушка. — А ты бы поосторожнее была, толстушка!
Это прозвище так и осталось за Дитте: она и впрямь была толстушкой — такой неуклюжей и забавной. Сердиться на нее никак невозможно было, хотя порою она сильно докучала старикам. В ее головенке никак не укладывалось, что нельзя делать то или другое. Чуть что увидит — за все тотчас же хватается ручонками.
— Ничего-то она не смыслит, — многозначительно говорил Сэрен. — Вот что значит бабье. А не лучше ли ее немножко хлопнуть по рукам!
Но Марен, не слушая его, брала девочку на руки и в сотый раз вразумляла ее, что так не годится. И наконец девочка кое-что сообразила. То есть шалить-то она шалила по-прежнему, как ей вздумается, ни чуточки не смущаясь, но затем, сложив губки трубочкой, тянулась к старикам за поцелуем, приговаривая: «Ну, поцелуй теперь и скажи: не буду больше!» Кто же способен устоять против этого!
— Ну? По-твоему, не смыслит она, что хорошо, что худо? — торжествовала Марен.
Сэрен смеялся.
— Еще бы! Сначала сделает, а потом подумает — хорошо ли сделала. Видать, что баба!
Приучить Дитте к опрятности тоже не сразу удалось, — очень уж она была рассеянная и забывала попроситься вовремя или просто не успевала, вот и случалась беда. Но тут уж Марен шутить не любила. Она подождала некоторое время, чтобы ее не назвали торопыгой, и однажды решительно подхватила Дитте, отнесла к колодцу и окунула ее в ведро с только что налитой водой. Холодная ванна подействовала: с тех пор Дитте не забывала проситься вовремя.
Всем женщинам в поселке приходилось немало повозиться, чтобы приучить своих ребятишек к опрятности. Заметив, как рано усвоила себе хорошие привычки Дитте, они стали прибегать за помощью к Марен. Старуха считала, что они и сами отлично могли применить то же средство: невелика ведь хитрость окунуть ребенка задом в холодную воду! Но женщины не хотели верить, что это такое простое дело, и добивались, чтобы Марен непременно сама окунула — «иначе толку не будет». Волей-неволей ей приходилось соглашаться, и почти всегда ее средство помогало. «Ты свое дело знаешь, — говорили женщины, суя ей в руки селедку или кусок сала. — Ну, да ведь тебе за наукой не далеко было ходить».
Они намекали на то, что Марен, слыла знахаркой, и намек этот был ей не очень-то приятен; зато сало и селедки были всегда кстати, и мало ли что вынуждены бедняки проглатывать вместе с едой!
Хуже всех проказ Дитте была ее привычка сбрасывать вещи на пол в разбивать. Девчонке непременно нужно было всюду сунуть свой вздернутый носик, но из-за малого роста она не до всего могла дотянуться, вот и тащила все вниз.
Пришлось Сэрену научиться склеивать черепки, чтобы поменьше убытка было. Дитте изрядно попадало, но запугать ее не удавалось.
— Ее ничем не проймешь, — говорил дед, — настоящая баба!
Впрочем, в глубине души он радовался ее настойчивости. Но Марен должна была глядеть в оба и постоянно дрожала и за вещи и за самое проказницу.
Однажды Дитте опрокинула на себя миску с горячим молоком и сильно обварилась, только это и излечило ее от любопытства. Бабушке пришлось уложить ее в постель, смазывать ожоги яичным маслом, прикладывать к ним ломтики сырого картофеля. Ожоги не скоро зажили, зато не осталось ни единого рубца. После того прошла о Марен новая слава: какая она мастерица лечить ожоги, и соседи стали прибегать к ней за помощью при всяких повреждениях.
Дитте росла да росла, как молодой кустик, — день за днем выгоняя листочек за листочком. Выдавались и такие трудные дни, что дед с бабкой начинали озабоченно совещаться: не пора ли им в конце концов договориться и быть построже с девчонкой. Но она вдруг сама бросала свои старые проказы и принималась за новые. «Словно по мелководью плаваешь, — сетовал Сэрен, — то и дело на что-нибудь натыкаешься». Старики дивились и раздумывали: да неужто они сами и их дети были в свое время такими же? Раньше им в голову не приходило спрашивать себя об этом: некогда им было заниматься своим потомством. Досуга и заработка еле хватало на самый необходимый уход за ребятишками. Сэрен весь был поглощен добыванием средств на пропитание семьи, а Марен — заботой, как бы свести концы с концами. Но теперь, как бы ни были они заняты, им пришлось кое о чем подумать и поневоле многому подивиться.
— Просто удивительно, что малый подчас открывает глаза старому, хотя тот долго прожил на свете и много испытал, — говорила иной раз Марев.
— Пустое мелешь, — отвечал Сэрен, но по тону его чувствовалось, что и сам он думает то же.
Дитте в самом деле была удивительным созданьицем. Хоть судьба и обидела ее, природа все же оказалась щедрее. Первые улыбки Дитте приносили старикам радость, ее младенческие слезы — горе. Это появившееся на свет дитя было настоящим подарком доживавшим свой век старикам. Никто не сделал ничего, чтобы облегчить ей путь в мир, — наоборот, все стремились извести ее и обидеть. И все же в один прекрасный день она очутилась в колыбели, щуря от света свои невинные и синие, как небо, глазенки. С первой же минуты Дитте внесла в дом беспокойство и тревогу; немало потоптались старики вокруг ее люльки, и много разных дум передумано было ими, пока она спала. Еще большими волнениями наполнилась жизнь стариков, когда малютка начала понимать. Крошке была всего неделя, а она уже различала лица окружающих, а трех недель отроду улыбнулась дедушке! Он совсем одурел от радости и вечером побежал в погребок рассказать о событии. Видал ли кто такую малютку? Уже смеется! Когда же Дитте стала отвечать на заигрыванья старших, им трудно стало заниматься чем-нибудь другим, особенно Сэрену. Его то и дело тянуло к девочке — пободать ее в животик своими корявыми пальцами, заставить ее огласить комнату младенческим щебетом, — что может быть чудеснее этого? Марен отгоняла его от колыбели раз двадцать в день. А что было, когда Дитте начала переступать ножонками по полу! Маленький, беспомощный незаконнорожденный ребенок, с трудом отвоевавший себе право на существование, благодарил за него, озаряя новым светом клонившуюся к закату жизнь двух стариков. Опять радостно стало им просыпаться по утрам для нового дня, — вся жизнь приобретала новый смысл.
Чего стоила одна походка толстушки — нетвердая, с перевальцем, презабавная! А глубочайшая серьезность, сосредоточенность, с какой малютка, сцапав что-нибудь и крепко зажав в ручонке, переползала через порог и потом, глядя себе под ноги, трусила по дороге прямо вперед, как будто позади у нее ровно ничего не было! Тут уж никак не удержаться было от искушения последить за нею. Марен, крадучись, огибала дом и кивком головы подзывала Сэрена, торопила его. Сэрен немедленно бросал топор или деревянный молоток, которым забивал колья, и, высунув для равновесия кончик языка, на цыпочках крался по траве среди дюн. «Бог весть, что она забрала себе в голову?» — бормотал он, и оба потихоньку следовали за малюткой.
Дитте, увлеченная своим путешествием, пройдя некоторое расстояние, вдруг спохватывалась, что она совсем одна, и, чувствуя себя безгранично несчастной, покинутой, поднимала отчаянный крик. Тут уж показывались старики, и Дитте бросалась к ним в объятия, радуясь, что она опять с ними.
И как-то внезапно миновало то время, когда все, от чего она удалялась шагов на десять, выпадало из поля ее зрения. Она стала устремлять взгляды кверху, искать глазами лица людей, тогда как раньше видела только ноги тех, кто оказывался поблизости от нее. Разглядев однажды вдали дома, она самостоятельно пустилась в путь-дорогу. Теперь за нею нужен был глаз да глаз, — слишком соблазняло ее то, что виднелось вдали.
— Ей уже мало нас одних, — ее манит новое, незнакомое! — печально сказал Сэрен.
В этот день Дитте впервые отдалилась от них по-настоящему, и Сэрен, вспомнив при этом многое из лично пережитого, на секунду почувствовал себя одиноким. Но Марен не растерялась — малютка сумела научить ее уму-разуму. Марен накинула платок на голову и отправилась с Дитте в поселок, — пусть девочка поиграет с другими ребятишками.
V Дедушка снова берется за работу
Кроме хижины да клочка дюн, Сэрен владел третьей долей рыболовной лодки со снастью. Но еще до рождения Дитте он свою долю сдал исполу одному молодому рыбаку из поселка, у которого не было средств для вступления в рыбацкую артель.
У стариков потребности были самые скромные, а Сэрине поденщиной зарабатывала себе на наряды, поэтому они кое-как и перебивались своей шестой частью улова да тем, что Сэрену удавалось иногда подработать.
Но теперь в доме снова появились малые дети!.. Малютку Дитте надо было кормить и одевать, — правда, пока ей не много требовалось, но уже само появление ребенка создавало новые затруднения. Теперь уже нельзя было мириться с тем чтобы доживать свой век кое-как, ничего не требуя терпеливо дожидаясь, когда придет их время отправляться на кладбище, и утешая себя мыслью, что расходы на похороны будут покрыты продажей хижины Нельзя было ограничиться тем, чтобы донашивать старую одежду и питаться одной вяленой рыбой, стараясь дотянуть до могилы, лишь бы только не попасть в богадельню общины. Сэрен и Марен вдруг обнаружили, что их жизненный путь еще не кончен, — в люльке лежало новое существо, требовавшее от них новых забот и новых усиленных трудов Теперь уже нельзя было жить по-стариковски, на покое и довольствоваться шестой долей улова с одной рыбачьей лодки. Долг призывал снова взяться за работу.
С появлением малютки прошлое стало напоминать им о себе. Как только под низким потолком их хижины раздался детский плач, стариков разом отбросило на четверть века назад, к той поре, когда они еще не ощущали бремени лет и вполне могли постоять за себя.
С этой ступени нетрудно было шагнуть и еще дальше назад — к тем счастливым дням, когда ни Сэрен, ни Марен вообще не знали усталости, когда он после долгого и тяжелого трудового дня шагал за целую милю туда, где жила в работницах Марен, проводил с нею ночь до самой зари и опять шагал целую милю обратно, чтобы быть первым на работе.
Теперь старики словно помолодели! Разве не появился у них снова малыш? В люльке пищал, искал соски крохотный младенческий ротик. Сэрен выполз из своей стариковской берлоги и опять начал внимательно поглядывать на море и на небо, так как взял обратно свой пай и стал сам выезжать на лов.
Вначале дело как будто наладилось. Стояло лето, когда появление Дитте заставило стариков пережить вторую молодость. Но тяжеленько было Сэрену поспевать за другими рыбаками, работать веслом наравне с ними и часами тянуть невод. А осенью, когда сельдь в море шла на большой глубине и невод приходилось запускать чуть не на самое дно, его словно в тиски зажимало в тяжелых нижних слоях воды, Сэрену совсем не по силам было тащить тоню наравне с другими. Пришлось взяться за другую работу, полегче. Это задевало старика, а еще обиднее было сознавать, что теперь он не может стоять на вахте в холодные ночи, — это он-то, который в свое время был парень хоть куда!
Чтобы и себя подбодрить и другим показаться в выгодном свете, Сэрен начинал вспоминать о своем былом удальстве и рассказывал о нем всем, кому не лень было слушать. Да, в те времена и снасть была хуже, и одежонка плохая, а зимы куда суровее, чем теперь. Мороз сковывал льдом все воды, и рыбакам, чтобы кормиться, приходилось забираться далеко-далеко от берега, таща за собою санки со всею снастью, и уже там, на большой глубине, прорубать лед и ставить сети. О шерстяном белье тогда и понятия не имели, а на непромокаемую верхнюю одежду не хватало средств, для тепла надевали только грубые парусиновые штаны, длинные чулки я высокие сапоги с деревянными подошвами. А когда рыбакам случалось падать в воду, они продолжали работать в мокрой одежде, которая так смерзалась, что ее и не снять было.
Сэрену доставляло какое-то особенное удовольствие вспоминать об этих временах теперь, когда он уже не годился для таких вылазок, ведь тогда, прежде чем взяться за лов, нужно было отмахать на веслах чуть не до самых берегов Швеции. И вот он сидел на корме — такой маленький, лишний, шевелил без надобности шкотом, — паруса висели тряпками, — и рассказывал, рассказывал без конца. Рыбаки, налегая на тяжелые весла, слушали его краем уха. Может быть, это и правда, и отцы их об этом говорили, но рассказы Сэрена не становились занимательнее оттого, что он без конца повторял их своим беззубым ртом. И ничуть не легче было им двигать тяжелую лодку под его хвастливые речи. Старик Сэрен был вроде камня в неводе.
Только Марен могла протянуть старику руку помощи, переложив часть ноши с его спины на свою собственную. Она видела, как быстро падали его силы, хоть он и пытался скрывать это от нее, и решила: будь что будет, как-нибудь прокормимся и без лодки. Уж очень тяжело было старику подыматься по ночам с постели, когда его будили; как свинцом налитые, ныли старые кости, и Марен приходилось поддерживать мужа, чтобы он мог спустить ноги с кровати.
— Останься-ка разок дома, отдохни по-настоящему, — посоветовала она ему однажды. — Большая волна сегодня.
На следующую ночь она под другим предлогом снова уговорила его остаться дома. Марен не решалась напрямик предложить старику развязаться с морем и с лодкой. Сэрен был упрям и самолюбив. Но, если ей удалось бы вот так каждый раз удерживать его дома, компаньоны, наверное, постарались бы сами разрешить этот вопрос.
И вот Сэрен оставался дома и день, и два, и больше, а людям Марен говорила, что он болен. Постепенно он отвыкал от дела, — компаньонам это не нравилось, и они потребовали, чтобы он продал свой пай. Теперь старик поневоле сидел дома и хотя сердился и ворчал, но в сущности был доволен. Он возился около своей хижины, чинил рыбакам непромокаемую одежду и высокие сапоги с деревянными подошвами и постепенно приободрился. Марен поняла, что ему стало лучше, так как он опять начал добродушно придираться к ней.
Больше всего старик любил, держа Дитте за руку, бродить по дюнам и приглядывать за овцами. Сэрен вообще не мог обходиться без девочки и, если не держал ее ручонку в своей, чувствовал себя вроде калеки, у которого отобрали костыль. Да ведь недаром же Дитте, еще будучи трех недель от роду, его первого одарила своей улыбкой, а месяцев четырех-пяти выпускала изо рта соску и поворачивала голову в ту сторону, где слышались его ковыляющие шаги.
— Тебе-то и горя мало, — говорила Марен не то в шутку, не то с упреком. — У вас с нею одни игры да забавы. А кое-кому приходится нянчиться с нею, качать ее и сухую и мокрую; это не так уж весело.
Но в сущности она охотно уступала мужу первое место и в сердце Дитте, — ведь он был здесь хозяин, всему дому голова. Да и тоже нуждался в ласке.
И никто лучше дедушки не понимал Дитте. Оба они могли часами не расставаться и болтать без умолку. Их занимали и овцы, и корабли, и деревья. Хотя Дитте невзлюбила деревья за то, что они «делали ветер». Сэрен однажды объяснил внучке, что ветер от бога и нужен рыбакам, — когда он дует, им не приходится так много работать веслами. А вот деревья ничего не делают, за то бог и привязал их к одному месту.
— А какой он такой — бог? — неожиданно спросила Дитте.
Сэрен растерялся. Он долго прожил на свете и сохранил веру, внушенную ему с детства. В особенно трудные минуты жизни он даже призывал бога на помощь, а вот подумать о том — какой же он такой, этот бог, — ему в голову не приходило: слишком трудный вопрос задал ему малый ребенок.
— Бог-то? — переспросил Сэрен протяжно, чтобы выиграть время и придумать ответ. — У него, видишь, полны руки дела, и порою нам думается, что ему даже и не управиться! Вот он каков!
Дитте как будто удовлетворилась объяснением.
Вначале, бывало, говорил больше Сэрен, а девочка слушала. Но скоро они поменялись ролями. Она вела разговор, а старик слушал и дивился. Девчурка говорила прямо-таки поразительные вещи, которые стоило пересказать Марен — если бы только можно было все запомнить. Сэрен многое запоминал, но кое-что, к досаде его, все же ускользало у него из памяти.
— Да, такой девчонки никто и не видывал еще на белом свете, — говорил он Марен, возвращаясь с Дитте после прогулки. — Не то что наши дети были, куда им до нее!
— Вот видишь! Недаром ее отец сын хуторянина! — отвечала Марен, которая все еще никак не могла оправиться от величайшего в своей жизни поражения и старалась хоть чем-нибудь утешить себя.
Но Сэрен, как всегда, отвечал на это пренебрежительным смешком да прибавлял;
— А ты, Марен, как была, так и осталась пустоголовой!
VI Смерть Сэрена Манна
Сэрен еле-еле перебрался через порог чуть не ползком. Цепляясь обеими руками за гладкую круглую печку, поднялся на ноги и, пошатнувшись, жалобно застонал. Марен вошла из кухни как раз в ту минуту, когда он уже готов был снова свалиться. Она быстро раздела его и уложила в постель.
— Дрянь дело, — проговорил Сэрен, полежав немного.
— Да что с тобой такое? — озабоченно спросила жена.
— Лопнуло что-то внутри, — слабым голосом ответил старик.
Больше Сэрен ничего не пожелал сказать, но понемногу Марен выведала у него, что случилось с ним это, когда он хотел выдернуть из земли кол для привязи овец. Этот кол сидел не очень-то крепко, но сегодня его не пошатнуть было, словно кто под землей вцепился в него и держал. Тогда Сэрен перекинул веревку через плечо и поднатужился изо всех сил. Тот, кто был под землей, выпустил кол, но у Сэрена словно лопнуло что-то внутри. В глазах потемнело, а в земле перед ним разверзлась большая черная яма.
Марен, в страхе глядя на мужа, спросила:
— Четырехугольная яма?
Да, Сэрену она показалась четырехугольной..
— А девчонка где? — спохватилась Марен.
Она куда-то исчезла, когда он упал без чувств.
Марен, не помня себя от страха, побежала на дюны. Дитте оказалась там, она сидела и забавлялась цветочками. К счастью, никакой ямы Марен не нашла. Овцы бродили на свободе, кол торчал на своем месте, а старая, гнилая веревка, как видно, лопнула, когда Сэрен, хорошенько поднатужившись, рванул ее. Оттого, верно, он и упал навзничь, так как уже не твердо держался на ногах; упал и ушибся.
Марен связала веревку и подошла к девочке.
— Пойдем, Дитте, домой, дедушке надо сварить кофейку, — сказала она и вдруг оцепенела. Ей показалось, что Дитте сплела из соломинок крестик и воткнула его в букетик цветов!
Молча взяла старуха внучку за руку и повела домой. Теперь она знала, что их ждет.
Сэрен не подымался с постели. Никаких повреждений у него не было, но не было также ни малейшей охоты двигаться, вставать. Старик почти перестал шутить, — он молча лежал и глядел в пространство, теребя кисть шнура{2}, свисавшего с полога кровати.
Время от времени он словно приходил в себя, и Марен, которая всегда была возле него, настойчиво спрашивала:
— Да скажи же, что такое с тобой?
— Со мной? Да ничего, конец мой подходит, — отвечал Сэрен.
Марен не прочь была полечить его своими снадобьями, но пришлось ей откаэаться от этого до более подходящего случая, — Сэрен сам видел в земле черную яму, тут уж ничем не поможешь.
Вот как все обернулось! Марен не хуже Сэрена знала, что дело плохо, но она была женщиной с характером и неохотно сдавалась. Она не побоялась бы поспорить из-за Сэрена с самим господом богом, если бы только у старика была какая-нибудь известная ей болезнь, которую можно было бы лечить. Но к нему подступала сама смерть, а с нею уже не сладишь. Если б еще попробовать выгнать из него дурную кровь, чтобы жизненная сила могла взять верх? — Не послать ли за цирюльником, чтобы он выпустил из тебя дурную кровь? — предлагала Марен. — Может быть, она в тебе застоялась, вот тебе и плохо.
Но Сэрен отказался от кровопускания.
— И без этого сумею околеть, — говорил он со своим обычным кощунственным смешком.
Марен умолкала и со вздохом уходила. Ох, он до старости остался тем же безбожником, каким был в молодости. Пусть господь не будет к нему слишком суров!
Первое время Сэрен очень скучал без девочки, и Марен то и дело должна была приводить ее к дедушкиной кровати. Но Дитте быстро надоедало смирно сидеть на стуле около старика, и она пользовалась первым же удобным случаем, чтобы улизнуть, к большому огорчению Сэрена. Он чувствовал себя тогда покинутым, лишним. Просто горе было с ним!
Но постепенно Сэрен сам перестал интересоваться ребенком и вообще всем окружающим. Мысли его отлетали от настоящего все дальше и дальше в прошлое. Марен отлично понимала, что это значит. В его памяти всплывали дни минувшей молодости и даже первые годы детства. Просто удивительно, сколько вспоминал он подробностей из раннего детства, которые до сих пор таились в глубине памяти. Даже не верилось, что человек в состоянии припомнить то, что пережил двух-трех лет от роду. Но это были не выдумки, не пустая болтовня. Из поселка приходили навещать Сэрена люди постарше его и подтверждали каждое его слово. Удивительно было, как он перебирал в памяти все события своей жизни и тотчас же забывал о них и больше не возвращался к ним. Постепенно уходя все дальше и дальше в глубь прошлого и как будто вторично переживая все, он забывал более поздние годы, забывал так основательно, как будто никогда этого и не было.
Порою Марен становилось досадно. Они ведь прожили вместе долгую жизнь и много чего испытали; приятно было бы вспомнить — напоследок, перед разлукой о том или о другом вместе, как бы пережить все это еще разок. Но у Сэрена не было потребности вспоминать об их совместной жизни. Зато сад родного хутора, смытый волнами, когда Сэрену было пять лет, все время занимал его мысли. Он вспоминал, где росло то или другое дерево и какие были на нем плоды.
А когда его памяти уже не хватало, чтобы перенестись назад, в самое раннее детство, он возвращался к дням юности, силою фантазии перевоплощаясь то в пастушонка, то в юнгу.
В сознании Сэрена многое из пережитого смешалось, в тревожных снах ему бессвязно представлялись события его жизни: веселые похождения юности и период тяжелого труда и лишений. То он был в море и крепил парус, собираясь поспорить с бурей, то надрывался, обрабатывая землю. Марен, бодрствуя около него, ужасалась, видя его мучительные усилия медленно, шаг за шагом проследить всю свою жизнь. И, господи прости, чего только не проделывал он в разное время и хорошего и плохого, а Марен-то и знать ни о чем не знала!
Когда кошмар переставал мучить старика, он лежал совсем ослабевший, с каплями пота на лбу. Старые рыбаки заходили проведать Сэрена; их посещение опять вызывало в его памяти пережитое. Сам-то он настолько ослабел, что, сказав несколько слов, умолкал, но другие продолжали беседу, как ни просила их Марен не слишком стараться, — ведь Сэрен долго потом не может успокоиться, лежит и бредит всем этим.
Тяжелее всего были для Сэрена воспоминания о родном хуторе. Больно было глядеть на старика, как он боролся с ненасытною жадностью наступавшего на хутор моря, как хватался худыми пальцами за перину. Да, тяжким было расставанье Сэрена с жизнью, не легче самой жизни его.
И вот однажды, когда Марен возвращалась из сельской лавочки, навстречу ей выбежала Дитте с криком:
— Дедушка умер!
Сэрен лежал без сознания на пороге кухни: он в кровь зашиб бедро. Старик полез на сундук, чтобы перевести стрелки на часах. Марен притащила его на постель, обмыла рану, уложила, и он лежал тихо, не сводя с нее глаз, время от времени спрашивая слабым голосом, подвигаются ли стрелки часов. Марен поняла, что смертный час его близок.
Утром в день своей смерти Сэрен опять вдруг совсем изменился, словно вернулся к себе домой для последнего прощания со всем окружающим — он был очень слаб, но в полной памяти. Ему хотелось поговорить еще разок обо всем, и он, перескакивая с одного на другое, немного оживился. Впервые за все это время у него хватило сил посидеть на постели и выпить кофе. Всякий раз, как Марен подходила к нему, он ласково похлопывал ее рукой. Ни дать ни взять, большой ребенок! И Марен, в свою очередь, прижимала к себе, гладила его седую голову.
— Ты не очень изменился, — говорила она, — волосы у тебя и теперь почти такие же густые и мягкие, как в дни нашей молодости.
Сэрен откинулся на спину и долго-долго лежал молча, не сводя глаз с Марен и не выпуская ее руки из своей. Выцветшие глаза его как будто любовались ею.
— Послушай, Марен… не распустишь ли ты для меня свои косы? — застенчиво прошептал он наконец, как будто ему трудно было решиться сказать это.
— Ну, что за выдумки, — отозвалась Марен, пряча лицо у него на груди. — Мы с тобой уж старики, Сэрен.
— Расплети для меня свои косы, — попросил он уже настойчивее и ослабевшими пальцами попытался сам распустить ей волосы.
Марен вспомнился вечер на берегу моря, много-много лет тому назад, когда они вдвоем укрылись в тени вытащенной на сушу лодки… И она, со слезами, распустила свои седые волосы, так что они упали на голову Сэрена и закрыли его лицо. Бережно захватил он рукою несколько прядей:
— Какие они длинные и густые… закроют нас обоих, — тихо прошептал он.
Отголоском далеких лет юности прозвучали эти слова.
— Нет, нет, — твердила Марен, рыдая. — Они поседели и стали такими жидкими и жесткими. Но как ты любовался ими тогда!
Сэрен лежал, закрыв глаза и держа крепко Марен за руку. У нее было еще много дела в кухне, и она несколько раз пыталась осторожно высвободить руку, но он тотчас открывал глаза. Так и пришлось все оставить и присесть у кровати на плетеный стул. Она долго сидела, понурясь, и слезы текли у нее по морщинистым щекам. Дружно прожили они с Сэреном много лет; бывали у них, конечно, и размолвки, случалось им и поцарапаться, но что за беда? В серьезных делах они были всегда заодно, желали друг другу только добра, — оба они жили общею жизнью, никогда не отделяли себя один от другого. Как же им вдруг разлучиться теперь? Почему бы им не продолжать своего пути вместе до самого конца? Ведь Марен тоже суждено попасть туда, куда сейчас уходит Сэрен. Пожалуй, там ему уже не нужны будут ничьи заботы, не надо будет чинить ему белье, штопать и сушить чулки. Но они могли бы просто взяться за руки и погулять вместе по райскому саду. Они ведь часто толковали между собою, как хорошо было бы им вместе съездить куда-нибудь поглядеть, что там, по ту сторону больших лесов. Из всех этих разговоров так ничего и не вышло, — вечно что-нибудь мешало Марен тронуться из дому. Вот и славно было бы теперь отправиться с Сэреном туда, куда он уже собрался. Марен совсем не прочь была поглядеть — что там, по ту сторону… Да, если б не Дитте! Всегда, всегда, бывало, связывали ее дети, и теперь то же самое. Видно, время еще не приспело, придется обождать, отпустить Сэрена одного.
Сэрен, казалось, уснул крепко, и она тихонько высвободила руку. Но, как только собралась заняться делом, он открыл глаза, и взгляд его остановился на распущенных волосах Марен и на ее заплаканном лице.
— Не плачь, Марен, — сказал он. — Вы с Дитте прокормитесь. Но если хочешь порадовать меня… убери свои волосы, как тогда… когда мы шли с тобой к венцу. Слышишь, Марен?
— Да мне же не причесаться так самой, — отнекивалась старая женщина и снова расплакалась. Все теперь волновало ее до слез. Но Сэрен настаивал.
Тогда Марен кинулась в поселок со всех ног, — чтобы не оставлять больного одного надолго, — и упросила женщину, которая обыкновенно убирала невест к венцу, уложить ее седые волосы, как полагалось — тремя буклями. Вернувшись, она застала Сэрена в большом волнении, но, увидев жену, он сразу успокоился и долго лежал, глядя на нее. Она сидела у постели мужа, держала его за руку и плакала. Грудь Сэрена тяжело подымалась и опускалась.
И вдруг он сказал так громко, как давно уже не говорил:
— Мы с тобой делили и горе и радость, Марен. Теперь конец. Будешь ли ты верна мне на то время, что тебе еще остается быть здесь?
Он приподнялся на локте и пытливо поглядел ей в лицо.
Марен вытерла затуманенные слегами глаза и ответила ему преданным, любящим взглядом, а затем медленно проговорила:
— Никогда никого другого не было в моем сердце и никогда не будет. Сам господь тому свидетель. Можешь смело положиться на меня, Сэрен.
Сэрен упал головой на подушку и закрыл глаза. Вскоре его рука выскользнула из руки Марен.
VII Без кормильца
После смерти Сэрена туго пришлось двум осиротевшим обитательницам Хижины на Мысу. Как ни слаб был старик, но все же кое-что зарабатывал и вообще служил им опорой в жизни. Теперь в доме не стало хозяина, — не стало их кормильца. Марен приходилось быть не только как можно экономнее, чтобы сводить концы с концами, но и самой добывать средства к жизни на двоих, а это было для нее делом непривычным.
Почти все, что в свое время получил Сэрен за свой пай, как совладелец лодки и снасти, они прожили: на похороны ушли последние средства. Соседи знали наперечет все имущество Сэрена, и некоторое время — до похорон и после — многие усердно занимались подсчетами, не сходясь лишь в одном пункте: куда девались те двести далеров, «раз навсегда» выплаченные за ребенка? Да, на что они пошли? Нового старики ничего не купили, и Сэрен упорно отказывался вложить деньги в приобретение донного невода — новейшей рыболовной снасти, испытанной уже в разных местах и, по слухам, несравнимой ни с какою другою. Рассказывали, что с таким неводом некоторым рыбакам удавалось в одну ночь покрыть все расходы по его приобретению. Сэрен, однако, не пожелал дать денег, и так как никогда не случалось, чтобы в течение жизни одного поколения дважды появлялась в поселке такая крупная сумма, то местные рыбаки продолжали пользоваться старым неводом.
Известно было только то, что деньги не были вложены в какое-либо дело и не проедены. Старики нисколько не изменили своего прежнего образа жизни, а если бы они промотали те двести далеров, — люди уж пронюхали бы. Словом, можно было предположить одно: Марен припрятала денежки для девчонки, чтобы та не осталась бы на мели после смерти обоих стариков. Вообще разговоров о старухе с девочкой было немало — главное, насчет того, как и чем они будут кормиться, дальше этого интерес к ним не простирался. Ведь в семье были взрослые дети, которым полагалось взять на себя все заботы. Двое-трое из них были на похоронах, но, конечно, они явились главным образом затем, чтобы выяснить — не осталось ли какого наследства, и сразу уехали, как только покойника предали земле. Похоже было, что они постарались замести за собой следы; во всяком случае, они и не подумали взять к себе старуху с ребенком, и Марен вряд ли даже узнала толком, где они живут. Она-то, впрочем, и не печалилась о том, что потеряет их след, так как чувствовала, чего можно ожидать от деток, когда те повернутся спиною к родительскому дому. И пусть лучше зарастут для них травою все тропы к этому дому — лишь бы только Дитте была с нею! С этих пор они остались вдвоем на белом свете.
— Все-таки они могли бы помогать хоть немножко, — говорили Марен соседки. — Как-никак, они ведь тебе родные дети!
— Ну, чего там! — отмахивалась Марен.
Конечно, она выносила их в своем чреве, и нелегко ей было родить восьмерых детей. Но, пожалуй, и им не много радости принесла жизнь, раз они не чувствовали себя хоть чем-нибудь обязанными родной матери. Да, недаром говорится: «Одна мать может выкормить восьмерых ребят, но кто слыхал, чтобы восемь ребят кормили одну мать?» Нет, Марен довольна была и тем, что они жили на отлете, не вертелись вокруг нее и не совали нос в ее дела.
Чтобы добыть деньжонок на житье, она пыталась продать хижину и клочок дюн, но покупателей на них не нашлось. Тогда она сдала почти весь дом одному семейному рабочему, оставив себе лишь одну комнатку и уголок в кухне. Устроившись таким образом, Марен подбила себе и девочке деревянные башмаки железными гвоздиками с плоскими шляпками, достала суковатую палку Сэрена и, потеплее одевшись сама и закутав Дитте, стала обходить соседей.
Каждый день, во всякую погоду, они с раннего утра обходили хижину за хижиной, хутор за хутором. Марен приблизительно знала, кому и что чинил в свое время Сэрен, — теперь настала пора получить за работу. Но она не требовала своего, как другие, а только становилась у порога и, выдвинув вперед девчонку, теребила длинный кожаный кошель, какие в ходу у рыбаков, и затягивала свою песню — почти одну и ту же у каждого порога:
— Да благословит бог ваш труд и вашу пищу… и всех вас! Трудные пошли времена, ох!.. И на все нужны деньги, ох! Дорого стало жить, да и старость одолевает. И все-то купить нужно — и сальца и сольцы, как говорится, все до последней крупинки, право слово! Как же быть старухе без деньжонок?..
Когда Марен «пошла по миру», как говорили люди, то хотя большинство их было в долгу у Сэрена, — все же с ней и с ребенком обходились, как с нищими. Частенько заставляли их дожидаться в сенях или за порогом чистой комнаты в то время, как другие то и дело шмыгали мимо нее. Ничем нельзя так унизить человека, указать ему «его место», как заставить его, без особой нужды, постоять за порогом. А если человек и тогда не почувствует своей зависимости, — у него, стало быть, в голове не все-ладно.
Марен свою зависимость от других чувствовала так сильно, что внутри у нее все кипело, но она не смирялась с этим, а, напротив, ожесточалась. Она была достаточно умна, чтобы не показывать этого, всячески крепилась и, как ни была стара, запасалась понемногу новым опытом. А быть может, ребенок молодил ее дух настолько, что она легче приноравливалась к обстановке.
Вот, стало быть, как обходятся с нею люди, когда она стала нуждаться в их помощи. А когда с теми же людьми случалась беда или им требовалась какая-нибудь помощь с ее стороны, они вели себя совсем по-другому. Тогда они вскачь мчались за нею, нередко среди ночи стучали кнутовищем в ее окошко и не отставали, пока она не соглашалась поехать с ними — помочь им.
Марен была умна и неплохо соображала. Она просто не пользовалась своими способностями — раз нужды в этом не было. Пока Сэрен был с нею и все держал в своих руках, к чему было ей размышлять да рассуждать? «Нехорошо, если у руля стоит не один, а двое» — это старая рыбачка отлично знала и лишь в самых серьезных случаях прикладывала к рулю и свою руку, — впрочем, чаще всего тайком, незаметно для Сэрена.
Он прозвал ее «пустоголовой» и в последний раз назвал ее так всего за неделю до своей смерти. Желая утешить ее, Сэрен сказал тогда: «Увидишь, все уладится, Марен. Только не будь такой пустоголовой».
И тут Марен в первый раз в жизни запротестовала. Пришлось Сэрену напомнить ей о Сэрине.
— Разве тогда ты не проглядела того, что всякому в глаза бросалось? Разве не пичкала девчонку зеленым мылом да керосином, думала, что у нее опухоль?
— Так у нее и была опухоль, — невозмутимо ответила Марен.
Сэрен вытаращил на нее глаза:
— Ну знаешь…
И вдруг в ее простодушном лице промелькнуло что-то, отчего у него чуть не помутилось в голове.
— Вот оно что. Вот оно что, — пробормотал он, — да ведь тебя бы в тюрьму упекли…
Марен добродушно помигала отяжелевшими веками.
— Ну, разве таких, пустоголовых, сажают…
У Сэрена дрожь пробежала по спине. Он прожил с Марен сорок пять лет и всегда считал ее простоватой, «пустою головой», с тем бы и в могилу сошел. А выходит, пожалуй, что это она верховодила им и всеми в доме. Ходила по самому краю пропасти, взвалив себе на плечи и его и все хозяйство, и только прикидывалась простофилей.
VIII Марен-знахарка
Резкий ветер дул с моря, разбрызгивал пену волн и приносил с собой на дюны мокрый снег. Он хлопьями оседал на кустах и сухих побегах песчанки, а те осадки, что не задерживались высоким берегом, леденели в воздухе и буря уносила их в глубь страны.
Море так и бурлило. Над клокочущим прибоем клубилась туманная мгла. Казалось, сама бездна выплевывает из своей неистощимой утробы холод и ужас. А ревущая пасть ее без конца выдыхала туман, который, как ледяной бритвой, резал лицо человеку и адским огнем обжигал ему горло при вдохе.
По дюнам с трудом пробирались две неуклюжие фигуры — старуха с маленькой девочкой; они были так закутаны, столько на них надето было разного тряпья, что их почти и не различить в этом густом тумане.
Люди с интересом следили за ними из своих хижин, разбросанных по дюнам; чуть не у каждого окошка торчала по крайней мере одна женщина, приплюснув нос к стеклу. «Марен-знахарка вышла! Видно, собирается полетать в такую бурю!» — сообщала она старикам или больным, сидевшим в глубине комнаты. И все, кто еще в силах был двигаться, тащились к окошкам. Всем любопытно было взглянуть на такое зрелище.
— Погодка в самый раз для ведьминых полетов! — смеялась молодежь. — А где же у нее помело?
Люди постарше качали головами.
— С Марен шутки плохи! Она знает «слово» и делает много добра людям. Ну, а если когда и поддастся искушению сыграть с ними шутку, попользоваться своей «силой», то кто на ее месте удержался бы от этого? Сегодня она, должно быть, в ударе, и хорошо было бы посмотреть, как она испробует свою силу. У-у! Как ей дует вслед!
Бабушка и внучка шли по тропе, проходившей по самому краю обрыва, местами уже подмытого волнами. Снизу доносился грохот прибоя, вихрь воды и песка крутился в воздухе, вверху слышались крики чаек и других морских птиц, рассекавших плотный воздух своими сильными крыльями. Камнем падали они вниз на отмель, где разбивались волны, и мгновенно взмывали кверху, держа в клюве добычу — рыбу, которая только что, словно обезумевшая, трепыхалась на песке.
Как ни странно казалось со стороны, что старуха с девочкой старались держаться поближе к краю обрыва, однако там было не так ветрено и гораздо легче идти. Налетавшие с моря шквалы, разбиваясь о высокую стену обрыва, вновь обрушивались на землю уже значительно дальше. Поэтому в тех местах, где тропа вилась по самому краю, старуха могла даже отогнуть плотно закрывавший ей рот платок, чтобы перевести дух. Но нечего было и пытаться перекинуться друг с другом хоть словом.
В одном месте тропа проходила между кустами терновника; подстригаемый ветром, он рос косою стеной. Под его защитой путницы могли отдышаться. Усталая, продрогшая, голодная Дитте хныкала.
— Ну, ну, ведь ты уже большая девочка, веди же себя как следует. Сейчас придем домой. — Старуха прикрыла девочку своей шалью, дрожащими пальцами стряхнула с ее волос налипшие снежные хлопья и, подышав на окоченевшие пальчики Дитте, еще раз подбодрила ее: — Будь умницей. Придем домой, я тебя угощу сладкой булочкой и горячим кофейком. Вот зерна у меня в мешке! Понюхай-ка!
Бабушка приоткрыла мешок, подвешенный под шалью к ее поясу; она совала туда все, что ей подавали из съестного и других необходимых вещей.
Девочка сунула носик в мешок, но не сразу сдалась на уговоры.
— А на чем же мы сварим кофе, ведь у нас нет дров? — недовольно протянула она.
— Разве? А бабушка вчера вечерком побывала на берегу в гостях у старой барки. Ты-то сладко спала и ничего не слыхала.
— Разве там еще остались дрова?
— Ш-ш, дитятко! Береговой надсмотрщик может услышать нас. У него уши длинные… И жалованье он получает от начальства за то, чтобы у бедняков было не слишком тепло. Вот он и должен забирать себе одному все, что выбросит море.
— Но ты же не боишься его, бабушка? Ты колдунья!
— Ну, конечно, бабушка может его сглазить… И еще похуже: напустить на него порчу, если он будет плохо вести себя. Или наградить его «прострелом», чтобы ему не шевельнуться было. Пусть зовет тогда знахарку Марен, чтобы растерла ему поясницу. Ох, у бабушки самой водянка в ногах и все косточки ноют, даром что слывет она колдуньей-ведьмой… и к тому же чуть ли не мошенницей. А как же быть, когда такой старой, заморенной кляче приходится кормить два рта? И ты радуйся, что у тебя бабушка — ведьма. Одна она на всем свете заботится о тебе… И уж лентяйкой ее, во всяком случае, никто не назовет. Ей вот семьдесят два уже стукнуло, и весь свой век она на других работала. Никому не приходилось понукать ее.
Сидеть тут было хорошо, тепло, но девочку стало клонить ко сну, и пришлось им снова двинуться в путь.
— Не то мы с тобой задремлем тут, а Черный дядя подкрадется и заберет нас, — пугала старуха хныкавшую внучку, укутывая ее платком.
— Какой Черный дядя? — От любопытства Дитте даже хныкать перестала.
— Черный дядя?.. Он под землей живет, на кладбище; мертвецам могилы сдает внаймы, и ему хочется, чтобы дом у него всегда был полон жильцов.
Дитте совсем не хотелось уйти в землю к Черному дяде, и она торопливо шагала, держась за бабушкину руку. Тропа вела теперь в глубь от берега, ветер дул уже в спину, и вообще буря утихала.
Когда они поравнялись с Хутором на Песках, девочка отказалась идти дальше.
— Зайдем туда, попросим что-нибудь, — пристала она к бабушке, дергая ее за руку. — Я есть хочу!
— Иисусе Христе, спятила ты, девчонка? Нам с тобой нельзя туда и носа показать!
— Так я одна пойду! — решительно заявила Дитте, выпустила бабушкину руку и побежала к воротам, но вдруг все-таки приостановилась. — А почему нам с тобой нельзя туда? — крикнула она бабушке.
Марен подошла и, взяв ее снова за руку, тихо ответила:
— Потому что… родной отец твой, пожалуй, погонит нас кнутом от дверей. Пойдем домой, будь умницей.
— Ты так его боишься? — упрямилась девчонка. Она не привыкла, чтобы бабушка перед кем-нибудь отступала.
Ну, бояться-то старуха не боялась. Какая уж боязнь в такие плохие времена! Но бедняки предпочитают поворачиваться к ветру спиной и пережидать, пока он утихнет. А впрочем… с какой стати им обходить Хутор на Песках? Подумаешь, святыня какая! Если человек не хочет, чтобы его родное детище попадалось ему на глаза, пусть переносит свой хутор в другой приход. Обе они и ничего плохого не сделали, ровно ничего. И, пожалуй, и недаром девчонка заупрямилась. Марен была не из тех, кто боится искушать судьбу, — особенно когда она, видимо, может смилостивиться над ней.
— Ну, так зайдем, — сказала она девочке и толкнула ворота. — Не съедят же нас.
Они прошли во двор через широкий крытый проход, служивший также складом сельскохозяйственных орудий и топлива. Вдоль одной стены был аккуратно сложен штабелями торф — под самые стропила крыши. Хозяева, как видно, не собирались мерзнуть зимою. Марен, пересекая двор наискосок, узнавала знакомые ей места. Ведь в молодости она служила тут одно время работницей, чтобы быть поближе к Сэрену и к родному дому. Давненько это было, и хозяйничал здесь тогда дед нынешнего молодого хозяина хутора — настоящий скряга, который не давал людям ни поесть досыта, ни выспаться. Деньги все копил! Старик, отец нынешнего хозяина, умерший почти в одно время с Сэреном, был в то время еще совсем молодым парнем и часто подкрадывался, бывало, под окошко к молодым работницам. Из-за этого у него с Сэреном и вышли нелады! С тех пор Марен не заглядывала сюда, — Сэрен не позволял. Да он и сам здесь больше не появлялся, если не считать того раза, когда он скрепя сердце пришел сюда ради Сэрине. Конечно, давши слово, держись… Но это ведь давно было, и двести далеров — не на век же все-таки даны! Сэрен умер, а Марен на старости лет по-другому стала смотреть на жизнь. Холод и голод ожесточили ее, породили «чуждое ей раньше упрямое озлобление к тем, кто сидит в тепле и уюте, кому не приходится рыскать, как собаке, во всякую погоду, и к тем, кто из-за минутного развлечения возложил на ее старые, слабые плечи тяжкое бремя на долгие годы. В самом деле, чего она так долго стеснялась показать хозяевам хутора их детище? Они, пожалуй, скучали по нем! И отчего бы не уступить желанию девчонки? А может быть, это и воля божья. Не сам ли господь вложил в уста девочки настойчивое требование переступить порог отцовского дома?
Совесть у старухи все-таки была не совсем спокойна, когда она, прижав к себе Дитте, стояла в сенях, дожидаясь, чтобы кто-нибудь вышел к ним. Сам хозяин, видно, был в отъезде, и это обрадовало Марен. Слышно было, как работница доила в хлеву корову, а работника в это время года вряд ли держали на хуторе.
По-прежнему у входа в сени лежал треснувший мельничный жернов — вместо ступени, а посредине сеней каменная могильная плита с розетками по углам; надпись на ней уже совершенно стерлась теперь.
Из комнаты вышла молодая хозяйка. Марен еще ни разу не видела ее. Хозяйка была одета наряднее, чем это принято среди здешних молодых хуторянок, и с виду такая кроткая, приветливая. Она повела старуху с девчонкой в комнату, помогла им раздеться и повесила их шали и платки просушиться у печки; потом усадила обеих на скамью и поставила перед ними еду и питье. А пока хлопотала, ласково с ними разговаривала; особенно сердечно отнеслась она к Дитте и этим почти растрогала Марен.
— Откуда вы? Из каких мест? — спросила потом молодая хозяйка, подсев к ним.
— Откуда? ответила Марен, прожевывая кусок. — Откуда берутся на земле бедняки? Кому везет: живут себе припеваючи, занимают место не по праву, а иным господь позабыл отвести местечко — кроме уголка на кладбище. Но ты сама-то, видно, нездешняя?
Да, молодая хозяйка была с острова Фальстера. С какой теплотой в голосе произнесла она родное название!
— Это далеко отсюда? — спросила Марен, вскинув на нее глаза, глядевшие до тех пор в тарелку.
— Да, от столицы еще целый день езды по железной дороге и на лошадях.
— Стало быть, нынче с Песков за женами ездят по железным дорогам? А в любовницы и здешние годятся! Да, да! Подальше прокатиться — повыгодней жениться!
Молодая хозяйка с недоумением посмотрела на Марен и сказала:
— Мы познакомились в Высшей Народной школе.
— Вот как? И он побывал в Высшей школе? Да, да; нынче все на благородный манер норовят. Ты-то, видно, не гуляла с ним до свадьбы.
Молодая хозяйка покраснела под взглядом старухи.
— Как вы… странно разговариваете…
— А как еще разговаривать беззубой старухе? Ну, а это не странно — что отец живет в тепле и холе, а его родное детище босиком по миру бегает, побирается?
— На что вы намекаете? — робко прошептала молодая хозяйка.
— На то, что известно и богу и людям здешним, но о чем тебе никто не сказал. Погляди на девчонку — ей незачем выдумывать себе отца. Была бы на свете справедливость, так моя дочь сидела бы тут хозяйкой, а кое-кому… Ну, да голодать и мерзнуть тебе все-таки не пришлось бы.
Марен, разговаривая, обсасывала свиную косточку. Зубов у старухи не было, и она за едой чавкала, а сало текло у нее по пальцам и подбородку.
Молодая хозяйка подошла к ней с фартуком.
— Дайте я оботру вас, матушка, — сказала она и бережно вытерла старухе рот и пальцы. У самой у нее руки тряслись, а в лице не осталось ни кровинки.
Старуха не оттолкнула заботливой руки, но крепко сжатые губы впалого рта словно окаменели. Вдруг она обхватила своими корявыми руками бедра молодой хозяйки и пробормотала:
— Целовано-миловано! — Потом, проводя рукой по ее животу, вещим тоном добавила: — Трудные будут роды, ох, какие будут трудные!
Молодая женщина пошатнулась под ее руками и, не вскрикнув, свалилась на пол без чувств. Дитте взвизгнула.
Марен перепугалась того, что натворила, но даже и не подумала оказать помощь хозяйке, сорвала с печки шали и платки и, волоча за руку Дитте, бросилась к дверям. И только уже на краю поселка, у сарая со спасательными лодками — приостановилась, чтобы как следует закутать девочку и себя.
Дитте все еще дрожала.
— Ты ее совсем убила, бабушка?
Старуху от этих слов передернуло.
— Конечно, нет! Что ты глупости болтаешь! — резко ответила она и подтолкнула девочку. — Шагай поживее! — Дитте к такому тону не привыкла и, оробев, побежала вперед.
В хижине у них было холодно, и Марен уложила внучку в постель, а сама принялась собирать топливо, разожгла печурку, поставила кипятить воду для кофе и, расхаживая по кухне, бормотала себе под нос:
— Ведьма… чертовка… Еще бы! А кто виноват во всем? Хочешь добраться до виноватого, ударишь и невинного.
— Что ты говоришь, бабушка? — спросила Дитте.
— Ну… я говорю только, что отец твой найдет теперь дорогу к нам, да не с пустыми руками.
В сумерках к хижине подкатила телега; примчался сам хозяин Хутора на Песках. Однако он был с пустыми руками и взбешенный донельзя, еще с порога начал ругаться. Марен предусмотрительно обвязала голову платком, будто от холода, и теперь могла прикинуться, что ничего не расслышала.
— Эге, да к нам редкие гости пожаловали, — сказала она и с улыбкой пригласила его войти.
— Ты не воображай, что я к тебе в гости приехал, злодейка! Нет, я потащу тебя к себе, сию же минуту! И не упирайся лучше!.. — жиденьким, несколько визгливым голоском напустился на нее Андерс Ольсен и схватил старуху за руку.
Марен живо высвободила свою руку.
— Что с тобой? — она посмотрела на него с удивлением.
— Что со мной? И ты еще спрашиваешь, зловредный оборотень? Разве ты не побывала сегодня после обеда у меня на хуторе, да еще с девчонкой? Ведь откупились от вас, заплатили деньгами, чтобы вы не лезли к нам… Ты по злобе напустила порчу на мою жену! Она лежала замертво и теперь мучается. Но я сволоку тебя к начальству, добьюсь, что тебя сожгут, старую ведьму!.. — Он весь кипел от ярости и размахивал кулаками перед носом Марен.
— Ах, ты, стало быть, и на костер людей посылаешь? — насмешливо спросила Марен. — Может, сам огонь разжигаешь, чтобы заодно прогреть себе поясницу? Ну, я вижу, что ты взваливаешь на себя больше, чем твоя спина может снести!
— Что, что? Куда ты гнешь? — зашипел хозяин Хутора на Песках, делая вид, будто вот-вот кинется на Марен и бросит ее на свою телегу. — Разве это не правда, что ты была сегодня у моей жены и колдовала над ней? — Он угрожающе топтался около старухи, но тронуть ее побаивался. — И какое тебе дело до моей поясницы? Ты что же, и меня хочешь испортить? — Он кричал, но в глазах его виден был страх.
— Нет мне никакого дела ни до твоей поясницы, ни до тебя самого! Только всякому понятно, что добро скряги растащит воронье. Побереги свою силу для молодой жены, а то как раз надорвешься, если будешь возиться с такой старой ведьмой, как я. На кого же ей тогда опереться?
Андерс Ольсен приехал с твердым намерением втащить старую ведьму на телегу и привезти на хутор, если не добром, так силой, чтобы она тотчас же сняла с его жены порчу. А вышло так, что сидел он тут на дровяном ящике и с самым жалким видом мял в руках свою шапку. Марен правильно оценила его: не настоящий это мужчина, слишком уж криклив. Плохого закала были все мужчины в роду владельцев Хутора на Песках, малорослые, сухопарые и жадные. Этот вот успел уже облысеть, на шее у затылка так и выпирали кости, а рот напоминал туго стянутый кошель с деньгами. Мало радости быть женой такого мужа — сразу видно, что скаред! И глядите, как он весь трясется от страха за себя, — про жену-то и позабыл уже!..
Марен поставила перед ним на кухонный стол чашку кофе, а сама с миской в руках присела на ступеньку чердачной лесенки.
— Пей на здоровье, — сказала она, видя, что он медлит. — Никто здесь не желает зла ни тебе, ни твоим.
— А ты все-таки побывала у нас и натворила беды, — пробормотал он, нехотя берясь за чашку. Он как будто опасался пить кофе, и не пить тоже боязно.
— Мы обе заходили на твой хутор, это верно. Непогода загнала нас, по доброй воле мы бы уж, конечно, не зашли бы. — Марен говорила снисходительным тоном. — А что касается твоей молодой жены, так ей в самом деле стало худо, когда она услыхала, за какого человека вышла. Тебе досталась хорошая, добрая жена, слишком хорошая для такого, как ты. Она не знала, куда посадить нас, чем угостить получше, а ты вот хотел живьем сжечь нас. Ну, что ж, хоть разок бы погрелись хорошенько перед смертью. Тут у нас ведь холодище, — некому привезти нам возик торфу.
— Не мне ли еще торф тебе возить? — пробурчал сквозь зубы хозяин Хутора на Песках, рот у него совсем сжался.
— Детище-то ведь все-таки твое — и мерзнет и голодает, как ни бьешься.
— За нее уплачено раз навсегда.
— Ну, понятно, — значит, с плеч долой! Что ж, пусть детище твое помирает. Надо надеяться, господь не пошлет тебе больше ни одного.
Хозяин Хутора на Песках вздрогнул и словно пришел в себя.
— Сними колдовство с моей жены! — закричал он и стукнул кулаком по столу.
— Нечего мне делать с твоей женой. Но посмотрим, пошлет ли тебе господь еще хоть одного ребенка. Не думаю.
— Оставь господа в покое и расколдуй мою жену! — прохрипел он, наступая на Марен. — Или я задушу тебя, хоть ты и ведьма! — Его худые искривленные пальцы шевелились, лицо посерело.
— Берегись! Твое единственное детище лежит там в постели и может услышать тебя. — Марен распахнула дверь в комнатку. — Слышишь, Дитте? Отец твой хочет меня задушить.
Андерс Ольсен отвернулся от старухи и пошел к дверям. С минуту он постоял, нащупывая щеколду, словно не зная, что предпринять, затем вернулся и сел на дровяной ящик. Сидел, уставясь в глиняный пол, поплевывая и растирая плевки сапогом. Совсем стариком выглядел он, да и с детства был таков; про хозяев Хутора на Песках даже поговорка сложилась, что «недаром они на свет рождаются беззубыми».
Марен подошла поближе и остановилась против него.
— Ты, небось, о сыне думаешь, которого родит тебе молодая, здоровая жена? Пожалуй, думаешь, как это приятно будет, когда он подрастет и станет бегать за тобой по полям, как жеребенок около упряжки, и как ты будешь учить его править плугом. Но ведь у многих нет сыновей-наследников, а они все-таки копят да копят и другой радости себе не ищут. А как часто у скупого отца сын бывает мотом и пускает по ветру отцовское наследство! Должно быть, это божья кара тем, кто слишком дрожит над своим добром. Ты, конечно, можешь бороться со своей судьбой, пока у тебя поясница не отнимется — как это со многими бывает, а когда станешь совсем калекой — продать свой хутор чужим людям и переехать в город в красивый домик. У богатых людей много путей!
Хозяин Хутора на Песках поднял голову.
— Ты должна расколдовать мою жену, — сказал он смиренно. — Мы в долгу не останемся.
— Ноги моей не будет больше в вашем хуторе, ни моей, ни девочки. Но ты можешь прислать свою жену к нам. Вреда ей от этого никакого не будет. Но сам понимаешь, если хочешь ей добра, пусть она приедет сюда на возу с торфом.
На следующее утро молодая, красивая хозяйка Хутора на Песках проехала через поселок к Хижине на Мысу, покачиваясь на высоком возу с торфом. Сам-то хозяин, видно, постеснялся показаться со своей женой на телеге, — за кучера сидел подросток-батрак. Многие любопытствовали — кому это везут торф, и всюду в окнах домов виднелись приплюснутые к стеклам носы. А из хижин, откуда не видно было дороги, выскакивала то одна, то другая женщина, набрасывая впопыхах платок на голову, и бежали к домику знахарки. Там батрак таскал торф в сарайчик Марен, а молодая хозяйка Хутора на Песках выкладывала в кухоньке на стол яйца, ветчину, сладкие булки, масло и много еще равных вкусных вещей. Любопытные так и шмыгали мимо, носясь на окошки, а некоторые, осмелев, забегали под каким-нибудь предлогом к постояльцам Марен, занимавшим большую половину дома. Марен знала, зачем забегали люди, но не обращала на них внимания. Она уже привыкла к тому, что за нею наблюдают из помещения, занятого жильцами.
Через несколько дней по всему приходу разнеслась весть, что хозяин Хутора на Песках начал заботиться о своей незаконной дочери. Правда, делал он это не по доброй воле: Марен заставила! И никто понять не мог — почему она так долго терпела, если могла добиться своего. Но теперь ей, стало быть, надоело ждать, и она принялась понемножку колдовать над молодой женой хуторянина, — то посылала в ее утробу ребенка, то изгоняла его оттуда — как Марен было угодно. Поговаривали, будто она для этого приспособила свою внучку: заклинаниями превращала ее в неродившегося младенца, которому приходилось искать себе материнскую утробу. Вот почему Дитте и росла так плохо! Девочка в самом деле была поразительно мала для своих лет, хотя как будто и не хворала ничем. Попросту ей не давали расти как следует, — иначе ведь гораздо труднее было бы превращать ее в народившегося младенца.
Иметь в приходе такую знахарку было и хорошо и плохо. В том, что Марен ведьма, сомневаться не приходилось, но все же она была ведьма совестливая. Никто не мог сказать, что она злоупотребляет своей силой — людям во вред, нечистому на пользу. Она была добра к беднякам — многих вылечивала даром. А что касается хозяина Хутора на Песках, то все радовались, когда ему перепадала от кого-нибудь оплеуха.
Слава Марен росла. Люди бывают забывчивы, когда им хорошо живется, и хозяин Хутора на Песках не всегда аккуратно снабжал старуху с внучкой. Случалось, он не заглядывал к ним подолгу, иногда же навещал их усердно. У него в роду была эта болезнь — «прострел». Бывало, дед его и отец, или он сам, нагнутся в поле поднять камень или вырвать сорную траву, и вдруг — стоп, словно нечистая сила схватит за поясницу, насквозь простреливает, выпрямиться не дает, хоть на четвереньках домой ползи. А потом неделями валяйся в кровати, катайся от боли, изнывай от безделья и позволяй изводить себя всякими припарками, пиявками, кровососными банками и умными советами. И вот в какой-то день боль исчезала столь же внезапно, как и появлялась. Сами они приписывали этот недуг «дурному глазу» женщин, считавших себя обиженными и мстивших так подло. А люди полагали, что это небо карает их за то, что они уж очень жадны. Все Ольсены страшно боялись за свою поясницу, и Андерс Ольсен, чуть только она у него, бывало, заноет, торопился задобрить Марен-знахарку.
Щедрот Андерса, разумеется, не хватало на жизнь, но по его примеру многие стали обращаться за помощью к Марен.
Она сама хорошенько не понимала, как все это вышло, но, сообразуясь с обстоятельствами, по мере сил старалась извлечь из этого пользу. Припоминала кое-какие мудрые советы своей матери, а в общем действовала по наитию. Кроме того, люди по большей части сами подсказывали ей, что надо говорить и делать.
Часто слыша, что ее называют колдуньей, она иногда и сама готова была поверить этому, а иногда просто дивилась людской глупости. Но всегда со вздохом вспоминала те времена, когда Сэрен еще был жив и она была всего-навсего «пустой головой». Хорошие, спокойные времена были!
А вот теперь она осталась одинокой. Сэрен лежал в могиле, люди же боялись ее, как чумы, и только в случае надобности обращались к ней. Между собой все они ладили, забегали друг к другу посудачить о том о сем, но никому и в голову не приходило зайти запросто к Марен, — выпить у нее чашку кофе. Даже жильцы сторонились ее, хотя частенько нуждались в ее помощи и пользовались ею. Лишь одно живое существо на всем белом свете не боялось Марен, доверчиво бежало ей навстречу — девчонка.
Тяжела и горька доля знахарки, и не по доброй воле Марен выбрала себе такое ремесло. Но оно давало ей кусок хлеба!
IX Дитте попадает в сказочную страну
Дитте стала уже такой большой, что бегала одна, куда вздумается, и Марен о ней не беспокоилась. Девочке хотелось поиграть с детьми, и она разыскивала себе сверстников в поселке и в одиноких хижинах у лесной опушки. Но родители, завидев ее, звали своих ребятишек домой. Мало-помалу дети сами стали избегать ее, бросали в нее камнями, когда она подходила, обзывали «шлюхиным отродьем», «ведьминой девчонкой». Она попробовала было свести знакомство с другими детьми, но результат был тот же. Наконец Дитте поняла, что везде будет лишней. Не надеялась она больше и на детей бабушкиных жильцов; только, бывало, они все вместе начнут в дюнах плести ожерелья и кольца из голубенькой скабиозы, как прибежит мать и уведет детей.
Поневоле Дитте привыкла играть одна и искать себе развлечения среди неодушевленных предметов. Она не была прихотлива и ей ничего не стоило оживлять свои игрушки — камешки, чурбачки; она распределяла между ними роли — кому кем быть, и игра шла отлично; они все были такие сговорчивые. Пожалуй, даже чересчур!
Так что ей приходилось иной раз самой подстрекать их к бунту, чтобы не соскучиться. Однажды попался ей в хламе старый деревянный башмак Сэрена. Марен нарисовала на носке башмака лицо и отдала Дитте свой старый передник, чтобы завернуть в него башмак, как ребенка. Дитте немедленно превратила башмак в мальчишку-озорника, который не слушался и то и дело выкидывал разные штуки. Вечно он был «мокрый» и ужас сколько ломал и портил всяких вещей! Дитте поминутно приходилось развертывать его и пороть.
Сама Дитте была уже настолько большая, что с нею такой беды больше не случалось, но сам по себе этот вопрос не переставал ее занимать, как самый важный на свете. Дитте по опыту знала, что никакая другая провинность не обнаруживается так быстро и не вызывает столь чувствительного наказания.
Однажды она сидела на солнышке перед хижиной и голосом, полным материнской заботы и досады, распекала своего негодного мальчишку. Марен чистила у кухонного крылечка селедки и забавлялась болтовней ребенка. Вдруг она услыхала:
— Посмей только еще раз! Мы снесем тебя к ведьме, пусть она откусит от тебя кусочек!
Марен кинулась к девочке:
— Это ты от кого слышала? Кто так говорил? — Ее морщинистое лицо передергивалось.
— Петрушка! — весело откликнулась Дитте.
— Не дурачься! Скажи скорее, кто так говорил? Когда? Ну, отвечай же по-человечески, дитятко человеческое.
Девочка попыталась состроить серьезную мину и выпалила:
— Петрушкин песик… завтра!
Толку от нее не добиться было. Конечно, девочке скучно одной, вот она и выдумывает всякий вздор. Марен вернулась к своим делам, с виду как будто спокойная, а на самом деле она крепко задумалась.
Все-таки девочка болтала неспроста. Недавно Марей вылечила одного парня-матроса из поселка, который постоянно просыпался в постели мокрым и много лет страдал от насмешек товарищей. Первым делом Марен взяла с парня зарок — держать язык за зубами, иначе толку от леченья не будет. И вот всех разбирало любопытство: что такое она с ним сделала? Но из парня ничего нельзя было вытянуть, и люди высказывали всевозможные догадки, одна другой хуже!
Марен поливала селедки слезами, которые так и капали в кадочку. Старуха последнее время часто плакала, сетуя на злобу мирскую и на собственную судьбу. Она твердо знала, что ничего, кроме добра, ближним своим не делала, они же относилась к ней, как к зачумленной, и отравляли вокруг нее воздух своей трусливой ненавистью. Люди прибегали к Марен за помощью, когда с ними случалась беда, но в глубине души все эти беды ей же и приписывали и старательно окуривали свое помещение после ее ухода. Марен в их глазах была источником и рассадником всякого зла. Даже невинные детские уста называли ее ведьмой!
Зрение Марен сильно пострадало от забот и горестей, пережитых ею после смерти Сэрена. Глаза у нее постоянно были воспалены, а веки покраснели и совсем опухли от слез. Но окрестные жители видели в этом лишнее доказательство того, что она была самой настоящей ведьмой. Зрение старухи ослабело, а порою она и вовсе ничего не видела. Приходилось прибегать за помощью к молодым глазам внучки, но та не прочь была при случае и выкинуть какую-нибудь штуку. Дитте была не злая девочка — не злая и не добрая, а просто еще малый ребенок, которому нужна перемена, нужны развлечения. Ее мирок был донельзя однообразен, беден событиями, вот она и пользовалась всяким случаем пережить что-нибудь новенькое, даже сама выдумывала события, чтобы не скучать.
Но однажды в самом деле произошло событие. Марен разрешили набирать себе каждую неделю по вторникам охапку хвороста в лесу, принадлежавшем крупному барскому поместью Эллебек. Само поместье было далеко за общественными лугами, но лес подходил к дюнам. Отопить жилье одной вязанкой, конечно, нельзя было, но чтобы кофейку сварить — хватало и этого.
Походы за хворостом каждый вторник превращались в приятные прогулки. Бабушка с внучкой брали с собой еду и усаживались перекусить в каком-нибудь красивом местечке, чаще всего на берегу большого лесного озера. К тому же Дитте и в лес и обратно домой ехала на тачке. Набрав хворосту, они собирали ягоды, а поближе к зиме — плоды терновника и дикие яблоки, которые потом пекли в печурке.
Но рот Обушка расхворалась: она так много плакала, что глаза ее совсем перестали видеть. Это Дитте понимала, но почему у нее ноги налились водой, так что она не могла держаться на них, — этого девочка никак не могла понять. Пришлось ей теперь одной собирать хворост в лесу. Это был нелегкий труд, но стояло лето, и в лесу было превесело. Девочка забиралась в самую глушь, куда и не заглядывали они с бабушкой, которая побаивалась чащи и предпочитала держаться ближе к опушке. А в глубине леса без умолку распевали птицы, сквозь густую листву словно струилось сверху диковинное зеленое сияние, воздух там был, как зеленая вода, пронизанная солнечными лучами, а во мраке, под кустами слышалось какое-то шипенье и гуденье. Дитте не была трусихой, но все-таки время от времени вздрагивала и останавливалась, прислушиваясь с опаской, а стоило хрустнуть сухой ветке, как девочка подпрыгивала от неожиданности. В лесу ей не скучно было, все ее маленькое существо до краев переполнялось напряженным любопытством и удивлением; на каждом шагу подстерегало ее новое, то увлекая собой, то пугая. Иной раз словно кто-то налетал на нее сзади с ужасающим треском вроде того, какой раздавался в печке, когда бабушка, бывало, плеснет туда керосину. И Дитте пускалась во всю прыть своих ножонок, бежала, не переводя духу, до первой прогалины.
И вот случилось однажды, что она выбежала к широкой реке, над которой нависли густолиственные ветви деревьев. По этой реке, видно, и приплывал сюда со всего мира этот «зеленый блеск»! Дитте притихла, как мышонок, в немом изумлении. Скоро, впрочем, она догадалась, что этот зеленый блеск — просто краска, которую впитывают корни деревьев, а река эта — конец света. Вон на том берегу живет, должно быть, сам бог. Она долго глядела туда во все глаза, пока наконец ей не померещилось в чаще терновика лицо седобородого старика. Но где же делают всю эту зеленую краску?
Она побежала по берегу, чтобы разузнать об этом, и, забравшись уже далеко, наткнулась на двух барынь. Таких важных и нарядных женщин Дитте никогда еще не видывала. Барыни гуляли под красными зонтиками, хотя дождика не было, да и, кроме того, они ведь шли под навесом зелени. На этих красных зонтиках прыгали пробиравшиеся сквозь листву солнечные зайчики, и похоже было, что на зонтики сыплются огненные денежки. Барыни опустились перед Дитте на колени, словно перед принцессой, и стали ощупывать и разглядывать ее босые ножки, спрашивать, как ее зовут.
Зовут ее Дитте. Дитте-негодница или Дитте-умница… а еще дитятко человеческое.
Барыни с улыбкой переглянулись и спросили, где она живет.
— Конечно, у бабушки.
— У какой такой бабушки? — опять пристали глупые барыни.
Дитте топнула босой ножкой по траве.
— У какой? У своей бабушки, которая бывает слепая, потому что очень много плачет.
Тут барыни словно поумнели и спросили еще только одно: не хочет ли она пойти к ним в гости.
Дитте доверчиво сунула ручонку в руку одной из них и пошла с ними. Ей хотелось узнать, не живут ли они по ту сторону реки у самого бога. Тогда, значит, она повстречала его ангелов.
Они пошли вдоль реки. Дитте сгорала от нетерпения, и ей казалось, что дороге конца нет. Но вот они дошли до мостика, который был перекинут через реку и упирался в железную решетчатую калитку с острыми пиками наверху и внизу, так что нельзя было ни подлезть под нее, ни перелезть. Барыни отперли ее ключиком и опять накрепко заперли за собой. Дитте очутилась в чудесном саду. Вдоль тропинки росли цветы — голубые и красные — и кивали ей головками, а на низеньких кустиках алели крупные ягоды, каких Дитте отроду не пробовала.
Дитте сразу догадалась, что это райский сад, и даже не обтерев рта, красного от ягодного соку, бросилась к одной из барынь и, как-то особенно глядя на нее своими большими темно-голубыми глазами, спросила:
— Я ведь умерла?
Барыни расхохотались, взяли ее в дом, провели через множество нарядных комнат, где ходили прямо в башмаках по толстым мягким шерстяным платкам, разостланным на полу. В самой последней комнате сидела в глубоком кресле седая старушка, с очками на носу, вся в морщинах и в белом спальном чепчике, хотя дело было днем.
— Это вот наша бабушка, — сказала одна из барынь.
Потом обе принялись кричать прямо в уши старушке:
— Погляди, бабушка! Мы поймали лесную фею!
Вот как! Их бабушка, стало быть, глухая? А бабушка Дитте только слепая.
Дитте походила по комнатам, с любопытством разглядывая все кругом, и вдруг спросила:
— А где же сам бог?
— Что такое говорит эта малютка? — воскликнула одна из барынь.
А другая, которая вела девочку за руку, прижала ее к себе и ответила:
— Бог не здесь живет, а наверху, на небе. Она, верно, думает, что в рай попала! — заметила она сестре, указывая на Дитте.
Им, видно, не нравилось, что девочка ходит босиком, и они очень внимательно еще раз осмотрели ее ноги, нет ли на них змеиных укусов или порезов.
— Почему девочка не обуется? — спросила старушка. Голова у нее забавно тряслась, когда она говорила, и седые букольки на висках колыхались, как цветы колокольчиков.
Но ведь у Дитте вовсе не было башмаков.
— Боже! Слышишь, бабушка? У ребенка нет башмаков! Так-таки никаких?!
— У Петрушки есть! — выпалила Дитте с лукавым смехом.
Расспросы ей уже надоели. Понемногу барыни все-таки выпытали, что у нее есть деревянные башмаки, во их надо приберечь на зиму.
— Ну, так дайте ей мои прюнелевые ботинки, — сказала старушка. — Аста, пойди достань; только уж не самые плохие.
— Я возьму, которые еще годятся, бабушка, — ответила одна из молодых барынь, та, которая больше нравилась Дитте.
Дитте обули и угостили разными разностями, каких она отроду не едала и в которых не нашла особого вкуса: другое дело — хлеб, к нему она больше всего привыкла, его и предпочла всему прочему, к великому удивлению всех трех барынь.
— Какая разборчивая! — усмехнулась одна из молодых.
— Ну, это уж грех говорить, что разборчивая, если она всему предпочитает хлеб, — с живостью возразила другая, которую звали Астой. — Девочка, видно, живет в большой бедности. А все-таки какая здоровенькая, погляди!
Она притянула девочку к себе и поцеловала.
— Пусть лучше возьмет с собою, — сказала старушка. — Такие дети природы никогда не едят в неволе. Мой покойный муж однажды поймал на Золотом Берегу маленькую обезьянку, но пришлось ее выпустить — она ни за что не хотела есть.
И Дитте положили съестного в хорошенькую корзиночку из красной и белой соломы да еще надели ей на голову итальянскую соломенную шляпу с широкими полями, а на грудь прикололи большой красный бант. Все это было очень весело, но Дитте вдруг вспомнила бабушку, и ей захотелось домой. Она ухватилась за дверную ручку, — и, делать нечего, пришлось выпустить забавную малютку-фею на волю. И только успели подсыпать ей в корзиночку ко всему впридачу еще немного красных ягод, как она уже перебежала мостик и пропала в лесу.
— Только бы она не заблудилась, — сказала Аста, задумчиво глядя вслед ребенку.
Конечно, Дитте не заблудилась. Но хорошо, что она так соскучилась и заторопилась домой, — впопыхах она совсем позабыла, что у нее в корзиночке, иначе старая бабушка так и сошла бы в могилу, ни разу не попробовав клубники.
Надеясь, что сказка повторится, Дитте часто бегала потом в чащу леса, где пережила такое большое приключение, самое большое в своей жизни. Старуха Марен сама ее поощряла:
— Пойди, пойди, поброди там в чаще, — говорила она. — Ничего худого с тобой не может случиться, ты родилась в счастливый день. А когда попадешь в заколдованный дом, попроси такие же башмаки и для меня. Скажи, что у бабушки вода в ногах и она еле надевает деревянные.
Реку Дитте нашла, но те нарядные барыни ей ни разу больше не попадались в лесу, и мостик с калиткой исчез. По другую сторону реки тянулся такой же лес, и лица бога она больше нигде не могла разглядеть, сколько ни старалась. Сказочная страна пропала.
— Должно быть, ты все это во сне видела, — предположила старуха Марен.
— А ягоды-то, бабушка? — ответила Дитте.
— Да, ягоды… и то правда!
Марен сама отведала этих ягод, ничего чудеснее она никогда не пробовала. В двадцать раз крупнее лесной земляники, и какие сытные! Не то что разные другие ягоды, от них только урчит в животе.
— А их, видно, подбросил лесной тролль, который во сне показал тебе сказочную страну. Он хотел, чтобы и мне что-нибудь перепало, — рассудила наконец старуха Марен.
На этом объяснении они и успокоились.
X У Дитте нашелся отец
Однажды Марен, встав поутру, увидела, что жильцов ее нет больше в доме, — скрылись ночью.
— Видно, черт их унес! — весело сказала старуха. Она даже рада была избавиться от них, такие они были неприветливые и сварливые. Но плохо было то, что они задолжали ей за двенадцать недель — двенадцать крон, которые она надеялась приберечь к зиме.
Она вывесила на пожарном сарае в поселке объявление и стала поджидать новых постояльцев. Но никто не приходил. Ведь прежние жильцы распустили слух, что в доме «нечисто».
Потеря дохода от жильцов была тем тяжелее, что Марен отказалась от своего ремесла. Не хочет она больше слыть знахаркой, носить на себе клеймо проклятой колдуньи!
— Ступайте к тем, кто поумнее, а меня оставьте в покое, — отвечала она людям, которые прибегали к ней за; советом или приглашали ее к больным.
Посетители уходили ни с чем, и скоро в окрестности прошла молва, что Марен «потеряла силу».
Да, силы ее слабели, и зрение она почти потеряла, и ноги отказывались ей служить. Она стала прясть и вязать на людей и опять «ходить по миру». Дитте должна была водить ее со двора во двор, с хутора на хутор. Трудные это были походы. Старуха не переставала охать и тяжело опиралась рукой на плечо девочки. Дитте тогда еще ничего не понимала и только тяготилась этими походами, — ее манили цветы у придорожных канавок и сотни других вещей, ей хотелось сбросить с плеча свинцовую тяжесть и бегать, резвиться по своей воле; бесконечные жалобы старухи наводили на нее тоску. Иногда девочка позволяла себе алые шутки.
— Бабушка, я потеряла дорогу, — вдруг говорила она и не хотела шагу ступить дальше или же просто убегала от старухи и пряталась где-нибудь поблизости.
Марен бранилась и грозила девочке, потом, устав, присаживалась у края дороги и плакала. Дитте становилось жалко бабушку, и она спешила к ней и обнимала ее. И обе плакали — вместе — от горя, от жалости к себе и от радости, что снова нашли друг друга.
Недалеко от Хижины на Мысу, по дороге в поселок, была пекарня, и хозяин ее давал им раз в неделю бесплатно белую булку. В те дни, когда Марен не поднималась с постели, за хлебом ходила Дитте. Девочка всегда бывала голодна, и для нее это поручение было связано с большим искушением. Всю дорогу обратно домой она мчалась бегом, чтобы удержаться от соблазна, и, когда ей удавалось донести хлеб в целости до дому, обе они одинаково радовались. Но иногда голод пересиливал, и девочка на бегу выщипывала из теплой еще булки мякиш. Ей не хотелось, чтобы это было заметно, и она выщипывала сбоку — по крохотным кусочкам, но не успевала опомниться, как от булки оставалась одна пустая корка. Тогда Дитте злилась на себя, на бабушку, на весь свет.
— Вот тебе хлебец, бабушка, — говорила она, швыряя корку на стол.
— Спасибо, дитятко. Он свежий?
— Да! — И Дитте убегала и пряталась.
А старуха сидела, глодала корку слабыми деснами и бранила внучку:
— Негодница!.. Розгами бы ее!.. Прогнать со двора! Пусть попадет в сиротский дом!
Богадельня, сиротский дом — ничего хуже этого обо они представить себе не могли. Мысль о том, что они могут попасть туда, постоянной угрозой висела над ними. И когда Марен начинала говорить о сиротском доме, Дитте выскакивала из своего уголка, плакала и просила прощения. Старуха тоже плакала, и потом обе принимались ласкать и утешать друг друга.
Однажды Марен после такой сцены начала вздыхать:
— Ох-ох-ох! Тяжело нам жить на свете! Был бы — у тебя отец… настоящий отец… Правда, тебе доставалось бы от него — без выучки человеку не набраться ума-разума, но зато я жила бы, пожалуй, у вас в доме, вместо того, чтобы ходить по миру!
И только она это сказала, на дороге перед домом остановилась телега, запряженная старой, костлявой клячей. Рослый, кудлатый и бородатый человек спрыгнул с передка телеги, бросил вожжи на спину лошади и, сутулясь, направился к дому.
— Это торговец селедками, — объявила Дитте, стоя на коленях на плетеном стуле под окном. — Открыть ему дверь, бабушка?
— Да, впусти его.
Дитте откинула на входной двери крюк, и человек вошел в сени. На нем были высокие брезентовые сапоги с деревянными подошвами и штаны, заправленные в голенища. Он громко топал ногами и никак не мог выпрямиться во весь рост в низеньких сенях. Он постоял немного в дверях кухни, осмотрелся и вошел в комнату. Дитте глядела на него, спрятавшись за бабушкину прялку. Он протянул старухе руку и, видимо, смутился, потому что Марен не протянула ему своей руки.
Дитте прыснула со смеху.
— Бабушка у нас слепая!
— Вот как! Ну, тогда странно было бы требовать, чтобы вы меня разглядели, — пошутил он и сам взял старуху за руку. — А я ведь зятем вам прихожусь, если хотите знать. — Слова будто рокотали у него в груди, благодушно и весело.
Марен с живостью подняла голову:
— А на какой же из моих дочек вы женаты?
— На матери вот этой девчурки, — отозвался он и махнул на Дитте своей большой мягкой шляпой. — То есть мы не совсем женаты, как оно требуется по закону… У пастора еще не побывали. Решили отложить это, пока нет крайней необходимости, много есть других забот, поважнее. Но кров и очаг у нас имеются, хоть и очень скромные. Живем мы в целой миле пути за общественными лугами — на Песках. А домишко наш прозвали Сорочьим Гнездом.
— А как зовут тебя самого? — спросила Марен.
— Ларс Петер Хансен, как окрестили.
Старуха подумала немножко и покачала головой:
— Нет, такого что-то не припомню.
— Так не вспомните ли отца моего, по прозвищу Живодер?
— О нем-то я слыхала, хоть и не с лучшей стороны.
— Так, пожалуй, со многими бывает, — добродушно ответил Ларс Петер Хансен. — Не всегда волен человек в прозвище своем или в славе своей. Если у него совесть чиста, то и этого довольно. Но я вот ехал мимо и порешил навестить вас. Когда мы сговоримся с пастором, чтобы он обвенчал нас с Сэрине, я заеду за вами, и вы будете с нами в церкви. А может, вы захотите перебраться к нам еще до этого? Так, пожалуй, было бы лучше всего.
— Это Сэрине велела тебе спросить нас? — недоверчиво проговорила Марен.
Ларс Петер Хансен пробормотал что-то, похожее и на да и на нет.
— Я так и думала, что это твоя собственная затея. И спасибо тебе за твою доброту, но нам лучше остаться на своем месте. А на свадьбу приедем с удовольствием. Из моих восьмерых детей чуть ли не все уже поженились или замуж повышли, но на свадьбу свою никто еще не приглашал.
Марен задумалась и немного погодя спросила:
— А чем ты промышляешь?
— Я торгую селедками и… еще чем придется. Скупаю кости и тряпье, — у кого что насобираю.
— На этом, пожалуй, много не заработаешь. Людям приходится носить свое тряпье, пока ни одной цельной ниточки не останется — по крайней мере многим. Разве в ваших краях народ зажиточнее здешнего?
— Нет, должно быть, такой же, — изнашивает тряпки до последнего волокна, а кости свои таскает, пока те не рассыплются! — смеясь отозвался Ларс Петер. — Но чем-нибудь да надо промышлять.
— Да, да, чем-нибудь да надо кормиться! Но ты, должно быть, проголодался? Особого угощенья мы тебе предложить не можем, но кофейком, если не побрезгуешь, попотчуем. Дитте, сбегай в пекарню, скажи, что у тебя сегодня грех вышел с хлебцем и что у нас гость. Они тебя, пожалуй, побранят, но все-таки дадут другой. Бели же не дадут, то скажи, что мы как-нибудь обойдемся без хлебца на будущей неделе. Но ты расскажи всю правду. Беги же. Да не отщипывай от хлебца.
Дитте не очень-то спешила идти. Тяжелое наказание наложили на нее, и она мешкала в надежде, что бабушка пожалеет ее и позовет обратно. Щипать хлебец… Нет, этого она уж не станет больше делать ни сегодня, ни потом, никогда в жизни. У нее уши горели от стыда, что ее новый отец узнал об этом, да и в пекарне теперь узнают, какая она негодная девчонка, обижает бабушку. Выпутаться как-нибудь враньем она не хотела. Выгораживать себя ложью — все равно, что сбивать головки чертополоха, говорила бабушка, на месте одной сбитой вырастет полдюжины новых. И Дитте сама убедилась в этом. Ложь всегда потом обнаруживается, и тогда еще труднее бывает выпутаться из нее! Дитте и собственным умишком дошла до вывода, что лгать не стоит.
Ларс Петер Хансен сидел у окошка, глядя вслед девочке, которая сначала еле плелась по дороге, а потом вдруг припустилась бегом.
— Как вы с нею справляетесь? — спросил он Марея.
— Она девочка неплохая, — отозвалась старуха из кухни; там она начала ощупью разводить огонь под плитой. — Другой опоры у меня нет, да и не надо. Но она еще мала, а я старуха, и ей тяжело со мной. Тут две крайности. Жеребенку хочется бегать, а старой кляче — дремать у яслей. Невесело проводить детство около старой развалины.
Дитте влетела в пекарню вся запыхавшись, так торопилась она поскорее исполнить поручение и вернуться домой к тому большому, сутулому, добродушно бурчащему человеку.
— Теперь у меня есть отец, как у других детей! — крикнула она, задыхаясь. — Он сидит в гостях у бабушки. И у него собственная лошадь с телегой!
— Неужто? — спросили люди с удивлением. — Как же его зовут?
— Живодером! — с важностью сообщила Дитте.
Видно, здесь его знали. Дитте заметила, как люди переглянулись.
— Ну, стало быть, ты хорошего роду! — сказала жена пекаря и положила на прилавок хлебец; она, поглощенная этой новостью, очевидно, забыла, что девочка уже приходила к ним сегодня за хлебом.
А Дитте, не меньше ее поглощенная тем же самым, подхватила хлебец и убежала. И вспомнила о том, что должна была сказать, только на полпути к дому, когда уже поздно было.
На прощанье Ларс Петер Хансен подарил им два десятка селедок и повторил, что заедет за ними, когда будет свадьба.
XI Новый отец
Месяцев десяти от роду Дитте любила все совать себе в рот и пробовать — съедобное или нет?
Дитте смеялась теперь над бабушкиными рассказами о той поре. Теперь ведь она стала уже большой девочкой и поумнела. Знала, какие вещи несъедобные, но зато ими приятно любоваться, а вот такие-то съедобные, но лучше всего поберечь их, на них нужно посмотреть только и представить себе, какие они вкусные, да поглаживать себя при этом по животику и, жмурясь, причмокивать от восхищения. Тогда удовольствия от лакомства хватало надолго.
— Какая же ты глупышка! Отчего ты не скушаешь, пока это не испортилось? — удивлялась бабушка.
Но Дитте умела быть экономной. Она ходила, переживая в воображении вкус чего-нибудь, например, подаренного ей румяного яблочка.
Она прикладывала его к щеке, подносила к губам и целовала. Или возьмет да спрячет его подальше и с какою-то тихой, благоговейной радостью долго лелеет втайне мысль о нем. Если же потом найдет, бывало, яблочко уже сгнившим, то невелика беда. Ведь девочка уже много раз мысленно насладилась его вкусом. Бабушка такого удовольствия не понимала. На старости лет она становилась жадной. Теперь уже старуха никак не могла насытиться и набивала себе рот чем придется.
А в свое время как они оба с Сэреном оберегали малютку, боясь, чтобы она не проглотила чего-нибудь вредного, не захворала бы! Особенно беспокоился дедушка и то и дело остерегал ребенка: «Нельзя совать в рот, ни-ни!» Несколько мгновений Дитте глядела на него во все глаза, потом извлекала из ротика все, что в него засунула, и пыталась положить это в рот деду. Может быть, она пыталась заручиться сообщником, а может быть, малютка полагала, что он не велит ей совать в рот то или другое потому, что ему самому хочется пососать это? Дедушка так никогда и не разобрался в причинах.
Во всяком случае, Дитте рано выучилась считаться с эгоизмом людей. Когда они советовали ей что-нибудь или наставляли на путь истинный, то, конечно, не столько ради ее блага, сколько ради своих собственных интересов. Девочки постарше, встретив ее по дороге с яблоком в руках, часто говорили:
— Фу! Фу! Брось это гадкое яблоко, а то червяка проглотишь!
Теперь Дитте уже не слушала таких советов, — она успела убедиться, что девочки за ее спиной поднимали это яблоко и сами съедали его. Вообще на белом свете не все складывалось так просто, как казалось; напротив, за тем, что улавливали глаза и уши, скрывалось обыкновенно еще что-то, и часто как раз самое главное.
Бывало и так, что люди попросту держали у себя за спиной то, что могло угрожать другим людям, например, палку, поэтому не мешало всегда быть настороже.
Ну, уж, конечно, не с бабушкой. Она была просто бабушкой, только бабушкой — при всяких обстоятельствах, и ее незачем было остерегаться. Она только чем дальше, тем больше ныла и вовсе уж не могла ничего делать. Теперь на плечи Дитте легли все домашние заботы, и она научилась добывать пропитание. Она знала сроки, когда на каком хуторе сбивали масло или резали скотину, и вовремя поспевала туда, чтобы выпросить кое-что для бабушки.
— Отчего вы не попросите у местных властей, чтобы вас взяли на попеченье? — спрашивали Дитте некоторые хозяйки, но все-таки подавали ей. Нельзя в такое время отпускать нуждающегося с пустыми руками, не будет тогда удачи в хозяйстве.
Когда обстоятельства сложились таким образом, Дитте не могла питать прежнего уважения к бабушке и обходилась с нею все чаще, как с большим избалованным ребенком, — то журила ее, то ласково уговаривала.
— Да, тебе хорошо говорить, — сказала однажды старуха, — у тебя глаза зоркие, ноги здоровые, тебе все дороги открыты. А у меня впереди одно утешение — могила.
— Так тебе хочется умереть? — спросила Дитте. — Пойти к дедушке?
Ну, понятно, старухе не особенно хотелось умирать. Но нельзя было все же не думать о могиле, она постоянно о себе напоминала — и пугала и притягивала. Старым, усталым косточкам уже не отдохнуть здесь на земле как следует, долгий-долгий сон под дерновым покровом рядом с Сэреном манил старуху. Только бы знать наверное, что не придется там мерзнуть; да еще — что девчонка не пропадет без нее!..
— Ну, я просто уйду к своему новому отцу, — успокаивала ее Дитте всякий раз, как заходил этот разговор. Право, бабушке незачем беспокоиться о ней. — Но ты думаешь, что дедушка Сэрен все еще там?
Н-да… На этот счет у старой Марен не было настоящей уверенности. Она хорошо представляла себе могилу как последний, окончательный предел земного пути и мирилась с этим представлением; и что же может сравниться с блаженством склонить свою усталую голову там, где не проезжают никакие телеги, навек избавиться от ревматизма и всяких тревог, и забот, и от смертельной усталости — только отдыхать, отдыхать. Но, пожалуй, не всем это блаженство дается. Разное говорят на этот счет. Пастор — одно, миссионер — другое. Пожалуй, Сэрена и нет там больше, придется ей разыскивать его. Да и найти его будет трудненько, если он после смерти стал таким же, каким был в молодости — непоседой, буйной головушкой. А ведь где он, там должна быть и Марен, об этом и спорить нечего. Ох, всего лучше, всего желаннее было бы для нее улечься рядышком с ним на покой, на вечный покой в награду за все эти годы земной маеты.
— Я просто уйду к своему новому отцу! — повторяла Дитте по всякому поводу.
— Ну и уходи! — обиженно откликалась старуха; ее задевало равнодушие Дитте.
Но Дитте необходимо было знать, что у нее имеется настоящая опора, защита. Бабушка для этого больше не годилась — слишком стара стала и беспомощна, да еще к тому же она женщина. Тут нужен был мужчина.
И вот он нашелся! Теперь Дитте, укладываясь вечером спать за спиною бабушки, засыпала с новым ощущением уверенности и спокойствия: у нее ведь тоже есть настоящий отец, как у других детей; отец, который женат на ее матери, имеет собственную лошадь с телегой. Тощий и плешивый молодой хозяин хутора был такой скряга, такой черствый и холодный, что подойди к нему поближе — сама замерзнешь, и Дитте никогда не могла бы сдружиться с ним. А этот Живодер взял ее к себе на колени и своим рокочущим басом спел ей на ушко песенку. Пусть кричат Дитте вслед «шлюхино отродье» — ей и горя мало. У нее теперь есть отец, да еще повыше ростом, чем у других ребятишек; ему приходилось нагибаться, когда он входил в сени и в дверь бабушкиной комнаты.
Жизнь потекла спокойнее, ровнее, а сама Дитте чувствовала себя будто богаче. С этим ощущением она теперь и спать ложилась и, просыпаясь утром, радовалась, что ей не приснилось, а что у нее действительно есть отец. На такого отца можно надеяться; это не то, что старая слепая бабушка, вся как будто свернутая из тряпок. Дитте всегда с одинаковым удивлением следила за тем, как старуха раздевается по вечерам, снимает с себя юбку за юбкой, кофту за кофтой, все худея и худея, пока наконец, словно по волшебству, не превратится в настоящий птичий скелет, в высохшую старушонку, попискивающую, как неплотно прилегающая печная вьюшка.
Дитте и бабушка заранее радовались, ожидая, когда новый отец повезет их к себе на свадьбу. Тогда он, конечно, приедет в коляске с сиденьем и на рессорах, а не на простой телеге, как у всех торгашей. И приедет он как раз в такой день, когда им придется особенно туго. Вот у них нет еды, нет кофе, и вдруг перед хижиной слышится веселое щелканье кнута, и подъезжает он сам! Подымает кнутовище высоко-высоко кверху и, перевернув, опускает, низко-низко, словно отдавая поклон, шутник этакий! А когда они станут садиться в коляску, он все время будет держать кнут стоймя кверху, как делает господский кучер в поместье Эллебек.
Никто никогда не приезжал еще к старухе Марен, чтоб звать ее в гости, и она, пожалуй, ждала этого события даже нетерпеливее внучки. И заранее расписывала его девочке на все лады.
— А я-то уж думала, что выеду отсюда в первый раз только на кладбище, — прибавляла она всякий раз. — Но вот дела-то какие! Недаром у твоей матери всегда были повадки, как у благородной!
Их убогое существование наполнилось новым смыслом. Дитте перестала скучать и не искала развлечения в злых проказах. К тому же у нее появилось чувство какой-то ответственности за бабушку, нуждавшуюся в ее попечении, и они больше сблизились между собою.
— Какая ты добрая, как заботишься обо мне, старой, дитятко мое! — вырывалось у старухи, и обе плакали, сами не зная отчего.
Маленькая шустрая девочка стала глазами своей бабушки, и старухе Марен приходилось теперь обращаться за помощью к внучке. Когда же она привыкла к этому и прониклась доверием к девчонке, дело пошло совсем на лад. А если Дитте иногда пыталась подшутить над старухой, Марен стоило только спросить: «Ты ведь не обманываешь меня, дитятко?» — и девочка сразу становилась серьезной. Смышленая она была и расторопная. Марен — если уж нельзя было вернуть собственные глаза — и пожелать себе не могла лучших, чем внучкины глазки. Невесело ей было сидеть да шарить вокруг себя, подвигаться ощупью, вертеть головой в сторону каждого звука и все-таки ничего толком не понять! Но вот благодаря Дитте старуха понемногу вернулась к своим прежним привычкам.
Больше всего, пожалуй, Марен страдала оттого, что не видела неба. Погода всегда играла в ее жизни большую роль, и не столько сегодняшняя погода, как та, что ожидалась на другой день. Недаром Марен была из рыбацкого рода. Она только следовала примеру своей матери, как та — своей; с малых лет, едва войдя в разум, они вглядывались в небо и ранним утром и поздним вечером. Небо распоряжалось всем в жизни рыбаков: оно милостиво ставило на их стол пищу изо дня в день, и оно же, разгневавшись, сметало со стола еду, отнимая у семьи кормильца. Бывало, Марен по утрам прежде всего смотрела на небо и последний свой взгляд перед тем как лечь в постель посылала ему же. «Ночью гроза будет», — говорила она, возвращаясь домой. Или: «Завтра улов будет хороший!» Дитте понять не могла, откуда бабушка это знает. Теперь Марен уже редко выходила из дому и погода, в сущности, не играла в ее жизни особенной роли, но старуха по-прежнему интересовалась ею.
— Погляди, каково небо сегодня? — спрашивала она каждый день.
Дитте выбегала и обводила горизонт озабоченным взглядом, поглощенная данным ей поручением.
— Небо красное-красное! — докладывала она, вернувшись. — И кто-то едет там на мокрой лошади. Значит, завтра дождь будет?
— А солнце куда садится? В тучу? — спрашивала старуха, и Дитте снова убегала.
— Никакого солнца нету, — сообщала она, с нетерпением ожидая заключения бабушки.
Но старуха качала головой. Путает девчонка. И не разберешься. Выдумывает много.
— А кошка сегодня траву ела? — спрашивала Марен немного погодя.
Этого Дитте не заметила, но видела, как кошка прыгала и ловила мух.
Марен призадумывалась и затем изрекала:
— Да, это вряд ли к добру. Поди-ка, взгляни: нет ли ввез дочек под кофейным котелком на печке.
Дитте приподнимала тяжелый котелок. Да… в саже, покрывшей его дно, перебегали искорки, словно огненные мурашки.
— Ну, быть буре! — говорила бабушка с облегчением. — Недаром у меня уж который день суставы ломит!
И если буря в самом деле налетала, Марен никогда не забывала сказать Дитте:
— Видишь? Я говорила!
И Дитте дивилась бабушкиной премудрости.
— Тебя и зовут знахаркой, потому что ты все знаешь? — спрашивала она.
— Да, пожалуй. Но не велика мудрость знать немножко побольше других, — надо только глядеть хорошенько. А ведь среди людей немало дураков.
Ларс Петер Хансен не показывался к ним и не давал о себе знать чуть ли не целый год. Пытались они расспрашивать о нем кое-кого из проезжавших мимо людей, в которых можно было угадать жителя с той стороны, но мало что узнали. Под конец они уже готовы были усомниться — да полно, был ли он у них в гостях в самом деле? Пожалуй, и это был сон, как приключение Дитте в сказочной стране?
И все-таки Ларс Петер в один прекрасный день явился и подъехал к дому. Кнутом он, правда, не щелкал, но пытался щелкнуть длинным прутом орешника с привязанной к нему бечевкой. А Большой Кляус — старый костлявый одер — в ответ на это мотал головой и ржал.
Телега была та же самая, но в ней сегодня прилажено было настоящее сиденье с зеленой мягкой спинкой, из которой торчала набивка. И старая мягкая шляпа хозяина телеги была все та же самая — тулья ее лоснилась от времени, к полям прицепились паутина и соломинки. А из-под нее, как всегда, выбивалась копна волос, столь пропыленная в дороге, утыканная репьями и еще невесть чем, что птицы небесные легко могли бы соблазниться и начать вить в ней себе гнездо.
— Ну, что скажете насчет того, чтобы прокатиться со мной? — весело крикнул он, громко топая по полу. — Поглядите, какую хорошую погоду я вам привез!
Еще бы не привез! Бабушка-то позаботилась о сегодняшней погоде еще вчера, хоть и не подозревала о его приезде. Вчера вечером она провела рукой по запотевшему стеклу и сказала: «Этой росе блестеть завтра на утреннем солнышке!»
Ларса Петера Хансена усадили, и Дитте принялась разводить огонь в печурке и варить кофе.
— Да ты, я вижу, молодец-девочка! — воскликнул он, когда она подала ему кофе. — Надо расцеловать тебя за это! — Он приподнял ее кверху и поцеловал, а Дитте уткнулась лицом в его щетинистую щеку и затихла. Вдруг Ларс почувствовал, что щека у него стала влажной, повернул девочку лицом к себе и, со страхом спросив, чем же он ее обидел, спустил на пол.
— Какое там обидел! — сказала бабушка. — Девочка только и бредила всегда отцовскою ласкою и вот дождалась наконец, хотя это и не бог весть какая радость. Пусть ее выплачется. Детские слезы быстро высыхают.
Но Ларс Петер Хансен вошел за Дитте в каморку, куда складывали торф, — девочка лежала там, свернувшись в углу, и рыдала. Бережно извлек он ее оттуда, вытер ей слезы своим пестрым носовым платком, который, видно, был в ходу не первый день. «Мы с тобой поладим… отлично поладим», — твердил он, утешая девочку. Его густой бас успокаивал ее, и она вернулась в комнату, держась за руку отца.
Бабушка была большой охотницей до кофе, но не признавалась в этом и вот решила воспользоваться случаем выпить тайком лишнюю чашечку. Да, наливая второпях, пролила, и теперь ощупью старалась вытереть стол, чтобы уничтожить следы. Дитте помогла ей снять залитый кофе передник и мокрою тряпкою вытерла подол бабушкиной юбки, чтобы не осталось пятен, — все это с чисто материнской заботливостью. Сама Дитте не захотела пить кофе, — она была так переполнена радостью, что в рот взять ничего не могла.
Потом бабушку старательно укутали, и Ларс Петер усадил обеих в повозку. Бабушка поместилась рядом с ним на сиденье, а Дитте полагалось сесть позади, на мешке с сеном для лошадей, но она устроилась впереди, у них в ногах; тут она была ближе к ним. Ларс Петер начал понукать Большого Кляуса — покрикивал на него и то натягивал, то опускал вожжи. Наконец коняга рванулся вперед, повозка дернулась, колеса завертелись, и они покатили.
День стоял чудесный, ясный. Дюны, казалось, нежились на солнце, как и видневшиеся вдали леса и луга. С высоты повозки все казалось Дитте новым, необычным — не таким, каким представлялось ей, когда она бегала внизу по земле босиком. Все как будто кланялось ей теперь — и холмы и леса — все, все кругом. Ей не часто приходилось кататься, в первый раз в жизни ехала она так важно, поглядывая на все сверху вниз. Эти крутые холмы, громоздившиеся друг на друга, всегда загораживали ей вид и порою задавали большую работу ее детским ножкам; сегодня же они словно расступились перед нею и приглашали: «Милости просим, Дитте! Проезжай, не стесняйся!» Бабушка, конечно, ничего этого не могла видеть, но она чувствовала, как солнце приятно грело ее старую спину, и у нее появилось хорошее настроение.
Большой Кляус не торопился, и Ларс Петер предоставлял ему самому распределять свои силы, соразмерять их с расстоянием. Он только легонько похлестывал коня по спине, а тот уже так привык к этому щекотанью вдоль хребта, что не мог без него обходиться. Но стоило только хозяину замешкаться, пока он указывал спутницам какое-нибудь местечко, Большой Кляус нетерпеливо мотал головой и оглядывался назад, к великой потехе Дитте.
— Он совсем не умеет бегать? — спросила она, становясь между коленями отца.
— Еще как умеет! — с гордостью ответил Ларс Петер Хансен, подобрал вожжи и хлестнул коня по спине, но конь совсем остановился и с удивлением повернул морду назад. А когда его начали подстегивать вожжами, он только взмахивал хвостом да мотал головой. Дитте покатывалась со смеху.
— Сегодня ему не хочется бежать рысью, — сказал Ларс Петер, когда ему удалось наконец пустить Большого Кляуса привычным аллюром. — Ему кажется, что если он все время шел таким крупным шагом, то просто недобросовестно заставлять его еще бежать.
— Он это сказал тебе? — спросила Дитте, изумленно поглядывая то на отца, то на Кляуса.
— Ну, так по крайней мере можно было понять его. И, пожалуй, он прав.
Да, коняга шел крупным шагом, старался вовсю! Но никогда не делал и двух одинаковой ширины, так что повозка двигалась рывками и зигзагами. Вообще коняга был презабавный. Словно весь собранный из разных кусков — такой нескладный и костлявый. В нем как будто не было и двух одинаковых, хорошо пригнанных частей, и двигался он с каким-то храпом и сопеньем, все суставы у него хрустели, и во вздутом брюхе урчало.
Они ехали мимо большого барского имения Эллебек, через общественные луга и дальше по таким местам, которых бабушка никогда не видала.
— Да ведь ты и сейчас их не видишь, — ввернула Дитте.
— Ох, вечно ты цепляешься к словам, сущая придира! Как же не вижу? Я слышу, как вы разговариваете обо всем, что вокруг нас, и я как будто вижу это воочию. Поистине благодать божия, что мне приходится пережить такую радость на старости лет. Но чем это так вкусно пахнет?
— Должно быть, пресною водою, бабушка, — сказал Ларс Петер. — В полумиле отсюда налево большое озеро Арре. У бабушки нюх тонкий на напитки! — И он добродушно засмеялся собственной остроте.
— Это, видно, та самая вода, которую без вреда можно пить, — задумчиво произнесла Марен. — Сэрен мне рассказывал о ней. И мы всё хотели побывать там на ловле угрей ночью, да так и не собрались. А красиво это, должно быть, летней ночью — все эти огоньки на лодках и вблизи и вдали.
Ларс Петер, между прочим, сообщил кое-что о своих семейных делах. Свадьбы сегодня никакой не предстояло, они поженились вот уже скоро девять месяцев тому назад, потихоньку. «Пришлось поторопиться! — пояснил он в виде извинения. — А то мы непременно пригласили бы вас».
Марен на некоторое время притихла. Она ведь так радовалась было, что хоть одну из своих дочек увидит под венцом. И вот из этого ничего не получилось, но в общем поездка была чудесная.
— Что ж, и дети уже есть? — спросила она спустя некоторое время.
— Мальчишка, — ответил Ларс Петер. — Настоящий крепыш, буян! А лицом весь в мать! — Отец так и расцвел при мысли о малютке. — А теперь Сэрине опять в положении, — тихо добавил он.
— Вы, видно, не теряете времени даром, — отозвалась Марен. — А как она себя чувствует?
— На этот раз плоховато. Все жалуется, что в горле першит и жжет.
— Стало быть, родится длинноволосая девчонка, — решила Марен. — И, видно, скоро, раз ее волосы уже в горло матери лезут.
Этот сентябрьский день был на редкость хорош. Пахло созревшими плодами, воздух был напоен влагой, которая словно паром клубилась над озаренными солнцем полями, повисала голубоватою дымкою между деревьями и оседала в низинах и ложбинах, так что каждый лужок и каждое болотце казались серебристыми прудами.
Дитте не переставала удивляться, как безмерно велик мир. На горизонте появлялись все новые леса, селения, церкви; не показывался только ежеминутно ожидаемый конец всего света. Далеко-далеко на юге вдруг заблестели на солнце какие-то башни.
— Это королевский дворец, — сказал Ларс Петер.
И сердечко Дитте сильно забилось от этих слов.
— А прямо впереди что?
— Да, чем это опять запахло?! — воскликнула старуха, принюхиваясь. — По-моему, солью! Должно быть, близко море?
— Ну, еще не близко, до него больше мили. Неужто вы в самом деле почуяли море?
— Да, да! Никому не понадобится оповещать старуху Марен, что поблизости есть море. Слишком долго прожила я около него! А какое же тут у вас море?
— То же самое, что и около вас, — ответил Ларс Петер.
— Так не стоило, пожалуй, и тащиться сюда через всю страну, — заметила Марен смеясь.
Тут они и приехали. Совсем неожиданно Большой Кляус остановился, а Ларс Петер спрыгнул с повозки.
— Ну, вот! — сказал он и высадил их.
С мальчуганом на руках показалась Сэрине, такая полная, что ребенок упирался ножонками ей в живот. Вообще она стала на вид такою рослой и крепкой. Дитте испугалась этой крупной, краснощекой женщины и спряталась за бабушку.
— Она еще не знает тебя, — сказала Марен дочери. — Потом обойдется.
Но Сэрине рассердилась.
— Ну, не кривляйся, девчонка! — сказала она, вытаскивая Дитте. — Поцелуй свою мать сейчас же!
Дитте разревелась, стала отбиваться, и видно было, что Сэрине уже готова пустить в ход свои родительские права — отшлепать упрямицу. Муж быстро вмешался, подхватил девочку и посадил на спину коняги.
— Погладь Кляуса и поблагодари его за то, что так хорошо вез, — сказал Ларс Петер, и когда ему удалось успокоить Дитте, он поднес ее к Сэрине, говоря: — Теперь поцелуй маму!
Дитте послушно протянула губы, но тут уже не захотела Сэрине, она сердито поглядела на дочь и пошла накачать воды для лошади.
Сэрине зарезала для гостей двух цыплят и вообще не поскупилась на угощение, но сердечности, радушия не проявила. Она всегда была холодна в обращении, всегда больше всего занималась собой и с годами не стала мягче. Уже на следующее утро старая Марен заговорила о том, что им пора собираться домой.
И Сэрине не стала отговаривать ее.
После обеда Ларс Петер запряг конягу, усадил бабушку с внучкой в повозку, и они поехали домой с легким сердцем, довольные, что все кончилось. Сам Ларс Петер был в дороге совсем другой, нежели у себя дома, — пел и шутил, тогда как дома боялся неловко ступить. Бабушка и внучка нарадоваться не могли, очутившись опять в своей хижине.
— Слава богу, что не приходится нам есть хлеб у твоей матери, — сказала старуха, когда Ларс Петер Хансен распростился с ними.
А Дитте обняла старуху и поцеловала. Сегодня она по-настоящему оценила свою бабушку.
Все же они были несколько разочарованы: Сэрине обманула их ожидания, и домишко оказался плохоньким. Насколько бабушка могла понять из описания девочки, весь он состоял в сущности из нескольких землянок, которые назывались жилым домом, хлевом или еще как-нибудь. Он не выдерживал никакого сравнения с Хижиной на Мысу.
Но сама поездка была чудесной.
XII Живодер
Все, кто знал Ларса Петера Хансена, сходились в мнение, что он чудак. Он всегда был в хорошем настроении, что вообще противоречит здравому смыслу, а уж ему-то было особенно не к лицу. Он происходил из рода переселенцев-угольщиков{3}, и его ближайшие предки — насколько это сохранила людская память — всегда занимались такими делами, какими брезговали коренные жители. Они-то и дали им кличку «живодеры». Отец Ларса Петера ходил по окрестностям с тележкой, запряженной собаками, и скупал кости, тряпье и разные отбросы; если в каком-нибудь хозяйстве нужно было убить больную или зараженную скотину, то всегда посылали за Хансеном. Он был человек отчаянный и не гнушался запускать руки по локоть в самую скверную падаль, а затем мог сразу приниматься за еду, даже не ополоснув пальцев. Утверждали еще, будто он по ночам откапывает павшую скотину и сдирает с нее шкуру. А дед, по слухам, будучи мальчишкой, состоял в подручных у своего дяди, палача в Нюкэбинге. Про деда рассказывали, будто бы он, если петля недостаточно туго затягивалась, взбирался на перекладину виселицы, прыгал оттуда на плечи повешенному и, оседлав его, оттягивал вниз.
От таких предков ничего хорошего нельзя было унаследовать, во всяком случае, хвастаться этим не приходилось. Ларс Петер, видно, чувствовал это и еще совсем молодым парнем ушел из родных мест. Он переправился на другую сторону залива и нанялся работником где-то в Северной Зеландии. Ему хотелось стать землепашцем. Парень он был рослый, здоровый и сильный, как бык, любой хуторянин готов был взять его в батраки.
Но если Ларс Петер рассчитывал убежать от дурной славы, то ошибся. Слухи о его родне шли за ним по пятам и вредили ему. С таким же успехом он мог бы пытаться убежать от собственной тени.
К счастью, он принимал все это не слишком близко к сердцу. Человек он был по натуре хороший — ни единой капли зла не было во всем его существе. Даже непонятно было, почему он такой добрый и отзывчивый. Несмотря на свое бесславное происхождение, он добился равного положения с другими молодыми работниками благодаря своей физической силе и добросовестности; его даже полюбила одна состоятельная девушка, увлеченная его мужественностью и черными кудрями. Она порешила во что бы то ни стало выйти за него замуж, и, вопреки желанию ее родителей, они все-таки обручились. Но вскоре девушка умерла, и ее деньги так и не попали к нему.
Да, Ларса Петера преследовали неудачи, быть может, за грехи его предков. По-настоящему ему не везло ни в чем. Но он принимал это, как обычные удары судьбы. Ларс Петер копил деньги до тех пор, пока не удалось собрать достаточно, чтобы приобрести в собственность клочок земли на Песках. После этого он уже снова начал подыскивать себе жену. Вскоре он обручился с одной девушкой из рыбацкого поселка и женился на ней.
Встречаются на свете люди, на крыше которых любит гнездиться зловещая птица бед и машет своими черными крыльями. Обычно ее никто не видит, кроме самого несчастливца, но бывает и так, что ее видят все, кроме того, на чьей крыше она свила себе гнездо.
Люди думали, что Ларс Петер был из тех, с кем постоянно случается беда. Над его родом тяготели две страшные в мире таинственные силы: кровь и проклятие. И то обстоятельство, что он сам по себе был такой бодрый и веселый человек, только усиливало интерес к нему. От судьбы-то ему все-таки не уйти было! Все явственно видели на его крыше зловещую птицу.
Сам Ларс Петер ничего не видел; с наивною верою в счастье привел он в свой дом милую. Никто не рассказал ему, что она раньше была обручена с моряком, но тот утонул. И к чему рассказывать? Не таков он был человек, чтобы испугаться покойника, тем более, что у Ларса Петера, наверное, никогда и ни с кем не было никаких недоразумений. Да и никому не убежать от своей судьбы!
Молодые зажили очень дружно. Ларс Петер был добр к жене; если выдавалось у него свободное время, помогал ей доить корову, носил воду. Хансина также была довольна и весела; по всему чувствовалось, что муж у нее хороший. А поселившаяся у них на крыше птица оказалась в конце концов просто аистом, так как вскоре Хансина призналась Ларсу Петеру, что у них будет ребенок.
Сроду не слыхал он ничего радостнее и никогда не знавал таких веселых забот, какие теперь появились у него. Все вечера он проводил в сарае: сколачивал там люльку, мастерил полозья для нее и вырезывал из дерева крохотные башмачки. За работой он гудел себе под нос что-то вроде песенки, всегда на один и тот же мотив. Но вдруг прибегала к нему, вся дрожа, Хансина и бросалась ему на шею. С нею во время беременности стало твориться что-то неладное. То она не могла усидеть на месте от какой-то внутренней тревоги, то вдруг замирала вся, словно прислушиваясь к каким-То далеким голосам, и ее уж не дозваться было, сколько ни окликай. Ларс Петер объяснял это ее положением и не беспокоился. Его уравновешенность хорошо действовала на нее, и она мало-помалу становилась опять спокойной. Лишь временами на нее снова нападал страх, и она вне себя прибегала к мужу в поле, и трудно было увести ее обратно домой. Она требовала, чтобы муж постоянно находился поблизости от дома, на виду у нее. Наверное, она чего-то опасалась, боялась оставаться одной; но когда муж начинал расспрашивать ее, она молчала.
После рождения ребенка все это у нее пропало; она стала прежней. Оба радовались ребенку и зажили еще дружнее.
При следующем ребенке повторилось то же самое, только было еще хуже. Временами Хансина положительно не в силах была оставаться дома, без устали бродила по полю и в отчаянии ломала себе руки, прикрытые передником. Заманить ее домой удавалось, только показав ей плачущего ребенка. Но теперь она все-таки сдалась на уговоры мужа и призналась ему, что была невестой моряка и тот взял с нее клятву, что она останется ему верна, если даже он погибнет.
— И он погиб? — спросил с расстановкой Ларс Петер.
Хансина кивнула и добавила, что он грозился вернуться и потребовать ее к ответу, если она не сдержит клятвы, — будет скрипеть ставнем слухового окошка на чердаке.
— Ты дала ему клятву по доброй воле? — испытующе спросил Ларс Петер.
Но Хансина ответила, что жених заставил ее поклясться.
— Ну, так ты ничем не связана, — решил он. — Мой род, пожалуй, не из почтенных; мы — отверженцы, как говорится. Но и отец мой и дед всегда держались того мнения, что мертвых бояться нечего; живые — те куда зловреднее.
Хансина сидела с ребенком, уснувшим в слезах у нее на коленях, а Ларс Петер стоял около и, обняв жену за плечи, тихонько уговаривал ее.
— Теперь ты должна думать только об этом малыше да о другом, которого носишь под сердцем! За один только грех нет нам прощения — это, если мы не заботимся о тех, кого судьба вверила нам.
Хапсина взяла его руку и прижала к своим заплаканным глазам. Потом встала и уложила ребенка в кровать. Она успокоилась.
Живодер не подвержен был никаким суевериям или страхам. В этом отношении его родичи выделялись, как светлое пятно, на фоне темной, суеверной массы людей, за что и были отвержены и обречены на свои особые занятия. Кто не боится привидений, над тем они не имеют власти!
Ларс Петер признавал лишь один вид проклятья на земле — быть отверженным и пугалом для людей. Лично он не был, к счастью, ни тем, ни другим. И ни в какие преследования со стороны мертвецов не верил, но понимал, что с Хансиной творится что-то неладное, и очень за нее тревожился. Перед тем, как лечь спать, он снимал ставень с чердачного оконца и прятал его под крышей.
Так в печали и заботах рождались у них дети — один ребенок за другим. Душевное состояние Хансины не улучшалось, а скорее ухудшалось с каждой новой беременностью. И как ни любил Ларс Петер своих малышей, он все-таки желал, чтобы детей больше у них не рождалось. На самих ребятишках, впрочем, болезненное душевное состояние матери, носившей их под сердцем, ничуть не отражалось. Все они были словно ясное солнышко и, едва научившись ходить, целый день держались около отца. Они вносили радость в его дневной труд, и каждого нового ребенка он встречал, как дар божий. Приняв богатырской пятерней из рук повитухи новорожденного, он подымал его к потолку и радостно приветствовал рокотаньем своего густого баса, глядя, как младенец словно кивает ему беспомощно качающейся головкою, а глазки его моргают от света. Никогда не видывали люди человека, который бы так радовался своим ребятишкам, своей жене и всему, что он, Ларс Петер, мог назвать своим. На языке у него были для них только похвалы, все казалось ему чудесным.
Хозяйство его, впрочем, не особенно процветало. Само по себе оно было маленькое, и к тому же Ларсу Петеру не везло. То скотина падет, то градом побьет посев. Но лишь другие отмечали все эти его неудачи, сам же он не чувствовал себя обиженным судьбой. Напротив, доволен был своим домом и своим хозяйством и продолжал неутомимо трудиться. Ничто его не страшило.
Когда Хансина забеременела пятым ребенком, она прямо как будто помешалась. Она заставила мужа вновь навесить ставень, утверждая, что иначе ей не спастись от сквозняка в кухне. И на этот раз ее просто не выманить было из дому. Она все ждала — не заскрипит ли ставень. Жаловаться она совсем перестала и страха в сущности не испытывала, но как будто со всем примирилась заранее и приготовилась к неизбежному. Ожидание этого поглощало ее всецело, и Ларс Петер с грустью чувствовал, что она как будто совсем отошла от него. Просыпаясь по ночам, он часто убеждался, что ее нет в постели, шел ее искать и находил в кухне, полуокоченевшую от холода. Он на руках относил ее в кровать, как малого ребенка, ласково успокаивал, и она засыпала, прижавшись к его груди.
Она дошла до такого состояния, что он, отлучаясь из дому, боялся оставлять ее одну с детьми. Пришлось взять женщину, которая присматривала бы за нею и за хозяйством. Хансина все в доме запустила, а на детей поглядывала так, как будто они были причиной ее несчастья.
Однажды Ларс Петер повез в город торф. В его отсутствие и случилась беда. Сбылось, видно, то, чего так долго ожидала Хансина. Под каким-то предлогом она отослала женщину, присматривавшую за нею и за хозяйством, и когда Ларс Петер вернулся, то нашел все двери открытыми и в доме и в хлеву; скотина мычала и блеяла, а жены и детей нигде не было видно. Домашняя птица бросилась к нему под ноги, когда он обходил двор кругом, окликая своих близких. Он нашел их всех в колодце.
Ужасное это было зрелище, когда они — все пятеро, мать и четверо детей, — лежали в ряд — сначала на каменных плитах около колодца, мокрые и синие, а потом в саванах на столах в большой комнате. Моряк добился-таки своего! Мать бросилась в колодец последняя, прижимая к груди самого младшего ребенка. Так ее и вытащили, так и в гроб положили и схоронили, хотя она, пожалуй, и не заслуживала этого.
Все были глубоко потрясены этим ужасным несчастьем. И многие готовы были выразить Живодеру сочувствие, оказать поддержку, но он как будто в этом не нуждался, несмотря на такое страшное горе. К нему не так-то просто было подойти с утешениями и услугами.
До самого дня похорон он все ходил около покойников и прихорашивал их. Никто не видел, чтобы он пролил хоть слезинку, даже когда гробы стали засыпать землей. Люди только дивились силе его характера, — он ведь так любил их всех. Должно быть, на нем лежало и это проклятие, — он был из тех, кто не может плакать, — рассуждали женщины.
После погребения Ларс Петер попросил одного соседа хусмана{4} присмотреть за скотиной, пока сам он съездит по делу в город. Уехал — и пропал. Никто не видал его года два-три. Поговаривали, что он ушел в море. Оставшийся после него дом взяли обратно кредиторы, и всего имущества хватило как раз на удовлетворение их претензий, так что Ларс Петер ничего не потерял.
Но в один прекрасный день он опять появился в этих краях, таким же, каким был всегда, готовым, подобно Иову, начать все снова. За истекшие два-три года он подкопил деньжонок и купил ветхую хижину, стоявшую не сколько севернее того места, где был его первый дом. К хижине подходило болото и клочок неудобной земли, никогда еще не паханной. Затем Ларс Петер обзавелся десятком овец, домашней птицей, соорудил для них и для скотины хлев из дерна и болотного тростника и принялся за дело. Стал рыть торф и на тачке возить его на продажу, а когда был хороший улов сельди, в ближайшем рыбацком поселке закупал рыбу и развозил ее по хижинам и селениям, лежавшим вдали от моря.
Вместо денег он охотно брал, в обмен за рыбу, старый железный лом, тряпье и кости. Он взялся за старинный промысел своих предков и был доволен этим. И хотя сам он никогда раньше не занимался торговлей, она пошла у него, как дело, ему давно знакомое. Однажды он привел на двор крупного костлявого мерина, которого купил очень дешево потому, что никто другой им не соблазнился. В другой рае привел под свой кров Сэрине. Вот как ему повезло!
Познакомился он с Сэрине на пирушке, устроенной в складчину в рыбацком поселке, и они быстро между собой поладили. Ей наскучило жить в работницах, а ему надоело одиночество, и они поселились вместе.
Весь день с утра, а иногда и ночью разъезжал он по своим торговым делам. В разгар рыбного лова ему приходилось вставать с постели и выезжать из дому в час, в два утра, чтобы поспеть в поселок к тому времени, когда возвращаются с моря первые рыбацкие лодки. А Сэрине и вовсе не ложилась, чтобы не проспать урочного часа и вовремя разбудить и снарядить мужа в поездку. Такой неправильный образ жизни казался им обоим вполне естественным и шел Сэрине на пользу. Итак, значит, Ларс Петер снова нашел себе жену, да еще такую, что не жалела себя на работе. И конь у него был особенный, подобного которому не сыскать во всей стране. А усадьба? Разумеется, не барская, всего-навсего хижина, сооруженная из соломы, камыша, глины да жердей. Все проходившие мимо подсмеивались над этой хибаркой, но Ларс Петер не роптал.
Он был из тех, кто всегда доволен своим положением Сэрине считала мужа слишком благодушным. Она-то была совсем другого склада — стремилась выбиться в люди и мужа подталкивала к этому. Основным свойством ее натуры было, скорее всего, тщеславие. Когда Ларс Петер уезжал из дому, она справлялась с работой по дому и двору одна и в первое же лето помогла мужу поставить настоящий хлев из старых жердей и необожженного кирпича, который сама лепила из добытой в яме глины и сушила на солнце.
— Теперь у нас скотина стоит, как у людей, — говорила она, но по голосу ее слышно было, что счастливой она себя не чувствовала.
Ларс Петер поговаривал иногда, что им следовало бы взять к себе бабушку и Дитте.
— Сидят там они, бедняги, безо всякой помощи и невесть чем кормятся.
Но Сэрине и слышать об этом не хотела.
— Довольно у нас забот и без них! — резко отвечала она. — И мать, наверно, нужды не терпит. Она всегда была мастерица выкручиваться. А если уж брать их сюда, то я желаю получить свои деньги, которые были выплачены, когда Дитте родилась. По всей справедливости они ведь мои.
— Ну, их-то старики, наверно, давно проели, — предположил Ларс Петер.
Но Сэрине ему не верила. Не похоже это ни на отца, ни на мать. Сэрине была убеждена, что мать припрятала деньги куда-нибудь.
— Вот если бы она согласилась продать Хижину на Мысу и отдать нам все деньги, тогда дело другое. Мы бы тогда поставили себе новый дом, — добавила она.
— Тебе все мало! — усмехнулся Ларс Петер. Он-то считал, что у них неплохой домишко. Сам он всегда был всем доволен, но находил, что другим живется еще недостаточно хорошо. «Если дать ему одному всем распоряжаться, скоро вся семья угодит в богадельню», — рассуждала Сэрине.
Ларс Петер стал избегать таких разговоров, а после того как бабушка побывала у них в гостях и он видел их с Сэрине вместе, он понял, что лучше им жить отдельно. Марен и Дитте сюда больше не приезжали, а он, когда попадал в их края, заезжал в Хижину на Мысу выпить чашку кофе у бабушки с внучкой. Он привозил с собой жареный кофе, чтобы не застать их врасплох и не оказаться им в тягость; привозил также булок и еще кое-чего.
Тогда в Хижине на Мысу наступали праздничные дни. И старуха с девочкой вели счет времени от одного посещения Ларса Петера до другого и ни о чем другом почти не говорили. Стоило только затарахтеть на дороге колесам телеги, как Дитте бежала к окошку, а бабушка широко раскрывала потухшие глаза. Дитте собирала на берегу всякий железный хлам, чтобы сделать сюрприз отцу, а когда Ларс Петер уезжал, она провожала его на телеге до самого дальнего холма, за которым обыкновенно садилось солнце.
Дома у себя Ларс Петер об этих посещениях не упоминал.
XIII Дитте — ясновидящая
Старуха Марен до того, как ослепла, успела научить Дитте читать, и теперь девочке это очень пригодилось. В церковь они никогда не ходили, — у них не было приличной одежды, да и далеко было до церкви. Впрочем, старуху туда и не особенно тянуло. По долгому житейскому опыту она знала, что не все на свете происходит так, как утверждает пастор в своей проповеди. Но по воскресеньям, когда жители поселка шли в церковь мимо Хижины на Мысу, обе — и бабушка и внучка — были принаряжены: Дитте в начищенных до блеска черных деревянных башмаках и в чистом переднике, а старуха в чепчике с белыми тесемками. Марен с очками на носу сидела у стола на плетеном соломенном стуле, и перед нею лежал старинный сборник церковных проповедей, а Дитте стояла рядом и читала вслух соответствующую дню главу из Евангелия. Марен, хоть и была слепая, считала своим долгом надевать очки и класть перед собою священную книгу, чтобы «все было, как полагается».
Дитте достигла уже школьного возраста, но бабушка как будто знать ничего не знала и не посылала ее в школу. Старуха опасалась, что девочка не сумеет поладить с другими детьми, да и не представляла себе, как она сама будет целыми днями обходиться без Дитте. С полгода их никто не беспокоил, но затем это обнаружилось, и Марен было строго приказано посылать ребенка в школу — иначе у нее отберут Дитте.
Пришлось кое-как снарядить девочку и скрепя сердце отправить в школу. Дать ей с собою метрическое свидетельство старуха поостереглась, — там ведь была роковая пометка: «незаконнорожденная». Марен понять не могла, как можно было так заклеймить невинного ребенка. И без того не сладко придется Дитте в жизни! Но девочка вернулась из школы со строгим наказом принести метрику на следующий же день. Пришлось Марен уступить, бесполезно было дольше бороться с людскою несправедливостью.
Марен отлично знала, что начальство не от бога, — это она понимала с тех пор, как появилась на свет. Начальство только притесняло ее и таких же, как она, бедняков, пуская в ход свои жестокие приемы, которые не имели ничего общего с волей неба. Бог же, напротив, был другом бедняков, и уж, во всяком случае, по правую руку господа сидел его единородный сын и шептал ему на ухо слова милосердия, заступаясь за бедный люд. Надо полагать, что и сам бог всегда готов был помочь беднякам. Но что толку, если сильные мира сего не желали этого? Здешние господа помещики и прочие им подобные держат власть в своих руках!
Они сидели впереди всех, и к ним повертывался пастор лицом, когда говорил проповедь, а простой народ жался где-то у входных дверей, и пономарь, запевая псалом, только косился в ту сторону. Господам все было можно, начальство носило за барынями их шлейфы и, согнувшись в три погибели, стояло у дверец их экипажа, а если бывало грязно, всегда находилась какая-нибудь усердная поденщица-огородница, готовая стать на четвереньки у подножки, чтобы барыня могла сесть в карету, не запачкав башмачков. В господских метриках, небось, никогда не значилось: «незаконнорожденный», хотя в законности происхождения господ как раз частенько приходилось сомневаться.
— Но почему же бог терпит это? — удивилась Дитте.
— Видно, поневоле, иначе они не станут строить ему церкви и служить молебны, — сказала Марен. — Дедушка Сэрен всегда твердил, что бог в кармане у богачей, а я готова поверить, что так оно и есть.
Три раза в неделю посещала Дитте школу, находившуюся в часе ходьбы, за общественными лугами. Она отправлялась вместе с другими ребятишками из поселка — и ничего, ладила с ними. Дети сами по себе часто поступают необдуманно, но редко умышленно причиняют кому-нибудь зло. Этому учат их взрослые. То, что они кричали вслед Дитте, они слышали у себя дома, повторяли сплетни и пересуды родителей — злого умысла у них не было. Дитте была всегда настороже и скоро убедилась, что они и друг с другом разговаривают так же грубо. Они способны были обозвать ее «шлюхиным отродьем», а через минуту она была с ними на равной ноге, у них не было намерения унизить ее. Поэтому бранные слова утрачивали свое ядовитое жало, излишнею же чувствительностью Дитте не страдала. И родители ребятишек уже перестали суеверно отгонять детей от нее — давно забыто было то время, когда старуха Марен слыла в окрестности проклятой колдуньей и ведьмой; теперь она была просто бедной старухой, еле-еле перебивавшейся вместе со своей внучкой, незаконнорожденным ребенком.
Школу посещали и дети, приходившие с другой стороны общественных лугов, из местности, прилегавшей к Пескам, и случалось, что Дитте узнавала от них новости о Сэрине и Ларсе Петере. Он подолгу не заглядывал к бабушке с внучкой, и мало ли какая беда могла за это время приключиться с ним в его постоянных разъездах и днем и ночью, во всякую погоду. Хорошо, что Дитте встречалась С детьми из тех мест и узнавала от них, что там все благополучно. Марен никогда не видела от дочери ничего хорошего, но все же в жилах Сэрине текла ее кровь.
Однажды Дитте явилась из школы с вестью, что ее вызывают к себе родители. Теперь она перейдет жить к родителям. Дитте узнала об этом через кого-то из учеников.
Старая Марен так затряслась, что вязальные спицы звякнули у нее в руках.
— Да ведь они же говорили, что ты им не нужна! — воскликнула она, и по лицу ее прошла судорога.
— А теперь, стало быть, нужна! Я буду нянчить маленьких, — с важностью отозвалась Дитте и принялась собирать и складывать на стол все свои пожитки. И каждый раз, как она приносила какую-нибудь вещь, старуху всю передергивало, а Дитте говорила ей ласковые слова и гладила трясущуюся руку с сетью синих вздувшихся вен. Марен сидела молча, не переставая вязать, с странно замкнутым, окаменевшим лицом.
— Я буду навещать тебя, а ты должна быть умницей. Ты же понимаешь, что нельзя мне всю жизнь просидеть около тебя. Я каждый раз буду приносить с собой жареного кофе, и мы с тобой угостимся на славу. Но ты должна обещать мне не плакать без меня, но портить себе глаза.
Дитте говорила сухо-рассудительно, увязывая в платок свои вещи.
— А теперь мне пора, иначе не попасть туда до вечера и мама рассердится. — Она сделала ударение на слове «мама», произнесла его так торжественно, что всякое возражение должно было отпасть. — Прощай, милая, дорогая бабушка! — Она поцеловала старуху в щеку, захватила свой узелок и убежала.
Когда дверь за девочкой закрылась, Марен начала громко причитать; со слезами жаловалась она на все свои жизненные горести и невзгоды и страстно призывала смерть. Много-много испытала она в жизни горя и, кончив перечислять все свои беды, снова принималась плакать. Слишком тяжелы были эти воспоминания, чтобы можно было освободиться от их бремени за один раз. И хоть Марен бередила свои раны, но все же чувствовала облегчение и потому еще долго, пожалуй, продолжала бы плакать, да вдруг почувствовала, как детские руки обвились вокруг ее шеи и мокрая щека прижалась к ее щеке. Ах, негодница девчонка!.. Ведь это она вернулась обратно, заявила, что ей пока вовсе не нужно уходить.
Дитте прошла уже порядочно по дороге, до самой пекарни. Там все удивились, куда это она торопится с большим узлом, остановили ее, стали расспрашивать. Объяснениям ее, что она должна поселиться с родителями, там никто не поверил.
Пекарь как раз накануне встретился с ее отцом на ярмарке, и тот не заикнулся от этом, а, наоборот, просил передать старухе с девочкой поклон от него. Дитте смущенно выслушала все это, и вдруг сомнение вспыхнуло в ней самой, — как всегда резкая и стремительная во всех своих движениях и поступках, она разом повернулась и побежала назад к Хижине на Мысу. Не ломая себе головы над тем, как это все вышло, она просто почувствовала невыразимое облегчение от того, что ей можно вернуться к бабушке.
Старуха и смеялась и плакала, расспрашивала и не могла ничего в толк взять.
— Так тебе совсем не нужно уходить отсюда? — восклицала она бог весть в который раз, боясь всерьез поверить этому.
— Да нет же, говорю тебе, у пекаря сказали, что мне не нужно уходить.
— У пекаря… у пекаря… Да они-то при чем тут? Ведь тебе же передали в школе, чтобы ты пришла?
Дитте поторопилась уткнуть нос в бабушкину щеку.
Марен подняла голову:
— Разве не так, дитя? Отвечай же!
— Не знаю, бабушка, — ответила Дитте и спрятала лицо на груди у старухи.
Марен отодвинула ее от себя:
— Так ты меня обманула, озорница! Стыдно тебе терзать мое бедное старое сердце! — Марен опять безудержно разрыдалась.
Все это так неожиданно свалилось ей на голову. И хоть бы еще можно было понять, в чем тут дело; девчонка ведь твердит, что не обманывала ее, сама, видимо, убеждена была, что получила такой наказ из дому, и приходила в отчаяние от того, что бабушка ей не верит. Лгать по-настоящему, в серьезных случаях, Дитте никогда еще не лгала, стало быть, наказ все же был послан. Но, с другой стороны, сама же она говорит теперь, что ей не надо уходить… А что пекарь отсоветовал девочке, — это, конечно, вздор. Просто он остановил ее, потому что ее поведение показалось подозрительным. Марен так и не могла сообразить, в чем тут дело, — разве только, что девчонка выдумала все это?
Дитте же не отходила от бабушки и то и дело гладила ей подбородок.
— Теперь я знаю, как ты будешь горевать, когда мне в самом деле придется уйти, — тихо сказала девочка.
Марен подняла лицо к ней:
— А ты разве думаешь, что тебе скоро придется уйти?
Дитте так усердно закивала головой, что старуха поняла это. Она задумалась. И раньше уже случалось, что девочка заранее предчувствовала то, что случится.
— Ну, как бы то ни было, — сказала наконец Марен, — но ты вела себя, как тот важный барин, про которого я читала в книжке. Он хотел посмотреть, как будут выглядеть его похороны, и устроил похоронное шествие с дрогами, которые везли четыре лошади в черных попонах, и со всем, что положено в таких случаях. А все слуги должны были изображать провожатых в трауре и оплакивать покойника. Сам же барин следил за шествием из слухового окошка, с чердака. А когда он увидел, что слуги, закрываясь носовыми платками, пересмеиваются, вместо того, чтобы плакать, то так огорчился, что и в самом деле умер. Опасно шутить насчет своего собственного переселения куда бы то ни было!
— Я не обманывала тебя, бабушка! — еще раз уверила ее Дитте.
С того дня Марен не могла отделаться от тревоги, что родители отнимут у нее девочку.
— У меня все время звенит в ушах, — говорила она. — Не судачит ли о нас твоя мать?
А Сэрине и в самом деле вспоминала о них в это время. Дитте уже достигла такого возраста, что могла бы помогать дома. Теперь Сэрине сама хотела взять к себе старшую дочь, чтобы нянчить малышей.
— Ей уже девять лет, и рано или поздно нам все-таки придется взять ее к себе, — убеждала Сэрине мужа.
Он возражал, ему жалко было разлучать бабушку с внучкой.
— Тогда возьми лучше обеих, — сказал он как-то.
Но о матери Сэрине и слышать не хотела и продолжала долбить свое, пока муж не уступил ей.
— Мы тебя ждали, — сказала Марен, когда он приехал за девочкой. — И давно знали, что ты приедешь взять ее.
— Не моя это выдумка, но мать имеет некоторые права на своего ребенка, и Сэрине кажется теперь, что она соскучилась по Дитте, — ответил Ларс Петер, желая угодить обеим сторонам.
— Знаем, что ты, как мог, старался отсрочить переезд. Но чему быть, того не миновать. А как вы все поживаете? Говорят, что у вас прибавился еще один рот.
— Да, ему скоро уже полгода, — просиял Ларс Петер, как всегда, когда говорил о детях.
Они сели в телегу.
— Мы двое не забудем тебя, — сказал старухе Ларс Петер не совсем внятно, стараясь заставить Большого Кляуса сдвинуться с места.
Старый коняга наконец тронулся. Отъезжавшие еще видели, как старуха ощупью переступила через порог дома и заперла за собою дверь.
— Тяжело одинокому и слепому на старости лет, — проговорил Ларс Петер, привычно похлестывая кнутом коня.
Дитте не слыхала его слов. Лицо ее все расплывалось в улыбку. Она ехала навстречу новому, о бабушке она в эту минуту и не думала.
XIV Дома у матери
Домишко Живодера — Сорочье Гнездо — стоял в стороне от дороги, и выходивший на нее участок Ларс Петер засадил ивняком, отчасти с целью загородить свое неприглядное жилье, отчасти, чтобы иметь под рукою материал для корзин, которые он будет плести зимой, когда торговля затихала. Ивняк разросся, и теперь у детей было чудеснейшее местечко для игры в прятки. Жилье свое Живодер старался содержать в порядке, не жалел на обмазку стен ни смолы, ни штукатурки, но оно как было, так и оставалось жалкой лачугой, в щелях и скважинах, готовой вот-вот развалиться. Заветной мечтою Сэрине было выстроить настоящий одноэтажный домик у самой дороги, а из лачуги сделать хлев. Вокруг простиралась бесплодная, пустынная земля; до соседей было далеко. На северо-западе виднелся большой лес, замыкавший горизонт, а в противоположном направлении лежало зеркало озера Арре, отражавшее все перемены погоды. В темные ночи оттуда доносилось кряканье уток из прибрежных камышей, а в дождливые дни там призраками скользили лодки с темными неподвижными фигурами на форштевнях. Это рыбаки выезжали на ловлю угрей. Держа багор или острогу наготове, они время от времени тыкали ею в воду и тихо проплывали дальше. Весь этот пейзаж с озером напоминал сказочное видение. Когда Дитте начинала тосковать здесь, она принималась фантазировать — будто бежит к озеру, прячется в камышах и грезит наяву, что она у бабушки. Или, может быть, совсем в другом месте, где еще лучше, где ждет ее что-то совсем новое, неведомое, но чудесное. Дитте не сомневалась в том, что с ней случится такое, что даже трудно себе представить.
Игры свои она тоже мысленно переносила на озеро, и когда тоска по бабушке слишком одолевала ее, она заходила за угол дома и смотрела в даль, где расстилалось зеркало озера. Только теперь Дитте поняла, чем была для нее бабушка.
На самом-то деле она еще не побывала на озере. У нее совсем не было времени для игр. В шесть часов утра подавал свой голос самый младший из детей, аккуратный, как часы, и Дитте должна была моментально вскакивать, брать его с постели матери и одевать. Ларс Петер, если не уезжал в поселок за рыбой, вставал еще раньше, около двух-трех часов утра, и возился по хозяйству. Когда он оставался дома, Сэрине поднималась вместе с детьми, а без него она предпочитала еще понежиться, предоставляя Дитте одной принимать на себя первый шквал забот нового трудового дня. И тогда нарушался обычный распорядок, скотина в хлеву протяжно мычала и блеяла, поросенок хрюкал и повизгивал над пустым корытом, а куры долбили клювами дверцу курятника в ожидании, что их выпустят. Дитте скоро убедилась, что мать куда расторопнее и прилежнее при отце. Без него она способна была проходить половину дня — непричесанная, в одной юбчонке, кое-как наброшенной на ночную рубаху, в шлепанцах на босу ногу, — не принимаясь по-настоящему ни за какое дело. Поэтому в доме царил настоящий хаос.
Дитте казалось иногда, что она попала в какой-то особый мир, где все поставлено кверху дном. Девочка относилась к своим обязанностям серьезно, она еще мало жила среди взрослых, чтобы успеть перенять у них привычку отлынивать от работы.
Дитте умывала и одевала младших детей, резвых, шаловливых и непослушных, так что ей не легко было справляться со всеми тремя сразу. Двое старших — мальчик и девочка — ловили каждую удобную минуту, чтобы удрать голышом от Дитте. Тогда ей приходилось привязывать к месту самого младшего, чтобы поймать беглецов.
Поэтому занятия в школе были для нее отдыхом. Едва успев сбыть с рук ребятишек и проглотить немного овсяной каши, она должна была торопиться в школу. Но мать частенько в самую последнюю минуту находила еще какое-нибудь дело, и Дитте, чтобы не опоздать, вынуждена была бежать почти весь длинный путь.
Но, если не считать частых выговоров за опоздание, посещение школы было для Дитте удовольствием. Так хорошо было сидеть в комнате несколько часов подряд, по-настоящему отдыхая и телом и душой. Уроки были нетрудные, а учитель — хороший человек. Он нередко отпускал детвору резвиться на целые часы, пока сам работал у себя в поле, и неудивительно было, что вся школа приходила ему на подмогу — убирать сено или хлеб, или копать картошку. Работа проходила весело. Дети напоминали стаю шумных, крикливых птиц, они крякали, кудахтали, шутили и работали наперегонки. А когда возвращались с поля, жена учителя угощала их в классе горячим кофе.
Больше всех уроков в школе Дитте любила урок пения. Раньше она никогда ни от кого не слыхала песен, кроме бабушки, а та пела только сидя за прялкой, пела ради ритма, чтобы и колесо вертелось мерно и нитка выходила ровнее. Пела старуха всегда одну и ту же песню, монотонную и протяжную. Дитте думала, что бабушка сама сложила ее, так как песня выходила у нее то длиннее, то короче, в зависимости от настроения.
Учитель всегда заканчивал занятия пением. И в первый же раз, услыхав многоголосый хор, Дитте так взволновалась, что громко расплакалась, положив голову на парту. Учитель прервал урок и подошел к ней.
— Разве ты никогда не слыхала, как поют, девочка? — с удивлением спросил учитель, когда она немного пришла в себя.
— Слыхала песню пряхи, — всхлипнула Дитте.
— Кто же ее пел тебе?
— Бабушка… — Дитте вдруг замолчала и опять начала задыхаться от рыданий. При мысли о бабушке она была готова прийти в отчаяние. — Бабушка пела ее за прялкой, — выговорила она наконец.
— Должно быть, славная старушка твоя бабушка? Ты ее очень любишь?
Дитте не ответила, только лицо ее просияло, как солнце после дождя.
— Можешь ты спеть нам эту песенку пряхи?
Дитте обвела глазами вокруг, — весь класс глядел на нее в напряженном ожидании, она почувствовала это. Девочка бросила беглый взгляд на учителя, потом, опустив глаза на крышку парты, запела тонким голоском, дрожащим от волновавших девочку чувств: застенчивости, торжественности момента и грусти при мысли о бабушке, которая, может быть, сидела теперь и тосковала по ней. Бессознательно Дитте, пока пела, шевелила ногой, как будто вращая колесо прялки. Кто-то было хихикнул, но учитель остановил его взглядом.
Спрядем-ка мы для Дитте рубашку и чулки,— Раз-раз да стоп! Да раз-раз да стоп! — Из серебра рубашка, из золота чулки, Фаллерилле, фаллерилле, раз-раз-раз! Проснулась крошка Дитте и вышла из ворот, — Раз-раз да стоп! Да раз-раз да стоп! — И принц в плаще пурпурном навстречу ей идет. Фаллерилле, фаллерилле, раз-раз-раз! «Пойдем со мною, Дитте, пойдем в отцовский дом! — Раз-раз да стоп! Да раз-раз да стоп! — Мы там с тобою вместе счастливо заживем!» Фаллерилле, фаллерилле, раз-раз-раз! «Ах, милый принц, охотно пойду в твою страну! — Раз-раз да стоп! Да раз-раз да стоп! — Но как, скажи, оставлю я бабушку одну? Фаллерилле, фаллерилле, раз-раз-раз! Она совсем ослепла от горя и труда,— Раз-раз да стоп! Да раз-раз да стоп! — Ей ломит поясницу, в ногах у ней вода». Фаллерилле, фаллерилле, раз-раз-раз! «Коль выплакала очи над люлькой сироты, — Раз-раз да стоп! Да раз-раз да стоп! — На самом лучшем месте ее посадишь ты! Фаллерилле, фаллерилле, раз-раа-раз! Коль ноженьки не ходят и спину больно ей, — Раз-раз да стоп! Да раз-раз да стоп! — В карете будет ездить на паре лошадей!» Фаллерилле, фаллерилле, раз-раз-раз! Прядет на холст ей бабка — перины набивать, — Раз-раз да стоп! Да раз-раз да стоп! — Чтоб Дитте с принцем было тепло и мягко спать! Фаллерилле, фаллерилле! Раз-раз-раз![1]Когда Дитте окончила, в классе несколько секунд стояла полная тишина.
— Она думает, что найдет себе принца, — сказала наконец одна из девочек.
— Она и найдет его, — ответил учитель. — И тогда бабушке будет хорошо, — прибавил он, погладив Дитте по головке.
Сама того не зная, Дитте сразу завоевала себе расположение учителя и сверстников. Она пела перед всем классом, никто из других учеников не осмелился бы на это. Учителю она полюбилась за свою прямоту, и он долгое время смотрел сквозь пальцы на ее опоздания. Но вот однажды и он потерял терпение и оставил ее в классе после уроков. Дитте заплакала.
— Жалко ее, — сказали другие девочки. — Она ведь бегом бежит всю дорогу! И ее прибьют, если она вернется слишком поздно. Мать каждый день стоит за углом дома и ждет ее — такая строгая!
— Ну, так надо поговорить с твоей матерью, — сказал учитель. — Так дальше продолжаться не может!
Девочке не пришлось оставаться после уроков, но учитель дал ей с собою записку к матери.
Записка не подействовала, и однажды учитель сам проводил Дитте домой, чтобы поговорить с матерью. Но Сэрине сложила с себя всякую ответственность: если девчонка опаздывает, то потому лишь, что балуется по дороге. Дитте с изумлением слушала, не понимая, как можно лгать так беззастенчиво.
И, чтобы спастись от беды, Дитте стала прибегать к обману: каждое утро ухитрялась перевести стрелки маленьких швейцарских часов на четверть часа вперед. Это помогало ей не опаздывать в школу, но зато она приходила слишком поздно из школы домой.
— Ты теперь на четверть часа больше тратишь на дорогу! — негодовала мать.
— Нас сегодня позже отпустили, — оправдывалась Дитте, стараясь врать с такою же непринужденностью, какую наблюдала у матери, когда та лгала. Душа у девочки уходила в пятки, но все пока обходилось благополучно. Удивительно! О, теперь она стала немного умнее! В течение дня она ухитрялась отвести стрелки снова назад. Но вот однажды в сумерки, когда она, взобравшись на стул, собиралась перевести часы, мать застала ее врасплох. Дитте спрыгнула со стула и схватила на руки ползавшего по полу маленького Поуля, — в испуге она искала защиты у малютки. Но мать выхватила у девочки ребенка из рук и принялась бить ее.
Дитте и прежде попадало от матери за ослушание или строптивость, но теперь Сэрине в первый раз задала девочке настоящую порку. Дитте пришла в исступление, визжала, брыкалась и кусалась, так что мать едва могла справиться с ней. Трое малышей вопили вместе с сестрой.
Наконец Сэрине решила, что теперь с девочки хватит, стащила ее в дровяной сарай, швырнула за дверь и заперла.
— Лежи тут и реви, пока не уймешься! Может быть, забудешь теперь свои проделки! — прокричала Сэрине и ушла. Она совсем запыхалась, так что должна была присесть. Эта скверная девчонка чуть не уморила ее.
Дитте была вне себя и некоторое время продолжала вопить и биться об пол ногами и руками. Но вскоре девочка перестала кричать и разразилась отчаянными рыданиями. «Бабушка! Бабушка!» — жаловалась она. В сарае было темно, и каждый раз, как она шепотом звала бабушку, в глубине сарая, в потемках, слышался какой-то легкий шорох. Доверчиво вглядываясь во мрак, Дитте различала два зеленых круглых огонька, которые то вспыхивали, то потухали и снова вспыхивали. Дитте не боялась темноты и позвала шепотом: «Кис-кис!» Зеленые огоньки погасли, и в следующее мгновение что-то мягкое-мягкое нежно потерлось об ее лицо. Тут слезы снова хлынули из глаз девочки, — так растрогала ее, переполнила жалостью к себе самой эта неожиданная ласка. «Киска! Милая киска! Есть же все-таки на свете существо, которое любит меня! Я хочу домой, к бабушке!..»
Она с трудом встала, — все тело у нее болело от побоев, — и выбралась через люк наружу. Когда Сэрине решила, что Дитте просидела взаперти достаточно, и пошла выпустить девчонку, — в сарае никого не оказалось.
Дитте бежала впотьмах по дороге, тихо плача. Было холодно и очень ветрено, дождь так и хлестал в лицо. На девочке не было штанишек, — мать отобрала их у нее для младших детей, как и хорошую теплую фуфайку, которую связала ей бабушка. Мокрый подол платья хлестал по икрам, распухшим от ударов веником. Но мелкий дождик успокаивал жгучую боль. Вдруг что-то вспорхнуло у нее из-под ног, а немного в стороне она услыхала шуршанье тростника и поняла, что сбилась с дороги. В ту же минуту она почувствовала полное изнеможение, забилась в какие-то кусты и улеглась там, свернувшись, как собачонка, и дрожа всем телом.
Дитте лежала и плакала, хотя физической боли уже не ощущала, — все тело застыло от холода и стало нечувствительным. Но тем сильнее болело у нее сердце, и она вся содрогалась от этой боли, от ощущения своей заброшенности, полной пустоты вокруг, — никто ее не пожалеет, никто не приласкает! Ей так недоставало прикосновения теплых рук, материнских нежных рук, которые прижали бы ее к себе. Она получала от матери лишь пинки и слышала только одну брань. От Дитте же требовали как раз того, в чем отказывали ей и чего ей самой больше всего недоставало: материнского долготерпения и неутомимого самопожертвования по отношению к троим детям, попечение о которых взвалили на нее, хотя она сама была беспомощна почти так же, как и они.
Чувство отчаяния мало-помалу все же притупилось в Дитте. Ненависть, гнев, безнадежность и тоска, бушевавшие в ней, истощили ее силы, холод тоже сделал свое дело, и девочка задремала.
С дороги стали доноситься какие-то знакомые звуки — скрип, тарахтенье, громыханье, которые способна была издавать одна-единственная телега во всем мире. Дитте открыла глаза, радость пронизала ее: отец? Она хотела окликнуть его, но не могла издать ни звука; несколько раз она пыталась встать, но ноги у нее подкашивались. Она с трудом выползла сначала на обочину канавы, а затем на середину дороги и потеряла сознание.
Дойдя до того места, где лежала Дитте, Большой Кляус остановился, вздернул голову, зафыркал, и никакими силами нельзя было сдвинуть его с места. Ларс Петер спрыгнул с телеги и подошел поближе к лошади, чтобы узнать, в чем дело. На дороге лежала Дитте, окоченевшая и без чувств.
Она пришла в себя под его теплым дорожным балахоном, жизнь вернулась в ее согревшееся тело. Ларс Петер поочередно брал в свои огромные лапы ее руки и ноги и отогревал их. Дитте не шевелилась, лежа в его объятиях, предоставляя ему отогревать ее. Она слышала, как его сердце сильно билось под одеждой, и ей казалось, что к ней прижимается чья-то огромная, мягкая морда. А его густой и низкий, как звуки органа, бас отдавался во всем ее теле, вплоть до кончиков пальцев. Его огромные руки, не брезговавшие браться за любую грубую и грязную работу, были теплее и мягче всего на свете — как бабушкина щека.
— Ну вот. А теперь давай пробежимся вместе, — вдруг сказал отец. Дитте не хотелось шевелиться, — ей было так тепло, уютно. Но тут никакие просьбы не помогли. — Надо, надо разогнать кровь, чтобы она побежала по жилам как следует, — говорил Ларс Петер, ссаживая Дитте с телеги. И они пробежали кусок пути рядом с конягой, который размашисто выбрасывал свои огромные ноги и шел рысцой, словно желая показать, что и он умеет не только плестись шагом.
— Мы скоро будем дома? — спросила Дитте, когда снова, тепло укутанная, сидела на телеге.
— Ну-у, нет, до дому еще порядочный конец, ты далеко забежала, девочка: за целую милю, пожалуй. Но скажи мне, с чего же это ты вздумала бегать по дорогам, как шальная?
И Дитте вынуждена была рассказать про свои опоздания в школу, про несправедливость, от которой страдала, и про розги, — словом, про все. Ларс Петер время от времени глухо крякал, как-то странно дергался или топал ногой в днище телеги — видно, ему невыносимо тяжело было слушать все это.
— Но ты ведь не скажешь Сэрине? — робко спросила Дитте и тотчас же поправилась: — Не скажешь маме?..
— Тебе нечего бояться, — вот все, что он ответил.
Весь остаток пути отец молчал и, приехав, долго распрягал Кляуса, не отпуская от себя Дитте. Сэрине вышла во двор с фонарем, заговорила с мужем, но он не откликнулся ни словом. Она бросила на него и на Дитте боязливый взгляд, повесила фонарь и поспешила уйти.
Еще немного погодя Ларс Петер вошел в дом, ведя Дитте. Ее маленькая ручка дрожала в его руке. Лицо у него посерело. В правой руке он держал толстую палку, Сэрине отступила под его взглядом в самый угол, прижалась под часами и растерянно глядела на обоих.
— Да, ты глядишь на нас, как будто удивляешься, — сказал Ларс Петер, дойдя до середины комнаты. — Но тебя обвиняет ребенок. Как нам быть вот с этим? — Он сел у стола под лампой и, приподняв платье Дитте, осторожно провел ладонью по вздувшимся багровым полосам на ее теле, болезненно вздрагивавшем от каждого прикосновения. — Ей все еще больно, — ты мастерица сечь! Увидим, такая ли мастерица лечить. Поди сюда и поцелуй ребенка там, где ты ее била. За каждый удар — поцелуй! Ну?
Сэрине скорчила гримасу отвращения.
— А? Ты брезгуешь целовать то место, по которому била девочку! — Он потянулся за палкой и положил ее на стол.
Сэрине опустилась на колени, умоляюще протянула к мужу руки. Но он на себя стал непохож, его не упросить было.
— Ну-у?!
Сэрине помедлила еще с минуту, потом на коленях подползла и поцеловала иссеченное тело ребенка.
Дитте горячо обвила руками шею матери:
— Мама!
Но Сэрине поднялась и пошла разогревать ужин. Весь вечер она избегала смотреть на мужа и дочь.
На другое утро Ларс Петер был опять прежним: как всегда, разбудил Сэрине поцелуем и, напевая, стал одеваться. Во взглядах Сэрине и во всей ее манере держаться чувствовалось, что она сердится на мужа, но он как будто и не замечал ничего. Было еще совсем темно. Ларс Петер сидел за столом, поставив перед собою зажженный фонарь, и завтракал. Прожевывая куски, он глаз не сводил с трех ребят, спавших в ларе. Они лежали, прижавшись друг к другу, как птенцы в гнезде.
— Когда придется и Поуля перевести к ним, надо будет укладывать их попарно — в разных концах ларя, — задумчиво сказал он. — А лучше всего, конечно, если бы у нас хватило средств прикупить вторую кровать.
Сэрине не ответила.
Перед тем как уехать, он наклонился над Дитте, которая спала, как маленькая мамаша, посредине, обнимая одною рукою братишку, другою — сестренку.
— Славную девчонку ты нам подарила, — сказал он, выпрямляясь.
— Она лгунья! — промолвила Сэрине, стоя у печки.
— Ну, это поневоле… Слушай, Сэрине! Мой род не из почтенных и, пожалуй, не стоит того, чтобы с ним считались. Но нас, детей, никогда не били, скажу я тебе. И я твердо помню слова отца на смертном одре. Он взглянул на свои руки и сказал: «За многое, многое брались они, но никогда рука Живодера не подымалась на беззащитного!» И мне бы хотелось иметь право сказать в свой последний час то же самое. Советую и тебе пораздумать об этом.
Он уехал. Сэрине поставила фонарь на подоконник, чтобы мужу легко было выбраться на дорогу. Потом снова улеглась в постель, но не могла заснуть. Ларс Петер заставил ее впервые призадуматься. Она разглядела в нем теперь что-то новое, чего раньше и не подозревала и что заставило ее насторожиться. Она считала мужа простодушным чудаком, каких много. И вдруг… Какой он страшный в гневе! Вспомнить — так в дрожь кидает. Надо остерегаться наступать ему на ногу!
XV Дождь и ведро
В свободные от школы дни у Дитте была масса работы. Весь уход за детьми лежал на ней. И, кроме того, она смотрела и за овцами и за курами и должна была ежедневно набирать полный мешок крапивы для поросенка. А когда Ларсу Петеру не везло и он привозил нераспроданную рыбу домой, Дитте сидела вместе с родителями до двух часов ночи, чистила рыбу, чтобы она не испортилась. Сэрине была из тех хозяек, что вечно суетятся, а дела делают не так уж много. И она видеть не могла, чтобы девочка посидела хоть с минуту спокойно, — тотчас же находила ей дело и гоняла то за одним, то за другим. Иногда Дитте так утомлялась за целый день, что, ложась спать, не сразу могла заснуть.
Сэрине отличалась поразительной способностью отравлять детям жизнь. Лучше им не попадаться ей на дороге, она расправлялась с ними по-свойски, и вдогонку ей раздавались детские крики и плач. Дитте, отправляясь за ягодами или за хворостом, тащила за собою малышей, чтобы не оставлять их возле взбалмошной матери. Порою Сэрине была довольно покладистой, но по-настоящему доброю и веселою она никогда не бывала, иногда же она становилась просто бешеной, — и тут уж дети старались не попадаться ей на глаза, они прятались от нее и показывались только, когда возвращался отец.
Сэрине теперь остерегалась бить Дитте и, не желая еще раз увидеть Ларса Петера таким, как в тот вечер, старалась вовремя отправлять ее в школу. Но она не любила девочку. Сэрине стремилась выбиться в люди, мечтала построить новый дом, прикупить земли, скота и сравняться с женами хотя бы мелких окрестных хуторян.
Девочка же была пятном на ее прошлом, и она при каждом взгляде на дочь вспоминала, что «по милости этой девчонки» другие женщины задирают перед нею нос!
Однако дело у девчонки так и спорилось в руках. Сэрине неохотно признавала это в разговоре с Ларсом Петером, но про себя не могла не сознаться, что у Дитте были и впрямь золотые руки. Девочка отлично пахтала масло — сначала в бутылке, которую приходилось трясти часами, прежде чем масло сбивалось, а потом в новой маслобойке. Самой Сэрине просто невмочь было стоять и без конца бить пахталкой, — ей делалось дурно. Дитте собирала голубику, которую продавала потом на рынке. Дитте бегала за покупками, таскала воду и топливо, пасла овец, и все это, не спуская с рук маленького, толстенького Поуля. Он плакал, если не висел у нее на руке, и Дитте стала совсем кособокой, таская его.
Осень для детей была самым тяжелым временем года. Большие косяки сельдей появлялись у берегов, и тогда отец подолгу находился в рыбацких поселках — иногда целый месяц подряд — и принимал участие в самом лове. Сэрине в это время года была особенно раздражительной. Она становилась сговорчивее, только когда Дитте грозилась сбежать. Осенью из мужчин в окрестности оставались дома очень немногие, и Сэрине боялась бродяг. Отворять дверь на стук в вечернюю пору она всегда посылала Дитте. Та была вообще не из робких. Бесстрашие девочки и ее расторопность давали ей моральный перевес над матерью, и Дитте не боялась теперь огрызаться. Она гораздо проворнее Сэрине плела ивовые корзины и вязала веники, и они получались у нее красивее, чем у матери.
Весь заработок от продажи таких домашних изделий Сэрине могла оставлять себе. И она не тратила из них ни единого эре откладывала скиллинг за скиллингом{5} на постройку дома. Она хотела добиться того, чтобы Ларс Петер перестал мотаться по дорогам и торговать, пусть остается дома и обрабатывает землю. Пока у людей есть основание называть его Живодером, нечего и ожидать от них уважения. Нужно прикупить пахотной земли, а на это требуются деньги.
Деньги! Деньги! Это слово звенит у Сэрине в ушах, постоянно кипит в ее мозгу. Она копит скиллинг за скиллингом, но цель все так же далека. Только какой-нибудь счастливый случай может приблизить ее. Но какой же?.. Только один — если мать вздумает помереть. Что же, она довольно пожила на свете и была в тягость другим. Сэрине кажется, что старухе пора бы и честь знать. Да, как же, дождешься от нее этого!..
Случалось, что Ларс Петер возвращался домой уже вскоре после полудня. Его готовую рассыпаться телегу слышно было издалека, — колеса при каждом повороте скрипели, тарахтели, телега кряхтела, прыгала и тряслась. Похоже было, что все ее части разговаривали или распевали наперегонки. Заслышав знакомые звуки где-то вдали на дороге, ребятишки бежали навстречу, вне себя от радости. Большой Кляус, становившийся все более и более похожим на ходячий кожаный мешок, кое-как набитый костями, тоже подавал свой голос: то как будто чихал, то пофыркивал, а то в брюхе у него урчало и бухало, словно там бушевали ветры со всех четырех сторон света. И к этому хору прибавлялось веселое басистое рокотанье голоса Ларса Петера.
Завидев ребятишек, Большой Кляус ржал, Ларс Петер выпрямлял спину, переставал петь и останавливал телегу. Потом брал в охапку троих, а то и всех четверых ребят, поднимал высоко в воздух и сажал в телегу так бережно, как будто они были из хрупкого стекла. Вожжи доставались тому, кто первый заметил отца.
Заставая жену рассвирепевшей, а дом в хаотическом беспорядке, Ларс Петер не терял своего обычного благодушия и быстро настраивал всех на веселый лад. Он всегда привозил домой какие-нибудь гостинцы, подарочки — детям леденцы, Сэрине новый платок, а Дитте иной раз и особый поклон от бабушки, который передавал шепотом, незаметно для Сэрине. Его веселое расположение духа заражало всех, дети забывали пережитые неприятности, и даже Сэрине невольно смеялась. И так же, как дети, радовались Ларсу Петеру домашние животные. Завидев его, они радостно подавали свой голос и устремлялись к нему. Он мог выманить поросенка из хлева и заставить носиться за собою уморительным галопом по всему полю.
Как бы поздно и каким бы усталым ни вернулся Ларс Петер домой, он никогда не укладывался спать, пока не осмотрит всего своего хозяйства и не убедится, что и скотина и птица накормлены. Сэрине ничего не стоило забыть о них, и нередко они оставались без корма. Заслышав его шаги, куры слетали с насеста, поросенок с хрюканьем кидался к своему корыту, а кошка терлась об ноги хозяина.
Ларс Петер приносил с собою домой радость и счастье; пожалуй, на много миль кругом не сыскать было человека такого счастливого, каким он сам себя чувствовал. Он был доволен своей женой, какова бы она ни была, — пусть скорее суетливая, чем дельная, все равно он считал ее молодцом, чертовски способной женщиной! Он был в восторге от ребятишек, которых она ему подарила, — как от тех, которым сам приходился отцом, так и от Дитте. Пожалуй, даже ее он любил больше всех.
Ларс Петер был человек такого склада, что готов был подбирать то, что другие бросали. Перенесенные неудачи и беды не ожесточили, но даже смягчили его сердце, он невольно сочувствовал всем несчастным существам, обиженным судьбой. Может быть, именно эта его склонность браться всегда за самое трудное и внушила людям мысль, что ему ни в чем не везет. Земля на его участке была никудышная — болото да песок, который никто другой не стал бы пахать плугом; жена у него была такая, что никто ему не завидовал, а большинство мелкой скотины, стоявшей теперь в его хлеву, он спас от неминуемой смерти во время своих разъездов по окрестным хуторам и дворам. Но он умел быть счастливым и довольным тем, что имел, и свое достояние ценил больше, чем чье бы то ни было, никому не завидовал, ни с кем не согласился бы поменяться.
По воскресеньям Большому Кляусу полагался отдых, да и не годилось в праздник путаться по дорогам и вести торговлю. Ларс Петер забирался на сеновал и отсыпался за всю неделю. Слишком часто недосыпал он в будни, поэтому в праздник готов был проспать хоть до вечера, и Дитте изо всех сил старалась держать ребятишек подальше от сеновала: они так и норовили побегать около и поднять шум, словно случайно, в надежде разбудить отца и поиграть с ним. Но Дитте заботливо охраняла его покой.
Два раза в год они всей семьей ездили на ярмарку и Хиллерэд, восседая на возу со всякой всячиной. Детей сажали в плетеные корзины, вложенные одна в другую и поставленные на телегу сзади, с боков ее свешивались большие связки веников, под скамейкой, служившей сиденьем, спрятаны были оплетенные корчаги с маслом и корзинка с яйцами, а впереди, в ногах у Сэрине и Ларса, лежала парочка овец со связанными ногами. Эти выезды были большими праздниками, по которым в доме велся счет времени.
XVI Несчастная бабушка
Мать редко позволяла Дитте навещать бабушку и гостить у нее несколько дней. Но обычно вмешивался отец и так устраивал свои поездки, что мог либо завезти Дитте к бабушке, либо захватить ее с собой оттуда.
Бабушку Дитте всегда находила в постели, — старуха не хотела больше вставать. «Зачем мне подниматься и ковылять тут одной без тебя? Если я не встаю с постели, меня нет-нет да и вспомнит какая-нибудь добрая душа, зайдет ко мне, принесет кусочек чего-нибудь, да приберет немножко вокруг. Ох, да! Самое лучшее — умереть бы поскорее: лишняя я на свете!» — жаловалась старуха. Но все-таки вставала и ставила кипятить воду для кофе, а Дитте прибирала постель и комнату, находившуюся в страшном беспорядке. Потом они приятно проводили вместе время в разговорах.
Когда Дитте пора было возвращаться домой, старуха начинала плакать. Остановившись за углом дома, держась за столб, Дитте слушала ее причитания. Девочка всячески старалась взять себя в руки. Ведь она должна, должна вернуться домой, и если теперь сразу оторваться от столба, кинуться по дороге и бежать, бежать опрометью, пока она не перестанет слышать плач бабушки, — то… Но тут сердце у нее начинало так щемить, что она, сама не зная, как это случилось, уже стояла опять возле бабушки и обнимала ее.
— Я могу побыть у тебя еще до завтра!
— Ты не обманываешь меня, дитятко? — робко спрашивала старуха. — А то ведь с Сэрине шутки плохи!.. Да, да, — прибавляла она, немного погодя, — побудь со мною до завтра. Бог тебя не оставит за твое доброе сердце. Мы с тобой ведь не часто видимся.
И на следующий день расстаться оказывалось не легче. У Марен сил не хватало отпустить девочку. У старухи столько накопилось на сердце, столько надо было еще рассказать, стольким поделиться! И что такое, в самом деле, один лишний день после целых месяцев горького одиночества?
Дитте серьезно выслушивала старуху, — теперь девочка понимала, что такое горе и тоска.
— Ты стала там совсем другою, — говорила старуха, — я это замечаю по тому, как ты слушаешь. Только бы поскорее наступило время, когда ты сможешь пойти в прислуги.
Но скоро их счастью наступал конец. Ларс Петер заезжал за девочкой.
— Ну, пора тебе и домой, — говорил он, усаживая ее. — Малыши плачут.
— Да, тебя-то нечего бояться, — говорила старуха Марен, — но Сэрине не мешало бы получше обращаться с девочкой.
— Я думаю, теперь будет лучше. А уж малыши-то как ее любят! Она для них настоящая «мамочка Дитте».
Да, да, малыши! Сердце у Дитте таяло при мысли о них. Они умели привязать ее к себе и, хотя и требовали от нее самоотверженных забот и хлопот, все же завоевали ее сердце!
— Как поживает Поуль? — поторопилась на этот раз спросить Дитте, едва они перевалили через дюны и бабушкина хижина скрылась из виду.
— Ты знаешь, он часто плачет, когда тебя нет дома, — тихо ответил отец.
Дитте знала это. У него резались зубки, десны вспухли и горели, щечки пылали от лихорадки, и он все просился на руки. Малыш цеплялся за юбку матери, она отталкивала его, он падал и ушибался. Кто же брал его на руки, кто утешал? В любвеобильном сердце девочки поднималось раскаяние. Она оставила малыша! И Дитте затихла в нетерпеливой тоске — поскорее бы опять посадить его к себе на колени! У нее ломило поясницу, когда она долго таскала его на руках, и учитель выговаривал ей за то, что она не умеет держаться прямо.
— Сама виновата, — говорила ей мать. — Зачем поднимаешь такого большого мальчишку? Он сам отлично может бегать.
— Но ведь он плачет, ему больно! — Дитте по себе слишком хорошо знала, как тянет ребенка прижаться к живому, бьющемуся сердцу. Она сама все еще испытывала эту потребность, тем более, что ее мать не чувствовала никакой радости, когда носила ее под сердцем.
Сэрине была зла, когда Ларс Петер привез Дитте, и несколько дней даже не смотрела на нее. Наконец любопытство одолело ее.
— Ну, как поживает старуха? Не хуже ей? — спросила она.
Дитте, думая, что мать спрашивает из сочувствия, подробно рассказала, как бедствует бабушка.
— Совсем не встает больше с постели, ест, только когда к ней заглянет кто-нибудь и принесет еду.
— Ну, стало быть, не долго протянет, — решила Сэрине.
Дитте расплакалась, и мать начала бранить ее.
— Глупая девчонка! Есть из-за чего плакать! Старики ведь не могут жить вечно и быть обузой для других. А когда бабушка помрет, у нас будет новый дом.
— Нет, бабушка сказала, что деньги от продажи ее хижины надо поделить поровну. А другие… — Дитте вдруг запнулась.
— Какие другие? — Сэрине наклонилась к ней, ноздри у нее раздулись.
Но Дитте крепко сжала губы. Бабушка строго-настрого наказала ей не проговориться об этом никому даже намеком, а она вот и проболталась!..
— Глупая девчонка! Думаешь, я не знаю, что ты говоришь про двести далеров, которые выплачены за тебя? Как же насчет их?
Дитте недоверчиво посмотрела на мать и прошептала:
— Они пойдут мне.
— Так лучше бы старуха отдала их нам на сохранение, чем самой дрожать над ними, — буркнула Сэрине.
Дитте вздрогнула. Ведь этого-то как раз бабушка и боялась — что Сэрине доберется до денег.
— Бабушка их хорошо припрятала, — сказала она.
— Вот как? Куда же? В перину, конечно!
— Нет, нет! — уверяла Дитте, энергично мотая головой. Но сразу ясно стало, где именно были спрятаны деньги.
— Ну, и отлично, что не в перину, потому что за периной я скоро приеду и возьму ее. Так и передай от меня бабушке в следующий раз. Все мои сестры получили из дому по верхней перине, когда выходили замуж, и я требую такую же для себя.
— Но ведь у бабушки осталась только одна верхняя перина, — принялась уверять Дитте чуть не двадцатый раз.
— Может взять одну из своих нижних перин и ею накрываться. А то лежит на целой горе!
Правда, постель у бабушки была мягкая-премягкая, это Дитте знала лучше, чем кто бы то ни было. Перины на бабушкиной кровати были туго набитые и грели лучше всего на свете, а на стене около кровати висела соломенная циновка. Как тепло и уютно было спать там за бабушкиной спиной!
Дитте была не по возрасту мала, — суровые условия жизни задерживали ее рост, — но по уму она казалась старше своих лет. Девочка была от природы вдумчива, и жизнь научила ее не уклоняться, а принимать всякое бремя целиком на свои плечи. Дитте совсем не знала детской беспечности и была полна забот и огорчений. Сердце ее болело за братишек и сестренку в течение тех немногих дней, которые она проводила у бабушки, и в то же время девочка тосковала о бабушке, когда долго не видалась с нею.
В наказание за то, что Дитте самовольно задержалась у бабушки, Сэрине долго не разрешала девочке снова навестить старуху. И Дитте все время мучилась, думала о бабушке и изводила себя упреками. Особенно по вечерам, когда лежала в постели и долго не могла заснуть от холода и от грустных мыслей. Приходилось накрываться с головой, чтобы мать не услыхала рыданий.
Дитте вспоминала всю доброту старухи, горько каялась в своих злых проделках и шутках. Вот и неси наказание! Дурно платила она бабушке за все ее заботы, — вот и сама стала одинокой, заброшенной. Никогда не была она по-настоящему добра к бабушке. Теперь бы она вела себя совсем иначе, да поздно спохватилась! Сотни раз могла бы она порадовать бабушку, — Дитте знала чем, — но тогда была ленивой, негодной девчонкой. Попади она опять к бабушке, она бы уж не забывала оставлять для нее кусочек сахару на вторую чашку кофе, вместо того, чтоб самой съедать его тайком. Не забывала бы и греть для бабушки каждый вечер кирпич и класть его в ногах постели, чтобы у старухи ноги не мерзли. «Опять ты забыла про кирпич, — говорила бабушка чуть не каждый вечер. — У меня ноги застыли. А у тебя, дитятко? Да они же совсем, как ледышки!» И бабушка брала ноги девочки и отогревала их в своих руках, о ее же старых ногах никто не заботился! Дитте просто в отчаяние приходила.
И Дитте казалось, что если она искренно пообещает себе исправиться, стать доброй, то случится так, что она будет опять жить с бабушкой. Ничего такого, однако, не происходило. И вот однажды девочка не вытерпела, кинулась напрямик по полям и лугам в ту местность, где жила бабушка. Сэрине хотела было немедленно вернуть ее обратно, но Ларс Петер отнесся к делу спокойнее.
— Подождем денек, другой, — сказал он. — Она ведь давно не была у старухи.
И он так устроил свои дела, что мог заехать за Дитте лишь через несколько дней, дав ей возможность побыть с бабушкой.
— Заодно непременно привези перину, — напутствовала его жена. — Становится холодно, она пригодится нам укрывать детей.
— Посмотрим, — ответил Ларс Петер.
Когда Сэрине забирала себе что-нибудь в голову, то пилила и пилила мужа так усердно, что большинство мужей вышло бы из терпения. Но Ларс Петер был не из породы Маннов: сыпавшиеся на него женские упреки и брань не могли сломить его; он выслушивал все с добродушной невозмутимостью.
XVII Кошка из дома — мышки на стол
Дитте проснулась от звяканья железа и открыла глаза. На столе тускло горела лампа, а перед печкой стояла на коленках мать и колотила угольными щипцами снизу по конфорке, в которой застрял кофейный котелок. Сэрине была еще не одета, и пламя из печки бросало блики на ее рыжие спутанные волосы и голую шею. Дитте поторопилась закрыть глаза, чтобы мать не заметила, что она проснулась. В комнате было холодно, и в окна глядела ночь.
Громко топоча, вошел отец с фонарем в руках, потушил его и поставил у дверей. Ларс Петер был уже одет, успел наведаться в хлев и задать корм скотине; словом, покончил с утренней своей работой. В комнате запахло горячим кофе. «А-а!» — потянул он носом, садясь за стол. Дитте глядела прямо на него, при нем нечего было опасаться, что мать выгонит ее из теплой постели.
— Ах ты, трясогузка! Проснулась? — сказал он. — Спрячься и поспи еще. Ведь не больше пяти часов. Но, пожалуй, ты не прочь выпить кофейку в постели?
Дитте покосилась на мать, стоявшую спиной к ним, и усердно закивала.
Ларс Петер, отпив половину большой чашки, прибавил в нее сахару и подал девочке.
Сэрине одевалась, стоя у печки.
— Ну, ведите себя хорошо, — сказала она. — Чтобы не было драки! Вон там молоко и мука для блинчиков к обеду. Но яиц не класть!
— Ну, чего там — одно, два яичка? — попытался задобрить ее муж.
— Хозяйство вести предоставь мне, — ответила Сэрине. — И лучше бы ты встала — пока мы еще не уехали, чтобы сразу взяться за дело.
— Да что же можно сейчас делать? — вмешался Ларс Петер, — пусть дети полежат в постели, пока не рассветет. Птица и скотина накормлены, чего попусту жечь лампу?
Этот последний довод убедил Сэрине.
— Ну, ладно! Будь осторожна с огнем и поэкономнее с сахаром!
И мать с отцом уехали; Ларсу Петеру, как всегда, нужно было на морской берег за рыбой, а по пути он хотел завести Сэрине в город. Она каждый месяц отвозила туда накопленные яйца, масло и закупала там для хозяйства то, чего нельзя было достать у деревенского лавочника. Дитте лежала и прислушивалась к громыханью телеги, пока снова не уснула.
Когда стало рассветать, девочка поднялась и развела огонь в печурке. Дети тоже захотели встать, но она пообещала вместо обычного завтрака — молока с кашей — угостить их в постели кофейком, если они дадут ей сначала прибрать комнату. Она позволила им перебраться в кровать родителей. Они лежали там и нежились, глядя, как Дитте посыпает пол мокрым песком и подметает его. Пятилетний Кристиан, еще картавивший, рассказывал длинную историю про страшного кота, который поел на рынке всех коровушек; двое младших детей навалились на него и жадно глядели ему прямо в рот: они так ясно сидели перед собой все — и кота и коровушек. Маленький Поуль, чтобы ускорить ход событий, совал рассказчику с рот свою пухлую ручонку. Дитте хозяйничала и, улыбаясь снисходительно мудрою улыбкой старшей сестры, прислушивалась к детской болтовне. А подавая им кофе, поглядывала на них с самым таинственным видом. И когда дело дошло до одевания, преподнесла им сюрприз.
— А! Мы наденем сегодня хорошие платья! Ура! — закричал Кристиан и начал скакать в постели. Дитте отшлепала его, — он ведь мог испортить постельное белье!
— Если вы будете умниками и никогда никому ее скажете про это, то мы сегодня прокатимся, — сказала Дитте, помогая им одеваться. Наряды были довольно пестрые, так как Сэрине шила их большею частью из разных лоскутков, выбранных из кучи тряпья, которое скупал Ларс Петер.
— На ярмарку поедем! — догадался Кристиан и опять заскакал.
— Нет, к лесной изгороди, — сказала сестренка, умоляюще охватив шею Дитте своими ручонками, посиневшими от холода и, как всегда грязными, потому что она за все хваталась ими. Леса она никогда не видала, и он давно манил ее.
— Да, туда. Но вы должны быть умниками, потому что это далеко.
— А можно рассказать об этом… киске? — сестренка выразительно глядела на Дитте своими большими глазами.
— Да! И отцу! — подхватил Кристиан.
— Так и быть, но больше никому на свете, — внушительно сказала Дитте. — Помните!
Двоих младших она усадила в ручную тележку, а Кристиан пошел рядом, держась за край. Всюду лежал снег, кусты растопырили ветки, словно белые пушистые кошачьи лапки, и ледок трескался под колесами тележки. Детей занимало решительно все — и черные вороны, и сорока, которая сидела на терновнике и смеялась над ними, и даже иней, вдруг сыпавшийся им на головы.
До изгороди было с полмили, но Дитте, привычная к большим расстояниям, не считала, что это далеко. Она заставляла бежать около тележки то Кристиана, то сестренку попеременно. Поуль тоже просился побегать по снегу, но пришлось ему быть умником — остаться в тележке.
Все шло хорошо до половины пути. Затем малыши озябли и заскучали, стали нетерпеливо спрашивать, где же лес. Дитте то и дело приходилось останавливаться и растирать им пальчики. Дорога подтаяла от солнца, идти стало тяжело, и сама Дитте утомилась. Но она старалась подбодрить детей, и они тащились еще с часок. Около усадьбы сельского фогта тележка остановилась совсем: большой свирепой собаке фогта они показались подозрительными, и она загородила им путь.
Пер Нильсен вышел за ворота посмотреть, на кого это так лает пес, догадался, в чем дело, и позвал детей к себе. Они попали прямо к обеду. Жена фогта жарила в кухне свинину с яблоками, от которой шел чудесный запах. Женщина опустила застывшие пальцы детей в холодную воду, и, когда они отошли, все трое ребятишек повеселели и обступили плиту. Дитте старалась отогнать их, но дети были очень голодны.
— Я дам вам сейчас перекусить, — сказала жена фогта, — только вы сядьте вон там на скамейке и сидите смирно, а то здесь вы мне мешаете.
Дети получили по куску пирога, и всех их усадили за чисто выскобленный стол. Они никогда не бывали в гостях и, жуя пирог, с любопытством разглядывали все вокруг. По стенкам была развешана медная посуда, горевшая, как жар, а на одной из конфорок плиты стоял блестящий медный котелок, пузатый, с перекидной ручкой и носиком, прикрытым крышечкой. Он напоминал большую наседку с петушиным гребнем.
Когда дети поели, Пер Нильсен повел их в хлев и показал им поросят, которые, присосавшись к матке, лежали рядком, словно колбаски. Потом все вернулись в кухню, и хозяйка дала детям по яблоку и по пончику.
Но самое лучшее настало под конец: Пер Нильсен запряг лошадь в красивую коляску на рессорах и повез их домой. Их тележку привязали к задку экипажа, — и ей при-пришлосьпрокатиться. Малыши так и заливались смехом по этому поводу.
— Вот глупые ребятишки, вздумали кататься одни, — , сказала жена фогта, застегивая фартук коляски. — Но, к счастью, на этот раз вам повезло. — И все четверо согласились с ней, что их возвращение домой в Сорочье Гнездо вышло гораздо параднее выезда.
Прогулка вышла удачная, но теперь приходилось засесть за работу. Мать не рассчитывала на прогулку и навалила в чулане целую кучу тряпья, приказав Дитте разобрать его по сортам — шерстяное к шерстяному, холщовое к холщовому. Кристиан и сестренка могли бы помочь немножко, если бы постарались. Но от них сегодня было мало толку: возбужденные прогулкой, они швыряли друг в друга лоскутками.
— Не деритесь, — тщетно увещевала их Дитте.
Уже смеркалось, а работа была не сделана. Дитте принесла из комнаты лампу, в которой горел керосин пополам с маслом, и продолжала работу, плача от отчаяния, что не успеет закончить ее до возвращения родителей. Видя слезы сестры, малыши притихли и с часок работали усердно. Но потом опять затеяли возню, начали гоняться друг за другом, и Кристиан, нечаянно задев ногою лампу, разбил ее.
Братишка и сестренка перестали шалить и присмирели. Темнота словно пригвоздила их обоих к месту, они не смели шевельнуться и только хныкали каждый в своем углу: «Дитте, возьми меня!» Дитте раскрыла дверь в комнату и резко сказала:
— Выбирайтесь сами! — потом ощупью отыскала Поуля, прикорнувшего на куче тряпья, и сердито добавила: — Сейчас же оба в постель за это!
Кристиан не переставал хныкать:
— Я не хочу, чтобы мама меня высекла! Не хочу! — Он обвил руками шею Дитте, как бы прося у нее защиты, и гнев ее исчез.
Она зажгла фонарь с ворванью и помогла детям раздеться.
— Если вы будете умниками и сразу уляжетесь спать, мамочка Дитте сбегает к лавочнику и купит новую лампу, — сказала она. — А вам придется побыть одним в потемках.
Она не решилась оставить у детей огонь в комнате и погасила фонарь перед своим уходом. Ребятишки вообще побаивались оставаться одни в темноте. Но теперь спорить не приходилось.
У Дитте хранилось целых двадцать пять эре. Она получила эту монету когда-то в хорошие времена от бабушки и сберегла, несмотря на все соблазны. Сколько всего мечтала она приобрести себе на эти деньги, а теперь надо забыть об этом, чтобы избавить Кристиана от розог. Она присела перед стенкой, в щель которой была засунута монетка, и помедлила немного, прежде чем вынуть кирпичик. Тяжело было решиться! Поднявшись, она со всех ног кинулась бежать в лавку, словно боясь одуматься, раскаяться.
В лавке не нашлось лампы за такую цену. Дитте не предвидела этого; ей казалось, что за двадцать пять эре можно приобрести решительно все. Пораздумав, как же теперь быть, она купила за восемь скиллингов глиняный ночной горшок с ручкой, а на всю сдачу леденцов.
Когда Дитте вернулась домой, малыши уже спали. Она зажгла фонарь и принялась обрывать сухие листья с березовых веток, из которых надо было вязать веники. Как ни устала девочка за этот богатый событиями день, сидеть сложа руки она не могла. Однако сильный запах березы одурманил ее, и она уснула за работой. Так и застали ее родители.
Острый глаз Сэрине сразу приметил что-то неладное.
— Зачем ты зажгла фонарь? — спросила она, расстегивая пальто.
Пришлось Дитте все рассказать.
— Но я купила… — быстро добавила она.
— Лампу? Где же она? — Мать оглядела комнату.
— Нет… лампы за двадцать пять эре не нашлось. Но я вот что купила… — Дитте опустилась на колени и вытащила из-под кровати родителей свою покупку.
— Да ты прямо молодец! — весело сказал Ларс Петер, поднимая ее с полу. — Как раз этого нам всего больше и не хватало в доме.
Но Сэрине уже завладела посудиной. Разумеется, глупо швырять деньги на такую ерунду, но, раз покупка сделана, она во всяком случае пригодится на кухне. У Сэрине часто не хватало крынок. А что касается другой надобности, то все отлично могут по-прежнему ходить во двор.
— Маме, видишь ли, нужна миска для супа, — шепнул отец Дитте, когда Сэрине вышла с посудиной в кухню.
Но Дитте было не до смеху, — она по опыту знала, что мать не так-то скоро угомонится.
Через минуту Сэрине действительно стояла в дверях.
— А кто позволил тебе покупать в долг? — спросила она.
— Я купила на свои собственные деньги — тихо ответила Дитте.
— На собственные?.. — начался форменный допрос, которому конца не предвиделось.
Пришлось вмешаться Ларсу Петеру.
В комнате было холодно, и они рано легли спать. Дитте забыла протопить.
— У нее и без того были полны руки дела, — примиряюще сказал отец.
И Сэрине промолчала, — она была не из тех, кто ворчит, когда удается хотя бы немного сэкономить.
А холод стоял сильный. Дитте никак не могла согреться в постели и уснуть. Она лежала и смотрела на облачко белого пара, вылетавшее у нее изо рта при дыханье; прислушивалась, как стены снаружи потрескивают от мороза. Ночь стояла лунная, и холодный белый свет падал на пол и на стул с одеждой детей. Слегка приподняв голову, Дитте видела в щели между деревянным каркасом дома и оштукатуренной кладкой из торфа, глины и камыша белый снег.
Прямо в лицо ей веял холод. Комната выстывала все больше и больше.
Холод кусал голое плечо девочки, так как ей пришлось выпростать одну руку и придерживать ею перину, чтобы она не сползала с младших детей. Сестренка начала ворочаться, она была самая слабенькая и больше всех зябла под этой периной, которая состояла, в сущности, из одной грубой наволочки. Старые перья давно перетерлись, а новые, которые накопились после убоя домашней птицы, Сэрине не позволяла трогать. Они предназначались для продажи.
Поуль захныкал. Дитте стянула со стула носильную одежду детей и набросила на перину сверху. С кровати матери раздался голос: «Лежите смирно!» Отец же встал, принес свой дорожный балахон и накрыл им всех детей сразу. Балахон был грязный, пыльный, но он грел!
— Просто беда, как дует сквозь стены, — сказал Ларс Петер, укладываясь снова в постель, — воздух в комнате совсем ледяной. Придется мне взять немного старых досок и обшить стены внутри.
— Лучше бы ты подумал о том, как бы выстроить новое жилье, на этот гнилой ящик не стоит тратить трудов.
Ларс Петер рассмеялся:
— Да, недурно было бы, но откуда взять денег?
— Кое-что у нас уже есть. И старуха скоро помрет. У меня такое предчувствие.
Сердце у Дитте шибко забилось. Бабушка скоро умрет?! Мать сказала это так твердо! Девочка стада напряженно прислушиваться к разговору.
— Ну, так что же? — спросил отец. — Много ли от этого переменится?
— Я думаю, старуха побогаче, чем с виду кажется, — тихо сказала Сэрине и, приподымаясь на локте, прислушалась: — Ты спишь, Дитте? — Девочка затаила дыхание.
— Знаешь? — снова заговорила Сэрине. — Мне думается, старуха зашила деньги в перину. Потому и не хочет расстаться с нею.
Ларс Петер громко зевнул.
— Какие деньги? — По голосу было слышно, что его клонит ко сну.
— Двести далеров, разумеется.
— А мы тут при чем?
— Да как же? Ведь она все-таки как будто мать мне!
Но деньги принадлежат девчонке, и мы вправе были бы взять их на хранение. Если старуха помрет, все добро ее пойдет с молотка… и в барышах окажется тот, кто купит перину — с двумя сотнями далеров в придачу. Лучше бы ты съездил к старухе и уговорил ее завещать все нам.
— Ты и сама можешь это сделать, — ответил Ларс Петер и решительно повернулся лицом к стене.
В комнате стало тихо. Дитте съежилась, прижав обе руки к губам, сердце ее стучало неровно, то часто-часто, то совсем замирало. От страха за бабушку она готова была закричать. Может быть, бабушка уже умерла! Дитте так давно не наведывалась к ней! Тоска терзала девочку.
Она потихоньку перекинула ноги через край постели и сунула их в тряпичные туфли.
Мать приподнялась:
— Ты куда?
— Мне надо… на двор, — ответила Дитте прерывающимся голосом.
— Накинь юбку: страшный холод, — сказал отец и немного погодя пробурчал, обращаясь к жене: — Не мешало бы тебе все-таки оставить ту посудину в комнате.
Девочка что-то слишком долго не возвращалась. Ларс Петер встал и выглянул во двор. Далеко-далеко на белеющей дороге виднелась убегавшая девочка. Мигом он натянул на себя брюки и куртку и кинулся за Дитте. Он видел ее вдали, — она неслась стрелою, он гнался за нею, бежал и звал, бежал и звал, его тяжелые деревянные башмаки грузно топали. Но расстояние между ним и беглянкой все росло. Наконец она скрылась из виду. Он постоял немножко, не переставая кричать ей вслед; голос его гулко разносился в ночной тишине. Потом он повернул обратно.
А Дитте продолжала нестись стрелою по озаренной луною дороге, каменно-твердой и похрустывавшей от мороза. Мерзлая земля обжигала девочке подошвы ног сквозь тряпичную обувь. В канавах и прудах тоже потрескивало: крак, крак! Над озером же словно гром гремел, и раскаты неслись к противоположному берегу. Это вода выталкивала кверху лед. Но Дитте не было холодно, сердце бешено колотилось, и она твердила, не переставая: «Бабушка умирает! Бабушка умирает!»
Около полуночи девочка добежала до моста, едва переводя дух и еле держась на ногах. Она остановилась под окном, чтобы отдышаться, и услыхала прерывающийся жалобный голос бабушки.
— Я тут, бабушка! — крикнула девочка и постучала в окно, громко плача от радости.
— Какая же ты холодная, дитятко, — сказала старуха, когда они обе лежали под периной. — Ноги у тебя совсем как ледышки. Погрей их у меня на животе.
Дитте плотно прижалась к ней и затихла. Но вдруг сказала:
— Бабушка! Мать знает, где у тебя деньги спрятаны — в перине.
— Я догадалась, дитятко. Пощупай-ка! — Старуха взяла ее руку и сунула себе за пазуху, — к рубашке был пришит маленький сверток. — Вот они где. Старая Марен умеет беречь то, что ей доверено. Ох-хо-хо, трудно жить на свете двум таким одиноким, как мы с тобой. Никому-то до нас дела нет, и всем мы мешаем — особенно своим кровным. Тебя они еще не могут запрячь в работу как следует, а меня уже заездили, — я никуда не годна больше, так-то!
В ушах Дитте речи бабушки звучали ласково и успокоительно. Ей стало так тепло и уютно, что она скоро уснула.
А старуха Марен еще долго жаловалась на судьбу.
XVIII Ворон — птица ночная
Зима выдалась суровая. Весь декабрь заносило снегом поля и наметало сугробы в ивняке перед Сорочьим Гнездом, единственным местечком в окрестности, сколько-нибудь защищенным от ветра.
Озеро замерзло, и можно было перебираться по льду с одного берега на другой. Живодер ходил туда в лунные вечера и деревянными башмаками вырубал вмерзших в лед чаек и уток, приносил их под своим балахоном домой и сажал их, обледенелых, обсыпанных снегом, на куски торфа у печки. Птицы оттаивали и потом долго стояли неподвижно на одной ноге, поджав под себя другую, и тоскливо глядели на огонь, пока Сэрине не уносила их в кухню, чтобы свернуть им шеи.
Печка в комнате топилась день и ночь, и все-таки обитатели Сорочьего Гнезда мерзли, — комнату невозможно было согреть. Сэрине с помощью хлебного ножа законопатила старым тряпьем щели между деревянным каркасом и оштукатуренною кладкою стен, но однажды из стены вывалилась целая глыба, и пришлось Сэрине заткнуть дыру периной. Под вечер вернулся Ларс Петер и вставил глыбу на место, а снаружи закрепил ее двумя досками. Крыша тоже почти не годилась. Крысы и куницы прогрызли ее во многих местах, и она стала совсем как решето, снег так и сыпался с нее на чердак. Словом, все разваливалось.
И каждый вечер в будни и по воскресеньям Сэрине приставала к мужу, требуя, чтобы он предпринял что-нибудь.
Но что предпринять?
—. Я не могу работать больше, чем работаю, а на воровство не способен, — говорил он.
— А как же другие устраиваются? Живут хорошо, тепло, уютно!
Как устраиваются другие? Ларс Петер понятия об этом не имел. Он никогда никому не завидовал, ни с кем своего житья не сравнивал. И вопрос этот впервые встал перед ним.
— Ты работаешь, работаешь без устали, а проку никакого, — продолжала Сэрине.
— Ты это серьезно говоришь? — спросил Ларс Петер, озадаченный и опечаленный.
— Да, серьезно. Или, по твоему, ты многого добился? Не топчемся ли мы все на том же месте, где начали?
Ларс Петер съежился от этих жестоких слов. Но Сэрине была права. Кроме самого необходимого, у них ни на что не хватало средств.
— Ведь нам столько всего нужно, и все так дорого, — оправдывался он. — Торговли никакой! Приходится быть довольным, если сводишь кое-как концы с концами.
— Надоело слушать «доволен» да «доволен»! Можем мы прожить одним твоим довольством? Знаешь, почему люди прозвали наше жилье Сорочьим Гнездом? Потому что никогда нам не жить по-людски, — по их мнению.
Ларс Петер снял с гвоздя шляпу и вышел. Он расстроился и отправился искать утешения у своей скотины. С животными да с детьми он умел ладить, а со взрослыми никак не мог сговориться. Видно, и впрямь ему чего-то не хватает, если все считают его чудаком за то лишь, что он всегда весел и спокоен.
Как только он вышел из кухни во двор, Большой Кляус, заслышав шаги хозяина, заржал ему навстречу. Ларс Петер подошел к нему и провел рукою по спине своего коняги. Да, скорее всего конь напоминал остов судна, перевернувшегося килем кверху. Сущий скелет, одна кожа да кости. Неказист был, что и говорить. И рысью похвастаться не мог. Люди едва удерживались от смеха, глядя на эту пару — хозяина с конем. Ларс Петер все это знал. Но они с Кляусом давно уже делили и горе и радость; коняга не был разборчив, брал, что дают — как и его хозяин.
Ларс Петер не очень дорожил мнением людей; но теперь его забрало за живое, и он чувствовал потребность как-то постоять за себя и за своих. В хлеву рядом с Большим Кляусом помещалась корова, старая, со слюнявой мордой. Правда, за нее немного бы дали сейчас на рынке; от скудного корма она едва держалась на ногах и больше полеживала. Но весною она отгуляется на траве. И для семьи такого бедняка она достаточно хороша — особого ухода за собою не требовала и доилась большую часть года. А какое жирное молоко давала! Ларс Петер отшучивался, когда люди подсмеивались над его коровой. Он говорил, бывало, что «с ее молока можно по три раза снимать устой, и все-таки останутся чистые сливки!» Просто-напросто он любил свою корову за то, что она давала здоровую пищу его малышам.
В углу хлева был отгорожен закут для поросенка. И тот, услыхав шаги и голос хозяина, поджидал, когда он подойдет и почешет ему спину. У поросенка была грыжа, и Ларсу Петеру подарили его на одном хуторе, только чтобы сбыть с рук. Это был настоящий заморыш, которым никак нельзя похвастаться. Однако, на взгляд Ларса Петера, поросенок развивался хорошо, особенно если учесть, что кормили его неважно: небось, никто не побрезгует поросенком, когда он превратится в ветчину! Недаром поглядывает на него Сэрине!
Поля отдыхали под пеленой глубоких снегов; Ларс Петер различал под снегом всякий бугорок, всякую ложбинку. Его поле было песчаное, давало скудный урожай, но Ларс Петер любил свою землю такой, какой она была. Любовался полем, как любуются чертами дорогого лица, и, как не мог бы он позволить себе порочить свою мать, так не мог сказать ничего плохого и про свое поле. Однако сейчас, стоя в дверях овина и задумчиво глядя в поле, он не чувствовал обычной радости, с какою обозревал по воскресным дням свои владения. Сегодня в голове у него все как-то смешалось, и он плохо соображал.
А Сэрине каждый день приставала к нему со своими планами. То следовало купить у матери Хижину на Мысу и перенести сюда, — ведь дубовый сруб мог простоять еще много лет. То — пока еще не поздно — взять старуху к себе на дожитие; тогда все ее добро достанется им. Вечно мысли Сэрине кружились около матери и ее имущества.
— Подумай, а что, если она перейдет жить к кому-нибудь другому и оставит все чужим людям! Или просто загубит деньги Дитте? Ведь старуха совсем в детство впадает!
Она вела себя как одержимая, и Ларс Петер старался ей не перечить.
— Дитте, ведь это правда, что бабушке больше всего хотелось бы переехать к нам? — начала приставать Сэрине и к дочери, ожидая от нее поддержки: девочка ведь с ума сходила по бабушке.
— Не знаю, — угрюмо отвечала Дитте.
Мать в последнее время старалась склонить ее на свою сторону, но Дитте недоверчиво относилась к ней. Конечно, зажить опять с бабушкой — чего же лучше? Но только не тут. Бабушке пришлось бы здесь очень плохо. Не верила Дитте и в заботливость матери. У нее, как говорила сама бабушка, было больше хитрости и корысти, чем дочерней привязанности.
Нет, верить Сэрине никак нельзя. Однажды утром она заявила, что скоро они услышат печальные вести о бабушке, — ночью ворон каркал у них в ивняке.
— Надо мне сходить сегодня туда, проведать ее, — добавила Сэрине.
— Да, да, непременно, — отозвался Ларс Петер. — Не подвезти ли тебя? Мы с Кляусом сегодня не работаем.
Но Сэрине отказалась.
— У тебя и дома дела много.
Однако к матери она в этот день не пошла — то одно, то другое мешало, и она провозилась до самого вечера.
На следующее утро она была необыкновенно ласкова с детьми.
— Вот увидите, бабушка скоро переедет к нам; я это во сне видела, — сказала она, помогая Дитте одевать детей. — Мы устроим ее в комнате, а сами с отцом перейдем в чулан. И вы тут больше не будете мерзнуть.
— Ты же говорила вчера, что бабушка скоро умрет, — недружелюбно заметила Дитте.
— Ну, это одни пустые разговоры. А не можешь ли ты сегодня пораньше вернуться домой из школы? Мне надо сходить по одному делу и я, пожалуй, задержусь.
Мать посыпала сахарным песком хлеб, который Дитте взяла с собой, и вовремя отпустила девочку в школу.
Дитте побежала, на локте у нее болталась холщовая сумка с книжками, а руки она спрятала под вязаный шерстяной платок. Отец рано уехал сегодня, и она некоторое время бежала между колеями, оставленными в снегу его телегой, забавляясь тем, что ступала в глубокие следы широких копыт Большого Кляуса. Потом следы свернули к морю.
Сегодня Дитте на занятиях была рассеянной; мысли ее как-то путались. Девочку взволновало то, что мать была сегодня ласкова, — это было так непохоже на нее. У Дитте на основании долгого опыта сложилось свое мнение о характере Сэрине. Пожалуй, мать была не такой уж плохой! Хлеб с сахаром, съеденный в перемену, окончательно смягчил сердце Дитте.
Однако к концу уроков на нее напал необъяснимый страх; сердце трепетало в груди, как пойманная птица, и девочка должна была зажимать себе рот рукою, чтобы не закричать громко. Как только занятия кончились, она пустилась бежать по направлению к поселку. «Не туда, Дитте! Не туда!» — кричали ей девочки, с которыми она обыкновенно возвращалась из школы. Но она, не слушая бежала дальше.
Валил густой снег, воздух был словно налит свинцом, — день превратился в сплошные сумерки. Когда Дитте достигла последней дюны перед Хижиной на Мысу, почти совсем стемнело. Девочка едва начала приходить в себя, когда остановилась у окошка перевести дух. В ушах шумело, и сквозь этот шум прорывались какие-то странные, словно искаженные голоса: плачущий голос бабушки и неумолимо-жестокий голос матери.
Дитте хотела стукнуть в окно, но не посмела. Голос матери заставил ее съежиться от страха. Вся дрожа, прокралась она кругом дома к дровяному навесу, чтобы отыскать щепку. Потом она просунула щепку в дверную щель, приподняла крюк, вошла в кухню и стала прислушиваться, затаив дыхание. Голос матери заглушал бабушкин; часто, бывало, от голоса Сэрине подгибались у Дитте колени, но таким ужасным он еще не бывал никогда. Он леденил кровь в жилах девочки, — она забилась в угол и присела там на корточки, озноб пробегал у нее по спине.
Сквозь щель около дверной щеколды она смутно различала рослую фигуру матери около кровати. Мать наклонилась, и по движениям ее спины и плеч видно было, что она схватила бабушку. Руки бабушки шевелились в темноте, она как будто отбивалась.
— Отдашь ты их мне? — хрипло выкрикнула Сэрине. — Не то я сброшу тебя с кровати!
— Я позову на помощь, — простонала бабушка и постучала в стенку.
— Зови, зови! — издевалась Сэрине. — Никто тебя не услышит. Они у тебя, должно быть, в перине, коли ты так цепляешься за нее?
— Ох, замолчи, воровка! — застонала бабушка и вдруг громко вскрикнула. Сэрине, должно быть, нащупала сверток на ее груди.
Дитте вскочила и, приподняв щеколду, крикнула: «Бабушка!» Но голос ее потерялся среди шума, стоявшего в комнате. Бабушка отчаянно оборонялась, громко стонала и вдруг испустила протяжный вопль, как умирающее животное.
— Я тебе заткну глотку, ведьма! — закричала Сэрине, и бабушкин вопль перешел в страшный крик.
Дитте хотела броситься на помощь, но пошатнулась, схватилась было за печку и вдруг рухнула, как подпиленный столб.
Когда Дитте очнулась, то увидела, что лежит на полу ничком, голову ломило, и всю ее трясло. Оглушенная, растерянная, поднялась она с полу. Обе двери стояли настежь, но матери в комнате уже не было, а в кухонную дверь влетали и кружились, белея впотьмах, снежные хлопья.
Первой мыслью Дитте было, что бабушка озябнет. Она плотно затворила двери и пошла к кровати. Старая Марен лежала, скрючившись, в развороченной постели.
— Бабушка! — крикнула со слезами Дитте и стала ощупывать ее ввалившиеся щеки. — Бабушка! Это я, дорогая, милая бабушка!..
Дитте умоляюще гладила исхудалое лицо старухи своими огрубелыми от работы руками и плакала, потом быстро разделась и легла в постель рядом с нею. Девочка вспомнила, как бабушка сказала про одного больного, к которому ее возили: «Ему уж ничем нельзя помочь, — он весь похолодел!» И Дитте теперь думала только, как бы не дать бабушке похолодеть. Ведь тогда у нее больше не будет бабушки! Она тесно прижалась к старухе и так заснула, обессиленная слезами и всем пережитым.
Под утро Дитте проснулась от холода. Бабушка лежала холодная, неподвижная, мертвая. Весь ужас происшедшего ясно представился девочке, она вмиг оделась и убежала. Бежала, не разбирая дороги, по направлению к дому, но у поворота к морю свернула и пустилась к усадьбе сельского фогта. Там ее приютили измученную, жалкую.
— Бабушка умерла! Бабушка умерла! — только и твердила она, с ужасом обводя всех глазами. Больше от нее ничего не могли добиться. Решили было отвести ее домой, в Сорочье Гнездо, но она принялась так отчаянно кричать, что ее уложили в постель, — пусть отдохнет, успокоится сначала.
Днем Дитте проснулась, и Пер Нильсен подошел к ней:
— Ну, что же, поедем теперь домой? Я тебя сам провожу.
Дитте только глядела на него с безмолвным ужасом.
— Ты отчима своего боишься? — спросил Пер Нильсен.
Дитте не отвечала. Вошла его жена.
— Не знаю, что и делать с нею, — сказал он жене. — Видно, она боится вернуться домой. Должно быть, Ларс Петер не очень добр к ней.
Дитте быстро обернулась к нему:
— Хочу домой к Ларсу Петеру! — сказала она и зарыдала.
XIX Кому не везет, так не везет
Четверо из детей старухи Марен, узнав о ее смерти, приехали охранять свои интересы и присмотреть, чтобы добро не растащили. Другие четверо проживали по ту сторону океана и поэтому явиться не смогли.
Денег у старухи не нашлось — ни медяка, сколько ни рылись везде, ни перетряхивали перину; домишко же оказался заложенным до самого конька крыши. Все наследники согласились на том, чтобы отдать Сэрине с мужем оставшиеся крохи, а за это пусть они возьмут на себя все расходы по погребению. Тут Сэрине не поскупилась, — ей хотелось, чтобы о похоронах заговорил весь приход. Старуха Марен сошла в могилу гораздо приличнее, чем жила.
Дитте, конечно, была на похоронах, как и полагалось родственнице, единственной, по-настоящему все время заботившейся о старухе. Но девочка вела себя на кладбище очень уж несдержанно, и Ларсу Петеру пришлось даже отвести ее в сторону, чтобы она не мешала пастору. Девочка всегда была такая необузданная, — говорили люди.
Но Дитте заметно изменилась к лучшему после того, как бабушка ушла безвозвратно; девочка стала ровнее, спокойнее. Она делала свое дело в доме; веселою, правда, не бывала, но и не затевала никаких ссор. Ларс Петер заметил, что даже небольших стычек между матерью и дочерью больше не было. Все-таки, значит, они могут ладить между собой!
Дитте твердо решила остаться здесь, хотя ей трудно было переломить себя, и жить под одною кровлей с матерью; охотнее всего она убежала бы. Но тогда люди решили бы, что это из-за отчима. Чувство справедливости, присущее девочке, возмущалось от подобной мысли. Да и жалко было бросить малышей, — что сталось бы с ними, если бы она ушла?
Поэтому она осталась, но повела себя с матерью по-своему. Сэрине была к ней внимательна и ласкова, так что Дитте становилось даже тягостно, но она делала вид, что ничего не замечает. Все попытки матери к сближению разбивались об упорство девочки. Она была порядочная упрямица, твердо стояла на том, что забрала себе в Мать для нее как бы не существовала. И Сэрине украдкой постоянно следила за Дитте, мать боялась дочери. Была ли девочка свидетельницей того, что произошло в Хижине на Мысу, или пришла позже? Сэрине не была твердо уверена, сама ли она опрокинула в тот вечер в потемках стул. Но что же именно видела Дитте?
О том, что она видела больше, нежели следует, говорило выражение ее лица. Дорого бы дала Сэрине, чтобы узнать все в точности, и постоянно возвращалась к этому вопросу, искоса поглядывая на девочку.
— Страшно подумать, что бабушка умерла одна-одинешенька! — воскликнула мать, в надежде заставить девочку как-нибудь проговориться. Но Дитте упорно молчала.
Однажды Сэрине поразила Ларса Петера, выложив перед ним на стол большую сумму денег.
— Как ты думаешь, выстроим мы на это новый дом? — спросила она.
Муж глядел на нее скорее ошеломленный, чем обрадованный.
— Все это я скопила на масле, яйцах, шерсти, которые продавала. И на том, что морила вас всех голодом! — добавила она со слабой улыбкой. — Я знаю, что была жадиной, скрягой, но это вышло и вам на пользу!
Она так редко улыбалась. «Как же это красит ее!» — подумал Ларс Петер, глядя на жену влюбленными глазами. Она вообще как будто повеселела и подобрела за последнее время, — вот что значит надежда зажить получше!
Он пересчитал деньги — триста далеров с лишним.
— Да, это основательное подспорье, — сказал он. На другой день вечером он вернулся домой с возом кирпичей, и так и пошло: каждый вечер он привозил новый материал для стройки.
Люди, проходя мимо Сорочьего Гнезда, видели сваленные около дома бревна и кирпичи; пошли разговоры в округе. Началось с догадок, что после старухи-то, наверное, осталось побольше, чем люди думали. Отсюда же как-то возникло предположение, что старая Марен, пожалуй, померла не своей смертью. Нашлись свидетели, видевшие Сэрине из Сорочьего Гнезда на дороге к поселку под вечер того самого дня, когда умерла старуха. Так мало-помалу пошел слух, что Сэрине задушила родную мать. И только Дитте — кроме самой Сэрине, разумеется, — могла бы дать верные сведения, но из нее вообще нельзя было вытянуть ни словечка, когда разговор касался их семейных дел, а уж в подобном случае и подавно. Но странно было, что она оказалась в хижине в самую решительную минуту, а еще непонятнее, почему она кинулась с вестью о смерти бабушки не домой, а к Перу Нильсену. Ни Сэрине, ни Ларс Петер не знали, что ведутся такие разговоры. До Дитте же кое-какие слухи доходили через других школьников, но она помалкивала. Случалось, что, когда мать бывала приторно ласкова, ненависть охватывала девочку. «Дьявол!» — шептала она про себя, и иногда с губ ее так и рвалось: «Отец! это мать задушила бабушку периной!» Особенно, если мать начинала расхваливать старуху. Но мысль о том, как глубоко опечалился бы отец, — удерживала девочку. Он был теперь похож на большого ребенка; слеп и глух ко всему — без ума влюбленный в Сэрине и вне себя от радости, что их дела пошли в гору. И Дитте и малыши никогда еще не любили его так горячо, как теперь.
Прежде Сэрине бывала чересчур жестока с детьми, они прятались от нее где-нибудь подальше от дома и показывались только вечером, когда возвращался домой отец. Теперь, после смерти бабушки, этого больше не случалось; мать стала совсем другою. Если же и бывало так, что ее злость снова готова была прорваться, — словно невидимая рука останавливала ее порыв.
Но случалось также, что Дитте не могла преодолеть своего отвращения к матери, не в силах была оставаться с нею в одной комнате и, не видя другого средства, пряталась где-нибудь, как бывало.
Как-то вечером она притаилась в ивняке. Сэрине несколько раз выходила на порог и ласково звала Дитте, а девочку каждый раз чуть не тошнило от одного звука ее голоса. Мать походила, походила около дома и стала медленно прогуливаться по дороге, высматривая дочь; один раз платье ее задело Дитте по лицу. Наконец Сэрине вернулась в дом.
Дитте озябла и устала сидеть скорчившись в кустах, но в дом войти ни за что не хотела, пока не вернется отец. А если он не приедет до поздней ночи?.. Или вовсе не вернется?.. Однажды Дитте пережила подобное состояние, но тогда у нее были причины, чтобы прятаться. Теперь же ей нечего было бояться розог!
Но как славно бывало возвращаться, держась за руку отца. Он не расспрашивал ни о чем, только с упреком взглядывал на мать и не знал, как и чем порадовать девочку. Может быть, он сделал крюк, чтобы заехать к…
Ах, нет, нет!.. Слезы брызнули из глаз Дитте. Какой ужас испытывала девочка, когда ловила себя на мысли, что забывала о смерти бабушки, хотя так тосковала по ней! «Бабушка умерла! Милая бабушка умерла!» — твердила Дитте, чтобы не впадать больше в такую забывчивость, но спустя некоторое время повторялось то же самое. Это было ужасною изменою по отношению к бабушке!
Дитте начинала жалеть, что не отозвалась на оклик Сэрине, не вернулась в дом. Теперь было уже поздно. Она подобрала ноги под юбку и принялась выщипывать травинки, чтобы не задремать. Вдруг издали донесся стук, заставивший ее вскочить. Стук колес. Но не тот, не привычное тарахтенье отцовской телеги! Совсем другая повозка свернула с дороги, прямо к Сорочьему Гнезду; из нее вылезли двое и вошли в дом. Они были в форменных фуражках с околышем. Дитте подкралась поближе, к дому, прячась за кустами. Сердце ее неистово билось. Спустя минуту люди вышли и вывели мать. Она исступленно отбивалась от них.
— Ларс Петер! — пронзительно кричала она в темноту. Людям пришлось силком усадить ее в повозку. В доме громко плакали дети.
Эти крики заставили Дитте забыть обо всем и выскочить из своего убежища. Один из мужчин схватил ее за плечо, но по знаку другого выпустил.
— Ты не родня им? — спросил тот.
Дитте кивнула.
— Ступай же к детям и успокой их. Пусть не боятся. Кучер, трогай!
Сэрине с быстротой молнии перекинула ноги через борт повозки, но полицейский удержал ее.
— Дитте, помоги! — все еще кричала она, когда повозка, свернув на дорогу, уже исчезла из виду.
Когда Ларс Петер собирался свернуть на проселочную дорогу около деревенской лавки, в полумиле от Сорочьего Гнезда, мимо него промчалась повозка. Он мельком успел различить при свете фонаря форменные фуражки. «Полиция-то еще не угомонилась на сегодня!» — подумал он и передернул плечами. Потом свернул на свою дорогу и опять благодушно замурлыкал, машинально похлестывая Большого Кляуса по крестцу. И все больше и больше сутулясь, он думал о своих домашних, о том, чем попотчует его за ужином Сэрине, — он здорово проголодался; думал и о детишках. Просто срам, что он так запоздал сегодня. Как славно бывает, когда они все четверо опрометью бегут ему навстречу. Но они, пожалуй» еще не ложились!..
Все четверо детей стояли около дороги и ждали отца. Младшим страшно было оставаться дома одним. Ларс Петер стоял, словно окаменев, держась за телегу, пока Дитте со слезами рассказывала ему о случившемся. Сильный, рослый мужчина, казалось, готов был сломиться от горя.
Собравшись с силами, он пошел к дому, ласково разговаривая с детьми. Большой Кляус сам потащился с телегой вслед за ним.
Отец помог Дитте уложить младших.
— Можешь ты побыть эту ночь с малышами? — спросил он потом. — Я поеду в город за матерью… Ведь это же одно недоразумение! — Голос его звучал глухо.
Дитте кивнула и проводила его до телеги.
Он медленно повернул лошадь от дома и вдруг остановился:
— Дитте! Ты должна лучше всех знать, как было дело, и сможешь заступиться за мать. — Он, не трогаясь с места, ждал ответа, но не подымал глаз на девочку.
Ответа он не дождался.
Тогда он еще медленнее вновь повернул телегу к дому и начал выпрягать конягу.
МАМОЧКА ДИТТЕ
I Утро в Сорочьем Гнезде
Большой Кляус усердно и шумно жевал в своем стойле. У него была особенная манера есть: как бы хорошо ни перемешал Ларс Петер овес с соломой «сечкой», коняга умел выбрать из нее зерна. Сперва он, чтобы заморить червяка, съедал половину корма без разбора. Тогда уже легче было распорядиться остатком, который он и сбивал весь в кучу на середку яслей, а затем начинал с храпом и фырканьем вбирать в себя и с силою выпускать из ноздрей струи воздуха, раздувая таким образом солому в стороны. После этого легко выбирал своими мягкими губами весь овес по зернышку и, скребя копытом по каменному настилу в стойле, начинал ржать. Так было и сегодня.
Дитте смеялась:
— Просит еще подсыпать ему сахарку! Совсем как Поуль, когда ест кашу: сначала соскребет ложкой сверху всю сласть.
Но Ларс Петер заворчал:
— Ешь, ешь все дочиста, костлявое пугало! Не такие времена, чтобы привередничать.
Большой Кляус откликнулся умильным ржаньем, которому, казалось, конца не будет.
Пришлось Ларсу Петеру встать, пройти в стойло и снова сбить в кучу всю солому на середину кормушки.
— Ешь теперь, упрямец! — сказал он, дав коняге — шлепка по крупу.
Большой Кляус ткнулся мордой в солому и, втянув ноздрями воздух, оглянулся на хозяина, словно спрашивал: «Да что с тобой сегодня?»
Ничего не поделаешь! Пришлось взять еще горсть овса и всыпать в сечку.
— Теперь ешь безо всяких фокусов! — сказал Ларс Петер, проводя лапищей по спине коняги.
Ларс Петер снова сел на свое место под фонарем.
— Умница он у нас, — сказала Дитте. — Отлично знает, сколько ему дадут прибавки. Но все-таки привередник.
— Видишь ли, он знает, что нам сегодня предстоит дальняя поездка, вот и решил заправиться по-настоящему, чтобы шагать как следует, — выгораживал своего конягу хозяин. — Смышленая бестия.
— Но все-таки не такой, как наш Перс, — рассудила Дитте. — Этот сам отворяет дверь в кладовушку. Я понять не могла, как он попал туда и вылакал молоко. Думала, что это Поуль не притворил дверцу, и чуть не отшлепала его за это. Но вчера я последила за котом, и тебе ни за что не догадаться, как он это проделывает. Вскочил на край лоханки, оттуда прыгнул на дверцу кладовушки и лапой нажал на щеколду. А тогда уж ему ничего не стоило спрыгнуть на пол и лапами приоткрыть дверцу пошире.
Дитте сидела с отцом на гумне в сарае и сортировала тряпье при свете фонаря, спускавшегося с балки. Вокруг них лежали вороха уже разобранных тряпок — шерстяные отдельно от холщовых и бумажных. Стояла еще темная, холодная ночь, но тут было тепло. За низенькой перегородкой шумно расправлялся с кормом Большой Кляус, пыхтя, как паровая молотилка; протяжно и удовлетворенно вздыхала, пережевывая жвачку, корова, сонно клохтали в своем углу на насесте куры. Поросенок время от времени причмокивал во сне, словно сосал приснившуюся ему матку, от которой его отлучили всего дня два-три тому назад.
— Это шерсть? — спросила Дитте, протягивая отцу большой лоскут.
Ларс Петер долго щупал лоскут, потом выдернул из него нитку и подержал над огнем фонаря.
— Должно быть, шерсть, — тлеет и пахнет рогом. А впрочем, шут его знает! — И он опять принялся щупать лоскут. — Пожалуй, это какая-нибудь новомодная подделка. Говорят, нынче так стали обрабатывать некоторые растения, что их волокна и не отличишь от шерстяных. А шелк, говорят, выделывают из стекла!
Дитте вдруг вскочила и, отворив дверь сарая, прислушалась. Потом перебежала через двор к жилому дому. Вскоре она вернулась.
— Что-нибудь с ребятишками? — спросил Ларс Петер.
— Нет, просто Поуль хныкал; надо было ему помочь. Раз он уже приучен к опрятности, надо следить за этим. А то, если дать ему раз-другой провиниться, никогда никакого порядка не будет, — рассуждала Дитте тоном многоопытной матери.
Ларс Петер кивнул и с нескрываемым восхищением сказал:
— Как это ты ловко сумела его приучить! Просто непонятно даже. Мать ничего не могла с ним поделать.
— Ну, надо только захотеть и не сдаваться. Ребенок привыкнет. Хуже всего по ночам, когда такая темень и холодище. Пригреешься в постели и так не хочется вставать! Ну, думаешь, ничего, он, верно, потерпит до утра. А вот этого-то как раз и нельзя, не то… А как же это делают шелк из стекла? — вдруг спросила она. — Стекло же такое непрочное.
— Да и новомодный шелк не прочнее. Стоит только отыскать тут шелковый лоскуток, — увидишь, что он почти весь сечется, волокна рвутся.
— А что же такое само стекло?
— Да, что оно такое? Кто бы это мог объяснить? Сродни льду оно быть не может, потому что не тает даже на солнце. Пожалуй… Нет, не берусь и объяснять. Плохо все-таки, когда ничему не учился толком. И не хватает ума самому додуматься до чего-нибудь.
— А разве кто-нибудь может сам до чего-нибудь додуматься?
— Должно быть, потому что как же самый первый-то человек на свете понял что-нибудь, если бы не своим умом дошел? Прежде, бывало, и я обо всем выспрашивал да раздумывал, а потом бросил, — все равно, толку не добьешься. Да и это вот… с матерью… не скрасило жизнь! — Ларс Петер вздохнул.
Дитте низко нагнулась над работой. Разговор принимал такой оборот, что лучше уж было помолчать.
Большой Кляус наконец насытился и давал знать об этом по-своему — особенно духовито.
— Эй, ты! Веди себя пристойнее, ветроглот! — крикнул Ларс Петер. — Забыл, что у тебя гости?
Дитте рассмеялась, потом спросила:
— А почему все-таки животные не могут приучиться вести себя так же прилично, как мы?
— Видно уж не могут, — задумчиво проговорил Ларс Петер. — Так, должно быть, заведено на свете, что каждому положен свой предел — чему можно его научить, чему нет. Впрочем, скотина нередко бывает порядочнее нас, людей, и следовало бы иной раз нам брать пример с нее.
На некоторое время водворилась тишина. Ларс Петер все медленнее шевелил руками в наконец совсем опустил их. Он словно застыл, глядя перед собою и ничего не видя, не сознавая. В последнее время это с ним часто бывало. Вдруг он поднялся, подошел к восточному слуховому окну сарая и отворил ставень. Все еще стояла ночь, но звезды слегка побледнели. Чуть слышно подал из стойла свой голос Большой Кляус. Ларс Петер затворил ставень и, как-то странно шагая, словно спотыкаясь, побрел к коняге. Дитте провожала отца глазами.
— Ну, чего тебе еще? — спросил он, проводя рукой по крестцу своего любимца.
Большой Кляус стал тыкаться мягкой мордой в плечо хозяина. Это было для Ларса Петера нежнейшею ласкою, и он бросил в ясли еще одну горстку овса.
Дитте повернула к ним голову. Ей не нравилось, когда отец был в таком настроении. Но к чему вешать голову?
— Уже проголодался? — задорно спросила она. — Эта скотина сожрет нас всех с домом вместе!
— Ну, ведь он же и работает на нас. Сегодня ему не ближний путь предстоит. — Ларс Петер вернулся на место и снова взялся за дело.
— А сколько миль до Копенгагена? — спросила Дитте.
— Часов шесть-семь пути, я думаю. Мы ведь не порожняком.
— У, какой длинный путь! Да еще в такой холодище! — Дитте поежилась.
— Да, холодно. Особенно, когда сидишь в телеге один. Тебе бы поехать со мною, Дитте! Дело-то ведь не веселое.
И как одному скоротать время в дороге? Горькие мысли начнут одолевать.
— Не могу я бросить дом, — отрезала Дитте.
Чуть не в двадцатый раз стал уговаривать ее Ларс Петер.
— Можно бы пригласить Йохансенов, чтобы они присмотрели за хозяйством… И ребятишек на эти два-три дня к ним отправить, — убеждал он.
Но Дитте оставалась непоколебимой. Что бы там кто ни говорил, для матери в ее сердце не находилось ни капли любви или сочувствия. Она ни за что на свете не хотела навестить Сэрине в тюрьме. И пора отцу оставить этот разговор, пока она не вспылит и не напомнит ему о бабушке. Дитте с такой недетской силою ненавидела мать, что просто жутко становилось. Сама она никогда не заикалась о матери, а если заговаривали о ней другие, она молчала, словно воды в рот набрала. При всей своей самоотверженной доброте, она относилась к матери безжалостно.
Для добродушного Ларса Петера ненависть девочки была загадкой. Сколько ни старался он смягчить ее, ничто не помогало, и ему оставалось только покориться.
— Припомни, не нужно ли тебе чего для хозяйства? — спросил он.
— Нужно бы столовой соли… пакетик. У нас в лавке такая серая, крупная, что на стол подать стыдно. Да немножко кардамону. Хочу попробовать испечь булку. Покупная так быстро черствеет.
— Ты и на это мастерица? — изумился отец.
— И еще много чего нужно, — продолжала Дитте невозмутимо. — Но я лучше запишу все на бумажку, а то ты половину перезабудешь, как в тот раз.
— Да, да, самое лучшее записать, — покорно согласился Ларс Петер. — Память у меня что-то сдала. Не знаю, с чего бы… Прежде ведь, бывало, хоть с полсотни поручений мне надавай, — ни одного не забуду. Должно быть, это все из-за истории с матерью… Да и стареет человек, конечно… Впрочем, у деда память до самой смерти сохранилась такая, что в ней все словно отпечатано было, как в книге.
Дитте быстро встала и отряхнула юбку.
— Ну вот! — с облегчением вздохнула она.
Они уложили тряпье в мешки и перевязали их.
— Кое-что выручим за это, — сказал Ларс Петер и понес мешки к наружной двери, возле которой уже сложен был разный металлический лом, тоже для продажи в городе.
— А который теперь час? Пожалуй, седьмой? Стало быть, скоро рассвет.
Дитте распахнула дверь, — свежий, морозный воздух хлынул снаружи. На востоке, над озером, небо светилось холодным зеленоватым светом с легким золотистым оттенком. Занимался день. В полыньях замерзшего озера зашевелились птицы, как будто их разбудил шум в Сорочьем Гнезде. Они с криком и стрекотом снимались с мест — стайка за стайкой — и улетали к морю.
— День будет ясный, — заметил Ларс Петер, подкатывая телегу к дверям сарая. — Скоро, пожалуй, и таять начнет.
Он принялся нагружать телегу, а Дитте пошла готовить кофе.
Когда Ларс Петер вернулся со двора, в комнате стоял запах кофе и пахло еще чем-то жареным, а на потолке играли отблески огня из печки. Кристиан, стоя перед нею на коленках, подбрасывал в огонь вереск и сухой навоз, а Дитте помешивала что-то на шипящей сковороде. Двое младших детей сидели на ларе, свесив ноги, и восторженно смотрели на сестру. Огненные блики играли на их мокрых рожицах. Рассвет, словно ощупью, пробивался сквозь замерзшие оконные стекла.
— Кушай на здоровье, отец! — сказала Дитте, ставя сковородку на три деревянных брусочка, лежавших на столе. — Это всего-навсего жареная картошка с кусочками сала. Но уж ты, пожалуйста, скушай все сам!
Ларс Петер, посмеиваясь, сел за стол и тотчас же принялся, по обыкновению, совать кусочки в рот малышам по очереди. Они уже сидели около него, положив подбородки на стол и разинув рты, как птенцы. Кристиан с вилкой в руках стал между колен отца и ел с ним вместе. Дитте, держа в руках большой хлебный нож, оперлась о край стола и глядела на них.
— А ты сама что же? — спросил отец, подвигая сковородку к ней.
— Я готовила для одного тебя, а мы и после можем поесть, — ответила Дитте с некоторой досадой.
Но отец невозмутимо продолжал набивать рты детишкам. Ему еда была не в еду, если он не видел вокруг себя разинутых ребячьих ротиков.
— Прямо райское кушанье! Для него и мертвый воскрес бы! Правда? — спросил он с громким смехом. В его голосе опять звучали глубокие, теплые ноты.
Пока он пил кофе, сестренка и Поуль быстро оделись, — они хотели поглядеть, как отец поедет, пока он запрягал, они так и шныряли между ногами у него и у Большого Кляуса.
Тут взошло солнце. Словно розовую парчу накинули на одетое льдом озеро и запушенный инеем ландшафт, обледенелые камыши звенели, словно скрещивавшиеся клинки. От Большого Кляуса валил пар, и учащенное дыхание белыми облачками вырывалось из детских ртов.
Ребятишки прыгали вокруг телеги в своих тряпочных башмачонках, словно резвые косолапые щенята.
— Кланяйся маме! — кричали они наперебой.
Ларс Петер, удобно усевшийся среди мешков в телеге, нагнулся и спросил Дитте:
— И от тебя кланяться?
Дитте молча отвернулась.
Ларс Петер взял кнут в руки и начал подхлестывать конягу, медленно натягивавшего постромки.
II Проезжая дорога
«Он тоже не меньше моего любит дорогу!» — говаривал Ларс Петер про Большого Кляуса. В самом деле, коняга, замечая, что хозяин собирается в дальнюю поездку, заметно веселел. Коротенькие поездки он ни во что не ставил. Ему нравились настоящие разъезды по селениям и хуторам, с поворотами то вправо, то влево, с ночевками на постоялых дворах. Что прельщало его во всем этом — трудно сказать. Вряд ли он мог, как его хозяин, наслаждаться новыми впечатлениями. А впрочем, кто его знает, смышленую бестию.
Во всяком случае, конь любил чувствовать под копытами хорошую проезжую дорогу, и чем продолжительнее была поездка, тем веселее он становился. И так же бодро, чуть что вылезая из постромок, тащил воз в гору, как и под гору, когда телега почти наседала на его мохнатый круп. Только уж если холм попадался очень крутой, Большой Кляус останавливался, чтобы дать хозяину возможность слезть и поразмять ноги.
Для Ларса Петера разъезды по дорогам составляли часть его жизни. Они давали ему и его семье кусок хлеба и утоляли его бродяжнические инстинкты. Длинная и широкая проезжая дорога, обсаженная по полям тополями и разветвлявшаяся на множество боковых узеньких проселков, ведущих к селениям и хуторам, — каких только возможностей не сулила она! Можно было по желанию свернуть в любую сторону или предоставить выбор случаю или прихоти Большого Кляуса. Всегда поджидало тебя что-то новое.
Но проезжая дорога была лишь видимым звеном бесконечной цепи. Если бы ехать все прямо вперед, никуда не сворачивая, то можно было бы забраться невесть в какую даль. Разумеется, Ларс Петер этого не делал, но уже одна мысль, что это возможно, давала ему некоторое удовлетворение.
На проезжей дороге попадались люди, подобные ему. Они без спроса влезали к нему в телегу, вытаскивали из кармана бутылочку, угощали его и о чем только не рассказывали! Эти люди бродили по всему свету; они только вчера переправились на этот берег из Швеции, через недельку могли очутиться, пожалуй, на южной границе, а затем в Германии. Они носили сапоги, подбитые гвоздями; там, где полагалось быть животу, у них была впадина, шея обмотана шарфом, а на красноватых руках напульсники. И всегда они были в прекрасном настроении. Большой Кляус пригляделся к ним и сам останавливался.
Не проезжал он и мимо бедно одетых женщин, школьников, рабочего люда. Коняга и Ларс Петер были согласны между собою насчет того, что всякого, кто хотел ехать, следует подвезти. Но Большой Кляус не останавливался возле хорошо одетых людей, — они ведь все равно не удостоили бы Живодера чести прокатиться с ним.
Ларс Петер и его конь оба хорошо знали проезжую дорогу со всеми ее разветвлениями. И заметив что-нибудь необычное, — хотя бы новую молотилку на поле или строящийся дом у дороги, — либо тот, либо другой усматривали в этом предлог для остановки. Хозяин, впрочем, делал вид, что потакает любопытству коняги.
— Ну, нагляделся? — бурчал он, постояв немного на месте, и снова подбирал вожжи.
Большой Кляус мирился с такой несправедливостью, и это ничуть не влияло на его дальнейшее поведение. Он вообще предпочитал действовать по собственному усмотрению.
Плохи, значит, были дела, если и большая проезжая дорога не могла подбодрить Ларса Петера. Равномерное звонкое цоканье подков Большого Кляуса по шоссе всегда вызывало желание подпевать ему. А придорожные деревья, верстовые столбы с короной и инициалами Христиана V, бесконечные дорожные встречи и приключения — ведь все это должно было поднимать дух.
Особенно теперь, когда снег подернулся тонкою ледяною корочкой, звеневшею под конскими копытами, когда воздух был так свеж и чист и дышалось так легко, когда солнце румянило белый от снега ландшафт, — невозможно было не настроиться на бодрый, веселый лад, если бы не мысли о том — куда и зачем он едет. От этих мыслей все тускнело вокруг.
Ларс Петер до сих пор никогда не вдавался в особые рассуждения и не жаловался на судьбу. Что бы ни произошло, как бы ни обернулись дела, — так, стало быть, оно и полагалось, иначе и быть не могло. Чего же тут рассуждать? И он, долгими часами трясясь на своей телеге, гудел себе под нос что-то вроде песенки и был в прекрасном настроении. «Чем-то сегодня мать угостит меня на ужин?» или: «Выйдут ли сегодня ребятишки мне навстречу?» — вот что, бывало, вертелось у него в голове, и ничего другого. Торговал он иногда в убыток себе, иногда с прибылью, и то огорчался, то радовался, но твердо знал, что после дождя выглянет солнце и наоборот. Так было при его родителях и его дедах, так будет и впредь, — это подтверждалось его собственным опытом. О чем же тут раздумывать? И если непогода чересчур долго бушевала, — что ж, приходилось только как следует отряхнуться, когда метель стихала.
И с людьми ссориться не было смысла. Ведь и другие должны были, как и он сам, покоряться обстоятельствам, на которые, в сущности, никогда по-настоящему нельзя полагаться.
Но теперь он не мог отделаться от дум, пусть и бесполезных. Что-то совершенно неожиданное и неумолимое хватало его за шиворот и ставило все перед тем же безнадежным вопросом: за что? Мысль о Сэрине прорывалась из тысячи уголков его души и накладывала на все переживания свинцовую печать тоски.
Ларсу Петеру не впервые было претерпевать невзгоды, и он переносил их как самою судьбой возложенное на него бремя. У него были крепкие плечи и широкая спина — для чего же они и даны, как не для того, чтобы на них взваливали тяжелую ношу? Не в его характере было хныкать под бременем, прикидываться слабосильным. Но судьба взваливала на него одно бремя за другим, — коли снес одно, снесет и другое, и так далее, — пока он не надорвался. Пришел конец его неуязвимости и выносливости.
Ларс Петер стал задумываться над своей судьбой. Но, сколько он ни думал, ничего понять не мог — его жизнь была бессмысленной по сравнению с судьбой других людей. Стоило ему очутиться в телеге и пустить Большого Кляуса обычным шагом, как тяжелые думы одолевали и давили его, выматывая из него душу. Он не мог убежать от них, не находил выхода; рассудок его отказывался понимать что-либо, беспомощно запутываясь все в одних и тех же вопросах: почему его прозвали Живодером, почему люди брезговали им, как прокаженным? Он добывал себе хлеб честным трудом, как и они. За что травили, гнали его детей? Прозвали его жилище Сорочьим Гнездом? И почему его преследуют несчастья? Или это злая судьба? Он многого не понимал и хотел уяснить себе все. Беда не раз стучалась к нему в двери и не заставала его дома; теперь она пробралась наконец сквозь дверную щель.
Сколько ни ломал себе Ларс Петер голову, он не мог разобраться в истории с Сэрине. Он всегда помнил только светлое, хорошее, все прочее он попросту забывал немедленно. И в жене своей он видел и запомнил одни хорошие свойства. Она была такая дельная, бережливая — умела сводить концы с концами! И такая предприимчивая. А каких славных ребятишек она подарила ему! Одного этого довольно было, чтобы скинуть со счетов все ее недостатки. Ларс Петер любил жену, гордился ею и ее стремлением выбиться в люди, ее упорным честолюбием. Пусть иногда не легко было сносить ее воркотню, — он все-таки восхищался ею про себя за то, что она так высоко держала голову. И она-то, с ее гордостью, попала в тюрьму?! До последней минуты он все надеялся, что Сэрине арестовали по ошибке. «А потом возьмут и выпустят! Я приеду, а она — уже дома, все было только недоразумением!» — думал он. Но теперь суд уже состоялся; значит, так полагалось по закону. И все-таки — какая бессмыслица!
На дороге валялась подкова. Большой Кляус по привычке остановился и оглянулся на хозяина. Ларс Петер очнулся от своих дум, кинул взгляд на дорогу и — тронул конягу. Тот, недоумевая, сразу подчинился. А зачем было Ларсу Петеру слезать с телеги и поднимать какую-то негодную подкову? Все теперь было ни к чему.
Он стал насвистывать и оглядывать местность, чтобы как-нибудь рассеяться. Внизу у пруда вырубали лед для молочной фермы. Давно пора! А хуторянин Гадбю выехал кататься с женою на самых парадных своих санях. Да и почему им не кататься вдвоем? Вот если бис ним рядом сидела Сэрине, и они ехали бы вместе поглядеть на столицу!.. Ну вот, опять нахлынули на него те же мысли!.. Ларс Петер повернулся и стал глядеть в другую сторону, но что проку? От дум не отделаться. Они, как комары, донимают, — сгонишь с одного места, ужалят в другое.
От хуторка, стоявшего поодаль, бежала к нему со всех ног женщина, взывая:
— Ларс Петер! Ларс Петер!
Большой Кляус остановился.
— Ты в город? — спросила женщина, совсем запыхавшись и ухватясь за кузов телеги.
— Да, в столицу, — тихо сказал Ларс Петер, словно боясь, что женщина догадается, зачем он едет туда.
— Ох, сделай милость, купи ночной горшок для нас.
— Что же это вы стали такие важные? — И Ларс Петер криво улыбнулся.
— Да, видишь ли, у девочки нашей ревматизм, и доктор запретил ей ходить на двор, — оправдывалась женщина.
— Ну что же, купить можно. Какой величины?
— Да уж раз обзаводиться такой посудиной, так чтоб на всех ее хватило. А всех нас — старик мой да я с дочкой, да батрак, да девчонка, — стало быть, этак человек на шесть-семь. Вот тебе ригсорт{6}!. Хватит, пожалуй? — Она подала Ларсу Петеру завернутую в бумажку монету, и Большой Кляус тронулся.
Проехав половину пути, Ларс Петер завернул на постоялый двор. Пора было покормить конягу, да не мешало и ему самому подкрепиться рюмочкой, — очень уж он упал духом. Въехав под навес, он снял с Большого Кляуса уздечку и подвесил ему торбу.
Толстяк-хозяин показался в дверях харчевни, мигая свинячьими глазками, заплывшими жиром и напоминавшими изюмины в поднявшейся опаре.
— Э, да это никак сам Живодер с Песков! — воскликнул он и захохотал, и звук его голоса походил на шипение сала на сковородке.
Ларс Петер не раз слыхал такое приветствие и смеялся вместе с другими. Но сегодня это подействовало на него как-то особенно. Терпение его готово было лопнуть, и вся кровь закипела в нем. Тихий, благоразумный, флегматичный Ларс Петер круто повернулся к Хозяину и на секунду оскалил зубы. Но сдержался, снял с себя дорожный балахон и накрыл им конягу.
— Разве я ошибся? — опять начал хозяин. — Разве не сам владелец Сорочьего Гнезда оказал нам честь?
Тут Ларс Петер не выдержал и вспылил.
— Заткни свою пасть, разъевшийся боров! — загремел он на весь двор и кинулся к хозяину, топоча тяжелыми сапогами. — Не то я заткну ее тебе!
Хозяин харчевни от испуга сразу закрыл рот. Он вытаращил свои свинячьи глазки, совсем тонувшие в белорозовом мясистом лице, когда он смеялся. Затем повернулся и проворно юркнул в дом.
Когда Ларс Петер с мрачным видом ввалился в харчевню, хозяин растерянно суетился там, словно занятый каким-то делом, и насвистывал что-то непонятное.
— Водки и пива! — пробурчал Ларс Петер, садясь к столику и развертывая взятую с собой еду.
Хозяин подошел с целым графином и двумя стаканчиками. Боязливо косясь на гостя, он налил стаканы до краев и заискивающе проговорил:
— За твое здоровье, приятель!
Живодер выпил, не чокаясь. Ага, напугался, жирный скот! Даже хвостом своим свиным завилял! Ларс Петер впервые нагнал страх на другого человека. Он испытал сейчас совсем новое ощущение, которое пришлось ему по нраву. Как славно вот так сорвать злобу! По всему его телу разливалось чувство удовлетворения после этого взрыва, разрядившего душевное напряжение. Каким угодливым стал этот заносчивый хозяин — потому лишь, что у Ларса Петера истощилось терпенье. И вдруг ему так захотелось придавить хорошенько ногою этот мясистый затылок, гаркнуть прямо в это жирное рыло так, чтобы у этого скота со страху поджилки затряслись! Или взять да наподдать ему как следует! Отчего в самом деле разочек не испробовать свою силу? Тогда, пожалуй, люди начнут уважать Живодера!
Хозяин сел на стул против него и, подмигивая, начал:
— Ну, как? Ларс Петер Хансен не стал еще социалистом?
Ларс Петер хватил тяжелым кулаком по столу, так что все подпрыгнуло и хозяин тоже.
— Полно издеваться надо мной; хватит — понимаешь? Я такой же живодер, как и вы все прочие. И если я еще раз услышу это прозвище, то все вы полетите к чертям!
— Разумеется, разумеется! Но ведь мы же только в шутку, Ларс Петер Хансен! Как домашние твои? Жена, ребятишки здоровы? — Но стоило Ларсу Петеру пошевельнуться, как хозяин начинал испуганно моргать.
Ларс Петер, не отвечая, выпил еще рюмку водки. «Этому бездельнику все отлично известно про Сэрине!»
— Знаешь, тебе бы взять свою хозяюшку с собой! Женщины рады побывать в столице, — опять попытался завязать беседу хозяин.
Ларс Петер подозрительно поглядел на него и угрюмо проговорил:
— Ты чего прикидываешься? Ты же знаешь отлично, что она там.
— Неужто? Сбежала от тебя?
Ларс Петер выпил еще.
— Ее посадили, черт тебя подери! — Он с треском поставил стаканчик на стол.
Хозяин понял, что не стоит больше притворяться, будто он ничего не знает, — все равно, кроме неблагодарности, ничего за это не дождешься.
— Ах, да, да, что-то такое рассказывали… Как же она так… не поладила с законом?
Живодер глухо рассмеялся.
— Да уж так! Говорят, что мать родную придушила! — Хмель начинал бродить в нем.
— Ох, господи, помилуй нас… вот какие дела бывают, — завздыхал хозяин, весь извиваясь, точно у него живот схватило. — И ты, верно, королю прошенье хочешь подать?
Ларс Петер поднял голову.
— Королю? — Эта мысль поразила его. Вот оно, пожалуй, чудо, на которое он надеялся.
— Ну да, ты же знаешь, в его воле и казнить и миловать. Придись ему кто не по сердцу — ему стоит лишь приказать: «Голову с плеч этому молодчику!» Точно так же может он, если захочет, и приказать выпустить человека на свободу.
— А как же такому бедняку, как я, добраться до короля? — И Живодер безнадежно вздохнул.
— К нему каждого должны допустить, кто хочет его видеть, — убежденно сказал хозяин. — И каждый житель страны вправе потребовать этого. Ты только узнай, где король живет. Тебе всякий скажет.
— Это я и сам знаю, — самоуверенно сказал Ларс Петер. — Сам чуть было не попал в гвардию. Стоял бы тогда на карауле у дворца. Если бы не плоская стопа, то…
— Да, но все-таки найти короля не так просто. У него дворцов много. У короля, видишь ли, приятелей не бывает. В стране только один король. А весь век свой беседовать с собственной женой — этого ни один черт долго не выдержит, король и подавно. Вот он со скуки и переезжает из одного дворца в другой — воображает, что ездит в гости. Так ты раньше разузнай хорошенько, где он сейчас. Не лишнее тоже обзавестись ходатаем. Деньги-то у тебя с собой есть?
— У меня с собой товара больше чем на сотню крон, — важно ответил Ларс Петер.
— Это хорошо. А то ведь в столице двери отворяются туго, смазывать приходится. Пожалуй, и во дворце ворота поскрипывают, так что… — Хозяин выразительно потер руки.
— Подмажем, — широко развел руками Ларс Петер и прекратил беседу.
Теперь он воспрянул духом и даже начал напевать, надевая уздечку Большому Кляусу, потом взобрался на телегу. Теперь он знал, что делать. Надо ехать поскорее и действовать. Дни и ночи думал он, как быть, что предпринять, какими путями вызволить Сэрине из тюрьмы. Перелезть через стену тюрьмы и выкрасть жену, как в романах пишут? На это он не годится. Пойти к королю — дело другое. Ведь в молодости Ларса Петера чуть было не взяли в королевскую лейб-гвардию. Он и ростом и сложением вышел, как ему говорили. Но потом оказалось, что у него плоская стопа, и его забраковали. А то он чуть-чуть было…
III В столице
Столицы Ларс Петер не помнил. Когда-то еще мальчишкой он побывал там с отцом. И с тех пор ни разу не ездил. С Сэрине у них часто бывали разговоры о поездке туда с продуктами, — лучше ведь иметь дело прямо с крупными столичными купцами, чем с мелкими провинциальными скупщиками. Но так одними разговорами все и кончалось. Теперь же предстояло перейти от слов к делу.
Он наметил себе крупную фирму, рекламировавшую себя по всей провинции, — «крупнейшую скандинавскую фирму», так гласили рекламы, скупавшую тряпье, кости, металлический лом «по наивысшим рыночным ценам».
Это последнее обстоятельство главным образом и соблазнило Ларса Петера.
Подъезжая по шоссе от города Люнгбю к площади Треугольник{7}, Ларс Петер занимался подсчетами. По провинциальным ценам у него было в телеге товара на добрую сотню крон. Теперь же, прикидывая в уме, он насчитывал на двадцать пять крон больше. Этого, пожалуй, как раз хватит на освобождение Сэрине. Таким образом, можно убить двух зайцев сразу — освободить Сэрине да еще деньжонок зашибить! Только мозгами надо пошевелить хорошенько. Ларс Петер приподнял шляпу и взъерошил волосы; он был в хорошем настроении.
У Треугольника он остановился и расспросил о дороге. Затем поехал по Блейдамсвей и свернул в переулок, За высоким забором виднелись целые горы железного хлама: поломанные пружины, дырявые листы, исковерканные кровати, помятые ржавые ящики и ведра для угля. Должно быть, здесь! Над воротами была надпись; «Левинсон и сыновья. Экспортная контора».
Ларс Петер завернул в ворота и озабоченно остановился на первом дворе. Перед ним тянулись бесконечными рядами склады, навесы и просто горы тряпья, разной грязной ветоши и старого железа. За этим двором шел другой, третий… и так далее. И сколько бы Ларс Петер с Большим Кляусом ни ездили и ни собирали хлама — хоть до окончания веков, — им бы не наполнить и одного такого двора. Обескураженный сидел он, вытаращив глава, и даже шляпа как-то сама собой сползла с его головы. Потом он все-таки встряхнулся, тронул коня и, подъехав поближе к одному из складов, спрыгнул с телеги. В складе слышались голоса, он отворил дверь и вошел. В полумраке сидело несколько молоденьких девушек, сортировавших какую-то дрянь, вроде клочьев грязной ваты.
— Эге, в какую я голубятню угодил! — воскликнул Ларс Петер, развеселясь. — Но что это вы, черт подери, сортируете? Ангельское оперение? — Его добродушный смех загремел по всему складу.
Одна из девушек вмиг выхватила что-то из кучи и швырнула ему прямо в голову. Он едва успел увернуться, быстро нагнув голову, и брошенное повисло на дверном косяке. Это был клок ваты с кровью и гноем — отбросы из госпиталя. Ларс Петер знал, что в столице промышляют даже и такими отбросами, но все-таки плюнул: «Тьфу ты, черт!» — и выскочил за дверь на свежий воздух. Девушки проводили его визгливым хохотом.
От главного здания бежал к нему, спотыкаясь, какой-то старичок в очках.
— Вы… вы что тут делаете? — прохрипел он еще издали. Ноги у него заплетались, так он торопился. — Нечего… нечего вам тут бродить и разнюхивать!
Старик был ужасающе грязен, лицо его заросло щетиной. Воротник и полы сюртука прямо как будто сейчас лишь были вытащены из этих куч тряпья. Нет, таким замарашкой Ларс Петер, несмотря на свое ремесло, все-таки никогда не ходил, право слово! Грязь впиталась положительно во все поры и морщины старика, во все складки его одежды. Ну, да ведь и грязного тряпья здесь было побольше!.. Ларс Петер добродушно снял шляпу и, когда старик кончил ворчать, спросил:
— Господин Левинсон? У меня есть кое-какой товар для вас.
Старик озадаченно воззрился на него, онемев от изумления. Этот наглец принимает его за главу фирмы?!
— Так вам нужен господин Левинсон?.. В самом деле?.. — испытующе начал он.
— Да, я привез кое-какой товар. Хотелось бы продать господину Левинсону.
Тут старик разошелся.
— Непременно ему самому, лично, во что бы то ни стало? Не так ли? Никто другой в мире не может взять у вас товара — не то у вас и телега треснет и тряпье все развалится — правда? Стало быть, непременно подавай вам самого господина Левинсона? — Он смерил Ларса Петера взглядом, чуть не лопаясь от презрительного негодования.
— Лучше бы, конечно, повидать самого, — невозмутимо подтвердил Ларс Петер.
— Так не угодно ли вам с вашим хламом прокатиться на Ривьеру, добрейший!
— Куда, то есть?
— На Ривьеру, прямехонько! — Старик потирал руки, видимо, потешаясь. — Туда всего несколько сотенок миль. Все прямо к югу. И вернее всего застать его в Монте-Карло, между пятью и семью. А его супругу с дочкой… Вы ведь пожелаете, конечно, засвидетельствовать им свое почтение? Поухаживать немножко, так сказать? Под пальмами? Под веерными пальмами?
— Черт! Неужто он такой важный господин, — огорчился Ларс Петер. — Ну, так, может статься, мы с вами сторгуемся?
— К вашим услугам, если вам угодно снизойти до такого бедняги, как господин Йенс Пэссен.
— А я — Ларс Петер Хансен с Песков!
— Ага! Большая честь для фирмы! Чрезвычайно рад!
Старик болтал, вертелся около телеги и взглядом оценивал кладь. Вдруг он схватил Большого Кляуса под уздцы, но мигом выпустил — конь куснул его.
— Трогай! Мы сейчас это свалим на другом дворе!
— Нет, лучше будет оставить товар, как он есть, пока не сторгуемся, — сказал Ларс Петер, становясь подозрительным.
— Нет, мы должны вытряхнуть все! Надо поглядеть, что вы нам подсовываете! — сказал старик совсем уже другим тоном. — Мы кота в мешке не покупаем.
— А я кота из мешка не выпускаю, пока не узнаю цены. У меня все рассортировано и взвешено. Ларс Петер Хансен не обманщик.
— Ну, понятно, понятно… Так вы действительно тот самый Ларс Петер Хансен?.. С Песков вдобавок? Да, да! Он не обманщик. Еще бы! Так подъедем к конторе.
Ларс Петер поехал за ним. Он был немножко сбит с толку: издевается над ним старик или в самом деле знает его? В своей округе Ларса Петера с Песков все знали. Пожалуй, и тут прослышали о нем, как о скупщике.
Весь товар свой он помнил, держал все цифры в голове и называл одну за другой, а старик записывал. Ларс Петер кинулся во двор и увидел телегу уже на другом дворе, где двое парней ее разгружали. Во второй раз сегодня Ларс Петер вышел из себя.
— Живо сложить все обратно! — заревел он и схватил шкворень от телеги. Парни окинули его взглядом и молча погрузили весь товар снова в телегу.
Теперь уж он не сомневался, что его хотят надуть. Проклятые мошенники! Если бы они только успели растрясти все тюки, ему никогда бы не получить настоящей цены. Он подъехал с телегой опять к дверям конторы, но уже не выпускал из рук вожжей. Старая лиса покосилась на него из-за конторки.
— Неужто хотели угнать со двора вашу славную лошадку? — спросил он невинным тоном.
— Нет, скорее хотели запустить лапы в мой товар! — проворчал Ларс Петер, желая показать, что и он умеет съязвить. — Ну, покупаете вы у меня товар или нет?
— Разумеется, покупаем. Вот, глядите. Я все подсчитал. Ровнехонько пятьдесят шесть крон — по наивысшим рыночным ценам на сегодняшний день!
— Подите вы к чертям с вашими наивысшими рыночными ценами! — Ларс Петер приготовился влезть в телегу. Старик с изумлением глядел на него сквозь очки.
— Вы не желаете продать?
— Нет, чер-рт возьми, не желаю. Лучше вернусь с товаром обратно. В наших краях я выручу вдвое.
— Ну, раз вы так говорите… Ларс Петер Хансен, конечно, не обманщик. Но как же нам быть, хозяин? Мы ведь даем вам хорошие деньги!.. И нельзя же допустить, чтобы вы тащились с вашим товаром обратно. Жалко вашу славную лошадку! — Он приблизился к Большому Кляусу, намереваясь погладить его, но тот прижал уши и стал бить хвостом.
Ларс Петер не мог устоять, когда хвалили его конягу, и дело кончилось тем, что он уступил товар за девяносто крон. В придачу он получил сигару.
— Это из дешевых, так что вы лучше подождите закуривать, пока не выедете за ворота, — сказал старый плут довольно бесцеремонно. — Приезжайте к нам опять!
Спасибо! Не так-то скоро заманят его сюда, в это разбойничье гнездо! Ларс Петер расспросил, как попасть на Западную улицу, там был постоялый двор, на котором останавливались обыкновенно приезжие из его краев.
Двор был весь заставлен телегами. Хуторяне расхаживали с трубками в зубах, в расстегнутых шубах и запаковывали свои столичные покупки, пока им запрягали лошадей. Между телегами шныряли люди особого склада, с прищуренными глазами и с распущенными по животу часовыми цепочками массивного золота. Один из них подошел к Ларсу Петеру и поклонился.
— Ты не занят сегодня вечером? — спросил он. — Нас тут собралось несколько земляков… хотим провести веселый вечерок в своей компании. Не хватает еще одного партнера! — Он вынул из нагрудного кармана колоду карт и провел пальцем по ее ребру, с треском щелкая картами.
Ларс Петер поблагодарил, но сказал, что занят.
— Что это за народ? — спросил он дворника.
— Да это из тех, что помогают приезжим крестьянам не заблудиться в городе, когда стемнеет, — ухмыльнулся дворник.
— Им за это платят? — Ларс Петер пытливо посмотрел на него.
— Да-а, и здорово иногда. Но зато уж они берут на себя все хлопоты насчет того, чтобы и повеселиться, и переночевать, и все такое. И с бабой сведут, если пожелаешь.
— Ну, это мне ни к чему. Вот если б они свели меня с собственной женой.
— Этим они как будто не занимаются. Впрочем, попробуй, потолкуй!
Нет, уж лучше подальше от таких. Он привел в порядок телегу и отправился в город. Где-то на площади Хаусер держал трактир один друг его юности, и Ларс Петер решил отыскать его: не даст ли тот совет, как приняться за дело.
Стали зажигать уличные фонари, хотя еще и не начинало смеркаться: видно, тут в городе на свет не скупились. Ларс Петер громыхал своими сапожищами по направлению к Соборной площади, разглядывая дома. Этот сутуловатый великан в шляпе и балахоне, отливавших всеми цветами линялой радуги, казался настоящей деревенщиной. Когда он расспрашивал прохожих о дороге, бас его раздавался на всю улицу, хотя великан и старался говорить потише. Люди приостанавливались и смеялись. Он сам вторил им и отпускал шуточки, но и смех этот и шутки, против его собственной воли, громом прокатывались между домами. Ларса Петера сопровождала целая свита из ребятишек и молодежи. Он благодушно принимал их крики и смешки, но все же испытывал чувство неловкости, пока не очутился наконец перед дверями подвального кабачка и не обтер потного лба своим красным платком.
— Здорово, Ханс Маттисен! — гаркнул он, спускаясь в полутемный подвальчик. — Узнаешь старого приятеля?
С радости, что наконец добрался, куда нужно, Ларс загремел еще оглушительнее, его голосу тесно было под этим низеньким потолком.
— Полегче, полегче! — послышался веселый голос из-за стойки. — Дай-ка сперва зажечь свет.
Когда вспыхнул газовый рожок, выяснилось, что хозяин кабачка и Ларс Петер вовсе и не знакомы друг с другом. Ханс Маттисен еще несколько лет тому назад уехал отсюда.
— Но ты не огорчайся, — сказал новый хозяин. — Присаживайся!
Ларса Петера усадили, угостили густой похлебкой из требушины, подали к ней графинчик водки, и гость остался вполне доволен, сидел и благодушествовал.
Хозяин оказался шустрым и славным малым. Ларс Петер разговорился с ним по-приятельски и сам опомниться не успел, как рассказал ему всю подноготную. Да ведь для того он и приехал сюда, чтобы поискать советчика, и набрел-таки на подходящего человека.
— Только-то и всего? — сказал хозяин. — Такой пустяк мы живо уладим. Стоит только послать за Капельмейстером.
— Это что за птица? — спросил Ларс Петер.
— Капельмейстер? Башковитее его не сыщешь человека на свете. Нет такого дела, которое бы он не обмозговал. Но он страшный чудак, понимаешь? К примеру сказать, терпеть не может собак. На него как-то раз набросились полицейские собаки, приняли его просто за мазурика. Так вот он этого забыть не может. И если зайдет у вас разговор о собаках, ты только скажи, что собаки самые подлые твари… чуть ли не хуже самих полицейских. Этих он тоже не переваривает. Катрина! — крикнул хозяин в кухню. — Сбегай-ка поживее к Капельмейстеру!.. А ты наливай ему почаще из графинчика. Надо, чтобы он отмяк, прежде чем просить его.
— За этим дело не станет, — с важностью сказал Ларс Петер и выложил на стол десятикроновую бумажку. Хозяин сунул ее себе в карман и одобрительно заметил:
— Правильно поступаешь, приятель! Так оно будет лучше всего. Я уж позабочусь о напитках — без лишнего шума. Ты, как видно, человек толковый. Надеюсь, бумажник у тебя в порядке?
— Сотенка без малого найдется, — ответил Ларс Петер, побаиваясь, что этого, пожалуй, покажется мало.
— Ты свидишься с женой! — с жаром воскликнул хозяин и протянул руку Ларсу Петеру. — Увидишься! Это так же верно, как то, что я твой приятель! Пожалуй, сегодня же ночью уснешь в ее объятиях. Что скажешь, старина? — Он дружески положил руку на плечо Ларса Петера и принялся его трясти.
Ларс Петер растроганно посмеивался, готовый прослезиться. Он немножко разомлел от тепла и от водки.
В подвальчик спустился высокий худой господин в рединготе, но без жилета и без воротничка. Может быть, его слишком поторопили? Очки надеть он все-таки успел и вообще похож был на человека, знающего свое дело, напоминая своим почтенным видом не то глашатая, не то фокусника с ярмарки. И голос у него был такой высокий, надтреснутый, и кадык выпирал.
Хозяин встретил его чрезвычайно почтительно.
— Вот, господин Капельмейстер, — сказал он с поклоном, — этому человеку нужна рука помощи. У него беда стряслась, жену посадили.
Капельмейстер с некоторым пренебрежением окинул взглядом громоздкую фигуру бедно одетого Живодера. Но хозяин прищурился и вдруг словно спохватился:
— Ах да, чуть не забыл записать счет с пивоваренного завода. — И он, зайдя за стойку, вывел мелом на стенной доске: «100 кружек».
Капельмейстер присел к столу Ларса Петера и стал его расспрашивать весьма обстоятельно. Потом принял самую глубокомысленную позу.
— Это Альма уладит, — сказал он наконец, обращаясь к хозяину. — Она ведь играет с Принцессой.
— Да, да! — восторженно откликнулся тот. — Разумеется, Альма все устроит. Сегодня же вечером?.. — Он в упор поглядел на Капельмейстера.
— Ну, это уж мое дело, милейший, мое дело, — обидчиво отозвался последний.
Ларс Петер напряженно прислушивался к разговору двух приятелей. Они были оба такие занятные, да и дело предстояло такое серьезное. Но все-таки его разморило тут в тепле после долгого пребывания на свежем воздухе.
— Стало быть, вы хотите побывать у короля, добрейший? — спросил Капельмейстер, беря Ларса Петера за рукав.
Тот подтянулся:
— Очень бы хотелось испробовать этот путь, да!
— Так вот, послушайте. Я могу познакомить вас с моей племянницей. Она играет с Принцессой. Дело в том, видите ли… но это должно остаться между нами! Принцесса не прочь иногда кутнуть. Попросту говоря, ей до смерти скучно, вот она и развлекается — инкогнито для нас, непосвященных, понимаете? И тогда моя племянница уж безотлучно при ней. Вы, значит, познакомитесь с племянницей, остальное — ваше дело.
— Правда, одежда на мне не для важной компании, — сказал Ларс Петер, оглядев свое одеяние. — И обхождения настоящего у меня нет, а ухаживать я и вовсе разучился. Ведь когда же все это было? В самой ранней молодости!
— Об этом вы не беспокойтесь, — сказал Капельмейстер. — У высокопоставленных особ вкусы часто бывают необъяснимые. И, наоборот, пожалуй, даже странно было бы, черт побери, если бы Принцесса попросту не влюбилась в вас без ума! А раз вы ей понравитесь, можете голову прозакладывать, что наше дело в верных руках.
Хозяин усердно ставил на стол бутылки, и Ларсу Петеру все представлялось в еще более розовом свете. Высокие связи Капельмейстера и его умение находить окольные пути вскружили голову Живодеру. Вот в какую невероятно блестящую компанию он попал! И когда появилась фрекен Альма, девица с пышной грудью, с кудряшками на лбу, он широко осклабился.
— Экая красоточка! — сказал он. Его бросило в жар, он совсем разошелся. — Вот такой первый сорт, бывало, и нам подавай в молодости!
Фрекен Альма сразу же хотела усесться к нему на колени, но он отстранил ее и сказал серьезно:
— Когда человек женат, нечего и думать…
Нет, нет, Сэрине не придется упрекнуть его ни в чем!
И довольно было одного взгляда Капельмейстера, чтобы Альма опомнилась.
— Вот погодите, придет Принцесса, — тогда увидите настоящую красавицу, — сказал Капельмейстер Ларсу Петеру.
— Да не придет она! Она сегодня на балу! — с досадой сказала Альма.
— Так пойдемте во дворец и разыщем ее! — Капельмейстер взял свою шляпу, и все отправились за ним.
На улице к Капельмейстеру подлетела девочка-подросток и что-то прошептала ему.
— К сожалению, я должен вернуться, — сказал Капельмейстер. — Моя теща при смерти. А вы ступайте и повеселитесь хорошенько, дети мои.
— Проваливай! — крикнула вслед ему фрекен Альма и взяла Живодера под руку: — Идем веселиться!
— Один ряд пуговиц, Альма! — крикнул в свою очередь Капельмейстер, когда они уже отошли от него немного. Голос его прозвучал совсем как зазывание ярмарочного глашатая.
— Заткни пасть! — откликнулась фрекен Альма и весело захохотала.
— Что такое он сказал? — удивленно спросил Ларс Петер.
— Пустое! Не обращай внимания! — ответила она и потащила его за собою.
На следующее утро Ларс Петер по обыкновению проснулся рано. На небе словно зарево стояло, и он кубарем скатился с постели. Не сеновал ли горит?! Но вдруг сообразил, что ведь он не дома. Видневшееся из окна зарево было отсветом ночных огней столицы, боровшихся с утренней зарей.
Ларс Петер находился в грязной комнатушке, где-то очень-очень высоко, если судить по крышам внизу. Да как же это он попал сюда?!
Он присел на край постели и стал одеваться. Медленно прояснялось его сознание, всплывало в памяти то одно, то другое. В висках стучало, словно в голове работали поршни паровой машины… Так бывает после попойки! И рядом где-то странный шум. Он стал прислушиваться: трескотня женских голосов, хриплый раскатистый хохот, перебранка… А с улицы несся гул большого города. Затем он припомнил, что был какой-то шум, гам, в табачном дыму мелькнули светлая челка и ярко-красные губы, вызывавшие во рту вкус вареного мозга из говяжьей кости — Принцесса! Но как он попал сюда, как очутился в этой жесткой постели с рваным ватным одеялом?
Он взял свою жилетку, чтобы достать часы и взглянуть, который час. Боковой жилетный карман был пуст. Часы, старинные серебряные часы его исчезли! В испуге схватился он за нагрудный карман… Бумажник был на месте, слава богу. Но куда же к черту девались часы? На пол выпали? Он торопливо стал натягивать штаны, чтобы потом пошарить по полу… Большой кожаный кошель в кармане штанов показался ему подозрительно легким… Он был пуст! Еще раз схватился Ларс Петер за бумажник — тоже пуст!
Кое-как одевшись, Ларс Петер опрометью сбежал с лестницы, пуще всего боясь, чтобы кто-нибудь не увидел его. Шмыгнув в один из боковых переулков, он почти бегом добрался до постоялого двора, запряг Большого Кляуса и выехал оттуда. На него напала такая безумная тоска по детям, по дому… даже по корове и поросенку!
Только выехав из города, ощутив свежее дуновение утреннего ветра, вспомнил Ларс Петер о Сэрине. И тогда лишь осознал всю глубину своего несчастья. Он разразился слезами, рыдал долго и беспомощно, весь сотрясаясь от этих рыданий, поднимавшихся откуда-то из самой глубины сердца.
По дороге он сделал остановку на лесной опушке и простоял ровно столько, чтобы успеть покормить Большого Кляуса. Самому есть ему не хотелось. Затем он продолжал путь, весь съежившись, упав духом. В голове все еще шумело от вчерашнего кутежа. На одном перекрестке выбежала к нему женщина с криком: «Ларс Петер! Ларс Петер!..»
Ларс Петер вздрогнул, пришел в себя, молча достал из жилетного кармашка ригсорт, протянул женщине и подхлестнул конягу.
Подъезжая к дому, он еще издали увидел бегущую ему навстречу детвору. Дитте не могла удержать их — они озябли и начали хныкать. Ларс Петер посадил всех на телегу, и они принялись ластиться к нему, болтая без умолку. Он не отвечал. Дитте молча наблюдала за ним сбоку.
За ужином она спросила:
— А где же покупки?
Он в замешательстве посмотрел на нее и начал бормотать что-то нескладное, пытался объяснить, но запутался.
— А как мама поживает? Хорошо? — Дитте так жалко стало отца, что она умышленно сказала «мама», желая его утешить, порадовать.
С минуту он сидел неподвижно, только лицо у него как-то странно дергалось. Потом он уронил голову на руки.
IV Мамочка Дитте
Первые дни Ларс Петер не заговаривал ни о чем, касающемся поездки в столицу, но Дитте была уже достаточно взрослой и сообразительной, чтобы догадаться о неутешительных результатах его путешествия. Сэрине он по тем или иным причинам, значит, не повидал и денег домой никаких не привез. Стало быть, спустил их — попросту пропил, вероятно.
«Теперь и он, пожалуй, запьет, как Йохансен и прочие наши соседи, — с тоскливой покорностью думала она. — Тоже будет являться домой пьяный, скандалить из-за того, что в доме нет еды, и бить нас!»
Она была готова к самому худшему и зорко приглядывалась к отцу. Но Ларс Петер возвращался домой трезвым! Стал приезжать домой даже раньше, чем бывало, — в отлучке он тосковал по детям, по дому. И стал по-прежнему сообщать, сколько заработал, сколько и на что истратил. У него вошло в привычку выгребать своей огромной пятерней из кармана штанов все дочиста и вытряхивать на стол, чтобы сообща подсчитать выручку и расходы и отложить на будущее. Но теперь он стал с удовольствием выпивать дома за едой. Сэрине его этим не баловала никогда, находя, что это ни к чему и что «деньги пригодятся на что-нибудь другое». Дитте же охотно угощала отца и заботилась, чтобы у него всегда была водка за едой. Мужчина ведь!
Ларс Петер очень стыдился своей поездки в столицу. Больше всего ему было обидно, что его так провели. Да и досадно, что почти ничего не осталось у него в памяти из того, что произошло в ту ночь! Где он провел ее? С кем? С какого-то часа вечера и вплоть до утра, когда проснулся в грязной комнатушке, он словно блуждал в тумане снов — хороших или дурных, в этом трудно было разобраться. Ему стыдно было вспоминать их, но где-то внутри у него осталось чувство тайного удовлетворения, что вот же и он разок кутнул по-настоящему, хлебнул жизни. Но как далеко он зашел в конце концов? Ларс Петер мучился над этим вопросом, трясясь на своей телеге от хутора к хутору, рылся в памяти, откапывая некоторые подробности пережитого, заглушая другие, стремясь вспомнить самое лучшее. Но все без толку.
Долго скрывать что-нибудь про себя, таиться от домашних было, однако, не в его натуре. И у него срывалось с губ то одно, то другое признание, так что Дитте, наконец, получила довольно ясное представление обо всей истории и могла обсуждать ее с отцом по вечерам, когда ребятишки уже спали.
— Так ты не думаешь, что это была настоящая принцесса? — всякий раз возвращалась Дитте к этому вопросу. Тут ведь пахло сказочной тайной!..
— Бог ее знает, — отвечал в раздумье Ларс Петер. Сам он все меньше и меньше понимал, как это он позволил так одурачить себя? Ведь сумел же он дать отпор маклаку-тряпичнику! — Да бог ее знает! — повторял он.
— А Капельмейстер? — не сдавалась Дитте. — Ведь он же был совсем необыкновенный человек, раз мог сделать все!
— Н-да, Капельмейстер… Он был настоящий волшебник! Взять хоть бы то, как исчезал коньяк: ни за что не уследить было — когда он вливал его себе в глотку! Обхватит стаканчик на столе левой рукой, а правою ударит ее по локтю, и стаканчик пуст!
Эта история разожгла любопытство Дитте до крайности. И стоило ей затронуть в разговоре ту или иную подробность, тягостную для отца, как эта подробность представала в новом, особом свете. Сам Ларс Петер был искренне благодарен девочке, протягивавшей ему руку помощи, когда он пытался разобраться в пережитом. Благодаря ей всплывали многие отдельные загадочные обстоятельства — смягчающие, оправдывающие его. Мало-помалу, незаметно для него самого, вся картина преобразилась.
Разумеется, он свел знакомство с замечательными людьми. И принцесса… видно, была настоящая, как ни диковинно, что ему, бедняку, удалось попасть в такую компанию. Но, черт подери, как эта бабенка пила портвейн и курила! Да, она была настоящая, иначе бы он так не влюбился в нее, рассуждал Ларс Петер.
— Стало быть, ты ночевал у настоящей принцессы? Как богатыри в сказках! — восторгалась Дитте, хлопая в ладоши. — Подумай, отец! — Она глядела на него сияющими глазами.
Ларс Петер смущенно молчал, щурясь на огонь лампы. В таком свете — в сказочном ореоле, создаваемом невинной детской фантазией, эта часть приключения ему не представлялась. Чем-то нехорошим отзывалось это… да, прямо-таки изменой Сэрине.
— Еще простит ли мне это мать, — заключил он.
— Ну, вот еще! Уж хорошо, что ты не порезался! — воскликнула Дитте.
Ларс Петер поднял голову и с недоумением воззрился на девочку.
— Да как же? Ведь между вами должен был лежать обнаженный меч! Так всегда полагается. Принцессы ведь такие нежные, до них нельзя и дотронуться.
— Вот оно что?.. Да, да, ну, конечно!
Ларс Петер ее сразу сообразил, но объяснение пришлось ему по душе, и он его усвоил. На этом можно было успокоиться.
— Да, страшная штука водиться с принцессами, хоть сам-то и не видишь опасности, — закончил он разговор.
Ларс Петер оставил мысль о свидании с Сэрине, пока она в тюрьме. Конечно, хорошо было бы навестить ее, пожать ей руку — хоть и сквозь решетку. Но делать нечего. Надо запастись терпением и дожидаться, пока пройдет срок, установленный властями.
Для него все наказание сводилось к тому, что они были разлучены и не могли в течение всех этих лет жить общей жизнью. Представить себе положение Сэрине в тюрьме у него не хватало воображения, поэтому ему трудно было подолгу задерживаться на мысли о жене. Но бессознательно он тосковал по ней, часто до боли в сердце.
Ларс Петер работал уж не с прежним рвением, у него не было к этому побудительной силы. Вообще он слишком легко мирился с обстоятельствами, и уже некому было подстрекать его, пилить за то, что они живут беднее других. Дитте была слишком добродушна и скорее готова была сама взвалить на себя все заботы.
И как-то тише стал он и еще больше ссутулился. Меньше возился и шутил с ребятишками, реже рокотал его бас. Без прежнего веселого мурлыканья подъезжал он теперь к воротам чужих дворов, без прибауток вел куплю и продажу. Он чувствовал, что люди сплетничают о нем и его делах, и это портило ему настроение. Результаты этого не замедлили сказаться. Хозяйки и работницы, которых он больше не веселил и не смешил, перестали отыскивать и припасать для него всякий хлам. Перестали и зазывать его к себе для поручений — все-таки муж убийцы! Дела у него становилось все меньше и меньше, но он был доволен этим, — мог больше времени проводить дома, с детьми.
Соответственно падали и его доходы. Но благодаря Дитте они все-таки перебивались понемножку. Она, хоть и ребенок еще, была мастерица изворачиваться, сводить концы с концами, и настоящей нужды семья не терпела.
Теперь у Ларса Петера было достаточно досуга, чтобы строиться, да и материал — бревна, кирпичи валялись на дворе постоянным укором.
— Что же ты, скоро примешься строить? — спросила однажды Дитте. — Люди говорят, материал портится.
— Ты где это слышала? — с горечью отозвался он.
— В школе.
Стало быть, и об этом говорили. Чуть не обо всем, что касалось его, судили и рядили на все лады. Нет у него никакой охоты строиться!
— Крыша над головой у нас ведь есть, — равнодушно сказал он, — а кому наша хижина не по нраву, пусть даст нам другую.
Так бревна и кирпичи и продолжали валяться и портиться, но ему как будто и дела не было до того, что они все больше и больше покрываются плесенью.
И для чего ему строиться? Сорочье Гнездо и останется сорочьим гнездом, сколько его ни обстраивай. Сэрине не прибавила ему доброй славы. Она все старалась подняться с семьей повыше и только столкнула ее на самую низкую ступень. Прежде над их домом висело только несчастье, заставляя добрых людей сторониться, теперь на него легло клеймо преступления. Никому не пришло бы в голову зайти к Живодеру в сумерки, да и днем от него старались держаться подальше. Детей, как отродья убийцы, тоже избегали, вся семья была на плохом счету.
При этом, в объяснение своей брезгливости и в оправдание своего поведения, пытались еще приписывать Живодеру с семьей разные пороки. Одно время прошел слух, будто обитатели Сорочьего Гнезда — воришки. Но эта клевета сама собой рассеялась. Тогда выдумали, будто в доме «нечисто», — старуха приходит с того света искать свои деньги, и ее будто видели то одни, то другие ночью близ Сорочьего Гнезда.
Прежде всего страдали от злых языков дети. Другие ребятишки-школьники безжалостно бросали им все это в лицо. Дети приходили домой заплаканные, и тогда до Ларса Петера, в свою очередь, доходили сплетни. К нему самому никто не осмеливался подступиться даже с намеками. Пусть бы попробовали! У Живодера так и чесались руки проучить этих зловредных сплетников, которые не желали оставить в покое его семью. И он не прочь был поймать хоть одного из этих негодяев на месте. Он преспокойно разбил бы ему голову, а там — будь что будет!
Кристиан тоже ходил уже в школу, в самый младший класс. Занятия бывали через день, и его смена не совпадала со сменой Дитте, которая училась в старшем классе. Мальчугану нелегко было одному отбиваться от всех, и его по утрам с трудом удавалось отправить в школу.
— Они дразнят меня «сорочьим отродьем»! — плакал он.
— А ты тоже надавай им прозвищ! — советовала Дитте и выпроваживала его.
Но однажды учитель прислал записку, что мальчик слишком часто пропускает занятия. Потом прислал вторично. Дитте понять не могла, в чем дело. Как следует взялась она за братишку и выпытала у него, что он постоянно пропускает уроки: пойдет как будто в школу, а сам бродит где-нибудь весь день в домой возвращается, только когда уроки кончатся. Дитте ничего не сказала об этом отцу, чтобы не огорчать его.
Под гнетом отчуждения от других людей обитатели Сорочьего Гнезда теснее привязывались друг к другу. В них появилось что-то напоминавшее затравленных животных. Теперь Ларс Петер твердо решил давать отпор людям — всегда готов был огрызнуться и без дальнейших разговоров пустить в ход кулаки. Вся семья стала недоверчивой, подозрительной. Стоило ребятишкам, игравшим около дома, завидеть на дороге людей, которые должны были проехать мимо Сорочьего Гнезда, они со всех ног кидались в дом и поглядывали на проезжих только сквозь треснувшие стекла окон. А Дитте, как волчица своих детенышей, оберегала братишек и сестренку от всякой обиды со стороны других детей. Она и огрызалась и дралась, защищая их, и отругивалась в случае нужды, не стесняясь. Как-то раз Ларс Петер проезжал мимо школы, и учитель, остановив его, пожаловался на девочку — очень уж груба, ругается ужасными словами. Отец стал в тупик. Как же это так? Дома она держала себя всегда так хорошо и строго следила за тем, чтобы младшие дети вели себя прилично. Он заговорил об этом с Дитте, вернувшись домой, но она с окаменевшим лицом заявила, что «не намерена спускать обид никому и ни за что».
— Так посиди дома; посмотрим, что из этого выйдет.
— А выйдет то, что на нас наложат штраф за каждый пропущенный день. И, наконец, придут и силой отправят меня в школу, — с горечью сказала Дитте.
— Ну, отправить тебя силой не так-то просто. Тут кое-кто за тебя вступится. — Ларс Петер зловеще потряс головой.
Но Дитте ни за что не соглашалась на это, — она сама сумеет постоять за себя.
— Я имею такое же право быть в школе, как и все прочие, — задорно сказала она.
— Ну да, право ты имеешь, конечно. Но обидно, что вам приходится столько терпеть от людской злобы.
Ларс Петер почти совсем перестал разъезжать и занялся обработкой своего клочка земли, — так он был ближе к дому и к детишкам, он уже не мог быть спокоен за семью. Люди ополчились против них, вредили им. Когда он отлучался из дому, он не знал ни минуты покоя. Ему все чудилось, что дома вот-вот стрясется беда. Дети только радовались перемене.
— Ты и завтра дома, отец? — спрашивали двое меньших каждый вечер, не сводя с него глаз и обнимая его могучие колени. Ларс Петер утвердительно кивал.
— Нам нужно теснее сбиться в кучу в нашем Сорочьем Гнезде, — оправдывался он перед Дитте. — Мы не в силах стряхнуть с себя кличку Живодеров. И от… другой нам тоже не избавиться. Но никому не удастся помешать нам дружно жить.
Что ж, Дитте не возражала против того, чтобы он оставался дома. Лишь бы им мало-мальски хватало на пропитание, и — бог с ним, с этим шатаньем по дорогам.
Да, им необходимо было теснее сбиться в кучу и стараться как можно больше заботиться друг о друге, — иначе жизнь стала бы для них слишком тяжелой. По воскресеньям Ларс Петер запрягал Большого Кляуса, и они ехали кататься — до Фредериксвэрка или на ту сторону озера Арре. Хорошо все-таки было иметь возможность кататься на собственной лошади, в собственной телеге, — одно это уже поддерживало дух, позволяло им не считать себя беднее всех, ниже всех.
Прежние знакомые отвернулись от семьи Живодера. Но благодаря Большому Кляусу она приобрела себе новых, свела дружбу с семьей поденщика Йохансена, нанимавшего хижину на Болоте, — с ними тоже никто не хотел знаться. У Йохансена было десять ребятишек, и, хотя на поденщину ходила и жена, они не могли прокормиться без помощи общины. Ларс Петер частенько помогал им, давая своего коня; но настоящего знакомства у них не завязывалось, пока в Сорочьем Гнезде сидела хозяйкою Сэрине. Теперь же это вышло как-то само собой. Рыбак рыбака видит издалека — как гласит народная пословица.
Детям это знакомство дало товарищей по играм и по несчастью. И для них было настоящим праздником ходить в воскресенье после обеда в гости на Болото, а тем более приглашать семью Йохансенов к себе. Обитателям Сорочьего Гнезда возможность принимать людей у себя и угощать по мере своего достатка давала какое-то особое удовлетворение, как-то возвышала их в собственных глазах. Дитте еще за два-три дня до праздника заботливо снимала с молока сливки к кофе и готовила угощение. В воскресенье она с утра выкладывала приготовленное на блюдо, чтобы поменьше суетиться после обеда, когда придут гости.
Гости пили кофе с ситным хлебом и домашней сладкой булкой. Потом дети играли в пятнашки, в разбойники. Ларс Петер позволял им бегать где угодно, и они шумной ватагой носились по всему Сорочьему Гнезду, распахивая все двери и все люки. Взрослые тем временем ходили в поле, осматривали хозяйство. Дитте тоже была с ними, держась около жены Йохансена и тоже, как и та, прятала руки под передником.
В шесть часов ужинали, запивая закуску водочкой и пивом, беседовали еще немножко и расходились. И у гостей и у хозяев были еще разные дела вечером, и приходилось рано ложиться спать, чтобы пораньше встать.
Йохансены жили еще беднее обитателей Сорочьего Гнезда, в гости приходили в начищенных деревянных башмаках и в синих рабочих платьях, только что выстиранных. Питались они всю зиму только селедкой да картошкой, и Дитте всегда радовалась возможности угостить их хорошенько — хлебом с салом, с копченой и с жареной колбасой и таким крепким домашним пивом, что оно вышибало пробки из бутылок.
V Бродяжка
Ларс Петер поил из колоды своего коня. И тот напился так, что бока у него раздулись. Они только что вернулись из поездки, из настоящей поездки, оба усталые и довольные.
Случалось, что Живодера разбирала такая тоска, что он запрягал Большого Кляуса и отправлялся в путь. И бывало, что дорога помогала ему забыть все заботы и горести, она манила его все дальше и дальше, так что ему иногда приходилось заночевать где-нибудь и вернуться домой лишь на другой день. Большой выручки он из такой поездки не привозил, но кое-что все-таки она давала и, главное, унимала его тревогу на долгое время.
Так было и на этот раз, и Ларс Петер стоял у колоды, погруженный в мысли о том, как хорошо все-таки снова очутиться дома и найти все в полном порядке. Надо теперь положить конец этим припадкам бродяжничества, — хозяйство требует, чтобы человек отдавал ему себя всего, без остатка.
Поуль и Эльза, сразу завладев отцом, шмыгали между его широко расставленными ногами, которые в их глазах были массивными столбами, описывали восьмерки, обходя один столб и обвивая руками другой, и распевали. Иногда они продолжали свои упражнения и между передними ногами Большого Кляуса, который тогда осторожно переступал с копыта на копыто, будто опасаясь придавить детишек. «Динь-динь-дон! Колокольный звон!» — пели малыши, радуясь, что могут во весь свой рост проходить меж ногами у Ларса Петера.
Дитте вышла из кухонной двери с корзинкой на руке.
— Опять задумался, отец! — окликнула она его, смеясь. — Берегись, не наступи на ребят!
Ларс Петер встрепенулся и пригладил взъерошенные вихры детей.
— Ты это куда собралась?
— В лавочку кое-что купить.
— Пусть бы Кристиан сбегал. У тебя и без того дел много.
— Он еще из школы не вернулся. Может быть, встретится мне по дороге.
— Как, не пришел еще? Ведь скоро ужин! — И Ларс Петер оторопело глядел на Дитте. — Или опять бродит по дорогам?
Дитте решительно тряхнула головой.
— Нет, я думаю, его оставили отсидеть после уроков.
Но я, наверно, встречу его. И очень кстати. Он поможет мне донести покупки! — И она весело прибавила: — Он такой сильный!
Но не так-то легко было заговорить Ларсу Петеру зубы. А он-то только сейчас благодарил судьбу за то, что, вернувшись домой, нашел все в полном порядке, и обещал себе самому положить конец этой своей тяге к бродяжничеству, — и вдруг! Мальчишка бродяжит, в этом нет сомнения. По глазам девчонки можно было это понять. Вот, значит, какого наследства могли ожидать от него дети, которых он так любит! Они унаследуют его пороки! Он ради детей собирался побороть свою беспокойную натуру, но она уже дает себя знать в них. Словно нож повернули у него в открытой ране, ударили в самое сердце!..
Ларс Петер отвел коня в стойло, не снимая узды, и дал ему овса. Если парнишка скоро не вернется, придется выехать, поискать его — Ларсу Петеру уже случалось колесить со своим конягой в таких поисках целую ночь. А Дитте однажды с ног сбилась, разыскивая мальчишку; тот в это время преспокойно разъезжал в телеге вместе с отцом, которого подкараулил на дороге и уверил, что сегодня у них в школе занятий не было. Ларс Петер и взял его с собой в поездку. Вот какой продувной мальчишка! Настоящий бродяга!
Дитте, добежав до зарослей ивняка, спрятала там свою корзинку, чтобы не таскаться с нею. Про покупки она упомянула нарочно, чтобы отец ничего не заподозрил, она собралась искать Кристиана. Неподалеку, у проезжей дороги, стоял дом, где жили знакомые Дитте школьники. Она зашла туда и узнала, что Кристиан в школе сегодня не был. Она так и предчувствовала, — очень уж трудно было сегодня утром выпроводить его в школу! Пожалуй, лежит теперь где-нибудь в поле под терновым кустом, голодный, измученный. Это похоже на него — лежать до тех пор, пока или не умрет от голода, или его не найдут.
Дитте бегала по полям наугад туда и сюда, всюду расспрашивая, не видал ли кто ее братишку.
— Это мальчишку из Сорочьего Гнезда? — восклицали люди. — Да, у него такая уж беспокойная кровь!
Дитте бежала дальше, сколько хватало сил. Ноги подкашивались, она падала, но вскакивала и снова мчалась дальше. Нечего было и думать вернуться домой без мальчишки. Отец так огорчится!.. Да и мальчугана жалко. Ее детское сердце сжималось от опасения, что ему придется провести ночь под открытым небом.
От одного проезжего Дитте узнала, что какой-то мальчишка лет семи-восьми шатался внизу у Болота. Она кинулась туда и увидала Кристиана около хижины одного из поселенцев. Он ревел благим матом. Хозяин хижины держал его за шиворот, а кругом собрались люди.
— Ты, видно, ищешь преступника? Вот он, пойман, — самодовольно проговорил поселенец. — Ребятишки говорят, что он отлынивает от школы. Ну, думаю себе, лучше сцапать молодчика, чтобы совсем не заблудился или не наделал беды людям.
— Да он же смирный мальчик, хороший, — обиженно сказала Дитте. — И никому зла не сделает.
Она отвела руку хозяина и по-матерински прижала к себе мальчугана.
— Ну, перестань же реветь, — сказала она, обтирая брату мокрое лицо своим передником. — Никто тебе ничего не сделает.
Поселенец смущенно усмехнулся и громко заговорил:
— Зло злу рознь! А кто же, как не бродяги, учиняют тут поджоги, нападают на беззащитных женщин? А начинают-то все, небось, такими же вот!
Но Дитте с Кристианом были уже далеко. Она вела его за руку и отчитывала:
— Вот сам теперь слышишь, что люди говорят! И ты хочешь стать таким бродягой? Ты об отце-то подумал? Как ты его огорчаешь! По-твоему, у него мало горя и без того?
— А мать-то… могла бы и не делать такого!.. — сказал Кристиан и опять заплакал.
Он был совсем измучен, и, как только они пришли домой, Дитте заботливо уложила его в постель, напоила горячим чаем из бузины и обвязала ему горло отцовским шерстяным носком с левой ноги, как полагалось.
Вечером она обсудила с отцом происшествие. Мальчик бредил, у него был жар.
— Это все негодные ребятишки виноваты, — возмущалась Дитте. — Будь я там, я бы уж не дала его в обиду.
— Да зачем мальчишка принимает их болтовню так близко к сердцу? — пробурчал Ларс Петер. — И тебе ведь приходится терпеть то же самое.
— Ну, я девочка, мальчики куда обидчивей! Я просто отругиваюсь, а Кристиан, если рассердится по-настоящему, так и слова выговорить не может. А те орут, хохочут над ним хором, пока он не схватится за свой деревянный башмак и не кинется их колотить.
Ларс Петер молча слушал.
— Лучше бы нам перебраться отсюда, — проговорил он наконец.
Кристиан быстро свесил с постели ноги и крикнул:
— Да, да! Далеко-далеко!
Слова отца насчет переезда он все-таки, значит, расслышал.
— Уедем в Америку! — успокоила его Дитте и бережно уложила опять. — Закутайся хорошенько и спи, чтобы выздороветь к отъезду.
Мальчик поглядел на нее широко открытыми простодушными глазами и послушался.
— Просто стыд и срам! Мальчонка-то ведь вовсе не плохой, — зашептал Ларс Петер. — И способный. Как он здорово соображает своим умишком, вникает во всякое устройство. Лучше другого взрослого умеет управляться и с телегой и с лошадью. Только бы не унаследовал от меня бродяжьего зуда!
— Ну, это пройдет! — сказала Дитте. — Ведь и я тоже убегала когда-то.
Через день Кристиан был уже на ногах и бегал, распевая, по двору. В школу сообщили, что он заболел, поэтому мальчик мог побыть дома день-другой. Он весь сиял от радости. Отец как-то привез среди прочего хлама ход от детской коляски; Кристиан завладел им и решил смастерить тележку для малышей. Сестренка и братишка с интересом следили за его работой. Поуль без умолку болтал и пытался помогать, то и дело совал всюду свои ручонки и все портил. А сестренка Эльза все время стояла в стороне и молча глядела большими задумчивыми глазами.
— Все-то она задумывается, крошка, — говорила про нее Дитте. — О чем, бог весть!
Самой Дитте мечтать некогда было, она с утра до вечера должна была приглядывать за хозяйством. Жизнь уже взвалила ей на плечи суровый долг взрослого, и она выработала в себе какую-то особую силу и устойчивость, необходимые для борьбы с обстоятельствами. В чужих глазах она была настоящей хозяйкой, но жалевшей своих сил, да и детей она могла отшлепать, когда это необходимо. Но, несмотря на свою внешнюю строгость, Дитте обладала нежной детской душой, полной глубоких и сильных переживаний, которых она не поверяла другим.
Труднее всего для Дитте было освоиться с тем, что бабушка умерла, что никогда-никогда уже не придется ей навестить старушку. Жизнь с бабушкой была ее настоящим детством и вставала перед нею такая яркая, такая незабываемая, каким остается для взрослого его былое детское счастье. Днем она сознавала, что бабушка умерла, зарыта в землю и никогда уже не вернется. Но по вечерам, в темной комнате, когда Дитте ложилась в постель истомленная, изнемогшая от дневных трудов, ей страстно хотелось почувствовать себя опять маленькой; и она как-то так устраивалась под периной, что могла воображать, будто приютилась в кровати, за спиной у бабушки. В полусне ей чудилось ласковое прикосновение бабушкиной руки, и она снова чувствовала себя ребенком. От усталости у нее ломило все тело, но милая рука снимала с нее эту усталость, — бабушка недаром была знахаркой, умела выгонять из тела всякую боль и расправлять скрюченные спины людям. Но нередко такие сновидения кончались кошмаром — мрачной сценой борьбы бабушки с Сэрине. И Дитте просыпалась от голоса Ларса Петера, стоявшего в потемках около кровати и ласково успокаивавшего девочку. Оказывалось, что она кричала во сне! Отец не отходил от нее, пока она снова не засыпала, прижимая его лапищу к своему сердцу, которое билось в груди, словно перепуганная насмерть птичка.
В школе Дитте не участвовала в общих играх, держалась особняком. Другие дети и не нуждались в ее обществе — играть с ней невесело было. Она была жесткой, как недозрелый плод, которому выпало на долю больше суровых, ненастных дней, чем солнечных. Детские песни, шутки и прибаутки во время игры звучали в ее устах грубовато, и руки у нее были загрубелые.
Учитель видел это и однажды, когда Ларс Петер как-то проезжал мимо школы, остановил его, чтобы поговорить о Дитте.
— Ей нужно бы пожить в другом месте, где бы она могла найти себе новых подруг. Кроме того, для своих лет она, пожалуй, слишком загружена домашней работой. Нельзя ли вам отправить ее куда-нибудь?
Ларса Петера как обухом по голове хватило. Он с большим вниманием выслушал слова учителя, — еще бы, человек знающий, экзамен сдавал! Но как же им обойтись без проворной маленькой хозяюшки? Надо как-нибудь постараться уехать отсюда всем вместе! Тут одни неприятности да обиды.
Да, уважения к себе тут не жди. И приятелей, пожалуй, не сыщешь! Ему самому недоставало собеседников, и он все чаще стал вспоминать о своей родне, с которой не видался и о которой не слыхал ничего много лет. Он стосковался и по родным местам, откуда давным-давно уехал, чтобы отделаться от прозвища «Живодер». И Ларс Петер понемногу начал свыкаться с мыслью продать весь свой скарб и вернуться на родину. От суда людского, видно, никуда не уйдешь. Нерадостно стало им жить тут, а с радостью ушла и всякая возможность успешно вести хозяйство, обеспечить средства к жизни. «Скоро ни в чем не будет нам удачи, — думал он. — Только и радости, что дети. Но их мы ведь заберем с собой!»
Намерение уехать отсюда никак не могло скрасить их жизнь. Все приобретало характер чего-то временного. Браться за что-нибудь по-настоящему не стоило, пока они не окажутся на новом месте — все равно где.
Ларс Петер часто обсуждал этот вопрос с Дитте, и та не возражала. Куда переехать? Не все ли равно! Ей нечего было терять, всякая перемена сулила что-то новое, а с новым соединялась надежда на лучшее. Втайне Дитте всегда ждала принца, о котором пела за прялкой бабушка, — хотя и хорошо знала, что принцы женятся только на принцессах. Но мало ли что еще могло принести будущее! Дитте не была требовательна. Но, несмотря на свой ограниченный жизненный опыт, она все же склонна была верить в лучшее будущее. «Но если уж переезжать, то в такое место, где живут настоящие люди, — рассуждала она и прибавляла: — Хорошие люди!» — имея при этом в виду главным образом будущее своих младших братьев и сестренки.
Так она мало-помалу договорилась с отцом, что следует как можно скорее распродать все и уехать. Но тут произошло нечто, на время перевернувшее их взгляды на жизнь и заставившее забыть о своих планах.
VI Точильщик
Однажды после обеда ребятишки играли около дома на солнцепеке, а Дитте мыла посуду в кухне перед открытой дверью. Вдруг где-то неподалеку раздались удивительно мягкие и приятные звуки. Словно сами солнечные лучи заиграли! Дети подняли головы, вглядываясь в пространство. Дитте с тарелкой и полотенцем в руках остановилась в дверях.
На проезжей дороге, у самого поворота к Сорочьему Гнезду, стоял человек с каким-то большим и удивительным инструментом и призывно насвистывал не то на флейте, не то на кларнете, не сводя глаз с жилища Живодера. Не слыша никакого отклика на свои призывы, он тронулся сам к дому, толкая инструмент перед собою. Ребятишки бросились к дому. Человек, оставив снасть у колодца, подошел к кухонной двери, где на пороге стояла Дитте, загораживая вход.
— Не требуется ли что наточить, запаять, заклепать, починить? — спросил он, слегка приподняв фуражку. — Я точу ножи, ножницы, правлю бритвы и самого черта. Срезаю мозоли, колю поросят, умасливаю хозяек, целую девушек и никогда не отказываюсь от водочки и закуски!
Тут он скривил рот и закончил свою речь, пронзительно затянув: «точиить ножи, но-ожницы! Бри-итвы править!..»
Дитте, стоя в дверях, улыбалась, ребятишки прятались за ее юбку.
— У меня хлебный нож что-то плохо режет, — сказала она.
Точильщик подвез свой инструмент — целое сооружение! На обыкновенной тачке был водружен точильный станок с огромным маховым колесом и сверлом, да еще маленькая наковальня и ведро для воды. У детей любопытство пересилило страх перед чужим человеком, — так хотелось им поглядеть на диковинную машину.
Точильщик на все лады вертел и поворачивал хлебный нож, пробовал кончиками пальцев лезвие — очень ли затупилось, тряс черенок, уверяя, что он расшатался, клал его на наковальню, собираясь заклепать, и говорил, что этим ножом, верно, камни резали. Все это были одни выдумки. Ни черенок не расшатался, ни нож не затупился.
Настоящая обезьяна был этот точильщик — совсем еще молодой парень, худощавый и очень подвижной. Он не закрывал рта ни на минуту и шутил и балагурил без устали. И красив он был. Глаза черные, а волосы отливали на солнце цветом воронова крыла.
Ларс Петер, только что выспавшийся на сеновале, позевывая, показался в дверях сарая. Из взлохмаченной копны волос торчали соломинки и былинки клевера.
— Откуда ты взялся? — весело крикнул он точильщику, переходя через двор.
— Из самой Испании! — откликнулся точильщик, сверкнув в улыбке белыми зубами.
— Из самой Испании. Так, бывало, отвечал всегда мой отец, — в раздумье проговорил Ларс Петер. — Ты не из Одской округи, если можно спросить?
Молодой точильщик утвердительно кивнул.
— Так ты, пожалуй, знавал Анста Хансена?.. Огромного роста был, и девять сыновей у него… А прозвище — Живодер. — Последние слова Ларс Петер прибавил, понизив голос.
— Как же не знавать? Это мой отец.
— Вот оно что! — сказал Ларс Петер растроганно и протянул свою лапищу. — Так добро пожаловать к нам! Ты, значит, Йоханнес, самый меньшой из моих братьев.
Он задержал руку Йоханнеса в своей и ласково глядел на него.
— Вот ты каким вырос! Я ведь не видал тебя с тех пор, как тебе было всего два-три месяца. Ты на мать похож.
Йоханнес усмехнулся, чувствуя себя несколько неловко, и высвободил свою руку. Он совсем не был взволнован, как его брат.
— Да брось ты свою точилку, пойдем в дом, — пригласил Ларс Петер. — Девчонка угостит нас кофейком… Нет, все-таки… вот так встреча!.. Как ты похож на мать! — Ларс Петер заморгал глазами, готовый прослезиться от волнения.
За столом Йоханнесу пришлось рассказать обо всех домашних делах. Мать умерла несколько лет тому назад, братья разбрелись по всему свету. Известие о смерти матери очень расстроило Ларса Петера.
— Так она отошла в другой мир, — проговорил он тихо. — Я не видел ее с тех пор, как она кормила тебя грудью. А я-то все утешал себя надеждой, что еще свижусь с нею когда-нибудь. Она была нам доброй матерью.
— Да-а, — протянул Йоханнес, — только уж очень ворчлива стала.
— При мне она еще не была ворчливой. Может статься, она долго хворала?
— Во всяком случае, я не очень-то долюбливал ее. Вот старик наш — другое дело. Молодчина! Никогда не вешал носа.
— Он все еще держится своего прежнего ремесла? — заинтересовался Ларс Петер.
— Нет, давно уже покончил с этим. Теперь стал пенсионером! — Йоханнес усмехнулся. — Сидит у проезжей дороги и бьет щебень на общину. Но все такой же кремень и норовит всеми командовать. То и дело сцепляется с крестьянами, ругательски ругает их за то, что они наезжают на кучи щебня.
Сам Йоханнес повздорил со своим мастером и избил его. После того ни один мясник не соглашался взять его к себе в ученье, и он переправился на другой берег у Люнэса, захватив с собой вот этот инструмент, который взял напрокат у больного старика-точильщика.
— Так ты, значит, мясник, — сказал Ларс Петер. — То-то мне показалось, что ты как-то странно обращаешься со своими инструментами. А разве ты, такой молодой и здоровый, не мог бы избавить старика от попечительства?
— Ну, с ним разве сладишь? Да ему и не плохо вовсе. А что касается меня, то если хочешь жить мало-мальски по-людски, ну и повеселиться малость, то заработка самому только-только в обрез.
— Да, пожалуй… Ну, а теперь как же ты намерен устроиться? Пойдешь бродить по свету?
Да, Йоханнес собирался побродить немного по стране, занимаясь точильным ремеслом, конечно.
— Да ты смыслишь в нем хоть сколько-нибудь? Или только хвастаешься?
Йоханнес скорчил гримасу.
— Кое-что я перенял у старика точильщика еще мальчишкой. То есть главным образом ухватки, понимаешь? Заговоришь людям зубы, получишь свои денежки, и марш со двора, пока они еще не успели разглядеть работу. Чудесное дело переходить с места на место. И полиции за тобой не угнаться.
— Н-да… значит, и у тебя эта страсть — бродяжить? Опасная болезнь, брат!
— Почему? По крайней мере всегда что-нибудь новенькое выловишь. А то вечно одно и то же — тоска смертная!
— И мне так казалось когда-то. Но рано ли, поздно ли ты поймешь все-таки, что это просто болезнь. От нее в костях вместо мозга сквозняки образуются! Ничего путного не выходит у того, кто рыщет за куском хлеба по дорогам. Не будет у него ни дома прочного, ни семьи настоящей, сколько бы раз он ими ни обзаводился.
— Ты-то обзавелся и тем и другим, — заметил Йоханнес.
— Да, но нелегко закрепить это за собой. Бродяга все больше вперед глядит, на будущее надеется, а плохо, когда у тебя за спиною ничего нет. Проклятая наша бедняцкая доля, что мы сызмальства приучаемся не сидеть на месте. Никогда не знаем, где взять кусок хлеба завтра, вот и рыщем повсюду, гонимся за ним. Так и привыкаем бродяжничать, втягиваемся в это… А теперь ты побудь тут без меня часика два, — я обещал соседу перевезти ему навоз на поле.
Пока Ларс Петер отсутствовал, Дитте с детишками показали дяде все свои владения. Он оказался затейником, и они быстро с ним подружились. Должно быть, он был не особенно избалован жизнью, потому что все у них похваливал и этим расположил к себе даже недоверчивую Дитте. Она не привыкла к похвалам Сорочьему Гнезду и его обитателям.
Он помог ей управиться с вечерними делами по хозяйству, и, когда вернулся Ларс Петер, началось такое веселье, какого давно не бывало. Дитте после ужина сварила кофе, поставила на стол графинчик, и братья сделали себе кофейный пунш. Йоханнес сыпал рассказами о житье-бытье в родном доме; у него была способность подмечать все смешное, и он не щадил в своих рассказах никого из домашних. Ларс Петер хохотал чуть не до упаду и восклицал:
— Верно, верно!.. Точь-в-точь! Я словно воочию все вижу! Так оно было и во времена моего детства!
Он не уставал расспрашивать брата и, вспоминая былое, вновь его переживал. Давно уже дети не видали отца таким веселым и общительным, как в этот вечер. По всему заметно было, что посещение брата подняло ему настроение.
И у детей появилось какое-то повое чувство, такое ощущение, словно они разбогатели: у них нашелся родственник!.. После смерти бабушки у них ведь совсем не осталось родни, и когда другие дети говорили про своих родственников, им приходилось молчать. Теперь и у них есть дядя — после бабушки родственник самый почтенный. И очутился он в Сорочьем Гнезде просто чудом каким-то — неожиданно для всех и для самого себя! Ребятишки прямо сами не свои были от столь необычайных радостных переживаний и то и дело выбегали на двор потрогать дядин инструмент, дремавший в лунном свете. Наконец Дитте вмешалась и отправила всех троих в постель — пора, пора!
Братья же долго разговаривали и засиделись за полночь. Дети боролись с дремотой из последних сил, — так им хотелось дослушать разговоры до конца, но все-таки сон одолел их, да и Дитте сдалась. Лечь в постель раньше взрослых она ни за что не хотела и задремала, облокотись на спинку стула.
Утро началось необычайно радостно. Детей, едва они открыли глаза, охватило предвкушение чего-то чудесного, что всю ночь сторожило их, вот тут у кровати, дожидаясь их пробуждения. Они только не могли сразу вспомнить, что это такое?.. А! Вон там на гвозде висит фуражка! Дядя здесь!..
Йоханнес с Ларсом Петером уже побывали на дворе, в хлеву, на гумне. Йоханнеса занимало все, что ему показывали, и планы так и роились у него в голове.
— Чудесный хуторок мог бы выйти, — то и дело повторял он, — не запускать бы его так!
— Да ведь приходилось все больше разъезжать, скупать и продавать тряпье и тому подобное, — оправдывался Ларс Петер. — И потом эта история с женой тоже оказалась помехой… И до вас небось дошла она?
Йоханнес кивнул.
— Не повеситься же тебе из-за этого!
Сегодня Ларсу Петеру предстояло отправиться на болото, чтобы провести канаву для осушки участка под покос. Йоханнес схватил заступ и отправился с братом. Работал он так проворно, что Ларс Петер с трудом мог угнаться за ним.
— Вот молодость-то что значит, — сказал он брату. — Здорово работаешь!
— Отчего ты не перекопаешь всего болота? Провел бы канавы, сровнял кочки — отличный бы луг вышел.
Да, отчего? Ларс Петер и сам не знал.
— Вот кабы у меня подмога была, — сказал он.
— Ты имеешь какой-нибудь доход от своего торфяника? — спросил Йоханнес, когда они разогнули спины, чтобы передохнуть немного.
— Да нет, никакого, кроме торфа для собственной надобности. Тяжеленько размешивать его.
— Еще бы — ногами! Тебе бы обзавестись конной мешалкой. Тогда вдвоем можно выкладывать по нескольку саженей в день.
Ларс Петер призадумался. Планы и предложения так и сыпались на него. Ему нужно было каждое в отдельности обмозговать, прикинуть в уме — что к чему и как, а Йоханнес не давал ему опомниться.
В следующий раз они отправились вместе к глиняной яме. И Йоханнес нашел, что из этой глины можно выделывать отличный кирпич-сырец.
Ларс Петер и сам знал это, слишком даже хорошо. В первое лето Сэрине ведь налепила тут кирпичей для пристройки, и ничего, кладка вышла прочная, не поддавалась ни сырости, ни ветру. Где же одному со всем управиться!
А у Йоханнеса нюха и смекалки хоть отбавляй. На лету схватывал и то и другое, сразу придумывал выход и предлагал улучшения. Ларс Петер слушал брата и припоминал свои старые, полузабытые планы. Это было то, что напевали ему в уши и болото, и глиняная яма, и все прочее в течение целого ряда лет — хоть и в более медленном темпе. За мыслями же Йоханнеса ему никак было не угнаться. Но любопытно, как это так получается, одним взглядом охватить все ходы и выходы сразу!
— Знаешь что, брат, — сказал Ларс Петер за обедом, — ты меня здорово раззадорил. Не хочешь ли ты сам пожить здесь? Вдвоем мы живо приведем хуторок в порядок. А в этом блуждании с места на место все-таки мало проку.
Йоханнес как будто не прочь был согласиться. Проезжая дорога, видно, еще не совсем покорила его.
В течение дня они обсудили дело обстоятельнее и пришли к соглашению делить все по-братски — и труд и барыши.
— Но как же быть с тачкой твоей? — спросил Ларс Петер. — Ведь надо отправить ее обратно владельцу.
— А черт с ней! — решил Йоханнес. — Старик все равно болен.
— Да, но когда он поправится, чем же он будет кормиться? Нет, такой грех нельзя брать на себя. Я завтра еду к морю за селедками и заодно отвезу в поселок твою тачку; там всегда найдется случай переправить ее на тот берег с каким-нибудь рыбаком. Я решил бросить торговлю селедками, но давно еще сторговал у них целый воз, а на этих днях там, должно быть, был хороший улов.
В три часа утра Ларс Петер уже готов был выехать со двора, знаменитый точильный инструмент Йоханнеса был привязан к задку телеги. В самую последнюю минуту выбежал из дому сам Йоханнес, неумытый, со слипавшимися еще от сна глазами, еле успев Нахлобучить на голову фуражку и повязать шарфом шею.
— И я, видно, с тобою! — сказал он брату охрипшим голосом.
Ларс Петер подумал немножко, озадаченный, потом сказал:
— Ну, как хочешь, — и подвинулся, чтобы дать брату место рядом с собой. Собственно говоря, Ларс Петер рассчитывал, что Йоханнес сегодня же возьмется копать канавы на болоте, — воды как раз было сейчас мало.
— Занятно покататься немножко! — И Йоханнес вскарабкался на телегу.
Н-да, конечно… Только одет он так, как будто выбежал из дому лишь на минутку.
— Не накинуть ли что-нибудь сверху? Хочешь мое старое пальто?
— Ну, наплевать, и так обойдусь! Подыму повыше воротник.
Солнце только еще вставало. Вдоль берегов озера над тростниками стлался белою пеленою туман. На паутинках в луговой траве дрожали бесчисленные капли росы, ловя солнечные лучи и сверкая алмазами. Должно быть, это зрелище привело Ларса Петера в радужное настроение: сегодня, во всяком случае, Сорочье Гнездо показалось ему таким красивым, славным хуторком, что прямо жаль было покинуть его.
К тому же Ларс Петер узнал теперь обо всем, что касалось его родни и домашних и что произошло за эти годы в родных местах; тоска по ним была таким образом до известной степени утолена, и охота переезжать туда отпала. «Радуйся, что ты так далеко и что тебя все это не касается», — сказал между прочим Йоханнес. И в самом деле, брат прав. Не стоит сниматься из гнезда, менять место, ведь могут снова пойти семейные неурядицы и всякие дрязги. Вообще незачем уезжать, гоняться за счастьем, как дураку, лучше постараться уберечь свое счастье, благо у тебя есть дом!
Ларс Петер сам не понимал, что такое с ним сегодня, — он на все смотрел как будто новыми глазами. Словно кто смазал их за ночь чудодейственной мазью.
Даже его тощее поле казалось привлекательным, обещало урожай. Новая заря занялась над Ларсом Петером и его домом.
— Славное утречко, — сказал он, оборачиваясь к Йоханнесу.
Тот не отозвался. Надвинув фуражку на глаза, он примостился так, чтобы поспать еще… Не похоже было, чтоб ему жилось особенно сладко! Около рта горькие складки, быть может, от разгульной жизни. Просто удивительно, до чего он похож на покойную мать! Ларс Петер дал себе слово присматривать за братом.
VII Колбасник
Не пришлось Сорочьему Гнезду с его угодьями расцвести новым цветом и на этот раз. Роковое стечение обстоятельств определило ход событий. Вместо того чтобы взять заступ и начать рыть канавы, Йоханнесу вздумалось прокатиться с братом за селедками. На одном из крестьянских дворов, куда они заехали, сбывая селедки, валялся возле дверей коровника мертворожденный теленок. Йоханнес сразу заметил его, соскочил и подошел поближе.
— Куда вы его денете? — спросил он работника, трогая ногой теленка.
— Известно, в землю зароем! — ответил тот.
— Разве у вас тут не продают палую скотину? — спросил Йоханнес брата, когда они снова тронулись в путь.
— Да кому же ее продашь? — удивился Ларс Петер.
— Отсталый же у вас народ! Право, я не прочь сделаться тут прасолом!
— И, чего доброго, скупать дохлую скотину? — усмехнулся Ларс Петер.
— Не то чтобы непременно дохлую, но и ею не след брезговать. Наш старик наживал, бывало, от десяти до пятнадцати крон на таком теленке.
— Я думал, мы с тобой по-настоящему возьмемся за землю.
— Возьмемся и за нее. Но на это понадобятся деньги! Твоя торговля только отнимала у тебя время, и ты запустил свою землю, а торговля скотом, знаешь ли, совсем другое дело. Тут при удаче и всю сотню в день зашибить можно. И если я буду выезжать хоть раз в неделю, то, уверяю тебя, мы прокормимся. Все остальные дни недели можем обрабатывать землю.
— Да, оно складно выходит на словах, — протянул Ларс Петер. — А торговая жилка у тебя, видно, есть?
— На этот счет будь спокоен. Я немало сотен заработал моему хозяину-мяснику.
— Но с чего же ты начнешь дело? — спросил Ларс Петер. — У меня скоплено всего с полсотни крон. Много ли скота на такую сумму купишь? Да и эти-то деньги я отложил на взнос налогов и процентов за аренду, так что их, собственно, и трогать нельзя.
— Только бы они попали мне в руки, — за остальное я ручаюсь, — самоуверенно заявил Йоханнес.
И через день он отправился в путь, положив в карман весь капитал Ларса Петера. Не легко было у Ларса Петера на сердце те два дня, что младший брат отсутствовал. Вдруг он попадет в дурную компанию и деньги у него выманят… или он проторгует их? Словом, долгим показалось Ларсу Петеру время ожидания. Но вот Йоханнес наконец вернулся, сидя в телеге, тщательно укрытой, и распевая во все горло. К задней грядке телеги привязана была старая, обреченная на убой кляча, еле передвигавшая ноги.
— Вот так жеребчика купил! — насмешливо крикнул ему Ларс Петер. — А что у тебя там под мешками и соломой?
Йоханнес въехал в ворота, запер их и тогда лишь раскрыл воз. В телеге лежал околевший теленок, подпорченная свиная туша и еще один чуть живой теленок, еле двигавший ушами. У него был понос. Все это Йоханнес купил у кого пришлось и даже не все деньги потратил, осталось на разживу]
— Это хорошо, но на кой черт тебе вся эта дохлятина? — с досадой сказал Ларс Петер.
— Увидишь! — И Йоханнес принялся бегать взад и вперед с невероятным проворством. При этом он и напевал, и насвистывал, и выкидывал разные смешные штуки. Обе половинки дверей сарая были распахнуты, а перед пролетом поставлен чурбан, служивший для колки дров. В пристройке Йоханнес высмотрел вмазанный в кирпичную печку большой котел, живо подкинул под него соломы и зажег ее, чтобы узнать — хороша ли тяга. Дети стояли и глядели на дядю, разинув рот, а Ларс Петер только головой качал, но предоставил брату полную волю.
Йоханнес ободрал дохлого теленка и распялил шкуру для просушки на внутренней стороне одной из дверей сарая. Затем пришла очередь больного теленка. Одним взмахом ножа Йоханнес спровадил его на тот свет, ободрал с него шкуру и распялил ее рядом с первой.
Он засадил Дитте и Кристиана промывать кишки. Им не особенно хотелось браться за это дело.
— Да вы, черт возьми, никогда не промывали, что ли, кишок?
— Промывали. Только не от дохлой скотины, — сказала Дитте.
— Как? У вас тут промывают кишки живой скотине?! Вот бы поглядеть!
Что было ответить на это? Пришлось взяться за дело. А Йоханнес тем временем подвел старую клячу к сараю и побежал за топором. Пробегая с пим по двору, он покрутил его в руке, подбросил в воздух и ловко поймал за топорище. Видимо, он был в отличном настроении.
«Кровь живодеров!» — морщась, думал Ларс Петер, занятый чем-то на гумне. То, что много лет было главным ремеслом в его роду, претило ему — особенно сейчас, когда это вторглось в Сорочье Гнездо, слишком живо напоминая ему детство в родном доме. «Теперь люди с полным правом будут называть нас живодерами», — с большим неудовольствием подумал он.
Йоханнес забежал в сарай за старым мешком.
— Ты чего куксишься, старина? — бросил он мимоходом.
Ларс Петер не успел откликнуться, как младший брат уже скрылся. Набросив кляче на голову мешок, он прицелился, взмахнул топором… послышался странный медленный хруст костей под мешком, и кляча с раздробленным черепом рухнула на землю. С минуту она лежала, дрыгая ногами и все дальше откидывая их, потом вытянулась на боку, глубоко вздохнула и околела. Дети стояли вокруг с окаменевшими лицами.
— Теперь, брат, ты уж подсоби мне поднять ее! — весело прокричал Йоханнес.
Ларс Петер нехотя вышел на двор, взяв с собою веревку. Вскоре кляча уже болталась подвешенная к балке головою вниз и освежеванная, с откинутой назад, словно плащ, шкурой.
А поведение дяди становилось все таинственнее. И со шкурами-то еще понятно, — зачем он возился, — их можно продать. Но что собирался он делать с кишками В и со всем этим мясом? Он вырезал лучшие куски также и из телят! Под вечер он затопил печку под котлом и возился всю ночь то на дворе, то в пристройке, которая вся провоняла запахом варившихся в котле костей, мяса и кишок.
«Должно быть, он мыло варит, — соображал Ларс Петер, — или колесную мазь». Ему все больше и больше претило все это, и он сильно раскаивался, что сразу не распростился с братом. Но теперь уж приходилось терпеть до конца.
Йоханнес не требовал больше ни от кого помощи. Напротив, он тщательно запер дверь в пристройку, где стоял котел, и, облекши свою работу полной тайной, возился всю ночь. За утренним кофе он запретил детям рассказывать в школе что бы то ни было о нем и его работе. Потом он исчез куда-то, вернулся домой с сечкой и перетащил чурбан от сарая в пристройку. К столу являлся после того весь измазанный кровью, салом и рубленым мясом. Противно было глядеть на него, а ещё тошнотворнее от него пахло. Но надо отдать ему справедливость — работал он без устали и совсем не смыкал глаз. Наконец, уже к вечеру, он окончательно управился с делом и распахнул дверь в пристройку.
— Пожалуйте теперь посмотреть! — крикнул он.
На жерди под потолком висел длинный ряд чудесных с виду колбас — розовых и глянцевитых. Никто бы и не догадался, из чего они были сделаны. На большой доске для стирки белья были разложены аккуратно нарезанные куски мяса, ярко-красного и сочного — лучшие части лошадиной туши. Стояло там и ведро еще не застывшего сала.
— Это для смазки, — сказал Йоханнес, помешивав сало. — Но годилось бы и в кушанье. Ну, разве не аппетитны все эти деликатесы?
— Мне бы ничего из этого не хотелось иметь у себя на столе, — с брезгливой миной сказала Дитте.
— Не бойся, девочка! Колбасники никогда не едят собственной стряпни! — успокоил ее Йоханнес.
— Что же ты собираешься делать со всем этим? — спросил Ларс Петер, но по лицу его видно было, что он заранее знал ответ.
— Разумеется, продать! — сверкнул Йоханнес белыми зубами и схватил одну из колбас: — Пощупай, какая тугая!
— И ты думаешь найти здесь покупателей? Не знаешь ты здешнего народа!
— Да не здесь, понятно. Поеду на ту сторону озера, где никто не знает меня и не ведает, из чего все это сделано! Мы часто так проделывали, когда я жил в учениках у мясника. Накупим какой-нибудь дряни в одном месте, а сбывать везем в другое. Поди-ка выследи нас! Правильно я рассуждаю?
— Я с тобой по такому делу не поеду, — решительно заявил Ларс Петер.
— А я бы и не хотел брать тебя с собою. Очень уж ты непокладистый. Так я еду завтра. Но ты раздобудь мне другую упряжку. Если я поеду на твоей старой заржавленной паровой молотилке, я и в неделю не обернусь назад. Это чудище какое-то! Я бы на твоем месте колбас из него наделал.
— Я могу избавить тебя от него, — обиженно сказал Ларс Петер. — Конь добрый, хоть он тебе и не по нраву.
Да, Йоханнес и Большой Кляус совсем не подходили один к другому, как огонь и вода. Йоханнес все норовил вскачь нестись по дороге, но скоро понял, что этого от коня не добьешься. Он желал, чтобы Большой Кляус — раз уж этот одер не мог идти рысью и его так трудно было тронуть с места — продолжал шагать вперед и тогда, когда сам Йоханнес соскакивал с телеги и забегал куда-нибудь по делу. Йоханнес привык соскакивать на ходу. Но Большой Кляус таких штук знать не хотел. Он всякий раз останавливался и дожидался Йоханнеса. Вот у них и вышла стычка. Обозленный Йоханнес захотел проучить конягу и начал бить его толстым кнутовищем. Большой Кляус от изумления стоял сначала как вкопанный. Потом лягнул разок-другой для острастки, сделал полный поворот крупом, сломал оглобли и пытался вскинуть передние копыта в телегу. При этом он довольно выразительно скалил свои длинные зубы. Дескать: «Дай мне только подмять тебя под копыта, черномазый бездельник!» Произошло это на проезжей дороге в тот день, когда Йоханнес ездил скупать скотину. Ларс Петер и дети знали уже, что у него нелады с Большим Кляусом. Когда Йоханнес подходил к дверям сарая, конь, услышав его голос, прядал ушами и, видимо, готовился пустить в ход и зубы и копыта. На этот счет не могло быть сомнений.
На следующий день, когда Йоханнес собирался ехать, Кристиан отвел Большого Кляуса к одному поселенцу, и тот взамен дал свою кобылу. «Она много лет пробыла у мясника, и с ней ты, верно, поладишь», — сказал Ларс Петер Йоханнесу, когда они запрягали лошадь. Это была высокая, тощая кляча, но под стать Йоханнесу: едва он сел на телегу, как она поняла, что за человек взял в руки вожжи, рванула с места и мигом вынесла телегу за ворота. В следующую минуту она очутилась уже на проезжей дороге и понеслась вскачь в облаках пыли. Йоханнес подпрыгивал на сиденье, гикал и размахивал кнутом над головой лошади. Просто дьявольское наваждение, а не езда!
— Большого Кляуса я ему больше не дам, — пробормотал Ларс Петер, возвращаясь в дом.
Через день Йоханнес вернулся с туго набитым бумажником и с новой клячей, привязанной к задку телеги. С виду она мало отличалась от той, что была впряжена в телегу, — лишь менее подвижна и куплена за бесценок, только на убой она и годилась.
— Прямо жалко ее, могла бы еще пожить на белом свете! — сказал Йоханнес и шлепнул кобылу по крупу. Она заржала и так ударила задом, что из нее фонтаном брызнуло.
— Ей без малого лет тридцать, — сказал Ларс Петер, посмотрев у лошади зубы.
— Да, не молоденькая, но ретивая. Погляди, как она еще горячится!
Йоханнес защелкал кнутом, кляча задрала голову и поскакала галопом. Далеко она не убежала, потому что скорее только приплясывала на месте, словно на иголках — так неподвижны были все ее суставы.
— Прямо как крылатый конь! — смеясь сказал Ларс Петер. — Того и гляди взовьется в воздух и пропадет в облаках. Но ты знаешь, что тебя оштрафуют, если ты оставишь лошадь у себя и будешь на ней ездить? Ты ведь купил ее на убой.
Йоханнес кивнул.
— Дело понятное, надо будет ее перекрасить, — решил он.
И как только поел и переоделся в рабочее платье, принялся перекрашивать клячу. Он подстриг ей хвост и гриву и подрезал бабки.
— Теперь еще только закрасить яблоки, чтоб она стала вся караковой, да впрыснуть ей мышьяку, увидишь, как она помолодеет и взыграет. Ни одному черту не узнать ее тогда!
— Вы с хозяином и такие штуки проделывали? — спросил Ларс Петер.
— Нет, это я у нашего старика научился. Право слово! Ты-то разве никогда не видал у нас таких фокусов?
Ларс Петер что-то не помнил.
— Верно, это уж после меня было, — уклончиво сказал он.
— Да это же наша старинная специальность! — усмехнулся Йоханнес.
Новый промысел оказался прибыльным, и Ларс Потер, при всем своем отвращении к нему, сдался. Он по-прежнему предоставлял брату одному ездить, покупать и продавать, но принимал участие в домашней работе, выучился свежевать скотину, выделывать колбасы, а также варить мыло и смазку из того, что уже нельзя было продать. Ларсу Петеру было трудно привыкать к этому старинному семейному занятию.
Скверно попахивало от Сорочьего Гнезда в то лето. Люди, проезжая мимо, затыкали носы и нахлестывали лошадей. Вместе с Йоханнесом в доме появились деньги, теперь в них никогда не ощущалось недостатка. Но это не радовало ни Ларса Петера, ни детей, — они чувствовали по всему, что про Сорочье Гнездо люди сплетничают еще больше прежнего. И хуже всего было то, что у них самих теперь уже не стало облегчающего душу сознания, что их обижают несправедливо, что они-то ни в чем не виноваты. Теперь у людей были основания глядеть на них свысока.
Йоханнесу наплевать было на все это. Он почти не сидел дома, ездил — скупал, продавал. Он хорошо зарабатывал и начинал задирать нос. Частенько, покупая скотину на убой, перепродавал ее. Покучивал, по слухам, вел картежную игру в компании других прасолов, посещал пирушки с танцами. Случалось, что и в драку ввязывался и возвращался домой с фонарем под глазом, с шишками на голове. Денег он тратил, по-видимому, очень много, — ведь проверить его заработок никак нельзя было. Да и, разумеется, это его дело. Но он вел себя так, будто один содержит весь дом, и чуть что — выходил из себя. Ларс Петер старался ни во что не вмешиваться, — он дорожил миром в семье.
Но в конце концов дело кончилось взрывом. Йоханнес раз навсегда возненавидел Большого Кляуса и однажды, когда Ларса Петера не было дома, вывел конягу из конюшни и стал запрягать, желая, — как он сказал детям, — научить старого одра хорошим манерам. Трудно оказалось загнать Большого Кляуса в оглобли, он угрожающе бил хвостом, скалил зубы, а когда его все-таки впрягли, не захотел сдвинуться с места, сколько ни хлестал его Йоханнес. Тот наконец выскочил из телеги вне себя от ярости, схватил валек от бороны и обрушил несколько тяжелых ударов на костлявую спину в ребра лошади. Дети подняли крик. Большой Кляус, весь в мыле, стоял, не двигаясь, дрожа и тяжело поводя боками. Но всякий раз, как Йоханнес снова накидывался на него и начинал дубасить, конь принимался неистово бить задними копытами, высекая искры из окованного железом передка телеги. Наконец Йоханнес отказался от борьбы, швырнул свое оружие и ушел в дом.
Дитте пробовала было вмешаться, но дядя оттолкнул ее. Теперь она подошла к Большому Кляусу, выпрягла его, дала ему напиться и набросила мокрый мешок на израненный крестец, а младшие дети, обливаясь слезами, стали совать лошади куски хлеба. Вскоре Йоханнес вышел одетый по-дорожному и, ни на кого не глядя, стал запрягать свою лошадь. Когда он выехал со двора, ребятишки, попрятавшиеся было, вылезли из своих убежищ и сердито поглядели ему вслед.
— Он совсем уехал? — спросила Эльза.
— Пускай бы совсем, или пусть бы заблудился — только бы никогда не возвращался больше! Скверный, злой человек! — отозвался Кристиан. Никто из детей теперь не любил дядю.
На тропинке, идущей через поле от болота, показался человек. Это был отец. Дети побежали ему навстречу и, перебивая друг друга, рассказали о том, что произошло. Ларс Петер сначала с минуту глядел на них в недоумении, как бы ничего не понимая, затем кинулся к дому бегом. Дитте прошла за ним в стойло. Большой Кляус оказался в самом жалком состоянии, весь как-то ослаб, обвис всем телом и начинал дрожать, как только с ним заговаривали. Круп у него был страшно иссечен.
Ларс Петер потемнел в лице.
— Пусть благодарит бога за то, что вовремя убрался! — сказал он Дитте.
Потом он ощупал Большого Кляуса, чтобы узнать, нет ли где у него переломов. Коняга поочередно подымал ноги с большой осторожностью, видно было, что ему больно.
— Экий зверь! Так искалечить моего верного друга! — сказал Ларс Петер, ласково поглаживая ноги своего любимца. Тот тихонько заржал и поскреб копытом. Это он, пользуясь тем, что его жалеют, хотел выклянчить у хозяина лишнюю порцию овса.
— Тебе бы следовало хорошенько вздуть дядю самого! — серьезно сказал Кристиан.
— Мне бы не следовало пускать его в дом, — угрюмо ответил отец. — Это было бы лучше для всех нас.
— Да, знаешь, отец, почему Йохансены ни разу не были у нас летом? — сказала Дитте. — Потому что они боялись есть у нас, думали, что мы готовим кушанья из падали.
— Откуда ты взяла это, Дитте? — Отец с отчаянием глядел на нее.
— Мне сегодня крикнули это вслед ребята в школе. И спрашивали, не надо ли нам дохлую кошку на колбасу.
— Я, конечно, понимал, что тут дело именно в этом… — Ларс Петер глухо рассмеялся. — К счастью, мы можем обойтись без людей. Да, к счастью!.. Я, черт побери, не буду посылать за ними! — крикнул он.
Поуль со страху расплакался.
— Ну, ну, я не хотел тебя напугать! — Отец взял его на руки. — Но таким манером не долго и выйти из себя, ей-богу!
Дня два спустя, рано утром вернулся Йоханнес. Он весь выпачкался в грязи и вообще был в ужасном состоянии. Ларсу Петеру пришлось высадить его из телеги, — он еле на ногах держался. Но язык у него работал вовсю, — срам слушать было. Ларс Петер ничего не сказал в ответ на все его грубости и стащил его на гумно, где было брошено немного соломы. Йоханнес сразу заснул. Лежал, как мертвый, в лице ни кровинки, волосы прилипли к вискам и к темени, одна черная прядь выбилась на лоб, смотреть жутко было. Дети с трепетом подошли к дверям и заглянули в полутемное помещение, а разглядев Йоханнеса, с криком убежали прочь. У-у! Страсть какая!
Ларс Петер занялся делом: насыпал овса, приготовил сечку для лошадей. Проходя мимо брата, он приостановился и задумался. Вот, значит, каким надо быть, чтобы водиться с людьми — гладеньким, чистеньким снаружи и холодным, бессердечным внутри. На этого вот никто не косился, не глядел свысока — только потому, что он был наглым. Женщины находили его красавцем и под вечер так и шмыгали по дороге мимо — как будто бы по делу, а мужчины… Да, их, пожалуй, покоряли его кутежи и драки из-за девушек.
Ларс Петер сунул ему руку за пазуху и вынул бумажник. Пуст! Ведь брат взял из общей кассы полтораста крон — деньги, отложенные на то, чтобы прикупить еще скота для хутора. Больше денег в доме не осталось. Стало быть, он спустил все!
У Ларса Петера затряслись руки. Он нагнулся к брату, словно желая схватить его за грудь, но выпрямился и вышел из сарая. Часа два-три бродил он около дома, выжидая, пока брат проспится. Потом вернулся на гумно. Пора им рассчитываться! Он растолкал Йоханнеса:
— Где деньги, на которые мы собирались прикупить скота?
— А тебе какое дело? — Йоханнес перевернулся на другой бок. Но Ларс Петер поднял его, поставил его на ноги.
— Я хочу поговорить с тобой!
— Убирайся к чертям! — пробормотал Йоханнес и, даже не приоткрыв глаз, только пошатываясь, отправился подальше в глубину сарая и шлепнулся на сено. Ларс Петер принес ведро холодной воды из колодца.
— Теперь проснешься у меня волей-неволей! — сказал он и окатил водой голову брата.
Йоханнес, как кошка, вскочил на ноги, выхватил нож и с секунду покрутился на месте, еще не придя в себя от внезапного пробуждения. Потом разглядел брата и прыгнул к нему. Ларс Петер почувствовал укол в щеку, лезвие звякнуло о его коренные зубы. Ударом кулака он сшиб Йоханнеса с ног и навалился на него, чтобы вырвать нож. Йоханнес, по-кошачьи ловкий и проворный, всячески изворачивался, кусался и все пытался пырнуть брата ножом. На губах у него выступила пена. Ларсу Петеру приходилось руками отбиваться от ударов ножа, и кровь так и капала из порезов. Только притиснув Йоханнеса коленом, одолел его Ларс Петер.
Йоханнес лежал, ловя ртом воздух.
— Пусти! — хрипел он.
— Ладно, если будешь вести себя как человек, — сказал Ларс Петер и слегка ослабил нажим. — Ты — мой младший брат, и мне бы не хотелось причинить тебе вред. Но и позволить тебе заколоть меня, как ты колешь свиней, я тоже не хочу.
Йоханнес вдруг напрягся и, упершись затылком и пятками в земляной пол, сделал «мост», чтобы легче сбросить с себя брата. Он уже высвободил одну руку и рванулся в сторону, чтобы схватить нож, валявшийся на небольшом расстоянии от него.
— Вот ты как! — сказал Ларс Петер и снова навалился на него всей тяжестью. — Так уж лучше связать тебя. Принесите веревку, дети!
Трое ребятишек, глядя на борьбу и сбившись в кучку у двери, стали прятаться друг за дружку.
— Ну?! — крикнул отец.
Кристиан побежал за Дитте, и она принесла веревку. Смело подойдя к боровшимся вплотную, она протянула веревку отцу и спросила:
— Помочь тебе, отец?
— Нет, не понадобится, девочка! — усмехнулся он. — Только придержи веревку, пока я скручу негодяя.
Он старательно связал брату руки на спине, поставил его на ноги и пообчистился.
— Валялся, видно, где-нибудь в грязи, как свинья. Весь измазался. Иди теперь смирно со мной в комнату, иначе — я не ручаюсь за себя. Как видно, против своей воли ты не стал сегодня убийцей.
Йоханнеса ввели в комнату и посадили на плетеный стул у печки. Детей выслали. Дитте и Кристиану отдан был приказ приготовить дядину телегу с упряжкой.
— Теперь мы одни, и я скажу тебе, что ты вел себя, как отъявленный негодяй, — медленно начал Ларс Петер. — Я уже сколько лет тосковал по своей родине и семье, и ты как будто принес мне желанный привет из родного дома. Теперь я дорого дал бы за то, чтобы никогда не получать такого привета. Все мы здесь отнеслись к тебе хорошо. Люди мы неизбалованные, и тебе не стоило бы больших трудов остаться в наших глазах хорошим и добрым. А что ты принес в наш дом? Свинство, плутни, злобу! Ты понимаешь, конечно, что теперь между нами все кончено. Забирай свою телегу с упряжкой и что там еще можно считать твоим, и — марш! Денег не жди. Ты растратил больше, чем приходилось на твою долю.
Йоханнес не отвечал и все время смотрел в сторону, избегая встретиться взглядом со старшим братом.
Телега подъехала. Ларс Петер вывел Йоханнеса, приподнял и усадил, как ребенка. Потом израненными, окровавленными руками развязал веревку. Из щеки у него тоже все еще сочилась кровь, стекая на подбородок и одежду.
— Уезжай теперь, — грозно сказал Ларс Петер, смахивая кровь с подбородка. — И поживее!
Йоханнес с минуту сидел, покачиваясь, словно сонный. Вдруг встрепенулся, захохотал во все горло и, разобрав вожжи, погнал лошадь со двора. Обогнув дом, он помчался по проезжей дороге. Ларс Петер постоял, глядя ему вслед, потом пошел к колодцу смыть с себя кровь. Дитте помогла ему промыть раны и залепила их пластырем.
В следующие дни у нее с отцом было много дела по уборке Сорочьего Гнезда, надо было стереть следы летних занятий. Ларс Петер закопал в землю последние остатки падали, убрал со двора чурбан. И если какой-нибудь крестьянин стучался ночью кнутовищем в окошко и кричал: «Ларс Петер, у меня есть для тебя дохлая скотина!» — он не откликался. Он хотел окончательно отделаться от всяких воспоминаний о колбаснике, собачнике и живодере.
VIII Отъезд из Сорочьего Гнезда
Дитте работала и напевала. Все хозяйство лежало на ней, и она без устали сновала по дому. На глазу у нее была повязка, и всякий раз, проходя через кухню, она смачивала глаз какою-то желтоватой жидкостью. Это была моча — когда-то бабушка говорила ей, что это хорошее средство. Глаз сильно болел, под ним был огромный разноцветный синяк. Однако девочка была в хорошем настроении. Да, в сущности, больной глаз был причиной предстоящего отъезда из Сорочьего Гнезда — навсегда!
Ларс Петер вернулся домой, он ходил куда-то пешком. Повесив палку на кухонную дверь, он начал стаскивать с себя сапоги.
— Ну, как твой глаз? — спросил он Дитте.
— Теперь гораздо лучше. А что сказал учитель?
— Да что ж ему было сказать? Он считает, что ты правильно поступила, защищая брата, но ему не хочется вмешиваться в эту историю. И немудрено.
— Как так? Он же знает, как все вышло, и он такой справедливый.
— Ну да, само собой… Но, видишь ли, когда дело касается сына такого зажиточного хуторянина, то… Учитель — человек хороший, но и ему ведь есть-пить надо. Он боится ссориться с хуторянами. Они ведь все друг за друга горой стоят. Словом, он не советовал мне поднимать дело, — тем более, что мы все равно уезжаем. Он думает, что из этого ничего, кроме новых обид и травли, для нас не выйдет. И это верно! Они могут сорвать нам продажу с торгов, — сговорятся ничего не надбавлять… даже просто не придут на аукцион.
— Значит, ты не ходил с жалобой к сельскому фогту?
— Ходил. Но и он полагает, что из этого дела ничего хорошего не выйдет. Учитель сказал мне еще, что я могу оставить вас дома и не посылать в школу, пока мы не уедем отсюда. Ответственность он возьмет на себя. Все-таки он человек хороший, хоть и побаивается за свою шкуру.
Дитте была недовольна. Ей бы хотелось, чтобы задали хорошую трепку этому большому мальчишке, чтоб ему как следует досталось за то, что он сначала напал на Кристиана, а потом своим деревянным башмаком подбил ей глаз. Ее детский ум уже решил, что на этот раз они получат удовлетворение — ведь для начальства все люди одинаковы.
— А если б я была дочкой хуторянина, а тот мальчишка был из Сорочьего Гнезда — тогда что? — хриплым от волнения голосом спросила она.
— Ну, тогда фогт задал бы ему здоровую порку — самое малое, — ответил отец. — Так уж заведено на белом свете. Нам, людям маленьким, надо с этим мириться. И еще радоваться, если нас не оштрафуют за то, что нас же надули!
— А ты, если встретишь этого мальчишку, не вздуешь его? — спросила Дитте немного погодя.
— Я бы скорее вздул его отца, — но самое лучшее, конечно, не делать этого. Мы — люди маленькие.
В кухню вошел Кристиан.
— Вот я вырасту большой, прокрадусь ночью и подожгу их двор! — сказал он, в глазах его вспыхивали огоньки.
— Что ты болтаешь, мальчуган! Ты хочешь всех нас под тюрьму подвести? — испуганно воскликнул Ларс Петер.
— А не мешало бы их проучить, — отозвалась Дитте, гремя посудой. Она была очень недовольна тем, как обернулось дело.
— Когда же ты поедешь в город просить разрешения на аукцион? — сухо спросила она затем отца.
— Это уж наш фогт устроит, сам вызвался. Он всегда такой обходительный! — с живостью откликнулся Ларс Петер. Он был очень признателен сельскому фогту, так как не любил сам иметь дело с начальством повыше.
— Еще бы! Он рад-радешенек, что мы уберемся отсюда, — продолжала Дитте, все так же непримиримо, — Все они такие. В школе ребята водят хороводы и поют про «сороку-воровку». Она со своим отродьем перетаскала у крестьянина всех цыплят, и он взял длинную палку да и сбил ее гнездо! Думаешь, я не знаю, в кого они метят?
Ларс Петер промолчал и взялся за работу. Он тоже расстроился.
Но вечером, когда они, сидя при лампе, обсуждали планы будущего, все дурное и неприятное было опять забыто. Ларс Петер, выбирая себе место для жилья, надумал перебраться в один рыбацкий поселок, где в былые годы часто закупал сельдь для продажи. В поселке его любили и часто приглашали поселиться у них.
— Там живет один очень дельный человек, трактирщик, всем там ворочает. На него взглянешь — пожалуй, отвернешься, такой урод, но добрая душа. Он обещал мне отвести нам две комнатки, пока мы не построим себе домик, а также помочь мне устроиться в артель лодочников. То, что останется у нас лишнего от распродажи здесь, и пойдет на постройку там.
— Это тот самый карл, о котором ты нам раньше рассказывал? — спросила заинтересованная Дитте.
— Да, он этак наполовину карл, наполовину великан, — помесь карла с великаном, так сказать. Спереди горб и сзади горб, а лицо с коровью морду. Но он же в этом не виноват, сам по себе он человек совсем не плохой. Всем помогает.
Дитте содрогнулась:
— Да это настоящий тролль!
Ларсу Петеру хотелось стать рыбаком. Ему не раз приходилось иметь дело с рыбаками, но сам он никогда не рыбачил, и у него руки зудели — испробовать этот промысел. Дитте не возражала. Значит, опять она попадет на берег моря, о котором осталось у нее смутное воспоминание со времен ее жизни с бабушкой. Там можно будет окончательно забыть здешние неприятности, а пожалуй, и прозвище живодеров и злую судьбу — все.
Оставалось только решить, что именно надо забрать с собою. Но когда дошло до дела, как тяжело оказалось расстаться с той или иной вещью. И когда они вдвоем составили на грифельной доске Кристиана список того, что пойдет с молотка, то список вышел не велик. Чуть ли не все хотелось им забрать с собою!
— Надо будет еще разок пересмотреть все и вычеркивать, не жалея, — сказал Ларс Петер. — Невозможно перетащить с собою в поселок весь дом и всю скотину. Деньги-то ведь и там понадобятся, да еще как! И не малые деньги!
Они стали вновь перебирать все — одно за другим. Насчет Большого Кляуса спора не было. Грех оставить его на старости лет у чужих людей. Неужели нельзя будет прокормиться с ним и там, в дюнах? Да и неплохо иметь собственную лошадь. Это как-то внушает людям больше почтения. И подработать, пожалуй, можно будет кое-что, имея лошадь и телегу.
Ларс Петер только тешил себя такими мечтами, в глубине же души его томила забота — как быть там, как устроиться с лошадью? Но никому и думать не хотелось, чтобы добровольно расстаться с Большим Кляусом.
Зато из-за коровы вышел целый спор. Ларсу Петеру хотелось и ее взять с собой.
— Она так долго служила нам верой и правдой. Малыши обязаны ей и пищей и здоровьем своим. И как приятно иметь в доме чашку молока!
Но Дитте оказалась более благоразумной: уж если брать корову, то надо взять и пастбище для нее.
Ларс Петер рассмеялся.
— Да, не плохо бы увезти с собою не телеге кусочек луга! Да еще клочок торфяного болота! Там, кроме песков, ничего ведь нет.
И он отказался от коровы.
— Но поросенка мы захватим с собой… и кур!..
Дитте была согласна, что двух-трех кур держать не худо и поросенка можно прокормить рыбными отбросами.
Накануне аукциона они провозились весь день, отбирая и составляя связки разного старья, надписывая на связках мелом номера. Дети тоже помогали, от усердия не успевая даже утирать себе носы.
— Да ведь у тебя в связках самые неподходящие вещи, — сказала Дитте отцу.
— Что за беда? — отозвался он. — Человек увидит в связке сапог и начнет надбавлять и купит всю связку. Потом увидит другой сапог в другой связке, купит и эту. Так бывает на всех аукционах. Люди покупают всегда больше, чем предполагали, и большей частью ненужное.
Дитте засмеялась.
— Это ты по опыту знаешь?
В самом деле, отец сам был большой охотник ходить по аукционам и приносить оттуда домой разный ненужный хлам. Приманкой служила покупка в кредит.
Беда все-таки, сколько всякого хлама накопилось в Сорочьем Гнезде за эти годы — и на чердаке и в пристройке! Вот, кстати, и пришлось разобрать этот хлам. Но трудно было сохранить в порядке все отобранные для продажи мелочи. У ребятишек глаза разгорались, им все было нужно, и они растаскивали разную мелочь — прямо как крысы!
Наступил день аукциона — тихий, серый и сырой октябрьский день. Ландшафт, на фоне которого виднелись разбросанные повсюду домики и деревья, словно отдыхал, купаясь в этом теплом влажном тумане.
В Сорочьем Гнезде поднялись спозаранку. Ларсу Петеру и Дитте предстояло еще много побегать взад и вперед между жилым домом и службами. Наконец все было в порядке, и они сами принарядились и одели детей. В напряженном ожидании ребятишки ходили с мокрыми прилизанными вихрами и с раскрасневшимися от мытья мочалкой и зеленым мылом лицами. Дитте не церемонилась, до боли терла им уши, а мыло разъедало глаза. Без рева не обошлось. Но теперь неприятная процедура осталась позади и не повторится раньше, чем через неделю, у детей слезы сохнут быстро, и рожицы их так и сияли навстречу новому дню.
Малыш Поуль был готов последним. Дитте едва удерживала его на стуле, пока одевала, — так ему не терпелось удрать.
— Ну, что же ты скажешь теперь сестрице? — спросила она, когда принарядила его окончательно в потянулась к нему за поцелуем.
— Спасибо, — сказал мальчуган с самым плутовским видом. Он был в отличнейшем настроении. Кристиан и Эльза весело засмеялись.
— Нет, ты отвечай, как полагается! — серьезно сказала Дитте. Она не позволяла шутить с собою, когда дело шло о воспитании. — Надо сказать: спасибо душке сестрице. Ну? Спасибо душке…
— Мокроушке! — ответил малыш, хохоча во все горло.
— Ну, ты сегодня совсем одурел! — заметила Дитте и спустила его на пол.
Он побежал на двор к отцу, продолжая говорить всякий вздор.
— Что такое он болтает? — крикнул со двора отец.
— Да что в голову взбредет! Это он любит. Видно думает, что дразнит меня.
— Ушки-подушки-кадушки! — выдумывал мальчуган, хватая отца за ноги.
— Берегись, ты, маленький задира! Вот я тебя! — пробасил Ларс Петер страшным голосом.
Малыш, заливаясь смехом, побежал прятаться за колодец. Отец поймал его, вскинул себе на плечо, сестренку Эльзу посадил на другое и предложил детям:
— Прогуляемся по полю?
Дитте и Кристиан присоединились к тройке. Это была их последняя общая прогулка здесь, и они оба невольно взялись за полы отцовской куртки, каждый со своей стороны. Так сделали они свой обычный круг — обогнув поле, глиняную яму, болото. Но странно — все сегодня, перед разлукой показалось им другим, не таким, как всегда. И болото и глинища напоминали детям их игры, Ларсу Петеру — его планы. И канава, обросшая кустами ежевики, и огромный курган с каменной гробницей у северной межи, где так хорошо было играть в прятки, и поле — все говорило с ними по-своему. Поле было возделано, озимь посеяна, все в полном порядке ожидало будущего владельца, кто бы он ни был. Ларс Петер не хотел, чтобы его преемник был чем-нибудь недоволен. Никто не будет вправе сказать, что старый хозяин запустил свою землю, зная, что не ему придется снимать урожай.
— Да-а, вот мы и отжили здесь свой срок, — сказал Ларс Петер, когда они вернулись домой. — Бог весть, что ждет нас на новом месте! — Голос его был сейчас уже далеко не таким уверенным, как прежде.
На проезжей дороге начал собираться народ, К Сорочьему Гнезду никто, однако, не подходил, пока не при-катили уполномоченный с полицейским. Увидав их, Дитте чуть не вскрикнула. Ведь это они увезли тогда мать! Но теперь они приехали с добрыми намерениями и были очень обходительны.
Вслед за ними в дом потянулись и люди — группа за группой, целое шествие. Никто, стало быть, не хотел первым ступить на землю Живодера. Другое дело идти по следам начальства. Но только уполномоченный с полицейским и подали руку Ларсу Петеру, все остальные лишь как-то странно толпились вокруг, жались друг к другу и перешептывались.
Ларс Петер оглядел покупателей. Среди них было несколько хуторян, старых скряг, явившихся в расчете приобрести что-нибудь по дешевке. Большинство же составляло мелкий люд с Песков и Болота — хусмены, сельские ремесленники, которых прельщал кредит. Они даже не здоровались с Ларсом Петером, терлись около хуторян и заискивали перед полицейским. К уполномоченному они и близко подойти не смели. «Право, они ведут себя так, будто я куда ниже их, — думал Ларс Петер. — А что есть у них самих? У большинства нет не только клочка пахотной земли, но даже огорода с грядкой моркови!» Хорошо, что он никому ничего не должен!.. Даже поселенцы с Болота, которым он часто помогал, следовали примеру остальных и поглядывали на него свысока. Что ж, впредь на него им не придется уж рассчитывать!
А забавно все-таки было наблюдать за тем, как люди чуть не дрались из-за какого-то старья. Стало быть, немногого они сами стоили, если не брезговали обносками Живодера — лишь бы они достались им в кредит и по дешевке!
Уполномоченному большинство покупателей было знакомо по имени, и он подзадоривал их набавлять цену.
— Ну, Петер Йенсен с Лугов объявит настоящую цену. Целый год ничего у меня не покупал! — вдруг обращался он к какому-нибудь хусмену. Или: — Глядите, Йенс Пэссен, вот был бы подарочек вашей жене!
И каждый, кого он окликал, встряхивался, смущенно Усмехался и надбавлял. Видно было по легкому румянцу, выступавшему у них на скулах, как они были польщены тем, что их знал по имени сам уполномоченный.
— А вот частый гребень! Кто даст всех больше? — выкрикнул он, когда очередь дошла до земледельческих орудий. Волна смеха прокатилась по толпе: уполномоченный указал на старую борону. Веялку он назвал кофейной мельницей и так острил по поводу каждой вещи. Иной раз остроты его вызывали смех по адресу хозяина, и присутствовавшие охотно пользовались этим случаем. Но Ларс Петер только встряхивал головой и не принимал шуток всерьез. Уполномоченный и должен балагурить, это помогает распродаже.
Даже бедняк-поденщик Йохансен тоже явился за аукцион в рваной рабочей блузе, в треснувших деревянных башмаках — и встал позади всех. Всякий раз, как уполномоченный острил, Йохансен нарочно громко смеялся, чтобы на него обратили внимание. Ларс Петер злобно поглядывал на него. Ведь у Йохансенов редко водился даже лишний кусок хлеба — кроме того, что по глупости совал им Ларс Петер! Поденщик весь свой заработок пропивал. А теперь посмел явиться сюда, да еще важничает, негодяй! Вздумал купить себе старые сапоги Ларса Петера! Никто не хотел перебивать у него покупку, и сапоги остались за ним всего за одну крону.
— Плата наличными! — сказал уполномоченный. Тут уж все могли посмеяться над самим Йохансеном — у него не было ни одного эре в кармане.
— Я могу одолжить ему деньги, — сказал Ларс Петер и выложил на стол крону. Йохансен тупо посмотрел на него, сел и начал натягивать сапоги. Он позабыл уж, когда носил кожаную обувь.
В чистой комнате был накрыт стол для угощения — два больших блюда с бутербродами, графин водки, а вокруг него три стаканчика на одном конце стола и кофейные чашки на другом. Дитте томилась в кухне, красная, возбужденная ожиданием, как-то понравится ее угощение. Она собиралась, если это понадобится, подбавить бутербродов. То и дело подбегала она к дверям, ведущим из кухни в чистую комнату, и поглядывала в щелку. Сердце было у нее не на месте. Время от времени кое-кто из посторонних входил в комнату и с любопытством озирался, но уходил, ни до чего не дотронувшись.
Вот вошел один из нездешних покупателей, незнакомый Дитте. Он сел на скамейку, взял бутерброд с копченой бараниной, налил себе стаканчик, выпил и стал жевать. По его лицу видно было, что угощение пришлось ему по вкусу. Но вдруг в комнату вошла крестьянка, потянула его за рукав и что-то шепнула ему. Он встал, выплюнул остаток бутерброда себе в ладонь и вышел вместе с женщиной из комнаты.
Когда Ларс Петер сам заглянул в кухню, Дитте горько плакала, положив руки и голову на стол. Отец приподнял ее и спросил, в чем дело?
— Ничего, ничего, — всхлипывала она, пытаясь увернуться. Может быть, она жалела его, может быть, хотела даже от него скрыть, как ей стыдно. Едва удалось ему ласковыми уговорами выпытать у нее, что все дело было в закуске.
— Они не дотрагиваются до нее! — рыдала девочка.
Он сам уже заметил это, но, чтобы утешить ее, сказал:
— Они еще не проголодались. Да и времени не было.
— Они думают, что это все несъедобное! — продолжала она. — Что это из собачины или из чего-нибудь такого.
— Ну, какой вздор! — Ларс Петер принужденно засмеялся. — Ведь и перерыва обеденного еще не было, — прибавил он.
— Я сама слышала, как одна женщина сказала мужу, чтобы он не трогал ничего, — ответила Дитте.
Ларс Петер постоял немного.
— Ну, ты не расстраивайся только, — сказал он и похлопал ее по спине. — Завтра мы отсюда уедем, и наплевать нам на них на всех. Там для нас начнется новая жизнь. А теперь мне пора вернуться на аукцион. Будь же умницей, девочка!
Ларс Петер пошел на гумно, где все еще продолжался аукцион.
В полдень уполномоченный объявил перерыв.
— Теперь отдохнем немножко, добрые люди, и заморим червячка! — крикнул он.
Все засмеялись. Ларс Петер подошел к нему — каждый знал, зачем, и все придвинулись поближе, чтобы посмотреть, как Живодер получит щелчка по носу. Он приподнял свою мятую шляпу и взъерошил копну волос на голове:
— Я хотел бы только предложить, — начал он, и мощный голос его раздался во всех углах сарая, — может быть, начальство не побрезгует… Там, в чистой комнате, приготовлена закуска, водочка и пивцо… Найдется и чашечка кофе.
Люди подталкивали друг друга локтями: какова дерзость?! Приглашать начальство к столу в доме Живодера, да еще в доме убийцы! Все пристально глядели на уполномоченного. Один хуторянин даже взял на себя смелость предостерегающе подмигнуть ему.
Уполномоченный поблагодарил, но отклонил предложение.
— У нас ведь есть с собою закуска, а вам с вашей славной дочкой и без того много хлопот сегодня, — приветливо добавил он. Но, заметив удрученный взгляд Ларса Петера и торжествующее переглядывание в толпе, понял, что тут что-то неладно и что ему волей-неволей придется стать на чью-то сторону. К тому же он ведь уже побывал здесь раньше по уголовному делу и теперь не прочь был немного подбодрить этих славных людей, которые так мужественно переносили свое несчастье.
— А впрочем, спасибо, — сказал он весело. — Чужой кусочек всегда кажется слаще собственной корочки!.. А тут еще водочка впридачу! Что вы скажете, Хансен? — обратился он к полицейскому.
И они пошли за Ларсом Петером в комнату и сели за стол.
Люди оторопело поглядывали им вслед. Потом один за другим стали пробираться за начальством. Любопытно все-таки посмотреть, как понравится начальству угощение Живодера. Очутившись в комнате, всякий должен был для приличия присесть к столу. А за столом нельзя было не заразиться аппетитом начальства. Да, пожалуй, люди и не верили злым сплетням, которые сами же сочиняли и распространяли. Дитте пришлось подбавлять и бутербродов, и кофе, и выйти показаться уполномоченному, который похвалил маленькую хозяйку и потрепал ее по щеке. Эта ласка сняла с сердца Дитте большую тяжесть и вознаградила за многие страдания.
— Таким кофе меня пока не угощали ни на одном аукционе, — сказал уполномоченный.
Когда аукцион возобновился, прибыл еще один посторонний покупатель. Он раскланялся с уполномоченным, как со знакомым, а вообще ни на кого больше не обратил внимания и пошел осматривать строения и земельный участок. По одежде он походил на управляющего каким-нибудь имением: высокие штиблеты на шнурках, охотничья куртка с кушаком и пряжкой. Но все же люди сразу признали в нем не деревенского жителя. И откуда-то просочился слух, что это один столичный купец, желающий приобрести Сорочье Гнездо ради охоты на озере и построить здесь дачу.
Сначала никто как будто и не собирался торговать усадьбу Живодера, но слух о покупателе изменил положение. Пожалуй, все-таки здесь мог быть неплохой хуторок, если заняться им, привести в порядок. И когда дело дошло до торгов, крестьяне стали усердно набивать цену на Сорочье Гнездо. Приезжий оказался не единственным, кто желал приобрести его. И Ларс Петер получил за усадьбу порядочную сумму.
Когда аукцион окончился, люди все еще стояли, словно ожидая чего-то. Потом одна дородная хуторянка подошла к Ларсу Петеру и протянула ему руку, говоря:
— Ну, попрощаемся теперь с вами и пожелаем, чтобы вам лучше жилось на новом месте, чем здесь. Тут вам пришлось не очень сладко, мало видели вы радости.
— Да и за ту некого поблагодарить, — ответил Ларс Петер.
— Верно. Люди не так относились к вам, как следовало бы, и я, должно быть, тоже. Но уж таковы мы, крестьяне. Не любим бедняков. Не поминайте нас лихом! И будьте счастливы!
Она обошла всех детей, всем подала руку и пожелала счастья. Многие из бывших на аукционе поторопились скрыться, а кое-кто по примеру хуторянки, прощаясь с семьей Ларса Петера, подал руку.
Ларс Петер, окруженный детьми, стоял и смотрел вслед уходящим.
— Все-таки люди часто бывают лучше, чем кажутся, — сказал он растроганно.
Желая выехать на другой день как можно раньше, они еще с вечера погрузили на телегу все, что хотели увезти с собою. До поселка путь был не близкий, а хотелось приехать туда засветло, чтобы успеть устроиться на ночь. Поэтому сегодня пораньше улеглись спать — все порядком устали за этот полный треволнений день. Спали на гумне, прямо на сене, так как все постели были уложены на возу.
Утром с самого пробуждения все пошло по-необычному. Спали одетыми, и теперь оставалось только ополоснуть лицо водой у водопойной колоды. И это уже предвещало что-то новое, приятное. Затем надо было напиться кофе и отвести корову к соседям, куда за нею должны были прийти новые хозяева. Наконец наступило время выезжать. Большого Кляуса запрягли. На самый верх воза взгромоздили поросенка, кур и троих ребятишек. Преинтересно начиналась новая жизнь!
Один только Лapc Петер не испытывал радости. Под каким-то предлогом он обогнул угол дома и, зайдя за сарай, остановился и окинул взглядом свои бывшие владения. Много раз стоял он на этом месте и глядел вниз на свое поле. Вон там он ходил и работал в поте лица, пережил много и дурного и хорошего; здесь была ему дорога каждая канавка, знаком каждый камень, каждая трещинка в земле. Как-то сложится для него будущее на новом месте? Ларс Петер не в первый раз начинал жизнь сызнова, но никогда еще с таким ничтожным запасом бодрости. Его ум и сердце начинали тяготеть к прошлому.
Зато дети смотрели только вперед, заставили Дитте рассказывать им про море и побережье, которые она помнила со дней своего детства у бабушки, и ждали от новой жизни всяких чудес.
IX Кому вилы в бок, кому хлеба кусок
Зима выдалась долгая, суровая и тяжелая. Ларс Петер был уверен, что сразу купит пай в рыбацкой артели, но оказалось, что ни одного свободного пая нет, и всякий раз, как он напоминал трактирщику об его обещании, тот отделывался словами: «Это от тебя не убежит. Дай срок».
Дай срок! Трактирщику легко было говорить. А тут человек болтается без дела и проедает с семьей последние гроши!.. И разве можно ждать, чтобы с кем-нибудь из рыбаков произошло несчастье, а самому занять его место? Не велика радость!
У Ларса Петера были основания надеяться, что трактирщик поможет ему приобрести рыболовный бот покрупнее и предоставит ему самому подобрать артель, Так Ларс Петер представлял себе дело, пока не переехал сюда, но, как видно, он ошибался.
Пока что он только помогал то одному, то другому, заменял заболевших и роптал. А трактирщик продолжал твердить: «Ну, подожди еще. Все придет в свое время. А пока забирай у меня в лавке все, что нужно».
Похоже было, что он держит Ларса Петера про запас для чего-то получше.
Наконец и весна пришла. И сразу дала себя знать на пасху страшными бурями, натворила много бед на побережье. Однажды утром бот Ларса Йенсена вернулся без своего старшины — огромная волна смыла его за борт.
— Вот теперь тебе нужно пойти к трактирщику, — сказали Ларсу Петеру двое оставшихся пайщиков.
— А не вернее ли пойти к вдове Ларса Йенсена? — спросил он. — Ведь пай-то теперь к ней перешел!
— Ну, мы в эти дела не вмешиваемся, — осторожно ответили те. — Ступай к кому хочешь! Но если у тебя водятся деньжонки, сдай их лучше в сберегательную кассу — хижине долго ли до пожара? — Они загадочно усмехнулись и повернулись спиной к Ларсу Петеру.
Он подумал-подумал… «Не тут ли загвоздка?» Потом взял свои две тысячи крон, оставшихся от аукциона и отложенные на постройку домика, и пошел к трактирщику.
— Я пришел к тебе с просьбой… возьми у меня на хранение деньги, — начал он тихим голосом. — Говорят, у тебя тут сберегательная касса.
Трактирщик пересчитал деньги и спрятал к себе в бюро.
— Дать квитанцию? — спросил он.
— Ну-у, и так, пожалуй, обойдется, — нерешительно проговорил Ларс Петер. Он бы не прочь был получить расписку на эти деньги, но не смел потребовать ее. Похоже было бы, что он не доверяет.
Трактирщик защелкнул крышку бюро. Звук этот отозвался в ушах Ларса Петера, как будто комок земли с шумом ударился о крышку гроба. А трактирщик сказал:
— Это будет твой залог за пай. Я думаю, ты заменишь Ларса Йенсена.
— Так мне бы вернее уговориться на этот счет с его вдовой, а не с тобою. Ведь это ее пай теперь.
Трактирщик повернулся к нему всем своим огромным корпусом.
— Ты, я вижу, лучше меня знаешь, что тут в поселке мое и что твое дело!..
— Нет, как можно… я только думал… — пробормотал Ларс Петер.
Выйдя из лавки, Ларс Петер пришел в себя. Черт его знает! С этим страшилищем всегда как-то, словно сам не свой. Уж одно то, что у него шеи вовсе нет… И голова огромная… А силища у него, говорят, прямо медвежья. И ума хоть отбавляй. Кого хочешь вокруг пальца обведет, и все выйдет по его. Нет, куда уж тягаться с ним. Вот и сейчас — надо было бы хорошенько обдумать свой ответ, чтобы сразу, так сказать, разрубить узел, а он вместо того стал прикидывать в уме силу этого человека, говорят, непомерную.
Словом, Ларс Петер был очень недоволен своим разговором с трактирщиком, но рад был, что так или иначе покончил с делом.
Он пошел в гавань и сообщил результат двум компаньонам. Те ничего не возразили, они рады были, что у них третьим пайщиком станет Ларс Петер — такой рослый, сильный человек и к тому же хороший товарищ.
— Теперь ты должен помогать вдове, — сказали они только.
— Как так? — вырвалось у Ларса Петера. — Черт возьми! Два раза, что ли покупается пай?..
— Ну, это уж как сам знаешь. Наше дело сторона, — ответили они.
Он пошел к вдове, жившей в крохотной хижине на южной стороне поселка. Она сидела у печурки и ела гороховый суп. Слезы стекали у нее по носу и капали в миску. Увидев вошедшего, она заплакала навзрыд, причитая:
— Осталась я без кормильца!
— А я, боюсь, прогорел на этом деле, — сказал удрученно Ларс Петер. — Я заплатил трактирщику две тысячи крон за пай, а теперь узнал, что пай твой.
— Другого тебе, пожалуй, ничего и не оставалось, — заметила она дружелюбно.
— Так пай, значит, не твой?
— Муж мой получил его от трактирщика десять лет тому назад и говорил, что уже выплатил за него вдвое или втрое. Но где же тут разобраться бедной вдове, когда она должна рассчитывать на милость других? Тяжко жить на свете, Ларс Петер! У кого теперь искать защиты? Кто побранит и кто приласкает меня? — Она опять залилась слезами.
— Мы тебя часто будем навещать и насчет пропитания не забудем. Я никогда никого не обижал, а уж вдову, которая потеряла своего кормильца, и подавно не обижу… Мы, бедняки, должны стоять друг за друга.
— Знаю, знаю, что ты не бросишь меня, вдову, в нужде, а готов помогать мне по мере сил. Но у тебя своя семья, есть кого кормить, а даровой хлеб у нас тут не растет на дюнах. Не вышло бы по пословице: «Рад бы в рай, да грехи не пускают».
— Так-то так, но, во всяком случае, один бедняк может опереться на другого. Мы тебя не забудем, лишь бы нам самим малость устроиться. Ты уж плюнь мне вслед три раза, когда я пойду.
— От всего сердца! — сказала вдова. — Я ничего, кроме добра, тебе не желаю.
Ларс Петер мог теперь приняться за дело. Только бы повезло ему хоть немного с уловом. Он рад был, что вдова Ларса Йенсена не желала ему зла на новом его поприще. Проклятья вдов и сирот тяжело ложатся на труд человека.
Когда Ларс Петер поближе пригляделся к делам в поселке, то увидел, что людям живется здесь не совсем так хорошо, как ему казалось сначала. Он мог выбрать себе и другое место для житья, получше. Кругом сплошь беднота, и что-то незаметно ни в ком стремления выбиться из бедности. Рыбаки выезжали в море, потому что так заведено и не прожить иначе. А если бы можно было сидеть у моря и ждать погоды, они бы так и делали.
— Работай, не работай — все равно богаче не станешь! — говорили они.
— Почему же так? Куда девается ваш заработок? — спрашивал Ларс Петер, недоверчиво усмехаясь.
— А вот погоди, сам увидишь! — отвечали ему. И вот теперь он начал понимать.
Немудрено, что у них не было особой охоты работать. Ведь никто в поселке не смел ни сказать, ни сделать ничего, не спросив трактирщика. Он тут всем ворочал, самовластно расходовал сколько требовалось на гавань, на приобретение новых рыболовных снастей и ботов; он же позаботился о том, чтобы никто в поселке не голодал и не мёрз, — открыл лавку, где всегда можно было получить в кредит все необходимое — бревна, топливо, хозяйственную утварь, съестные продукты. Все рыбаки были у него в долгу, но никто не мог сказать, сколько именно он должен. Да они и не беспокоились об этом, а забирали да забирали в кредит, пока трактирщик не закрывал его на некоторое время. Надо, впрочем, отдать ему справедливость: если в какой-нибудь хижине доходило до крайней нужды, он оказывал помощь и улаживал дело.
Поэтому, должно быть, все и мирились с таким порядком, да еще, пожалуй, и довольны были, что им незачем голову ломать. Привезут улов на берег, корчмарь его примет и выплатит каждому, сколько самому заблагорассудится — на карманные расходы. Остальное он будто бы записывал на личный счет рыбаков, кому что причитается. Но отчета никогда не давал. «Вряд ли стоит нам с тобой считаться, — дружелюбно говорил он. — И так поладим. Видно ведь, что ты стараешься вовсю». И все оставались его должниками. Широкий, видно, был у него карман, что мог вместить столько денег.
Да, сколько-нибудь крупной суммы никогда нельзя было получить на руки, зато и заботы ни о чем не было. Износятся снасти или буря унесет их, трактирщик даст рыбакам новые, и всем самым необходимым для жизни снабжала рыбаков его лавка. Ларс Петер удивлялся такому житью-бытью, но допускал, что многих оно могло привлекать. Ведь часто бывает, что человеку, предоставленному себе самому, решительно негде взять средств даже на самое необходимое — вот у него и мелькает соблазнительная мысль: хорошо бы стать иждивенцем, пусть берут мой заработок и зато содержат меня!
Но это плохо отражалось на рыбаках; они становились менее предприимчивыми. Ларсу Петеру очень трудно было уговорить компаньонов, чтобы они лишний раз вышли в море. К чему напрягать силы? Все рыбаки были такие вялые, словно придавленные. В поселке жилось не весело. Кто не проводил свой досуг в трактире за выпивкой и картами, тот коротал время в другом месте. Домашнего уюта и семейного лада в здешних хижинах не было.
Ларс Петер заранее радовался, что он заведет тут кое-какие знакомства, будет ежедневно с кем словом перемолвиться, по-товарищески побеседовать, узнать побольше о том, что делается на свете. Ведь многие рыбаки в молодости плавали в дальних морях на торговых или на военных кораблях, кружили по белу свету, можно было расспросить их о многом-многом, интересном и для него и для них. Но он разочаровался, — беседовали большей частью о соседях и приятелях, а чаще всего о трактирщике. Словно глухой каменной стеной окружал он здешних жителей, отгораживал их от всего мира. Снизу, с берега, видны были крыши его построек, широко и солидно расположившихся на побережных дюнах; тут была и усадьба, и корчма с постоялым двором, и лавка. Вот каждый невольно и косился на эти крыши, прежде чем сказать или предпринять что-нибудь. На владельце этих построек начинался и кончался всякий разговор.
Здесь никто не отзывался о трактирщике особенно хорошо. Все так или иначе отдавали ему свой заработок. Кто нес денежки прямо в трактир, кто предпочитал проедать их. И все втихомолку проклинали трактирщика.
Ну, да это их дело! В конце концов с людьми поступают, как они того заслуживают по своей глупости или уму. Он, Ларс Петер, не даст превратить себя в бессловесную рабочую скотину. Он должен был оградить своих детей от нужды и мало-помалу вывести их в люди.
X В новом мире
Дитте в кухне намазывала салом толстые хлебные ломти всем троим проголодавшимся ребятишкам. Они повисли на нижней приотворенной половинке двери и так и впились в старшую сестру глазами. Она слегка журила их, ведь не прошло и часа, как они пообедали, а теперь ведут себя так, словно их морили голодом целую неделю. «Мне, мне! Дай сначала мне!» — кричали они наперебой и тянули к ней руки. Они не дали Дитте домыть посуду и могли разбудить отца, отдыхавшего после обеда в каморке на чердаке. Вообще, ребят совсем нельзя было узнать. Вот как действовал на них морской воздух. Просто не напастись на них еды!
Дитте шикала на детей, но их унять было невозможно, они горланили, колотили босыми ногами в дверную створку и протягивали руки. Дождаться не могли! И, схватив свой ломоть, каждый стремглав летел обратно на берег играть. Они стали здесь настоящими сорванцами! Просто от рук отбились.
— Берегитесь, не попадитесь на глаза Людоеду! — вполголоса остерегала их Дитте, высунув голову в дверь. Куда там! Они уже ничего не слышали и не видели.
Дитте зашла за угол дома и смотрела им вслед. Они бежали без оглядки, только песок из-под ног летел. Вот тебе раз! Поуль уронил намазаный жиром хлеб прямо в песок! Как же он будет есть теперь! Но мальчуган подхватил его и помчался дальше, прожевывая кусок на бегу.
— Не беда! Песок прочищает кишки! — сказала про себя Дитте, смеясь. — Совсем они здесь одурели, право! Только и знают, что роются в песке, играют и шумят! Никогда не были они такими.
И самой Дитте жилось здесь лучше. Конечно, ей было не до игр, даже в свободное время, — она давно отвыкла от них. Но теперь у нее появился досуг, а кругом было столько интересного. Сколько насчитывалось здесь горбатых, покосившихся, поросших мхом хижин, лепившихся к дюнам и карабкавшихся на дюны под высоким береговым обрывом! И каждая хижина, вокруг которой валялись мусор, рыбные отбросы и разные обломки орудий, представляла собой особый замкнутый мирок, возбуждавший любопытство Дитте. Ей хотелось бы проникнуть в каждый!
Дитте была от природы любознательна, но ее не тянуло бродяжить, как Кристиана. Тот не знал покоя: ему непременно нужно было разведать, что вон за тем холмом, и что за следующим, и так дальше; его вечно тянуло по другую сторону горизонта. «Так ты, чего доброго, весь свет кругом обежишь, догоняя горизонт, который все будет убегать от тебя», — шутил отец, поддразнивая мальчика. Из таких шуток сложилась даже целая сказка про неугомонного Кристиана, который карабкался на каждый новый холм, попадавшийся на дороге, и в конце концов пришел обратно в свой же поселок да еще уткнулся носом прямо в горшок с кашей, сваренной Дитте. Немало доставалось Кристиану за его шатание, но тут даже трепки не помогали. А малыш Поуль отличался страстью все ломать и расковыривать; ему хотелось узнать, «что там внутри». Любил он тоже орудовать молотком, топором, рубанком, и все у него получалось почти так же, как у Кристиана. Но пока еще все его изделия в конце концов ломались у него же в руках. Зато, если у Дитте выскакивала из метлы палка, Поуль отлично вколачивал ее снова. В его детских руках все становилось орудием, и он зачастую «ломал вещи только затем, чтобы было ему что починить», — смеялся отец. Сестренка лишь молча наблюдала за всем своими большими глазами.
У Дитте ни к чему не было особой склонности, она любила работать, но только когда видела в этом пользу, — иначе работа не доставляла ей настоящего удовольствия. Она не интересовалась тем, как устроены вещи, и не стремилась узнать, что там, по ту сторону горизонта.
После смерти бабушки ее больше не тянуло вдаль. Но она по-прежнему не сомневалась в том, что в будущем ее ждет что-то хорошее. Это предчувствие теплилось слабым огоньком в самой глубине ее существа и скрашивало ее тяжелое детство. Это помогало ей легче переносить бесконечную цепь непосильных трудов, лишений и бед, которые она постепенно преодолевала. И огонек этот продолжал теплиться в ее душе, поддерживая надежду, что все, что ей суждено в жизни хорошего, непременно наступит. Она была привязана к своему домашнему очагу. Ничто постороннее ее не прельщало.
На свете не могло быть соседки лучше Дитте, но до сих пор судьба не баловала ее соседями. Детство свое она провела в местах малонаселенных, где люди жили далеко друг от друга. Тем больше наслаждалась она теперь жизнью в тесном общении с людьми, впитывала ее в себя, так сказать, всеми порами своего существа.
Девочку интересовали ее ближние, и не успела она провести в поселке и недели, как уже неплохо освоилась здесь и узнала все самое главное о своих соседях, живших рядом и напротив, ладят ли между собою муж с женою и кто чей жених или чья невеста. Она умела делать наблюдения на лету, извлекать из них все существенное и потом мастерски сопоставлять их, складывать воедино. Тяжелые жизненные условия выработали в ней особую наблюдательность, которая и возмещала ей многое, чего она была лишена, позволяла ей с некоторым злорадством или мстительным удовлетворением поглядывать на людей, которые с таким пренебрежением относились к семье Живодера, а сами были вот какие!..
Покосившаяся хижина, в одну половину которой трактирщик всунул Ларса Петера, находилась почти в центре поселка, как раз напротив рыбацкой гавани. В хижине жили уже две семьи, и Ларсу Петеру отвели всего две комнатки с кухней, так что сам он должен был ютиться на чердаке под соломенной крышей. В общем хижина была настоящей лачугой, «богадельня», как ее прозвали. Но другого жилища нельзя было отыскать здесь, поэтому, пока Ларс Петер сам не построился, пришлось взять, что давали, да еще спасибо говорить трактирщику за крышу над головою. Дитте была недовольна домом, — полы совсем прогнили и после мытья не просыхали, вообще жилье здешнее было не лучше их лачуги в Сорочьем Гнезде, только еще теснее. Ее утешала мысль о собственном домике — настоящем домике с красной крышей, сияющей на солнце, и еще о железной лоханке, которая не рассохнется.
Вообще все, кроме жилища, Дитте здесь даже нравилось. Занимаясь мытьем посуды или стиркой перед открытою кухонною дверью, она могла следить за всеми, проходившими мимо. И ее детский ум оживленно работал, соображая, кто, куда и зачем идет. А заслышав голоса за стенкой или в другом углу хижины, она прерывала работу и, вся превратившись в слух, замирала от напряженного любопытства. Даже в их хижине было столько интересного! Хотя бы этот шорох, шепот и говор двух проживавших здесь семей. За стенкой лежала в постели параличная старуха и проклинала свою судьбу; двое близнецов в люльке надрывались от крика, а мать их, невестка старухи, где-то пропадала. В другом углу хижины жил Якоб Рулевой с дочерью по прозвищу «Фонарный столб». И вдруг перед дверью, будто из-под земли, вырастал трактирщик, то и дело рыскавший по дюнам, словно разнюхивая, совсем как огромный тролль, выслеживавший молодуху. А за стенкой слышались стук об пол клюкою и проклятия старухи.
Отсюда, из центра поселка, распространялись всяческие слухи и часто из них потом сплетались целые истории о людском горе, стыде, преступлениях. Дитте нередко удавалось проследить их все до конца. Она привыкла быстро отыскивать нить даже в самом запутанном мотке пряжи.
Хорошие настали для нее дни — маленькое здешнее хозяйство не обременяло девочку, и у нее оставалось достаточно времени для себя самой; школу она окончила и теперь только ходила к пастору, готовясь к конфирмации. Скотины, требовавшей ухода, они здесь не держали, не стало у них даже Большого Кляуса, похожую на корабельный киль спину которого можно было в первые дни видеть из кухонного окна. Трактирщик запретил пасти его на луговинках между дюнами и поставил к себе во двор. Коняга провел там всю зиму, и они видели его только, когда он тащился с берега с возом морских водорослей или рыбы для трактирщика. Плохо жилось теперь Большому Кляусу, на него трактирщик стал взваливать всю тяжелую кладь, щадя своих собственных лошадей. У Дитте навертывались слезы на глаза при одной мысли о их любимце, больше напоминавшем теперь лошадь-привидение из сказки, чем живого, настоящего коня. И некому было заступиться за него! Давно-давно не подбирал он своими мягкими губами хлебных корочек с ладоней Дитте!
Сама она подросла и выровнялась, слегка пополнела. Как славно было, наконец, чуточку порадоваться жизни, и как приятно смотреть на веселых ребятишек! Вот она и расцвела немножко. Волосы становились гуще и даже позволяли себе роскошь завиваться колечками на лбу, подбородок округлился. Красивой ее нельзя было назвать, но глаза у нее были зоркие — наблюдательные, пытливые, всегда искавшие, не надо ли где кому помочь. Вот только руки были красные, загрубелые, — она не умела их беречь и холить.
Покончив с кухонными делами, Дитте пошла в комнатку, присела на скамейку под окном и принялась чинить детское белье. Заодно можно было поглядывать в окошко, следить за жизнью на берегу и в дюнах.
На прибрежном песке играли ребятишки, копались и рыли изо всех сил, возводили из песка крепости, сооружали гавани. Правее площадки, где обыкновенно сушились на кольях сети, стоял небольшой домик, содержавшийся в большом порядке. Перед ним прохаживался старый рыбак Расмус Ольсен и бранился. Видно, жена опять выжила его из дому. Клапан его широких штанов болтался. Расмус Ольсен то и дело доставал из кармана новую порцию жвачки, сплевывал старую в просмоленную каменную канавку вокруг домика, защищавшую участок от стекавшей с крыши дождевой воды, А ругался тонким, тягучим голосом. Забавно было слушать его громкую, монотонную, как проповедь, брань, но можно было и уснуть под нее. В Расмусе Ольсене не было и капли желчи. Но вот немного погодя вышла мадам Ольсен{8} и начала препираться с мужем. Она умела поддать жару!
Муж с женою постоянно ссорились из-за дочери. Они ее избаловали и старались каждый перетянуть на свою сторону. Тянули-тянули, один к себе, другой к себе, и кончали тем, что ссорились сами. А Марта, негодница, то заступалась за отца, то за мать — как ей было выгоднее. Это была красивая девушка, высокая, стройная, гибкая и сильная. Ей нипочем было катить по сыпучим пескам дюн тачку, нагруженную сетями или рыбой. Зато и нрав был у нее дикий, прямо необузданный. Если у нее и заводился дружок, то ненадолго, вскоре она готова была выцарапать ему глаза.
У нее было двое детей — от разных отцов. И удивительное дело — оба дружка готовы были жениться на ней, но она ни за кого из них не хотела выходить. Уж такая у нее была причуда, что, забеременев, она не выносила своего возлюбленного, начинала царапаться, чуть только он хотел к ней приблизиться.
Старики родители были оба глуховаты и всегда выходили ссориться под окна — на свежий воздух. Им казалось, что они говорят тихо, а сами кричали на весь поселок, так что все и каждый знали, из-за чего у них нелады.
Из окошка Дитте видно было море, сверкавшее на солнце, бледно-голубое и чудесное. Оно раскинулось словно живое, гигантское существо, лежало и нежилось, но могло взбушеваться вдруг! Сейчас все лодки стояли рядами в гавани, защищенной волнорезами, и напоминали скот в стойлах. На скамеечке на молу сидели, покуривая трубки, два старых рыбака.
Вдруг все ребятишки умчались с берега, словно стайка спугнутых птиц — они заметили трактирщика! Он видеть не мог играющих детей, считал, что всех их надо заставить работать. И стоило ему только показаться, ребятишки разбегались от него, как птенцы пигалицы.
А вот и он сам, шагает вперевалку, в огромных смазных сапогах. Длинные руки болтаются ниже колен. Поднимаясь на песчаные дюны, он упирается могучими кулаками в бедра и словно ползет в гору на четвереньках. А приземистое, изуродованное туловище похоже на движущиеся раздувальные мехи. Голова словно вросла в широкие плечи и покачивается, как буек на волнах. Издалека слышно, как он пыхтит. Господи Иисусе, вот уродина! Похож на присевшего тролля, который возьмет вдруг да и вытянется насколько захочет кверху, чтобы, глядя поверх крыш, выбрать себе кусочек полакомее. Челюсти у него плотно сжаты, а как разинет свою огромную пасть, то, право, кажется, проглотит зараз детскую голову! А глазища! Говорили, будто женщинам дурно делалось со страху, когда он таращился на них. Дитте, дрожа всем телом, даже зажмурилась было, но все-таки быстро открыла глаза — надо же посмотреть, куда он идет. Она следила за ним украдкой, содрогаясь при одной мысли о том, что будет, если он перехватит ее взгляд.
Людоед, как называли его между собой ребятишки за то лишь, что у него была такая широкая пасть, повернул к домику Расмуса Ольсена.
— Ну, вы, двое старых ребят, опять поссорились! — добродушно-весело крикнул он им. — Из-за чего? Опять из-за Марты?
Расмус Ольсен, увидав Людоеда, сразу смолк и пошел к гавани. Но мадам Ольсен была не из робкого десятка и накинулась на трактирщика:
— А тебе какое дело? Что ты-то суешься?
Трактирщик прошел мимо нее в дом, не обращая внимания на брань. Ему нужно было поговорить с Мартой, но старуха бежала за ним по пятам, как рассвирепевшая дворняжка.
— Можешь не шляться сюда! Нечего тебе тут разнюхивать! — кричала она.
Трактирщик скоро вышел, но мадам Ольсен продолжала шуметь и браниться ему вслед, пока он не скрылся в дюнах.
Старуха постояла немножко, озираясь, увидала в окне Дитте и перешла через дорогу. Видно, она еще не угомонилась и искала, перед кем бы излить свое сердце.
— Шляется тут да разнюхивает, урод горбатый! — сердито кричала она. — Лезет в дом к людям, как в свой собственный. А старикашка мой, бездельник, боится взять его за шиворот, улепетывает от него! Хороши здешние мужчины, нечего сказать! Справляйся, как хочешь, одна совсем — и с пропитанием, и терпи позор свой. Ох, будь жив мой сынок! Так нет, погиб, оставил меня горе мыкать, сиротой! — Она закрыла лицо передником и залилась слезами.
— Он утонул? — с жалостью спросила Дитте.
— Ох, день-деньской гложет мое сердце тоска. Никогда не избыть мне ее! Нет у меня больше радости в жизни, только и думы, что о сынке. Легко ли снести такую потерю? Может статься, глупые это слезы, да ежели я не в силах их унять? Не идет он у меня с ума — вот беда. Главное, погиб-то он так чудно, по-дурацки! Ну, если бы еще расхворался он и умер — дело другое. Я бы сказала: «Раз ему не суждено было жить, так суждено, значит, умереть, вот именно — умереть!». Ведь он был такой рослый, здоровый и вдруг погиб так по-дурацки — нет, этого забыть нельзя! И все дядя. Все приставал к нему с этой охотой на уток. Я-то не пускала, но парню загорелось — идти да идти. Не успокоился, пока не пошел и не прострелил себе голову.
«Я, говорит, умею с ружьем обходиться, мать! Сколько, раз стрелял!» — ну, и все такое. Вот и уехал с двумя ружьями в лодке. И десяти минут не прошло, как он уж мертвый лежал в лодке, полной крови. Вот почему я видеть не могу диких уток и в рот не беру дичи. А как сяду к окну, так мне и чудится, что вот сейчас внесут его… опять внесут его, мертвого. Вот почему глаз никогда не осушаю, все хожу и плачу и плачу, загубила свою молодость!
Мадам Ольсен так и залилась слезами, сморкаясь в передник и поглаживая рукой доску стола.
Дитте увидела эту сварливую, крикливую женщину совсем в новом свете.
— Ну, ну, полно, успокойтесь, — твердила она, ласково притронувшись к подбородку мадам Ольсен, и сама поплакала с нею вместе. А потом сказала: — Сейчас я сварю кофе, попьем с вами вместе.
Ей все-таки удалось немного успокоить старуху.
— Золотые у тебя руки, — благодарно сказала мадам Ольсен, взяв Дитте за руку. — Они потому и покраснели и загрубели, что сердце у тебя такое доброе.
Пока они сидели и пили кофе, пришел Ларс Петер. Он сбегал на постоялый двор, чтобы посмотреть, каково живется Большому Кляусу, и вернулся расстроенный. Дитте спросила, что с ним.
— Бедняга наш Кляус… они совсем уморят его там, — удрученно сказал Ларс Петер.
Мадам Ольсен ласково на него поглядела и заметила:
— Вот тебя я все-таки слышу, хоть ты и не прямо ко мне обращаешься. Да, он отобрал у тебя и коня, и телегу. Он все себе присваивает — и добро, и честь, и деньги… и корм. Ты ходишь к нему в трактир?
— Еще ни разу не был, — ответил Ларс Петер. — И вряд ли буду там частым гостем.
— Вот в том-то и беда, что ты непьющий! Таким всего труднее поладить с ним. Лучше, оказывается, оставлять деньги у него в трактире, чем в лавке, — так у него уж заведено. Но в одну из этих его касс ты все-таки должен вкладывать свои денежки — другого выхода нет. Все мы в кармане у нашего трактирщика.
— Да как же он этого добился? Ведь не всегда же так было? — спросил Ларс Петер.
— Как? Да уж больно дрянные мы людишки… во всяком случае, в нашем поселке. Коли нет над нами хозяина, так мы с воем бегаем да ищем его, как бездомные псы, пока не найдем того, кто даст нам пинка ногой. И сейчас же кидаемся лизать ему сапоги — вот он, хозяин-то! И рады-радешеньки! В детстве моем здесь все было по-другому, каждый в поселке был сам себе хозяином. А вот он явился и все прибрал к своим рукам. Трактир-то здесь уже был, но он увидал, что таким путем он не всего добьется, вот и стал затевать тут разные разности, расхваливать новые сети да улучшенные способы лова и бог весть, что там еще! Ну, и накупил рыбакам дорогих снастей и наложил лапу на их улов. В прежнее время улов часто бывал плохой, и рыбакам приходилось круто; теперь они добывают рыбы куда больше, а что толку? В барышах один трактирщик! Хотелось бы знать, для чего тебе понадобилось переезжать сюда?
— В округе ходили слухи, что он такой славный и много помогает вашим рыбакам. И насколько я сам тогда мог судить, мне казалось, что слухи недалеки от правды. Но теперь, когда испытываешь это на собственной шкуре, все выходит как-то иначе.
— Ох-хо-хо! Добрый! Помогает, помогает — пока не снимет с человека последнюю рубаху. Погоди, он и из тебя все соки выжмет… и из девчонки тоже, хоть она и лакомый кусочек для его черных зубов. Пока он ощипывает тебя только сверху, отбирает лишнее. Потом начнет помогать тебе так, что всего тебя опутает долгами, и ты будешь искать крюка повеситься. Тогда он заговорит с тобой словами священного писания и спасет тебя. Он ведь и проповедует — как сатана!
Ларс Петер безнадежно глядел перед собой.
— Слыхал я, что он и жена его устраивают такие душеспасительные беседы, но мы на них не бывали да и не очень-то падки на такие штуки. Конечно, мы не безбожники, но опыт говорит, что лучше нам знать свое дело и предоставить богу знать свое!
— Мы тоже не ходим туда, но Расмус пьет. И тебе придется бывать либо в трактире, либо на беседах. Да, да, сам все это испытаешь со временем. И чего я, дура, зря разболталась!
Она ушла готовить ужин своему непутевому мужу.
Ларс Петер и Дитте посидели еще немного, и девочка сказала:
— Лучше бы нам переехать в другое место!
— Ну, не так страшен черт, как его малюют! И я не собираюсь лишаться своих денег и всего добра, — заявил Ларс Петер.
XI Пряничный домик
До ближайших соседей здесь было рукой подать, и ребятишки Ларса Петера чувствовали себя, как муравьи в муравейнике. Дни были для них полны событий и впечатлений, одно интереснее другого, но больше всего их занимал Людоед, которого они боялись. Нередко в самый разгар игры в прятки между вытащенными на берег лодками и рыбьими садками, или когда ребятишки сидели верхом на коньке крыши пожарного склада, — откуда ни возьмись появлялся Людоед! Длинные ручищи словно загребали воздух, и попадись в них, — пожалуй, и несдобровать! Не всегда одним страхом отделаешься! Из пасти у него пахло человечьим мясом — уверяли дети. Им-то он уж никак не мог показаться лучше, чем был на самом деле. Дети удирали от него со всех ног, дыханье спирало у них в груди, и сердце готово было выскочить от страха. Но это еще больше возбуждало их любопытство.
А вечером, когда они лежали в постели, до их слуха долетали странные шорохи и звуки, исходившие из чуждого им мирка и имевшие свое особое значение. Вот на чердаке слышались мягкие, крадущиеся шаги. Отец многозначительно поглядывал на Дитте, и Кристиан понимал, в чем дело: по его знаку младшие дети прятались с головой под перину и начинали шептаться. Это бродил наверху и подслушивал Якоб Рулевой, он искал слово, которым мог бы одолеть сатану в образе трактирщика. Дети немало ломали себе голову, придумывая это слово, чтобы получить от Якоба Рулевого обещанные двадцать пять эре. А за стенкой кашляла старуха Дориум. Она страдала ожирением и все пухла да пухла, а нутро у нее, должно быть, становилось пустым, так как она выплевывала свои внутренности целыми кусками прямо в стенку.
Сын ее плавал в дальних морях и редко заглядывал домой. Но каждый раз, когда он приезжал, оказывалось, что его ребенок умер, а жена уже успела родить еще одного. Она легко рожала детей, но ходила за ними плохо, и они умирали. «Что легко бог посылает, то легко и отнимает», — посмеивались люди. Теперь у нее остались лишь последние близнецы. Они лежали в двухместной деревянной люльке и целые дни плакали, хотя у каждого во рту торчала соска с жеваным черным хлебом. Матери подле них никогда не было. Приходилось Дитте смотреть за детьми, чтобы они не извелись вконец.
Чуть подальше в дюнах стоял домик, не похожий на все остальные. Красивее домика дети не видывали. Все двери и оконные наличники выкрашены в голубой цвет. Деревянный каркас домика не был осмолен, как у других хижин, но выкрашен в коричневый цвет, а кирпичная штукатуренная кладка простенков — в красный с синими полосами. Вокруг домика не было ни соринки, песчаный грунт выровнен и аккуратно подметался; даже у маленького колодца с «журавлем» всегда бывало сухо и чисто. Близ колодца росла раскидистая бузина, единственное дерево во всем поселке, а под нею стояла скамеечка.
Колодезный «журавль» уравновешивался старым мельничным жерновом. На подоконниках стояли цветочные горшки с красными и синими цветами, а из-за них выглядывала сидевшая у окошка старушка. На голове у нее красовался белоснежный чепчик; а у ее мужа были белые, как снег, волосы. Когда погода позволяла, он целыми днями возился на свежем воздухе около дома, убирая, подметая, подчищая, украшая свои владения. Время от времени на пороге показывалась старушка и похваливала мужа:
— Да как же у тебя все красиво, хорошо выходит, батюшка!
— Для тебя ведь стараюсь, матушка! — отвечал он, и оба смеялись, поглядывая друг на друга. Потом он брал ее за руку, и они мелкими шажками шли к бузине и усаживались в ее тени на скамеечке, как двое детей. Но старушку скоро начинало тянуть назад к окошку, и дальше бузины она вообще никуда не ходила вот уже много лет, — как говорили в поселке.
Старички жили особняком, ни с кем в поселке не водились, но, когда дети Ларса Петера проходили мимо окошка, старушка всегда ласково им кивала и улыбалась. А дети нарочно пробегали мимо по нескольку раз в день, — этот нарядный домик с двумя старичками как будто притягивал их к себе.
Таким же порядком и чистотою, каким отличался ломик, дышала и семейная жизнь старичков. Никто в поселке не мог сказать о них ничего дурного.
Дети Ларса Петера называли между собою жилище старичков «пряничным домиком» и рисовали себе всякие чудеса и прелести, какие, казалось им, находились внутри этого домика. Однажды они все втроем, взявшись за руки, постучали в дверь. Отворил им старичок.
— Вам что, детки? — ласково спросил он, не переступая порога. А ребятишки и сами не знали, что им нужно, вот и стояли все трое, — молча, разинув рот и забыв вытереть носы.
— Да впусти ты их! — послышался голос из комнатки. — Входите, детки!
Они вошли в комнату, там приятно пахло цветами и яблоками. И потолок, и балки, и стены — все было покрашено, все сверкало чистотой. Пол был выкрашен белой краской, а стол так блестел, что окошко отражалось в нем, как в зеркале. В мягком кресле нежился большой кот.
Детей усадили на скамейку под окном и дали каждому по тарелке красного ягодного киселя. А чтобы они не напачкали, под тарелки им подложили клеенчатую дорожку. Оба старичка топтались возле ребятишек, с опаскою поглядывая, как они управляются с едою. По глазам хозяев видно было, что неожиданные гости доставили им удовольствие, но все же старички побаивались за свою посуду. Они ведь не привыкли принимать у себя таких малолетних гостей, а Поуль любого мог бы напугать, так обращался он с тарелкой. Проворно схватив ее обеими руками и чуть не расплескав при этом молоко, он протянул тарелку и крикнул: «Картошки!» — Он подумал, что ему дали одной подливки. Сестренка помогла братишке справиться с угощением. А Кристиан, проглотив свою порцию в одну минуту, уже стоял у дверей, — ему не терпелось поскорее удрать на берег, к морю в поисках новых развлечений.
Им еще дали по румяному яблочку и деликатно отправили домой, — старички уже устали от возни с ребятишками. Поуль на прощанье прильнул щекой к юбке старушки и сказал:
— Поуль тебя любит!
— Ах, господи, что за малыш! Отец, ты слышишь? — спросила она, качая седой головой.
Кристиану показалось, что и ему надо как-то выразить свою благодарность.
— Если вам надо куда сбегать, скажите только, — заявил он, тряхнув головой, — я ведь шибко бегаю! — И, чтобы показать свою быстроту, пустился от двери стрелою. Пробежав круг, он вернулся и торжествующе прокричал: — Видали? Вот какой я бегун!
— Видали, видали! Спасибо! Уж не забудем тебя, — ответили ему старички.
Так завязалось приятное знакомство. Старички стали зазывать к себе ребятишек. Без маленьких неудобств и промахов дело не обходилось, но старички с этим мирились.
Шалить детям в гостях не разрешалось, — это они в дюнах могли делать, здесь же должны были вести себя хорошо. Старичок рассказывал им какую-нибудь сказку или наигрывал что-нибудь на флейте.
Вернувшись домой, дети все выкладывали старшей сестре; глаза их при этом сияли, а сами они как-то притихали.
И вот Дитте стала думать, чем бы со своей стороны отплатить старичкам за их доброту к детям, но, ни до чего не додумавшись сама, стала советоваться с Кристианом — он ведь был такой выдумщик.
Рыбаки, прежде чем отдать улов трактирщику, обыкновенно оставляли немного рыбы себе, и вот однажды чудесная жирная камбала досталась Дитте. Она дала ее Кристиану, чтобы он отнес старичкам.
— Только не надо им знать, что это от нас. Сейчас они спят после обеда, вот ты и снеси им рыбу да положи где-нибудь так, чтобы они нашли сразу, когда проснутся.
Кристиан придумал положить камбалу на скамеечку под бузиной, но когда он немного попозже наведался туда посмотреть, как все вышло, то на скамейке оказались лишь хвост и жабры, — кот съел рыбу! Дитте, узнав о неудаче, выбранила мальчика, и пришлось ему снова ломать голову.
— Пусть отец возьмет Большого Кляуса и покатает их в воскресенье! — придумал Кристиан. — Они ведь никуда не ходят, потому что старые.
— Какой же ты глупый! Разве мы теперь хозяева над Кляусом? — осадила его Дитте.
И вдруг она сама придумала. Она будет каждый вечер чисто-начисто мыть домик старичков снаружи. Старушка ведь по утрам обмывала и обтирала наружные стенки, ползая около них на коленках. Жалко было глядеть на нее. И вот, вечерком, когда старички улеглись спать — а ложились они рано, — Дитте взяла ведро с водой, щетку для мытья пола, набрала в передник песку и отправилась. Кристиан остался около своей хижины, — сестра не позволила ему идти вместе с нею, — он такой шальной, еще разбудит старичков!
— Что-то они скажут завтра поутру, когда увидят такую чистоту?! — крикнул он вслед Дитте, прыгая от радости. Он готов был не ложиться всю ночь, карауля пробуждение старичков, чтобы посмотреть, как они удивятся.
В следующий же раз, когда дети были в гостях, старичок рассказал им сказку про маленькую фею, которая, жалея его старушку, каждую ночь является и моет их домик.
Кристиан рассмеялся. Он-то лучше знал, в чем дело!
— Да это же наша Дитте! — вырвалось у него нечаянно. Он готов был прикусить себе язык, да уж поздно было.
— Как? Разве наша Дитте — фея!.. — воскликнула Эльза.
Тут и старички и Кристиан расхохотались, сестренка же разобиделась и расплакалась. Пришлось утешить ее пряником.
А на обратном пути домой дети встретили — кто бы мог подумать! — дядю Йоханнеса, который бродил тут, разыскивая их жилье. Одет он был щеголем, как настоящий прасол-барышник. Ларс Петер обрадовался гостю, — братья не виделись с тех пор, как расстались так не по-братски в Сорочьем Гнезде. Теперь это было забыто. Впрочем, кое-что Ларс Петер слышал про Йоханнеса, — он был из тех, кто умеет заставить говорить о себе. Братья подали друг другу руки, как будто между ними никогда не было размолвки.
— Садись к столу, пообедай с нами, — пригласил Ларс Петер брата. — У нас сегодня вареная треска.
— Спасибо. Но я сегодня буду обедать в трактире, в компании с другими коммерсантами.
— Шикарный, должно быть, будет обед? — Глаза у Ларса Петера заблестели, — ему-то никогда в жизни не приходилось бывать на таких обедах.
— Да, вероятно. В харчевне у вас хорошо кормят. Молодец ваш трактирщик!
— Одни говорят — да, другие — нет. Кто как смотрит на дело. Но, впрочем, лучше не упоминай при нем, что братом мне приходишься. Такая бедная родня тебе не в честь и не в прибыток.
Йоханнес засмеялся.
— Да я уже рассказал об этом трактирщику. А он, между прочим, хвалил тебя. Ты у него, оказывается, лучший рыбак.
— Ну-у? В самом деле он так сказал? — Ларс Петер даже покраснел от смущения и гордости.
— Да, он прибавил еще, что ты человек недалекий. Но он считает, что даже треску можно научить уму-разуму.
— Вот как? Еще и это? К чему же он это сказал, черт возьми? Разве же я не знаю, что дурака уму-разуму не научишь! Глупости какие!
— Уж не знаю, что он хотел сказать. Но сам он человек башковитый. Прямо, как ученый.
— А тебе, я слышал, повезло, — переменил разговор Ларс Петер. — Говорят, что ты почти обручился с дочкой хуторянина?
Иоханнес с улыбкой потрогал пушок над своим женственным ртом и только сказал:
— Мало ли что болтают.
— Только бы ты не потерял ее, как со мною случилось. Я ведь тоже был в дни молодости женихом дочки хуторянина, да она померла еще до венца.
— Правда? — воскликнула Дитте, гордясь тем, что ев отец не хуже других.
— Что скажешь, дочка? — спросил Ларс Петер, когда Йоханнес распростился. — Здорово он в гору пошел!
— Да, и щеголь какой! — согласилась Дитте. — Но мне он все-таки не нравится.
— На тебя не угодишь, — досадливо сказал Ларс Петер. — А другим он, как видишь, нравится. И жену возьмет себе богатую.
— Пожалуй. Недаром у него такие черные волосы. Мы, женщины, с ума сходим по черноволосым. Но, по-моему, он человек недобрый.
XII Будничные мелочи и превратности судьбы
Всего два месяца спустя после переезда своего в поселок, незадолго до сочельника, Ларс Петер не вытерпел и взбунтовался против трактирщика. Он даже не был под хмельком в тот раз, а в поселке считалось просто неслыханным делом, чтобы трезвый человек позволил себе повздорить с трактирщиком. Но Ларс Петер просто глуп еще был тогда; все с этим соглашались, и он сам в том числе.
Все вышло из-за Большого Кляуса. Ларс Петер не успел еще освоиться с тем, что его конь надрывается, работая на чужих людей. И у него сердце кровью обливалось, когда он видел, как тяжко приходится его верному коняге. К тому же Ларс Петер возмущался еще и тем, что ему приходится шататься без дела, несмотря на все прежние уверения и обещания трактирщика. Да, многое в поселке раздражало Ларса Петера. В один прекрасный день он решил отобрать у трактирщика своего коня, чтобы заняться старым промыслом. Он явился к трактирщику и резко потребовал свою лошадь.
— Пожалуйста! — трактирщик сам пошел с ним и приказал запрягать. — Вот твой конь, твоя телега и упряжь, — сказал он. — Больше, кажется, здесь ничего нет твоего?
Ларс Петер немножко растерялся. Он ожидал, что трактирщик заартачится, а тот стоит себе с самым добродушным видом, кроткий, как овца.
— Мне хотелось, кстати, забрать кое-чего у тебя в давке, — смущенно сказал Ларс Петер.
— Сделай одолжение, Ларс Петер Хансен, — отозвался трактирщик и прошел вперед него в лавку. Отвесил и того, и другого, и третьего, чего требовал покупатель, да еще сам напомнил — не забыл ли тот чего. Понемногу на прилавке выросла целая гора продуктов.
— Может, еще изюму для пряников к празднику? Дитте ведь сама печет у тебя!
Вот как он знал все, что кого касалось, и обо всем умел подумать.
Когда Ларс Петер хотел отнести продукты к себе на телегу, трактирщик ласково сказал:
— С тебя приходится сегодня столько-то и столько-то, да еще за тобой должок с прошлого раза.
— Разве нельзя подождать еще немножко? Пока я получу сполна расчет по аукциону?
— Никак нельзя… Я ведь еще не знаю тебя.
— Ага! Стало быть, я наказан! — вскипел Ларс Петер.
— Какое же тут наказание? Ведь нужно же все-таки знать человека, раньше чем отпускать ему в кредит.
— Разумеется! Вижу, вижу, каков ты гусь! — крикнул Ларс Петер и выбежал из лавки.
Трактирщик проводил его до телеги.
— Когда-нибудь ты оценишь меня правильнее, чем сегодня, — сказал он с невозмутимым добродушием. — Тогда мы с тобой и потолкуем хорошенько. Но чтобы не забыть самого главного: где ты возьмешь корм для лошади?
— Как-нибудь устроюсь, — коротко ответил Ларс Петер.
— А про конюшню ты не забыл? Теперь ведь холодно.
— И это я сам улажу. Не твоя печаль!
И Ларс Петер поторопился уехать — в сущности просто назло. Он сам понимал отлично, что ни корму, ни конюшни ему негде взять, — разве только у того же трактирщика. Дня через два он отослал с Кристианом свою упряжку обратно на постоялый двор.
Вот, значит, какое было дело! Теперь Ларс Петер стал умнее или, но крайней мере, осторожнее. И если его иногда непреодолимо влекла к себе проезжая дорога и хотелось хоть полдня провести с Большим Кляусом, он вежливо просил трактирщика одолжить ему конягу. И случалось, что ему не отказывали. Тогда они оба с конем вели себя, как двое влюбленных, редко видящихся и пьяневших от счастья при свидании. Люди уверяли, что у Ларса Петера и Большого Кляуса был такой вид, словно они оба подвыпили.
Вообще же Ларс Петер не стал умнее, и трактирщик по-прежнему был для него загадкой, ставил его в тупик своей необыкновенной заботливостью и потребностью прибирать к своим рукам всех и все.
Столь же «мало понимал Ларс Петер и своих компаньонов по лодке и прочих людей в поселке. Он прожил жизнь среди крестьян-хуторян, которые держались особняком, каждый сам по себе, крепко цепляясь за свое. И ему тогда часто недоставало общения с людьми. Жизнь в поселке, где люди живут дверь в дверь, могут в любую минуту подать друг другу руку помощи, по-приятельски поболтать между собой — какою уютною казалась она ему, когда он глядел на нее со стороны, из уединенного Сорочьего Гнезда! А на деле что оказалось? Работают здесь в поселке спустя рукава, отвиливают от всякой ответственности, от всяких забот о себе и о других, сами перебиваются кое-как, со дня на день, с хлеба на воду, а всю прибыль оставляют в руках чужого человека. Просто чудо, как этот горбатый черт загребает себе все своими длинными ручищами, а люди хоть бы пикнули. Должно быть, ему помогает нечистая сила.
О бунте Ларс Петер больше и не помышлял, поневоле смирился. И когда он начинал возмущаться, ему достаточно было вспомнить Якоба Рулевого, который ежедневно вертелся у него на глазах. Все и каждый здесь знали и рассказывали, каким образом стал он таким убогим. Была у него прежде собственная лодка, и он сам составлял артель, вот и полагал, что незачем ему кланяться трактирщику. Но тот сумел поставить его перед собою на колени! Отказался забирать у его артели улов, так что им приходилось ездить, искать сбыта в других местах. Мало того, трактирщик еще сумел закрыть им и этот выход. Им перестали отпускать в поселковой лавке и продукты и какие-либо орудия или рыболовную снасть, и никто вообще не смел ни в чем помогать им, — они стали как бы прокаженными в поселке. Тогда двое компаньонов, считая Якоба виновником всех бед, обрушились на него: «Черт с тобой! Ты задрал нос, а мы страдай из-за тебя! и тоже отступились от него. Он попытался было продать здесь все и переселиться в другое место. Но трактирщик не захотел купить его имущество, а другие не посмели. Пришлось ему поневоле остаться и покориться. Хоть лодка со всей снастью и была его собственностью, он должен был работать на трактирщика как арендатор. Трудно было ему мириться с таким положением, и рассудок его не выдержал. Теперь у него засело в голове — найти магическое слово, чтобы одолеть нечистую силу — трактирщика. Временами случались у него и буйные приступы, когда он бегал с ружьем, грозя застрелить трактирщика. Но тот только ухмылялся и не обращал внимания. Словом, как ни прикидывай, — тут не обошлось без нечистой силы.
Дитте укрепляла в отце это убеждение. В разговорах со здешними женщинами она от всех слышала одно и то же: трактирщик водится с нечистым, у него «дурной глаз». И вот он стал ей чудиться на каждом шагу, так что она была в вечном страхе; а когда он, случалось, неожиданно вынырнет где-нибудь между дюнами, — она не могла удержаться, чтобы не взвизгнуть. Ларс Петер даже стыдил ее за это.
Как-то однажды он сидел за столом, а Дитте, подавая ему еду, ходила взад-вперед из кухни в комнату и вдруг проговорила:
— Наверное, у меня скоро будет ребеночек, ведь и уже могу кормить грудью.
— Что ты болтаешь, девчонка! — испугался Ларс Петер и даже ложку бросил. Потом рассмеялся: — Вот дурашка! Сама не знает, что болтает!
— Нет, знаю, он меня сглазил, — серьезно уверяла Дитте.
Ларс Петер был очень встревожен этим разговором, но не знал, как быть. Вот горе, что Сэрине с ними нет, она сумела бы наставить дочку.
Вообще же отсутствие Сэрине не чувствовалось; они устроили свою жизнь и без нее.
Поуль пришел домой с берега совсем больным, его тошнило, кидало то в жар, то в озноб, болела голова. Дитте раздела его и уложила в постель, потом позвала отца, который отдыхал у себя в каморке на чердаке.
Ларс Петер мигом сбежал с лестницы, хотя всю ночь провел в море и его еще слегка покачивало.
— Ну, что с тобой, сынок? — спросил он, прикладывая ладонь ко лбу мальчика. У того жилки на висках бились и голова пылала. Ребенок отвернулся.
— Плохо ему, видно, — грустно сказал Ларс Петер, присаживаясь на край постели. — знать меня не хочет. И как его быстро скрутило, утром он ведь был еще совсем здоров.
— Нет, он уже раз приходил домой, такой бледный, и знобило его. А теперь весь горит. Слышишь, как он дышит тяжело?
Они остались сидеть около мальчика, озабоченные, молчаливые. Отец держал в своей руке его ручонку. Это была настоящая кротовья лапка, ногти на пальцах были стерты вровень с мякотью. Мальчуган своих рук не жалел и не был неженкой, всегда подвижной, веселый, готовый бегать, возиться, как только глаза откроет поутру. А теперь лежит и дышит с таким трудом, что смотреть на него больно. Неужели это опасная болезнь? Неужели судьба опять готовится поразить Ларса Петера в самое сердце, отняв у него ребенка? Смерть всех детей от первого брака — дело прошлое, давно пережитое, но теперь у него уже не хватает сил переносить горе! Случись теперь что-нибудь с детьми — ему самому крышка! Теперь он понимал, что только дети поддерживали в нем бодрость духа после этой беды с Сэрине, только они мирили его со всеми прочими вытекавшими из этого напастями. Дети, только дети давали ему силу бороться с жизнью. Все его собственные разбитые надежды и погибшие мечты вновь так чудесно оживали в детях, в их радостном, беззаботном существовании. Может быть, он потому так и любил их, что для него самого многое в жизни было уже потеряно.
Вдруг Поуль приподнялся, хотел встать с постели.
— Гулять! Играть! Гулять! Играть! — повторил он несколько раз.
— Просится гулять, играть, — сказала Дитте, вопросительно глядя на отца.
— Так, может статься, ему полегчало? — с живостью воскликнул Ларс Петер. — Пусть делает, как ему хочется!..
Дитте одела мальчугана, но он опять весь поник, съежился, как увядший цветок. Пришлось снова раздеть его.
— Не сбегать ли за вдовой Ларса Йенсена? — спросила Дитте. — Она мастерица лечить.
Нет, Ларс Петер предпочел бы в таком случае настоящего доктора.
— Как только Кристиан вернется из школы, пусть сбегает на постоялый двор и попросит запрячь Большого Кляуса. Не могут же они отказать нам, когда у нас болел ребенок, — сказал Ларс Петер.
Однако Кристиану не дали лошадь. Зато следом за ним пришел сам трактирщик. По своему обыкновению, он вошел, не постучавшись.
— Мне сказали, что ваш младший мальчик заболел, — начал он ласково, — я и счел своим долгом навестить вас и, может быть, утешить добрым словом. Я захватил, кстати, и бутылочку с питьем, которое надо давать каждый час. Оно приготовлено с молитвой и повредить уж никак не может. Кроме того, надо потеплее укутать ребенка.
Он наклонился и прислушался к дыханию мальчугана. У Поуля глаза остановились от ужаса.
— Ты бы лучше отошел от постели, — сказал Ларс Петер. — Видишь, ребенок боится тебя. — Голос отца дрожал от затаенного негодования.
— Как и многие другие, — ответил трактирщик и охотно последовал совету. — А я все-таки живу и работаю и стараюсь по мере сил для других. А когда вместо благодарности вижу, как вы норовите потихоньку увернуться от встречи со мною, то утешаю себя тем, что господь каждому из нас назначил свой жребий. И людям, пожалуй, не плохо бояться чего-нибудь, Ларс Петер! Но лучше бы вы дали мальчику микстуру сейчас же.
— Я бы лучше позвал настоящего доктора, — сказал Ларс Петер и нехотя стал уговаривать Поуля выпить лекарство, которое предпочел бы выкинуть в окошко вместе с самим трактирщиком.
— Да, да, я понимаю, но давай сначала обсудим это. Что может поделать доктор? Ты только деньги потратишь, а ведь божьего изволения не изменишь. Бедным людям следует быть побережливее.
— Понятно. Кто беден, тот должен со всем мириться! — горько усмехнулся Ларс Петер.
— Могу тебя уверить, что и мы никогда не зовем к себе докторов, но предаем жизнь нашу в руки господа. На все — воля его.
— Ну, я полагаю, что многое на свете творится и помимо его воли — и здесь в поселке тоже! — вызывающе сказал Ларс Петер.
— А я тебя уверяю, что без воли божьей и самой малой рыбешки не изловить, не то что большой трески. — Голос трактирщика звучал торжественно, словно он читал писание, но в глазах его было что-то смущавшее Ларса Петера, и у него словно камень свалился с сердца, когда этот неприятный гость простился и скрылся за дюнами.
Дитте спустилась с чердачка; она так и не входила в комнату, пока трактирщик был тут.
— Какого черта ты бегаешь и прячешься от этого пугала? — накинулся на нее Ларс Петер, ища выхода своему собственному волнению.
Дитте покраснела и отвернулась.
Вскоре в стенку постучали. Это параличная старуха звала к себе Дитте. Девочка пошла к ней. Невестки, крупная и толстая женщина, оказалась на этот раз дома и кормила близнецов грудью.
— Мне слышно было сквозь стенку, кто у вас был, — сказала старуха, — и вел свои лукавые речи. Берегитесь его!
— Он пришел к нам не со злом, — уклончиво ответила Дитте. — Утешал отца и принес что-то Поулю.
— Что-то? Не лекарство ли? Вылейте в канаву поскорее! Там оно никому не повредит.
— Поулю уже дали глоток.
Старуха всплеснула руками и простонала:
— Господи Иисусе! Бедный ребенок! Трактирщик упоминал о смерти? Недаром у нас в поселке так и говорят: «Все мы под трактирщиком ходим!» Так не упоминал? И не предлагал доставить вам гробик? А то ведь он всегда готов услужить чем угодно, такой добрый, заботливый ко всем, с кем беда стрясется. Ну, значит, сегодня он был в хорошем настроении, пожалуй, мальчуган и выживет.
Дитте расплакалась, ей показалось, что никакой надежды нет, если все зависит от трактирщика. Он ведь сердит на них за то, что они не посылают детей в воскресную школу. Вот возьмет теперь и отомстит им!
Но два дня спустя мальчуган уже снова был на ногах, резвился, как всегда, готовый бегать и прыгать до упаду, — пока не свалится от усталости и не уснет. Ларс Петер позабыл все свои тревоги и по-прежнему добродушно мурлыкал. А Дитте, моя посуду, распевала и следила за резвым мальчуганом с материнской нежностью. Но во избежание неприятностей стала посылать детей в воскресную школу.
XIII Дитте — взрослая
Весною Дитте должна была конфирмоваться, но ей оказалось трудно заучивать наизусть заповеди, псалмы и тексты из священного писания — все, что требовал пастор. Времени для зубрежки у нее оставалось мало, да она уже успела и отвыкнуть от занятий; в голове у девочки были другие дела. И вот, когда удавалось выбрать время, чтобы засесть за книжку, — оказывалось, что она ничего не запоминает.
Однажды Дитте пришла от пастора домой вся в слезах. Пастор сказал, что она слишком отстала от других и ей придется вторично проходить все с самого начала. Он не может взять на себя такой ответственности — представить богу круглую невежду. Дитте пришла в отчаяние, — ведь считалось большим позором не быть допущенной до конфирмации.
— Этого еще недоставало! — с горечью воскликнул Ларс Петер. — А впрочем, чего же стесняться с такою мелкотой, как мы!.Довольно и того, что нас не сживают со света!
— Право же, я стараюсь не меньше других, — рыдала Дитте. — Где же справедливость?
— Справедливость! Откуда ей тут взяться, черт побери! Да пусть ты не знаешь ни одного псалма, хотел бы я видеть девочку достойнее тебя, чтобы представиться господу богу! Ты в любой час могла бы взять на себя все его домашнее хозяйство, и он был бы ослом, если бы не понял, что никогда еще за его ангелочками не было лучшего ухода. Но, конечно, мы делаем слишком мало приношений пастору! Да, все они таковы, черти, ключари врат райского сада со всеми его чудесами! Ну, ведь не повеситься же нам из-за этого!
Но Дитте оставалась безутешной, и ее никак нельзя было уговорить.
— Я хочу конфирмоваться! — рыдала она. — Я не хочу оставаться на второй год, чтобы меня дразнили каждый божий день!
— Пожалуй, следует подмазать пастора… — в раздумье сказал Ларс Петер. — Но это недешево обойдется.
— А ты пойди к трактирщику. Он ведь может это устроить?
— Он-то? Нет такого дела, чтобы он не мог устроить, коли захочет. Но ведь он не очень-то меня жалует.
— Это не беда. Он со всеми одинаков, и неизвестно, жалует он кого или не жалует.
Не очень-то приятно было Ларсу Петеру идти с поклоном к трактирщику, но ради девчонки!.. Против ожидания его хорошо приняли.
— Я охотно поговорю с пастором и улажу это дело. А ты пришли девчонку к нам на днях. У нас здесь такой обычай, что жена Людоеда готовит одежду для конфирманток.
Он криво усмехнулся, а Ларс Петер совсем смутился.
Таким образом, Дитте добилась своего — конфирмовалась. И целую неделю щеголяла в длинном черном платье, на спине у нее болталась светлая косичка, и поэтому она казалась совсем девчонкой, но что за беда? Подходя к причастию, Дитте плакала — от радости ли, что все-таки проскочила во взрослые, или оттого, что при этом случае полагалось поплакать, — трудно сказать. Зато всю неделю после этого она только улыбалась: все работы были с нее сняты, их выполняла за нее приходившая к ним ежедневно вдова рыбака Ларса Йенсена, а у Дитте не было никакого другого дела, как только разгуливать в своем наряде и принимать поздравления от всех. Целая толпа восхищенных девчонок помладше бегала за нею по пятам, а поселковые ребятишки мчались ей навстречу и приветствовали криками: «Конфирмантка, дай денежку!» Лapcy Петеру просто не напастись было мелочи.
Затем все опять пошло по-старому. И Дитте сделала открытие, что в сущности давно уже была взрослою: после конфирмации обязанностей у нее ведь не прибавилось и не убавилось.
И с официальным своим положением взрослой она скоро освоилась: когда их приглашали в гости, она брала с собой начатый чулок и усаживалась вязать в кругу степенных женщин.
— Что же ты не пойдешь к молодежи? — спрашивал ее иногда отец. — Вон они там на сушильной площадке игры затеяли!
Дитте шла к молодежи, но скоро возвращалась обратно.
Ларс Петер как будто немного привык к порядкам в поселке, — во всяком случае, ругал их только, когда ему случалось подвыпить в трактире. И уже не заботился с прежним усердием об удовлетворении всех домашних нужд. Дитте приходилось теперь напоминать ему о них, да иногда и не раз. Куда девался прежний Ларс Петер, который, бывало, каждый вечер спрашивал: «Ну, как дела, мамочка Дитте? Все ли у тебя есть, что нужно для дома?» Кредит в лавке избаловал его. И если Дитте иной раз делала ему по этому поводу какое-нибудь замечание, то он отвечал:
— Да, черт побери! Заработка у себя в руках все равно не видишь никогда, так надо как-нибудь изворачиваться!
Удивительное дело! Трактирщик как будто знал всю подноготную всех и каждого! И пока у Ларса Петера еще водились деньжонки, он не пользовался слишком широким кредитом у трактирщика. Он, как только наберется, бывало, некоторая сумма, закрывал кредит и открывал вновь лишь после погашения всего долга целиком. Таким образом, он выманивал у Ларса Петера сотенные бумажки одну за другой, пока они все не вышли. Было это незадолго до сочельника.
— Ну, вот! Все прожито! — сказал Ларс Петер. — Все, что мы выручили за Сорочье Гнездо. Теперь можно и успокоиться. Ведь он должен нас взять на иждивение, как всех прочих в поселке, — иначе я не знаю, как и чем мы будем кормиться.
Но трактирщик, видно, рассуждал иначе. Сколько дети ни бегали в лавку с корзинкой и с записками, они всякий раз возвращались ни с чем.
— Наверное, он думает, что из нас еще можно что-нибудь выжать, — говорил Ларс Петер.
Да, печально складывались дела. А Дитте как раз мечтала, что они справят этот сочельник особенно хорошо и чего-чего только не назаказывала в лавке — и муки, и свиного сала для хвороста, и грудинку на жаркое; ее можно было нашпиговать и зажарить, как гуся! И вот Дитте осталась с пустыми руками, все ее мечты развеялись, как дым. На чердаке уже лежала елочка, которую потихоньку дети добыли в питомнике, но какая же от нее радость, если нет ни свечек, ни сластей, ни цветной бумаги для украшений!..
— Ну, не беда, — говорил Ларс Петер, — как-нибудь обойдемся. Рыба и картошка у нас еще остались, — значит, голодать не придется!
Но дети хныкали.
Дитте не сдалась и старалась устроить все хоть сколько-нибудь по-праздничному. В гавани удалось ей купить у рыбака парочку нырков, попавших ему в сети. Она их выпотрошила и вымочила в молоке пополам с водой, чтобы отбить неприятный привкус, — стало быть, жаркое припасено! А на елку она повесила несколько штук румяных яблок, полученных в разное время от старичков из Пряничного домика; яблоки были такие красивые, что она пожалела их съесть.
— А если еще приладить на верхушку фонарик, то будет прямо красота! — объявила она.
Горсточку кофейных зерен она раздобыла взаймы у соседей, раздобыла и водочки, — нельзя же было оставить Ларса Петера в сочельник без угощения.
В таких хлопотах и беготне прошел у Дитте почти весь день, и теперь пора было затопить печку в кухне, чтобы приступить к стряпне. Ларс Петер с детьми сумерничал в комнате, и Дитте слышала, как он рассказывал им разные интересные случаи из своего детства. И вдруг вскрикнула. Верхняя створка кухонной двери открылась, и на фоне вечернего неба вырисовывались голова и плечи урода-великана, старавшегося просунуть в отверстие нагруженную корзинку.
— Вот вам кое-какие припасы, — сказал он, дотянувшись длинными ручищами до кухонного стола. — Веселых святок! — и он удалился, громко отдуваясь.
Дитте распаковала корзинку на столе. В ней оказались все припасы, за которыми она посылала в лавку с записками, и еще многое из того, о чем они с отцом могли только мечтать, но чего не могли позволить себе забирать в долг, а именно: «Рождественский альманах» с календарем, фунт шоколада для варки и бутылка старого французского вина!
— Совсем как господь бог: когда человеку всего горше, он тут как тут и подает руку помощи! — сказала Дитте, которая еще помнила пасторские поучения.
— Да, трактирщик наш большой шутник! Бегали мы, бегали к нему в лавку за припасами — ни шиша от него не получили. И вдруг сам приволок всякой всячины! Неспроста, конечно. Ну, да так или иначе, а есть будет одинаково приятно!
Ларс Петер не умилился. И был прав, когда говорил, что ни сердце, ни праздник никакой роли тут не играли. Им и после праздника отпускались из лавки разные продукты. Случалось иной раз, что корчмарь вычеркивал из записки Дитте что-нибудь, по его мнению, лишнее, но с пустой корзинкой дети больше ни разу не возвращались. Дитте продолжала видеть в этом руку провидения, но Ларс Петер смотрел на дело трезвее:
— Черт побери, не может же он оставить нас умирать с голоду, раз мы на него работаем! Уверяю тебя, этот плут правильно рассчитал, когда именно у нас не останется ничего и нам не на что будет куска хлеба купить! У него тонкий нюх!
Объяснение это, однако, не удовлетворяло вполне даже самого Ларса Петера. Было что-то в поведении трактирщика такое, чего нельзя объяснить только одной корыстью. Он хотел быть полновластным хозяином в поселке — это верно, но он ведь не жалел и себя самого. Вечно был начеку, знал все дела и семейное положение каждого, как свои пять пальцев, — даже лучше, чем люди сами это знали; держал все в голове и во все вникал, всех опекал. Это имело свою и хорошую и дурную сторону, — никто не знал, в какую минуту и откуда трактирщик на него нагрянет.
Ларс Петер вскоре почувствовал его отеческую опеку с новой стороны. Как-то раз трактирщик мимоходом обронил:
— Дочка-то у тебя уже большая, Ларс Петер. Пора ей самой зарабатывать себе хлеб.
— Она уже много лет его зарабатывает, и добросовестно. И спасибо ей за это! Плохо пришлось бы мне без нее! — ответил Ларс Петер.
Трактирщик побежал дальше. Но в другой раз, когда Ларс Петер рубил около хижины хворост, трактирщик вернулся к той же теме.
— По-моему, детям после конфирмации не следует засиживаться дома на шее у родителей. Чем раньше они пойдут служить в люди, тем скорее выучатся стоять на собственных ногах.
— К этому дети бедняков быстро приучаются и дома, незачем в чужие люди идти! А мы без нашей маленькой хозяюшки обойтись не можем.
— Хозяйка Хутора на Холмах охотно возьмет к себе Дитте с мая месяца. Место хорошее. А вдова Ларса Йенсена могла бы стать у тебя за хозяйку. Женщина работящая и сидит без всякого дела. Самое лучшее было бы вам пожениться.
— С меня и одной жены хватит, — ответил Ларс Петер.
— Она в тюрьме, и никто не обязан вновь сходиться с бывшей арестанткой, если не хочет.
— Это я слыхал, но в нашем роду люди не разводятся. И у Сэрине должно быть пристанище, куда вернуться.
— Это дело твоей совести, Ларс Петер. Но в писании нигде не сказано, что человек должен делить стол и ложе с убийцей… А я хотел еще сказать, что вдова Ларса Йенсена одна занимает целую хижину.
— Так, может, нам бы перебраться к ней, — с живостью откликнулся Ларс Петер. — Тут не больно сладко жить. — Он уже простился с надеждой построиться самому.
— Если вы поженитесь, хижина будет все равно что твоя.
— Никогда я не изменю Сэрине! — крикнул Ларс Петер, всадив топор в чурбан. — Так и знай!
Трактирщик отошел от него с виду такой же спокойный и приветливый. Якоб Рулевой, притаясь за другим углом дома, целился из ружья, заряженного солью, и только ожидал слова, чтобы выпалить. Трактирщик зашел было в дом, но тотчас же вышел и приостановился около Якоба. И впрямь бесстрашный был! «Ну? С ружьем сегодня гуляешь?» — спросил он. Якоб отпрянул в сторону и повернулся носом к стенке.
Всю семью опечалила новая затея трактирщика. Ведь он хотел отнять у них мать, хозяйку. Как же детям обойтись без мамочки Дитте? Они так сжились с нею, привыкли к ее заботливому, нежному уходу.
Сама Дитте отнеслась к этому всех спокойнее. Вся жизнь ее складывалась сообразно с тем, что ей рано или поздно придется поступить в услужение. Естественнее этого быть ничего не могло, ей с самого рождения было предназначено служить в людях. Через все ее детство и отрочество красной нитью проходила подготовка к цели, поставленной ей жизнью, — хорошо служить своим будущим хозяевам. «Кушай, кушай, дитятко человеческое, — говаривала бабушка, — вот и вырастешь большая да крепкая, будешь хорошей работницей. Иначе и нельзя в чужих людях!» И Сэрине, когда Дитте попала к ней, постоянно приговаривала: «Ты должна стараться, нерадивую работницу никто у себя держать не станет!» Учитель тоже вплетал это в свои нравоучения. И пастор, готовивший детей к конфирмации, невольно глядел в сторону Дитте, когда рассказывал им притчу о слугах верных и неверных. И сама она делала обычные будничные дела в доме, не упуская из виду будущей своей судьбы, и с радостной надеждой и вместе с тем со страхом думала о предстоящем ей великом и ответственном событии, когда ей придется уйти из родного дома к чужим людям.
Теперь срок приближался, и ей становилось грустно, но главным образом за тех, кого она покидала. Для нее самой это было ведь вполне естественным, неизбежным.
Готовясь к предстоящей разлуке, она стала особенно тщательно прибирать, приводить в порядок все в доме и приучать к хозяйству сестренку Эльзу, указывая ей, как и за что надо браться и где место каждой вещи. Эльза была девочка внимательная и сообразительная, усваивала все легко. Труднее было с Кристианом. Дитте серьезно беспокоилась за него: как он будет вести себя, когда некому будет постоянно следить за ним, остерегать его, останавливать? Поэтому она теперь ежедневно строго увещевала его.
— Смотри же теперь, перестань глупить и удирать, если что и придется тебе не по нраву! Помни — ты старший! Ты будешь виноват, если Поуль и сестренка натворят чего-нибудь. Им больше не с кого пример брать, кроме тебя. И перестань, пожалуйста, дразнить Якоба Рулевого, это просто грешно.
Кристиан со всем соглашался, все ей обещал, мальчик он был предобрый; беда только, что трудно помнить все свои хорошие обещания!
С карапузом Поулем еще бесполезно было говорить серьезно. Да он и без того был хорош — славный малыш! Но как странно было представить себе, что ей придется расстаться с ним! И много раз за день Дитте подзывала его к себе и ласкала.
— Только бы вдова Йенсена была добра к детям и умела их держать в руках! — говорила девочка отцу. — У нее самой ведь детей не было. Удивительно, право!
Ларс Петер только усмехался:
— Ничего! Как-нибудь все обойдется. Женщина она добрая. Но как мы будем скучать по тебе!
— Ну, это само собой, — серьезно отвечала Дитте и добавила к характеристике вдовы Йенсена: — К тому же она бережливая. Это хорошо.
Вечером, когда все дневные хлопоты кончались и дети были уже в постели, Дитте осматривала шкафы и лари. Надо сдать мадам Йенсен все хозяйство в полном порядке. Особенно внимательно пересмотрела Дитте одежду и белье детей. На дно сундука была постелена чистая бумага, и все аккуратно уложено снова.
Делала все это Дитте как-то особенно неторопливо, подолгу не выпуская вещей из рук, как будто прощаясь с ними. Да, это было своего рода молчаливое торжественное прощание девочки с мирком, столь дорогим ее сердцу, хоть и стоившим ей многих тревог и труда. Она словно благодарила каждый предмет за вложенные в него свои собственные труды и заботы.
В те вечера, когда Ларс Петер не выходил в море, Дитте с шитьем в руках присаживалась около него к столу под висячей лампой, и они серьезно беседовали о будущем, давали друг другу добрые советы.
— Живя в чужих людях, ты должна хорошенько прислушиваться к тому, что тебе говорят или приказывают. Больше всего людей злит, если им приходится повторять одно и то же по нескольку раз. Да не забудь еще, что важно сделать не так, как нужно, а как тебе велено. Ведь каждый все делает по-своему и считает, что именно так и следует работать. Вот тут и трудно бывает угодить. Да, ни в чем другом, как именно в работе, труднее всего потрафить людям!
— Ну, ничего, я сумею угодить, — сказала Дитте с храбрым видом.
— Да, ты для своих лет умница, но этого еще мало. Помни, никогда не показывай людям свое недовольство, как бы тяжело тебе ни приходилось. Кто работает из-за куска хлеба, тот обязан быть довольным всем.
— Ну, нет, я в случае чего прямо выложу все начистоту.
— Ну, смотри, не слишком торопись с этим! Правда глаза колет, а пуще всего не любят люди слушать ее от слуг! Слугам рассуждать не полагается. И самое лучшее для них вовсе не иметь своего мнения. И ты знай помалкивай всегда, а про себя думай, что хочешь. Думать тебе никто запретить не может. А еще помни, что у тебя есть родной дом, куда ты всегда можешь вернуться, если тебя прогонят с места. Сама ты, конечно, не уйдешь до срока! Бросить место по каким бы то ни было причинам — значит заработать себе дурную славу. Лучше уж стерпеть любую несправедливость.
— Да разве нельзя постоять за себя, если правда на твоей стороне? — недоумевала Дитте.
— Можно-то можно, но, как знать, на чьей стороне она останется? «Кто силен да именит, тот и правду к себе переманит!» Это мы, бедняки, на опыте узнаем. Но все обойдется, надо только быть поумнее да не лезть на рожон!
Настал последний вечер. Весь день Дитте ходила из хижины в хижину, прощаясь с соседями. Она знала, как лучше провести эти последние драгоценные часы, но делать нечего, нельзя было уехать, не попрощавшись со всеми, — такие бы сплетни пошли!.. Дети, все трое, ходили за нею по пятам.
— Не надо вам входить за мною, неудобно вваливаться к людям всей оравой. Подумают, что мы на угощенье напрашиваемся!
И малыши прятались где-нибудь поблизости от того дома, куда Дитте заходила, дожидались ее в своей засаде и провожали до других соседей. Сегодня они хотели быть с нею вместе как можно больше. И она обещала пройтись с ними по берегу до мыса, откуда виден был Хутор на Холмах. Но времени не хватило. Было уже поздно, когда Дитте обошла всех соседей, так она и не сдержала своего обещания. Не обошлось, конечно, без слез: хутор, куда уходила Дитте служить, мерещился всем троим ребятишкам и во сне и наяву. Успокоились они тогда лишь, когда отец обещал им покатать их в воскресенье утром на лодке.
— С моря хутор тоже видно, и все его окрестности. И, пожалуй, сама Дитте будет стоять на холме и махать нам рукою!
— Разве хутор в самом деле так близко? — спросила Дитте.
— До него мили две-три, так что нужны, конечно, зоркие глаза, — ответил отец, силясь улыбнуться. Не до шуток было ему сегодня.
Трое детей уже крепко спали на большой кровати. Поуль в одном конце ее, сестренка и Кристиан в другом. Рядом с Поулем оставлено было место для Дитте, — она обещала им, что эту последнюю ночь они будут спать все вместе. Но ей еще нужно было прибрать кое-что. А Ларс Петер сидел у окна и при свете потухавшей вечерней зари перечитывал письмо от Сэрине. Всего несколько строк, — Сэрине не мастерица была писать. Но он без конца перечитывал эти строки про себя — громким шепотом. Настроение у него было тяжелое.
— Когда же вернется мать? — вдруг спросила Дитте, подойдя к отцу.
Ларс Петер взял календарь.
— По моим расчетам, еще больше года осталось, — тихо сказал он и прибавил: — Ты тоже соскучилась по ней?
Дитте не ответила, но немного погодя сама спросила:
— Как ты думаешь, она переменилась сколько-нибудь?
— Ты беспокоишься за детей? Я полагаю, она теперь любит их сильнее. Тоска — хороший учитель. А теперь пора и тебе ложиться, — утром надо рано встать, путь предстоит далекий. Пусть Кристиан проводит тебя подальше и донесет твои пожитки. На твою долю еще хватит! Жалко, что я сам не могу проводить тебя!
— Ну, ничего, я и одна справлюсь, — сказала Дитте, храбрясь, но голос у нее сорвался, и она вдруг упала на грудь отцу.
Когда Дитте легла, он посидел около нее, пока она не заснула. Тогда и он поднялся к себе наверх, чтобы лечь спать. Но он слышал, как девочка всхлипывала во сне.
Около полуночи он опять спустился вниз, уже одетый, в брезентовом плаще и держа в руках фонарь. Осторожно направил он свет фонаря на постель, — дети спали все четверо. Но сон Дитте был тревожен, она ворочалась, разметала руки, словно ее что-то беспокоило, наконец простонала:
— Сестренке надо кушать досыта… а так не годится… она совсем исхудает…
— Да, да! Отец уж последит за тем, чтобы она кушала досыта, — растроганно сказал Ларс Петер, осторожно прикрыл детей и отправился на лов.
ЧИСТИЛИЩЕ
І В чужих людях
— Ты ведь попадешь не совсем к чужим, — ободрял Ларс Петер Дитте вечером, накануне того дня, когда ей предстояло отправиться на свое первое место. — Хозяйка твоя из рода Маннов; ее дед и отец старика Сэрена были чуть ли не троюродные братья. Родство, конечно, дальнее, и ты лучше виду не подавай, что знаешь о нем, лучше погодить, пока они сами не вспомнят об этом. Не умно набиваться в родню к богатым людям!
Бесспорно, родство было дальнее… Ларс Петер и упомянул об этом лишь в виде некоторого утешения — за неимением лучшего. Слишком хорошо знал он, чего вообще стоит, в конце концов, родство. Да и Дитте на этот счет была не глупее других!
Все-таки отцовское напутствие облегчило ей последний, самый тяжелый конец дороги. Не так-то легко ведь одной-одинешенькой явиться в первый раз на службу. Душа уходила в пятки при мысли о том, что все там будет чужое… новое… Как-то она справится?.. И как примут ее тамошние люди?.. У них, пожалуй, большой дворовый пес… Не даст войти во двор. Придется ждать на дороге, пока кто-нибудь не выйдет случайно. И тогда ей, пожалуй, достанется за то, что она так запоздала!.. Но, положим даже, во двор она попадет „сразу, а дальше? В какую дверь войти? Через черные сени или по чистому ходу? И что сказать? «Я новая работница»? Нет, прежде всего надо поздороваться, иначе ее сочтут невежей, и тем самым она осрамит родной дом.
Словом, Дитте не так-то легко было, и утешительные слова отца очень ей пригодились. Если ты родня хозяевам, хотя бы и дальняя, все выходит по-другому, — ты почти как в гости пришла. Сразу как-то нащупаешь почву под ногами. Дитте даже не удивилась бы, если бы новая хозяйка встретила ее словами: «Так вот она, Дитте! В нашу родню пошла!»
В действительности вышло не совсем так, когда Дитте с узлом под мышкой очутилась в кухне. Ей самой не пришлось слова сказать, — Карен, хозяйка Хутора на Холмах, сразу смерила ее недовольным взглядом и проворчала:
— Неужто это самая старшая у Живодера? Коротышка, и не похожа на конфирмованную. Много ты наработаешь!
О родстве хозяйка даже не заикнулась, чему Дитте, впрочем, и удивляться не стала. Очутившись на месте, она не боялась взглянуть в глаза действительности. Может быть, здесь просто не знали о родстве, — бедных людей много, где же их всех упомнить? К тому же Дитте была незаконнорожденная, так что вообще не шла в счет.
Родство же действительно существовало, хотя и дальнее. Кто-то из сыновей одного из хозяев Хутора на Мысу, тяготясь домашней обстановкой, отправился берегом к северо-западу, облюбовал себе местечко на дюнах и обосновался здесь. Было это, очевидно, еще в те времена, когда Маннов кормило главным образом море. По самому расположению своему на дюнах Хутор на Холмах во всяком случае для полевого хозяйства не годился, — здесь ничего не росло. Приютился он во впадине довольно крутого берега, словно прячась от прибрежной полосы. Из хутора даже не видно было земельных угодий. Да и самый хутор едва можно было разглядеть со стороны. Зато с моря его было хорошо видно. С трех сторон хутор окружали громоздкие строения, а с четвертой находился овраг, на другом конце которого виднелся кусочек моря. Когда-то такое расположение хутора, вероятно, было целесообразно; теперь же оно утратило свой смысл. Из окон жилого дома, откуда присматривают за работниками и домашним скотом, видно было одно море. И с некрытого холодного двора — тоже. По заливу, неизвестно куда и зачем, скользили лодки, выплывая из-за одного мыса и скрываясь за другим. Далеко в открытом море виднелись суда, путей и назначения которых на хуторе не знали. А еще дальше в хорошую погоду виднелся какой-то остров — земля, о которой никто кругом ничего не знал, да и не старался разузнать. Была тут своя земля поближе, и полезнее было интересоваться ею.
Когда-то во всем этом был какой-то смысл. Из окон можно было наблюдать за своими лодками и сетями, а дальше — за чужими парусниками. Не один шкипер бросал здесь ночью якорь и продавал часть своего хлебного груза хозяевам хутора. Кое-кто приставал тут и не по доброй воле. В то время большое значение имела ветряная мельница, теперь ее развалины служили своего рода памятником скудоумия владельцев Хутора на Холмах. Только олуху могло прийти в голову ставить здесь мельницу! Ну, кто же повезет молоть свое верно чуть не в самое море?
«Поезжай на мельницу Хутора на Холмах, там тебе песок в ржаную муку перемелют! — смеялись люди над тем, кто носился с какой-нибудь вздорной затеей. Но человек, который дал повод к такой поговорке, был вовсе не сумасброд. Он рано сгорбился, таская во мраке ночи тяжелые мешки с берега на мельницу. И на лице у него ясно запечатлелись следы ночной работы. Люди боялись его. А он копил те далеры, которые со временем промотали его потомки. Это он и прикупил землю, составлявшую угодья хутора, и занялся земледелием, — главным образом, пожалуй, ради того, чтобы не так бросалось в глаза, откуда берется вся эта масса зерна на мельнице.
Но море вообще кормилец ненадежный, да и люди со временем становятся честнее. Мало-помалу земледелие стало главным занятием владельцев Хутора на Холмах.
Теперешние хозяева уже были до мозга костей крестьянами-землепашцам и, с корнями вросли в землю; их тошнило от вида волнующегося моря и раздражал этот далекий, открытый горизонт. К морю они спускались редко и неохотно. Давно миновали те времена, когда их туда призывало дело, теперь довольно с них было и того, что величественно раскинувшееся море вечно мозолило им глаза. Ну, чего оно тут ширится и пыжится зря? Ничего на нем не растет и не созревает, только холод да град — вот все его дары. И хоть бы двор-то был обстроен кругом. Настоящему двору полагается быть крытым четырехугольником — так уж заведено. Здесь же люди с колыбели до могилы обречены были глядеть в сторону моря и вечно чувствовать себя на краю пропасти, откуда вот-вот скатишься неведомо куда. И впрямь, если какой предмет начинал катиться со двора, то уж не останавливался до самого берега. И волей-неволей приходилось спускаться туда, к ненавистной воде, чтобы втащить его обратно наверх.
Обитатели хутора подтверждали своим примером ту истину, что нехорошо людям быть надолго отрезанными от своего родного, исконного и вечно иметь перед главами нечто чужое, ненавистное. Вид мори действовал на них, как тюремные стены на арестанта, и нарушал их душевное равновесие, делал их какими-то шальными, непокладистыми. Некоторые из них вели распутную жизнь, и Хутор на Холмах давал много пищи для пересудов. Это еще более способствовало тому, что обитатели его чувствовали себя отрезанными от остального мира.
Нельзя сказать, что они боялись новшеств или были неспособны на душевный подъем. Нередко тот или другой из них стучал кулаком по столу и клялся, что загородит овраг новою постройкой, а то так и вовсе перенесет двор на самый верх склона. Затем сразу приказывал запрягать, чтобы не откладывать дела в долгий ящик, уезжал в город за строительными материалами и возвращался домой — «под мухой». Это у них было в крови: плестись изо дня в день и вдруг бешено метнуться в сторону. Стоило обитателям Хутора на Холмах разойтись, как они начинали шагать, по пословице, шире, чем позволяли штаны!
С наследством же вообще дела обстояли неважно. Оно все таяло да таяло, и насчет Карен всем известно было, что она унаследовала больше пороков, чем далеров. Ей пришлось взять денег под вторую закладную, чтобы старший сын мог пройти курс в учительской семинарии в столице.
Единственным наследством, неизменно переходившим из поколения в поколение, оказывался взбалмошный, вздорный характер. Это было такое достояние, которое наследовал каждый. Те, кто через брак роднились с этой семьей, становились такими же взбалмошными, как и все члены семьи. Зато молодежь, рано покидавшая родной дом, постепенно выравнивалась и становилась такой же, как и все люди. Да и дети, прижитые обитателями хутора на стороне, вырастали неплохими людьми. Злое начало коренилось, стало быть, в самом хуторе, — над ним как будто тяготело какое-то проклятие, которое парализовало душевные силы его обитателей. У них попросту не было ни малейшей охоты создавать что-нибудь вновь или хоть мало-мальски поддерживать старое, они запустили все хозяйство. «Все равно хутор придется переносить, так стоит ли возиться с ним?» — говорили они.
Теперь на хуторе хозяйничала вдова Карен Баккегор, женщина достаточно крепкая и хозяйственная, но по характеру настоящее пугало для добрых людей. О Карен Баккегор ходило много толков, и ее богатые родственники старались держаться от нее подальше. Денег ведь у Карен не было, и чести от близости с нею прибавиться не могло. Она же мстила им за пренебрежение тем, что общалась с людьми ниже себя.
Да, нельзя сказать, чтобы Карен Баккегор была гордячкой. Она заводила знакомства и с хусменами и с барышниками; не брезговала даже приглашениями на чашку кофе по случаю крестин у жен поденщиков, ютившихся в хижинах на общественных лугах. Вполне возможно, что она и не подозревала своего родства с семьей Живодера. Родственные чувства в ней вообще были развиты слабо, чем отличались все Манны, — уж слишком много скитались они по белу свету и чересчур расплодились! Признавали родство лишь с теми, кто пользовался большим почетом и от кого можно было ожидать наследства.
Между Хутором на Мысу и Хутором на Холмах связь уже давно еле держалась. Хлеба-соли владельцы хуторов друг с другом больше не водили и встречались только на свадьбах да на похоронах, иногда с промежутками в несколько лет. Этого было, впрочем, достаточно, чтобы знать, кто из родных еще жив и кто умер. Когда же море поглотило столько земли, что Хутор на Мысу превратился в ’ Хижину на Мысу без клочка земли, и уж нечего стало ожидать с той стороны какого-либо наследства, — как-то сама собой порвалась и последняя слабая связь между родней. Никому из владельцев Хутора на Холмах не приходило в голову звать на свадьбу обитателей Хижины, — их едва терпели, когда те являлись на похороны. Словом, из Хутора на Холмах перестали даже глядеть в ту сторону, откуда вышел род его владельца.
Несколько иначе складывалось дело для обитателей Хижины на Мысу. У них были основания держаться за родство и хоть издали, сложными и кружными путями, наблюдать за Хутором на Холмах — хоть им самим от этого не становилось легче. Сэрен и Марен отлично знали, что они родня владельцам Хутора на Холмах. Это была их слабая струна, и они хвастались этим родством, когда собственная жизнь становилась уж чересчур тяжкой. Для себя лично они, впрочем, ни на что не надеялись, рано придя к тому убеждению, что не им написано на роду счастье.
А ведь бывали же случаи, что на бедняков неожиданно сваливалось наследство в сотню, а то и несколько сотен далеров! Бабушка Дитте знала наперечет все такие истории даже далеко за пределами своей общины и время от времени рассказывала о них внучке. Беднякам доставляло какое-то своеобразное удовольствие смаковать чужое счастье, хотя они и знали заранее, что самим-то им ничего не перепадет.
— Ты никогда никакого наследства не получишь, — говорила старуха девочке, — ты ведь незаконная; незаконным детям не бывать наследниками семейного добра.
— Значит, они не наследуют и никакого зла, — отвечала Дитте, решительно встряхивая головой. Она рано выучилась утешать себя.
Но в этом бабушка была не так уж твердо уверена.
Да Дитте и не особенно горевала, что лишена прав наследства, — как-нибудь проживет и без него. Может статься, выйдет замуж за человека с большими деньгами. То есть сначала-то он объявит себя бедняком, а она пойдет за него только по любви. Но, когда она даст ему слово, он тотчас сбросит с себя старую, грязную одежду и предстанет перед ней во всей своей красе. «Отец мой настолько богат, что его богатства хватит на обоих, — скажет он, — я хотел лишь испытать тебя, любишь ли ты меня ради меня самого». А то, может быть, она найдет на дороге мешок с деньгами, которого никто не терял, а стало быть, его и в полицию предъявлять не надо… Да мало ли возможностей разбогатеть и помимо наследства!
Но знали нынешние обитатели Хутора на Холмах о родстве с нею или не знали, — они, во всяком случае, ничем этого не обнаруживали и требовали от малолетней работницы настоящей работы. Дитте этому не удивлялась. Ведь только человек, занимающий самое незначительное положение, мог бы прийти к семье Живодера и сказать: «Мы с тобой родня!» Тем не менее уже одно сознание родства давало человеку тайное удовлетворение, позволяло мечтать о том, что и он может идти по дороге к счастью, проложенной его родственниками.
Хутор на Холмах сначала не вызвал в Дитте какого-либо разочарования. Атмосфера сплетен и дурных слухов, носившихся вокруг хутора, не угнетала девочку, а скорее подстрекала ее детское любопытство. Вступая и новую жизнь, Дитте так много ожидала от нее, что даже испытывала страх. И у нее не было причин сразу почувствовать себя обманутой, — вокруг было достаточно непонятных загадок. Самый мрак здесь как будто оживал и гнался за человеком, заставляя его вглядываться в темноту.
Да и при дневном свете здесь открывалось немало любопытного. На хуторе тоже был чан с солониной, как в Сорочьем Гнезде, только гораздо вместительнее. И здесь не было нужды перед каждым обедом бегать в лавочку, зажав в руке мелкую монету. И здесь были куры, несшиеся где попало, в самых неподходящих местах. Были и поросята, по целым дням стоявшие у корыта, задрав рыльца, — корыто вечно оказывалось пустым, сколько бы его ни наполняли. Были и телятки, у которых глаза, как голубые огоньки, странно мерцали в полутьме хлева, когда им давали пососать палец. Все это было знакомо Дитте и доставляло ей радость — ее сердце прямо таяло. На гвозде, вбитом в дверную притолоку в сенях, сушилось ситечко для процеживания молока, а под застреху пристройки были засунуты скребок и мотыга для вереска. Топор был так крепко всажен в чурбан для колки дров, что, казалось, его и не вытащить, а косы были развешены на большом кусте терна — лезвиями к стволу, чтобы дети не порезались.
Словом, хутор напоминал Сорочье Гнездо, только был более обширен. И даже здешний кот Перс был точь-в-точь похож на старого кота. Такой же лежебока: день-деньской лежал на горячих камнях, нежась на солнце. Зато ночью его не видел никто, кроме крыс да мышей. Он так напоминал старого кота из Сорочьего Гнезда, что даже жутко становилось, и так же ластился к Дитте, как тот. Словно они век друг друга знали. И не будь Дитте так уверена… Но ведь она сама видела, как трактирщик своими чудовищными лапами схватил кота, этого «воришку», таскавшего рыбу, и сунул в мешок. А потом, хватив мешком несколько раз о камни мола, швырнул в море… Мешок сразу погрузился в воду, — в нем был тяжелый камень. И даже не доказано было, что именно Перс стащил чудесных камбал! Ведь Якоб Рулевой бродил поблизости и вовсе не был таким дурачком, каким его считали. Людоеду, во всяком случае, не следовало оставлять корзинку с рыбой без присмотра. Но кот осужден был на смерть, несмотря на слезы детей. И теперь он как будто воскрес. И такой же был страстный охотник до рыбки. Каждое утро спускался на берег, прыгал на большой камень и подкарауливал там разную рыбешку, водившуюся в мелкой воде. Когда рыбки подплывали поближе, он быстро запускал лапу в воду и вытаскивал их на камень. Забавно было глядеть, как боролись в нем боязнь воды и желание полакомиться: он весь дрожал мелкой дрожью. Но это был единственный способ угоститься рыбкой, — на хуторе совсем не потребляли рыбы, полагая, что от нее заводятся ленточные глисты.
II Тоска по дому
Каждое утро около четырех часов Дитте просыпалась от звука тяжелых шагов, шаркавших по каменному настилу двора, — шаги направлялись к дверям ее каморки. Это пожилой поденщик всегда заходил будить ее. Дитте его недолюбливала за нечистый рот, — он вечно жевал табак и ругался. И еще говорили, что он плохо обращается с женой и детьми.
Девочка мигом вскакивала с постели и, налегая всею своею тяжестью на дверную щеколду, кричала:
— Я уже встала!
Если она не успевала сделать этого, поденщик распахивал верхнюю половинку двери и глядел на Дитте, скаля свои желтые от табака зубы.
Услышав, что он отошел от двери и направляется к жилому дому, Дитте выпускала из рук щеколду и накидывала на себя платьишко. Сердце так и колотилось под грубой холщовой рубашкой, пока она стояла, заплетая волосы и поглядывая в даль сквозь распахнутую половинку двери. Захватив одну заплетенную косичку в рот, она быстро перебирала пальцами, заплетая другую и щурясь на море, сверкавшее тысячами искр. Раннее утро встречало ее своим особым ароматом, охватывало светом и свежестью, пронизывало ее всю насквозь. Она вдруг неожиданно чихала, и косички выскакивали изо рта.
Затем Дитте выбегала во двор и останавливалась на каменном настиле — гладко причесанная, с двумя жиденькими косичками за спиной, слегка посиневшая от утреннего холодка, но живая и бодрая, она напоминала птичку, внезапно выпорхнувшую из темной чащи кусток и словно ослепленную светом… Покосившись украдкой на жилой дом, она вдруг бегом пускалась со двора.
— Ей-богу, девчонка опять побежала глазеть на море! — говорил поденщик на кухне, прожевывая свой завтрак. — Она совсем без ума от воды. Видать, в ней рыбья кровь!..
— А пусть ее! Кому от этого вред? — отвечала молодая работница. — Ни хозяйка, ни сынок еще не вставали.
Дитте босиком мчалась во всю прыть по мокрой колючей траве и взбегала на самый гребень берегового склона, откуда видно было все море, то необыкновенно розоватое, то свинцовое или все покрытое пеной — глядя по погоде. Для Дитте это было безразлично, до самого моря ей дела не было. Ничего хорошего она от него не видела, — дедушку оно наградило ревматизмом, а бабушке, да и ей самой, причиняло много тревог. Но это же море омывало берег рыбацкого поселка. Та же самая вода, что и здесь, текла там, и можно было бы доплыть туда, будь на хуторе своя лодка. Дитте не обращала внимания на морской вид, вообще не любовалась морем, — оно пожрало землю владельцев Хутора на Мысу, сделало их бедняками, оно в бурю потрясало стены бабушкиной хижины и осыпало брызгами ее окошки. Но Дитте знала место, где море было более приветливо; места этого не видно отсюда, но иногда удавалось различить, как возвращаются туда с ночного лова рыбачьи лодки. Расстояние было слишком велико, чтобы распознать, которая из лодок чья, но среди них находилась и отцовская! И девочка была твердо уверена, что и он глядит сейчас сюда. Она выбирала одну из лодок, считая ее отцовской, и следила за ней глазами, пока та не исчезала за мысом, скрывавшим и поселок.
Хозяйка была далеко не в восторге от такой тяги Дитте к морю и в первое время старалась положить этому конец. Но так как никакие меры не помогали, а вообще-то девчонка была работящая и покладистая, то хозяйка стала смотреть на это, как на врожденный изъян, и махнула на него рукой. И отец и дед девчонки, да, пожалуй, и многие из ее предков, кормились от моря, так не мудрено, что оно тянуло ее к себе.
Кроме одной этой блажи, Дитте в остальном не умела постоять за себя. Опасения Ларса Петера, что она будет слишком настаивать на своей правоте и тем наживет себе неприятности, не оправдались. Куда девалась здесь вся храбрость Дитте! Ее всецело поглощало одно чувство: желание угодить окружающим и прежде всего хозяйке, исполнять свой долг по мере сил. Достаточно было сердитого слова или взгляда, чтобы повергнуть ее в полное отчаяние и заставить смотреть на себя, как на самое никчемное создание в мире.
Дитте была не из тех, кому надо дважды повторять одно и то же. Обыкновенно она заранее знала, за что и как надо браться, и бралась за все от души, а потому привыкла делать даже больше, чем по справедливости можно было требовать от нее; одно естественно вытекало из другого. Кроме того, ведь Дитте с детства была предназначена служить другим, вся ее жизнь складывалась в соответствии с этим, и она сама буквально рвалась к этой цели — быть полезной другим. И если девочка когда-нибудь сидела сложа руки, то не по собственной воле.
А тут еще ей полагалось за ее работу жалованье — как взрослой. Наняли-то ее пасти коров и овец, и за все лето ей причиталось получить отрез домотканой полушерстянки на платье, пару деревянных башмаков, фунт нечесаной шерсти, рубашку из крашенины да пять крон деньгами впридачу — если будет очень стараться. Трактирщик сам договорился обо всем и получил задаток.
Дитте старалась вовсю, и к тому часу, когда выгоняла скотину на пастбище, успевала уже порядком устать. Она вставала вместе с солнцем, помогала доить коров и готовить завтрак для работников, мыла кадки и ведра и была на побегушках. Девчонку звали и посылали то туда, то сюда, без конца; ее ноги должны были бегать за всех.
Зато на пастбище она могла отдыхать — только спать нельзя было. Пастбищем служили обширные луга по другую сторону высокого морского берега. Грунтовые воды не имели отсюда стока в море и скоплялись здесь в низинах. Первоначально это было настоящее озеро, которое с течением времени заросло тростником. И когда коровы бродили по луговине, почва под их ногами ходуном ходила. Участки, поросшие травой и камышом, перемежались то болотцами, то кочками с низенькой порослью березняка, осинника и ольшаника, окруженными, как венком, вереском. На самом высоком и сухом местечке среди этих порослей Дитте и устраивалась, — свивала себе уютные «гнездишки» из сухого камыша и украшала их цветами, прошлогодним рогозом и ракушками, которые так ярко белели в черных кучках земли, вырытой кротами. Привстав на цыпочки, Дитте могла выглядывать из своего убежища и следить за скотом, — здесь было достаточно удобно, чтобы она могла чувствовать себя прекрасно. Кое-где виднелись торфяные ямы с черными стенками и мутной болотной водой, — они наводили на мысли о скорби и смерти, о черных могильных холмиках и составляли резкий контраст со светлыми солнечными бликами, молодыми побегами и жужжанием насекомых; ямы придавали всему существованию отпечаток чего-то неверного, ненадежного, изменчивого. Здесь можно было бродить, беззаботно напевая, и вдруг ни с того ни с сего разрыдаться, и это не казалось нелепым. Но тут были и свои преимущества. Здесь было чем поиграть, и Дитте старалась развлекаться в меру своего умения. Свои «гнездышки» она наполняла самыми заманчивыми предметами, которые находила, бегая и перегоняя скотину; там были и пестрые птичьи яички, красивые перышки и даже мертвый крот в бархатной шубке. Но играть по-настоящему она не умела, ей не хватало для этого фантазии. В детстве ей некогда было заниматься играми, а теперь в ее душе иссякли необходимые для этого способности. Много воды утекло ведь с тех пор, когда она играла старым деревянным башмаком Сэрена, на котором бабушке стоило только намалевать лицо да обернуть тряпкой, чтобы у Дитте сразу оказался товарищ игр. Долгая и трудная жизнь отделяла то время от настоящего.
Теперь Дитте сидела, разглядывая свои сокровища и перебирая их от скуки. Хозяйка дала ей вязанье и приказывала связать за день столько-то рядов, Дитте охотно вязала вдвое больше заданного, и все-таки этого занятия хватало ей ненадолго, — очень уж проворные были у нее пальцы! И вот ее одолевали думы, грустные думы.
Одиночество и тоска по родному дому тяжестью ложились на душу, особенно в первое время, и Дитте часто плакала целыми часами. Она скучала по отцу и детишкам, по привычной работе, починке и штопке их одежды. Она так привыкла к заботам о семье, что ее терзала тревога. Спохватились ли вовремя починить деревянные башмаки Поуля? Следят ли за тем, чтобы сестренка Эльза ела как следует? Она ведь никогда не ела по-настоящему, а только время проводила за столом или из-за болтовни вовсе забывала про еду, особенно по утрам. И вдруг оказывалось, что ей уже пора в школу! Тогда она бросала все и бежала, часто даже забывая захватить с собой завтрак. За нею нужен был глаз да глаз.
А отец… заботятся ли о нем? Дают ли ему горячего пива, когда он, закоченевший, возвращается домой с ночного лова? И хорошо ли просушивают его рабочую одежду?
Дитте поневоле думала обо всем этом, несмотря на всю бесцельность таких дум, и плакала от сознания своего бессилия. Сбегать домой она и мечтать не смола, — кто же тогда будет пасти скотину и сделает всю работу, которую Дитте приходилось выполнять вечером, по возвращении с пастбища? К тому же никаких вестей из дому она не получала, вот и представляла себе всякие ужасы: отец утонул или кто-нибудь из детей заболел и лежит без ухода… Сердечко ее обливалось кровью, а что толку?
Угнетенная одиночеством и тоской, девочка не в силах была оставаться здесь, в кустах, ее тянуло наверх, к людям, на поля, откуда виднелись хижины поденщиков, разбросанные по краям лугов, развалины хуторской мельницы и, главное, проезжая дорога. По ней постоянно, двигался народ. В счастливые дни Дитте удавалось увидать там кого-нибудь из живших поблизости от рыбацкого поселка, и на душе у нее сразу становилось легче, — ей словно посылали теплый привет, словно кто вспоминал о ней с участием. Не сам ли господь бог?..
Окружавшие Дитте люди не верили слепо в бога, но и не отрекались от него. Жизнь бедняка не представляла очевидных доказательств его бытия. А если он существовал, то, конечно, держал сторону богатых и сильных. Недаром они так пугали им и ссылались на него, когда им нужно было удержать бедняков в ярме! Так рассуждали бабушка и Ларс Петер — единственные люди, которым Дитте могла вполне доверить. Во всяком случае, бесполезно было воссылать свои жалобы к небу, — опыт свидетельствовал об этом достаточно убедительно. Правда, пастор учил припадать к божьему престолу со всеми своими горестями, но в то же время настойчиво советовал прихожанам не винить бога в своих бедах.
У Дитте, однако, было бессознательное стремление обращаться лицом к свету, — особенно, если с нею случалось что-нибудь хорошее. В дурном человек должен винить себя самого — раз уж нельзя было обойтись без дурного. Но надо же куда-нибудь обращаться с благодарностью за хорошее! Стало быть, все-таки к небу. Там, во всяком случае, находилась бабушка, — она ведь должна была попасть на небо, в этом не могло быть сомнения. А стало быть, там же приходилось отвести место и господу богу — ради бабушки. Дитте много думала в это время о бабушке и, случалось, громко призывала ее. Ведь Дитте необходимо было, чтобы кто-нибудь видел, как ей иногда тяжело и горько.
Однажды, когда она лежала в полном отчаянии, бабушка вдруг склонилась над ней.
— Ну-ка, Дитте, — сказала она, — полетим вместе домой в поселок.
— Да ведь у тебя же нету крыльев, — ответила Дитте и громко зарыдала, так как бабушка показалась ей уж совсем хилой и сгорбленной.
— Это ничего, дитятко, надо только больше поджать под себя ноги.
И верно, они полетели над холмами и долами. Когда же приходилось лететь слишком близко к земле, то они еще больше поджимали ноги. И вдруг очутились над поселком, где стоял Ларс Петер с большой сетью, чтобы поймать их. «Дитте!» — крикнул он.
Дитте проснулась и испуганно вскочила. Ее окликали сверху, с пашни. Это был Карл, сын хозяйки. Он выгонял коров изо ржи! Дитте оцепенела от ужаса и даже не сообразила, что надо бежать скорее ему на помощь. Тогда он медленно подошел к ней сам; он всегда еле волочил ноги, и ходил с таким видом, будто все на свете ему надоело.
— Ты, видно, заснула, — сказал он с едва заметным оттенком насмешки, по, заметив, что она плакала, серьезно посмотрел на нее и ничего не прибавил.
Дитте было стыдно, что она плакала и что вздремнула, и девочка торопливо вытерла слезы. Но бояться Карла не стоило. Он был славный парень лет семнадцати — забавный возраст для мужчины, казалось ей. И ей трудно было обращаться к Карлу почтительно, хотя он и был сыном хозяйки, а стало быть, в сущности хозяином. Да Карл и не требовал уважения, — лишь бы его не трогали. Он постоянно посещал религиозные беседы, и Дитте подумала: «Не спросить ли его?..» Она была недовольна, что у бабушки не оказалось крыльев.
— Как по-твоему, старушки после смерти попадают на небо? — спросила она его, полуотвернувшись. Все-таки как-то неловко задавать такие вопросы.
— Право, не знаю, — медленно ответил он. — Это зависит от того, как они вели себя при жизни.
И он в глубоком раздумье уставился взглядом в пространство, как будто ему действительно необходимо было обсудить и взвесить все в точности, чтобы не поступить с кем-нибудь несправедливо.
— Бабушка была добрая… даже рассказать нельзя, какая добрая. Так что, если все дело только в этом…
Он все еще стоял и раздумывал, не двигаясь с места.
— Не мне судить, так оно или не так, — наконец вымолвил он с глубоким вздохом.
Дитте расхохоталась, — очень уж забавно все это у него вышло.
— Тут нет ничего смешного, — сказал он обиженно и пошел.
Отойдя немного, он остановился.
— Радуйся, что не мать застала коров во ржи, — сказал он.
— А ты разве не скажешь матери? — с удивлением спросила Дитте.
Девочке и в голову не приходило, что это сойдет ей даром.
— Нет! С какой же стати?
— С какой стати? С какой стати?.. Да ведь хутор-то будет твоим, — вдруг сообразила она.
— Ах, вот что!
И он слегка усмехнулся, к великому изумлению Дитте. Она даже не думала, что он вообще способен улыбаться.
Она долго стояла, глядя ему вслед, и совсем позабыла о своем горе. Шел он, как настоящий старик или как человек, над которым с самого рождения тяготеет проклятие Да, не красна была его жизнь, — говорили, что мать до сих пор бьет его. Говорили кое-что и похуже. У Дитте дрожь пробежала по телу… Нет, она не хочет и думать об этом!
Однако не так-то легко было отделаться от горестных дум. Кумушки из хижин поденщиков недаром шныряли по хутору, якобы они пришли по делу, расспрашивали ее как будто о самых невинных вещах. А выслушав ответ, кивали головой и поджимали губы, словно убедившись в самом ужасном. Дитте вовсе не хотела разводить сплетни о тех, у кого жила, и решила быть настороже.
Однажды она смотрела на большую дорогу, надеясь увидеть среди проезжих кого-нибудь знакомого. На дороге показалась в повозке крестьянская чета, муж с женой, — должно быть, ехали в город за покупками. Они закивали ей и приостановили лошадь. Дитте их не знала, но все-таки подбежала к ним.
Не видала ли она — этак с добрый час тому назад — одноконной повозки, запряженной рыжей кобылой?.. Нет? Откуда же она сама?.. Так это пасется скот из хутора на Холмах!.. То-то они как будто признали коров!.. Там, кажется, хорошо кормят людей… Или теперь, пожалуй, уж не важно?.. Там ведь вдова хозяйничает?.. Как бишь ее?.. Ах да, Карен Баккегор!.. Муж-то у ней помер, лет десять тому назад… да еще как нехорошо помер! Но она, кажется, и не горевала о нем… Кто же работает? Сын?.. И поденщик?.. Да, да, Расмус Рюттер с Лугов, он и ночует на хуторе? А! Уходит по вечерам домой. Но ведь, небось, ночует иногда, когда работы много?..
Они спрашивали поочередно, и Дитте простодушно отвечала. Но когда женщине понадобилось узнать внутреннее расположение комнат и где находится спальня хозяйки, да спит ли она одна в жилом доме — Дитте насторожилась. По выражению лица женщины Дитте поняла, что опять глупо проболталась. И она отскочила от повозки и бросилась бежать по полю. Отбежав на некоторое расстояние, она обернулась к ним и вне себя от гнева передразнила их, а затем крикнула хриплым голосом:
— Ах, вы, врали негодные! Грязные же вы сами люди и сплетники! Мужичье!
Крестьянин замахнулся кнутом и приготовился было спрыгнуть с телеги; но Дитте кинулась бежать по межам через поле и, только лежа на болоте, отдышалась. Страх ее, однако, не проходил. А если теперь ее заберут? С крестьянами шутки плохи, — они все законы знают. Пожалуй, они отправятся прямо к начальству жаловаться на нее, когда приедут в город?
Дитте не могла избавиться от этих мыслей, наводивших на нее ужас. Кто поможет ей, кто защитит ее здесь, одинокую, заброшенную?.. Другого выхода нет, как только бежать домой!..
И раньше случалось, что Дитте вдруг чувствовала непреодолимую потребность бросить все и бежать. И она бежала, как одержимая, без оглядки, пока не увязала в болоте или застревала в терновнике; ноги были в крови, платье порвано. Наваждение проходило, и возвращалось чувство ответственности. Повесив нос, брела она назад и садилась у воды обмывать израненные ноги и чинить юбку, благодаря судьбу за то, что не случилось чего похуже. И на этот раз, как всегда после такой отчаянной пробежки, она успокоилась. Невероятная тоска по дому стихла, и пока Дитте сидела, опустив ноги в воду и зашивая прорехи, в душе ее постепенно воцарился мир. Все бунтовавшие силы словно испарились; здесь осталась лишь одинокая маленькая девочка, переполненная сладкой усталостью после пролитых слез. На некоторое время ее покинули всякие тревоги и страхи за других людей, и она могла заняться собой. Дитте сидела и дивилась на самое себя, разглядывала свои гибкие загорелые руки, стройные ноги, родимое пятнышко у самого бедра. Солнце и ветер покрыли ее тело сквозь тонкое платье загаром, но неравномерно, и она, недовольная этим, растягивалась в теплой и мелкой воде, чтобы избавиться от похожих на теневые полосы землистых пятен и полосок.
По всему животу шла темная полоска. Дитте хорошо это знала, бабушка разглядела ее, когда Дитте была еще маленькая, и не раз предсказывала внучке, что она будет легко рожать детей и родит их много. А вот под мышками оказались рыжеватые курчавые волосики, это была новость, и новость волнующая. Дитте приподняла обеими руками свои уже наливавшиеся груди и с гордостью почувствовала, какие они стали полные и тяжелые — особенно если наклониться вперед! Зато спиной похвастаться никак нельзя. Во всю длину прощупывался ряд косточек… Дорого бы дала Дитте, чтобы посмотреть на себя сзади, — неужели у нее все еще кривая спина?..
И вдруг ее охватил страх, что кто-нибудь придет сюда сейчас или же подсматривает за нею сверху с поля. Она схватила платье и с визгом убежала в кусты одеваться.
Да и что, собственно, можно было увидеть? Только долговязую девичью фигуру, не напоминавшую по формам ни девочку, ни женщину. Во всяком случае, внешний вид Дитте не мог бы заставить мужчин потерять голову. Прекраснее всего в ней по-прежнему было сердце, а сердце — не в цене. Оттого природа предусмотрительно и спрятала его в груди.
III Хозяйка
Карен Баккегор и Дитте пошли в черные сени, чтобы приготовить смесь из муки с гипсом для крыс; все детальные обитатели хутора спали после обеда, даже молодая работница Сине. Карен стоя мешала и растирала сухую смесь; движения у нее были резкие, размашистые, и при каждом движении от нее шел такой едкий запах пота, что Дитте в дрожь кидало. Когда смесь была готова, ее рассыпали в бумажные пакетики, которые Дитте должна была положить в крысиные дыры, — их была масса в амбаре и в риге. На дворе стояла тишина — та тишина, от которой клонит ко сну, и Дитте, вставшая рано, с удовольствием бы прикорнула тут же на каменном полу сеней.
— Ну вот, — сказала хозяйка, положив ей в передник последние пакетики. — Когда они все это сожрут, я думаю, мы от них избавимся навсегда.
— Это очень ядовито? — спросила Дитте.
— Ядовито?.. Нет! Собственно говоря, это невиннейшая вещь в мире. Но когда крысы набьют себе этим полное брюхо, им захочется пить — от сухой-то еды! А как только гипс смешается с водой, он затвердеет, и брюхо у них окаменеет. Вот и все.
— Ох! Какая страшная смерть!
Карен с неудовольствием тряхнула головой.
— Еще что! Нам главное избавиться от крыс, а как — это все равно. Умирают по-разному, но конец бывает один… Вы когда же ожидаете домой свою мать?
Вопрос застиг Дитте врасплох и больно задел ее — пожалуй, главным образом в связи с предшествующим замечанием хозяйки.
— Должно быть, еще не очень скоро, — прошептала он;.
— А как ты думаешь, она добралась до денег? — продолжала хозяйка: сегодня она была что-то уж очень разговорчива.
Дитте этого не знала. Вообще она предпочитала молчать, когда ее расспрашивали о преступлении, но хозяйке нельзя было не ответить.
— Бабушка носила их на себе, — тихо выговорила она.
— И глупо делала. Ей бы снести деньги в сберегательную кассу, а не таскать на себе. Теперь бы ты получила их… Они ведь тебе были назначены. И на них бы еще проценты наросли. — Карен принялась высчитывать. — Сотен пять далеров, пожалуй, составилось бы… тысяча крон! Деньги не малые для такой бедной девушки, как ты, пригодились бы тебе в приданное. На Хуторе на Песках, как видно, не поскупились! Денежки-то ведь оттуда?
Дитте так бы и сбежала поскорее от этих мучительных для нее расспросов и от этого запаха, бившего ей в нос. От хозяйки воняло потом и еще чем-то так сильно, что Дитте чуть не стошнило, ей становилось все больше и больше не по себе около этой дородной женщины, так грузно ступавшей и с такими грубыми манерами. Девочка чувствовала себя перед нею жалкой букашкой, которую вот-вот нечаянно раздавят.
— Не пора ли выгонять коров? — спросила она, подвигаясь к дверям.
Карен взглянула на старые борнхольмские часы.
— Да, гони скорее… Только разбуди сначала Расмуса.
Хуже этого поручения быть не могло: во-первых, Дитте боялась поденщика, а во-вторых, его вообще было трудно добудиться. Уверяли, что он притворяется спящим, чтобы поближе подманить к себе того, кто станет будить его. Сине вышла из своей каморки, и Дитте умоляюще взглянула на нее. Но девушка со сна не сообразила.
— Ну, беги же, чего стоишь! — сказала хозяйка.
Дитте поплелась через двор и, остановившись возле открытой двери, начала окликать поденщика. Карен стояла в сенях и наблюдала за ней.
— Посмотрите на эту глупую девчонку! — с досадой проговорила она. — Воображает, что может таким манером разбудить его!
— Да она боится его, — неодобрительно отозвалась Сине. Ей было жаль девочку.
— Боится!.. Вот я ей покажу, как ломаться!.. Эй, ты! Заберись к нему на самый верх да тряхни его там хорошенько! — насмешливо закричала Карен. — Только берегись, как бы он не оборвал тебе твоих ангельских крылышек!..
Дитте все стояла у дверей, поглядывая то в темную пасть сеновала, то на хозяйку.
— Уж не помочь ли тебе? — опять крикнула Карен.
И только тогда Дитте шмыгнула в дверь, но ясно было, что дальше порога она не двинется. Карен возилась со своими деревянными башмаками. Она так разозлилась, что не могла сразу попасть в них ногами! Проучит же она девчонку!.. Но Сипе уже бежала через двор.
— Выгоняй живее стадо, а уж я добужусь его! — сказала она Дитте и выпроводила ее в другую дверь сарая.
От хозяйки, однако, отделаться было не так-то просто. Экие глупости! На что это похоже? И можно ли спускать подобные вещи! Нечего поощрять таких неженок, которые визжат, завидев уховертку! Этим девчонкам только на пользу пойдет, если проучить их вовремя!..
Но Сине уже обжилась на хуторе и ухом не повела. Пусть себе хозяйка кричит, сколько хочет, когда-нибудь да угомонится.
И на этот раз Карен замолчала сравнительно скоро. Вдруг послышался грохот колес быстро мчавшейся с холма телеги, которая затем, не замедляя хода, завернула во двор и круто остановилась у парадной двери. Седок лихо щелкнул бичом. Это был барышник.
— Нет ли чего на продажу? — крикнул он хозяйке, которая в деревянных башмаках топталась возле дверей.
— Есть убойный теленок, — ответила она, направляясь к нему.
Дитте, выгоняя скотину из-за загородки, лишь мельком взглянула на приезжего, но узнала бы его и по одному грохоту телеги, с такой быстротой никто, кроме него, не ездил. Это был дядя Йоханнес в котелке и щегольском коричневом плаще, — настоящий городской франт! Видно, повезло ему все-таки.
Дитте уже понимала, что значит добрая или дурная слава. От последней никуда не убежишь, — она тенью будет следовать за тобой по пятам. «А! девчонка Живодера из Сорочьего Гнезда!» — говорили люди многозначительно друг другу. И все уже понимали, в чем дело, и сразу завязывался оживленный разговор — о знахарке Марен, о преступлении Сэрине Манн, о колбаснике-собачнике… Дитте слишком хорошо знала все эти разговоры. И вовсе нетрудно, глядя на людей, догадаться, что они судачат о тебе. Большинство даже не давало себе труда скрывать это.
Семью Живодера обвиняли во многом, иногда без всякого основания, и взваливали на нее куда больше, чем даже она сама подозревала. На обвинения вообще никто не скупился. Слухи, за которые никто не взял бы на себя ответственности и которым в сущности никто по-настоящему и не верил, словно из-под земли вырастали и, обойдя круг, снова возвращались туда же. А все с радостью спешили разнести их дальше. Выходило, как будто люди возненавидели семью Живодера за собственную несправедливость к ней. Быть может, им необходимо было оправдаться в собственных глазах за эту ненависть, и они заглушали в себе совесть, выдумывая злостные небылицы. В своем неустанном стремлении к свету человек предпочитает искать источник зла вне себя самого. Словом, Ларс Петер с семьей считались париями, и на них нападали за то, что они были обижены судьбой. Никто не старался восстановить истину, — ведь действительность иногда превосходит самые дикие фантазии. И, кроме того, семье Живодера предоставлялось право своим поведением посрамить всех сплетников.
Она по мере сил и пользовалась этим правом, отличаясь трудолюбием, добропорядочностью и честностью. Частенько трудно было, приходилось кое-как перебиваться, чтобы не давать повода для осуждения. И Дитте понять не могла, как это другие столь равнодушны к суду людскому! Вот, например, хозяйка. Сколько о ней ходило толков, но она и не думала стараться опровергнуть их своим поведением. Смирением она не отличалась и чаще всего сама смотрела на людей сверху вниз. Плевать она хотела на все пересуды и делала то, что ей нравилось! Дитте не понимала этого полного пренебрежения всякими приличиями и правилами добропорядочности. Вот, наверное, о ком говорилось в Священном писании: «слава их — в сраме».
Карен Баккегор вдовела уже десять лет, а толки о ее браке и супружеской жизни до сих пор не прекращались. В юности она была славной, привлекательной девушкой, да и о том, за кого она вышла замуж, нельзя было сказать ничего плохого, к тому же он был человек богобоязненный. Но, может быть, они просто не подошли друг к другу, или были какие-нибудь другие причины, — только после замужества Карен сильно изменилась. Кое-кто полагал, что с супругами вышло, как с парой лошадей, которые не могут ходить в одной упряжке, хотя каждая лошадь хороша сама по себе, и вот они испортили друг друга. Некоторые же считали, что когда Карен вошла в года, — дала себя знать дурная кровь ее рода. Случалось и прежде, что прекрасные молодые девушки превращались в шалых баб, когда получали в свои руки дом и хозяйство. Как бы то ни было, муж и жена так ненавидели друг друга, как способны ненавидеть только супруги, и всячески отравляли жизнь один другому. Особенно отличалась этим Карен. Хутор ведь принадлежал ей, так что ей нетрудно было брать перевес над неимущим мужем, и она не стеснялась во всеуслышание напоминать ему, что он был голяком. Все-таки они прижили трех сыновей; значит, были и такие минуты, когда они не грызлись как кошка с собакой. Но вряд ли это часто случалось.
По прошествии нескольких лет супружеской жизни муж заболел чахоткой, по мнению некоторых, — с горя, что не может ужиться с женою, другие же говорили, что она нарочно подсовывала ему сырые простыни. Раскаялась ли Карен, или были на то другие причины, только она стала покупать ему коньяк и сладкий пунш, чтобы он мог одолеть свою болезнь, и сама пила с ним, чтобы приохотить его. Чахотку-то спирт одолел, но и его испортил совсем. Прежде он в рот не брал крепких напитков, а теперь предпочитал вечно быть под хмельком.
— Жена меня так любит, что решила заспиртовать! — говорил он, а Карен при этом так хохотала, что люди и до сих пор не забыли ее смеха.
Невесело было сыновьям расти в такой обстановке, и для них смерть отца явилась чуть ли не облегчением. Как-то зимним утром его нашли в петле, в риге. Они осиротели, и хутор остался без хозяина. Вдовья постель все-таки холоднее супружеской, хотя бы супруги и лежали в ней спиной друг к другу, и Карен не прочь была взять себе второго мужа, особенно если бы он принес с собой на хутор немного деньжонок. Но никто не осмеливался занять место удавленника. Вот Карен и пришлось самой справляться со всем хозяйством и с тремя сыновьями.
Это не смягчило ее характера, и по мере того как сыновья подрастали и пытались проявить самостоятельность, она все больше ссорилась с ними. Двое старших уехали из дому: самый старший сдал экзамен на школьного учителя и теперь служил где-то поблизости от столицы; второй сын нанялся к чужим людям.
— Если уж быть в подчинении, так лучше у чужих, — говорил он.
Людям это казалось странным. Сын должен покоряться и слушаться матери, раз он ее любит, что может быть естественнее этого? Но в том-то и дело, что сыновья не питали нежных чувств к Карен. Дома остался только младший сын Карл, не потому, чтобы ему легче жилось дома, нежели двум старшим, а потому, что у него духа не хватало освободиться из-под материнской власти. Он был парень тихий и плакал от малейшей обиды. Карл никогда не смеялся, и вид у него всегда был какой-то усталый и виноватый. Люди шептались между собой, что мать имела над ним сверхъестественную власть и что раскаяние не давало ему покоя и гнало его к «святошам».
У Дитте слух был острый, она слышала все, о чем болтали люди. Кое-чего она не понимала, но истолковывала по-своему. Все эти разговоры и будничные невзгоды действовали на Дитте угнетающе. На Хуторе на Холмах не чувствовалось настоящего уюта, каждый жил сам по себе, общих радостей не было. Хозяйка винила во всем море. Выпив лишнее, она выходила во двор и начинала проклинать море. Но сын полагал, что это бог отвратил лицо свое от хутора. Лишь краснощекая Сине ни на что не обращала внимания и спокойно делала свое дело. Ее Дитте любила здесь больше всех.
К хозяйке трудно было приноровиться. Девочка относилась к ней с естественным и безусловным почтением, — хозяйка в доме играет роль настоящего провидения, она — источник всех благ и всех зол: ее рука и карает и великодушно дарует пищу. И Карен на этот счет не скупилась, а была хлебосольной хозяйкой. Она не расставалась с кухонным ножом, и на переднике у нее вечно были жирные пятна. Она и сама любила покушать и для других лишнего куска не жалела. Это многих примиряло с ней. Хутор на Холмах славился своим хорошим столом. Но от грузного тела Карен пахло не только кухней. Дитте от этого запаха дрожь пробирала и кружилась голова.
Дитте с детства внушали, что мало только исполнять свой долг по отношению к тем, чей хлеб ты ешь, надо еще любить их. Она свой долг исполняла на совесть, но полюбить хозяйку никак не могла. Даже уплетая на выгоне сытный и вкусный завтрак, она не чувствовала любви к Карен, это ее очень мучило, и она упрекала себя в неблагодарности.
IV Желанный гость
Дитте успела покончить со своим вязаньем и опустошила корзинку со съестным, хотя завтракать было еще не время. Но надо же чем-нибудь заняться от скуки! Ей нечем было заполнить пустоту одиночества. Играми она не интересовалась и уже неспособна была играть, а скотина не могла ее развлечь. Дитте добросовестно заботилась о животных, следила, чтобы они ничего не портили и себе не вредили. Девочка вообще любила животных. Это особенно чувствовалось, когда случалась беда с молодняком, — напорется на колючую проволоку или забодает корова. Тогда Дитте вся уходила в заботы, и конца им не было, пока раны не заживали. Но мир животных не занимал ее. Коровы оставались коровами, овцы — овцами; она была сама по себе, они — сами по себе, как и все в природе. Их бытие занимало девочку лишь постольку, поскольку это входило в круг ее обязанностей. Правда, животные часто бывали довольно забавными, но она не очень интересовалась ими.
Дитте была очень общительна. Ей нужно было, чтобы в ушах у нее всегда звенели два голоса — из них один ее собственный. Говорить самой было так же интересно, как слушать, — лишь бы было с кем. И вот она сидела на верхнем краю поля и глядела вдаль с болезненной тоской. «Хоть бы случилось что-нибудь… что-нибудь настоящее, интересное!» — твердила она сначала про себя, а затем громко, чтобы как-нибудь заполнить окружавшую ее пустоту. Но вдруг умолкла и вытянула шею. Она глазам своим не верила и крепко зажмурилась. Но, открыв их, увидала то же самое: там, далеко, по большой дороге стрелой летел мальчуган. Потом пустился по полям, громко окликая ее и размахивая рукой. Через плечо у него висела школьная сумка. Дитте даже не догадалась побежать ему навстречу, а сидела неподвижно, громко плача от радости.
Кристиан растянулся на траве возле сестры и молча лежал, стараясь отдышаться.
— Ты опять пропустил уроки в школе? — спросила Дитте, как только пришла в себя. И попыталась напустить на себя строгость. Но это ей не удавалось, сегодня она скорее готова была благодарить брата за его страсть к бродяжничеству.
А мальчуган только язык в ответ высунул. Он не хотел отвечать сестре, лежал да отдувался, задрав грязные босые ноги кверху. Много виднелось на них всяких царапин, на одной пятке был глубокий порез, — должно быть, на стекло наступил. Дитте внимательно осмотрела рану, черную от грязи.
— Надо бы завязать тряпкой, — сказала она, слегка нажимая на порез, — а то загноиться может.
— Это я еще вчера порезался, когда бежал из школы, уже затянуло. Я на цыпочках сегодня бегал.
Кристиан вскочил. Не валяться же он сюда явился! Быстро окинул он взглядом всю местность.
— Пойдем туда! — сказал он, указывая на болото; тут наверху он не нашел ничего занимательного.
Дитте показала ему все свои укромные уголки в кустах.
— Вот это интересно, — признался Кристиан, — но вход надо скрыть, чтобы никто не мог найти гнезда, иначе это никуда не годится. Ведь всякая птица прячет свое гнездо, ты сама знаешь.
Но ведь Дитте-то не птица, и чего ей было прятаться? Она только искала убежища от солнца и непогоды. Кристиан показал ей, как заплести вход ветвями, чтобы его не было видно.
— Тогда ты можешь играть — будто ты чего-то натворила и должна скрываться, — сказал он.
Дитте посмотрела на него с удивлением, не понимая, какое же в этом удовольствие.
Но как он тут всем восхищался, дурачок! Коровы были как коровы, а он даже в них видел что-то особенное, новое. Эта вот такая, а та — вон какая. Для Дитте все это не представляло большого интереса, но Кристиан с таким изумлением озирался кругом, словно все это сейчас только с неба упало, а не было всем давно знакомо и вполне естественно.
Болота окончательно пленили его. Прежде всего надо было, конечно, перекинуть мост к одной из многочисленных кочек или «островков», как он их называл. Для этого нужны были две жерди и березовые прутья. Пусть Дитте укажет ему, где взять материал. Таким образом, можно бы соединить между собою все островки и объехать кругом всего света!
— Здесь чудесно! — повторял он без конца, так что Дитте даже досадно стало.
— По-моему, дома куда веселее, — сказала она.
— Ничего-то ты не смыслишь, — ответил Кристиан. — Ну что же, вернись домой вместо меня.
Раньше он никогда не позволял себе так разговаривать с нею, но среди этого простора она казалась ему такой маленькой, что всякое почтение к ней само собой исчезло.
Что ж, она бы не прочь была поменяться с ним местами, да разве это возможно?
— А где ты берешь еду? — вдруг спросил Кристиан в самый разгар игры.
Дитте с минуту глядела на него, вытаращив глаза, потом пустилась бегом на холм.
— Иди за мной скорей! — крикнула она.
Когда время подходило к полудню, Дитте должна была следить за сигналом на старой мельнице: сегодня она совсем позабыла об этом. Но ничего, — слуховое окно еще не было распахнуто.
— Плохо придумано, — сказал Кристиан. — Ведь когда ты пасешь скот внизу, тебе не видно мельницы. Лучше бы они подавали тебе знак каким-нибудь звуком; слышать-то можно отовсюду.
— Звуком?.. — удивилась Дитте.
— Ну да, например, стучали бы молотком о железо!
Оба уселись и следили за слуховым окошком. Кристиан угомонился, и теперь от него можно было добиться толковых ответов. Дитте стала с любопытством расспрашивать брата.
— Родил кто-нибудь в поселке ребеночка? — спросила она, напряженно глядя ему в рот.
— Да, Марта! — ответил Кристиан, кивнув.
— Неправда, врешь ты все!
Дитте высчитала, что это преждевременно.
— Ну да, пока нет, но скоро будет… Это сказала вдова Ларса Йенсена. Я сам слыхал.
Дитте была разочарована. И это все?..
— Да разве ничего нового там не случилось с тех пор, как меня нет? — спросила она. — С кем гуляет теперь Йоханна? Верно, с Антоном? Видно было, что с Петером у нее не долго протянется.
Об этом Кристиан совсем ничего не знал, простофиля! Зато он мог сообщить, что в поселке завелся новомодный морской палубный баркас — с настоящей каютой, где можно спать. Но это не интересовало Дитте.
Очень ли скучает по ней маленький Поуль?.. Хорошо ли обращается с ним вдова Ларса Йенсена?
Кристиан ответил утвердительно на оба вопроса сразу, не считая нужным отвечать отдельно на каждый, так как тогда ему пришлось бы объяснять, что вдова Ларса Йенсена вовсе не живет с ними. А об этом было слишком долго рассказывать.
Но почему в сумке Кристиана не оказалось завтрака?.. Опять посыпались вопросы. Кристиан съел свой завтрак еще по дороге, в этом не было ничего удивительного или, по крайней мере, нового. Но сам он предпочел сказать, что потерял завтрак на бегу — это выходило как-то интереснее и правдоподобнее. Но ведь он был голоден… голоден, как волк… Да чего же они там не отворяют слухового окна? Сони!..
Дитте внимательно оглядывала брата. Волосы следовало бы ему подстричь. Ну, это она сделает после обеда своими маленькими ножницами. И под локти на рукавах надо было бы вовремя подложить заплатки… Теперь уж поздно. Все-таки видно было, что живется им неплохо. Кристиан не похудел, и щеки у него круглые, и вид довольный, — она с радостью отметила это.
— Ах да! Людоедова жена померла, — небрежно сказал он вдруг.
Дитте вздрогнула:
— Жена трактирщика? И ты не сказал мне этого раньше!
— Просто забыл! Разве упомнишь все!
Дитте начала было расспрашивать его, но тут слуховое окно на мельнице распахнулось.
— Ага! — сказала она и вскочила. — Теперь ты побудь тут и присмотри за скотиной, пока я сбегаю домой поесть. Тогда мне не придется гонять ее взад и вперед.
Кристиан смотрел на сестру, совершенно ошеломленный.
— А разве мне нельзя с тобой? — спросил он, чуть не плача.
— Ни за что! А то подумают, что ты голоден и пришел, чтобы тебя покормили.
— Да я же в самом деле голоден!
Кристиан меньше всего был расположен теперь соблюдать приличия.
— Очень может быть, но этого нельзя показывать, — решительно ответила Дитте. — Но если ты будешь умником, я потороплюсь и уж припрячу для тебя чего-нибудь в карман.
Кристиан покорился. Растянулся на животе и засунул кулак в рот, чтобы заглушить голод, с которым прямо сладу не стало, когда разговор зашел о еде. А Дитте бегом пустилась домой.
Карен сама выходила открывать окошко и, увидев, как девчонка пустилась бежать — без стада, стала дожидаться ее во дворе.
— Что с тобой сегодня? — резко спросила хозяйка. — Взбесилась ты, что ли? Или уж так изголодалась, что не могла даже коров пригнать?
Дитте вся вспыхнула.
— Мой брат остался там, — сказала она. — Я и подумала, что не нужно…
— А он, пожалуй, так создан, что и есть не хочет? Или у вас дома такое изобилие, что вы носите еду с собой?.. Ну, что же, приходится, видно, помириться, что моим хлебом-солью брезгуют.
«Он может потерпеть, пока вернется домой», — хотела было сказать Дитте, да вместо того разревелась. Ей и так было тяжело соблюдать приличие, ведь она знала аппетит Кристиана и знала, как трудно ему поститься подолгу. А тут еще она задела хозяйку за самое больное место.
Вот к чему привели все старания показаться благовоспитанной!
— Он страшно голоден! — прорыдала она.
— А зачем все-таки надо было ломаться, дурачье вы этакое! Еще бы, это ведь по-благородному — не признаться прямо, что голоден… Нищенское благородство!..
Карен ругалась всю дорогу.
Но в душе у нее зла не было. Дитте освободили сегодня от обычных работ и сразу после обеда отпустили к брату с корзинкой, солидно набитой съестным.
— Если не доест, пусть возьмет с собой, — сказала Карен. — Небось, не очень-то жирно едят у вас дома.
Карен не была чувствительной и в первый раз проявила участие к семье Дитте. Вообще она не особенно благоволила к беднякам — кто беден, тот сам виноват в этом. Но как уже говорилось, на еду она не была скупа.
После посещения Кристиана Дитте стала спокойнее. Все ее воображаемые страхи и опасения за домашних развеялись. Она получила привет из родного дома в лице Кристиана с продранными локтями. Он оставался таким же бродягой. Его приход и радовал и огорчал Дитте. С одной стороны, ее тревожила его страсть к бродяжничеству, а с другой — Дитте в глубине души таила надежду, что эта страсть опять скоро пригонит его к ней.
V В гостях у своих
Из всех обитателей Хутора на Холмах серьезно относился к Дитте сын хозяйки. Остальные лишь подсмеивались над нею. Бывало, пожалуется она после утомительной работы, что у нее спина заболела, хозяйка только скажет:
— Спина? Да у тебя один хребет.
Так же относились к Дитте другие, — эксплуатировать ее они умели, но нисколько с ней не считались. Сине еще немножко жалела ее и щадила, как ребенка, но Дитте больше всего хотелось, чтобы с нею обращались, как со взрослою.
Другое дело Карл. Ему исполнилось всего семнадцать лет, и он был такой тощий, длинный и постный, как страстная пятница. Ноги он волочил, словно они были свинцом налитые, и вообще вид у него был такой, как будто он уже испытал сердечное горе. Дитте понимала, что ему не легко живется, но не ходить же из-за этого точно приговоренному к казни! И ей самой приходилось круто, — не всегда-то сумеешь быть тише воды, ниже травы, — но голову она все-таки не вешала.
Ужасно забавно было смотреть, как Карл, погруженный в свои мысли, идет по дороге, ни на что не обращая внимания. Дитте постоянно старалась попадаться ему на глаза, дразнила и задирала, как только могла. Встретит его, бывало, когда несет ведро с водой, и непременно прольет ему на ноги, будто нечаянно, а когда ей приходилось стелить ему постель, он всегда мог ожидать чего-нибудь неладного: либо кровать провалится под ним, либо Дитте напустит в постель каких-нибудь букашек, так что ему не уснуть от зуда и приходится вставать ночью, встряхивать простыни.
Дитте нашла человека, на котором, при всем своем добродушии, могла отыграться за все, что сама терпела, и широко пользовалась этой возможностью. Карл мирился с ее выходками, вел себя так, как будто не замечал ничего, и относился к Дитте всегда одинаково. Сама Дитте не осудила бы его, если бы он вышел разок из себя и дал ей тумака. Но самое большее, на что он был способен, это строить страдальческие гримасы.
Двое других сыновей Карен редко появлялись дома. Дитте только раз видела одного из них — учителя. Агроном же ни разу не заглянул к матери за все лето.
Учитель пришел однажды уже перед самой осенью. Было это в субботу днем, и когда Дитте пригнала свое стадо, он как раз стоял во дворе с непокрытой головой, такой стройный и веселый с виду, — совсем непохожий на всех остальных. По царившему на хуторе настроению чувствовалось, что они с матерью уже успели повздорить. Учитель стоял и смотрел на море, как будто весь поглощенный этим зрелищем. Мать ходила по двору взад и вперед, возилась с кадками и ведрами у колодца и вызывающе поглядывала на сына. Когда кто-нибудь проходил поблизости, она приставляла ладонь к глазам и передразнивала созерцательную позу сына. Но он как будто и не замечал этого.
— Ну? Высмотрел что-нибудь? Пожалуй, расскажешь нам, что они там в Швеции готовят сегодня к обеду? — услышала Дитте вопрос своей хозяйки.
— Швеция не в той стороне, мать, — ответил он, смеясь. — Надо тебе обернуться в другую.
— Вот как?.. Вишь ты, какой умный! Но чего же ты туда уставился?
— По-моему, море сверкает сегодня как-то особенно празднично! — сказал он задорно. — Ни из одного хутора нет такого чудесного вида! Жаль только, что здесь это никому не нужно! — И учитель расхохотался.
— Сверкает, говоришь? — Она подошла к нему вплотную и стала глядеть с его места с самым наивным, доверчивым видом. — И впрямь… сама теперь вижу — сверкает, прости господи, как моча при лунном свете. Вот так прелесть, господи помилуй нас! — Она хлопнула себя по бедрам. — И как это они не додумались — отцы наши — поставить усадьбу на самом море? Тогда ни есть, ни пить не захотел бы — все бы смотрел да смотрел на море. Но не пойти ли нам все-таки закусить? Не все ведь могут быть сыты одним видом этой дурацкой воды!
Она повернулась и пошла в жилой дом. Сын последовал за нею.
Сегодня поденщик благоразумно решил не рассказывать за обедом непристойных анекдотов. Сидел, уткнувшись в тарелку, и руки у него слегка дрожали. Сама Карен Баккегор как будто побаивалась старшего сына, вела себя не так шумно и бесцеремонно, как обыкновенно. Учитель держался просто и весело, разговаривал, рассказывал забавные вещи о столичной жизни, не смущаясь тем, что другие молчали. Карл вообще никогда не смеялся, поденщик Расмус Рютер и хозяйка смеялись только грубым шуткам и непристойностям. Сине ничто не задевало, ни смех, ни печаль, а уж девчонке Дитте совсем странно было бы принимать участие в разговоре. Зато она могла, не отрываясь, глядеть учителю в рот, что и делала. Лицо его, когда он рассказывал, оживлялось, и в комнате как будто совсем по-другому становилось — легче дышалось. Видно было, что он привык заниматься с детьми и понимал ход их мыслей.
— Есть у тебя братья и сестры? — вдруг обернулся он к Дитте.
Она вспыхнула от смущения, — не в обычае было, чтобы кто-нибудь обращал на нее внимание за столом. Услыхав, что она еще ни разу не побывала дома, он с серьезным видом обратился к матери:
— Это с твоей стороны несправедливо.
— Но ведь ее здесь никто не обижает, и нужды она ни в чем не терпит! — уклончиво ответила Карен.
— Даже не по закону, по-моему, целое лето не отпускать только что конфирмованную девочку домой, — продолжал он. — Во всяком случае, это несправедливо.
— Ну, уж законам-то ты меня, пожалуйста, не учи, и что справедливо, что несправедливо — я сама знаю!
И Карен, рассердившись, встала из-за стола. Но, должно быть, у них потом еще был разговор об этом, когда они остались одни. Как только Дитте покончила с послеобеденными делами, хозяйка вышла к ней и позволила ей сбегать домой. Скотину можно было оставить в хлеву.
— Ты свободна до завтрашнего вечера. Понимаешь? — крикнул ей вслед учитель.
Карен что-то возразила было, но Дитте ничего не слыхала. Она была уже далеко.
Такой легкости и быстроты в ногах она еще не чувствовала ни разу за все лето. Она придет домой! «Да еще с ночевкой! С ночевкой!» — мысленно твердила она себе, мчась стрелой. Ведь ей тяжелее всего было не засыпать под родным кровом, не укутывать малышей на ночь, не прислушиваться к их ровному дыханию.
Сестренка Эльза стоявшая у лоханки, уронила белье с перепугу, когда Дитте ураганом ворвалась в кухню. Эльзе приходилось подставлять себе скамеечку, чтобы доставать до лоханки, но она была уже домовитой хозяюшкой. Дитте осмотрела ее стирку и похвалила. Сестренка вся зарделась от радости.
Заспанный Ларс Петер спустился с чердака и радостно воскликнул:
— Да это ты, девчурка! То-то мне послышался твой голос!..
Дитте кинулась ему на шею и чуть не сбила с ног.
— Ну-ну!.. Дай же мне сначала проснуться хорошенько, — сказал он, смеясь и отыскивая руками точку опоры. — Дневной сон все-таки не такой здоровый, как ночной. Его не скоро стряхнешь с себя.
Из гавани мчался Поуль, услыхав от других ребятишек, что его старшая сестра пришла домой.
— Принесла мне что-нибудь? — крикнул он ей еще с порога.
— Нет, я ничего не принесла… а что же надо было принести?
— Да ты же обещала, когда поступишь на место, купишь мне подарок на целую крону, — с упреком сказал мальчуган.
Должно быть, Дитте когда-то пообещала ему это, чтобы он только отвязался, но это у нее совсем выскочило из головы.
— Ну, в следующий раз я уж этого не забуду, — серьезно сказала она, глядя ему прямо в глаза.
— Прямо беда пообещать что-нибудь зря этим малышам, — сказал Ларс Петер. — У них память-то покрепче нашей.
— Да, вы всегда только обещаете, а ничего не исполняете, — вставил Поуль.
— А где же Кристиан? — спросила Дитте, усаживая огорченного мальчугана к себе на колени.
— Кристиан на работе, ведь он уже большой парень, — сказал отец. — Он все лето служит у трактирщика.
— Про это он ничего не говорил, когда был у меня.
— Как, он был у тебя? А я и не знал. Слышите, дети? — изумился Ларс Петер.
Оказывается, сестренка Эльза знала, ей Кристиан доверился. Она ведь была теперь за мать и хозяйку.
— Что же ты мне не сказала? — упрекнул отец.
— Да как же она могла сказать, — горячо вступилась Дитте, — раз Кристиан доверился ей? А зарабатывает он что-нибудь?
Ларс Петер рассмеялся.
— Трактирщик не охотник давать деньги, скорее любит брать. Но мальчишка кормится у него и приучается к делу и послушанию. Мне ведь за ним не уследить, я каждую ночь в море, а днем должен отсыпаться. А ты знаешь, жена-то у трактирщика померла?
— Да, об этом Кристиан говорил. А отчего она померла?
— Вот видишь ли… — Ларс Петер покосился на малышей. — Ступайте-ка играть, детки!
Оба младшие с обиженным видом нехотя поплелись за дверь, а он продолжал:
— Видишь ли, трактирщик с женой ужасно хотели ребенка… Да, печальная это история! Ведь и злым людям, — а уж его-то без греха можно назвать злым, — хочется иметь детей, как и всем… то есть большинству из нас. И чего-чего они не делали для этого. Говорят, трактирщик и вся его братия на коленях молили господа, чтобы он не оставил их своею милостью и благословил чрево жены. Но, видно, господь-то не надеялся, что ребенку будет хорошо у таких… или по какой другой причине, только проку от всех этих штук не было. Но вот, прошлою осенью, приезжал сюда этот миссионер, которого трактирщик откуда-то выписал; он призывал народ к богу и устраивал религиозные беседы. Миссионер помолился с женой трактирщика наедине и благословил ее. И от того ли, нет ли, только она понесла ребенка.
— Стало быть, он сотворил чудо! — серьезно сказала Дитте.
— Н-да, может, и так… кто его знает?.. Много есть такого, насчет чего мы мало смыслим. Но у трактирщика-то, видно, не хватало настоящей веры, и, когда дошло до дела, он чуда не признал. Он и раньше не очень хорошо обращался с женой, а теперь и вовсе разъярился. Бил ее и пинал ногами немилосердно. Говорят, особенно старался попасть в то место под сердце, где она младенца носила.
Дитте жалобно охнула.
— Да как же он мог! — прошептала она хрипло и вся съежилась.
— Да вот, как мог? Должно быть, ревновал… Он ведь прямо сатанеет, коли ему кто поперек дороги станет… Вот от его побоев она и захворала… да и умерла. И, говорят, он не дал положить ей в гроб ни полотна, ни ниток, ни ножниц, как полагается, когда женщину хоронят с младенцем в утробе, чтобы она могла в свой срок спокойно разрешиться в повить ребенка. Его не уговорить было, и он будто бы сказал: «Пусть ей не разродиться до Судного дня!» Однако ему это даром не сошло, и он все-таки только человек, хоть и говорят, что он ни бога, ни черта не боится. Люди, проходившие ночью мимо кладбища, слышали, как покойница стонет в могиле с самого дня похорон. А с неделю тому назад трактирщик ехал из города, и вдруг у кладбища лошади уперлись и ни с места! Стоят и трясутся, все в мыле, а из могилы голос: «Пеленок и свивальников! Пеленок и свивальников!» Пришлось ему разорвать свою рубашку и положить на могилу. Только тогда умолк голос, и трактирщик мог двинуться дальше. Но с тех пор его здорово скрутило! Он, понятно, рыщет повсюду по-прежнему, но уж на себя не стал похож.
— Бедная, бедная женщина! — сказала Дитте со слезами на глазах.
— Да уж, правда!.. Много зла творится на свете, но преследовать человека даже после смерти — хуже этого и не слыхано!.. Ну, да полно нам сидеть здесь, пригорюнясь, — возвысил голос Ларс Петер. — Ступай-ка займись малышами, они, верно, ждут не дождутся тебя. А мне пора лодку снаряжать на ночь.
Дитте взяла за руку Эльзу и Поуля и пошла повидаться с друзьями и знакомыми. Она-то предпочла бы обойтись без этого, да нельзя — скажут: заважничала.
Старички из Пряничного домика очень обрадовались ей.
— Да как же ты выросла! — говорили они, оглядывая ее с ног до головы. Сами они стали еще меньше — эта славная чета как будто в землю врастала. И по-прежнему у них в комнате пахло яблоками и лавандой.
Побывали и у вдовы Ларса Йенсена. Она, впрочем, уже не вдовела больше. Трактирщик выдал ее за вновь прибывшего в поселок рыбака, чтобы разрешить квартирный вопрос. Но дети по-прежнему называли ее вдовой Ларса Йенсена, она была совсем растрогана посещением Дитте, добрая душа.
— Да, не пришлось мне заменить вам мать, — сказала она, — но так приятно, что вы все-таки вспомнили обо мне. А я ведь обзавелась мужем, как ты, верно, знаешь. Каков он, не берусь тебе сказать, я и сама-то не успела еще хорошенько приглядеться к нему… И чудно как-то, когда тебе вдруг сунут совсем чужого!.. Спервоначалу-то не без того, чтобы не побрыкаться, не куснуть друг друга, но потом, верно, обойдется, ладится помаленьку, как и все на белом свете.
Она задержала детей у себя и угостила. Затем они продолжали свою прогулку.
Преинтересно было обходить так поселок, когда тебя все принимают и чествуют, как взрослую! Для Дитте это был настоящий праздник.
Но пора было и к будням вернуться. Сегодня, в субботу, следовало основательно прибрать все в доме. Эльза ведь едва справлялась с самой необходимой ежедневной уборкой. Дитте надела старую юбку и передник и принялась за работу.
Как хорошо было опять суетиться в домашней обстановке, как невыразимо приятно чувствовать на себе взгляды домашних, полные любви, гордости и восхищения. Какая она стала полная и краснощекая, как выросла!..
— Ты у нас скоро станешь совсем невеста, — с гордостью сказал Ларс Петер. — Не успеем оглянуться, как ты придешь к нам под руку с женихом.
Дети вешались ей на шею, счастливые и гордые тем, что у них есть взрослая сестра, от которой веяло чужим, далеким миром и которая так серьезно обо всем рассуждала.
Поуль особенно льнул к ней и мешал работать. Ему бы хотелось совсем не слезать с ее колен, чтобы вознаградить себя за долгую разлуку. И сердцу Дитте так отрадно было опять чувствовать малыша около себя и ухаживать за ним, ласкать его нежное тельце и слышать его постоянные возгласы:
— Нет, это пускай мамочка Дитте мне сделает!..
Разумеется, они решили, что лягут сегодня все вместе, вчетвером, на одну кровать.
— Да нельзя же, — увещевал отец, — ведь вы все выросли!
Но Дитте хотелось этого не меньше, чем малышам, она и сама-то была еще настоящим ребенком.
— Ну, скоро ли ты? — кричали ей дети, когда улеглись.
И Дитте не терпелось поскорее нырнуть к ним в постель, но хотелось тоже и посидеть, побеседовать по-взрослому с отцом.
— Ну, как же, довольна ты? — спросил он, когда малыши оставили, наконец, их в покое. — На вид ты такая здоровая, крепкая. Верно, тебя ни голодом, ни работой не морят?
Да, пожаловаться Дитте не могла… жилось ей неплохо, но все-таки ей очень хотелось бы вернуться на зиму домой. Ведь она здесь нужна, а Хутор на Холмах так далеко отсюда.
— Да, нам тебя очень не хватает, и мы каждый день тебя вспоминаем, — сказал Ларс Петер. — Но взять тебя домой… конфирмованную девушку… Где уж нам, беднякам! Люди прохода не дадут.
— Но ведь Марта, дочь Расмуса Ольсена, живет же все время дома! — возразила Дитте.
— Тут другое дело, — нехотя сказал отец, — и, верно, ей это не дешево обходится. Нет, трактирщик не терпит, чтобы бедняки имели дома помощь от своих детей. Он ведь не потерпел, чтобы и Кристиан оставался в семье. Но если оттуда тебе слишком далеко навещать нас, мы, может быть, найдем для тебя место поближе к дому. Говорят, трактирщик выстроит тут такую же гостиницу для приезжающих на морские купанья, как в других местах. Вот, пожалуй, ты и поступишь туда.
Нет, тогда уж лучше оставаться ей там, где она работала!
— Да и слишком рано было бы менять место, — сказал Ларс Петер. — Про тебя пошла бы дурная слава — виновата ты или нет, все равно. Крестьяне не любят тех, кто часто меняет места.
— Да почему же, если хозяева бывают виноваты?
— Потому что это признак слишком большой самостоятельности, она же не в чести. А вот кто подолгу живет на одном месте, тот, стало быть, человек уживчивый, смирный, и таких любят. Но поговорим-ка о другом. Не видала ли ты дядю Йоханнеса? Говорят, он зачастил к вам на хутор?
Дитте сказала, что видела его всего раз и не думает, чтобы он бывал там часто.
— А разве есть что-нибудь такое промеж них… с хозяйкой? — с любопытством спросила она.
— Да люди болтают, будто он льнет к твоей хозяйке и ей не противен. А правда ли, нет ли — не знаю. Но с него станется, малый он дерзкий, высоко метит. И не раз бывало, что старая баба с молодым парнем сходилась. Только добра от этого не жди, как говорится.
Утром Дитте проснулась оттого, что кто-то потянул ее за нос. Она растерянно раскрыла глаза. Кристиан и Поуль, перевалившись через край кровати, плутовски глядели на нее, а сестренка Эльза стояла около кровати с чашкой кофе.
— Ты будешь пить кофе в постели! — кричали они и хохотали во все горло над ее растерянным видом. Не привыкла она к такому пробуждению.
Давно уже наступило утро, — это Дитте видела по солнцу. Маленькие плутишки сговорились вчера дать ей поспать подольше и тихонько выбрались из перин, но потревожив ее.
— Ах вы, плуты! — сказала Дитте, свешивая ноги с постели. — Мне бы надо было встать пораньше да прибрать все.
— Все уже прибрано! — кричали они, радуясь, что так ловко провели се.
Пока Дитте одевалась, они заставили ее рассказывать про Хутор на Холмах: про скотину, про кота, похожего на их Перса, про пожилого поденщика с табачным ртом и черными лошадиными зубами.
— А еще у него страсть — целоваться, — прибавила Дитте, — проходу от него нет.
— Тьфу ты, мерзость! — Кристиан не мог не сплюнуть в открытое окно. Тут он заметил лодки, идущие в гавань. — Отец домой плывет! — крикнул он и, выскочив в кухонную дверь, помчался с радостным криком по песку.
Остальные двое тоже заторопились, но Поулю, во всем подражавшему Кристиану, непременно понадобилось тоже плюнуть через окошко. Он вскарабкался на скамейку, чтобы дотянуться до окна, и все-таки оплевал всего себя. Пришлось Дитте обтирать его. На все это понадобилось время; наконец он вырвался и тоже побежал на берег. На бегу он то и дело спотыкался и падал, — так он торопился. Все такой же был забавный бутуз.
И Дитте хотела пойти на берег, да в стенку постучали. Это звала ее матушка Дориум. Дитте заглянула к ней.
— Слышала, что ты пришла, — простонала старуха. — Голос твой услыхала.
Она откашливалась при каждом слове, мокрота так и клокотала в ее горле, словно картошка в котелке на огне. Лежала она, как всегда, ужасно неудобно. Дитте попыталась поправить подушки у нее под головой, они были холодные и липкие, как клеенка.
— Да, вот, лежишь тут и гниешь, и смерть все не приходит, — жаловалась старуха. — Некому обо мне позаботиться, и никому я не нужна. Сын в море и никогда домой не заглядывает, а невестка все гуляет. Теперь, говорят, опять на сносях. Сама-то плохо вижу. Да и не все ли равно, только бы помереть скорее. Кабы не Якоб Рулевой, совсем бы пропала, он один только и заходит ко мне, старухе. Подойди-ка поближе, я тебе скажу кое-что по секрету, но ты никому ни гу-гу! Якоб почти нашел слово и скоро застрелит Людоеда.
— Хорошо, кабы так, — сказала Дитте. — Всем стало бы легче.
— Не правда ли? Только не проговорись никому, не то все может рухнуть.
— Не проветрить ли тут немножко?
Дитте чуть не задыхалась от вони.
— Ой, нет, нет! — И старуха раскашлялась при одной мысли об этом.
Дитте беспомощно огляделась кругом. Следовало бы помочь, но с чего начать?..
— Да брось все, как есть, — сказала старуха. — Я уже привыкла, обтерпелась, лучшего мне и не надо.
Дитте прямо дурно становилось, но бросить старуху в таком положении она не могла. Не привыкла она ни от чего отвиливать. К счастью, послышался голос отца, который звал ее.
— Немудрено, что ты чуть не задохнулась, — сказал он, видя, что Дитте ловит воздух ртом. — Я человек ко многому привычный, да и то меня тошнит, коли я только нос к ней в дверь суну. Но тут ничего не поделаешь. Время от времени у нее чистят и прибирают, но сейчас же начинается то же самое. По-настоящему-то ее бы надо в больницу, да трактирщик не велит. Боится, наверное, что тогда узнают, какой тут был за ней уход. У нее, говорят, страшные пролежни, вся она в грязи и во вшах, о ноги совсем отнялись.
— А где близнецы? — спросила Дитте.
— Один недавно упал с пристани и утонул. Мать стояла тут же, белье полоскала, он рядом вертелся. Но она даже не заметила ничего и пошла себе домой преспокойно. Вот она какая разиня и нерадивая! Ребенка нашли потом под самым плотом. А другого сначала мы на время к себе взяли, потом отправили к родным в деревню.
— А почему трактирщик совсем им не помогает?
— Наверное, сердит за то, что сын ушел в море, а не остался тут рыбачить на него.
Сегодня было воскресенье, и это сказывалось во всем. Солнце как-то особенно, по-праздничному светило на дюны, пристань и море. Мягкие солнечные лучи озаряли хижины. Колья для просушки сетей красовались в прозрачном синем воздухе, как будто выстроились в ряд парни, заложившие от нечего делать руки в карманы. Такой день требовал, чтобы его отпраздновали по-настоящему. Ларс Петер решил пожертвовать своим сном и устроить большую прогулку.
— Наплевать, один раз не поспать не беда! — весело ответил он на возражения Дитте. — В молодости случалось же не спать по нескольку суток. А впереди целая вечность, чтобы выспаться.
Преинтересно было бы прогуляться на озеро Арре. Заодно поглядеть на Сорочье Гнездо. Ларса Петера туда привлекало многое. Но дети все-таки предпочитали погулять там, где они еще никогда не бывали. Да вот, в другом рыбацком поселке, мили за две отсюда, как раз сегодня, по случаю открытия мола, большой праздник. Ларс Петер ухватился за эту мысль. Вот, пожалуй, случай присмотреть себе какое-нибудь другое занятие, — здесь ему порядком надоело.
— Там мы сможем поглазеть на городских, — сказал он. — Говорят, их столько туда понаехало, что всем рыбакам пришлось уступить им свои хижины, а самим перебраться в хлева и сараи. И смешной же они народ! Рыбу, говорят, едят двумя вилками! Завтракают, когда мы обедаем, обедают, когда мы ужинаем. А ужин у них, верно, приходится в то время, когда мы пьем утром кофе.
Ребятишки засмеялись:
— Вот глупые-то!
— Да, и они по целым дням ничего не делают, только любезничают с чужими женами. Должно быть, так у них полагается, потому что они из-за этого не ссорятся. И вечно они торчат на берегу. Не всем рыбакам это по нутру, но зато дачники приносят доход поселку.
Словом, прогулка обещала много интересного.
Но как добраться туда? Всего удобнее и проще было бы отправиться на лодке. Но девочек это не очень прельщало. Идти пешком было слишком далеко. Оставалось попытать счастье — не одолжит ли трактирщик Большого Кляуса. Людоед стал как будто покладистее после того случая с ним на кладбище.
Да, прокатиться! Прокатиться опять на Большом Кляусе — вот удовольствие! Девочки заахали, и глаза у них просияли, мальчуганы запрыгали, как жеребята. Кристиана послали за телегой, и не успели опомниться, как он уже подкатил к дверям.
Вот когда поднялась суматоха! Дети были уже принаряжены, но надо было еще раз внимательно оглядеть их. Они изо всех сил старались вести себя хорошо, но Дитте знала все их слабые стороны. У Кристиана были черные, заскорузлые коленки, их никак не отмоешь дочиста, утверждал он.
— Поди-ка сюда, я тебе их живо отмою, — сказала Дитте и принесла зеленого мыла и щетку.
Но Кристиан так и отскочил в сторону.
— Ты думаешь, я хочу, чтобы у меня ноги были, как у девчонки? — обиженно сказал он.
Дитте уложила в корзину хлеб, масло и сало, холодную рыбу и еще кое-какие припасы, что были в доме.
— Вот только пивца не хватает, — сказала она.
— Это мы там закажем… и кофе тоже! — важно сказал отец. — Сегодня будем веселиться вовсю.
— Да у тебя же нет денег! — благоразумно напомнила Дитте.
Что правда, то правда. Ларс Петер совсем забыл об этом.
— Привык ходить без гроша в кармане, вот и опустился совсем! — сказал он, смеясь. — Ну-ка, Кристиан, сбегай к Расмусу Ольсену да попроси у него для меня взаймы далер.
— Есть ли у них? — сказала Дитте, пытливо глядя в сторону хижины Ольсенов.
— Есть. Видишь ли, лодка Расмуса Ольсена встретила ночью лодку из Гундестеда, и он сбыл ей часть улова, — вполголоса сообщил Ларс Петер. — Изредка приходится пускаться на хитрость, чтобы разжиться деньжонками.
Кристиан вернулся вприпрыжку, и сразу видно было, что сбегал недаром., В руках у него была бутылочка, так и блестевшая на солнце.
— Да это водочка! — растроганно сказал Ларс Петер. — Ну, спасибо Расмусу Ольсену.
— Знаешь что? — потянул Поуль Дитте за юбку. — В Пряничном домике пекут яблочные пышки. Верно, для нас?
Да, Дитте уже чуяла это носом.
— Только откуда они знают, что мы едем на прогулку? — с удивлением спросила Дитте.
Но это не было секретом. Телегу окружили ребятишки со всего поселка, и кругом изо всех хижин высовывались головы соседок. Не каждый день у двери одной из хижин стоял парадный выезд!
Как-то странно было вновь свидеться с Большим Кляусом, — он был такой старый, заезженный и окончательно исхудал с тех пор, как Дитте видела его в последний раз. Она отыскала ему черствых хлебных корочек, но Кляус только понюхал — пришлось размочить их, чтобы он мог жевать. Но все-таки он узнал всех и особенно обрадовался Ларсу Петеру. Как только тот подходил, коняга тихонько ржал. Просто трогательно!
— Ему хочется, чтобы я все время стоял возле и ласкал его, — грустно говорил Ларс Петер и брал Большого Кляуса за морду. А конь, прижавшись к нему, стоял, не двигаясь.
Дети боялись, что Большому Кляусу будет не по силам дальняя поездка. Он стоял такой понурый, точно мертвый; большой, костлявый, он напоминал старый дом, который вот-вот рухнет. Но Ларс Петер полагал, что конь выдержит и свезет их всех, и, когда дети уселись в телегу, Большой Кляус действительно повез без труда. Сам Ларс Петер шагал рядом, пока они не выбрались из песков. А Якоб Рулевой, который тоже вышел провожать их, по собственному почину подталкивал телегу, что было совсем не плохо придумано!
— А яблочные пышки-то? — сказал Поуль, когда они приостановились у края дюн, чтобы и отец мог сесть в телегу. — Мы про них позабыли!
Дитте оглянулась на домик. Она отлично помнила про пышки, да ведь не пойдешь же к людям просить угощенья, хотя и знаешь, что оно для тебя приготовлено. Но тут как раз сама старушка показалась в дверях и поманила их. Кристиан мигом соскочил, сбегал в домик и вернулся, таща тяжелую корзинку.
— Тут и кисель крыжовенный есть, — сказал он. — Старички передают привет и желают нам хорошо повеселиться.
Затем они двинулись вперед, медленно, но без остановок.
Стоило Большому Кляусу поразмяться, как он пошел отлично. Он еще не совсем отвык от прежнего своего шага, которым отмеривал мили быстрее, чем иная лошадь рысью.
Как хорошо было, сидя высоко на телеге, опять смотреть на поля хутора! Во все стороны расстилались обработанные поля или участки с отдельным домиком на каждом, и все говорило о труде и хозяйственных заботах людей. Вдали просвечивало местами озеро Арре, заставляя вспоминать о Сорочьем Гнезде. Время сделало свое — многое стерлось в памяти Ларса Петера и сохранилось лишь самое дорогое. Все-таки там у них было свое гнездо, хоть и Сорочье, был свой участок с земельными угодьями, хоть и тощими, были и корова, и свинья, и куры, несшие яйца. Там Ларс Петер был сам себе хозяином, пока исправно выплачивал проценты и налоги. Никто из них ничего не сказал об этом, но все думали про себя приблизительно одно и то же. Недаром же все так вытягивали шеи, когда въезжали на верхушку каждого холма, откуда, им казалось, можно было разглядеть строения Сорочьего Гнезда. И если бы не жаль было старого Кляуса, Ларс Петер непременно завернул бы туда.
— Лучше, пожалуй, было бы оставаться там, — проговорил он вполголоса, ни к кому не обращаясь, но и дети подумали о том же. Даже маленький Поуль притих, как бы припоминая прошлое. Да, земля совсем иное дело, чем море!
У въезда в рыбачий поселок стоял большой дом, весь облепленный балконами, словно птичьими клетками.
— Это гостиница для купальщиков, — объяснял Ларс Петер. — Такую вот затевает выстроить и наш трактирщик. Черт его знает, как это может окупиться? Она ведь и нужна-то бывает всего месяц-другой в году.
Большому Кляусу пришлось постоять, пока они все нагляделись на гостиницу.
— А что это за диковинные птичьи клетки? — спросила Дитте.
— А это у них называется верандами. Тут эти люди валяются, когда им лень двигаться.
— Очень дорого стоит жить там? — спросил Кристиан, когда они снова двинулись в путь.
— Нашел о чем спрашивать, глупый! Да они в день с человека платят больше, чем мы издержим за неделю на всю семью.
— Откуда же они берут столько денег? — спросила в свою очередь Эльза.
— А это ты мне скажи — откуда? Кто еле-еле может наскрести себе гроши на самое необходимое, а другому — все нипочем!
Дети продолжали спрашивать без конца. И Ларс Петер едва успевал отвечать. Один маленький Поуль ни о чем не спрашивал, только все глядел да глядел.
— Как он глядит на все, этот мальчуган! — сказала Дитте и поцеловала его.
Они не заехали на постоялый двор, но остановились возле одной из дюн и отпрягли там Кляуса.
— На постоялом дворе непременно отсыплют у лошади из торбы, — сказал Ларс Петер в объяснение. На деле же ему просто хотелось сберечь чаевые. Коню надели торбу с кормом на шею, прикрыли его от мух мешком и пошли погулять.
Гавань была похуже, чем у них, зато песчаный берег лучше. Он полумесяцем изгибался между двумя высокими мысами; песок был ровный, словно пол, и на нем стояли деревянные будочки на колесах. Эти будочки катили прямо в воду, когда кто-нибудь из приезжих хотел выкупаться.
— Это для таких важных господ, которые до смерти боятся, как бы их не увидели раздетыми! — смеясь сказал Ларс Петер. — Но среди них не все такие неженки.
Что правда — то правда: песчаный берег был усеян людьми, на них ничего нет, кроме полотенца вокруг бедер. Мужчины и женщины сидели и лежали вперемежку, некоторые закапывались в песок, как поросята или куры, а у самой воды разгуливали парочки. Были тут и загорелые мужчины, напоминавшие своим гордым видом петухов. Они расхаживали в одиночку, скрестив руки на груди, и ежеминутно упражняли свои мускулы: вытянут руку на миг, напружат мускулы желваками и опять спокойно скрестят руки на груди. Презабавно это у них выходило. Но всего занятнее было смотреть на голого человека, который, прижав к бокам локти и закинув назад голову, во всю прыть носился по берегу взад и вперед. Мокрые волосы торчали у него на затылке.
Дети расхохотались.
— Да он в своем уме?!
— Пожалуй, он и сам так думает, — отозвался отец. — Он, видите ли, проделывает это ради своего здоровья. Но таково большинство иг» них, полоумные какие-то. Прощай, наше спокойное житье-бытье в поселке, если и у нас заведутся такие.
На том месте, где обычно устраивались праздничные гулянья, не оказалось ничего особенного. На молу только были поставлены четырехугольником столбы, обвитые зеленью и соединенные между собою гирляндами, а в центре четырехугольника стоял на возвышении человек и говорил речь о путях датчан к славе и могуществу. Он весь вспотел, голова его была непокрыта, и лысина так и блестела на солнце. Ларьков же, силомеров и других обычных ярмарочных увеселений тут не было.
— Этот больно мудрено говорит, — не понять его! — сказал Ларс Петер, и они пошли дальше. Отец с Дитте впереди, а трое младших по пятам за ними. Даже Кристиан никуда не удирал и ходил вместе с остальными. Все здесь казалось слишком чужим, по-столичному важным, поневоле оробеешь.
В одной из беседок при гостинице они съели свои припасы и еще теплые яблочные пышки. Человек в белой куртке и с салфеткой под мышкой подавал им пиво и кофе. Дитте решила, что это странное занятие для мужчин. Но все-таки было очень интересно закусить в гостинице.
Пора уж и запрягать. Солнце начало клониться к закату, и, наверное, было уже пять часов, а Дитте нужно вернуться на хутор сегодня же вечером, и она боялась запоздать.
VI Краснощекая девица
Пришла осень с холодами и слякотью. Скотина большую часть дня стояла на месте, повернувшись задом к ветру, и не хотела двигаться, а Дитте мерзла. Трудно было удержать коров в поле, — они так и рвались домой. В других хуторах давно уже держали в хлеву, но на Хуторе на Холмах упорно придерживались старых обычаев, как во всем, где можно было обойтись без перемен. Но однажды утром оказалось, что за ночь выпал снег. Было это в первых числах октября. Снег через несколько часов растаял, но все же это был тот сигнал, которого ждали.
Травы в этом году уродились хорошие, и скотина за лето отъелась, шерсть у нее залоснилась, и жирку прибавилось. Теперь ей предстояло этим жирком и пробавляться. Хозяйство на Хуторе на Холмах велось по-старинному, и каждое время года приносило свои заботы. Прикорму для скотины никогда не покупалось, а сена в этом году запасли маловато, как ни хороши были травы. Карен проявляла в это лето необыкновенное равнодушие к хозяйству, а сын был слишком молод и слаб, чтобы взять его в свои руки.
Теперь Дитте стало труднее. Если не считать вывозки навоза и другой черной работы, которую выполнял хозяйский сын, весь уход за скотиной лег на нее, и, кроме того, она должна была во всем и всем помогать, если у нее хватало времени. Но она радовалась такой перемене. Ей необходима была пища для ума, которой не давало ей летнее одиночество на пастбище.
Все лето Дитте напрягала свое воображение, чтобы разобраться в окружающей ее обстановке — в людях и условиях. Но это не так-то легко, когда человек все один да один: слишком мало случаев подметить что-нибудь. Например, богата или бедна Карен Баккегор? Все хуторяне считались богатыми, но тут кое-что противоречило этому мнению; между прочим, и отношение других хуторян. Все крестьяне вообще цепляются друг за дружку, словно гороховые плети; у каждого ведь имеются свои изъяны и прорехи, вот и следовало быть снисходительными друг к другу. Но от Хутора на Холмах все, как по уговору, держались подальше.
И почему у многих в голосе и во взгляде чувствуется страх, когда речь заходит о Карен Баккегор? Неужели причиной этому только странная смерть ее мужа? И почему самое Дитте дрожь пробирает в присутствии хозяйки? Ведь бояться ее она по-настоящему не боится. Ага! Это, верно, из-за бьющего в нос неприятного запаха. Но откуда этот запах?
И прежде всего Дитте хотелось знать, какие отношения у хозяйки с дядей Йоханнесом? Это было все-таки самое интересное, и Дитте постоянно зорко приглядывалась к ним. Долгое время она не могла заметить ничего подозрительного. Но вскоре после того, как скотина была поставлена в хлев, дядя появился опять. Как-то раз они с хозяйкой вдруг вынырнули из полумрака хлева и пошли вместе осматривать коров. Он должен был высказать свое мнение о каждой. По поведению Карен и дяди можно было догадаться, что они виделись после того, как он приезжал на хутор, и что вообще они ближе друг к другу, чем полагалось знать людям. Стало быть, правда, что они встречаются где-то украдкой? Он кивнул Дитте, но не заговорил с нею, и она поняла, что нечего и напоминать о родстве.
Перед обедом верхний конец стола накрыли скатертью и поставили отдельно прибор для Йоханнеса. Ему подавали жареную грудинку, колбасу и специально для него приготовленные кушанья, и Карен сама угощала его.
Странно было смотреть, как эта рослая, немолодая женщина ухаживала за черномазым молокососом и, как преданный пес, смотрела ему в глаза, стараясь угадать его желания. Сине переглядывалась с поденщиком. Карл сидел, смущенно уткнувшись носом в тарелку. Чувствовалось, что ему было стыдно.
И вдруг он поднял голову и выкинул нечто, совсем на него не похожее.
— Кажется… ты в родстве с Дитте? — спросил он, глядя на Йоханнеса.
Поденщик крякнул:
— Ах, чтоб тебя! — и прищелкнул пальцами, словно обжегся.
Хозяйка ядовито посмотрела на сына и спросила:
— Много хочешь знать, — скоро состаришься.
Но Йоханнес был не таков, чтобы смущаться от подобного пустяка. Он ответил Карлу взглядом в упор в дерзкой усмешкой.
— Да, как будто! Она приемыш моего брата, — сказал он довольно весело.
Дитте вся дрожала, чувствуя, что это было сказано затем, чтобы задеть Йоханнеса. Но, слава богу, на том разговор и кончился.
После обеда Карен с Йоханнесом удалились в чистую горницу, как настоящие влюбленные. Но они престранно вели себя для влюбленных: все время играли в карты и пили кофе с ромом. Карен не выпускала из зубов трубки, той самой, которой она «выкурила жизнь из своего мужа», как говорил поденщик. Йоханнес курил только сигары, будто настоящий барин.
С тех пор он стал бывать часто, и так же часто начала уезжать из дому хозяйка. Лошадьми правила она сама, и все знали, куда она едет. Она встречалась с Йоханнесом и его приятелями в гостиницах окрестных городков и кутила. Положим, Карен и раньше не была смиренницей, но все-таки не выносила своего срама за порог дома. Теперь же, как говорится, она потеряла всякий стыд и дала себе волю.
По старинному обычаю работники и слуги, оставшиеся работать на том же хуторе после истечения срока найма, были свободны в первое же воскресенье после дня найма и увольнения{9}. И вот, в первое ноябрьское воскресенье Сине и Дитте ушли со двора еще утром, когда люди спешили в церковь. Девушкам выплатили жалованье, и они отправились в Фредериксвэрк за покупками; Сине не без труда удалось получить все свои пятьдесят крон сполна. Пришлось ссылаться на то, что она сама должна кому-то такую же сумму в городе.
— Ну, тебе, просто хочется положить их на книжку! — сказала Карен, но все-таки принуждена была выложить денежки.
Пять крон жалованья Дитте — сумма небольшая, и ей выдали их без разговора.
— Для тебя это пока большие деньги! — сказала ей Сине. — Но вот увидишь — надолго ли их тебе хватит. Я помню, как сама получила первые заработанные гроши и как горевала, когда спустила их неведомо куда.
— А ты правда кладешь на книжку? — спросила Дитте, перебрасывая свой узел на другое плечо.
В узелке было белье Дитте, отрез полушерстянки на платье, клочок нечесаной шерсти, рубашка из синей крашенины и пара новых деревянных башмаков.
Сине взяла у нее узел.
— Давай сюда, ты надорвешься! — сказала она. — Уж башмаки-то могла бы не таскать за собой. Тебе все равно придется износить их на работе… Может быть, ты собираешься поставить их дома на комод для украшения?
— Я только хочу показать их малышам, — ответила Дитте и торжественно прибавила: — И отцу тоже.
— Да, ты совсем еще девчонка. А порой кажешься настоящим сосунком.
Дитте снова начала расспрашивать Сине. Неужели она в самом деле служит вместе с девушкой, у которой есть деньги на книжке? Очень важно было убедиться в этом.
— И у нас прежде лежали деньги на книжке, — сказала она.
— Да, наверно, те, что мать твоя… — Сине вдруг осеклась. И, чтобы загладить свой промах, призналась Дитте, что у нее уже целых пятьсот крон на книжке. Двести достались ей по наследству, остальные она сама скопила. А когда у нее будет полная тысяча, она заведет небольшую торговлю сученой пряжей и нитками в каком-нибудь городке.
— И тебе бы следовало откладывать понемногу на книжку, — прибавила Сине. — Даже если совсем по малости, и то скопится что-нибудь. Пригодится тебе на старости лет.
— Нет, я выйду замуж, — сказала Дитте.
Она не хотела оставаться старой девой.
— Если он тебя не одурачит, — изрекла Сине.
— А тебя, стало быть… обманули? — спросила Дитте предпочтя другое выражение.
Сине кивнула.
— Да еще как бессовестно! — воскликнула она, чуть не заплакала.
С тех пор прошло уже несколько лет, а Сине и теперь! еще с трудом удерживалась от слез, вспоминая об этом.
— Так он тебя опозорил? — тоном опытной женщины, спросила Дитте, гордясь тем, что с ней разговаривают, как со взрослой.
— Нет, так далеко я не позволила ему зайти, оттого он и бросил меня, — чуть не плача ответила Сине.
Несколько минут она шла, всхлипывая, потом взяла себя в руки, энергично высморкалась и, решительно сунув носовой платок в карман, сказала:
— Что глаза вытаращила? Не привыкла, чтобы Сине ревела? Но в каждой крыше есть щели, под которые приходится бадьи подставлять.
— Но чем же тогда он обманул тебя? — с удивлением задала вопрос Дитте.
— А ты еще разок спроси! — сказала Сине, смеясь. — Вот погоди, когда начнут к тебе приставать да развязывать одну тесемочку за другой, — дескать, надо же им знать, какова ты, прежде чем жениться на тебе, — тогда все сама поймешь. Нет, от мужчин надо подальше. Сперва они всячески угождают да улещают тебя, а как добьются своего — и поминай как звали.
Дитте задумалась, вспомнив свой маленький мирок.
— Отец не такой, — решительно заявила она.
Дитте вспомнила, как он всегда угождал Сэрине и как теперь ждет не дождется ее возвращения.
— И я не думаю, что все мужчины плохи, — добродушно согласилась Сине, — но многие из них таковы.
Сипе раскраснелась сегодня пуще обыкновенного, и карие глаза ее сердито сверкали. «А ведь она красивая!» — радостно подумала Дитте.
— Надо просто примириться с этим, — продолжала Сипе немного погодя. — Мать, правда, говорила мне: «Тебе это все равно не удастся, у тебя кровь чересчур горячая… И какая разница: сдаться сразу или под конец? Есть ли смысл беречь то, что все равно потом потеряешь!» И чего только не придумывала! Но я опять скажу, надо на это смотреть проще. Как вспомнишь обиду, поревешь немножко, подумаешь, что из такой истории раньше получилось, так берешься за свою сберегательную книжку, и все как рукой снимает.
Все лавки в городе были открыты, несмотря на воскресенье. На улицах попадалось много работников и прислуги; многие были уже навеселе. Запертою оказалась только сберегательная касса. Пришлось Сине сдать свои деньги одной знакомой семье и просить устроить это за нее. Потом они пошли за покупками; времени у них оставалось немного, так как им надо было успеть побывать в поселке, в гостях у Дитте, и вернуться до ночи к себе на хутор.
— Ты поскорей кончай свои дела, — сказала Сине, — не то нам не поспеть.
Да, да, Дитте поторопится.
— Отец так обрадуется твоему приходу, — сказала она Сине. — Он ведь тебя ужасно любит за то, что ты помогаешь мне и жалеешь меня. Он сам такой добрый, такой добрый!
— Так надо мне принести ему гостинец, — сказала Сине смеясь и купила бутылочку рома.
Дитте помнила о своем обещании Поулю и купила ему игрушек на целую крону. Но нельзя же было обидеть и двух других детей, а тем более отца, — вот все пять крон и вылетели. Зато порядочно вещей пришлось ей тащить: и табак Лapcy Петеру, лошадку на колесах Поулю, куклу Эльзе и заводной автомобиль Кристиану, — пусть повозится с ним.
Они благополучно донесли все, и радость была большая. В первый раз в жизни могла Дитте сделать своим родным подарки, и дети в первый раз в жизни получили настоящие, купленные в лавке игрушки. Трудно сказать, кто радовался больше. Ларс Петер сейчас же набил свою трубку и раскурил. Что за чудесный дым шел от нее! Право, он сроду не видывал такого синего дыма. И какой запах!..
— Но хозяйка ты плохая, — поддразнил он девочку.
Впрочем, главная часть заработка — материя, шерсть и башмаки — осталась цела. Вдова Ларса Йенсена, мастерица на все руки, обещала сшить новое платье, и Дитте собиралась сейчас же сбегать к ней, снести материю.
— Это и Кристиан мог бы сделать, — сказал отец. — А ты бы сварила нам кофе, — пусть он сегодня будет повкуснее, ради гостьи. — И он весело поглядел на Сине.
Дитте подала кофе и поставила на стол рюмку, говоря:
— Надо же тебе попробовать гостинец!
— Тогда и вы обе должны выпить со мной, — ответил Ларс Петер и принес еще две рюмки. Прежде чем откупорить бутылку, он полюбовался ею, подержал в руках и посмотрел на свет.
— Давненько у нас в доме не было такого угощенья, — сказал он растроганно, — это почти все равно, что встретить первую свою любовь.
— Разве я похожа на нее? — со смехом спросила Сине.
— Красотка была!.. Но таких алых щек, как у вас, я все-таки сроду не видывал.
— Отец! — остерегла его Дитте.
— Да что же мне врать, что ли, черт побери! Я хочу только сказать, что будь это в дни моей молодости…
Он совсем разошелся, хотя еще и не отведал рома.
Сине только посмеивалась и не думала обижаться. А попробовал бы только поденщик или другой кто!.. Дитте с гордостью взглянула на отца.
— Ну спасибо за гостинец и за то, что вы так добры к девчонке, — сказал гостье Ларс Петер, и они чокнулись. Дитте тоже пригубила, но сразу сморщилась и отставила рюмку.
Пока она бегала к вдове Ларса Йенсена со своей материей, Ларс Петер и Сине поговорили о ней серьезно. Дети на полу возились со своими игрушками.
— Ну, как она справляется там? — спросил Ларс Петер.
Оба они провожали глазами Дитте, которая, как козочка, прыгала по дюнам, радуясь обновке.
— Неплохо, она ведь довольно ловкая. И хорошо, если бы все люди работали так охотно и добросовестно!..
Да, Дитте была не плохая работница, это Ларс Петер знал, но вот как там относятся к ней? Правда, она ни разу ни на что не пожаловалась ни единым словом, но слава про хозяев Хутора на Холмах идет не очень-то хорошая.
— Что же, у них есть свои недостатки, как у всех… пожалуй, даже побольше, чем у других. Но жить там можно. И кормят хорошо.
— Да, это немало значит… и вы сами лучший пример тому, что жить на хуторе можно, — сказал Ларс Петер, не сводя глаз с ее круглого ласкового лица. Сине не могла удержаться от смеха, рассмеялся и он. Потом оба стали глядеть в окошко, глаза у обоих покраснели от усилий сдержать смех. Стоило же им взглянуть друг на друга, как смех опять одолевал их.
— Да, вот оно как… — начал было Ларс Петер, но запнулся.
Это красные щечки Сине так его раззадорили, да еще то, что она не порочила своих хозяев, но защищала их. Видно, что хорошая девушка… и к тому же такая привлекательная… На полной шейке спереди, где ворот был вырезан, виднелась ямочка, то поднимавшаяся, то опускавшаяся, когда Сине разговаривала. Когда же она смеялась, то в горле у нее словно переливалось и булькало что-то часто-часто, как будто там засел какой-то плутишка и забавлялся.
— Да как же это, черт побери… как могла такая милашка остаться до сих пор в девицах? — спросил он.
— Вот так! — ответила она и опять засмеялась.
Наконец Дитте вернулась, и пора было им собираться в обратный путь. Ларс Петер встал и с минуту рассеянно глядел куда-то мимо. Потом вздрогнул и сказал:
— Я провожу вас немного.
VII Зимний мрак
Наступившая зима принесла с собой главным образом холод и мрак. Право, Дитте никогда не переживала дома такого темного и холодного декабря. Уже в начале месяца начал валить снег, ветер похлестывал и гнал его с моря прямо во двор, который словно раскрывал ему свои объятия; снег скоплялся во дворе непроходимыми сугробами. Дитте страшно мерзла; руки и ноги у нее опухли от холода. Снег набивался в деревянные башмаки, и потому у нее постоянно были мокрые ноги. Сине потихоньку сушила ее чулки в печке, но это мало помогало. На пятках и в подъеме ног, а также на тыльной стороне кистей рук образовались язвы; обувь и холодная вода причиняли большие страдания. По утрам, когда надо было одеваться, платье оказывалось сырым и обледенелым от снега, который проникал в дверные щели, а к порогу его наметало столько, что Дитте могла отворять лишь верхнюю половинку двери. Кое-как вылезала она оттуда и брела по сугробам к черным сеням. В кухне одежда на ней оттаивала, и с подола текло.
Дитте не любила снега. А дома мальчишки с ума сходили от радости, увидев утром, что за ночь выпал глубокий снег. Им не терпелось выскочить и поваляться в снегу — и непременно в одних рубашонках. Едва-едва удавалось удержать их, пока оденутся. Дитте не понимала, чему они радуются; снег для нее — это холод, неудобство, неприятности.
Еще хуже была темнота. Полный рассвет наступал лишь поздно утром, когда самая трудная работа по хозяйству была уже сделана, а вскоре после обеда опять надвигался мрак. Он шел с моря, где целый день клубился свинцовый туман над черной водою, словно выжидал удобной минуты. Настоящего дня так и не бывало за все сутки.
И как однообразно проходили дни, — один похож на другой! На хуторе заготовляли из соломы сечку для корма скоту, молотили, веяли зерно, кормили, поили и доили коров. День-деньской в суете, а дела не видно, сбудешь одну работу с рук, глядь — набежало три новых!
На Хуторе на Холмах настоящего порядка вообще не было, вещи не имели определенного места, людей гоняли то туда, то сюда. Начнет Дитте задавать корм скоту, — вдруг ее позовут возить снопы на гумно или таскать солому к соломорезке.
Ей пришлось испробовать всего понемножку, участвовать в разных работах, даже в таких, которые в других хозяйствах большей частью выполняются взрослыми мужчинами. Она подгребала зерно на току, залезала под самый конек крыши, куда никто другой не мог пролезть, и сбрасывала солому, по очереди с Сине работала у молотилки или веялки. Работа эта тяжелая, зато на гумне было тепло, да и Карл часто сменял Дитте, предоставляя ей подкладывать снопы в машину. У них завязывалась беседа, и эти минуты доставляли Дитте много удовольствия. Со взрослыми Карл был робок и молчалив, — он не переносил насмешек, а с Дитте чувствовал себя на равной ноге и разговаривал с ней охотно. Дитте перестала дразнить его и понемногу привязалась к нему. Она понимала, что ему и без того тяжело приходится, и нужно, чтобы кто-нибудь пожалел его немножко. Но она по-прежнему удивлялась, как это он, мужчина, мирится со всем!.. Однажды она и высказала ему это, а он уныло промолчал.
В полном подчинении был он у матери, вот что! Притом не из любви к ней, — он отзывался о матери, как о чужом человеке, и спокойно обсуждал все ее недостатки, — просто у него духу не хватало проявить самостоятельность.
Однажды Карл без всякого повода заговорил о своем отце, раньше он никогда не упоминал о нем.
— А его ты любил? — спросила Дитте. — Мать ты ведь терпеть не можешь, — продолжала она, не получив ответа. — А ты не стесняйся признаться в этом, потому что никто не обязан любить того, кого он не может любить. Я тоже не люблю свою мать.
— Да ведь это грех! Господь велел любить своих родителей, — удрученно отозвался Карл.
— Ну, а раз это невозможно. Ведь как же быть, если они нехорошие?.. Вот если чувствуешь, что не можешь любить свою мать. Что Же ты с собой поделаешь?
Карл и сам не знал… Но таков долг. Священное писание учит этому.
— Отец твой любил твою мать? Он ведь, говорят, был такой набожный.
— Нет, он не мог… но он сам от этого мучился. Мать курила в спальне, когда он лежал больной. У него начался кашель, и он стал харкать кровью, но она все-таки продолжала курить. «Отхаркивай, отхаркивай дурную кровь, у тебя будет новая», — говорила она. Ужасно было видеть на полу эту кровавую мокроту… А лицо у него становилось белое как мел. Но просить ее, чтобы она перестала курить, он не хотел. Тогда братья мои взяли да и спрятали от нее трубку и табак. А она выпытала у меня, где это спрятано, подкупила меня сластями.
— А побоями не грозила вдобавок? Это больше на нее похоже.
— Нет, она никогда этим не грешила, не била малых и беззащитных. Но братьев моих, которые были постарше, она отколотила. А они — меня за то, что разболтал.
— И поделом тебе, хоть ты и маленький был. Вот уж никто бы не заставил проболтаться ни Поуля, ни Эльзу, ни даже Кристиана, хотя он и озорник. Мы все четверо стояли друг за дружку против матери, хотя отец считал, что мы нехорошо поступаем. Но ведь мы это как раз ради него… главным образом.
— Разве она и ему досаждала?
— Ну что ты? Отцу нельзя досадить. Он ко всему относится так… ну вот, как сам господь бог, ты понимаешь? Во всем видит одно хорошее.
— Ты не должна приравнивать человека к богу, — с раздражением сказал Карл.
— А я все-таки буду, — упрямо ответила Дитте. — Отца можно с ним сравнивать. И ты, кажется, еще не пастор.
Они повздорили и больше уже не разговаривали в тот день за работой.
Всего лучше было вечером. К счастью, дни стояли короткие, и в сумерках все работы во дворе и на гумне прекращались. В определенные часы приходилось только наведываться к скотине. Остальное время Дитте проводила в теплой кухне, где так славно пахло горячим торфом, и помогала чесать или прясть шерсть и сучить нитки. Карл сидел и читал что-нибудь божественное, миссионерскую газетку или что-нибудь в этом роде. Расмус Рюттер, если приходил в тот день на работу, дремал в углу или рассказывал скабрезные истории про окрестных жителей. Если рассказ был особенно непристойный, Карен разражалась презрительным хохотом и подзадоривала поденщика продолжать. Она ненавидела всех, даже кого не знала лично, и желала им самого худшего. Она никогда никого не брала под свою защиту, никогда ни о ком не сказала доброго слова.
— Да с какой же стати? — ответила она, когда Сине однажды упрекнула ее за это. — Ты думаешь, кто-нибудь промолвит доброе слово о Карен Баккегор?
Да, люди ее не щадили, с какой же стати ей щадить их? Она не прочь была и сама рассказать что-нибудь грязное, особенно если могла этим уязвить кого-нибудь. Сына она дразнила постоянно за его набожность. Но от этого было мало прока. Он всегда отмалчивался.
И Дитте приходилось выслушивать немало пошлых намеков со стороны хозяйки и поденщика. Ее переходный возраст как будто дразнил их. В ней уже начинала просыпаться женщина, но в своей детской простоте она иной раз задавала такие вопросы, которые вызывали у тех двоих хохот и двусмысленные намеки. Сине огрызалась на них за это, обрывала их, хотя ее-то они не затрагивали. Им нравилось все нетронутое, свежее, нравилось теребить только еще начинавшую развертываться почку, играть на пробуждающихся ощущениях!..
Сине почти не принимала участия, когда говорили те двое. Краснощекая, пышная, она сидела, занимаясь своей работой и переживая про себя свою несчастную любовь. Если же кто намекал на это или вообще задевал Сине, она умела огрызнуться.
К рождеству сделаны были большие приготовления, нажарили и напекли разных разностей. Но никто и не подумал незваным явиться в гости на хутор, а кого приглашали, те отказывались.
— Не хотят, видно, встретиться с барышником и его компанией, — высказала предположение Сине, — вот по этой причине и чуждаются нас в этом году больше, а раньше, бывало, с аппетитом уплетали наше угощение!
Ей было обидно, что люди стали избегать хутор, где она жила.
Хозяйка пришла в дурное настроение, беспрестанно бранилась и презрительно и злобно отзывалась обо всех — надо же ей было сорвать на ком-то сердце. На Дитте, впрочем, меньше всего отражалось дурное настроение хозяйки. Карен Баккегор не любила «прыгать там, где изгородь пониже», как гласила поговорка. Известно было, что, напротив, она скорее кидалась на того, от кого могла ожидать сдачи.
Однажды, незадолго до Нового года, на хутор пришел почтальон. Газет хозяева не выписывали, так что почтальон заглядывал сюда редко. Он принес письмо Карен. Она ушла с письмом к себе в спальню, — получить письмо ведь не шутка! — и вернулась очень веселая.
— Сегодня у нас будут гости, — обратилась она к девушкам. — Я думаю зажарить голубей.
Карла послали на голубятню поймать голубей. Карен сама душила их и в то же время отдавала распоряжения по хозяйству. Она медленно вынимала одного голубя за другим, обхватывала бьющуюся птицу своими большими загрубелыми ладонями и стояла так с минуту, словно наслаждаясь тревожным биением сердца своей жертвы.
— Какой же ты тепленький, мягонький — прелесть!.. А сейчас тебе конец, — говорила она, беря в рот клюв голубя.
Затем она осторожно запускала большой и средний пальцы под самые крылья, отыскивала нужное местечко и разом, с каким-то сладострастием, стискивала жертву. Затем отводила задыхающуюся птицу подальше от себя и напряженно наблюдала, как та все шире и шире разевала клюв, как выходили из орбит ее глаза, затянутые молочной пленкой… И вдруг головка птицы свисала набок, точно надломленный цветок. Отвратительное зрелище!.. Но Карен со смехом швыряла мертвого голубя на кухонный стол девушкам:
— Задохся! Можете снять с него непорочные голубиные одежды! — говорила она и вынимала из мешка другого.
Карен была в отличном настроении.
Гости с шумом и гамом приехали в двух экипажах. Шляпы на затылках, сигары в зубах — в левом углу рта. Они не вынимали сигар, даже когда кричали и ругались. Бесцеремоннее всех, на правах старого знакомого, вел себя Йоханнес. Это были барышники и всякий сброд из столицы, где Йоханнес обитал теперь, — люди такого сорта, от которых сторонились и бежали без оглядки все в округе. Когда они с гиком мчались по дороге, обитатели даже дальних хуторов спешили поскорее войти в дом, не желая встречаться с этой буйной ватагой; а потом украдкой поглядывали из своих окошек да из-за изгородей и про себя осуждали ее.
У Сине было много дел на кухне, и Карлу пришлось идти помогать Дитте при вечерней дойке коров. Вид у него был хмурый, угрюмый, и от него слова нельзя было добиться, сколько Дитте ни старалась. Но Дитте не могла с этим примириться. Больше всего на свете ей нужна была откровенная беседа. Дитте решила, что заставит Карла разговориться.
— Это правда, что ты на днях был на балу? — спросила она.
— Кто, кто это говорит? — вспылил он.
Ага, она-таки поймала его!
— Да уж говорят… а кто — не скажу! — поддразнила она его.
— Так поди и скажи им, что они врут.
Карл с досады выругался; вообще-то он никогда не любил грубых выражений.
— Но в этом нет ничего дурного!.. Ах да, по-твоему, танцевать грешно. А как бы мне хотелось попасть когда-нибудь на бал… на настоящий, шикарный бал!
И Дитте начала что-то напевать.
— Напрасно ты этого желаешь… Ничего, кроме греха, оттуда не вынесешь.
— Поди ты с твоими грехами! У тебя все — грех! Настоящий святоша. Скоро ты скажешь, что есть грешно… А ты сегодня вечером опять пойдешь на беседу?
Дитте уже пожалела, что раздразнила Карла, и, чтобы помириться с нем, постаралась завести разговор, который пришелся бы ему по душе.
— Да, если удастся вырваться. Хочешь, пойдем вместе?
Но Дитте отказалась. Она была на беседе раза два, и довольно с нее. Очень ей нужно, чтобы на нее смотрели, как на плод греха, все эти самодовольные люди, которые помешались на набожности еще больше, чем святоши из братии трактирщика в поселке. Ведь согрешила ее мать, — она-то тут при чем? Но они обращались с ней так, как будто она сама стала бы верной добычей ада, если бы они не спасли ее.
— Не стоит туда ходить, — сказала она.
Карл ничего не ответил, он никогда не настаивал. Некоторое время слышалось только, как цыркает молоко о подойник. Затем до них донеслись шум и гам из жилого дома.
— Как они там орут и галдят! — сказал Карл с горечью. — Они позор свой вменяют себе в честь.
Дитте отлично поняла, что он намекал на мать.
— Но к Новому году я убегу отсюда. Не хочу я сидеть здесь и глядеть на все это.
Он все твердил, что уйдет, но где же было ему собраться с духом!
— Но ведь они даже не прикасаются друг к другу, даже не целуются, — возразила Дитте, имея в виду хозяйку и Йоханнеса.
Ей хотелось утешить его, но в то же время и выпытать у него кое-что.
— Ах, ты не понимаешь!.. Ты еще ребенок! — с отчаянием воскликнул он.
— Вечно вы так говорите! — обидчиво ответила Дитте.
Она не понимала, что тут было такого таинственного, чего ей нельзя было знать. Уж не то ли, что она поменялась с ним недавно одеждой в гостинице, в Фредерикевэрке?
— Ах, тут много чего… и все одинаково мерзко!
Карл вдруг замолчал, будто у него засело что-то в глотке. Дитте оставила свою работу, ощупью пробралась к нему в полумраке хлева и взяла его за плечи. Она по себе знала, как успокоительно действует на человека ласка. На него, однако, она произвела противоположное действие: он разрыдался.
— Ты бы написал братьям. Пусть приедут и образумят мать, — тихо сказала она, прижавшись щекой к его волосам.
— Они больше не хотят приезжать домой, — сказал он, отстраняя ее от себя.
Дитте постояла с минуту. Во дворе послышались шаги поденщика, и она поторопилась вернуться к коровам.
В половине десятого Карей Баккегор начала зевать и почесывать себе ноги со вздувшимися венами. Это был знак, что пора расходиться. Дитте заторопилась к себе в каморку, ей хотелось пробежать через двор, пока в комнате еще не погас огонь. Темноты она вообще не боялась, но здесь, на хуторе, тьма была словно живая, и ужас подстерегал человека на каждом углу. Внизу ревело море, дыша холодом в раскрытую пасть двора, и у Дитте было такое ощущение, словно кто-то ледяными пальцами хватал ее за ноги под платьем. Она быстро шмыгнула к себе и заперлась. Мигом разделась и юркнула под старую тяжелую перину.
Постель была как ледяная. Дитте лежала, подобрав коленки к самому подбородку, и стучала зубами, пока немного не отогрелась. Согреть же ноги как следует ей удалось не скоро. А до тех пор она и заснуть не могла, лежала и думала о своих домашних, о матери в тюрьме, о деньгах, об одежде, о своей теперешней жизни и о том, что ее ждет. На секунду она вспомнила бабушку, но затем мысли ее перескочили на другое. Бабушку она теперь вспоминала все реже и реже и все чаще думала о матери, как будто та приходила и требовала внимания к себе. Дитте видела ее перед собой так живо и волей-неволей думала о ней. Это было неприятно, и девочка радовалась, когда начинала думать о другом. Но нельзя было ловить себя на этом. Стоило заметить: «А, вот я и перестала думать о матери», — как мысли о ней тотчас же овладевали Дитте.
Все вообще приходило и уходило как-то само собой, становясь все неопределеннее, расплывчатее по мере того, как девочка согревалась и ее все больше клонило ко сну. На секунду ей пригрезился Большой Кляус, мирно жевавший в своем стойле, там, дома, в Сорочьем Гнезде, потом пригрезилась новая гостиница, которую собирались построить в поселке, а на самом пороге в царство сна мелькнул перед ней Карл.
Карл меньше всего годился в герои. Предметом восхищения мог стать для Дитте лишь мужчина совсем иного склада. Но беспомощность Карла трогала ее. Он страдал, и она жалела его. Иной раз она готова была заплакать, глядя, как он бродил, словно бесприютный сирота, в собственном доме. А для Дитте пожалеть значило попытаться помочь. Всегда готовая взвалить на себя новое бремя, она тщетно напрягала свой умишко, чтобы найти выход для Карла из его положения, и не могла отделаться от этих мыслей. Надо бы ему убраться отсюда подальше, к своему славному брату учителю, и помогать тому работать в школе. Карл не умел внушить к себе уважение, но зато как хорошо он пел псалмы!
Ей самой очень хотелось попасть в услужение в столицу. И вот она лежала и фантазировала в полусне, что уже попала туда и как раз к самому учителю. Вот она подает ему в перемену горячий кофе, и он весело улыбается ей, так как она без его ведома испекла крендельки к кофе. «Ты у меня славная хозяюшка», — говорит он и гладит ее по голове. Дитте хочет сделать книксен, но вдруг ей словно прострелили ногу, и она проснулась. Бабушка считала, что это предупреждение, и говорила, что ты, значит, кому-то нужна в эту минуту.
Дитте приподняла голову и, затаив дыхание, стала прислушиваться. За порогом кто-то жалобно мяукал. «Это кот, — подумала она. — Ему холодно, и он просится ко мне… или просто ему скучно…»
— Беги в амбар ловить мышей, котик! — сказала она. Но кот замяукал еще громче и стал царапаться в дверь. Дитте вскочила и отперла. В лицо ей хлестнуло холодным ветром со снегом. А кот ничуть не торопился броситься к ней. Он всегда впадал в раздумье некстати; пришлось схватить его за загривок и втащить в каморку. Затем она поскорее улеглась в постель, а кот прыгнул на изголовье кровати и стал мурлыкать у самого лица Дитте.
— Ну так иди сюда, глупый! — позвала его она, приподнимая перину.
Но кот спрыгнул на пол и побежал к двери. Дитте видела в потемках, как сверкают его глаза, и слышала его жалобное мяуканье. Пришлось встать, чтобы снова выпустить его. Но за порогом кот словно совсем взбесился.
Дитте сначала понять не могла, что такое творится с глупым животным, но вдруг вспомнила, что кот остался сегодня без обычной вечерней порции молока. Дитте забыла покормить его! Вот так отличилась! И как это могло случиться с нею? Этакий грех! Разумеется, это был грех, большой грех перед котом, который должен всю ночь бегать в ловить крыс. Без молока кошки-крысоловки паршивеют. Завтра кот получит двойную порцию, и Дитте будет всячески заботиться о нем впредь.
Но так дешево ей не отделаться было от самой себя. Кот продолжал мяукать за дверью, и это мяуканье тревожило совесть Дитте все сильнее и сильнее. Она не позаботилась о вверенном ее попечению создании, это непростительно. Кот мяукал все жалобнее и жалобнее… и обидела его Дитте!
Она встала, сунула ноги в деревянные башмаки, взялась рукой за щеколду и стояла, дрожа от холода и чуть не плача. На дворе выла метель, и не было видно ни зги. Дитте стала потихоньку приотворять дверь… Ветер сотрясал все строения, рвал ворота и ставни, стонал и завывал всюду и на все лады. И вдруг словно кто рванул дверь и хлопнул ею о стену. Дитте вскрикнула и бегом пустилась по двору. Она знала, что это ветер, но все-таки испугалась.
Оставив свои деревянные башмаки на каменном приступке перед дверьми, она прокралась в кухню и ощупью отыскала кошкину плошку и крынку с молоком. Кот терся об ее голые ноги, это как-то успокаивало. Она зачерпнула молоко прямо плошкой из крынки, — это было нехорошо, но уж все равно теперь.
— Кис-кис! — шепотом позвала она, направляясь к выходу.
Дитте осторожно сошла с приступка, чтобы не пролить молоко, и стала наугад пробираться по двору. Мороз так и щипал ее, но дрожала она больше со страха, у нее даже волосы на затылке шевелились.
Вдруг она оцепенела от ужаса: прямо перед ней выросла темная фигура, едва выступавшая из мрака. Дитте готова была закричать и бросить плошку, да как-то догадалась, что это водокачка. Разом воспрянув духом, она направилась к риге; с вечера плошку с молоком обыкновенно ставила туда, чтобы кот провел там всю ночь.
Собираясь отворить дверь риги, Дитте вспомнила об удавленнике, и ее опять охватил страх. Она хотела бежать, но побоялась пролить молоко. С минуту стояла она, держа плошку обеими руками, как окаменелая; затем, прислонясь спиной к дверям риги, чтобы никто не мог выскочить оттуда и схватить ее, она наклонилась и поставила плошку на снег перед дверью.
Когда она выпрямилась, в южном конце жилого дома, где находилась спальня хозяйки, показался свет. Весь страх прошел у Дитте, теперь ее распирало любопытство. Спешить было некуда, и она не двигалась с места, выбивая зубами дробь от холода. Карен с зажженной свечкой в руках вышла из дверей кладовки. Она была в одной рубашке, волосы подобраны под платок, завязанный на затылке. Затем она медленно, бесшумной поступью прошла по коридору, держа в одной руке свечу, а в другой что-то еще — быть может, нож? Верно, проголодалась и ходила в кладовку сделать себе бутерброд с копченой бараниной!
В жилой комнате около кухни она остановилась и подняла кверху предмет, бывший у нее в руке. Дитте увидела, что это веревка, и девочку снова охватил безумный ужас. Она стала задом пятиться по двору к своей каморке, жалобно скуля от страха, как заблудившаяся собачонка. Повернуться спиной к страшному видению она не смела. А Карен прошла через кухню в черные сени и остановилась на пороге, глядя в ночной мрак. Пламя свечи высоко метнулось кверху и погасло.
Дитте не помнила, как очутилась в постели. Зарывшись под перину и вся скорчившись, дрожа всем телом, лежала она, желая только одного — поскорее уснуть, уйти от всего этого ужаса, а проснувшись завтра утром, увидеть, что ровно ничего не случилось. Это ведь бывает.
Встав поутру, она нашла плошку на том же месте, в снегу, около дверей риги, но рядом валялась веревка, и на: снегу виднелись следы больших голых ступней. Сама же Карен расхаживала по кухне и бранилась. Слава богу!..
VIII Конец скучной зиме
— Никаких-то радостей нет у нас здесь, на хуторе, только ходишь да расстраиваешься, — говаривала Сине.
А ведь из всех обитателей хутора она была самая проворная, здоровая и уравновешенная.
В самом деле, и мрак здесь на хуторе был как будто гуще, и холод алее; все неприятное и тяжелое давало себя знать резче, все отрицательные стороны проявлялись ярче. Тьма иной раз казалась такой черной, что Дитте еле решалась выйти из дома; ноги то и дело подкашивались от испуга, вызванного то каким-нибудь странным звуком, то еще чем-нибудь. Вообще Дитте темноты не боялась, но тут иной раз на нее нападал такой страх, что она не смела пойти в ригу без фонаря, — так пугала ее мысль о повесившемся там отце Карла. Днем она еще храбрилась. Атмосфера страхов настолько сгущалась временами, — это всегда совпадало с кутежами Карен Баккегор, — что все вокруг, казалось, кишело призраками. Больше всех, пожалуй, мучился Карл. Бывали такие дни, когда он буквально боялся взять в руки обрывок веревки. Но это испытывали и другие обитатели хутора.
От старого постельного белья, переходившего по наследству из рук в руки, пожалуй, лет сто, отдавало чем-то затхлым, и этот запах, ощущаемый Дитте и во сие, вызывал у нее страшные видения. От старинных наволок пахло табаком и лекарствами, и девочке представлялась комната, где чахоточный муж хозяйки, с кровавой пеной на губах, свесив голову с постели, задыхался от кашля. А на кровати сидела грузная женщина с трубкой, пускала больному дым прямо в лицо и хохотала, когда дым попадал ему в рот. На полу сидел мальчуган и выводил рисунки, обмакивая пальцы в кровавые плевки… Дитте с криком просыпалась, чиркала впотьмах спичкой, хотя это строго запрещалось, и только тогда успокаивалась.
Так порою сгущалась атмосфера. Но Дитте всегда умела стряхивать с себя гнет; в конце концов все это не касалось ее лично. Другое дело Карл! Проклятие тяготело над ним, и он не мог сбросить его с себя. Сине полагала, что от Карла можно ожидать чего угодно.
— Он весь в отца, — говорила она.
Материнского в нем ничего не было, — его любой мог загнать в угол. Всего замечательнее было то, что вместе с тем он отличался достаточным упорством в известных отношениях, где его не взять было ни добром, ни силой. Он не прикасался к табаку и осуждал греховное поведение матери, все теснее сближаясь со святошами. Когда же Карен стала кутить с Йоханнесом и его приятелями, Карл записался в «Общество трезвенников». Это был своего рода протест, сын как будто задался целью искупить грехи матери. Но постоять за себя не умел и, когда мать насмехалась над ним, отмалчивался.
— Ты, как видно, стал повесой, все за девками бегаешь, — язвила она во всеуслышание, когда он шел на «беседу». — Да ничего, видно, не поделаешь — возраст такой!
Карл уходил, как будто и не слышал ее слов. Не действовали на него и прямые запреты. Мать всячески старалась задержать его и помешать пойти на «беседу», но Карл все-таки удирал. Обычно он дрожал перед матерью, как собака, но, видно, больше всего боялся прогневить бога.
Дитте хотелось, чтобы он вообще был посмелее — например, вступился бы за нее и за Сине, когда хозяйка чересчур придиралась к ним. Но он всегда предпочитал улизнуть.
А Карен становилась все придирчивее, и все труднее было ей угодить, — всем и всеми была она недовольна. Быть может, оттого, что ей нужен был муж… да еще молодой, как объяснила Сине. Во всяком случае, поведение хозяйки отбивало охоту к работе, портило настроение и больше всего тяготило Дитте — ведь никуда не уйти было от этой гнетущей обстановки.
По внешнему виду Дитте трудно было заметить что-либо — она ведь и прежде не была птичкой-щебетуньей, всегда отличалась серьезностью. Присущий ей оптимизм, глубоко заложенный в ее душе, сказывался главным образом в радостном рвении, с каким она бралась за всякую работу. С тех пор как судьба лишила ее радостей детства, все радости жизни заключались для нее в работе. Вот отчего у нее так и спорилось все в домашнем быту. Ее любвеобильное сердце помогало ей сохранять теплые сестринские отношения с младшими детьми и в то же время заставлять их слушаться. Это не всегда бывало легко, часто вместо ласки приходилось прибегать к строгости, чтобы добиться своего. Но в конце концов все улаживалось благодаря ее неистощимому запасу бодрости, которой она невольно заражала всех окружавших. А когда Дитте удавалось наконец добиться своего, она сменяла строгость на ласку.
Вначале, чтобы дети слушались ее, нельзя было обойтись без шлепков, но с течением времени надобность в этом отпала. Там, где наказание было необходимо — для пользы самих же детей, — она руководствовалась уроками своей бабушки. Если дети пачкали одежду, то платились за это самым чувствительным образом: их укладывали в постель — лежи, вместо того чтобы играть, пока платье или белье не будет выстирано. Наказание являлось естественным следствием их проступка, и дети понимали, что обязаны этим наказанием не Дитте, а собственному поведению.
— Сам теперь видишь, что надо быть поосторожнее, — говорила Дитте с невинным видом. Она даже являлась как бы ангелом-спасителем, к которому они чувствовали признательность за то, что он исправлял беду.
Так применялась она к обстоятельствам и понемногу сама уверовала, что в жизни существует справедливый порядок вещей, и поэтому так хорошо и управляла своим маленьким мирком. Порядок этот нарушался, если работа не доставляла радости, если к ней относились с пренебрежением или равнодушием. Дитте инстинктивно ненавидела всякий беспорядок и была твердо убеждена, что он потом скажется во всем. Как ни отвиливай от работы, ее все равно придется сделать — так было всегда, сколько она себя помнила, и примером тому являлся ее опыт по части мокрых штанишек. Теперь жизнь стала куда сложнее, но подчинялась тому же закону. Если нарушишь его, — не знать тебе покоя. Наденешь, например, дырявые чулки утром и ходишь целый день да казнишься. Или вот, когда она забыла вечером дать коту молока, — пришлось встать из-за этого среди ночи, иначе не заснуть было, — все время чудилось жалобное мяуканье.
Дитте была настоящей труженицей по своей природе. Жизнь не баловала ее другими радостями, зато ей в полной мере отпущена была радость труда, и она наслаждалась ею, как наградой сердцу за собственную доброту. Руки у нее были загрубелые, шершавые, голос хрипловатый, неблагозвучный, и ей не в чем было, кроме труда, проявить свои лучшие качества. В труде развертывалось все ее существо скромным, но полезным цветком. Она ничем особенно не выделялась, была настоящей скромной труженицей, которая с радостью делала все для других.
Но на хуторе никто не ценил ее за это. Здесь труд вообще не любили, смотрели на него, как на докучное бремя, брались за него лишь поневоле. Вот и делалось все кое-как. Дитте чувствовала, что всему виной отсутствие взаимной любви. Обитателей Хутора на Холмах ничто не связывало вместе. А с появлением там дяди Йоханнеса стало еще хуже. Он вносил только разлад и ожесточение; это Дитте знала, еще когда жила в Сорочьем Гнезде.
Словом, она устала от общества людей в жаждала летнего одиночества на пастбище. С нетерпением ждала весны в напряженно ловила признаки ее приближения; радовалась, когда сползла с нижнего склона крыши последняя снежная шапка, а еще больше радовалась, когда выглянули из-под снега на поле первые черные бугры земли, словно чья-то косматая спина. Медленно пробуждалась земля от зимней спячки. Сначала появились лужицы, затем ручейки; весенние струи пели свою песенку день и ночь; на оттаявшей почве вскакивали пузыри — в ней просыпались о бродили животворящие соки. Наконец земля в поле стала вязкой, как поднявшаяся опара, а над лугами заливались жаворонки.
Как раз в такой день Дитте послали на ту сторону общественных лугов — позвать на работу Расмуса Рюттера; пора было начинать весеннюю пахоту. Он не заходил на хутор с того дня, как они покончили с молотьбой, месяц тому назад; с тех пор для него работы не было. Вода еще не сошла, и местами вязкая, мокрая, суглинистая почва поминутно засасывала то один деревянный башмак Дитте, то другой; ей приходилось вытаскивать его, балансируя на одной ноге. Земля присасывалась к башмакам, словно жадный рот, и насилу отлипала с громким хлюпающим вздохом, смешившим Дитте.
Настроение у нее было прекрасное. Так приятно вырваться на часок из хутора! Приятнее же всего было то, что теперь лучи света проникали повсюду, многое-многое нужно было бы осветить там, на хуторе!
Хижина Расмуса Рюттера находилась на самом дальнем краю лугов, и от пастбищ до нее было не близко. На болотистой луговине, где Дитте обыкновенно пасла свое стадо, стояла еще вода; пришлось обойти кругом, держась края полей. Но интересно было смотреть вниз и узнавать свои гнезда, хотя за зиму они сильно пострадали. От этих мест веяло знакомым, словно домашним уютом, и ей еще сильнее захотелось, чтобы скорее настало лето.
Поденщика не оказалось дома. Жену его Дитте застала у печки, непричесанную и еще в одной рубахе, даром, что дело шло к полудню. В хижине было бедно и грязно.
— Ты не гляди на меня, — сказала жена поденщика Дитте, собирая на груди рубаху грязной рукой. — Столько возни по дому со всей этой уборкой, что самой-то и некогда прибраться.
Да, уж дом-то был прибран, нечего сказать! Все валялось где попало, даже кровати не были еще застланы.
На одной из кроватей дрались двое ребятишек, лет шести — восьми.
— Они больны? — спросила Дитте.
— Нет, почему? — ответила женщина. — Нам просто не во что одеть их всех, вот они по очереди и лежат в постели — то одна пара, то другая. Больно уж скверная выдалась зима для нас.
И она стала уговаривать Дитте подождать хозяина и напиться кофе.
— Ах, какая досада, что помазок запропастился, а то я заодно испекла бы тебе блин к кофе, — говорила женщина суетясь. — Я обещала ребятам блины к обеду, чтобы угомонить их, и тесто поставила, да вот помазка нет. Диво, да и только! Еще поутру я сама видела, как мальчишки дрались из-за него перед уходом в школу.
Женщина, хлестнув подолом, метнулась куда-то в угол хижины.
— Заткнитесь! — крикнула она ребятишкам, которые завопили в постели. — Не разорваться же мне!
Вернулась она, держа в руках что-то вроде длинной и грязной сальной свечки домашнего изготовления.
— Нашла-таки! Я так и знала! — сказала она и швырнула сковороду на огонь. Потом взяла принесенную свечку и концом ее помазала сковороду. Сковорода слегка замаслилась и слабо зашипела.
— Что это такое? — с удивлением спросила Дитте. — Свечка?
— Это… это просто кусок свиного сала. Он всегда лежит тут на печке, но сегодня утром старик мой брал его сапоги себе смазать, а потом мальчишки подхватили… Присядь же, сейчас кофе вскипит.
Но Дитте очень торопилась.
— Не могу, а то меня будут бранить! — сказала она.
Ей не хотелось пробовать этих блинов.
— Ну, как знаешь. Хорошо, что ты пришла. Старик без дела совсем скис, не знает, за что и приняться. Кормить его как следует не приходится, коли нет заработка, а тогда прощай лад в доме! Не будь у нас в запасе селедок да картошки, совсем бы пропали. Скверная была зима для нас. И погода плохая, и на хуторе дела плохие, и сам старик плох — так ничего, кроме плохого, и выйти изо всего этого не могло. Ждем не дождемся перемены к лучшему.
Наступили долгие и светлые дни. Дитте больше не зажигала огонь в своей каморке, теперь можно было оставлять верхнюю половинку двери открытой, и света проникало достаточно. Окошка в каморке не было.
Эта каморка находилась в самом старом из дворовых строений; когда-то, пожалуй лет двести тому назад, это был жилой дом. Кирпичный пол сохранился еще от тех времен, когда здесь была кухня. Уцелела и печь с дымоходом, над ней под потолком шел соломенный настил на жердях. В этой печи, как в алькове, помещалась постель Дитте, места как раз хватало. Над постелью спускался железный прут с крюком, на который прежде вешали котел. В дождь по стенке, что у изголовья постели, текла стародавняя сажа, ее крепкий запах напоминал бабушкино жилье и навевал грустные сны. Случалось, что мышь прогрызала соломенный настил и падала к Дитте на перину.
Но Дитте была в восторге от своей конуры. В первый раз в жизни у нее была отдельная комната. Она поставила на бок старый ящик и прикрыла его куском белого холста. Ящик заменял ей и комод и туалет. На нем стоял осколок зеркала. А вдоль шестка Дитте протянула длинный синий полог с кистями, найденный на чердаке; он очень украшал ее жилье.
В своей каморке Дитте чувствовала себя отлично и каждую свободную минуту бежала сюда. Зимой там было довольно холодно, но летом тепло. Она вынимала из ящика свои сокровища и перебирала их. Одно положит, другое возьмет, разгладит и уложит покрасивее. Этим она могла заниматься без конца и всегда с одинаковым удовольствием. В числе сокровищ был лоскуток с вышивкой, за которую похвалила ее жена школьного учителя, еще когда они жили в Сорочьем Гнезде. Хранился альбом, в котором были написаны стихи на память Дитте от некоторых детей, конфирмовавшихся с ней вместе, а также их фотографии. Она снялась тогда в первый раз в жизни. И всегда с неизменным удивлением и любопытством рассматривала маленькую худенькую девочку, которая должна была изображать ее самое, — самую маленькую из всей группы и, как ей казалось, самую некрасивую. Больше всего интересовало Дитте, похорошеет ли она когда-нибудь, как другие. У нее не было преувеличенного мнения насчет своей наружности, да и откуда бы ему взяться? Никто ведь ни разу не сказал про нее: «Какая хорошенькая девочка».
И с чего было ей хорошеть? Кровь, обращавшаяся в ее теле, не становилась лучше, проходя через сердце, — слишком много забот и огорчений испытывало оно, и это сказывалось на всем ее слабеньком организме. Цвет кожи был от этого землистый, худоба и угловатость с трудом уступали место начинающейся мягкой округленности форм. И сутулость до сих пор осталась — тяжелая зимняя работа много этому способствовала. Дитте по-прежнему нельзя было назвать красивой.
Зато она была веселая и никогда еще не радовалась так весне, как в этом году. Солнечные лучи щедро вознаграждали ее за все изъяны, ласково освещая ее лицо и фигуру, и даже скрадывали худобу и угловатость. Получалась настоящая игра солнечных бликов и улыбок, когда она показывалась во дворе, на фоне яркого, по-весеннему синего моря.
— Да какая же ты нынче веселая, девчонка! — восклицала Сине и сама смеялась. — Радуешься, что скоро на луга?
Вот в таком веселом настроении Дитте выгоняла в середине мая свое стадо в первый раз на пастбище. И животные оказались под стать ей. За зиму они обросли длинной шерстью, исхудали, но солнце и ветер заигрывали с ними, и они резвились, брыкались, как шалые, словно целясь попасть задними ногами в самое солнце, и вскачь неслись проселком к лугам. Дитте беззаботно бежала за ними.
IX Летний день
В начале лета Дитте относила часть своего завтрака и ужина в хижину Расмуса Рюттера для его ребятишек. Теперь они стали прибегать к ней за своей долей и утром и после обеда. Они являлись на пастбище почти всегда раньше ее и стояли, сбившись кучкой, или лежали, тесно прижавшись друг к дружке, в одном из «гнезд» и дожидались ее. Дети были пугливы, как птенцы, и прятались от людей. Получив от Дитте еду, они тотчас же пускались наутек один за другим, словно хищники с добычей. Отбежав на некоторое расстояние, усаживались поодиночке и начинали есть. Дитте приходилось самой делить между ними еду; это нельзя было поручить им самим, такие они были голодные. И тело у детей было едва прикрыто: драные штанишки да иногда какое-то подобие рубашонки. Но в летнее теплое время большего и не требовалось. А уж какие они были быстроногие!
Однажды она попробовала немножко отскоблить с них грязь, да после и сама не рада была. На следующий день они уже боялись подойти к ней, лежали наверху у полевой изгороди и поглядывали вниз; когда же она хотела приблизиться к ним, они убегали.
Дитте показывала им еду, но и это не действовало. Тогда она положила завтрак наверху, а сама опять спустилась на луговину. Вскоре завтрак исчез. Эти дети напоминали щенят или котят, родившихся где-нибудь в чистом поле, в омете соломы, — такие они были дикие и недоверчивые, никак не приручить их было. Зато дома они вели себя совсем по-другому: возились и шумели около своей хижины целый день так, что даже до Дитте долетал их гам вместе с пронзительной руганью матери.
Пуговиц на штанах у них почти никогда не было, и им приходилось на бегу придерживать штаны руками. Дитте это очень не нравилось, и раз как-то она поймала одного из них.
— Я не дам тебе есть, пока ты не дашь мне пришить вот это! — сказала она, вынув из кармана пуговицу.
Мальчишка покорился, но все время семенил ногами на месте, а едва Дитте закрепила нитку и откусила ее, моментально отбежал прочь, по-прежнему придерживая штаны.
— Да не держи ты их, дурашка! — имеясь, крикнула она.
Он послушался и, убедившись, что штаны держатся сами собой, в неистовом восторге закружился около Дитте.
Долго скакал он, описывая все более тесные круги и сильно наклоняясь, как спутанный жеребенок. Дитте отлично поняла, что он по-своему выражал ей благодарность, и следила за ним ласковым взглядом.
— Вот так молодчина! — кричала она. — Спасибо тебе! Ну, и довольно теперь! Ты устал, пожалуй. Поди сюда и поешь.
Но он сделал еще один круг. Потом подбежал к ней, едва дыша, и получил свою порцию. На этот раз он не спешил удрать, уселся рядом с Дитте и поел.
Перестали убегать и другие ребята, они уже позволяли ей зашивать свои прорехи. Мало-помалу они совсем приручились, и не успела она опомниться, как на ее попечении очутился весь выводок. Немало было с ними хлопот и забот, но это давало душевное удовлетворение. Дитте не любила сидеть сложа руки.
Она добилась того, что дети позволили ей даже вымыть их. И пришлось же ей повозиться. Больше всего запущены были их головенки, и с ними почти ничего нельзя было сделать. «Придется стащить дома немножко керосину!» — решила Дитте.
Однажды, после обеда, она вымазала им головы керосином. Чтобы они стояли смирно, пришлось рассказывать им про Большого Кляуса. Когда дело было кончено, они стояли, моргая глазами, с таким видом, будто самих себя не узнавали.
— Ну что, щиплет? — спросила Дитте смеясь.
— Да, но больше не кусает, — с изумлением отвечали они.
— Ну так ступайте теперь домой! — сказала она.
Дети пропустили эти слова мимо ушей и, усевшись рядом с ней, спросили:
— А дальше что?
— Ничего. Теперь проваливайте. Завтра расскажу дальше.
— Про Кляуса?
— Да, и про кота Перса, который умел сам отворять двери.
Тогда они побежали домой, но нехотя.
Дитте собрала свое стадо, потом разделась и стала плескаться в болотце, скрытом в кустах. Она лежала на животе в тепловатой, мелкой воде и воображала, что плавает. Приподнявшись на локтях, она снова с громким плеском погружалась в воду, омывавшую ей живот и маленькие крепкие груди. Кожа у нее была уже не такая шершавая, как прошлым летом. Дитте уселась на траву и принялась мыться.
Потом, полуодетая, она расположилась на сухом мшистом бугре и принялась за починку своего платья.
Нитки и иголка, завернутые в бумажку, лежали возле нее. Скотина мирно паслась, и можно было спокойно, на досуге, заняться своими делами — своей одеждой и прочим. Дитте охотно делала это и радовалась, что может побыть одна.
Счастливая и свободная от всяких забот, сидела она, склонясь над своей работой и напевая. В голове мелькали какие-то обрывки мыслей, прилетали и улетали, не задерживаясь. Из-под толстого мягкого покрова мхов и полусухого дерна струилась теплота самой земли. Дитте сидела и словно набиралась сил. На проезжей дороге затарахтела телега; Дитте лениво прислушалась. Кто-то мчался во всю прыть. Но ей было лень подняться и взбежать наверх, чтобы посмотреть, кто это.
Попозже пришел Карл с хутора. Видно, что-то случилось дома.
— Опять он явился! — сказал Карл, бросаясь на траву рядом с Дитте. — И они оба уж почти пьяные.
Он сидел, отвернувшись от Дитте.
— Стало быть, ты сбежишь теперь из дому? — спросила она с насмешливой улыбкой. Она понять не могла, как это Карл может оставаться дома и только ходит повесив нос.
— Я сказал матери, что уеду, а она говорит: «Да уезжай, пожалуйста». Ей дела нет ни до меня, ни до чего, лишь бы жить в свое удовольствие. Но теперь и я решился серьезно… и уже уложил свои пожитки. Я хотел только проститься с тобой.
Он посидел немного.
— А ты тоже не жалеешь, что я уезжаю? — спросил он, взяв в руки ее косы.
Дитте решительно замотала головой.
— Нет! Уезжай, пожалуйста.
Он ведь ничем не скрашивал ее жизни здесь.
— Неужели я не был добр к тебе? Отвечай! — спрашивал он, но она упорно молчала.
— Нет! — наконец вырвалось у нее тихо. И слезы навернулись у нее при воспоминании о том, сколько раз он мог бы заступиться за нее, когда ее обижали понапрасну, и не сделал этого.
Должно быть, и он подумал об этом.
— Да, я сам знаю, — сказал Карл упавшим голосом, — что вел себя как трус. Но теперь этому конец. Теперь я постараюсь стать хорошим и мужественным человеком.
— Да, потому что теперь ты узнал настоящее горе, — сказала Дитте, глядя ему в лицо.
Она по опыту знала, как тяжело покидать родной дом.
Карл вперил в пространство безнадежный взгляд.
— Хуже всего, что это — моя мать… и потом все эти пересуды. Люди глазеют на тебя и перешептываются между собой. Люди отвратительны… злы!.. Но не следует так говорить… надо любить ближнего своего! — вдруг спохватился он.
— Не из-за чего тебе сокрушаться! — сказала Дитте, ободряя его. — Пусть люди болтают. Лишь бы знать, что сам ни в чем не виноват, — тогда наплевать на все их пересуды. Ты сам недавно говорил, что главное быть в мире с богом, а люди пусть себе думают и говорят, что хотят.
Он припал головой к ее плечу и сидел, закрыв глаза.
— Твердо уповать на бога — дело трудное, — проговорил он тихо. — Вот если бы он пребывал не внутри нас, а рядом с нами, чтобы можно было видеть его…
Он рассеянно провел рукой по ее спине и вдруг выпрямился и внимательно оглядел ее. Кофточка сползла у нее с одного плеча, — она плохо ее застегнула, — и стала видна искривленная лопатка.
— Что это у тебя? — спросил он, задержав свою ладонь на ее спине.
— О, это оттого, что я постоянно таскала на руках своих маленьких братьев и сестренку, — ответила она, краснея, и торопливо оправила на себе кофточку. — Это уже почти прошло, — тихо прибавила она, отворачиваясь от него.
— Тебе нечего стыдиться этого, — сказал он и встал. — Я не из таких!..
Нет, конечно, его-то Дитте не стыдилась и не боялась. Только жалела и больше ничего, — он ведь был такой несчастный. Но ей неприятно было, что он обратил внимание на ее выпиравшую лопатку, и как раз когда это стало почти незаметно.
С тех пор Дитте старалась держаться прямо; ей хотелось, чтобы у нее была прямая спина и высокая грудь, как у других молодых девушек.
Из бесед с Карлом крепко засело в памяти Дитте слово «грех». И вот она невольно спрашивала себя: «А не грех ли стараться похорошеть, и помогает ли это старание сколько-нибудь?» Отцу, правда, казалось, что она хорошеет.
— Да ты у нас становишься девицей хоть куда! — говорил он всякий раз, когда она приходила домой. Но он не мог быть беспристрастным, и Дитте не прочь была бы услышать то же самое от чужих. Разумеется, прежде всего она хотела быть доброй девушкой, но не худо бы, конечно, стать и покрасивее!
Проводя дни на пастбище, она постоянно о чем-нибудь раздумывала. Спешить, перебегать от одной мысли к другой теперь незачем было — времени хватало на все. И она постепенно начала изучать свое тело. Купаясь в болотцах, она рассматривала себя — пока, впрочем, без особого удовольствия. Много еще было в ней изъянов!
Внимательно разглядывая свою внешность, она какими-то путями переходила к своему внутреннему «я». Однажды она убедилась, что у нее круглые коленки, — стало быть, она будет хорошо относиться к своему мужу. Само по себе это было вполне естественно, — ведь она ни к кому не относилась плохо, нет, этого греха за нею не водилось! — но все-таки приятно было найти наглядное доказательство этому. Она все больше знакомилась с разными сторонами своего существа, и порою это доставляло ей искреннюю радость. Ложной скромностью она не страдала; жизнь ее и без того достаточно бедна, зачем же делать ее еще беднее? И, сравнивая себя с другими, она не испытывала огорчения, — право, она не уступала им ни в чем! Обидно только, что люди ценят больше всего наружность.
Но, заглядывая себе в душу, Дитте находила там и кое-что такое, что наполняло ее уже не радостью, а лишь изумлением, а иногда даже пугало.
Солнце и воздух оказали на нее удивительное действие. Она всегда была теперь как бы заряжена смехом, постоянно чувствовала какое-то щекотание в горле, словно вот-вот готова была прыснуть со смеху даже при самых серьезных обстоятельствах. Но Дитте не только смеялась, — ей приходили в голову разные беспокойные мысли, она испытывала новые, незнакомые ощущения. Каждый день приносил что-то новое, и она сама чувствовала, как в ней что-то меняется. Мужская рука однажды рассеянно подержала ее косы. С того дня она обратила внимание на свои волосы; они стали чем-то особенным, требующим ухода за собой. Надо было заняться ими — расчесывать, ощупывать, как они лежат на голове, да не слишком ли туго заплетены, распускать их и переплетать. И, в благодарность за уход, волосы стали лучше расти, становились гуще и мягче.
Росла и созревала и сама Дитте. У нее появились своеобразные ощущения во всем теле, как будто соки быстро приливали то к одному месту, то к другому. Иногда она чувствовала истому и головокружение, — от роста, как полагала Сине, — и способна была по целым дням сидеть смирно, прислушиваясь к чему-то внутри себя. Особенно ее беспокоило то, что она полнела в и груди. Она вслушивалась в разговоры старших, в их двусмысленные намеки, и теперь в новом свете видели обращение парней с девушками. В субботние вечера они собирались около чьего-нибудь дома и плясали на лужайке под гармонику. И Дитте с сильно бьющимся сердцем прихорашивалась, собираясь на эти вечеринки, чтобы посмотреть на танцы. Случалось, что парни обнимали и ее. Она отбивалась, но без прежнего возмущения, хотя все-таки побаивалась парней.
Поведение хозяйки сильно занимало ее. Она начинала соображать кое-что… догадываться, что в этой здоровенной деревенской бабе бродят скрытые темные силы, бегущие от дневного света. Много лет подавлялись они, но теперь неудержимо рвались наружу. Карен Баккегор находилась, по словам Сине, «в опасном переходном возрасте», — эти таинственные слова давали простор разным предположениям. Близость хозяйки, запах ее одежды кидали Дитте в дрожь, так что волосы на голове становились дыбом. На все и на всех влияла таинственная сила, которою одержима была Карен, — и на Сине, и на работников, и даже на Карла, на каждого по-своему. В глазах у них появилось особое выражение, они перешептывались и вели себя, как — заговорщики, делали друг другу таинственные знаки, переглядывались. По всему приходу распространилось какое-то странное беспокойство; к Дитте подходили совсем незнакомые люди и выспрашивали ее, а потом вдруг, словно спохватись, сворачивали разговор на погоду. Дитте казалось, что весь мир следит за их хутором.
Зловещая тень от него падала далеко. Стоило только на каком-нибудь людном сборище упомянуть про Хутор на Холмах, как внимание всех приковывалось к нему, и все только и говорили, что о любви, — на все лады толковали про любовь во всех ее таинственных и роковых проявлениях. Глаза людей загорались особенным блеском, и всевозможные тайны, тщательно скрывавшиеся ранее, выплывали наружу. В каждом углу скрывалась какая-то тайна. Беспрерывно видя и слыша все это, Дитте дошла до нервного возбуждения, чисто животный страх мог вспыхнуть в ней и охватить ее всю в любую минуту, и она, опасаясь этой вспышки, боялась всего на свете.
Однажды перед обедом она доила коров за воротами хутора и, когда встала со скамеечки, заметила на ней свою собственную кровь. Она едва не лишилась чувств. Никто ведь не говорил ей, что это должно случиться; у нее не было матери, которая бы бережно посвятила ее в таинственные законы жизни. Теперь сама жизнь безжалостно открылась перед ней, и таинственный символ жизни — кровь смешалась в ее испуганном воображении со многим другим, наводящим ужас. Побелев как мел и шатаясь, пошла она во двор.
В воротах встретился ей Карл. Он спросил, что с ней, и, с трудом выведав у нее кое-что, догадался о причине испуга. Он добродушно улыбнулся, и это ее успокоило. Чуть ли не в первый раз увидела она улыбку на его лице. Но затем он стал серьезен.
— Ты не расстраивайся, — сказал он и погладил ее по щеке. — Ведь это означает только, что ты становишься взрослой женщиной.
Дитте была искренне благодарна ему за утешение. Ей не было неприятно, что он стал ее поверенным в этом случае. Он был в ее глазах не мужчиной, но просто человеком, да еще беспомощным, часто нуждавшимся в ней, а теперь он протянул ей руку помощи, вот и все. В их отношениях не произошло никакой иной перемены, кроме той, которая создавалась взаимною дружескою поддержкою. Да, теперь у Дитте появился друг, которому она могла довериться в трудную минуту.
X Возвращение Сэрине
Дитте только что покормила четверых мальчишек поденщика; теперь все шло по порядку. Она раскладывала пищу на небольшой кочке и усаживала их вокруг, надо же было им приучиться чинно сидеть во время еды, а не скакать кругом с куском в руках. Но приучить их не завидовать друг другу и есть из общей чашки было, пожалуй, труднее всего. Они предпочитали получать каждый свою долю в полное распоряжение, чтобы убежать и съесть ее где-нибудь в укромном углу, как делают бездомные собаки. Дитте поэтому нарочно заставляла их садиться в кружок и есть из общей чашки. И сначала, когда она давала кому-нибудь кусок, остальные трое провожали его жадными глазами. Они больше поглядывали на чужие куски, чем на свой собственный. Тогда Дитте снова принималась поучать их; она не переносила зависти. Однако они завидовали, даже когда были сыты, и Дитте не могла не вспомнить слов бабушки, что «господь насыщает желудок раньше глаз».
— Будьте настоящими людьми, как Поуль, Кристиан и Эльза! — учила их Дитте. — Те всегда делятся друг с другом, что бы им ни дали.
И ребятишки понемногу усваивали ее уроки. Старшие перестали убегать от младших, но послушно вели их за руку — по крайней мере, пока они были у Дитте на глазах.
Она стояла на холме и смотрела, как они брели домой. По обыкновению, они ссорились между собой, но тотчас же невольно оглядывались назад. Убедившись, что Дитте все еще стоит на месте, они опять брались за руки.
Дитте смеялась и кивала им:
— Да, да, я все вижу!
Она еще постояла некоторое время, думая о них, как вдруг с проезжей дороги донеслись до нее удивительно знакомые звуки. На самой верхушке холма показалась и, громыхая, стала спускаться вниз телега, запряженная сказочно-огромным существом, чудовищным мерином. Он осторожно переступал могучими мохнатыми ногами, похожими на потрепанные метлы, которыми метут мостовую, а телега вихляла на ходу из стороны в сторону. В телеге сидела понурая, сутулая фигура и машинально подхлестывала лошадь длинной тонкой хворостиной.
От радости Дитте босиком кинулась бежать наверх по камням и корневищам как угорелая. Ларс Петер, услыхав ее голос, поднял голову. Кляус остановился.
— Это ты, девчурка! — сказал Ларс Петер необыкновенно серьезно. — А я в город… за матерью!
— Да ты не в ту сторону едешь! — Дитте звонко расхохоталась. Отец, знающий все дороги, как никто, сбился с пути! — Таким манером ты только все дальше и дальше забираешься!
— Я знаю. Но дело-то в том, что Большому Кляусу не осилить такого пути… Ведь ему все сорок стукнуло. — Ларс Петер грустно улыбнулся. — Я и думал попытаться ваять тут у кого-нибудь другую лошадь. Вот только к кому сунуться — не знаю. Знакомых у меня тут почти никого нет. К вам на хутор обращаться, пожалуй, не стоит?
По мнению Дитте, не стоило. Карен Баккегор была человеконенавистница.
А может быть, она… ради Йоханнеса отнесется по-родственному?
— Тебе бы лучше попытаться на Песках, — сказала она. — Там, я думаю, тебе охотно дали бы лошадь.
— Да, пожалуй, там переменили мнение обо мне после моего, отъезда. Не знаю, с чего мне пришло в голову попытать счастья у вас на хуторе… Но, может статься, ты права. Жаль только Кляуса — понапрасну пробежался сюда.
Да, Большой Кляус сильно сдал с тех пор, как она видела его в последний раз. Он спал, стоя, понурив голову. Дитте нарвала ему травы в канаве, но он даже не понюхал.
— Ему все труднее и труднее прожевывать пищу, — сказал Ларс Петер. — Самое лучшее было бы пристукнуть его.
Ларс Петер был сегодня такой тихий… почти торжественный. Верно, потому, что ехал за Сэрине. И пока Дитте ласкала Кляуса, пытаясь хоть чуточку оживить его, Ларс Петер задумался.
— Ну, так придется, видно, повернуть оглобли и проехать на Пески, — наконец проговорил он, разбирая вожжи. — Ты ведь заглянешь домой, когда будет возможность?
Дитте утвердительно кивнула. Она не могла поступить иначе, видя его в таком настроении.
— Диковинную игру затеяла твоя хозяйка, — сказал он, трогая лошадь.
— Как так? — с любопытством спросила Дитте, шагая рядом с телегой и держась за ее грядку.
— Да она распускает дурные слухи даже про себя самое. Странное развлечение. Я думаю, у нее и без того неприятностей хоть отбавляй. Но с тобой-то она хорошо обходится?
О, да, Дитте не на что было жаловаться.
— Ну, беги-ка теперь к своему стаду, пока никто не увидал, что ты его бросила. Ты ведь знаешь, каковы наши хуторяне, они ведь стоят друг за друга, лишь бы только свалить вину на нас.
Он легонько разжал пальцы Дитте, державшейся за телегу.
Дитте нехотя опустила руку и побежала по полю, поминутно оборачиваясь и махая отцу. Но он опять задумался и ничего не видел.
Нет, Дитте и в голову не приходило явиться домой на поклон к Сэрине. Много слез пролили, много сраму приняли и Дитте и все они из-за матери. Дитте думала было, что совсем забыла про все это; однако, оказывается, на дне души сохранился осадок, который теперь вдруг снова давал о себе знать. Из-за матери все презирали их, отталкивали, как отродье преступницы. Нет, Дитте отнюдь не тянуло домой повидать Сэрине.
Но не так-то просто было теперь отделаться от мыслей о матери. Прежде легко было забыть о ней, — столько было всего другого, поважнее; теперь мать снова выдвигалась на первый план. Нельзя же вечно избегать родного дома, и одно это заставляло задуматься. Мать уже больше не будет сидеть в тюрьме, а вернется домой и опять станет хозяйкой. Как поведет она хозяйство и как будет обходиться с детьми? Это были серьезные вопросы, не дававшие Дитте покоя.
А потом мелькнула мысль, что сама Дитте злая и несправедливая! Это пришло ей в голову внезапно в связи со словом «грех», которое засело у ней в памяти после разговоров с Карлом. Раньше Дитте никогда не смотрела на свои отношения к матери с этой стороны. Теперь она невольно вспоминала отца, его торжественную серьезность, когда он ехал за Сэрине, и его постоянное бережное отношение ко всему, что касалось ее. Вспоминала и сравнивала. Да, Ларс Петер своим примером говорил о том, что нельзя бить лежачего! Впервые поняла Дитте всю глубину и широту отцовского всепрощения, и ей стало стыдно за себя. Чего только не вынес он из-за Сэрине, и все-таки дом его был открыт для нее, он ждал ее в течение многих лет, готов был дать ей убежище и приют в любую минуту.
И вот однажды Дитте до того стосковалась по дому, что расплакалась.
— Что с тобой? — спросил Карл, когда она, вся красная, заплаканная, пригнала в обеденное время стадо с пастбища.
— Мне бы так хотелось побывать дома, — сказала она.
— Так беги домой сразу после обеда, — сказал он. — Я сам подою коров. Ее нет дома; она в городе.
Он избегал называть Карен матерью.
Сэрине стирала в кухне, когда вошла Дитте.
Веснушчатые, страшно худые руки как-то странно-неумело обращались с бельем, словно Сэрине никогда раньше не стирала. Щеки у нее ввалились, побледнели, покрылись пятнами, и все лицо потускнело. Далеким, чужим взглядом встретила она взгляд Дитте, — «как запуганное животное!» — мелькнуло у Дитте, — вытерла руку о передник и протянула ее. Дитте взяла влажную руку, не глядя на мать.
Они постояли друг против друга, не зная, что сказать, что сделать. У Дитте сердце растаяло, она готова была заплакать, броситься на шею матери, если бы та сделала хоть шаг к ней. Но Сэрине не двигалась.
— Отец с детьми в гавани, — сказала она наконец глухо.
И Дитте пошла к ним, радуясь предлогу уйти от матери.
Ларс Петер чистил трюм своей лодки. Дети сидели на ограде мола. Он вылез из лодки и перешагнул на берег.
— Как это славно, что ты заглянула домой, — сказал он растроганно, протягивая Дитте руку. — Спасибо тебе!
— Не за что, — ответила Дитте, едва удерживаясь от слез. Все вдруг перевернулось в ней от такой встречи.
— Нет, нет, это с твоей стороны так хорошо. Ты ведь не обязана была приходить, — продолжал он, обнимая ее за плечи. — Было бы понятно, если бы ты не пришла. Ты уже виделась с матерью?
Дитте кивнула. Она еще не совсем оправилась от своего волнения и если бы заговорила, то не смогла бы скрыть его. А ей больше не хотелось реветь — ни за что! Ревут одни ребятишки… да глупые девчонки-подростки.
Ларс Петер присел на причальную сваю, чтобы стянуть с себя тяжелые сапоги с деревянными головками. Брезентовые голенища заходили выше колен, и трудновато было стаскивать их.
— Неповоротлив стал, — сказал он, охая. — И вдобавок эта ломота в суставах… Не то старость подходит, не то ремесло не по мне.
— Ну, как тебе показалась мать? — спросил Ларс Петер, когда они шли домой. — Она еще не совсем освоилась здесь, — продолжал он, не дождавшись ответа. — Да и немудрено, просидев столько времени взаперти. Мать, верно, обрадовалась тебе? Ты, может, и не заметила этого, — она как-то слов нужных не находит еще… Но я-то хорошо вижу, как она всех нас любит. Слава богу, что она опять дома! И уж ты будь с нею поласковее… ей это так нужно. Люди здешние не слишком-то приветливо к ней относятся. Считают, что ей лучше было бы остаться там, где она находилась… Так вот, хоть мы будем к ней подобрее!..
Сэрине сварила кофе. Ларс Петер поблагодарил ее, как за особую любезность. Он пришел в отличное настроение. Сэрине прислуживала им молча, как чужая в доме, двигалась почти как тень; между нею и всей семьей словно встала невидимая стена. Дети, должно быть, еще не привыкли к ней и недоверчивыми взглядами следили за ее движениями. Да и у нее вид был такой, словно она вдруг свалилась сюда откуда-то из совсем иного мира, где все было по-другому. Дитте казалось даже, что мать вряд ли вообще видит и слышит, что творится вокруг нее; даже по глазам ее не заметно было, чтобы она следила за их разговором. И трудно было судить о том, что у нее на уме.
Под вечер Дитте должна была вернуться к себе на хутор. Ларс Петер проводил ее немного.
— Правда мать очень переменилась? Как по-твоему? — спросил он, когда они поднялись на дюны.
— У нее очень плохой вид, — сказала Дитте, избегая прямого ответа на вопрос. Она не была уверена, что у Сэрине смягчилось сердце.
— Да, от тамошнего воздуха она захворала. Но и нрав у нее стал другой. Она больше не бранится.
— Что она говорит о здешних делах? Насчет трактирщика и прочего? И насчет того, что мы продали Сорочье Гнездо?
— Да что говорит. Собственно, ничего не говорит, молчит с утра до вечера. И не хочет спать в одной комнате с нами… стала нелюдимой. И выманить ее за порог трудно, выходит только по вечерам. А все-таки, мне кажется, она стала спокойнее и довольнее вообще… даже собою.
— А как соседи к ней относятся? — заставила себя спросить Дитте.
— Да, соседи… Взрослые косятся издали!.. А ребятишки прибегают и заглядывают в дверь… Может, взрослые подсылают их? А как увидят мать, с криком улепетывают, словно сам черт за ними гонится. Понятно, все это мешает ей войти в колею.
— Они думают, что у нее клеймо на лбу, — пояснила Дитте. Она и сама так думала и была удивлена, когда этого не оказалось. — И никто не приглашает вас к себе? — спросила она.
— Пока еще нет. Но, верно, скоро начнут понемножку сами заходить к нам, когда попривыкнут. Кое-кто уже собирается, да, видно, не решается быть первым.
Ларс Петер смотрел на Дитте, как бы ожидая, что она подтвердит его надежду. Но она молчала. А молчание иногда бывает красноречивее всяких слов. Дитте довольно мрачно смотрела на будущее.
— Я и сам побаиваюсь, что ничего не выйдет, — начал он снова. — Ну, что ж… придется, стало быть, переезжать куда-нибудь. Мир велик, и тут вовсе уж не так сладко живется. И от переезда мы ничего не потеряем. Обидно только, что дал обобрать себя. Не легко будет начинать опять сызнова.
— Разве ты не получишь своих денег назад, если мы уедем отсюда?
— Куда там! Трактирщик вообще не из тех, которые отдают назад то что заграбастают. Вдобавок ему самому туго приходится.
— Трактирщику? Да ведь у него столько денег?
— Да, ты удивляешься… и многие тоже удивляются. Но дело-то в том, что он много задолжал банкам. У него, говорят, все заложено. Оттого он и не строит гостиницы, — банки денег ему не дают. Я думал, что все тут его собственность, а оно совсем не так. Ему круто приходится, когда наступают сроки платежей. А в июне он, говорят, прямо в трубу вылетит. Вот он и гнет всех в дугу.
— Так какая же ему радость от всего этого? И отчего бы ему тогда не оставить нам наше добро?
— Да, большой радости, по-моему, он в жизни не видит, но, верно, уж у него характер такой. Вот сейчас как раз салака идет… у самого берега, да так густо, что хоть ковшом черпай. Это гонит ее из моря скумбрия; та идет тоже стаями, наседает на салаку и пожирает ее. А скумбрию пожирают и гонят тюлени и дельфины. Так, видно, и у нас тут. Трактирщик травит нас, а другие травят его и ему подобных. Хотелось бы знать, травит ли кто и тех других в свою очередь?
— Как это все странно, — сказала Дитте.
Ей никогда ничего такого и в голову не приходило насчет трактирщика.
— Да, странно! Тут один черт садится на шею другому, один на другого пересесть норовит, как говорит баба в сказке. Одно утешение думать, что трактирщику в конце концов не слаще, чем другим. Все-таки, значит, есть какая-то справедливость на свете, хоть и куцая.
XI Дитте утешает ближнего
Когда Дитте вернулась на хутор, дом был полон гостей. Карл стоял за воротами, видимо, поджидая Дитте.
— Хорошо, что пришла, — лихорадочно заговорил он. — Мать вернулась… с гостями. И страшно сердилась за то, что ты ушла без спроса.
— Но я вовсе не без спроса, — с удивлением возразила Дитте.
— Да, она так думает. Поскорее пройди через задний двор на кухню и примись за дело. Она, может быть, и не обратит на тебя внимания. А то будет браниться.
Он сильно нервничал.
— Отчего же ты не сказал, что сам отпустил меня домой? — спросила Дитте.
— Я не посмел, потому что…
Он запнулся с самым жалким видом.
Дитте прошла прямо в ворота. Очень ей нужно прокрадываться черным ходом! Обругают так обругают!
Сине совсем захлопоталась.
— Слава богу, что ты пришла и можешь пособить мне! — сказала она. — Голова идет кругом. Но счастье твое, что ты не вернулась часом раньше. Хозяйка так взбесилась, что обещала вздуть тебя. А эта мямля Карл хоть бы слово сказал, что сам отпустил тебя!
— Он-то!.. — Дитте презрительно выпятила нижнюю губу. — Но пусть она только попробует ударить меня, я ее так брыкну по ногам своими деревянными башмаками!
— Господи Иисусе! Ты спятила, девчонка! У нее все жилы на ногах вздуты. Вдруг ты проткнешь ей жилу, и она кровью изойдет?
Сине не на шутку перепугалась.
— Ну и пусть! Мне-то что! — сказала Дитте.
Ее заставили мыть посуду. Она была зла на хозяйку, — еще драться собирается! — на Карла за то, что он не заступился за нее, на ребятишек в поселке за то, что они не могли оставить в покое Сэрине, — словом, на всех. И с таким азартом терла и швыряла посуду, что, того и гляди, могла всю перебить. Пришлось Сине унимать ее. Но девчонка и ухом не вела, совсем удила закусила, вот тебе и коротышка! Поди, справься с нею! Наконец Сине решительно взяла ее за плечи, и Дитте опомнилась.
— Ух, я так зла, так зла! — сказала она.
— Ну, у меня куда больше причин злиться! Бегают тут взад и вперед через кухню и командуют… нахалы! Подумаешь, право, хозяйка наша совсем рехнулась. Раньше-то она, бывало, любила сама командовать у себя в доме.
Больше всего сердилась Дитте все-таки на Карла. он не шел в дом, а топтался во дворе — в виде протеста; хватался то за одно дело, то за другое, и вид у него был прежалкий. Когда он был твердо уверен, что никто его не видит, то грозил кулаком по направлению к окнам дома. Да, ему-то как раз было к лицу грозить кулаками! Дитте так и подмывало выйти и спросить его: не одолжить ли ему бабью юбку?
Нет, хозяйка все-таки еще не совсем сдалась. Она сама явилась в кухню, вся раскрасневшаяся, разгоряченная и растрепанная, — волосы дыбились у нее на голове, словно грива у жеребца. За ней выскочил Йоханнес. И солидная женщина, которая могла бы уже иметь внучат, стала заигрывать с ним и ребячиться, что уже совсем было неуместно. Видно, она основательно подвыпила. На Дитте она даже не взглянула.
Потом в дверях показался Карл, видевший все это со двора из потемок. Он поманил к себе Дитте и жалобно взмолился:
— Не смейтесь только! Не смейтесь! Я не вынесу!
Он был так жалок, что весь гнев разом соскочил с Дитте.
— Нет, нет, не будем! — сказала она и взяла его за руку. — Да и ничего тут нет смешного! А ты поди лучше ляг, — вот и забудешь во сне все свое горе.
Но он опять начал бродить под освещенными окнами, как больной пес. Выбегая к колодцу за водой, Дитте всякий раз видела его там и на ходу бросала ему ласковое слово. И даже поставила ведро на землю и подошла к нему.
— Поди же к себе, ляг, слышишь! — уговаривала она, взяв его за руку.
— Не могу, — со слезами ответил он. — Мать велела мне дожидаться, когда велят запрягать!
— Плюнь! Пусть сами запрягают! Ты им не батрак!
— Не смею… мать разозлится… Ну, и жалкий я трус! Ничего-то я не смею!
Дитте пожала ему руку, показывая, что больше не сердится на него, и убежала.
Часов в одиннадцать Сине послала ее спать.
— Ты, должно быть, до смерти умаялась после такой пробежки, — сказала она. — И утром сегодня рано встала, отправляйся спать!
И, не слушая возражений, живо выпроводила Дитте из кухни.
Да, Дитте сильно устала, так устала, что едва с ног не валилась. С минуту еще постояла она в темных сенях. По двору бродил Карл… такой несчастный… Вот кто нуждался в ласковом слове. А что, если он пойдет за нею и присядет на край ее кровати, чтобы поговорить? Это иногда случалось, когда ему бывало особенно грустно и он искал утешения. Но Дитте слишком устала сегодня, чтобы разговаривать, — ей становилось плохо при одной мысли о том, что не удастся сразу заснуть. На этот раз в ней восторжествовал эгоизм. Она пожертвовала ближним ради себя самой, — тихонько прокралась в свою каморку.
Там она посидела немножко с закрытыми глазами на краю постели. Сильные впечатления пережитого дня боролись в ней с усталостью; она была так утомлена, что ее прямо качало… Наконец она сделала над собой усилие, в один миг сбросила платье и прыгнула в кровать. Как хорошо было улечься в прохладной постели и сразу уйти от всего, буквально утонуть в блаженном изнеможении. Обыкновенно стоило ей положить голову на подушку и начать думать о чем-нибудь хорошем, как она засыпала.
«О чем думаешь, то и снится», — говаривала бабушка.
И Дитте любила видеть хорошие сны и просыпаться с душой, полной смутных, сладких ощущений или грез, медленно таявших при дневном свете, как легкие клочья утреннего тумана. Последнее время ей часто грезился принц, который должен был отвезти ее ко двору своего отца, как пророчила ей бабушка в песенке пряхи. Днем никаких принцев не было — тем более для такой бедной девчонки, как Дитте. Ночью же принц являлся и просил у бабушки руки Дитте. То-то и чудесно, что сны возносят тебя к свету, к небесам, откуда можно смотреть вниз!
Без затруднений дело не обошлось, впрочем, и во сне: принцу показалось, что Дитте некрасива.
— Да, с виду она некрасива, — сказала бабушка, — потому что главная красота ее внутри — золотое сердце!..
— Золотое? — спросил принц, широко раскрывая глаза. — Покажите!
И бабушка, конечно же, показала ему сердце Дитте, говоря:
— Мы не очень любим показывать его, оно ведь может запылиться.
Принц остался доволен, — он-то знал цену золоту, — взял Дитте за руку и запел песенку бабушки:
Коль выплакала очи над люлькой сироты,— Раз-раз да стоп! Да раз-раз да стоп! На самом лучшем месте ее посадишь ты! Фаллерилле, фаллерилле, раз-раз-раз!— Да ведь это про бабушку! — сказала Дитте с отчаянием и выпустила его руку. Ей надоела эта песня.
— Ничего не значит, — сказала бабушка и опять соединила их руки, — бери его. Придет и мой черед. Песня эта про нас обеих!..
Дитте открыла глаза в потемках и к радости своей почувствовала, что в ее руке действительно чья-то теплая рука. Кто-то сидел на краю ее постели и другою рукой нащупывал ее лицо.
— Это ты, Карл? — спросила она, ничуть не испуганная, но капельку разочарованная.
— Убрались, наконец… весь этот сброд! — сказал он. — Все перепились и ужасно скандалили. Не понимаю, как ты могла спать. Хотели дать мне на чай две кроны за то, что я запрягал им. Но мне не нужны их шальные деньги. Пусть лучше вернут их тем, кого надули, сказал я. Так они чуть не прибили меня.
— Ловко! — засмеялась Дитте. — Поделом им.
Но Карлу было не до смеха. Он сидел в темноте, держа ее руку, и молчал. Дитте чувствовала, что его одолевают печальные мысли.
— Ну, будет тебе думать об одном и том же! — сказала она. — От этого лучше не станет. Глупо так изводить себя.
— Она не вышла провожать их, — сказал он каким-то чужим, далеким голосом, словно и не слыхал ее слов. — Пожалуй, не могла двинуться с места.
— Почему же? — спросила Дитте с испугом.
— Да ведь она пьет наравне с ними. И, может быть, она…
Он опустил голову на грудь Дитте; его всего трясло.
Дитте обвила руками шею Карла, гладила его по голове и уговаривала, как малого ребенка:
— Ну полно же, полно! Будь молодцом! — А видя; что утешения ее не действуют, подвинулась и, дав ему местечко возле себя, прижала его голову к своей груди. — Ну, успокойся теперь, будь умником. И незачем тебе мучиться здесь, — взял да уехал от всего этого.
Ее детское сердце, переполненное состраданием, громко билось у самого уха Карла.
Мало-помалу она успокоила его. Они лежали и тихонько разговаривали, очень довольные друг другом. Потом на них напал смех оттого, что они оба спрятали головы под перину и шепчутся! Смех прогнал последние остатки грустного настроения Карла, и он принялся щекотать Дитте, — совсем расшалился.
— Не надо, а то я закричу, — серьезно сказала она и поцеловала его.
Он затих от ее поцелуя. Но вдруг обнял ее и горячо прижал к себе. Дитте отбивалась, по принуждена была уступить — он так крепко обнимал ее, а она вдруг как-то ослабела вся.
— Обижаешь ты меня, — сказала она и заплакала.
XII Лето коротко
Дитте укрылась от дождя наверху, у полевой изгороди, оставив стадо пастись внизу, на луговине. Белесый туман скрывал от нее коров и овец, но она слышала, как они щиплют траву в зарослях, — в такую погоду они далеко не разбредались.
Шерсть на них была мокрешенька, и куст ежевики, под которым сидела Дитте, весь блестел от дождевых капель, как серебряный. Стоило бы ей шелохнуться, как ее обдало бы как дождем. Но ей и не хотелось вовсе шевелиться. Она сидела тихо-тихо, и ей хотелось стать еще тише, хотелось спрятаться, уйти в землю. На ресницах у нее тоже повисли капли, как те, что собирались на остром кончике листа, оттягивая его вниз.
Время от времени капли падали ей на щеку — то с листьев, то с ее собственных ресниц. Не легко было разобрать, которая откуда, да Дитте и не пыталась. Лишь когда капля попадала в рот, ясно становилось ее происхождение. Дитте сидела на бугре, на корточках, голые ноги выглядывали из-под юбки, между пальцами торчала зеленая трава, кожа на подошвах побелела и набухла от влаги. Прижав руки ко рту и закусив костяшки пальцев, она глядела вдаль, как окаменелая, пристально и неподвижно, даже не мигая.
Болотистая почва слегка заколебалась, послышались шаги по полю. Карл! На душе у нее стало немного легче, она огляделась, все как-то странно преломлялось у нее в глазах, налитых слезами, весь мир словно лежал в осколках. Она подняла голову и выжидательно поглядела на Карла. «Сейчас он меня обнимет и поцелует», — думала она, не меняя положения.
Но Карл тихо присел рядом с нею. Так сидели они некоторое время, глядя перед собою, затем его рука нащупала в траве ее руку.
— Ты на меня сердишься? — спросил он.
Она покачала головой и, глядя в сторону, ответила:
— Ты не виноват был, что чувствовал себя таким несчастным. — Губы ее дрожали.
Карл нагнулся над ней, но ему не удалось поймать ее взгляд.
— Я всю ночь молился, просил у господа бога отпустить мой грех, и верю, что он простит меня, — беззвучно проговорил он немного погодя.
— Да?
Дитте слышала его слова, но они как-то не дошли до ее сознания. Ей было совершенно все равно, как он там устроится с господом богом.
— Но если ты потребуешь, я готов сознаться братьям.
Она быстро повернулась к нему, жизнь и надежда вспыхнули на ее лице.
— Так ты думаешь, учитель приедет сюда?
Ему и она бы охотно призналась.
Нет, Карл говорил о «братьях» своей религиозной общины.
Ах, вот что! Ну, это он как знает сам, ее это не касается.
Еще немного погодя Карл встал и пошел, а Дитте осталась расстроенная, в смятении. Он не поцеловал ее, даже не пожал ей руку… а ведь они принадлежали друг другу… были злополучным образом связаны между собою грехом, — так ведь это называется. Она уже старалась найти в нем черты, за которые могла бы уважать его, — теперь ведь на него нельзя было смотреть только как на ребенка, нуждавшегося в ее утешении. Он овладел ею, и она чувствовала, что никогда не забудет этого; стало быть, необходимо открыть в нем что-нибудь достойное удивления, восхищения, чтобы примириться с этим; необходимо полюбить его, чтобы случившееся приобрело хоть какой-нибудь смысл. И вот он ушел, как будто между ними ничего не было, — ничего, кроме чего-то постыдного, досадного. Дитте с недоумением глядела ему вслед.
С этих пор даже дни стали для нее как будто темнее. И как бы беззаботно ни возилась она со своими сокровищами или болтала с ребятишками поденщика, в глубине ее души упорно копошилось что-то, словно какое-то существо, все время следившее за нею зловещим взглядом. И, когда Дитте улыбалась, оно в любую минуту могло протянуть к ней свою черную лапу, чтобы стереть улыбку с ее лица, а временами оно совсем одолевало ее. Ничто тогда не радовало ее, все казалось мрачным и печальным, и у нее было одно желание — вытравить из своей души всякую память о случившемся и зажить по-прежнему или стать на колени перед кем-нибудь и получить прощение за свой грех. Прошло немало времени, прежде чем она настолько успокоилась и пришла в себя, чтобы вновь могла вернуться в свой беспечальный девичий мирок.
Но не так-то скоро зарастает пролом в живой изгороди. Дитте наблюдала это на пастбище, убедилась в этом и теперь. Она взяла на себя заботу о ближнем, в чем в сущности не было ничего необычайного. С тех пор как она себя помнила, всегда кто-нибудь нуждался в ее заботах, в ее материнской нежности. Ей приходилось все свои силы отдавать на то, чтобы облегчить жизнь другим: от нее как-то само собою требовалось, чтобы она помогала всем.
Все же ей захотелось, наконец, немножко развлечься. Стояла середина лета, и солнце согревало кровь Дитте, изгоняя из ее души все заботы и огорчения, зажигая в ней тихую радость бытия, желание жить и веселиться.
По субботам на прибрежных дюнах или поблизости от одного или другого хутора на лужайках устраивались вечеринки с играми и танцами. Дитте старалась не пропустить ни одной. Раньше она никогда не танцевала на настоящих вечеринках, а теперь наслаждалась вовсю, с одинаковым удовольствием отплясывая и с парнями и с любой из своих подруг. Ее увлекали движения самого танца: так чудесно было закрыть глаза и плавно кружиться под музыку!
Но трудно было скрываться от Карла. Он подкарауливал ее где-нибудь за хутором и убедительно просил не ходить на танцы. Дитте не обращала внимания на все его разглагольствования о грехе и тому подобном, но отвязаться от него все-таки трудно было. И она поворачивала назад домой. И хоть бы он предложил ей прогуляться с ним разок! Они могли бы пройтись берегом в сторону поселка, там никогда ни души не встретишь. Но ему это и в голову не приходило.
Она надувала его, притворяясь, будто идет спать, сама же прокрадывалась со двора другим путем. И от души радовалась, когда вечеринки совпадали с одной из вечерних «бесед», на которые ходил Карл.
Тяжелый он был человек! Тяжелее всех, с кем ей приходилось иметь дело. Ему больше не с кем было дружить, вот он ревниво и льнул к ней. Ему постоянно нужно было знать, где она, чтобы было куда обратиться со своими горестями. Словно избалованный ребенок к няньке, тянулся он к Дитте, болея душой, тяготясь я самим собою и матерью — всем на свете. Одна Дитте могла заставить его поднять голову и улыбнуться. Она гордилась своею властью над ним и продолжала нянчиться с ним, всячески изворачиваясь, чтобы устроить все к лучшему — для себя и для него. Он старался теперь не заходить в ее каморку даже днем — боялся. Но иногда все-таки приходил ночью и тихонько стучался к ней. И ей, несмотря на смертельную усталость, приходилось вставать, накидывать на себя платье и выходить к нему.
— У меня так болит здесь, — говорил он, держась обеими руками за затылок.
Они тихонько прокрадывались на берег я, усевшись на больших камнях, прислушивались к монотонному плеску волн и говорили. Сам Карл был не очень словоохотлив, и разговаривала больше Дитте о том да о сем.
Он внимательно слушал, но иногда начинал поучать ее.
— Вся-то ты в суете мирской, — наставительно говорил он.
— Ну, так и оставь меня в покое! — обиженно отвечала Дитте, и они расходились.
В одну из суббот предстояла прощальная вечерника на постоялом дворе, в получасе ходьбы от хутора. Белые ночи давно кончились; прошла уже половина августа, ночи пошли темные, ветреные, и настала пора проститься с летними радостями в этом году.
Дитте позволили пойти на вечеринку сразу после ужина. Сине не переставала покровительствовать ей и сама справляла всю вечернюю работу. Дитте обновила свое еще ни разу не надеванное платье из полушерстянки, вплела в косы голубую ленту и обвила их вокруг головы. Ей хотелось сегодня быть покрасивее и… совсем взрослой! Карл, к счастью, отправился на «беседу», но ради пущей безопасности она пошла полевой тропой, выводившей прямо к поселку. Ей было весело, и она напевала по дороге. Только в самой глубине души притаилась темная тень, но это было вроде больного зуба, который перестал ныть. Только не трогать его, и он не будет мешать.
Вечеринка была в полном разгаре, когда пришла Дитте. Музыкант не явился, поэтому затеяли игры, перемежавшиеся танцами под хоровое пение. Были тут и люди постарше и совсем зеленая молодежь: дети хусменов, сельские батраки и работницы, а также несколько молодых мастеровых из поселка. Дети хуторян не удостаивали такие вечеринки своим посещением.
Играющие водили хоровод и пели: «Поглядите, кто в кругу!» Дитте быстро встала в цепь, схватив кого-то да руки, и случайно попала между двумя парнями. Но сегодня она не боялась и не конфузилась, — она чувствовала себя взрослой. Громко пела она в общем хоре и ждала: выберет ли ее кто-нибудь из ходивших в кругу парней. Сердце у нее билось от волнения. По тому, сколько раз выбирали девушку, каждый мог судить об ее успехе. Некоторые девушки почти не выходили из круга и едва успевали завязывать покрепче тесемки на башмаках.
Случилось так, что Дитте тотчас же выбрали. Быть может, это просто счастливый случай, но она вернулась на свое место в хороводе вся пунцовая от радости. Этот румянец и блеск глаз, радость, оживление и уверенность в себе, помогавшие ей так свободно выступать в кругу, — все это делало ее прелестной. Всякий мог видеть это. В кругу появилась новенькая, на которую до сих пор мало обращали внимания; нескладная раньше девчонка вдруг расцвела красотой и хотела быть первой среди девушек, чтобы все парни наперебой бросались к ней и приглашали ее танцевать.
Не слишком ли возомнила о себе Дитте в этот вечер? Пожалуй, за нею не так уж много и ухаживали, как она сама воображала. Но, во всяком случае, Дитте оказалась в число девушек, приглашенных парнями на кофе в трактир.
Когда она опять вернулась на лужайку, было уже совсем темно. Трактирщик выставил в слуховом окошке лампу, которая освещала лужайку, где плясали. Какой то краснощекий паренек, весь вечер вертевшийся возле Дитте, но не танцевавший, теперь в потемках осмелился, наконец, пригласить ее. Дитте он нравился; у него были крепкие горячие руки, которыми он обнимал ее без всякой задней мысли, и такое свежее, молодое дыхание, отдававшее парным молоком, как у детей. Но он все еще конфузился и, чтобы придать себе храбрости, стал выкидывать такие коленца, что все другие перестали плясать от смеха.
— Ну, теперь довольно, — сказала Дитте, сама смеявшаяся над его шутками.
Но он не хотел расстаться с ней и продолжал кружить, а потом вдруг поцеловал ее и, сам испугавшись этого, выпустил ее и нырнул в темноту под хохот окружающих. Слышно было, как он бежал в темноте далеко-далеко…
Дитте ушла раньше, чем кончились танцы, чтобы никто не увязался провожать ее домой. Обычно тот, кто провожал девушку до дому, имел на нее известные права. Дитте знала это, а ей хотелось оставаться совсем свободной. Пройдя некоторое расстояние, она встретила краснощекого паренька. Звали его, как ей помнилось, Могенс. Он поднялся из придорожной канавы, словно из-под земли вырос.
— Можно мне проводить тебя сегодня? — спросил он нетвердо.
— Отчего же? Можно, — ответила Дитте.
Его она не боялась. Они пошли вместе молча. Он ведь должен был завести разговор, но парень только шагал рядом с ней да глядел по сторонам. Дитте не прочь была, чтоб он и за руку ее ваял.
— Можно… можно мне будет проводить тебя и в другой раз? — спросил он наконец.
— Еще не знаю пока, но, пожалуй, что можно будет, — ответила она серьезно.
— А можно… можно мне сказать об этом другим?
Нет, этого Дитте не хотелось.
— Пойдут сплетай, что мы помолвлены, — сказала она.
— А не поцелуешь ли ты меня?
Дитте поцеловала его тихо, задумчиво. Потом они пошли дальше, держась за руки, но молча.
У ворот хутора Дитте остановилась и сказала:
— Спокойной ночи!
— Спокойной ночи! — ответил он.
Они постояли с минуту, все еще держась за руки, затем их губы встретились в простодушном детском поцелуе. Поцелуй показался им обоим слишком долгим и торжественным, и они, переведя дух после него, сразу расхохотались. Потом Могенс повернулся и пустился бежать обратно. Дитте долго слышала его топот. Отбежав немного, он загорланил песню. Вот этот был Дитте по нраву!
Карл сидел на чурбане близ дверей ее каморки и ждал. Дитте, будто не видя его, пошла прямо к двери. Сегодня ей хотелось избавиться от его поучений. Он, однако, подошел к ней.
— Ты все-таки была на танцах, — вяло протянул он.
Дитте не ответила. Что ему за дело до того, где она бывает? И она взялась за щеколду.
— Я тоже был на танцах. Я взглянул на небо и видел ангелочков с крыльями, порхающих у ног агнца на престоле славы. Хочешь, пойдем на берег, я расскажу тебе об этом.
Нет, Дитте хотелось поскорее в постель. Она устала, и было уже поздно.
— Так скажи мне одно, — проговорил он мрачно. — Я ли ввел тебя в грех?
— Я вовсе не грешница! — ответила Дитте со слезами, топая ногой. — И оставь ты меня в покое! Не то я позову твою мать и все расскажу ей!
Карл с минуту постоял в недоумении, потом поплелся на берег.
А Дитте лежала, и ее мучила совесть. Но все равно — пора ей попытаться сбросить с себя цепи. Это уж чересчур глупо, не смей даже поплясать из-за него!..
Она стала думать о Могенсе. Его бодрые шаги еще отдавались у нее в ушах. Он напоминал Кристиана. Тот тоже не умел ходить спокойно, а все носился вскачь.
XIII Сердце
Говорили, что Карл родился с морщинами на лбу. «У него тяжелая наследственность, — прибавляли люди, — не диво, что он такой».
Да, он был живым свидетельством проклятия, тяготевшего над хутором. Но другие два брата, что ушли из дома, были людьми вполне нормальными. Зато злой рок грозил тем, кто долго служил или жил на хуторе. Наследственный недуг каким-то непостижимым образом одолевал иногда чужих, минуя своих. Ваять хотя бы Сипе — разве она не дурит? Здоровая, краснощекая, а бегает от мужчин, как от чумы! На что это похоже? Такая красивая девушка — и готова глаза выцарапать любому мужчине, который вздумает подойти к ней поближе! Не знает других радостей, кроме сберегательной книжки!.. Про Расмуса Рюттера и говорить нечего, все знали, каким пакостником стал он на хуторе. Да не ушла, видно, от заразы и девчонка. Прибегает вдруг в поселок ночью, как полоумная, и давай стучать в двери, словно за ней гнался кто. А спросили ее — в чем дело, она стоит и не знает, что сказать. Вот и пойми ее!
Да, слишком прочно укоренился на Хуторе на Холмах старый уклад жизни, передаваясь из поколения в поколение. Никогда там не производилось коренной ломки и чистки, никогда не обновлялось ничего. В притоке новой крови собственно недостатка не было, на хуторе то и дело женились или выходили замуж за чужих; случалось, пробирались в семейное гнездо и совсем посторонние; обитатели Хутора на Холмах никогда особенно не чтили святости брачных уз. До крупных перемен дело никогда не доходило. Хутор оставался на прежнем месте, там ничего не менялось. Старые истории, старые любовные шашни, старые пороки передавались из поколения в поколение, о них постоянно рассказывали, да и новые факты добавлялись. Самые стены были пропитаны всем этим, даже постельное белье и перины, переходившие по наследству с незапамятных времен, отяжелели и отсырели от этого. Чудо мог сотворить только пожар, и кое-кто из хозяев пытался помочь судьбе перенести хутор на новое место. Но всегда безуспешно: Хутор на Холмах и огонь не брал. Там оставались те же миазмы, тот же воздух, та же зараженная микробами атмосфера, которая все более сгущалась по мере того, как жизнь шла дальше. Болезни и денежные затруднения и дурные поступки одинаково и подтачивали и создавали традиции хутора. Серебряная стопка в шкафу Карен, помеченная 1756 годом, и туберкулезные бациллы в ее старых перинах одинаково способствовали тому, что воздух на хуторе был не чище, чем в помойной яме. Люди здесь жили и работали на продуктах разложения предыдущих поколений, черпали в них свою пищу и свою смерть. Жизнь расцветала на кладбище, на почве, удобренной рабским трудом, потом и преступлениями.
Дитте чувствовала эту тлетворную атмосферу. Ее собственный родной дом был, к счастью, свободен от всякого балласта старых пережитков; для членов семьи Живодера все было в будущем. И это придавало их жизни, несмотря на все превратности судьбы, особую свежесть, — они дышали будущим, чем-то новым, еще не тронутым тлением жизни. Семье Живодера не от кого было ожидать наследства, и она легко порывала с прошлым. У членов ее выработалась добрая привычка ставить крест на том, что осталось позади, и глядеть только вперед. Глупо было, по мнению Ларса Петера, ворошить старое, вспоминать старые болезни и старые невзгоды. Лучше поступить так, как делают цыгане: собираясь приготовить жареного зайца из украденной кошки, прежде всего следует обрубить ей хвост.
Дитте храбро боролась и справлялась с будничными невзгодами: хуже всего был мрак, накладывавший на все свой отпечаток и донимавший людей. Дитте понимала, почему Карл приходит в такое отчаяние от поведения матери. Это отчаяние можно было рассеять уговорами, иногда удавалось даже совсем прогнать его. Но ужаса, постоянно омрачавшего душу Карла, его способности расстраиваться из-за пустяков Дитте понять не могла, и пытаться утешать его в таких случаях было все равно, что носить воду решетом. Стараться поднять в нем дух было делом безнадежным.
Но и бросить Карла на произвол судьбы Дитте не могла. Не могла перестать думать о нем и заботиться. Ее доброе сердце не допускало этого. Жизнь не церемонится с маленькими людьми, как птенец кукушки с мелкими пташками: займет все гнездо, а приемным родителям только и остается, что набивать его ненасытный клюв. И Дитте волей-неволей пришлось взвалить на себя всю тяжесть того мира, который создавался и существовал без ее участия; иного выхода не было. Ведь будь Карл еще малым ребенком, — она бы попросту взяла его на руки, поиграла с ним, уговорила, рассмешила и заставила забыть обо всем.
Да, Дитте волей-неволей боролась и мучилась за него, боролась так долго, что отчаяние вновь поселилось в ее душе. Не было ни малейшего намека на нежность, которая соединяла ту памятную ночь с настоящим, никакая ласка не связывала их. Просто он приходил, мрачный и расстроенный, искать у нее убежища от надвигавшегося на него мрака, и она не знала другого способа, нежели прижать его к себе и утешать по мере сил — как в тот первый раз. Некогда было думать о себе самой и быть настороже, когда рядом погибал человек! И вот однажды осенью он снова пришел в ее каморку. Вот в эту-то ночь Дитте и бегала в поселок и стучалась в чьи-то двери.
Ей было тяжело до безумия. Ведь они даже не были тайно влюбленными. Просто ей приходилось приносить жертву, в сущности совершенно непосильную. Едва оперившись сама, она должна была окружать Карла своими заботами. Днем она ходила, как в тумане, полная скорбного недоумения; раскаяние терзало ее детскую душу. Если она заводила об этом серьезный разговор с Карлом, раскаяние заражало и его, и он начинал обвинять себя и впадал в отчаяние. Ей же приходилось потом успокаивать его. Что поделаешь!
Да, прямо сил не хватало одной нести это бремя, и ей страстно хотелось довериться кому-нибудь. Но обращаться к Сэрине ей и в голову не приходило, у отца, же достаточно своего горя, да и, кроме того, он — мужчина. А вот хозяйка?.. Временами Дитте казалось, что она погибнет, если не доверится кому-нибудь из взрослых: бремя сломит ее. Но, когда она со своей обычной, почти старческой серьезностью объяснила это Карлу, он перепугался до безумия, в глазах у него застыл ужас.
— Да нечего, тебе бояться матери, — уговаривала его Дитте. — Ведь это все из-за нее же! Пойдем к ней и скажем, что она должна переменить свою жизнь… иначе она погубит нас обоих.
— Лучше я пойду в ригу и повешусь! — грозил он.
Несколько дней он боязливо сторонился ее, не разговаривал с нею во время работы; молчал, стиснув зубы, словно дал себе зарок. Но взгляд его искал ее — робкий, молящий, и Дитте понимала эту мольбу и молчала. Ей было жаль его, ему ведь больше не к кому было прибегнуть в тяжелую минуту.
Так прошла осень и большая часть зимы, — для Дитте тяжелая, мучительная полоса жизни. Мало было в ней светлых минут — побывки дома да приготовления хозяйки к свадьбе. Карен Баккегор, совершенно не считаясь с мнением всех добрых людей, решила выйти замуж за Йоханнеса. Карл, по обыкновению, пришел в отчаяние, но Дитте радовалась, как ребенок. Свадьба предполагалась весной, в мае, а она ведь ни разу еще не бывала на свадьбах!
— И тебе бы радоваться! — увещевала она Карла, чтобы оправдать собственную радость, — раз они все равно хороводятся!..
Дитте было уже без малого семнадцать. Тяжело достались ей эти первые семнадцать лет жизни, каждый год оставил по себе горькую намять. Работать ей пришлось с самого детства, нянчить младших детей, воспитывать их, заменять им мать. Покидая родной дом, она уже оставляла за собой тяжелое трудовое прошлое взрослого человека. Слава богу, оно позади, можно, стало быть, разогнуть спину.
Да не тут-то было. Едва успев поднять на ноги малых братьев и сестренок, она должна была начать сызнова нянчить на этот раз собственное дитя. Под сердцем у нее, под ее измученным сердечком зашевелилось повое бремя, тяжелее всех прежних. Другие заметили это раньше, чем она сама, и стали поглядывать на нее как-то странно. Она же, как сбитый с толку ребенок, не сразу поняла, в чем дело. Сине ничего ей не говорила, но грустно смотрела на нее и вздыхала, щадила ее в работе, и вот Дитте стала догадываться. Многое, многое подтверждало ей печальную истину: человек, ища утешения себе, горько обидел ее, и теперь вдобавок ее ждала расплата — ребенок.
Однажды, когда она работала в кухне, у нее началась сильная рвота. Сине пришлось держать ей лоб рукою: все тщедушное тело Дитте чуть не ломалось пополам.
— Аж ты, бедняжка! — сказала Сине. — Поменьше бы тебе бегать летом на все эти пляски. Я так и ждала беды, уж больно ты без ума бегала.
— Это не от того, — со слезами ответила Дитте. Холодный пот выступил у нее на лбу и на верхней губе.
— Ну, да это не мое дело. Но соберись теперь с силами и возьмись за работу, чтобы хозяйка не догадалась.
Ах, пляски, пляски!.. Бели б еще она доплясалась до того! Она слыхала о таких девушках, которые доплясывались до ребенка, и задумывалась над этим выражением; оно звучало красивой песнью и нисколько не отпугивало ее от танцев. Если уж ей суждено иметь детей, — бабушка пророчила ведь, что она будет рожать их легко, — то самое лучшее было бы «доплясаться» до них.
Смятение, отчаяние поселились в ее душе. Ей казалось, что все люди не сводят с нее глаз и относятся к ней как-то странно, скорее всего враждебно. Карл избегал ее; как она ни старалась, ей никак не удавалось больше поговорить с ним наедине. Дорого дала бы она теперь за доброе слово, но ни у кого не находилось дли нее ласковых слов… А домашние… если они узнают об этом?.. Отец?
Однажды Сине прибежала за нею в хлев.
— Тебя хозяйка зовет! — сказала она, глядя на Дитте с ужасом.
Сама Дитте не испугалась, не страх был у нее в душе, а скорее всего предчувствие развязки, освобождения.
Карей Баккегор сидела у себя в чистой комнате за столом, видимо, приготовясь разыгрывать судью. Она повязалась черным платком, а в руках держала книгу. Позади нее стоял Карл, с мольбой глядя на Дитте.
Но она чистосердечно рассказала все, как было, я дело с концом. При всех своих недостатках хозяйка всегда слыла справедливой, — умела разобрать, кто прав, кто виноват в серьезных случаях. Стало быть, она поймет, что Дитте просто пожалела Карла… и поможет ей как-нибудь.
Но так далеко чувство справедливости Карен Баккегор в данном случае не шло. Быть может, сыграло тут роль и то, что она сама, чувствуй себя виноватой перед сыном, рада была найти в нем соучастника. И приняла его сторону, не стала даже бранить его, но весь свой гнев обрушила на Дитте.
— Вот мне за то, что я приняла тебя, поила, кормила, одевала, — говорила она. — Вместо благодарности, позор и несчастье! Если бы поступить с тобою, как ты того заслуживаешь, надо заявить про тебя начальству, а не просто прогнать со двора. Смотри сама статьи закона.
Карен показала ей закон о батраках и заговорила по-книжному высоким слогом:
— Ты соблазнила на худые дела одного из чад хозяйских — статья шестая. Ты вступила в прелюбодейную связь с лицом из хозяйской семьи — статья двенадцатая. И, наконец, ты, хотя и незамужняя, забеременела — статья тринадцатая. Ты трижды преступила закон, и с тобой можно поступить как угодно. Забирай свои пожитки и марш отсюда! Живо!
Дитте выслушала все, как истукан, даже без слез. У хозяйки в руках был закон, она осудила Дитте по всем правилам закона — и все-таки извратила истину. Выходила чистейшая бессмыслица, но Дитте вспоминала странные слова отца, что слуги бесправны. Когда хозяйка приказала ей покинуть хутор, она перевела глаза на Карла — удивленные, невинные, детские глаза. Неужто он ничего не скажет? Но он жался к матери и смотрел на Дитте, как на настоящую соблазнительницу. Тогда она, шатаясь, побрела к себе в каморку и связала в узелок свои пожитки.
Пожалуй, Карен Баккегор не совсем была уверена в силе характера своего сына и хотела как можно скорей спровадить Дитте со двора; во всяком случае, она пошла вслед за девушкой и стала торопить ее.
Когда Дитте взяла свой узелок под мышку и собралась уходить, Карен вдруг приподняла угол перины и спросила, глядя на нее с жадным любопытством:
— Это ты здесь грешила?..
Дитте побрела куда глаза глядят, без мыслей, без желаний; в душе у нее как будто все погасло, и вокруг была холодная пустота. Лишь одно мелькнуло у нее в голове: домой она не пойдет… ни за что на свете.
Стояла ранняя весна. Земля еще не совсем оттаяла в глубине, но верхний слой на полях уже сильно размяк. Дитте плелась, меся грязь, застревала, снова подвигалась вперед и кое-как добралась до общественных лугов.
Вокруг «островков», где она свивала свои гнездышки, стояла вода, ей пришлось переходить вброд. Вода хлюпала в ее башмаках, из носу капало, она плакала про себя жалобным, неслышным плачем, без слез. В «гнездах» было голо и холодно, на кустах не распустилось еще ни листочка; разные мелкие вещицы, которыми она в свое время забавлялась, лежали там, где она их оставила. Она побрела обратно и уселась на мшистом бугре, где так часто сиживала, свесив ноги вниз, за починкой своей одежды.
Она сидела и смотрела вниз на темную воду, где щуки уже гонялись за водяными жуками, и вспоминала мрачные рассказы про девушек, попавших в беду и покончивших с собой. Думала о том, как должно быть там в воде холодно, и вздрагивала. Печальными песнями звучали в ее ушах эти рассказы, такие далекие и как будто нереальные, но все же глубоко трогательные. Много было сложено песен про таких несчастных девушек, и Дитте сама их певала, плача от жалости. Но теперь она лучше понимала их. Бедняжек находили и хоронили — с ребенком под сердцем. И когда наступал их час… Тут невольно вспомнилась ей жена трактирщика, которой нечем было повить свое дитя. Но еще тяжелее было вспомнить о не-родившемся младенце, которому выпала такая горькая доля, о маленьком существе, мерзнувшем без пеленок, без свивальников… Сердце Дитте облилось кровью. Она с ужасом отшатнулась от воды и начала бесцельно блуждать по полю.
В поле ее кто-то окликнул. Она подняла голову. Это был Карл. Он торопливо бежал вниз, кричал и махал ей рукой. С минуту стояла она, ничего не соображая, затем повернулась и побежала от него.
— Мне надо поговорить с тобой! — с мольбой кричал он. — Мне надо поговорить с тобой!
Она слышала за собой его шаги и бежала все быстрее, с бессмысленными воплями. Мокрые юбки так и хлестали ее по пяткам. Она пробежала через все луга, мимо хижины Расмуса Рюттера, откуда, разиня рот, глядели на нее ребятишки, и продолжала бежать, пока не достигла дороги, которая вела к рыбачьему поселку. Там она спряталась между дюнами.
Лишь с наступлением сумерек осмелилась она прийти в самый поселок. Задами прокралась в гавань, чтобы ни с кем не встретиться. Ей казалось, что все с первого взгляда поймут, в чем дело.
Ларс Петер работал в лодке со своими товарищами. Один из них что-то рассказывал, и вот раздался густой теплый отцовский смех… Дитте чуть не вскрикнула.
Она притаилась за лодкой, перевернутой килем вверх, вся промокшая, жалкая, и ждала, когда отец покончит с работой. Долго, ужасно долго тянулось время. Рыбаки кончили работать, но стояли и разговаривали на молу.
Дитте сидела, чуть не плача от холода, и понять не могла, как это люди могут болтать так беззаботно.
Наконец Ларс Петер простился и пошел. Дитте приподнялась и шепнула:
— Отец!..
— Черт возьми… никак, это ты? — вырвалось у него. — Как ты сюда попала?
Она стояла молча, слегка пошатываясь впотьмах.
— Ты больна, девочка? — спросил он и обнял ее, чтобы поддержать. Увидев, какая она мокрая, в каком жалком виде, он пристально взглянул ей в лицо.
— С тобой беда какая-нибудь стряслась? — спросил он.
Она отвернулась и при этом движении в нем забрезжила догадка.
— Пойдем домой, — сказал он и бережно взял ее под руку. — Пойдем домой… к матери!..
Голос у него оборвался. В первый раз услышала Дитте, что ее крепкий, рослый отец не выдержал… И этот надорванный звук резанул ей по сердцу. Тут только она по-настоящему поняла весь ужас своего положения.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I Конец большого Кляуса
Трактирщик продал площадку, на которой рыбаки сушили сети. Скажи обитателям поселка, что он продал море, это не озадачило бы их сильнее. Рыбаки пользовались этой площадкой с незапамятных времен, с тех пор вообще, как существовал самый поселок; поколения за поколениями в течение столетий развешивали здесь для просушки свои невода, вытряхнув из них сначала морскую траву; здесь же чинили дыры, прорванные в сетях морем. Вдоль вбитых кольев образовались небольшие бугорки, так как сети очищались тут же на месте, а между этими бугорками протоптаны были дорожки. Сушильная площадка считалась общим достоянием, принадлежала всем и никому. Вместе с примыкающим к ней берегом она была памятью о тех временах, когда вся земля являлась общим достоянием. На этой площадке играли ребятишки, собирались вечерами посудачить женщины, — сушильная площадка была центром поселка. Никто никогда не осмеливался поставить на ней сарай для своих снастей, опрокинуть там кверху килем свою лодку, словом, так или иначе присвоить ее, пользоваться ею для своих личных целей.
А вот теперь трактирщик взял да и продал ее. Получил, говорят, несколько тысяч крон за то, что вовсе не принадлежало ему.
Впервые очнулись рыбаки от своей тупой дремоты и зароптали, — это уж было слишком даже для них. Они собирались в кучки, галдели, сердились и разошлись, наконец, до того, что отправили в город ходоков посоветоваться с адвокатом. Но оказалось, что трактирщик сумел так обставить дело, что к нему нельзя было придраться. У него были выправлены бумаги не только на площадку, но и на все рыбачьи хижины поселка, которые переходили из рода в род, от отца к сыну. Рыбаки, собственно говоря, являлись уже простыми съемщиками и только благодаря особенной доброте трактирщика ничего не платили за наем. Он мог их выселить, когда хотел.
Как все это вышло? Да, как? Хоть бы нашелся какой-нибудь умник, который сумел бы раскусить трактирщика! Один уступал ему немного тут, другой — там; кое-кто прокутился, другие отрекались от своих прав ради куска насущного хлеба. Трактирщик частенько ведь забегал с бумагами: подпиши вот это, ради порядка, как он уверял всегда. Ну читали-то они все не бойко, да и к чему было читать? Сунь кто-нибудь свой нос в бумаги Людоеда — не поздоровилось бы смельчаку!
Рыбаки не могли примириться с продажей площадки. Зато печальное несвоевременное возвращение Дитте под родительский кров не вызвало того внимания, какое возбудило бы при других обстоятельствах. Правда, женщины перешептывались между собой и косились мимоходом на хижину — «богадельню», но без особого ехидства. Самое прозвище «богадельня» потеряло остроту, — теперь все в поселке жили как бы из милости.
Как только весенняя вода спала и дорога к поселку просохла, из города стали возами возить столбы и проволоку для ограды, сушильную площадку огородили. Трактирщик сам бегал взад и вперед и вымерял шагами землю вместе с каким-то низеньким толстяком, — столичным коммерсантом, как говорили. Изгородь довели до самой воды. Пришлось рыбакам очистить сушильную площадку и устраиваться по-другому, — странно все это было, напоминало изгнание с родины. И по берегу, где прежде ездили невозбранно, не стало уже ни проезда, ни прохода, — поезжай поселком! Трудно было жителям привыкать к новым тропам, и, прежде чем они приучились считаться с изгородью, — не раз была она повалена и поставлена вновь.
Очень все это было обидно, но и интересно. Тот, кто купил площадку, видно, был такой богач, что не знал, куда деньги девать. Вот и вздумал закопать их здесь в песке — сумасброд! Он собирался ведь воздвигнуть здесь целый дворец да еще сад разбить — среди песков. Земли предполагалось навозить с полей трактирщика. Впрочем, и там ее было немного.
Попозже весной привезли из ближайшего города кирпич и бревна. Возчики, однако, не брались доставлять материал по зыбучим пескам и сваливали его перед дюнами, откуда волочил его по частям до самого места постройки Большой Кляус. Коммерсант приезжал через день то с одним, то с другим спутником, — они бегали кругом по дюнам с длинными измерительными лентами-рулетками, ставили подзорную трубу на треноге, смотрели в нее по сторонам, поглядывали на полосатые столбы и вбивали в землю колья. В руках у них были длинные рулоны бумаги, которые они то и дело расстилали ил траве, совещаясь между собою. Все это было так таинственно. Ребятишки из поселка целыми днями висели на изгороди, вытирая нос рукавами и глазея. От весеннего ветра и напряжения у всех слезились глаза и текло из носу, а малыши сидели в мокрых штанишках, — настолько детвора была поглощена зрелищем. И то один, то другой малыш вдруг с ревом убегал домой, — по обыкновению, уже слишком поздно.
Маленький Поуль тоже торчал здесь. Ему исполнилось семь лет и на днях предстояло идти в школу, так что он старался не терять даром времени. Он проводил здесь целые дни, но ему казалось скучным стоять за изгородью и глазеть, и Поуль на второй же день перемахнул через нее. Вышло все очень просто: у кого-то из тех людей вырвало ветром бумажку, а мальчуган, только и ждавший предлога очутиться там, мигом перескочил через изгородь и поймал бумажку. А раз он попал туда, никому и в голову не приходило выгонять его.
Он старался быть полезным, бегал с рулеткой, носил за людьми вехи. Сэрине окликнула его с порога кухни, — он как будто и не слыхал. Наконец Дитте едва-едва дозвалась его не то затем, чтобы он поел, не то хотела послать куда-то — словом, Поуля разбранили.
— Посидишь в наказание дома, — заметила Дитте.
Сэрине промолчала, но не успели они обе оглянуться, как мальчишки и след простыл. Ничего с ним нельзя было поделать.
Взрослые робко сторонились чужих и наблюдали за ними издали — чаще всего из окошек и в дверные щели. Так вот они, копенгагенцы! И сюда добрались. Они сразу изменили весь ландшафт, даром что их было всего двое. И уж раз такие заберутся куда — их не выкуришь; «как клопы размножаются», — говорили про них люди. Добра от них вряд ли можно было ожидать.
Большому Кляусу, во всяком случае, не за что было благодарить новых людей. Не слишком-то хорошо жилось ему с тех пор, как он попал к трактирщику, но старые хозяева хоть не видели, как с ним обращались. Теперь же его мучили прямо на глазах у них. И просто сил ее хватало отойти от окна, когда воз со скрипом и тарахтением полз по песку, а возчик ругался, орал и хлестал конягу. Сестренка Эльза, видя это, плакала. А Дитте, распахнув окно, звала отца. Когда Ларс Петер был поблизости, он прибегал на помощь и подталкивал воз сзади. Иногда он ругал возчика — молодого работника, но этим лишь ухудшал дело.
Плохо, видно, приходилось Людоеду, коли он согласился продать песок и землю и возить чужое добро. Он больше привык тащить все к себе. Но проку от всего этого все же не получалось. Он не вылезал из долгов и чуть не каждый день ездил в город добывать деньги. Бегал он и по гавани и требовал от рыбаков, чтобы они усерднее ловили рыбу. Они обещали, но работали по-прежнему спустя рукава.
— Нам все равно пользы никакой, сколько ни старайся, — говорил Ларс Петер, — так чего же и рыбок пугать.
Трактирщик все еще не оправился после истории с женою. Может быть, это и выбило у него почву из-под ног. Ни в чем не было ему больше удачи. Во время весенних бурь он лишился некоторых снастей, а зимним льдом затерло и раздавило одну лодку. Все это были мелкие удары, но он и их снести не мог. Новой лодки так я не приобрел. Пришлось опять спустить на воду одну из старых, уже забракованных ранее.
Раз Людоед пришел с берега с двустволкой на плече, — ходил стрелять морских птиц. Его огромная голова вдруг показалась в верхней половинке кухонной двери. Дитте взвизгнула и невольно схватилась за рукав матери.
— Ну, теперь вдвоем тут толчетесь, друг дружке помогаете? — дружелюбно заметил он, бросая на кухонный стол связку дичи. — И Дитте по-прежнему взвизгивает, а ведь, кажется, пожила в чужих людях, где, как видно, ее отучили бояться щекотки. — Он проговорил все это со своей обычной холодной гримасой, скаля лошадиные зубы. — Да, да… а я было думал, что Дитте поможет выгружать кирпич. Там не хватает человека, она же так выросла и окрепла.
И он заковылял дальше, не дожидаясь ответа. Долго слышно было его свистящее дыхание.
Дитте вся побагровела от намека. Постояв с минуту, она вытащила из чуланчика под лестницей передник аз мешковины и медленно пошла к двери. В глазах ее застыл страх.
Сэрине обернулась. Медлительность девушки поразила ее. С минуту она глядела на дочь со своею обычною безучастностью, потом отняла у нее передник.
— Я пойду, — сказала она.
— Но ведь он мне велел, — робко возразила Дитте. Мать ничего больше не сказала, надела передник и пошла. Дитте проводила ее благодарным взглядом.
Да, на этот раз Дитте не обходила с торжественным видом своих друзей и знакомых в поселке, она вообще избегала выходить из дома. Ларс Петер с Сэрине решили поберечь ее от насмешливых взглядов: незачем ей проходить сквозь строй. Дитте оставалась дома и сняла с матери всю черную работу, что было совсем не лишнее. Сэрине стала такая слабосильная.
Из окошек Дитте было видно все: хижины, откуда выходили хозяйки — выплеснуть или выкинуть что-нибудь на песок, и снова скрывались в дверях; гавань, где работали мужчины, и бывшая сушильная площадка, возле которой теперь торчали ребятишки. На постройке работало несколько городских каменщиков. Помещались они на постоялом дворе и столовались в харчевне. Они были социалисты и отказались, как рассказывали люди, валяться на сеновале и хлебать из общей миски в людской трактирщика. Дитте с любопытством поглядывала на них. Через открытую половинку кухонной двери она слышала кашель матери и видела, как та снимает с воза кирпичи и складывает их в штабели. Тяжелая это была работа для Сэрине — только бы у нее сил хватило! Кляусу же доставалось больше всех, он не выходил из хомута целый день. Ему даже роздыха не давали, а сразу перепрягали из одной телеги в другую, пока первую разгружали. Возили на трех телегах.
Вот он опять застрял в глубокой колее, размытой весенним ручейком. Возчик так бил мерина кнутом, что эхо отдавалось от хижины Расмуса Ольсена; парень повернул кнут и бил кнутовищем, — конь чуть не распластывался, стараясь вытянуть воз, но воз не двигался, колеса глубоко увязли. Возчик забежал спереди и принялся стегать Кляуса по груди и по передним ногам, затем кинулся к возу, выхватил доску сиденья и ударил его по крестцу. Дитте забыла все на свете и с громким криком выбежала за угол дома.
Из гавани бежал Ларс Петер, громыхая деревянными башмаками.
— Перестань, живодер! — кричал он, потрясая кулаком в воздухе. Кляус рванул, и передние ноги его глубоко ушли в мокрый песок.
— Придержи воз, дьявол тебя побери! — ревел Ларс Петер, но было уже поздно. Воз навалился на круп лошади, оглобли затрещали. На минуту Ларс Петер вышел из себя, схватил возчика за горло и, казалось, готов был задушить его.
— Отец! — в ужасе завопила Дитте.
Ларс Петер выпустил парня и подошел к коняге. Большой Кляус лежал на боку и тяжело дышал. Передние ноги его глубоко увязли в песке, а воз наполовину придавил его. Прибежали люди, кто из гавани, кто с постройки, и помогли Ларсу Петеру спихнуть тяжесть с мерина и освободить его от упряжи. Ларс Петер разгреб песок.
— Вставай, старый товарищ, — сказал он, потянув за уздечку.
Кляус поднял голову и поглядел на старого хозяина, но опять повалился на бок, тяжело дыша. Передние ноги оказались сломанными.
— Придется его пристрелить, — сказал Ларс Петер. — Другого ничего не остается.
— Ах! Значит, у нас будет конина! — радостно закричали ребятишки из поселка, но дети из «богадельни» заплакали.
Пришел трактирщик и самолично пристрелил Кляуса. Потом его взвалили на телегу и повезли во двор трактирщика. Ларс Петер помог взвалить его и пошел за ним следом, — он хотел сам снять с Кляуса шкуру.
— Я в свое время не брезговал живодерством, так неужели же я не окажу Кляусу этой последней услуги? — сказал он в свое извинение Сэрине.
Она промолчала, как всегда, по, видимо, ничего против этого не имела.
В то же утро, когда делили конину, Сэрине немножко оживилась, против обыкновения. Она послала детей с большой корзиной.
— Постарайтесь получить хороший кусок, — сказана она. — Нам-то он ближе был, чем другим.
В этот день Ларсу Петеру подали к обеду тушеное мясо, чего он давно уже не едал.
— Удивительно, — сказал он, прожевывая кусок, — ведь какой он был дряхлый, замученный, а мясо все-таки превкусное. Просто прелесть! Ты бы поела хорошенько, мать; конина, говорят, очень полезна для слабогрудых… Да, другого такого чудесного коняги не сыскать!. Ешьте, ешьте детки, не каждый день у нас мясо на столе! — пошутил он.
Это был смех сквозь слезы.
Мальчики были, по обыкновению, голодны как волчата. Дитте теперь вообще стала капризна в еде, так что с нею нечего было считаться. Но Эльза, сколько ни жевала, никак проглотить не могла, такая дурочка! Мясо как будто все разбухало у нее во рту.
— Ужасно странно, — сказала она и вдруг разревелась.
II Снова дома
Сэрине стала совсем тихая и молча делала свое дело, сил у нее было немного. Она сильно кашляла и потела по ночам. Ларс Петер с Дитте уговорились, чтобы Сэрине ложилась в постель сразу после ужина. Она подчинялась неохотно, так как в разлуке научилась ценить семью и дом, и у нее всегда находилось много дела по хозяйству. Но ее нужно было беречь.
— Только бы у нее не оказалось чахотки, — сказал Ларс Петер однажды вечером, когда они уже отправили Сэрине спать в ее каморку, а сами сидели в комнате и беседовали. — Я так и вижу, как эта хворь гложет ее изнутри. Не заставить ли нам мать есть пареное льняное семя? Говорят, оно помогает от чахотки.
Дитте полагала, что не стоит пытаться.
— Мать ест так мало да к тому же ее часто тошнит. Верно, у нее с желудком неладно.
— А я все-таки думаю, что у нее болит грудь. Ведь как она кашляет! И в груди у нее так и хрипит и скрипит — ни дать ни взять лодка чертит днищем по песку. Это все от сырых стен в тюрьме. Она сама так думает. С них прямо вода капала иногда.
— Неужели мать рассказывала что-нибудь про свою жизнь там? — удивилась Дитте.
— Да она много-то и не рассказывала, — так, иной раз намекнет только. А большею частью ходит с таким видом, словно у ней в душе все погасло. — Ларс Петер вздохнул. — А ты как себя чувствуешь? — спросил он, беря Дитте за руку, лежавшую на столе.
Дитте пробормотала что-то невнятное, что можно было понять как угодно.
— И ты все-таки настаиваешь, чтобы я не ходил на хутор?.. Мне-то страсть бы хотелось по-свойски разделаться с этой развратной сволочью. Судом с них ничего не возьмешь, так хоть потешить себя, кишки им порастрясти, мужицкому отродью!
— Карл не развратный, — тихо сказала Дитте. — Он только слабый и несчастный.
— Не развратный… Скажи, пожалуйста! Пойти бы да… Ну, ладно. И такой шалопай считает себя набожным, бегает на «беседы»? Диво еще, как он тебя не обратил в свою веру!.. — Ларс Петер совсем было распалился, но лишь на минуту. — Ну, ладно, ладно! — сказал он уже добродушно. — Дело твое, сама и решай. Но не очень-то весело тебе в твоем положении. Не мешало бы им раскошелиться немножко, чтобы ты могла пристроиться где-нибудь пока.
— Они сами без денег сидят! Беднее нас! — сказала Дитте.
— Однако свадебные пиры задают, пьянствуют да жрут день и ночь. Начали с воскресенья, а сегодня у нас пятница. По дорогам проезду нет от пьяных барышников.
Ларс Петер был немножко обижен, что его на свадьбу не пригласили. Все-таки ведь женился-то родной брат его.
Да, невесело было и самой Дитте и ее домашним. Ларсу Петеру приходилось крепиться, и другим тоже. Ему начинали задавать вопросы рыбаки и особенно женщины: «Что же, Дитте всему уже научилась на хуторе? Куда же она теперь поступит?» — спрашивали они с самым невинным видом, но он хорошо понимал, куда они гнут. Вообще-то он был не из чувствительных, но от этого способен был расстроиться, ведь вся его радость и гордость была в детях.
Однажды маленький Поуль бурей влетел в кухню в одном башмаке.
— Мама, правда, что аист укусил Дитте за ногу и у нее скоро будет ребеночек?
Он еле, переводил дух, так он был взволнован, глупыш.
— Где твой другой башмак? — Сэрине сердито смотрела на него, чтобы отвлечь его внимание. Но он не дал запугать себя.
— Я его потерял там… Так правда?
— Кто это болтает такие глупости?
— Все ребятишки… Они дразнят меня и говорят, что у Дитте будет маленький!
— Так сиди дома, никто и не будет дразнить тебя.
— Значит, это правда?
Ему заткнули рот сладкой лепешкой. Он уселся на ступеньках чердачной лестницы и принялся жевать.
Дитте сидела в комнате и, низко склонясь над работой, чинила платье детей.
Вскоре пришла Эльза. В руках у нее был башмак Поуля. Ватага ребятишек стояла на дюнах и гикала. Видно было, что дразнили и ее. Глаза у нее были красные. Она молча прошла в комнату и, став у окна, начала оглядывать сестру.
— Чего ты глазеешь, девочка? — спросила наконец Дитте, покраснев, Эльза отвела глаза, вышла в кухню и принялась помогать матери. С тех пор Дитте постоянно чувствовала на себе пристальный взгляд сестренки и мучилась.
Но хуже всего было с Кристианом. Тот вовсе не смотрел на Дитте. Он большею частью бегал где-то, заглядывал домой только во время обеда, когда другие уже сидели за столом, протискивался на свое место и сидел с шапкой на коленях, готовый опять удрать. И никого ее удостаивал взглядом даже мельком, словно у него глаз не стало. Если кто заговаривал с ним и нельзя было промолчать, он отвечал грубо и отрывисто. Дитте это мучило. Кристиан был самый беспокойный из детей, поэтому она любила его больше всех. Он особенно нуждался в любви и ласке.
Однажды Дитте нашла его на чердаке. Он забился под самую крышу, на коленях у него лежало старое удилище с леской и он был как будто весь поглощен этими предметами. На щеках у него были видны следы слез.
— Чего ты тут сидишь? — спросила она, притворяясь удивленной.
— А тебе какое дело! — ответил он и ударил ей ногой под колено.
Дитте так и присела на ящик, вся съежившись, и, обхватив ногу руками, закачалась, жалобно приговаривая:
— Ох, Кристиан! Милый Кристиан!..
Кристиан ааметил, как она побледнела, и вылез из своего убежища.
— А вы не приставайте ко мне! — сказал он. — Что я вам сделал?
Он стоял и упрямо смотрел мимо нее, не зная, что делать, как быть.
— А мы-то разве что-нибудь сделали тебе? — спросила Дитте жалобно.
— Вы думаете, я глуп и ничего не вижу? Тут злишься, лезешь на других с кулаками… а это оказывается правда!
— Что правда? — спросила Дитте еще раз. Но тут же сдалась, вся поникла и закрыла лицо передником.
Кристиан беспомощно теребил ее за руки.
— Да не реви же, не надо, — просил он. — Так глупо вышло. Я вовсе не хотел ударить тебя… Мне только обидно стало.
— Не беда, — всхлипывала Дитте. — Бей меня сколько хочешь… Я лучшего и не стою.
Она попыталась улыбнуться и приподняться. Кристиан хотел помочь ей встать. Но взял ее только за рукав, точно боясь дотронуться до нее самой. То же самое замечала она теперь и в других детях. Они больше не льнули к ней, прямо как будто боялись ее тела. Словно им завладело что-то чужое, враждебное детям.
— О Кристиан… я не виновата, я ничего не могла поделать.
Она взяла его за обе щеки и глядела ему прямо в глаза.
— Я знаю, знаю, — сказал он, отворачивая лицо. — Я тебя ни в чем не упрекаю. Но поплатятся же они за это!
И он кинулся вниз по лестнице и выскочил из дому. Дитте видела в слуховое окно, как он побежал по дюнам к северо-востоку.
— А где же Кристиан? — спросил Ларс Петер за ужином. — Он должен был помочь мне вычерпать воду из лодки.
Никто не знал, где Кристиан. Дитте кое-что подозревала, но не посмела сказать. Не вернулся Кристиан и к ночи.
— Опять шляться начал, — уныло сказал Ларс Петер. — А я-то было радовался, что он вылечился от своей болезни. Он не бегал уже с год, а то и больше. Да вот с тех пор, как побывал у тебя на хуторе, Дитте.
На следующее утро Кристиана привел какой-то неизвестный человек. Сэрине была в кухне.
— Этот мальчик, наверно, ваш? — сказал парень, вталкивая Кристиана в кухонную дверь.
Ларс Петер спустился с чердака. Он только что вернулся с лова и собирался лечь спать.
— В чем дело? — спросил он, поглядывая то на того, то на другого.
— У нас ночью сгорел омет соломы, а утром я нашел вот его. Он прятался около хутора. Чистая случайность, что не сгорело больше, — говорил парень тихим, бесстрастным голосом.
Ларс Петер глупо таращил глаза, ничего не понимая.
— Что-то мудрено для меня… У вас сгорела солома… при чем же тут мальчишка? Он ведь не поджигатель, сколько мне известно.
Кристиан вызывающе смотрел на отца. «Вздуй меня, я не боюсь!» — говорил его взгляд.
— Все дело в том, что его винить не приходится, раз уж так вышло, — сказал парень.
Ларс Петер начал догадываться.
— Ты сын хозяйки Хутора на Холмах?
Парень кивнул.
— Да, тогда вы дешево отделались! — рассмеялся Ларс Петер нехорошим смехом. — Если бы вся ваша развалюха-усадьба обуглилась над вашими головами, и того вам было бы мало. Но мальчишка все-таки не уйдет от трепки. Марш в постель, сорванец! Да и с тобой мне бы хотелось поговорить кое о чем! — сказал Ларс Петер, накидывая на себя куртку.
— И я бы не прочь поговорить с тобой, — ответил Карл.
Ларс Петер оторопел. Такого ответа он не ожидал.
Они пошли по дороге.
— Ну, как же ты думаешь поступить с девушкой? — спросил Ларс Петер, когда они вышли из поселка.
— Это вам решать, — сказал Карл.
— То есть ты готов открыто признать себя отцом ребенка?
Карл кивнул.
— Я и не собирался отпираться, — сказал он, прямо глядя в глаза Ларсу Петеру.
— Во всяком случае это уже не плохо! — оживился Ларс Петер. — Стало быть, вы можете и пожениться, если на то пойдет?
— Мне всего девятнадцать лет, — сказал Карл. — Но мы могли бы обручиться.
— Так, понятно. Что же, и это чего-нибудь стоит.
Ларс Петер совсем остыл. Как ни подмывало его задать молодому Баккегору трепку, теперь уже не было предлога метать громы и молнии, — слишком далеко зашли их переговоры.
— Вот что я все-таки скажу тебе: ты поступил подло! — остановившись, воскликнул он. — Но другого, видно, не ждать бедным людям от вас, хуторян.
— Не говори так, — сказал Карл. — Я не вправе ни на кого смотреть сверху вниз. И мне никогда в голову не приходило причинять вам зло.
— Что ж, может быть.
Ларс Петер неожиданно для самого себя протянул Карлу руку. Он не умел долго сердиться. Настоящий кисляй он был, но что поделаешь!
— Ну, так прощай. Пожалуй, я еще услышу про тебя?
— Мне бы очень хотелось повидать Дитте, — нерешительно сказал Карл.
— Ах, вот чего тебе хочется! — рассмеялся Ларс Петер. — И это я должен тебе устроить? Нашел дурака! Нет, мы хоть и свиньи, а в грязи не валяемся.
Ларс Петер отошел на несколько шагов, но вернулся.
— Ты пойми меня. Ежели девушка захочет продолжать знакомство, то, по мне, сделайте одолжение. Но это ее дело решить.
И он отправился домой спать.
III Молодой Баккегор
Ларс Петер, вернувшись домой, хотел было поговорить с маленьким поджигателем, но тот уже исчез, — в окошко выпрыгнул.
Ларс Петер поднялся к себе на чердак и улегся, но не мог заснуть. Разговор с молодым Баккегором не особенно радовал его. Надо же было девчонке связаться с таким чудаком! Какой-то свихнувшийся! На минуту у Ларса Петера блеснула надежда, что Карл искупит свою вину и даст им возможность смотреть людям прямо в глаза, но Карл оказался даже несовершеннолетним, — стало быть, не смеет жениться без разрешения матери. Вряд ли в состоянии он и содержать себя сам, и за душой у него нет ровно ничего. Словом, положение незавидное! Ларс Петер никак не мог отвязаться от докучных мыслей. А снизу, из комнаты старухи Дориум, слышался неумолчный плач второго из близнецов.
— Бабушка все спит! О-о-о-о!.. Бабушка все спит! — вопил он, не переставая. Это было похоже на «Песнь великой беды»{10}.
Ларс Петер встал, прошел чердаком на лестницу соседнего жилья и спустился туда. Заплаканный ребенок сидел на постели старухи и жалобно тянул одно и то же. Старуха была мертвая. И, должно быть, умерла уже несколько часов тому назад, так как успела похолодеть, и крысы уже занялись ею. Похоже было, что мальчишка лежал на бабушкиной постели и плакал всю ночь. Но здешние жители так привыкли к детскому плачу в комнате Дориум, что как будто и не слышали его. Ларс Петер взял малыша и отнес к себе в кухню.
— Вот этому малышу некуда больше приткнуться, — сказал он. — Мать ведь совсем не показывается домой, а теперь и старуха померла. Как ты думаешь, найдется у нас для него кусочек хлеба и местечко в кровати?
Сэрине ничего не ответила, но взяла ребенка за руку и повела в комнату. Ларс Петер с благодарностью поглядел ей вслед.
— Пусть кто-нибудь из ребятишек сбегает к трактирщику сказать, что старуха умерла! — крикнул он и полез опять к себе на чердак. Наконец ему удалось заснуть.
Когда он около полудня проснулся и спустился вниз, Кристиан уже был дома. Он то и дело подвертывался отцу под руку, словно хотел поскорее расквитаться за то, что натворил. Отец заметил это, но сам не знал хорошенько, как лучше поступить с ним. В былые времена проступок мальчишки, безусловно, возмутил бы его. Теперь Ларс Петер рассматривал его проступок главным образом с точки зрения его рискованности. Но с этой стороны все было в порядке. Ларс Петер стал опытнее за последние годы. Раньше он относился ко всему спокойно, теперь же все, что приключалось с ним, волновало его и заставляло задумываться над бытием. Его жизнь была сплошной неудачей, и не по его вине. Он терял одно за другим: земля у него была, да сплыла, и деньги прошли между рук, и лошади больше нет. А Сэрине хоть и вернулась к нему, но в каком состоянии? Несмотря на стремление жить по чести и совести, в результате всех своих усилий и трудов он Стал гол как сокол. Да, его обобрали дочиста, несчастного простофилю. Он остался ни при чем. А беда, случившаяся с Дитте, доконала его. Так нечего ему великодушничать и жалеть добро и жизнь тех, кто разорял его. Особой благодарности к тем, кто стоял в обществе выше его, он никогда не питал. Причин не было воспитывать в себе такое чувство. Но он применялся к обстоятельствам и старался делать все к лучшему и для себя и для других. Теперь иногда он не прочь был показать им кулак. Сгори дотла Хутор на Холмах — он не заплакал бы, если бы за это не поплатился ни Кристиан, ни кто-либо из его семьи.
Через некоторое время молодой Баккегор опять появился в поселке — на этот раз, видимо, с целью остаться здесь. Стыда нет у некоторых людей! Он пришел на постоялый двор с узелком под мышкой, с заступом и мотыгой за плечами, искать работы.
— Пусть только сунется к нам на порог, полетит у меня кувырком, — пригрозил Ларс Петер.
Однажды утром Дитте подошла к окошку, чтобы открыть его, и видит — Карл возит в тачке землю в только что разбитый сад строящейся виллы. Девушка чуть не вскрикнула, — никто не говорил ей, что Карл здесь, и, наверное, она почувствовала прежний страх: при одном взгляде на Карла Дитте вспомнила все ужасы Хутора на Холмах. Он не был виноват, казался ей почти такою же беспомощной жертвой, как она сама, но она невольно связывала с Карлом все свои тяжелые переживания.
Стоя у окна, она не сводила с него глаз, следила за ним, прячась за цветущей геранью, чтобы он не заметил ее. Так странно было видеть его в поселке! Работал он здесь живее, чем дома, но вид у него был нерадостный.
«Карл пришел сюда ради меня», — подумала она и с каким-то новым чувством отошла от окна и принялась подметать пол. Это было чувство гордости. Значит, она уже не просто брошенная, опозоренная девушка; не один стыд достался ей в удел, но и торжество. В чем в сущности заключалось это торжество и что из этого могло выйти, — Дитте не отдавала себе отчета, с нее довольно было самого чувства.
Она не выходила из комнаты и наблюдала за Карлом.
«Что мне делать, если он зайдет поговорить?» — подумала она со страхом. Она ведь даже не любила его. Дитте достаточно было, что он пришел сюда; разговаривать с ним у нее не было никакой охоты.
Он, впрочем, и не взглянул ни разу в сторону их дома, занятый своим делом. В полдень он опрокинул тачку кверху дном, достал из узелка еду и уселся обедать. Тачка заменяла ему стол. Дитте, сидя за обеденным столом, видела, как он сидел там и жевал в одиночестве, и опять ее охватило странное чувство. Ведь это он из-за нее, из-за нее, бывшей работницы, накрывавшей ему на стол, стлавшей ему постель!.. Да, он был для нее даже больше, чем просто хозяином. Дитте смутно чувствовала, что у него есть какие-то права на нее, и ее так и тянуло выбежать и крикнуть: «Пожалуйста, Карл, садись с нами за стол!»
На следующий день он опять работал там, и так оно и шло. Говорили, что он взял на себя все земляные работы в саду новой виллы и поселился в сарае трактирщика. Он сам вел свое несложное хозяйство, стирал себе белье и питался всухомятку. Печально и одиноко жилось ему, должно быть. В дом к Дитте повидаться с нею он не заходил; у него ведь на все были свои особенные взгляды, а может быть, он опасался, что его выгонят. Однако по вечерам Карл бродил вокруг их хижины, как привидение. Дитте все еще не выходила из дому, страх перед людским судом держал ее взаперти, но она знала обо всем из отрывочных замечаний, оброненных братьями и сестрой. Они, видимо, знали Карла и все, что с ним было связано. И далеко обегали место его работы. Это, верно, Кристиан настроил их против Карла.
Лapc Петер сердился.
— Какого черта он добивается? — говорил он Сэрине. — Бродит тут в потемках, как привидение, и делает нас посмешищем для всего поселка. Чего ему нужно? Ведь уж, кажется, добился своего!
— Я думаю, он перебрался сюда не со злым умыслом. У него доброе на уме, — отвечала Сэрине.
Подкупало ли ее то, что он был сыном хуторянина, или вообще дух ее так уже ослабел, что она не могла сердиться ни на кого, но она, видимо, была настроена снисходительно.
— Доброе, говоришь? Ну, спасибо!.. он просто сумасшедший какой-то. Ведь будь он настоящим мужчиной… Но тогда бы, конечно, его поминай как авали! Нет, избави бог от него нашу девчонку! Да и она, насколько вижу, не больно-то от него без ума. Черт знает, как это ее угораздило связаться с таким!
Они сидели за ужином и ели вареную треску. Этим летом трудненько было выпросить что-нибудь в лавке у трактирщика, и приходилось все три раза в день есть рыбу. Но Сэрине удалось раздобыть кусочек копченого свиного сала. Она, так сказать, выкашляла его себе в лавке. Когда она, бывало, раскашляется по-настоящему, трактирщик поскорее сунет ей что-нибудь, лишь бы выпроводить ее за дверь. На этот раз он сунул ей кусочек шпика, и поэтому вареная треска, сдобренная копченым салом, показалась необыкновенно вкусной. Ужин вышел на славу.
Близнец — его имя было Расмус, но все звали его уменьшительным Ас, — сидел на коленях у Ларса Петера. Он был ведь самый младший; мать его так и не показывалась, вот он и ютился у них. И так славно было опять держать у себя на коленях малыша!
Ларсу Петеру сильно не хватало этого последние два года, — Поуль ведь воображал себя большим и стеснялся сидеть на коленях. Асу же это нравилось.
— Мамы нет дома! — повторял он, проглотив один кусок и поджидая другого. Что-то такое, видимо, осталось у него в памяти. Вообще же он чувствовал себя отлично. Ему шел четвертый год.
— Да вот твоя мама, — сказал Ларс Петер, показывая на Сэрине.
Но мальчик покачал головой, а Сэрине подложила им еще трески на тарелку. Это был ее ответ. Она вообще не расточала ласковых слов и нежностей, но заботилась о приемыше не меньше, чем о собственных детях.
— Она у нас добрая, наша мамочка, — сказал Ларс Петер, когда Сэрине на минуту вышла в кухню. — Ей только трудно высказать это.
Ему очень хотелось, чтобы дети любили Сэрине, и он пользовался каждым случаем указать им на ее хорошие стороны. С некоторым предубеждением против нее все еще приходилось считаться, хотя дети и полюбили ее по-своему, перестали относиться к ней с недоверием и слушались ее. Сэрине помогла беда, случившаяся с Дитте. Старшая сестра перестала быть для младших всем. Настоящей близости между матерью и детьми, однако, не было, да Сэрине и не старалась добиваться этого. Лучше всего она чувствовала себя, по-видимому, когда ее оставляли в покое; она как будто и не нуждалась ни в чьем обществе, даже в обществе Ларса Петера. «Она словно уже сказала прости всему на свете!» — часто с болью в душе думал Ларс Петер. Но вслух этого не говорил.
Они только что поужинали. Ларс Петер сидел, поглядывая на быстро темневшее море.
— Куда же это Кристиан девался? — спросил он, набивая себе трубку. Это означало, что он собирается пойти в гавань. В комнате Ларс Петер никогда не курил из-за Сэрине. В ту же минуту явился Кристиан. Швырнув шапку в угол, он протиснулся на свое место. Видно было, что он в боевом настроении.
— Отчего ты не приходишь вовремя? — упрекнула его Дитте. — Право, скоро совсем сладу не будет с этим мальчишкой!
Кристиан не ответил, уплетая за обе щеки. Но, утолив первый голод, он поднял голову.
— Там за пожарным сараем ждет кто-то, — сказал он, ни к кому не обращаясь. — Он просил меня сказать об этом кому-то… только так, чтобы никто не слыхал.
И он злорадно взглянул на Дитте.
— Черт побери! Он еще на ночные прогулки вызывает! — вспылил Ларс Петер. — Мало он горя причинил вам?
— Отец! — послышалось из полуотворенной двери каморки. Сэрине уже собиралась лечь в постель. В возгласе ее слышалось некоторое удивление.
— Да, черт побери, согласись сама… — начал было он, но осекся.
Дети навострили уши. Дитте пошла в кухню и накинула на себя платок.
— Пусть Эльза уберет со стола, — сказала она. — Я пройдусь немножко.
Голос ее дрожал. Ларс Петер вышел за нею в кухню.
— Я не хотел тебя обидеть, — сказал он вполголоса, — ты сама знаешь. Но будь я на твоем месте, я бы держался от него подальше… От него добра ждать нечего!
И он ласково положил ей руку на плечо.
— Я хочу поговорить с ним, — сказала Дитте, все еще сердито поблескивая глазами. — А вы можете думать, что хотите!.. Я полагаю, ему самому тошно, — прибавила она уже спокойнее.
— Вот такие-то всего лукавее! По старой бабьей поговорке: «берегись парня, который плачет!» Впрочем, делай, как по-твоему будет лучше. Я хотел только остеречь тебя.
Дитте вышла, когда смерклось. Как славно было опять подышать свежим воздухом после долгого сидения взаперти! Ей хотелось знать, что такое могло понадобиться от нее Карлу. Да и что ей самой нужно от него? Замуж за него ей не хочется — раз ведь свадьба может состояться лишь после того, как то совершится. Нет, тогда уж лучше поехать в столицу и поступить там в услужение. Там ее никто не знает, и жить там веселее. Очень ей нужно возиться здесь с таким плаксой!.. Но она была не прочь прогуляться с ним под руку по всему поселку — показать людям, что стоит ей захотеть, и у ее ребенка будет отец.
Карл стоял за углом пожарного сарая и ждал ее. Когда Дитте приблизилась, он поспешил выйти.
— Я узнал твои шаги, — радостно сказал он, беря ее за руку.
— Чего ты тут прячешься? — спросила она полусердито.
— Я не ради себя. Пусть все и каждый видят пути мои и знают, куда я иду.
Он говорил ровным, спокойным тоном. В нем уже не было той дрожи, от которой у Дитте начинало биться сердце, словно в предчувствии беды. Но по его походке я по всей осанке видно было, что на душе у него по-прежнему тяжело.
— Ну, и ради меня тебе незачем прятаться, — сказала Дитте и засмеялась горьким смехом. — Здесь все знают обо всем, и даже малые ребята кричат об этом. Если тебе что-нибудь нужно от меня, можешь прийти к нам днем.
— Я бы и сам хотел, — ответил Карл. — Но отец твой, кажется, терпеть меня не может.
— Ну, отца тебе нечего бояться, если у тебя честные намерения.
Так, разговаривая, они незаметно подвигались вперед, держась рядом, миновали хижины и свернули по дороге к постоялому двору. Был субботний вечер, и навстречу попадалась то одна, то другая женщина с покупками из лавки. Дитте громко здоровалась с ними; она не смущалась, что ее встречают идущей рядом с человеком, который был отцом ее ребенка.
— Можно мне зайти за тобой завтра утром? — спросил Карл умоляющим тоном и тихонько сунул свою руку в ее. — Мы могли бы пойти вместе в церковь.
У него было такое измученное лицо, и рука совсем холодная, — видно было, что ему очень недоставало человеческого участия. У Дитте сжалось сердце, и она не отдернула руку.
Но в церковь она не пойдет. Она вовсе не считает себя грешницей и не желает, чтобы люди сказали: «Поглядите на эту парочку кающихся!» — да еще, пожалуй, всхлипнули бы от умиления.
— А вот если ты хочешь прогуляться со мной по всему поселку и мимо постоялого двора, то… — Дитте напряженно ждала его ответа. — Но ты должен вести меня под руку, и я сама решу, как далеко мы пойдем… Может быть, до самого города!
Да, он должен признать ее перед всеми.
Карл улыбнулся:
— Мы пойдем, куда ты захочешь, и будем гулять, пока ты не устанешь. Но не поцелуешь ли ты меня ранок, как следует, — не из жалости, а ради меня самого?
— Не могу сказать, чтобы я была влюблена в тебя, но это, может быть, еще придет со временем, — сказала она и поцеловала его.
Губы его дрожали, и она поняла, как истосковался он по теплой, сердечной ласке.
— Невесело тебе живется, как видно, — невольно сказала она и подумала о домашней еде и прочем уюте. — Как ты коротаешь время один-одинешенек?
— О, я много думаю, — тихо ответил он.
— О чем же ты думаешь… обо мне? — шаловливо рассмеялась Дитте.
— Больше всего о ребенке. Так странно, что из моих бедствий вырастает новая человеческая жизнь. Неисповедимы пути божьи!..
Ну, опять затянул свою песню! И Дитте вспомнила, что ей пора домой. Когда они, подойдя к дому, стали прощаться, Карл сунул ей что-то в руку. Оказалась бумажка в десять крон.
— Не надо мне твоих денег! — сказала Дитте и протянула ему бумажку обратно.
Он держал деньги на ладони, совсем убитый.
— Тогда мне не для чего и работать! — проговорил он.
— Ну, если это для ребенка, то… Но ты не должен морить себя голодом, жалеть истратить на себя лишний грош, чтобы весь свой заработок отдавать нам! Я этого не хочу!
Она сама не знала, что говорит, от смущения голос ее звучал сердито.
И только лежа в кровати, с зажатой в руке бумажкой, она сообразила, что произошло. Теперь ей незачем больше мучить себя мыслями о том, что она объедает близких, или о том, где взять денег на роды. Теперь у нее есть кормилец. Карл перестал быть для нее обузой, — теперь она могла опереться на него. Это принесло большое облегчение, и она, свернувшись в постели калачиком, всплакнула еще разок о Карле.
IV Дитте греется на солнышке
Дитте с матерью были очень заняты, — старались воспользоваться временем, пока остальных нет дома, чтобы расставить в поясе юбку нарядного платья Дитте из полу-шерстянки. Это делалось уже второй раз, и все-таки юбка с трудом застегивалась.
— Ты придержи дыхание, — посоветовала Сэрине, сидя на стуле и стараясь стянуть юбку на Дитте, которая стояла к ней спиной, вся пунцовая. Силы у Сэрине было немного, но все-таки Дитте было больно.
— Ты, по крайней мере, на седьмом месяце, — сказала Сэрине, когда крючки наконец застегнулись.
Дитте накинула на голову большой платок, спрятала под него корзинку с крупной камбалой и быстро вышла.
У самых дверей она столкнулась с Кристианом. Он так бежал, что чуть не сшиб ее с ног.
— У нас будет пирушка! — крикнул он, врываясь в дом.
Дитте пошла вдоль стены дома, лавируя, чтобы не наступить на кучи отбросов у дверей своих соседей. Якоб Рулевой стоял носом к стене и ковырял ее. Он уже сколупнул почти всю штукатурку, и во многих местах выступали голые бревна.
— Ну, что же, скоро ты найдешь слово? — спросила Дитте. Это была ходячая острота.
Якоб предостерегающе поднял руку — нельзя мешать ему: он вот-вот найдет.
Дитте направилась к Пряничному домику. Солнце сияло, и со стороны строящейся виллы доносился стук топоров и пение. Домик, как всегда, казался заново выкрашенным; вокруг него было чисто прибрано, и бузина у колодца была вся покрыта красными ягодами. Дитте как будто очутилась в другом мире. Она еще не была здесь днем ни разу с тех пор, как вернулась домой. Заходила лишь вечерами помогать старикам по хозяйству.
Старушка не могла встать с постели от слабости.
— А, и ты на солнышко выглянула! — сказала она. — Я думала, ты гуляешь только при луне! Как же это так?
Дитте слегка отвернулась.
— Я принесла вам камбалу, — сказала она в смущении.
— Спасибо тебе, девочка. Как это мило со стороны твоего отца, что он не забывает нас, стариков. Но что случилось с тобой?
Она взяла Дитте за руку и, заставив ее повернуться лицом к себе, глядела на нее с улыбкой. Дитте пришлось присесть на краешек голубой кровати.
— Ну, рассказывай!
— Он перебрался сюда! — шепнула Дитте.
— А кто это он? Их много! — рассмеялась старушка.
— Карл Баккегор.
— Ах, так это сынок Баккегоров! Ты бы призналась мне раньше, — старик мой, пожалуй, и пособил бы тебе добиться своих прав. А теперь он сам пришел сюда? С согласия матери?
— Нет, мать его прокляла. Она злющая… сущий дьявол.
— Доброй ее, конечно, назвать нельзя, но она не по своей вине стала такой. Берегись осуждать кого-нибудь; все мы окажемся грешными, если начать судить и нас по всей строгости законов. Но, стало быть, ты теперь можешь повенчаться с ним, слава богу?
— Нет, он еще несовершеннолетний, да и я не знаю, захочу ли, — прошептала Дитте.
— Ты его не любишь? — с испугом поглядела на нее старушка. — Плохо же твое дело, хуже-то, кажется, и представить себе нельзя. — Она притянула девушку к себе и, гладя Дитте обеими руками по голове, продолжала: — Ах ты, бедняжка! Бедняжка!.. Как тебе, должно быть, тяжело было!..
Щеки старушки дрожали… как бывало у бабушки… в давнее время… И были такие же мягкие. Дитте совсем притихла под лаской дрожащих старческих рук. Давно ничьи руки не ласкали ее так нежно.
Наконец старушка мягко оттолкнула ее от себя и сказала:
— Выдвинь-ка и принеси мне сюда самый нижний ящик комода.
Ящик был поставлен на стул у кровати, и старушка принялась отбирать из старых простынь, скатертей и салфеток те, что стали от долгого употребления и стирки мягкими и тонкими, как шелк.
— Вот это годится для малютки, — сказала она, складывая все отобранное. — Оно поношено, но зато тем мягче. А вон тут погрубее — на бинты тебе. А еще две простыни с ажурной строчкой и нарядная наволочка. Отыщем для тебя и ночную рубашку, чтобы ты лежала после родов, как полагается родильнице, вся в белом и на белом. Непременно надо встречать своих новорожденных деток в белом, тогда из них вырастут хорошие люди.
Вещей набралась изрядная стопка. Дитте сидела и смотрела на них со слезами на глазах. Она готова была и плакать и смеяться. Роды вдруг представились ей так живо, показались такими близкими. Она словно уже видела себя самое на постели родильницы, с ребенком в объятиях. Оба лежали во всем белом — и она сама и дитя. На ночной рубашке были восхитительно сплоенные оборочки у ворота и кистей рук, и белые фестоны наволочки красиво обрамляли лица ее и младенца…
— Ну, вот, — сказала старушка, и Дитте очнулась. — Пусть это побудет здесь, пока Кристиан забежит и возьмет. Не годится тебе самой таскать. А теперь выдвинь-ка и второй снизу ящик.
Он был набит чудесными старинными вещами, чепчиками и вышитым бельем. Все было уложено так красиво и аккуратно, все пересыпано лавандой.
— Смотри, Дитте, — старушка вынула и показала ей платок из голландского полотна, обшитый кружевами. — Это мой подвенечный носовой платок. Я утирала им слезы… но не слезы горя. Видишь на нем красноватые ржавчинки? Это от слез радости. Он только один раз и был в употреблении, я спрятала его на память — еще не высохший от слез. Им и прикройте мне лицо, когда я буду лежать в гробу. Ты ведь поможешь моему старику обрядить меня? А вот моя подвенечная фата. Она будет мне саваном. Да, у вас это больше не в обычае. Но мы в молодости, коли уж выбирали, так на всю жизнь. Оттого я и любила молодежь, которая посерьезнее… Говорят, один из молодых Баккегоров льнет к «святым»?
— Это Карл, — ответила Дитте. — Он так мрачно смотрит на все мирское.
— А разве лучше было бы, если бы он относился ко всему легкомысленно? Ты вспомни, из какой он семьи. Он сделал не худший выбор, мать его в молодости другим путем спасалась от тоски.
— Так вы знали ее в молодости? — спросила Дитте.
— Да, и она была славной девушкой. Наш хутор находился в тех же краях, и Карен часто гостила у нас. Был у нее и жених. Но родители заставили ее выйти за другого, который им больше нравился, вот что исковеркало ее душу. Она, как только вернулась из церкви, сожгла венчальную фату и всю ночь просидела на своем сундуке… ни за что не хотела ложиться в постель. Но потом ее все-таки уломали… А теперь ступай с богом, дитя мое… мне хочется немножко отдохнуть, пока старичок на берегу. Ты, наверное, слышала, что трактирщик затевает пир?
Да, Дитте слышала, но не поверила этому. У него же ничего нет в лавке!
— Да, дела у него плохи, но тогда это тем вероятнее. Он всегда ведь поступает иначе, чем другие люди.
Дитте пошла домой не прямой дорогой, а мимо виллы. Здание уже подвели под крышу и теперь отделывали внутри. Столичные мастеровые усердно стучали топорами и молотками, напевая и насвистывая. Дитте это поразило; ни здесь в поселке, ни на хуторе не в обычае было распевать за работой. В саду уже было все сделано, и Карл работал теперь на посадках деревьев в дюнах.
Вдова Ларса Йенсена вышла на порог своей хижины и подозвала Дитте.
— Как приятно видеть тебя опять на людях. Поздравляю! — сказала она.
Дитте поняла, на что та намекает, и поблагодарила. Пусть себе люди думают, что она помолвлена.
Скоро здесь будут танцы, ты знаешь? — продолжала вдова Ларса Йенсена и невольно окинула взглядом фигуру Дитте. — Да, да, трактирщик хочет устроить нам в этом году пир, и я слышала, что будет сделан и помост для танцев. Диво да и только! Он ведь всегда был против танцев. И отменил у нас восемь лет тому назад ежегодные осенние пирушки именно под тем предлогом, что молодежь слишком привержена к танцам. Но мы, стало быть, отпразднуем твое обручение!
Дитте пошла дальше, до самой гавани. Не совсем приятно было идти одной. Все встречные оглядывали ее фигуру. Вот если бы идти под руку с Карлом!.. Для своего маленького роста она стала чересчур грузна и двигалась с трудом, и под этими пристальными взглядами походка ее становилась еще менее уверенной. С лица же Дитте очень похудела, особенно нос как-то вытянулся и заострился, а вокруг него выступили веснушки. Дитте встречала взгляды людей покорной улыбкой, которая не сходила с ее лица, и как бы заранее просила о прощении. И люди подходили к ней и поздравляли. Она замечала, что ее делами интересуются, что люди переменили свое мнение о ней и стали лучше относиться.
Когда Дитте отходила от них, люди смотрели ей вслед и оживленно разговаривали. Они уже знали, что молодой Баккегор признал свою связь с ней и готов был жениться на ней. Правда, они немножко поспешили… ну, что же! Невеста — наполовину жена! Вдобавок он из семьи хуторян! И, стало быть, есть же в девчонке что-то такое, чего другие не видят, раз он голову из-за нее потерял!.. Не то повернул бы оглобли назад. Должно быть, он разглядел в ней то, чего другим не видно, иначе бы не сходил по ней с ума. Впрочем, она славная девушка!..
Ларс Петер сдался последним. И дольше всех утверждал, что Карл полоумный.
— Иначе, я полагаю, он не стал бы так добиваться позволения содержать ее с ребенком. Сынки хуторян всегда норовят увильнуть от этого. Нет, что ни говорите, а у него в кадушке не все клепки в порядке!.. Впрочем, предан он Дитте, как собака, и ходит за нею следом. Да и не жалеет себя, усердный работник. Так что если он и не слишком богат умом… то у Дитте ума хватит на двоих!..
А уж если Ларс Петер стал так говорить, ему недолго было и совсем сдаться. Отсюда же всего один шаг оставался до того, чтобы пожалеть Карла.
— Все-то он один да один и горячего никогда не похлебает, — заметил однажды Ларс Петер. — И какой же это ночлег — в сарае? Одна жалость… Нельзя ли устроить так, чтобы он столовался у нас и спал на чердаке? По крайней мере, он хоть что-нибудь имел бы на свои деньги. Ведь он весь свой заработок сюда тащит!
Устроить это оказалось, впрочем, не так просто. Ларс Петер сам спал на чердаке, и места там было мало, — чердак был загроможден старыми снастями и прочею рухлядью. Но над конурой старухи Дориум тоже был чердак. В самой же конуре никто не хотел поселиться, и Ларс Петер придумал устроить в ней свинарник. Купить поросенка и откормить к зиме на сало! Отбросов на прокорм здесь хватит, и трактирщик стал не такой, как прежде, за всем теперь не углядит!
И вот Карл был принят в семью.
V Пир
Было такое чудесное осеннее утро, что лучше и пожелать нельзя, утро, предвещавшее прекрасный день. Над морем колыхался белый туман, — чтобы развеять его, было достаточно первых лучей солнца и легкого утреннего ветерка.
В поселке все поднялись с зарей. Детям не спалось: день обещал быть очень интересным. Первые же проблески света разбудили их, и они открыли глаза. А тогда уж и матерям стало не до сна, волей-неволей надо было следовать примеру потомства и вставать. Да было и не так уж рано: лодки сегодня возвратились раньше обыкновенного. Из тумана доносился глухой стук весел о борта лодок, стало быть, рыбаки могли причалить к берегу прежде, чем хозяйки разведут огонь и сварят кофе. А худшего срама для жены рыбака в поселке и быть не могло, как если муж вернется домой с ночного лова да не найдет горячего завтрака.
Вот и солнце брызнуло на дюны, прогоняя туман. Он свертывался, словно белая пелена, все более и более открывая ландшафт. Сначала вынырнули хижины; из всех труб вился сизый дымок. Только дочка Якоба Рулевого по прозвищу «Фонарный столб» не разводила еще огня под кофейным котелком. Она жила за хозяйку у одного рыбака, занимавшего самую северную из хижин поселка, и ей трудно было расстаться с теплой периной.
Затем выплыла из тумана и гавань и две-три лодки чуть подальше. А там открылось и все море, раскинувшееся до самого горизонта чудесной светло-синей атласной тканью, краше которой и представить себе нельзя.
Трактирщик уже направлялся в гавань. Верно, хотел узнать, как идет в этом году сельдь. Сегодня ведь была как раз первая ночь осеннего лова. Его сильно осунувшееся лицо посинело от утреннего холодка; могучие челюсти были крепко и скорбно сжаты, словно он старался подавить свое горе. Днем у него было достаточно хлопот и тревог, слишком даже много, чтобы кто-нибудь мог разобраться в них, а дочка Расмуса Ольсена, Марта, умела отравить ночи даже Людоеду.
Итак, это был не простой, обыкновенный день, но день осенней пирушки, когда не только не работают и не ссорятся из-за куска хлеба, но даже не стряпают, а лишь едят, пьют, кутят и болтают, пока не успокоятся в лоне ночи и дюн. Взрослые знали, что это за день и чего можно ожидать от него. Осенняя пирушка с тех самых пор, как помнили себя самые древние из стариков, являлась днем великого расчета, воздаянием за 304 сырых дня; это были сутки, которые люди проводили в стране с молочными реками и кисельными берегами, где никто не знает ни горя, ни нужды, ест и пьет до отвала. О том, насколько удалась пирушка, судили по количеству мужчин, провалявшихся всю ночь в дюнах, и по количеству женщин и детей, заболевших расстройством желудка на следующий день. Когда-то это был благодарственный праздник, отмечавший удачный осенний лов, но, наученные опытом не полагаться ни на что, люди стали праздновать самое начало лова. Лишь бы отпировать, а там будь что будет! Даже сам господь бог, как и трактирщик при всей его скупости, не мог отнять у человека уже проглоченные куски и напитки!
Дети Ларса Петера и понятия не имели, что это за праздник. Трактирщик отменил его еще за год до переезда семьи в поселок. Тем большего ожидали они от праздника.
И томились же они в это утро! Время как-то особенно долго тянулось. Напряженное ожидание вселяло в них тревогу и заставляло их браться то за одно, то за другое занятие и тут же оставлять его. Постепенно все ребятишки очутились на месте празднества, где мастеровые из виллы сооружали помост для танцев и сколачивали длинные столы из необструганных досок. Местом служила плоская, поросшая травой прогалина между дюнами. На одном конце помоста воздвигнуто было небольшое возвышение, обвитое ельником. Оттуда собирался проповедовать трактирщик, и там же должны были расположиться музыканты.
Мужчины томились не меньше детей. Раньше двух часов дня неудобно являться на праздник, а до этого времени было еще далеко. Расмус Ольсен бродил около своей хижины. Он был в синих, толстого сукна, матросских штанах, передний клапан с одного бока был расстегнут. Он ходил и почесывался, жевал свою жвачку и плевал в стену. И все остальные рыбаки топтались около своих хижин и зевали с сонным видом. Но разве до сна теперь было? К тому же в эту ночь не полагалось выезжать на лов, стало быть, хватит времени отоспаться.
Женщины, то есть большинство их, с утра были заняты на постоялом дворе, — они помогали печь сдобные булки, разливать пиво и водку и резать закуску. Закусок заготовлены были целые горы, всех сортов. Диво да и только! Откуда что взялось у трактирщика. Хлеб и сало, и всякого рода закуски. Право, тут наготовлено было еды на целый год. Трактирщик сам всем распоряжался — вместе с Мартой. Она вела у него хозяйство после смерти его жены и вообще, видно, заменила ее в доме. Во всяком случае, они цапались и грызлись между собою, как позволительно только мужу с женой.
Когда пробило два часа, все жители поселка собрались на место празднества. Они держались отдельными группами в ожидании приглашения и чувствовали себя как-то неловко. Праздничная одежда, редко надеваемая, сдерживала порывы и напоминала о благопристойном поведении. Если кто из малышей пробирался на площадку, его призывали к порядку. Ларс Петер с детьми держался несколько поодаль.
— Никогда не следует лезть вперед! — поучительно говорил он, удерживая детей. Сэрине с ними не было, — ей нездоровилось, и она легла в постель, а Дитте помогала готовить угощение. Она хлопотала вместе с другими женщинами у стола с закусками и, видимо, была очень довольна. Все остальные жители поселка, кроме четы из Пряничного домика, были здесь налицо. Старушка поправилась, но старички никогда не принимали участия ни в каких празднествах. Зато даже конфирмованные дети обитателей поселка, жившие где-нибудь в услужении, отпросились на этот день домой, чтобы попировать.
Да что там! Явился на праздник даже старый рыбак Ляу, пролежавший весь последний год в постели; его принесли на руках и положили пока что на траву. Он похож был на печеный картофель, — так скрючил его ревматизм. Был тут и Якоб Рулевой со своим ружьем.
Что-то долго не звали к столу. Трактирщик заставлял людей ждать! Наконец с постоялого двора прибежал посланный и сказал что-то Марте. Она подходила к собравшимся и говорила:
— Прошу всех закусить!
Непривычно было сидеть за столом под открытым небом — всем поселком. С того конца стола, где сидел Ларс Петер с детьми, открывался вид на весь длинный стол с горами кренделей и сладких булок, и видно было, как женщины суетились с кофейниками, наливая всем поочередно.
— Нам дадут кофе последним! — шепнула Эльза.
— Дойдет и до нас черед! — успокаивал детей Ларс Петер. — Терпение!..
Но вот Дитте заметила, что у них еще ничего нет, и поспешила к ним с кофейником.
— Вы взгляните на Якоба Рулевого, — шепнула она, наливая отцу кофе.
Якоб Рулевой пододвинул к себе целую груду сладких булок и пожирал их по-собачьи, хватая одним краем рта, и рычал, если кто хотел взять из той же груды. Ружье было зажато у него между колен. Старика Ляу тоже усадили на стул.
Собралось по меньшей мере до сотни людей, а накрыто было еще на большее число. Весь противоположный край стола остался пустым. За ним виднелся костер, над которым висел на треножнике огромный медный котел. Кофе варила жена Расмуса Ольсена. Она стояла возле котла и не сводила с него глаз, ничем не отвлекаясь и держа в руках большой черпак с молотым кофе, чуть ли не целый фунт. И как только вода закипела, она уверенной рукой всыпала кофе в котел. Кофе опустилось на дно, вода перестала кипеть на минуту, затем снова закипела, и тут надо было ловить момент: мадам Ольсен с быстротой молнии бросила в котел кожу с трех крупных камбал, сдвинула котел с огня и выпрямила спину. «Ну вот и готово!» — сказала она. Никто в поселке не умел так варить праздничный кофе, как она.
После двух-трех первых чашек кофе с булками захотелось поработать языком. Мужчины начали переговариваться между собой.
— Ну, Ларс Петер, семья-то у тебя скоро прибавится? — спросил Расмус Ольсен.
— Да, легче становится, как сказала баба, потеряв штаны! — отшутился Ларс Петер.
Поднялся общий смех и говор. Заговорили о погоде — какая стоит сегодня и какая была в день праздника восемь лет тому назад. Мужчины один за другим перешагнули через скамьи и собрались у середины стола, где сидел Якоб Рулевой, пожирая булки. А ему того и надо было. Где только еда, там ему и хорошо! На столе с закусками стояло целых пять ящиков с сигарами. Уж не собираются ли бабы сами выкурить их? Ага! Марта догадалась-таки и стала обносить гостей. «Берите по две!» — говорила она, обходя весь круг. Жира у Марты во всяком случае не прибавилось — пока!.. А ведь когда-нибудь все добро перейдет к ней.
По случаю праздника надо было предпринять что-нибудь особенное, и вот мужчины толпой побрели в гавань — прогуляться, пока женщины накроют к ужину. У пожарного сарая они встретили трактирщика, он шел с какими-то людьми, с виду похожими на начальство. Уж не явились ли они описать его имущество? Во всяком случае вид у Людоеда был невеселый. И он не пожелал, чтобы рыбаки шли в гавань.
— Пройдитесь-ка лучше туда, подальше, на новые посадки, чтобы нагулять себе аппетит к ужину, — сказал он мимоходом.
Все постояли немножко в раздумье, потом свернули в дюны, чтобы вздремнуть там. Идти гулять куда-то в сторону от моря им вообще в голову прийти не могло.
Из-за прибытия незваных гостей возвышение пустовало. Предполагалось ведь, что трактирщик устроит между двумя трапезами религиозную беседу с проповедью и пением псалмов. Но он так и не показался во время перерыва, да не пришел и к началу настоящего пира.
Явились и мастеровые, строившие виллу. Эти сразу внесли оживление.
— Давайте мы все, долговязые ребята, усядемся на одном конце стола, — предложили они рыбакам, — не то бутылки высохнут, отыскивая нас за столом.
Все начали пересаживаться, и дело не обошлось без равных шуток. Копенгагенцы непременно хотели посадить одного из своих товарищей среди детей, — по их уверениям, он еще не отвык от соски. Он и уселся с детьми, но захватил с собой бутыль с водкой и то прижимал ев к себе, то размахивал ею, к великой потехе детей и женщин. Кончилось тем, что товарищам пришлось упрашивать его вернуться к ним.
Теперь и женщины сидели за столом, и это еще больше оживило праздник. Они так и покатывались со смеху над шутками копенгагенцев. Большинство рыбаков и ее подозревало до нынешнего дня, сколько жизни и веселья в их женах, с которыми их связала судьба. Они весело смеялись, когда рабочие начинали острить, и сами за словом в карман не лезли. Копенгагенцы сразу придумали всему смешные прозвища. Самое большое блюдо с бутербродами назвали Амагером{11}, колбасу-рулет — проселком в Роскильде{12}; выпить рюмочку называлось у них «согнуть локоток». Рыбаков величали они «водоглотами».
— Ой, водоглот, не помянуть ли нам про себя нашу прабабушку! — говорили они, желая чокнуться с кем-нибудь из рыбаков. Те не мастера были отшучиваться. Один Ларс Петер мог постоять за себя, — недаром же он был из рода угольщиков. Когда копенгагенцы назвали его водоглотом, он называл их пивоглотами, и это имело успех. Они действительно повыпили за лето немало пивца в трактире! Сам Ларс Петер веселился от души; раскаты его громового смеха разносились над всем столом. Да, уж вот вышел праздник так праздник! Весь стол заставлен был блюдами со всевозможными бутербродами, пива и водки было тоже вволю. И заходящее солнце играло на стекле бутылок и стаканов, зажигало искры в глазах раскрасневшихся гостей.
Трактирщик появился, когда веселье было в полном разгаре. Увидев его, все мигом притихли, даже копенгагенцы. Он неожиданно очутился на помосте и оглядывал оттуда всех; никто и не заметил, как он туда пробрался. Над барьером чуть-чуть выдавались широкие плечи, вдавленная в них огромная голова медленно поворачивалась по сторонам, — он был похож на какую-то диковинную заморскую птицу.
— Ну, вы, кажется, довольны? — сказал он со своей холодной лошадиной улыбкой-гримасой. — Да вы не стесняйтесь, пожалуйста! Я вас надул, не сказал проповедь после обеда, так вот скажу теперь несколько слов, благо, вы все тут в сборе. На беседы вас не заманить было; и не приходится упрекать вас за это, вам казалось, наверное, что дома спится слаще. А «кто спит, тот не грешит». Но теперь я держу вас крепко — коли не едой, так бутылками. Сегодня вы не удерете от слова божьего!
Конечно, слово божье уместнее в устах слуги божьего, а я кажусь вам скорее самим сатаной. «Вон полоумный Якоб целится в него из ружья, а он и не дрогнет! Неспроста это!» — говорили вы. Но позвольте мне признаться вам, что из ружья Якоба нельзя никого застрелить, — оно без замка. Я сам продал ему это ружье, когда узнал, что он собирается застрелить меня. «Почему бы не заработать и на этом, как на всем прочем?» — подумал я и сбыл ему негодное ружье. Вот вам весь секрет. Нет, я знаю другую историю про ружье и про сатану. Раз я пошел уток стрелять и встретил самого лукавого с рогами на лбу и пламенем в ноздрях… Это не то, что жалкий калека — Людоед!.. Ну, вы полагаете, он хотел утащить меня в ад? И не подумал… Он завел разговор о том о сем… Спрашивал, когда можно будет забрать того или другого из вас… «А это что у тебя?» — спросил он про мою двустволку. «Это, — говорю, — трубка для табака». Ему захотелось попробовать покурить из нее, а я велел ему разинуть пасть над обоими стволами, да и пальнул. Но лукавый только чихнул и сказал: «Крепкий же у тебя табак!» Вот это называется «по-сатанински» — не дрогнуть под дулом ружья!.. А Якоб отдал мне за ружье свои последние гроши. И если уж называть меня сатаной, так скорее за то, что я тогда взял денежки, глазом не моргнув!
Но разве вы вообще когда-нибудь видели, чтобы Людоед перед кем-нибудь дрогнул? Вы видели, как он отнимает у вас хлеб одной рукой и раздает его вам же другою; но вы запоминали лишь первое и забывали о втором. Да так, видно, и следовало. Пусть бы не совался к нам, думали вы, чего ему нужно от нас?.. Да, чего мне было нужно от вас?
Я хотел заработать на вас и делал это по мере сил, во имя долга человека извлекать пользу изо всего, что у него под руками, и покорять себе землю! Вам это не нравилось, но вы думаете, лошади нравится возить, а барану хочется быть обстриженным? Есть-то вы все хотите, а отрабатывать за еду никто не желает.
Да, но мы-то люди, думаете вы, или, может быть, нет? Пожалуй, что нет. Так можете ли вы требовать, чтобы другие считали вас людьми? Говорят: человек создан по образу и подобию божию… Вот я, например? Я думаю, господь бог отказался бы признать меня своим портретом… А! Вам смешно! Но если вы созданы по образу и подобию божию, то тем оно, пожалуй, выходит хуже — для него!
Да, да, хорохорьтесь! Если бы я не знал, что это водка поднимает вас на дыбы, я бы, пожалуй, почувствовал уважение к вам.
Не прогневайтесь и выслушайте от меня на прощание еще одно. Господь бог, создавая вас, сделал ошибочку. И если вдунул в вас дух живой, то во всяком случае не с того конца, иначе вы бы не были такими лентяями. Вы иногда почесывали то место, где вам натер хомут, но миритесь с ним, стало быть, вы лучшего и не стоите. Да разве вы недовольны были своим рабством? Удобнее, чтобы вас кормили жеваным, чем разжевывать самим. И я разжевывал за вас всех, оттого и сохранил свои зубы. А вы? Ни один из вас не в состоянии укусить. Я часто думал: как это они мирятся со всем… как не прогонят меня в три шеи? Но вы готовы лизать пинающий вас сапог!.. Среди вас нет ни одного мужчины. Один Ларс Петер мог бы… Но он слишком мягок. Им можно вертеть, как хочешь, только растрогай его.
А теперь спасибо вам всем!.. Мы, кажется, квиты. Мне было тем труднее, чем легче вы сдавались. Не всякий сумеет править парой лошадей, а кто правит, не должен выпускать вожжей из рук; вы же, когда вас запрягут, плететесь, хоть и лениво, всю жизнь смирнехонько. Вы — самый покладистый рабочий скот, на вас палка от метлы, и та верхом поедет. Но вы не спешите, тянете свою лямку с прохладцей. Вот чем вы сильнее — вы одолели меня своею вялостью, сонливостью. Теперь и я хочу отдохнуть. Будьте здоровы все!..
После его ухода они еще посидели, хлопая глазами.
— Задал же он нам головомойку! — вдруг сказал Ларс Петер. — Здорово отчитал!
Это замечание разрядило атмосферу.
— Да, он вас ловко обработал, — сказали копенгагенцы. — Ну, и зубаст же он!
Солнце почти село. Ждали только музыкантов, чтобы пуститься в пляс. Карл пришел с работы и под руку с Дитте прогуливался около площадки. Стала собираться молодежь с окрестных хуторов — поплясать. Ларс Петер неожиданно встретил Сине.
— А ты еще не утратила своего румянца, — радостно сказал он. — Вот с кем бы я поплясал!..
Молодежь не вытерпела и послала на постоялый двор за музыкантом. Посланный не вернулся. Отправили второго. Наконец с той стороны показался один из подростков. Он бежал бегом и кричал, задыхаясь?
— Танцев не будет! Трактирщик застрелился! Он сунул себе в рот оба ствола и спустил курок большим пальцем ноги. Мозги так и брызнули в потолок!..
Раздался короткий резкий крик. Ларс Петер узнал голос и пустился бегом на помощь. Дитте лежала на траве, корчась в муках, испуская стоны. Над нею наклонился Карл. Ларс Петер поднял ее и на руках понес домой.
VI Новая жизнь
Дитте лежала на постели, полузакрыв глаза, и жалобно стонала. Вокруг нее бегали и суетились. Время от времени она ощущала на лбу холодную и потную, дрожащую руку Карла.
— Поди лучше к матери, — шептала она и снова посылала в тишину летней ночи протяжный вопль.
И зачем здесь так бегают и топочут… зачем мучат ее?.. Сквозь полузакрытые веки она видела все, что делалось в комнате. Женщины бегали взад и вперед, хватали то одно, то другое… и так громко топали! Бедная мать… не дают ей покоя. Но, может быть, Карл сидит около нее. Как глупо, что он все лез сюда, в комнату роженицы, на посмешище всем. Ему бы не отходить от матери, держать ее за руку и следить, чтобы она вдруг не погасла, как свечка… «О-о-о!» — Дитте кричала, широко разинув рот. Но сама не слыхала своих криков, хотя явственно различала все прочие звуки. Кто-то пробежал мимо дома в деревянных башмаках, кто-то принес в комнату кресло. Это было «родильное кресло» поселка. Дитте хорошо его знала, — оно всегда стояло у вдовы Ларса Йенсена. Кресло было с очень широким и коротким сиденьем, низенькое; дети принимали его за скамью. «Да, это скамья пыток», — говорила вдова Ларса Йенсена. Она всегда присутствовала при всех родах, хотя у ней самой никогда детей не было. Где находилась эта скамья, там можно было найти и ее. Вот ее голос раздался над ухом Дитте:
— Пойдем, девушка, и постараемся поскорее освободиться.
И они потащили ее и посадили в кресло. Ноги Дитте уперлись в поперечную перекладину, колени были раздвинуты так, что упирались в поручни кресла. Женщины придерживали ей колени, а вдова Ларса Йенсена, стоя позади нее, давила на поясницу.
— Понатужься, — говорила она.
И Дитте тужилась с пронзительным визгом.
— Вот хорошо, — говорили женщины, смеясь. — Пожалуй, даже на Хуторе на Холмах слышно.
Дитте, к удивлению своему, несмотря на потуги, явственно расслышала, как пробило два на маленьких стенных часах. А к чему женщины упомянули про хутор?..
— Ну-ка, еще разок! — говорила вдова Ларса Йенсена, и Дитте кричала, как по команде. Но зачем ее так мучат? Что она им сделала? Она взывала к небу, стонала и жаловалась, истерзанная невыносимыми муками.
— Да, вот она, кислая отрыжка после сладкого греха, — смеялись женщины.
— О-о-о! Нет, нет!
Какой такой сладкий грех? Дитте его и не знала. Она всегда только исполняла свой долг, только долг. И вот ее карают за это адскими муками, рвут ее внутренности раскаленными щипцами и все крепче прикручивают к ложу пыток, а когда она скрежещет зубами и воет, как дикий зверь, они смеются и говорят: еще, еще!.. Словно тысячи бесов принялись за нее… из глаз искры сыплются!.. И вдруг все прекратилось. Слышится монотонный голос Карла, сидящего в каморке около матери, он говорит о жизни здесь и жизни загробной. И Дитте радостно думает: как хорошо, что он живет у них, теперь матери есть с кем поговорить, есть человек, который понимает ее. И мать как будто все дальше и дальше отходит от них, держась за его руку… Но глаза ее словно видят что-то прекрасное, в них зажегся свет. Это Карл зажег его!..
И снова боли схватывают Дитте. Все рушится вокруг; Как жерновами размалывают ее обломки погибшего мира… она раздавлена…
— Ну, вот и младенец! — слышится чей-то голос.
Раздается плач ребенка, и Дитте тихо погружается в бездну.
Когда Дитте очнулась, ярко светило солнце, и она лежала в белой постели, на простынях с ажурной строчкой, в рубашке с плоеными оборочками вокруг ворота и на запястьях. Золотистые волосы распущены, одна из женщин только что пригладила их и еще стоит со щеткой в руках, говоря:
— А ведь у девчонки волосы-то красивые. Я и не знала, — их совсем не видно, когда они заплетены.
Фестоны наволочки окружают ореолом голову Дитте, а рядом с ней лежит живой сверточек… маленькое красненькое созданье. Она равнодушно глядит на него, но Карл стоит у кровати и плачет от радости, как дурак.
— Ты жива! — говорит он.
— Ну, конечно, жива, с какой стати ей помирать!
Бурей влетает Ларс Петер. Он бегал на постоялый двор упрашивать, чтобы они держали наготове запряженную лошадь. Дело шло ведь о жизни или смерти.
Он берет у Дитте младенца и поднимает его к свету, говоря растроганно:
— Что за чудесный человеческий росточек!.. Отдай-ка его мне!
Тут только уразумела Дитте, что у нее родился настоящий живой ребеночек, и она протянула руки к младенцу.
VII Да, почему же девчонка не выходит замуж?
Дитте, с ребенком на руках, постояла в дверях «богадельни», щурясь на свет и словно раздумывая, затем осмелилась переступить порог и направилась к домику старичков. Из всех хижин начали выглядывать женщины. А, вот она опять!.. Да, им в сущности все нипочем — таким вот, которые приживают незаконных ребят! Другая постаралась бы, по крайней мере, не лезть людям на глаза, пока не побывает в церкви и не очистится перед алтарем от своего греха и всякой скверны. Но живодерова семейка выше всего такого, как церковь и прочее!.. Может быть, Дитте не хочет, чтобы церковь благословила ее на брак? Право, так оно и есть, судя по тому, как упорствует девчонка!
Но ужасно любопытно все-таки поглядеть на эту молоденькую мать. Сколько люди ее помнили, вечно она таскала на руках чужих ребят, а теперь вот носится со своим, — сама еще полудитя. Словно нарочно поторопилась, когда ее братишки и сестренки подросли, обзавестись собственным, чтобы не отвыкнуть нянчить. А в общем вид у нее приятный! Пушистые пряди волос словно сами собою обвивают круглую головку, ловя солнечные лучи. Под чуть веснушчатого кожею, еще нежной в прозрачной от долгого лежания в постели, струится горячая кровь, готовая ежеминутно прихлынуть и розами расцвести на щеках. Нет, видно, девчонка не позволяла целовать себя без разбору, ей прямо к лицу ее раннее материнство!
А все-таки она какая-то чудачка… строит из себя невесть что! Прижить незаконного ребенка — невелика хитрость, но у ее ребенка, в виде редкого исключения, и отец оказался налицо, так на что же это похоже — не пойти с ним под венец? Или заразилась от дочки Расмуса Ольсена, Марты, что царапает своих любовников, как кошка! Мальчишке скоро два месяца, пора было бы и окрестить его. Другая на ее месте постаралась бы не оставлять лишних козырей в руках у лукавого! И как хорошо было бы справить сразу и свадьбу и крестины — двойной праздник, так сказать! Но тут и не суйся лучше со своими советами! Обитатели «богадельни» — люди важные, не попросят мешка взаймы, пока не пойдут по миру.
И просто удивительно, как это не отступились от Дитте почтенные старички, такие вообще спесивые, ни с кем не водившиеся. Это уж с их стороны что-то вроде поощрения порока! И хоть бы девчонка ценила, что у нее оказались на руках карты получше, чем у других в ее положении!.. Куда! Из всей живодеровой семьи одна только Сэрине-убийца была сколько-нибудь расположена к Карлу. Зато, как только она умерла, он сложил свои пожитки и был таков. Не диво, если вестей о себе не подаёт больше.
Шутка ли, этак пренебречь человеком, которого судьба тебе предназначила? Совсем развязаться с ним Дитте ведь все-таки не может, сколько бы ни брыкалась, — низкому не уйти от своей судьбы! И на Дитте судьба поставила-таки солидную метку! Карл тоже чудаковат: в карты не играет, на вечеринки с танцами не ходит и в трактир не заглядывает. Зато у него, должно быть, есть другие достоинства, и, во всяком случае, он мужчина стоящий. Вдобавок он из рода хуторян. Так к лицу ли бедной девчонке Живодера — к тому же незаконной — брезговать сыном хуторянина, тем более что она уже связалась с ним? Всякая другая девушка рада была бы, что мужчина не отступился от нее при таких обстоятельствах.
Дитте видела, как женщины шушукаются между собой, стоя в дверях, и в точности знала — о чем именно. Но пусть их! Знала она также, чего хотела сама; и отец и старички из Пряничного домика были на ее стороне. Старушка даже призывала Ларса Петера к себе, чтобы внушить ему: ни в коем случае не неволить Дитте к браку с Карлом, не делать из несчастного случая настоящей беды. Впрочем, тут бояться было нечего. Сам Ларс Петер не меньше, чем старички, любил Дитте. Раз она не хотела венчаться, он последним потащил бы ее к венцу. Хотя в сущности-то ему невдомек было, что, собственно, отталкивает ее от Карла при данных обстоятельствах. Может, это у нее просто наследственное? Ведь ни в роду Сэрине, ни в роду самого Ларса Петера не было таких набожных людей, которые бегали бы в церковь, и в большинстве случаев они отлично обходились без венца, — детьми их бог благословлял, и верны они оставались друг другу до конца дней. Ларс Петер и тут, как всегда, забывал, что он ведь не родной отец Дитте.
Сам он вовсе не стремился стать тестем. Карл ему не нравился — святоша, а что касается его крестьянского происхождения, то и оно не внушало Ларсу Петеру никакого почтения. Ларс Петер всегда дивился пристрастию Сэрине к крестьянам-собственникам. Сам он и его родичи ничем не были обязаны крестьянству, — они всегда были среди исконных крестьян чужими, залетными птицами; их ненавидели и гнали за их темную, буйную кровь; зато и она мстила за себя, где могла, порождая палачей, знахарок и живодеров. Их загоняли во тьму, и они возвращались из тьмы в союзе с ее зловещими силами. Они баламутили тихое деревенское житье-бытье своей свободою нравов, своими страстями. За них никогда нельзя было поручиться, — мало ли что они могли выкинуть. Тревогу вносили в мирное житье крестьян и необузданные страсти. Суматоху, убытки чинили они, вторгаясь в крестьянские курятники и овчарни; с ножами являлись на мирные вечеринки, и не раз черные их кудри являлись поводом для супружеских недоразумений и скандалов. Вот за что от всего сердца ненавидели их крестьяне.
В самом Ларсе Петере давным-давно перегорело и то немногое, что он унаследовал от своих предков. Годы юности и мужской зрелости унесли все это вместе с собой. После того как он увидел самые дорогие для него существа — свою первую жену и четверых детей, лежавших мертвыми в мокрой одежде у колодца, — он уже не пылал больше и не бесновался. Промелькнули, правда, вслед затем года два в угаре бесшабашной жизни моряка, но, к счастью, скоро изгладились из его памяти почти бесследно. Одно лишь уцелело — страсть к перемене места, к бродяжничеству. По этой страсти крестьяне сразу узнавали, кто он таков, и верно определяли его происхождение.
Что за беда! В этом смысле Ларс Петер не страдал честолюбием. На крестьянина он смотрел скорее всего с презрительным сожалением, как на слепорожденного крота, ничего не смыслившего вне своей норы. Да, как ни был принижен и презираем сам Ларс Петер, он все-таки смотрел на всю крестьянскую породу сверху вниз. Словом, ему отнюдь не льстило стать тестем «исконного крестьянина».
Кристиан жил теперь на хуторе в полумиле от поселка, где посещал школу. И с ним повторялась та же история: сколько он ни работал, хозяевам все было мало. Домой на побывку его никогда не пускали, и уроки учить приходилось ему по дороге в школу, на бегу. Крестьяне оставались верны самим себе!
Итак, Дитте не приходилось опасаться нажима со стороны Ларса Петера. Ему было все равно — с тать ли дедом незаконного внука или тестем сына хуторянина.
Подняв старушку и усадив ее в кресло, Дитте оправила ей постель, снова уложила и сама присела на плетеный стул возле кровати — покормить грудью младенца. Старушка, лежа на спине, дремала от усталости. Сил у нее было так мало, что стоило причесать ее да переменить на ней белье, как она уже совсем ослабевала. Жить ей, видимо, оставалось недолго; она угасала с каждым днем, но была так кротка, так терпелива и беспокоилась не о себе, а только о других да о том, как останется без нее ее старик?
Дитте тоже отдыхала. Мысли вяло бродили в ее голове, не требуя ни ответа, ни даже особенного напряжения. Дитте испытывала усталость, и ей приятно было посидеть спокойно, подремать, пока она не почувствует, что пора кормить младенца. Мальчишка был настоящий обжора! Насилу-насилу мог насосаться досыта. И Дитте так изнуряло кормление, что она готова была задремать когда угодно. Ребенок сосал, глотая энергично и мерно, презабавно устремив глазенки куда-то внутрь себя — почти как отец его, когда тот, бывало, задумается о «божественном». Ребенок как будто прислушивался к каждому своему глотку.
Старушка открыла глаза.
— Вишь, как старается! Настоящий насос! — с улыбкой сказала она.
— Он всегда так — когда особенно голоден. Сосет и сопит от удовольствия.
— Мне вот не довелось это испытать. Господу, видно, казалось, что нам дети ни к чему.
— Да, пожалуй, вы уж чересчур гнались за порядком и чистотой, — в раздумье ответила Дитте. — А ребенку невесело, когда того нельзя, да этого не смей. Но тем покойнее жилось вам.
Старушка от души рассмеялась.
— Ты думаешь? Но, пожалуй, я бы не так гналась за порядком, будь у меня ребятишки, которые бы немножко будоражили нашу жизнь. Я бы охотно пожертвовала им частичкой своего покоя.
— Да ведь с ними столько забот и горя! — серьезно сказала Дитте. — Взять хоть отца, — сколько забот одна я доставила ему!
— Думаю, и радостей немало, — отозвалась старушка, погладив ее по руке. — Столько забот, сколько ты доставила другим, я бы охотно взяла на себя, лишь бы иметь такую дочку… И верно, старик мой скажет то же. У нас с ним никогда не было никого, кроме друг друга, но и за то спасибо; хотя, конечно, нехорошо заботиться только о собственном уюте да о том, чтобы вокруг тебя все было почище да покрасивее.
Старик то и дело заходил в комнату и становился около кровати. Он ничего не говорил, только брал жену за руку, держал с минуту, потом вдруг выпускал, отходил в угол, испытующе глядел на часы и снова — потихоньку плелся за дверь. Так шмыгал он взад и вперед беспрестанно. Чем он был так занят — трудно было понять.
— Вот он все время так, — сказала старушка, — все хлопочет, все суетится. И со мной ему побыть недосуг и бросить меня одну жалко, вот и шмыгает взад и вперед. Говорит, что порядок наводит, прибирает, а у нас и без того всегда прибрано было, сколько за помню. И на чердаке он готов возиться целый день, без конца. Видно, чувствует, что недолго нам тут оставаться.
Дитте посидела с минутку в раздумье.
— Отчего вы оба всегда говорите: «мы, нам»? — спросила она наконец.
Старушка в недоумении глядела на нее.
— Ну да! Ведь муж и жена не умирают оба вместе?.. — продолжала Дитте.
— Ах, вот что! Ты удивляешься, что я не отделяю себя от мужа. Но когда-нибудь поймешь это. Я надеюсь, что и ты найдешь человека, с которым заживешь душа в душу. Наша жизнь, пожалуй, не принесла никому особенной пользы, ничего такого на земле мы не сделали. И если люди созданы, чтобы трудиться в поте лица своего и покорять себе землю, то мы придем к нашему судье с пустыми руками. Ничего-то мы не создали. Напротив, проживали то, что другие нажили и оставили нам. Но мы были добры друг к другу и жили друг для друга, а не думали каждый о себе. И как сладко было сознавать, что тебе незачем думать о себе, — другой о тебе подумает. Чувствуешь себя под надежной защитой, коли все свои горести и радости можешь доверить другу, сживаешься с ним так тесно, словно срастаешься воедино. Нам и говорить-то между собою много не приходится — и думы и чувства у нас одни и те же, мы даже сны порою видим одинаковые.
— И я чувствую, даже во сне, когда Поуль или Ас сбросят с себя одеяло, — серьезно заметила Дитте.
А тогда уж я не могу успокоиться, пока не проснусь совсем и не прикрою их.
— Да, ты добрая душа. Всем нам сильно будет недоставать тебя.
— Сестренка Эльза будет ходить к вам каждый день и помогать, она ведь молодец для своих лет.
Старушка лежала и похлопывала пальцами по перине.
— Карл, стало быть, не совсем пропал, — вдруг сказала она. — Прислал денег, говорят?
— Да, но мы не знаем откуда. И лучше, что он не пишет. Я ничего худого про него не скажу… он в самом деле хороший. Но мне тошно подумать о его ласках… Того гляди, вырвет.
— Это, пожалуй, наказание за то, что он не заставил тебя испытать любовные муки. Как поглядишь порою кругом да пораздумаешь, так и кажется, что мы, женщины, собственно, для любовных мучений и созданы и что они нам приятнее бесплодия. Да и не так-то много мы терпим от мужчин, как об этом кричим. Люди ведь лицемерны, и мы, женщины, любим прикинуться более чувствительными, чем бывает на самом деле. Я думаю, ты могла бы без горя прожить жизнь с Карлом. Он все-таки не как все. Правда, начал он неладно, но счастье строится по-разному. Теперь-то он полюбил тебя, будь спокойна.
— Да я-то его не люблю! — с жаром ответила Дитте. — Он такой малодушный.
Старушка погладила ее по руке:
— Да, да, теперь у тебя есть ребенок, и не стоит больше сокрушаться о прошлом. Но вот поживешь на белом свете и узнаешь, что малодушных мужчин не так-то мало, хотя с виду они, пожалуй, и не кажутся такими. Сумеешь ли ты еще устоять перед теми, кто носит шапку набекрень? А теперь прощай пока, — мне надо отдохнуть.
— Не накрыть ли сначала вам к ужину?
— Нет, старичок мой сам с этим справится, — надо же ему чем-нибудь заняться. Но позволь мне хорошенько поцеловать твоего мальчугана на прощанье.
Дитте положила ребенка старушке на руки.
— Удивительно, как много может сказать человеку такой вот крошка… больше, чем сказала иному вся его долгая жизнь. А ведь он еще не смыслит ничего, только парным молочком пахнет! Дети придают жизни такую чистоту и вкус… А говорят, что человек рождается во грехе! Мудрено!.. Но унеси малютку, пока он не раскричался. Будьте же счастливы вы оба!
— Я еще зайду как следует проститься с вами перед своим отъездом, — сказала Дитте, наклоняясь, чтобы взять ребенка.
— Нет, лучше не надо, больно уж тягостно прощаться. А вот что я хочу еще сказать тебе, дитя: что я благодарю бога за встречу с тобой. Ты много дала нам с мужем, сделала нас богаче, — это твоя заслуга, что мы снова поверили в жизнь и людей. — Старушка взяла Дитте обеими руками за щеки.
— Мой старик говорит, что у тебя золотое сердце! Только бы тебе прожить с ним благополучно! Думай немножко и о себе самой. Это необходимо здесь, на земле, где большинство думает только о себе.
Она поцеловала Дитте еще раз и легонько оттолкнула от себя. Дитте не многое поняла из речей старушки, но почувствовала, что это было последнее прощанье, и по дороге домой всплакнула. Старушка была ей настоящей матерью в это тяжелое время, самой любящей, нежной матерью. А вот теперь и она уйдет, как в свое время ушла бабушка, — туда, где нет ни слез, ни печали. Кто же будет подбодрять Дитте, говорить ей, что она, несмотря ни на что, славная маленькая женщина?..
Ларс Петер выпряг лошадь. Он обзавелся старой телегой и лошадью, то есть пока что брал их напрокат, и снова развозил по окрестным хуторам селедку. В задней части кузова лежал разный хлам, который он скупал по дворам. Лошадь с телегой помещались в покинутом жилье старухи Дориум, а паслась лошадь на лужайках между дюнами. Теперь уж не было на свете трактирщика, когда-то зорко следившего за тем, как изворачивается и чем промышляет бедный люд.
— Что случилось? — с испугом спросил Ларс Петер, увидав заплаканное лицо Дитте. — Не с малюткой ли что?
— Я была у старичков, — сказала Дитте, торопясь скрыться за дверями от дальнейших расспросов. Ей тяжело было подумать о том, что старушка скоро умрет. Передав ребенка сестренке Эльзе, она начала готовить еду для отца. Он всегда возвращался из поездок очень голодным. Времена были не прежние: куда девалось старинное хлебосольство крестьян? Они стали скупыми, — все копили на продажу, изо всего извлекали деньгу.
Дитте понять не могла: кто покупает у крестьян всю эту массу продуктов? Семья Ларса Петера, во всяком случае, — почти ничего не покупала. Дитте прибавила кусочек сала и вяленую треску, оставленную отцу от их обеда, и этот кусочек имел свою особую историю. Кристиан сберег его от своего завтрака на хуторе — или где он там раздобыл его? — и сунул Эльзе в школе, чтобы она снесла домой. Отец так давно не пробовал сала. Да, в доме давным-давно не водилось ни кусочка мяса, и как похоже на Кристиана — подумать об этом!.. Поджаривая сало, Дитте озабоченно поглядывала в окно — не бегут ли прожорливые мальчишки! Они живо почуют запах и непременно явятся — голодные, жадные… А тогда не много достанется отцу.
Ларс Петер скоро пришел и, разумеется, по пятам за ним Поуль и Ас. «Ах!» — втянули они в себя воздух и уселись за стол рядом с отцом. Дитте готова была ударить их ложкой.
— Да ведь этак тебе самому ничего не останется! — сказала она чуть не плача. — И мы ведь отобедали уже!
Но Ларс Петер только посмеивался, потчуя мальчуганов.
— Ну, я нашел, куда пристроить малыша, — сказал он тихо, когда поел и набил трубку.
Около Ноддебо проживала одна бездетная пожилая хусманская чета, и он полагал, что у них ребенку будет хорошо.
— А ты по-прежнему хочешь в столицу? — спросил он. — Не думаешь, лучше попробовать сначала у нас в провинции… в Фредериксвэрке, например, или в Хиллерэде? Поближе к ребенку… и к нам?
Нет, Дитте хотелось в столицу. Тут везде знают ее — живодерову девчонку… с незаконным ребенком. А там никому ничего не известно, и все будут относиться к ней так, как она сама заслужит, а уж она сумеет заслужить уважение. До сих пор ей не везло, но там все дороги открыты тому, кто серьезно хочет добиться чего-нибудь, и Дитте твердо решила устроить свою судьбу.
— Да, были бы целы мои денежки! — вздохнул Ларс Петер. — И я мог бы отправиться в столицу, завести там торговлишку старым железом… или опять арендовать хуторок!
Ларс Петер совсем позабыл, как он намучился в Сорочьем Гнезде, и готов был опять взять его в свои руки, зажить по-старому — наполовину кормясь землей, наполовину торговлей вразвоз.
Здесь, в поселке, оставаться не стоило. После смерти трактирщика всем жилось еще хуже. Рыбаки, отвыкшие думать и действовать самостоятельно, совсем растерялись, и порядка ни в чем не стало. Ни денег ни у кого, ни дела: лодки и рыболовные снасти требовали починки, и рыбаки еле-еле кормились своим уловом. Сбывать рыбу некуда было — ни у кого нет никаких связей, — всем ведь орудовал сам трактирщик. Чтобы немножко поправить свои дела, Ларсу Петеру пришлось снова разъезжать по дорогам и торговать селедками. Он, впрочем, не был огорчен такой переменой. Она давала семье лишний кусок хлеба и заставляла кровь быстрее течь в жилах. По правде говоря, довольно было с него не спать по ночам и дрогнуть от холода в лодке! В кладовой все равно было пусто. Эх, перебраться бы куда-нибудь и попробовать взяться за что-нибудь новое! Да вот, за деньгами дело стало!..
«И что за радость была трактирщику накладывать лапу на наши крохи, коли он все равно знал, что вылетит в трубу?» — в который раз задавал себе вопрос Ларс Петер.
Но Дитте не склонна была поощрять страсть отца к переменам; ведь с каждым разом, когда он начинал где-нибудь сызнова, семье жилось все хуже, а здесь хоть крыша над головой есть.
— Тебе надо сначала подкопить немножко, чтобы с долгами развязаться, — сказала она по-старушечьи рассудительно. — Не забудь, во сколько обошлись нам болезнь и похороны матери!
Да, этого Ларс Петер не забыл, как и долгов своих, но, черт возьми, коли его самого обобрали кругом!..
— Все-таки бегать от долгов не след, — рассуждала Дитте. — Да и уехать от старичков нам нельзя всем сразу. У них нет никого, кроме нас. Сестренка Эльза должна заходить к ним каждый день и помогать. А вот, когда я устроюсь в столице, я постараюсь помочь и вам выбраться отсюда — по чести и совести. В столице ведь заработки побольше.
— Пожалуй, ты права. Но как славно было бы перебраться всем вместе, сразу! Там можно «начать сначала», как говорится.
Вот оно! Оттого-то Дитте и хотела попасть туда совсем одной, не связанной своим прошлым, своим происхождением и всем прочим, что не дает человеку выбраться наверх, какой бы он ни был дельный и работящий. А вот теперь посмотрим — неужто она не устроится? Там и для нее должно найтись что-нибудь хорошее. Недаром же бабушка прочила ей это, да и в ней самой всегда, несмотря ни на что, жила такая надежда, согревая ей душу; часто надежда эта едва теплилась, но никогда не угасала совсем. У счастья путей много, но надо и самой идти ему навстречу. И Дитте отнюдь не собиралась изменить своим близким, — даже если ей очень повезет в столице. Не ради себя одной стремилась она выбраться отсюда на простор.
VIII Столичный простор
В последние дни перед отъездом у Дитте скопилось много дел. Надо было перебрать еще раз все домашнее тряпье. Ничего нового они не сшили себе в поселке, довольствуясь остатками от более счастливых дней в Сорочьем Гнезде. Тряпья же у них все-таки прибавилось. Да, тряпичная куча положительно росла из года в год, и не добраться было до дна! Страсть как трепали одежду эти мальчишки — Поуль и близнец Расмус, с которым у Ларса Петера не хватило духу расстаться. Про Кристиана и говорить нечего. У Дитте только и заботы было перелицовывать или перекраивать обноски, чтобы они мало-мальски годились. Большею частью все было сшито самой Сэрине еще в Сорочьем Гнезде из старых, выброшенных за негодностью лоскутьев, которые Ларс Петер привозил в мешках с тряпьем. Теперь все буквально расползалось, — приходилось класть заплату на заплату, и каждый вечер, когда дети были уложены в постель, Дитте принималась за дело сызнова. Всего больше заботило ее — как будет справляться с этим сестренка Эльза? Чтобы девочка не потонула в тряпье, Дитте и засиживалась по ночам, — из двух пар штанишек мастерила одну, ставила заплатки и штопала. Для своих десяти лет Эльза была вообще молодцом, с хозяйством домашним справлялась вполне, но шить и чинить еще не умела.
Но вот, в самый последний день октября, на рассвете, Ларс Петер подъехал к дверям хижины с возом сельдей, заказанных для одного из крупных хуторов близ Ноддебо. Оттуда же он подрядился отвезти воз древесного угля в столицу. Таким образом, и девчонку с малышом можно было доставить на место, и заодно заработать немножко, что было весьма кстати.
Распростились быстро. Мальчишки уже рылись около хижины в песке, строя крепость, хотя еще и не рассвело путем. Они так увлекались этим занятием, что начинали его с раннего утра, едва вылезши из перин, а вечером их прямо не загнать было домой. Они едва нашли время попрощаться со старшей сестрой и тотчас же опять нырнули в свой ров. Повернуть голову и посмотреть вслед отъезжавшим им и на ум не приходило. Сестренка Эльза — та махала на прощанье рукою, но улыбалась при этом. Теперь ведь уже над нею не будет никого, она станет хозяйкой в доме! Дитте не могла не заметить и того и другого, и ей было горько, — ведь все-таки она заменяла им мать столько времени и старалась для них, как могла!..
Она совсем притихла, борясь со слезами, и, не слушая отрывочных замечаний отца насчет погоды и местности, мысленно сводила счеты с домашними. Видно, они не очень-то нуждались в ней, ну, и она не так-то скоро напомнит им о себе! Тогда, пожалуй, они иначе будут относиться к ней! Веки ее отяжелели, время от времени она приподымала шаль, чтобы пощупать ребенка, хорошо укутанного от утреннего холода.
— Ему тепло, хорошо? — спросил Ларс Петер, повернувшись к Дитте, и заметил, что у нее на ресницах повисли слезы. — Ты думай теперь лучше о том, что ребенку будет хорошо, — ободряюще сказал он. — А на рождестве отпросишься навестить его… и нас всех.
—: Да я не о том, — ответила Дитте и начала всхлипывать. — Дети… Им и горя мало, что я уехала!
— Ну, только-то! — добродушно усмехнулся Ларс Петер. — Я на днях случайно слышал, как Поуль спрашивал Эльзу, скоро ли я помру, — тогда ведь мои высокие сапоги достанутся ему! Таковы уж дети, — у них с глаз долой, из сердца вон. А тебя они все-таки любят… хоть, пожалуй, немножко и чуждались последнее время… Ты не забудь, им ведь немало чего пришлось наслушаться из-за тебя!
Ларс Петер был в своем прежнем благодушном настроении, голос его так приятно рокотал с высоты сиденья и теплыми нотами ласкал слух Дитте. Давно не бывал отец таким, с тех самых пор, как она еще девочкой ездила с ним. Так хорошо действовала на него дорога, — вот где чувствовал он себя дома, хоть и сидел на чужой телеге. И запряжен в нее был уже не старый Кляус. Но Ларс Петер приучил и эту клячу к той же своеобразной неутомляющей поступи. И Дитте по всему видела, что животное успело полюбить хозяина.
— Кой черт?.. — вдруг воскликнул Ларс Петер. Впереди на дороге внезапно выпрыгнул из придорожного терновника Кристиан в шапке, надвинутой на самые броней, как у настоящего бандита.
Подняв дубину и загородив лошади дорогу, он скомандовал:
— Стой! — и расхохотался во все горло, разбойник! — Можно мне прокатиться с вами? — спросил он затем, прыгая перед телегой. — Недалеко! Мне так хочется проводить Дитте немножко!
Да ведь тебе в школу нужно, непоседа! — попытался напустить на себя строгость отец.
Кристиан стоял с видом настоящего преступника, глядя на проезжую дорогу. Он забыл про школу, хотя сумка болталась у него через плечо и напоминала о ней. Таков уж он был, — в голове его не укладывалось двух вещей сразу.
—. Теперь все равно уже поздно, — сказал он удрученно. — Только трепку получу, если явлюсь.
Ларс Петер нерешительно поглядел на Дитте, как бы ища у нее поддержки. Она ведь всегда готова была приструнить этого бродягу. Но теперь ей, видно, не хотелось брать на себя роль судьи, и она, избегая взгляда отца, глядела по сторонам. Кристиан мигом смекнул и вскочил на сиденье. Через несколько минут он завладел и кнутом и вожжами. Правил он ловко, и лошадь прямо ожила, прибавив ходу. Даже кляча не устояла перед этой бившею ключом молодой энергией!
Дитте сидела и радовалась. Сегодня ей и горя мало было, что Кристиан пропустил школу… Он такой добрый мальчик, и она любила его больше всех остальных детей, хотя и забот ей с ним было больше всего. Зато и он ее любил и вот не побоялся трепки ни в школе, ни на хуторе, чтобы только проводить сестру.
— Я тебе пришлю оттуда подарок, — сказала она. — Может быть, настоящий кнут.
У Кристиана глаза заблестели.
— А я возьму да вдруг сам нагряну к тебе!.. Я ведь отлично могу добежать туда, — сказал он уверенно.
— Посмей только! — испуганно воскликнула Дитте. — Обещай мне не делать этого! Обещаешь?
Ну, за обещанием дело не стало, — сердце у Кристиана было ведь доброе. А вот сдержит ли он обещание в час искушения, — это дело другое.
Пора, однако, ему и слезать с козел! Нельзя же в самом деле продолжать так без конца.
— Тебе ведь придется бежать мили две назад, шалопай, — сказал отец.
Но две мили Кристиан считал ни во что. Ему случалось пробегать такие концы… такие, о которых умнее было помолчать. Пришлось Ларсу Петеру силой ссадить сына, с телеги. И долго стоял мальчик на дороге, глядя им вслед. Наконец повернулся и пустился назад бегом.
Дитте провожала его глазами, пока он не скрылся из виду.
— Славный мальчуган! — сказала она, как бы оправдывая его.
— Да, только нрав у него трудный. Боюсь, придется еще порядком побиться с ним.
Дитте не ответила, может быть, не расслышала, — она была сегодня какая-то странная, словно сама не своя. Избегала взглянуть отцу в глаза, упорно смотрела куда-то вдаль, но ничего не видела. Ларс Петер, впрочем, понимал, в чем дело, хотя они и не обменялись ни словом. Да и к чему разговоры? Разве словами горю поможешь? Но все-таки не ладно, что она все сидит и крепится. Лучше бы выплакалась, и дело с концом. И Ларс Петер несколько раз пытался помочь ей, то есть довести ее до слез. Тяжело это ему было, — ведь это все равно, что поворачивать нож в ране, чтобы раненое животное поскорее истекло кровью. Но как же быть? Дитте, однако, всякий раз только слегка улыбалась. Погода была плохая, ветреная, и Ларс Петер несколько раз по дороге сворачивал в сторону, чтобы отдохнуть от ветра и дать Дитте возможность раскутать и покормить ребенка. Пока она сидела на лесной опушке и кормила, он или ходил взад и вперед, стараясь как-нибудь получше загородить их, или стоял возле и любовался, глядя, как мальчик водит ручонками по груди матери.
— А тяжело все-таки будет ребеночку! Никогда больше не ткнуться ему носиком в теплую грудь! — сказал он.
Дитте быстро подняла голову, и с минуту казалось, что вот-вот слезы прорвут все преграды, но нет, она все-таки сдержалась и слегка улыбнулась вымученной улыбкой.
Лишь около полудня сдали они селедки и нагрузили телегу углем. И когда подъезжали к домику хусмана, то хозяйка уже стояла на дороге, поджидая их; она была крепкая и здоровая, по виду ей можно было дать лет пятьдесят.
— Я так и ждала, что вы скоро подъедете, — сказала она, здороваясь с ними, и прибавила: — Как раз к обеду!
Муж ее, сутулый, изможденный, работавший неподалеку на свекольном поле, заковылял к ним.
— А, вот она, девчонка, — сказал он, протягивая Дитте свою измазанную руку. — Раненько же обзавелась малышом… сама-то чуть не ребенок.
Дитте покраснела и отвернулась.
— Ты не слушай его, что он мелет! — сказала женщина. — Язык-то у него был всегда без костей. Он только болтать и горазд, — иначе не пришлось бы нам брать приемыша, чтобы иметь опору на старости лет.
— Ну, в этом, пожалуй, мы оба виноваты, — рассудил муж и принялся щепкой соскабливать с ладони грязь. — Вообще, кому суждено иметь детей, у тех они и родятся.
— Как бы не так! — презрительно фыркнула жена. — Кажется, все зависит от мужа, если он стоящий! — и она сердито поглядела на него, держа ребенка на руках. Видно было, что тут прорвалась старая обида.
— У нас в поселке говорят, что ребятишек, которых не хотят родить матери, приносят им в подолах дочки! — примирительно сказал Ларс Петер.
— Ну, так мне остается только радоваться, — рассмеялась женщина, — да надеяться на дочек, которых у меня нет. Но шутки в сторону, ведь так всегда бывает, у одного нет ничего, у другого слишком много! А теперь входите и подкрепитесь, небось проголодались с дороги. Путь не близкий.
Стало быть, она все-таки была не такая сердитая, как могло показаться сразу.
В углу, за холодною печуркой, сидел дряхлый старик, тупо глядя перед собою. Трудно было сказать — понимал ли он что-нибудь. Когда они вошли, он даже не тронулся с места, продолжая бормотать что-то и стучать деревянными башмаками. Старик трясся всем телом.
— Ну, вот тебе и дело будет, отец! — крикнула женщина ему в ухо, протягивая к нему свою ношу.
Он, однако, не принял ее, а только залепетал: «Так, так, так!» — хлопнул себя по высохшим ляжкам и быстро застучал ногами.
Женщина передала ребенка Дитте, говоря:
— Ничего, потом он поймет!
— Он, кажется, слаб рассудком? — спросил Ларс Петер.
— Да, замучили его время и годы, живет долго, а заняться нечем. Дум у него нет, — он ведь идиот и чуть слышит, чуть видит, вот и сидит да топочет ногами, чтобы скоротать время, да бормочет всякий вздор. Но теперь придется ему встряхнуться, потому что кому же, кроме него, качать малыша? У каждого из нас своя работа.
— Забыл его, видно, господь бог, — вмешался муж. — Бог вообще никогда не вспоминает о нас, бедняках, — как и чем мы живем, — да порою забывает и смерть нам послать вовремя.
И он поджал губы, как настоящий скряга.
— Пусть его живет, сколько ему положено, — резко ответила жена. — Не объест он нас, ему и самому ее сладко, бедняге.
— Не сладко, не сладко, — передразнил муж. — А другому кому сладко? Известно, праздность скачет рысью, где труд пешком плетется!
Опять они сцепились! Не очень-то весело стало Ларсу Петеру при мысли о том, что малыша, пожалуй, пристроили в дом, где нет ладу.
— Да ведь оно так уж испокон веков ведется, что голодных ртов всюду больше, чем рабочих рук, — сказал он примирительно, — и ежели бы только на нас не лежало других повинностей, кроме пропитания ребятишек да стариков, мы бы еще кое-как справились. Но сдается мне, что нам, беднякам, самого черта посадили на спину, вот мы никак и не можем выпрямиться, сколько ни тужимся!
Муж с женою испуганно поглядели на него и переглянулись между собою.
— Ежели у нас черт на спине, то посадил его, должно быть, сам господь для нашего же блага, и нам остается только нести свое бремя до конца, — сказала немного погодя жена.
— Может статься, — с полною готовностью отозвался Ларс Петер. — Знать по-настоящему трудно, но уж больно много сваливают на господа бога, — даже то, что вернее было бы поставить на счет лукавому. Трактирщик в нашем поселке тоже все морочил нас, будто ездит на нас верхом по воле божьей, но прах меня побери, коли он в конце концов сам не угодил к черту в лапы! Нет, нам, беднякам, надо и винить и благодарить за все самих себя да покрепче держаться друг за дружку. А потому спасибо вам, что согласились взять малыша. От платы за него вы не разбогатеете, но кое-кто все-таки будет заботиться о том, чтобы вы получали ее аккуратно. Стало быть, но четыре кроны каждое первое число и шесть на рождество. И две меры селедок из осеннего улова. Осенняя сельдь самая жирная, и уж я позабочусь, чтобы вас не обделили.
— Да, с этого не разжиреешь, так все вздорожало, — сказала женщина. — Но мы-то главное рассчитываем, что мальчишка будет помогать нам на старости лет в награду за то, что мы вырастим его.
Дитте не принимала никакого участия в разговоре, но каждый раз, как речь заходила о ребенке, ее охватывала дрожь.
— Да, да, — отозвался Лapc Петер, — поживем маленько, увидим. Не годится сразу связывать себя чересчур крепко.
— А мы так было и рассчитывали. Мы ведь полагали усыновить ребенка, чтобы он и не знал других родителей, кроме нас.
Тут Дитте вдруг завопила, да так громко и пронзительно, что муж с женой со страху выронили ложки, и даже дед на минуту очнулся.
— Полно тебе, постыдись! — воскликнул Ларс Петер, взяв Дитте за плечо.
— Не отнимайте у меня ребенка! — закричала она. — Не отнимайте его у меня!..
Она совсем обезумела.
Едва-едва успокоили ее и заговорили о другом. А как только с обедом было покончено, мужчины пошли запрягать. Дитте приложила ребенка к груди — в последний раз. Безрадостно было у нее на душе.
— Дай ему хорошенько пососать, — сказала женщина. — А вот тут у меня приготовлено немножко деревянного масла, чтобы втереть тебе в груди; тогда они не так набухнут. Ты что так глядишь на меня? Думаешь: откуда я все это знаю? Но, пожалуй, другие тоже были молоды и легковерны и принуждены были отдать своих детей чужим людям… Так-то оно бывает в жизни!
Дитте опять расплакалась.
— Не отнимайте у меня ребенка! — рыдала она.
— Да с чего ты взяла! Кто же его у тебя отнимает? Ребятишек сколько угодно, и ты можешь прийти за своим, когда захочешь. А теперь пора тебе собираться в путь, я слышу, телега подъезжает. Грудь мы тебе подвяжем потуже, чтобы она приняла прежний вид. Можешь опять за девицу сойти! Кожа у тебя такая нежная, грудь, как у принцессы, — задабривала женщина Дитте. — Не плохой жребий достался тому, чья голова отдыхала на этой груди: Ох, да! Молодость и красота — это нежные цветы! Была и я молода и могла укротить любого буяна, обняв его покрепче… А где теперь то времечко? Теперь никто за мной не погонится, кроме моего старого бездельника. Общипанная курица, а за ней по пятам одичалый кот — вот все, что осталось от молодости! Да, тебе смешно, а пожалеть беднягу, уделить ей немножко из своего богатства ты не можешь? У тебя небось еще будут малыши — при твоей-то красоте!
Так продолжала она уговаривать Дитте, но та уже не смеялась. Она прыснула минуту тому назад невольно, несмотря на все свое отчаяние, так рассмешила ее эта картина: курица с котом по пятам. Не без сопротивления дала она закутать себя в большой дорожный плащ отца, чтобы не застудить грудь, — а то рак может сделаться, — и не без сопротивления дала подвести себя к телеге.
— Поцелуй теперь малыша на прощанье, — сказала женщина, протягивая ей ребенка, — поскорее приезжай навестить его.
Дитте хотела было взять ребенка на руки, но ей не дали. Женщина пошла с ним в дом, крепко прижав его к себе, как бы желая показать, что теперь он уже принадлежит ей.
Медленно подвигалась телега навстречу порывистому осеннему ветру. Воз был тяжелый, лошадь старая, усталая, и Ларс Петер то и дело подгонял ее. Дитте сидела, притихнув, как мышь, не шевеля ни одним мускулом, с застывшим взглядом. Она продрогла, холод и сырость прохватывали ее насквозь, а горе все глубже въедалось в душу. Деревья плакали, капали слезы и с мохнатой гривы лошади, и с полей мягкой шляпы Ларса Петера, и с ресниц Дитте. Какие-то тени мелькали в тумане по обеим сторонам дороги — кусты или пасущаяся скотина. Кто-то заунывно пел там — пастух или работник на свекольном поле:
Зачем же так часто мы плачем И слезы ручьями струятся из глаз? Ах, горестей слишком уж много, Очей же лишь пара у нас!..Песня эта была знакома Дитте. Но она ведь не плачет, к чему же эта песня? Она только сидит под обрывом, а на нее и вокруг нее капают слезы, потому что она согрешила. Вздор! Ведь она и согрешила-то, чтоб остановить, осушить чужие слезы. Дерн заколебался, из тумана показался Карл. «Это я пел, — сказал он. — Но мы ошиблись оба — и высший судья и я. Ты не грешница, — утешь же меня снова! Помнишь, как сказал господь: все, что сделаешь для одного из малых сих, для меня сделаешь!..» Так жаловался он, но Дитте вырвалась от него и побежала, полная отвращения.»
Тут она вздрогнула и проснулась, — они остановились отдохнуть на лесной опушке. Начало смеркаться.
— Лошадь сильно устала. Надо подумать о ночлеге, — сказал Ларс Петер.
Рудердальский постоялый двор был недалеко, но им не по карману было останавливаться там. Поэтому Ларс Петер завернул за старый овин и там выпряг лошадь, повесил ей торбу на шею и прикрыл ей спину своим плащом, сами же они пролезли через открытый люк в овин и зарылись в солому.
Ларс Петер ощупью достал еду и подал Дитте. Нашлось у него для нее и яблоко и много добрых, ласковых слов. Дитте кусок не шел в горло, ей всего нужнее были отдых и забвение. Но добродушное рокотание отцовского голоса она готова была слушать, лишь бы самой не отвечать. Она мало спала последние ночи от забот и нервного напряжения, и теперь ей так хотелось уснуть, забыться. Под баюкающе рокочущий бас Ларса Петера она погрузилась в сон.
Ночь, однако, прошла беспокойно. Ларсу Петеру так и не пришлось выспаться. Молоко приливало к грудям Дитте, она тосковала по ребенку и громко всхлипывала во сне. Когда сон ее становился чересчур уж тревожным, отец будил ее и уговаривал:
— Ему хорошо, он преспокойно спит, поверь мне!
— Нет, я чувствую, что он проснулся и плачет обо мне, потому у меня молоко так и бежит! — рыдала Дитте.
— Гм… — Ларс Петер даже не знал, что отвечать. — Постарайся все-таки быть благоразумной, — говорил он, — что толку плакать о том, чего нельзя изменить? И ведь как только ты устроишься, ты всегда можешь взять ребенка обратно. Там, в столице, есть всякие такие приюты и убежища, не то что у нас в деревне. Да недолго, пожалуй, придется ждать и нашего переселения в город. И Карл ведь там — на случай, если тебе покажется слишком одиноко.
Дитте молчала. Карла ей искать незачем.
Под утро выглянул месяц. У Дитте болело даже под мышками, и она места себе не находила. Поэтому они рано поднялись, запрягли и поехали дальше. По дороге стали попадаться люди, одинокие, заспанные пешеходы, державшие путь туда же, в столицу.
— Сегодня как раз «день расчета и найма», — сказал Ларс Петер, — вон сколько людей идет в столицу искать места или поденной работы. И мне бы сделать так в молодости, тогда, пожалуй, много сложилось бы иначе.
— Но тогда у тебя не было бы нас! — ужаснулась Дитте.
Ларс Петер с секунду глядел на нее в недоумении.
— Да-а, правда твоя! — воскликнул он наконец. — Хотя… кто знает?..
Впрочем, это уж было бы подлинным чудом! Ведь тогда случай должен был бы и Сэрине привести в столицу и столкнуть их там, разумеется, и… Но напрасный труд пытаться передвигать пешки, которыми играет судьба; много надо иметь ума, чтобы мешаться в ее дела! Одно только знал Ларс Петер, — что из-за Дитте и других детей он не хотел бы, чтобы его доля была иною.
Дорога мало-помалу становилась оживленнее. Их телегу обгоняли другие — то с комодом, то с шкафом, привязанным сзади. С проселочных дорог и тропинок выходили на проезжую дорогу путники с котомками. Наступило утро.
— Видишь, не одна ты, и другие направляются туда попытать счастья, — весело сказал Ларс Петер.
Дитте считала, что это с одной стороны хорошо, а с другой — плохо.
— Только бы мне найти там место!
Ларс Петер рассмеялся. Вот и видно, что она понятия не имеет о столице.
— Возьми ты все озеро Арре, и то не уместишь на нем Копепгаген, — сказал он. — А вдобавок люди живут там в несколько ярусов, одни над головами других!
— Как же там быть с помоями? — спросила Дитте. — Нельзя, стало быть, выливать их за порог?
— В уме ли ты? Этак ты прямо людям на головы выльешь! Помои спускаются там в землю, по трубе.
Дитте теперь совсем ожила. Боль в груди от прилива молока ослабела, и все, что осталось позади, стушевалось перед тем, что ее ожидало впереди. Там вдали вырастал из утреннего тумана таинственный город, словно бесконечный лес шпилей, куполов и фабричных труб; со всех сторон стремились туда люди в поисках работы и ехали телеги с продуктами — с мясом, молоком, овощами, зеленью, хлебом.
— Да, там есть чем поживиться! — сказал со вздохом Ларс Петер. — И надо самому ездить туда, ежели хочешь иметь выгоду от продуктов, что сам производишь.
В бесконечной веренице телег и повозок продолжали они свой путь, и вдруг дорога перешла в мощеную улицу. Шум, грохот… Дитте в ужасе схватилась за отца и прижалась к нему. Конки звонили, возчики кричали, велосипедисты и пешеходы шныряли в этом хаосе и благополучно перебирались на другую сторону; все вертелось, крутилось, сливалось в оглушительную сутолоку. А высокие дома словно наклонялись над толпой, — будто у них голова кружилась… Ух! Дитте невольно закрыла глаза и вся содрогнулась. Настоящего страха в пен, конечно, не было, она только изумлялась и ужасалась в полной уверенности, что они никогда не выберутся отсюда благополучно. Но вдруг они въехали в ворота и очутились на том самом постоялом дворе на Западной улице, который Дитте так хорошо знала из рассказов о сказочной поездке Ларса Петера в столицу. Он тотчас же уложил Дитте спать, а сам повез уголь.
А затем — с делами покончено и можно оглядеться в столице! Лошадь поставлена в стойло, корм в ясли засыпан, и Ларс Петер, стоя в воротах постоялого двора, полною грудью вдыхал в себя столичный воздух. Грудь его ширилась от наплыва каких-то особых чувств. Там, позади — изнурительный труд, заботы и горести, здесь — никаких пут и преград, напротив, как будто даже слишком большой выбор.
Но прежде всего следовало подкрепиться, — он был голоден как волк. Ларс Петер спустился в погребок и заказал себе порцию битков и графинчик водки, — надо было хорошенько согреться после ночного холода и всех треволнений. И это удалось вполне! Ларс Петер вышел на улицу уже другим человеком. Да, пожалуй, и все кругом стало другим. Светило солнце… или, во всяком случае, собиралось выглянуть. И девчонкины дела складываются отлично — если вдуматься хорошенько. Она такая молодая, проворная, ребенок ее не связывает больше; да еще такая удача, что сегодня как раз годовой день расчета и найма домашней прислуги и работников. Теперь, стало быть, надо выбрать из всех этих свободных мест такое, которое как раз подошло бы Дитте — где бы хорошо платили и хорошо обращались с ней, по заслугам. Потому что, правду говоря, девчонке цены нет. С минуту Ларс Петер раздумывал: не пойти ли за советом туда, на Хаузерскую площадь, где ему так помогли в тот раз? Может быть, Капельмейстер?.. Он ведь совершил тогда настоящее чудо! Прошлая поездка мало-помалу превратилась в воспоминаниях Ларса Петера в какое-то сказочное происшествие. Но когда он дошел до площади и увидел вход в погребок, то все-таки остановился. Как-никак, а часы-то с деньгами у него все-таки исчезли. Он постоял немножко в раздумье, потом повернулся и через Угольную площадь прошел в старые кварталы.
Вот где ему понравилось. В подвальных этажах ютились лавчонки с железным товаром, с шорными изделиями, с дегтем, веревками и другим добром. На панелях свалены были груды разного старья, радовавшего сердце Ларса Петера. Он бы не прочь был когда-нибудь увидеть у себя в телеге такое богатство! Перед москательной лавкой лежали веники и метлы, стояли тачки с обитыми железом колесами, а в простенках висели новенькие сапоги с деревянными подошвами. Вот бы где Ларсу Петеру завести лавочку!
В одном переулке он увидел перед крыльцом, выходившим прямо на панель, большую толпу народа. Это был все свой брат — мужчины в брюках, заправленных в сапоги, и женщины, видимо, привычные копать картофель и свеклу. Все они глазели наверх, где на окнах помещения красовалась надпись: «Контора для найма». Время от времени из толпы выходил кто-нибудь и решительно взбегал на крыльцо. Можно было подумать, что дело шло о явке к начальству, — так они все мялись и робели.
Ларс Петер храбро поднялся по ступеням. Он-то бывал в таких конторах!.. И в передней люди жались в кучу, наступая друг другу на ноги, как овцы.
— Черт побери, не съедят же тут человека! — сказан он, пробираясь мимо них в небольшую комнату, тоже битком набитую мокрыми от пота людьми, — просто не пошевельнуться было. В самой глубине комнаты, позади барьера, по обеим сторонам высокой конторки сидели переписчица и заведующий. Они вызывали людей поодиночке, тыкая в них концом пера, опрашивали их и отбирали, пропуская за барьер и посылая к самому «коммерсанту», так они называли человека, восседавшего в соседней комнате.
— Пожалуйте туда, к коммерсанту! — говорили они.
— Да, знаем мы этих коммерсантов! Торгуют людским потом и кровью! — вполголоса сказал Ларс Петер, вызывающе озираясь кругом. Но никто не осмелился усмехнуться.
Иногда коммерсант сам показывался в дверях и отдавал распоряжения. Он был жирен до неприличия. К тому же черный и смуглый — настоящий сатана, с тонким ястребиным носом на огромном мясистом лице и пучками щетины, росшей прямо из ноздрей, — видать, тут прямо преисподняя! Ларс Петер глядел на него со страхом и злобой, хотя ему самому не было ни малейшего дела до коммерсанта. В толпе же при каждом появлении коммерсанта пробегал трепет. И немудрено: он распоряжался тут не хуже самого бога или дьявола. Говорили, что он нажил себе миллионы этой торговлей людьми. Молодых, красивых девушек он закреплял за собственною конторою, — особенно полек. Верно, заманивал их, чтобы потом отправить в публичные дома больших городов в разных странах света.
Ларс Петер не совсем ясно представлял себе, как ему надо взяться за дело. Ему бы хотелось подыскать девчонке что-нибудь хорошее, но для этого надобно ведь расписать ее необыкновенные качества, а тут, в этой толпе, вряд ли удобно петь ей хвалы, которые просились у него с языка. И вдруг взгляд его упал на объявление над дверью комнаты коммерсанта: «Вновь приехавших девушек просят обращаться в комнату Б, вход из коридора. Есть необыкновенно выгодное предложение». Разбирая по складам эту надпись, Ларс Петер сообразил, как ему действовать, и, не спеша, выбрался из толпы, чтобы никто не догадался опередить его. В коридоре он постучал в другую дверь, замирая от страха, словно преступник, хотя — с чего бы это? Открыла дверь дама, почти не уступавшая толщиной коммерсанту, нос у нее был тоже крючком, и она уставилась на Ларса Петера, как попугай.
— Я насчет одной молодой девушки из деревни, — сказал он.
— Она с вами? — спросила дама. — Мы не берем кормилиц заглазно.
— Так это в кормилицы? Да, оно, конечно, можно бы и самому догадаться, будь у меня хоть чуточку смекалки. А велико ли жалованье, смею спросить?
— Насчет жалованья мы уж столкуемся, если она вообще здорова. Но вы сначала приведите ее, — заявила дама и захлопнула дверь у него перед носом.
Ой, вот так баба! Чуть нос не прищемила! Ларс Петер даже гордился тем, что так храбро вел себя с нею, и быстро зашагал по улице, сдвинув шляпу на затылок. Пока что он отлично устраивал дела! Вот только не по душе было ему, что Дитте попадет в кормилицы — в дойные коровы, так сказать; тут есть что-то такое, чем он был не очень доволен. Понадобилось опять заглянуть в погребок и пропустить рюмочку для прояснения мыслей; водка вообще отличное средство, от нее появляется более широкий взгляд на вещи!
Вышел он из погребка с твердым убеждением, что ежели девчонка поступит на место, где ей дадут хорошее жалованье за то лишь, чтобы она кормила чужого ребенка тем молоком, которое все равно пропадет зря, — то она недаром родилась на свет. И раз можно обойтись соской, — значит, только самые важные господа берут своим грудным детям кормилиц!
Он вошел к Дитте твердым шагом, необычайно высоко подымая ноги.
— Ну-ка, вставай да одевайся, девушка! — сказал он весело. — Я нашел тебе великолепное место. Ты заживешь барыней и будешь кормить, пожалуй, какого-нибудь графчика — ежели тебя не забракуют при осмотре! Потому что ведь кто же покупает дойную корову за-глаза? И господа, небось, хотят знать, за что будут платить деньги.
Осмотра же ей бояться нечего, — любо-дорого взглянуть на девчонку: кругленькая и беленькая, с пышной грудью. У нее, как и у матери, была нежная кожа, но не такая веснушчатая, и фигура покрасивее. А рыжеватобелокурые блестящие волосы доходили ей до поясницы, когда были распущены.
IX Родильный приют
— Звонят! Звонят!
Дитте услышала это восклицание, стоя в маленькой умывальной около кухни, где приводила себя в порядок после какой-то черной работы.
— Звонят! — испуганно передала она сиделке, находившейся в кухне.
Фрекен Петерсен швырнула то, что было у нее в руках, и кинулась по длинному коридору. Вскоре она вернулась, запыхавшись.
— Это графиня! Поторопитесь! Я пока провела ее в контору к надзирательнице.
Быстро нарядившись в парадную форму — белый халатик с глубоким вырезом и короткими рукавами и белый чепчик, — Дитте поспешила в детскую. Когда ввели туда посетительницу, Дитте с обнаженною грудью сидела в белом лакированном кресле, а сиделка обмывала ей грудь стерилизованной ватой, которую обмакивала в белый сосуд с борной водой. Стены в этой просторной трехоконной комнате — «парадной», как называли ее кормилицы между собой, — на высоту человеческого роста были покрыты белыми лакированными панелями, которые так легко держать в чистоте, а над панелями шла белая штукатурка, соединявшая стены с потолком в одно целое. Несколько белых лакированных детских кроваток с бледно-розовыми пологами и два больших белых стола, на которых пеленали детей, составляли главную часть обстановки. Сиделка тщательно прикрыла грудь Дитте белою салфеточкою и со слащавой улыбкой произнесла:
— Ну, вот, теперь я принесу малютку!
Неподалеку от Дитте сидела молодая дама вся в черном и глядела на нее, прищурив глаза. Дитте знала, что у знатных господ считалось хорошим тоном смотреть вот так на людей, прищурив глаза, или через лорнетку. Но все-таки это как-то чересчур бесцеремонно: разглядывать человека, словно мерку с него снимаешь! Вообще же дама была очень мила с виду и совсем молоденькая, не старше самой Дитте. Длинная черная вуаль спускалась у нее сзади со шляпы и означала, что дама вдова, отдававшая свое дитя на вскормление, потому что молоко у нее испортилось от горя или что-нибудь в таком роде. На деле же она вовсе не была вдовой, — так же как и Дитте, она и за муж-то не выходила! Но зато она была настоящей графиней, принадлежала к одной из знатнейших фамилий в стране!.. Да вот грех попутал — связалась с кучером. Подруги Дитте знали все подробности как этой истории, так и других, развязки которых происходили в этом родильном приюте; знали все, как бы ни была запутана каждая история и в каком бы строгом секрете ее ни держали. Дитте, однако, понять не могла, как это графиня согрешила с кучером. Если ей хотелось ребенка, так она могла иметь его от какого-нибудь графа! Графиня была очень хороша собою, ей так шла эта бледность — след недавних родов… или, может быть, «греха»?..
Важным барыням в таких случаях еще тяжелее приходится, чем простым девушкам. Эта, во всяком случае, любила свое дитя и каждую неделю его навещала. Многие являлись сюда только родить и больше не заглядывали.
Сиделка что-то уж очень долго не несла ребенка. Верно, что-нибудь нужно было скрыть: может быть, кожица подопрела, и следовало сначала хорошенько ее припудрить. Дитте сидела и ждала, а хуже этого для нее быть ничего не могло, — ее одолевали тогда грустные мысли. Сколько тяжелого приходило на ум и раздирало сердце. Вдруг шею ее обвила чья-то рука.
— А как поживает ваш собственный малыш? — спросила молодая женщина и прильнула щекою к щеке Дитте.
Ничего хуже этого вопроса, пожалуй, и быть не могло. Лицо Дитте начало подергиваться. К счастью, вошла сиделка.
— Ну вот, сударыня! Разве он не милашка? — сказала она и положила малютку на руки молодой матери.
Та долго глядела на него и затем приложила к груди Дитте с каким-то особенным выражением лица, которое можно было истолковать по-разному.
Дитте ее ничуть не стеснялась и не прочь была бы поговорить с нею. Как ни различны их судьбы, они ведь в некотором роде сестры по несчастью. Но сиделка все время вертелась в комнате, проявляя необыкновенную заботливость о ребенке.
— На надо спешить! Пусть кушает досыта!
Но это было только лицемерие. Украдкой она сделала Дитте знак поскорее отнять ребенка от груди.
Дитте постаралась заставить дитя выпустить грудь, но так, чтобы это вышло как бы само собою. Ей было жалко малютку, но она не смела ослушаться.
— Не может быть, чтобы он был уже сыт, — сказала мать. — Смотрите, как он тянется! Нельзя ли дать ему и другую грудь?
— Нет, нет, никак нельзя перекармливать ребенка, — ответила сиделка. — Он начнет тогда срыгивать и будет плохо развиваться.
Она отняла малютку от груди и передала матери, разрешив ей самой положить его в постельку. Графиня постояла с минутку, наклонившись над ребенком. Когда она выпрямилась, на глазах у нее были слезы. Дитте так бы и бросилась ей на шею и сказала, чтобы она не огорчалась, что мальчик будет получать, сколько ему надо. Но молодая женщина стала прощаться. Она подала им обеим руку и поблагодарила за то, что они так заботятся о ее ребенке. Она сунула Дитте бумажку. Сиделка пошла провожать графиню к выходу, а Дитте во внутренние комнаты — кормить другого ребенка.
Сиделка вернулась.
— Слава богу, один визит сошел благополучно. Лишь бы она не заметила, что мы слишком рано отняли ребенка!
— И жалко было отнимать, он бы еще пососал! — сказала Дитте.
— Ну, молочной каши получит, — сказала сиделка, — другим тоже ведь надо дать грудь; у нас тут не считаются с рангами. Но вы, кажется, приложили ребенка к другой груди? Разве первая в самом деле высосана до капли?
Дитте кивнула. Она не любила, чтобы ее выдаивали до последней капли, до боли в спине.
— Вы вполне уверены? Дайте я посмотрю. — Сиделка надавила пальцем грудь. — Надо бережно расходовать молоко, оно обходится нам недешево… Но графиня, кажется, дала вам на чай?
Дитте нехотя вынула бумажку из-за пазухи и отдала. Фрекен Петерсен унесла деньги и вскоре вернулась с серебряною мелочью.
— Вот ваша доля! — сказала она.
Считалось, что все чаевые должны передаваться старшей надзирательнице, которая распределяет их по заслугам и старшинству. Но вполне возможно, что фрекен Петерсен просто совала кормилицам мелочь, оставляя себе львиную долю. Дитте вообще была разочарована: при найме ее обнадежили, что она будет получать много чаевых. И ей так нужны были деньги! Жалованье свое она получит ведь не раньше, чем через девять месяцев — срок, на который она нанялась. Дитте только теперь поняла, что это было сделано для того, чтобы она не сбежала раньше срока. Но она непременно расскажет графине насчет чаевых!
— Вы ведь никому не болтаете о том, что у нас тут делается… даже вашим подругам? — вдруг резко спросила сиделка.
Дитте испуганно съежилась и прошептала:
— Нет!
Опять позвонили. Фрекен Петерсен слегка вскрикнула и побежала отворять. Она была правой рукой надзирательницы и всегда сама отворяла двери посетителям. У надзирательницы она и переняла эту манеру пугаться звонков. Та всегда с громким оханьем хваталась за сердце; должно быть, оно было у нее не в порядке. Впрочем, испуг заражал всех. Помещение было слишком велико, чтобы звонок из передней был слышен во внутренних комнатах; зато когда начинался сигнальный трезвон по всему коридору, — словно огненная струя пробегала по телу у всех — от самой поясницы до пяток. Кормилицы тоже невольно вздрагивали, а сосавшие грудь младенцы начинали кричать.
Вообще же детского крика здесь слышалось меньше, чем можно было ожидать. У надзирательницы были капли, которые очень успокоительно действовали на малюток.
Зато было много беготни. То и дело слышались звонки, посетители приходили, уходили, и на смену им являлись опять новые, которым нужно было… Да что, собственно, нужно было здесь всем этим людям? Большею частью они сразу запирались с надзирательницей в ее личном кабинете, находившемся как раз напротив входной двери, так что их никто из кормилиц и не видел. София и Петра, впрочем, делали вид, что отлично знают, зачем приходит сюда весь этот люд, да только говорить об этом не хотят.
— Больно ты еще молода, дружок! — с таинственной миной отвечали они на расспросы Дитте.
На этот раз посетителем был не кто иной, как сам коммерсант. Дитте узнала его по грузной поступи в коридоре и по хихиканью сиделки, — словно ее щекотали. Он вечно норовил ущипнуть, толстый боров!
Затем надзирательница отправилась куда-то вместе с коммерсантом на весь вечер, передав бразды правления фрекен Петерсен, а та, как только они ушли, призвала всех трех кормилиц и сказала:
— Мне надо сбегать тут неподалеку… Вы пока, конечно, присмотрите за всем сами? Но непременно будьте неотлучно здесь внизу, помните, какая на вас ответственность.
— Да, да, разумеется! — отвечали они в один голос, но едва фрекен Петерсен очутилась за порогом, как София и Петра убежали наверх в свою комнату прихорашиваться.
А потом Дитте пришлось сойти вниз, чтобы выпустить их, запереть за ними дверь и опять остаться одной и отдуваться за всех. Кроме присмотра за малютками, надо было выстирать целое корыто пеленок да еще ухаживать за больной, явившейся сюда за целых шесть месяцев до родов и лежавшей в самой дальней комнате родильного приюта. Так оно почти всегда бывало: все взваливалось на одну Дитте! Право, это ей порядком надоело, и она готова была забрать свои пожитки да сбежать потихоньку.
Дитте уже немало натерпелась в своей личной жизни, но до сих пор не сделала из этого опыта нужного вывода. Она терпеливо сносила все, не думая никого винить в своих несчастьях, даже тех, кто навлекал их на нее. Она отличалась природным терпением и добродушием; эти качества были лучшим ее наследством, и должно было случиться нечто совершенно необыкновенное, чтобы заставить ее критически отнестись к жизни и предъявить к ней какие-то требования.
Но здесь терпение Дитте испытывалось слишком жестоко, ведь она вообще была не глупа и в конце концов не так уж добра. Она прижила ребенка, — ну что же, дело житейское, в ее быту это не редкость; ей пришлось отдать дитя на вскормление чужим людям, — и в этом нет ничего особенного. Такова доля бедняков, и это в порядке вещей. Но чтобы барышни сбивались с пути и приживали незаконных детей?! Да не дочки хуторян, — таких-то Дитте знавала немало, — настоящие благородные барышни! Этого ей никогда в голову не могло прийти. Они, впрочем, отлично устраивались: ложились в клинику якобы на операцию от той или иной болезни — как вот эта помещичья дочка, что лежала здесь, когда Дитте поступила на место. Домашние ее говорили, что она поскользнулась на лестнице и сломала себе копчик. Она сама со смехом рассказывала об этом здесь, в приюте.
И вот Дитте перестала все принимать на веру, начала сопоставлять одно с другим; то, что она видела в родильном приюте, бросало свет и на многие загадки прошлого. Она случайно попала за кулисы жизни, и действующие лица представились ей в ином свете. Благородные барышни, стало быть, не лучше ее и ей подобных, а она-то воображала!.. Считалось, что они уехали в Париж или на курсы в столицу, тогда как попросту они лежали в таком вот приюте и кричали от родовых мук. «Вот она, кислая отрыжка после сладкого греха», — приговаривали женщины, когда Дитте рожала, но тут эта поговорка была уместнее.
Да, Дитте поумнела. Но от этого у нее еще больше скребло на сердце, — привычные представления о верхах и низах и чувство справедливости были в ней поколеблены. Она могла мириться с разлукой со своим ребенком, видя в этом возмездие за свой грех, могла утешаться тем, что оба они страдают для блага более праведных людей, но с какой же стати у ее ребенка отнимают материнское молоко для других, таких же незаконных детей? Этого она никак понять не могла.
Дитте заводила об этом разговор с Софией и Петрой, когда они втроем собирались вечером в своей комнатке наверху, но те смеялись над нею и обращали все в шутку.
— Какая же ты глупая! — говорила София. — С чего барам быть лучше нас? Но у них есть деньги, а это главное, и какая же девушка по доброй воле оставит ребенка при себе, чтобы старухи ее пилили, а мальчишки дразнили… Я сама сколько раз, идя по улице, жалела, что я не колдунья, не могу перекинуть свое бремя в чужое чрево. Мужчинам, тем и горя мало, умеют улизнуть вовремя; им живо другая на шею повесится и получит такой же подарок. Справедливость — вздор! Так и знай!
Но как бы там ни было насчет справедливости, — обязанности остаются, и они дают себя чувствовать. Тяжко прикладывать к груди чужих детей, давать им высасывать себя до того, что ты еле на ногах держишься, и знать, что твой собственный ребенок валяется где-то у чужих людей и с плачем сосет вместо груди соску!..
Дитте изводила себя такими мыслями и тосковала по ребенку. Каждый раз, как она кормила грудью чужое дитя, ее охватывало болезненное чувство. Да и разочарована она была порядком. Совсем не то сулили Ларсу Петеру и ей, когда нанимали ее. Оба они думали, что Дитте поступает кормилицей в знатный дом, где барыня слишком важна и нежна, чтобы самой кормить. Обещали ей, что и одевать ее будут на господский счет — во все белое. А вместо того она стала мамкой в «приюте ангелов».
Так выражалась София. Дитте не любила этого выражения. Но она пользовалась им в минуты озлобления, чтобы сорвать сердце. В белый халатик она наряжалась только для посетителей, вообще же чаще ходила замарашкой и делала всякую черную работу, а в промежутка должна была кормить то того, то другого младенца. Выходных вечеров здесь вовсе не полагалось, — все три девушки были наняты без права распоряжаться своим отдыхом в течение всего срока найма. Объяснялось это опасением, что они могут занести в приют заразу из домов своих бедных родных и знакомых. Но София и Петра полагали, что надзирательница скорее опасалась их болтовни о том, что делается в приюте. Каждый день после обеда сиделка гуляла с двумя из девушек, а третья под наблюдением самой надзирательницы управлялась с делами: таким образом, на свежем воздухе они все-таки бывали.
София и Петра наверстывали свое в те ночи, когда дежурила Дитте. И ей приходилось сначала сторожить у окна, потом бегать вниз и отворять им дверь, когда они подавали сигнал. Обе они были бойки на язык и посмеивались над деревенскою простоватостью Дитте, но, в общем, были добродушны и всегда готовы помочь ей, так что она с ними уживалась. Им, однако, никогда не приходило в голову брать ее с собою по ночам.
По их мнению, она была из другого теста, чем они сами.
X «Ангелочки»
— Ах, милые мои ангелочки! Им нужно солнышко! — говорила надзирательница, пододвигая кроватки к окошку, откуда падала на пол скудная полоска света. Это здесь называлось солнышком. А когда отворяли окошко и комната наполнялась вонью из труб соседнего газового завода, — это называлось свежим воздухом.
Дитте с фру Брам остались одни дома — фрекен Петерсен повела на прогулку Петру и Софию. Дитте прибирала комнаты и присматривала за малютками, а надзирательница фру Брам большею частью сидела в кресле, болтая о том о сем. Да Дитте и не нуждалась в помощи; дети вообще не были избалованы уходом, и в данное время их было всего четверо. Один ребенок только что умер, а двое просто исчезли из приюта, — верно, их отдали в частные семьи.
— Ох, у нас бывало до двадцати малюток одновременно, — вздохнула фру Брам. — Не повезло нам… Было несколько несчастных случаев… А люди ведь так подозрительны!
Она простодушно глядела на Дитте, глаза у нее были бесхитростно-доверчивые, как у собаки, никогда не выражавшие ни гнева, ни силы характера, разве иногда испуг. Вся она была какая-то рыхлая, безвольная, лицо и руки словно у расслабленной. Сколько Дитте ни подкарауливала, никогда не могла поймать надзирательницу ни в чем дурном, и если бы не слушать товарок, а только верить своим впечатлениям, то Дитте скорее всего считала бы фру Брам хорошей женщиной. Дышала надзирательница с присвистом — у нее была астма, — всегда ходила в черном шелковом платье и глядела так, как будто ровно ничего не понимала — простоватая, вечно озабоченная.
— Ох-хо-хо! Бедные ангелочки! — повторяла она. — Да, жених мой частенько бранит меня за то, что я все не решаюсь расстаться с этим приютом… Бы ведь знаете,» что коммерсант мой жених? «Мы только зря тратимся», — говорит он. И правда, за все труды и хлопоты одна черная неблагодарность. Но вот кончится установленный законом срок, и мы с ним уедем на юг… Там климат здоровее для астмы. Конечно, мы сначала поженимся. Вы ведь знаете, что раньше трех лет после развода не дают разрешения на новый брак, потому что ведь надо выждать последствий первого супружества.
— Последствий?! Да разве их три года ждут? — но могла не расхохотаться Дитте.
— Ну… Не всегда же люди сразу окончательно порывают друг с другом, если даже развелись. Ох-хо-хо! Да, милые мои ангелочки!
Звонок! Фру Брам так и схватилась за сердце от неожиданности и едва-едва поднялась на ноги.
Дитте на цыпочках прокралась в «парадную» комнату и стала прислушиваться у стенки, отделявшей комнату от кабинета надзирательницы. Там слышались молодые голоса: мужской говорил что-то сдержанно и медленно, женский время от времени прерывал его речь рыданиями. Слов Дитте не могла разобрать. Но вдруг мужчина проговорил громко и отчетливо:
— А вы разве не могли бы помочь нам… отделаться?..
— Да, да, пожалуйста, голубушка! — сказала женщина и снова громко зарыдала.
Надзирательница что-то ответила, как всегда, тягуче и простоватым тоном. Потом все стихло, и Дитте улизнула из комнаты.
Вскоре они появились в «парадной» комнате. Дитте разглядела их в замочную скважину: совсем еще молодую женщину, бледную-бледную, с красными заплаканными глазами, и мужчину, постарше, в длинном черном сюртуке, похожего на пастора.
— Эту комнату мы не можем вам отдать, — сказала надзирательница, — здесь спальня милых малюток. Но мы поместим вас в спокойной комнате, на солнечной стороне.
— Да, да, — всхлипнула молодая женщина.
Друг держал ее за руку, как бы оберегая от всякой опасности.
— И все это останется в полном секрете? Наверное? — спросил он.
— Будьте совершенно спокойны, — ответила надзирательница, — мы тут немы, как могила! Но вы должны записаться заблаговременно, — у нас большой спрос на комнаты.
Когда надзирательница вернулась, Дитте стояла в длинном коридоре, у кухонной двери.
— Можно мне на минутку уйти? — спросила она.
И, быстро поднявшись по кухонной лестнице к себе наверх, она бросилась ничком на постель и зарылась лицом в перину, содрогаясь от ужаса. Да, ужас, ужас!.. Бедная, измученная девушка!.. И он… тот, что держал ее за руку! И сама она!.. Сил нет выдержать все это! Сердце разрывалось от жалости к несчастной девушке, которая проходила теперь через все муки, знакомые Дитте, и от жалости к самой себе, — ее-то никто не держал тогда за руку! И тоска охватывала ее, тоска по родному дому, по отцу и ребятишкам… по своему собственному малышу. Нет, как ужасно жить на свете!.. Она даже плакать не могла, только терзалась и ужасалась… «Отделаться! Отделаться!» — стонало у нее в ушах. И вдруг что-то всплыло в ее памяти… какой-то ужас! Бабушка не раз говорила ей в детстве о том, как хорошо, что не удалось загородить Дитте дорогу на свет божий. «А то каково бы пришлось теперь несчастной старухе, на кого бы ей опереться, не будь тебя?» — восклицала бабушка, заливаясь слезами в припадке страха и благодарности судьбе. Дитте так ясно запомнила это потому, что ее долго занимала загадка: почему и как хотели загородить ей дорогу на свет? И, раздумывая об этом, она рисовала себе приблизительно такую картину: кухонная дверь заперта, ее не пускают к бабушке, и она должна остаться на дворе, в потемках и в слезах. Но, значит, то было в таком же роде?! От нее тоже хотели «отделаться»! Дитте оледенела при этой мысли. Да, она ведь родилась незаконной, вдобавок в бедной семье… Для таких, как ее мать и она, не существует родильных приютов. Им остается либо «отделываться», как знают, либо нести все тяжкие последствия греха.
Раздался долгий звонок над постелью Дитте. Она вскочила и поспешила вернуться к своим обязанностям.
Невеселы они были, но все-таки после этого открытия Дитте втайне радовалась, что ей-то не смогли загородить дорогу на свет божий. Иначе, что стал бы делать без нее отец… и ребятишки? Да и каково это было бы ей самой — не родиться живой на свет? Да, несмотря ни на что, Дитте отнюдь не тяготилась жизнью!
Впрочем, она всплакнула втихомолку не один раз. А когда Дитте прикладывала потом к груди чужое дитя, сердце у нее так и перевертывалось. Она делала над собою усилие, но зато давала волю чувствам, когда оставалась одна, — слезы облегчали, обмывали все темные закоулки души.
Временами вспыхивала в ней и ненависть или, скорее, озлобление против тех, которые так легко отделывались от своих детей и разлучили Дитте с ее ребенком. Но ведь какой же надо быть жестокосердной, чтобы не смягчиться, держа на руках хоть и чужое, но беспомощное, крохотное существо! Дитте, во всяком случае, не была на это способна.
Трудно оказалось и привыкнуть к городской жизни, труднее, чем предполагала Дитте. Никогда и нигде еще не чувствовала она такого одиночества, как здесь, хотя людей было полно вокруг. Животных здесь совсем не видно было, даже кошки, которая бы приходила и терлась возле ног, выпрашивая лакомый кусочек. Дни тянулись, темные и серые. Большую часть зимы приходилось уже с середины дня зажигать огонь в кухне. И куда ни погляди — серые гладкие стены домов, водосточные трубы и целое море крыш и дымовых труб. Есть, правда, улицы, залитые светом, с роскошными магазинами, где в окнах выставлены были все сокровища мира. Дитте наслышалась о них задолго до того, как попала сюда, и они часто снились ей. Но она не прочь была бы посмотреть на них собственными глазами и, пожалуй, зайти туда прицениться. Она обещала ребятишкам кое-какие игрушки, и когда срок ее найма кончится и она получит жалованье, то… Мысль о жалованье служила ей утешением в тяжелые минуты. Сколько она всего накупит, когда получит свои деньги!
— Ничего ты не получишь! — сказала ей раз София. — Слишком ты добра и проста. Или ты думаешь, нас тут морят да изводят всячески, чтобы потом расплатиться с нами по чести? Как бы не так! И, право, мне скоро надоест терпеть. Не вижу я разве, и чему это клонится? Хотят довести меня до белого каления, чтобы заставить бросить место до срока. Тогда ведь я потеряю жалованье. Но нет, шалишь! Если я выдержала восемь месяцев, то уж как-нибудь дотяну девятый. А если она уж чересчур насядет на меня, то… — Она многозначительно кивнула.
— Что тогда? У хозяев вся власть и все права! — сказала Дитте, вспомнив, что было с нею на Хуторе на Холмах.
— Я потребую свое жалованье и пригрожу, что иначе донесу на них. Не очень-то, пожалуй, обрадуются этому! Я потребую жалованье сполна и, может быть, даже еще на харчи… Жених мой говорит, что я имею на это право. Не хватает только, чтобы я им подарила деньги!
И в самом деле, долго ждать не пришлось: София устроила скандал своим хозяевам. Без сомнения, ее выживали, особенно фрекен Петерсен. Каждый день на Софию сыпались упреки за то, что у нее молоко совсем пропало. Наконец терпение ее лопнуло, она пошвыряла все, что было у нее в руках, и потребовала, чтобы ей заявили прямо: чего от нее хотят? Если угодно, чтобы она ушла, — она готова! Фрекен Петерсен призвала двух других кормилиц в свидетельницы и отказалась выдать Софии жалованье. Но через час в парадную дверь позвонили. Это явилась София с женихом. Пришлось надзирательнице вежливо принять их в своем кабинете. А вскоре София влетела в «парадную» комнату с самым победоносным видом, широко расставив локти.
— Надо же по-человечески попрощаться с подругами! — сказала она, размахивая двумя сотенными бумажками.
Дитте вся дрожала от волнения, и ее бросало то в жар, то в холод. Никогда не думала она, чтобы служанка могла так припереть к стене своих хозяев!
— Это потому, что ей много известно о нашем приюте, — флегматично сказала Петра.
Новой кормилицы на место Софии не взяли, и Дитте с Петрой вдвоем стали выхаживать четверых младенцев. И так как Дитте родила позднее других, то на нее и взвалили главную тяжесть. К счастью, новых питомцев не брали. Петра полагала, что дело идет к закрытию приюта:
— Опасаются Софии, слишком много ей известно!
Что же такое было известно Софии, да и Петре тоже, и чего не могла знать Дитте? Она отлично видела, что многое тут неладно, — почти все. «Милые детки!», «Дорогие малютки!» — говорили здесь. Но это были только слова, на деле же все здесь были равнодушны к детям, не любили их и только думали о своих выгодах. Должно быть, однако, здесь творилось еще что-то такое ужасное, чего Дитте и представить себе не могла в своей Простоте. Да, без сомнения! Она чуяла что-то недоброе, независимо от намеков товарок. В этом приюте всем было как-то не по себе. Пациентки, поступавшие сюда, старались поскорее выбраться отсюда. Все здесь было окутано каким-то зловещим мраком, загадочностью. Фрекен Петерсен и фру Брам жили в вечной тревоге и нервном напряжении. А все эти таинственные посещения, большей частью в вечернее время?.. Какие-то женщины, то бравшие, то приносившие малюток, дамы под густыми вуалями, в сопровождении мужчин… И часто дело кончалось сюрпризом для Дитте: одни малютки исчезали, словно на небо улетали, — верно, их отдавали в частные руки на вскормление; другие словно падали с неба прямо в кроватки! Дитте находила их там утром, когда спускалась вниз из своей комнаты, а еще вечером, накануне, когда она уходила к себе, там лежали совсем другие. Иной раз ее пытались уверить, что ребенок тот же самый, но Дитте не верила — ведь каждый ребенок берет грудь по-своему. Иногда случалось, что тот или иной ребенок умирал. Дитте всякий раз искренне горевала: так тяжело было глядеть на желто-восковой детский трупик, лежавший словно свечка, которая уже никогда больше не затеплится. Смерть всегда заставляла ее содрогаться! София и Петра более спокойно относились ко всему.
— Младенцу теперь лучше, чем нам, — обыкновенно говорили они. — Он избавился от многих мук!
Бывало и так, что ребенок исчезнет и вдруг появится снова через несколько дней. Говорили, что он был на исследовании в детской больнице. Но Дитте узнала, что детей просто давали напрокат, когда нужно было обманом установить отцовство или право наследства. Если это удавалось, надзирательница получала половину выигранной по суду суммы.
— Какая же она гадкая! — сказала Дитте. — Делать такие вещи из-за денег.
— Она просто дурища! — возразила Петра. — Добро бы она сама получала деньги, а то их берет себе коммерсант! Ведь приют принадлежит ему, и он выставляет себя женихом только для того, чтобы заставить ее плясать под его дудку.
Вот насколько была откровенна Петра, но, дойдя до известного предела, она останавливалась, и уже никак нельзя было из нее что-нибудь вытянуть. Она выросла в глухих переулках, на задних дворах и научилась держать язык за зубами, когда нужно.
Дитте не хотела дольше оставаться здесь, у нее прямо сил не хватало, и она решилась сбежать отсюда при первом же случае. Сейчас она сидела у себя в комнатке на мансарде и писала письмо отцу, стараясь объяснить ему свое положение. В деревне ведь считается чуть не преступлением уйти с места до срока, и отец был бы страшно огорчен. Было очень поздно, и она чувствовала смертельную усталость. Перо мазало, и Дитте не знала, пишется ли «стирка» с большого или с маленького «с»?
Пришла Петра.
— Ох, милые мои ангелочки! — передразнила она надзирательницу, проходя через комнату. — Ох, дорогие малютки! — И она бросилась на свою кровать.
— Ты улизнула с дежурства? — спросила Дитте. — Верно, все ушли?
— Нет, надзирательница сказала, что я могу пойти отдохнуть, она сама подежурит пока.
— Вот так диво! Что же это значит?
— Видимо, я буду там лишней… Фу, гадость какая! — сказала Петра, гримасничая.
— Отчего ты ведешь себя так странно… строишь гримасы?
— А тебе-то что? Пишешь и пиши своему возлюбленному! — ответила Петра и повернулась лицом к стене. Через минуту она вскочила и, хрипло проговорив: — Ну, я завалюсь спать, и мне дела нет ни до чего! — принялась раздеваться.
Дитте продолжала потеть над своим письмом. Она ведь недолго училась в школе и успела уже перезабыть почти все.
— Как пишется большое «Д»? — спросила она Петру.
— Ты думаешь, я знаю? Выведи какую-нибудь закорючку. Он, небось, разберет.
— Я пишу домой, — сказала Дитте, — у меня ведь нет возлюбленного.
— Ребенок есть, а возлюбленного нет? Вот так удивила! Уж лучше было бы наоборот! — И Петра скоро заснула.
Дитте сложила письмо и спрятала под скатерть до случая, когда можно будет отправить его с кем-нибудь.
Поручать это фрекен Петерсен было мало толку, письмо никогда не дойдет. Ложась в постель, она подумала о своей новой питомице, белокурой девчурке, к которой успела привязаться. Собственно говоря, пора было бы покормить малютку, но Дитте не смела спускаться вниз без зова. Ей бы позвонили в случае надобности.
Когда она сошла утром вниз, в воздухе пахло чем-то странным; фрекен Петерсен украшала цветами смертное ложе, надзирательница сморкалась в платок и охала: «Ох, бедный ангелочек!» И доктор, друг дома, был уже здесь, — сидел за столом и писал свидетельство о смерти. Оказалось, что умерла как раз новая питомица Дитте. Личико, обрамленное белокурыми кудрями, так мило покоилось на подушке; глазки были полураскрыты — как будто никто не должен был знать, что она смотрит на Дитте… Ох, было от чего прийти в отчаяние!
Дитте наклонилась поцеловать малютку на прощание, погладила дрожащею рукою ее головку. Никто не смотрел в эту сторону, и она могла спокойно поцеловать ребенка. Сиделка наливала рюмку портвейна доктору.
— С утра-то? — сказал он хрипло, но выпил. Руки его тряслись.
И у Дитте рука задрожала, нащупав под кудряшками малютки, на самом родничке, головку булавки! Дитте с криком упала на пол.
Вечером она сбежала. Петра помогла ей собрать и вынести на улицу пожитки и дала ей адрес одной знакомой семьи на Дворянской улице, где Дитте могла найти временное пристанище.
Через день и сама Петра пришла туда, — ее рассчитали.
— Они рады были, что ты сбежала, можешь быть спокойна, — сказала Петра. — Теперь твое жалованье останется у них в кармане. Я на твоем месте пошла бы требовать его и пригрозила им полицией! Вот что!
Но Дитте ни за что не хотела возвращаться в приют; ноги ее никогда не будет больше в этом аду!
XI Дитте — «своя» в семье
Дитте ночевала у знакомых Петры, в семье рабочего. Семья занимала одну комнату, в глубине большого двора одного из самых старых домов по Дворянской улице. Такого тесного и убогого человеческого жилья Дитте еще не видывала. Комната была перегорожена, и в уголке за перегородкой помещалась кухня, величиной с обыкновенный стол. В одной из стен комнаты было что-то вроде алькова, где спали муж с женой и с ними малютка Петры, которого она отдала им на воспитание. Двое ребятишек хозяев спали на стульях, а Дитте разрешено было лечь на диване с высокой спинкой, которым хозяева вообще чрезвычайно дорожили. Приобрели они его в рассрочку. Он был обит красным плюшем, который отдавал чем-то затхлым. В этом заплесневелом доме, впрочем, от всего пахло сыростью и гнилью; пол опустился на несколько вершков ниже порога, и хозяйке каждый вечер приходилось складывать остатки еды в тарелку и прикрывать ее сверху другой тарелкой, чтобы крысы не съели.
Когда Дитте утром помогала двум маленьким хозяйским девочкам одеваться, не оказалось одной подвязки. Крысы стащили ее и наполовину запихали под порог.
— Да, вот каково живется здесь бедным людям, — сказала хозяйка, возившаяся около окна. — Вот столичная роскошь, за которой мы в молодости бросились из деревни очертя голову: модная прическа и крысы под ногами! Я бы на твоем месте поскорее вернулась назад в деревню, пока не поздно; там хоть попросторнее живут. Но что толку читать проповеди глухому?
Как! Вернуться домой ни с чем, чтобы тебя высмеяли? Ни за что!
Хозяйка свела потом гостью на утол, где в витрине вывешивался листок с объявлениями одной большой газеты; здесь Дитте могла подыскать себе подходящее место.
— Но чего-нибудь путного ты теперь не сыщешь, — предупредила ее женщина. — Кто меняет прислугу не в срок — немногого стоит. Впрочем, временно можно взять первое попавшееся место.
Дитте остановилась на скромном объявлении: искали девушку в маленькую офицерскую семью, к молодоженам. Жалованье предлагалось скромное, но зато девушка будет «за свою» в семье. Это Дитте понравилось.
— Я так одинока здесь! — сказала она.
Но мадам Йенсен вовсе не пришла в восторг.
— Я всегда предпочитала хорошее жалованье хорошему обхождению, — сказала она. — Хорошее обхождение вместо жалованья дешево стоит. Быть «за свою» в семье — спасибо; знаем мы это! Имей в виду, что свинья попадает в дом только потому, что должна быть съедена.
Но выбирать и браковать на этот раз не приходилось, да ведь и не замуж шла Дитте, а в услужение. Они отправились вместе на Речной бульвар, и Дитте сразу же поступила на место.
Эта забота, стало быть, с плеч долой, и Дитте снова могла строить планы. В семье оказался ребенок, полугодовалый мальчуган. В газетном объявлении о ребенке не упоминалось, и барыня при найме о нем не обмолвилась, полагая, вероятно, что Дитте сама сделает это открытие. По правде сказать, Дитте устала возиться с детьми и теперь не прочь была бы отдохнуть от них некоторое время. Но из-за этого не стоило поднимать историю, так как вообще место показалось ей подходящим. Квартирка маленькая, офицер редко бывал дома, занятый службой, то в фортах, то в лагере, и барыня сама помогала Дитте по хозяйству.
Она была очень общительна, и Дитте скоро узнала, что отец ее вел торговлю в провинциальном городке, куда офицер приезжал в командировку, и что ей посылают из дому продукты.
— Но вы, ради бога, не проговоритесь об этом при муже! Его военная гордость не позволяет ему принимать помощь съестным, — я обязана вести хозяйство на те деньги, что он мне выдает. Он считает меня более практичной, чем я есть на самом деле, и я, конечно, не разубеждаю его!.. А вы любите военных? По-моему, красивее военного мундира ничего быть не может! И посмотрели бы вы, как носит его мой муж!
Жалованье Дитте положили маленькое — всего пятнадцать крон в месяц.
— Больше мы не в состоянии платить, — говорила хозяйка. — Военные очень плохо обеспечиваются. Муж мой говорит, что так всегда было: кто жертвует за родину своей жизнью и кровью, тому не сладко живется. Но зато, разумеется, нам почет!
— В нашей квартирке нет комнаты для прислуги, — говорила барыня, — и муж мой того мнения, что, раз девушка должна спать в столовой, на нее следует смотреть, как на члена семьи, и доверять ей ребенка!.. Он не любит оставлять ребенка на ночь в спальне; говорит, что это мешает нам чувствовать себя по-настоящему молодоженами. А вам ребенок ведь не мешает?.. И вдобавок это — доверие! И вы научитесь кое-чему… Это тоже надо принимать в расчет при определении жалованья. Везде обучение платное, а вот домашнюю прислугу не только обучают задаром, но еще ей же приплачивают!
Так болтала она без умолку, когда они вместе что-нибудь делали. Она была маленькая, кругленькая, с пухлыми румяными щечками, простая и обходительная. Но дельной назвать ее нельзя было, — Дитте, по правде сказать, считала ее просто бестолковой. Вдруг в самом разгаре работы — мытья полов, например, — Дитте получала приказание оставить все и везти малютку в колясочке гулять!
— Он будет военным, и ему необходим свежий воздух, — заявляла барыня. — Я сама все сделаю за вас, что нужно.
Но, когда Дитте возвращалась, дело оказывалось несделанным. Молодая барыня только щебетала на разные лады! Стряпать она тоже не умела и за обедом обходилась то сосисками, то фрикадельками из готового фарша.
— Вот бы мужу обедать сегодня дома! — восклицала иногда барыня. — Он у меня такой разборчивый!
Да, по ее описаниям, он был вообще необыкновенный человек, и Дитте сгорала от нетерпения увидеть его. Все здесь было для нее ново, и она представляла себе все по-своему. Офицеров она вообще не видывала близко, а теперь вдруг попала в дом к офицеру, «жертвовавшему за родину жизнью и кровью».
Юная фантазия Дитте усердно работала и создала могучий воинственный образ настоящего богатыря с устрашающей наружностью и с огромным мечом, который он держал в обеих руках! И ноздри у него раздувались!
— Муж мой ужас какой горячий! — признавалась барыня в припадке откровенности.
Вот было разочарование, когда он недели через две вернулся из лагеря! Новый хозяин Дитте оказался стройным, щеголеватым офицериком с светлыми и такими жиденькими усиками, про которые в деревне говорят, что их нужно удобрять куриным пометом. Пробор у него доходил до средины затылка, и офицер возился над ним без конца, — ему все казалось, что пробор вышел недостаточно ровным. А длинная сабля путалась у него между ногами. Вдобавок он носил корсет — обстоятельство, в глазах Дитте до того смехотворное, что она даже ночью, проснувшись и вспомнив об этом, хохотала до слез.
Чуть что было не по нем, он принимался истерически кричать. И страшно бранился, если не все мелочи его военной формы были безукоризненно вычищены и прилажены. Молодая барыня плакала и приходила в отчаяние, но, едва муж успеет отправиться из дому, как она уже смеялась.
— Ах, он такой вспыльчивый! Уж очень его изводят эти тупоголовые рекруты! — говорила она.
Конечно, хорошо быть «за свою» в семье, но Дитте не хватало своего утла — пусть бы это был хоть чуланчик под лестницей, где бы она могла посидеть минутку на кровати, сложа руки и ни о чем не думая, или всплакнуть по своем ребенке — вообще побыть с самой собою! В ней стала просыпаться потребность пожить для себя лично, бывать с молодежью из ее среды, общаться с равными себе. Другие девушки, служившие в их доме, имели «выходные» вечера, когда знакомые кавалеры поджидали их под воротами, и они шли вместе на танцы или на гулянье. Дитте тоже хотелось бы пойти погулять, но барыня не пускала.
— Мы ведь отвечаем за вас, — говорила она. — Неужели вы хотите шляться по улицам вечером!
Дитте не видела ничего зазорного в том, чтобы погулять вечерком с молодежью, — днем-то ведь некогда было. Но на языке барыни это называлось «шляться по улицам». Порядочная девушка никогда этого не позволит себе, а будет скромно сидеть дома. И барыня с негодованием рассказывала, что какие-то господа застали в комнате у своей прислуги гостей, распивавших кофе. Вдобавок — мужчин! И кофе был с господского стола!
— Вы радуйтесь, что мы бережем вас! — внушала она Дитте.
Впрочем, с возвращением домой хозяина порядки изменились: господа стали сами уходить из дому чуть не каждый вечер. А если редкий раз оставались дома, то Дитте узнавала об этом лишь в последнюю минуту, когда уже поздно было сговориться с кем-нибудь. И она либо шла к Йенсенам, на Дворянскую улицу, либо одиноко бродила по улицам часа два и скучала.
— Поступай на другое место, — советовала мадам Йенсен. — Мало ли мест!
— Надо же отказаться заранее, — отвечала Дитте.
— А ты просто сбеги!
Нет, на это она все-таки не соглашалась. Жалко было барыню, — она такая беспомощная. Да и славная!
— Вы ведь не сбежите от нас, надеюсь? — сказала барыня однажды, словно чуя что-то, когда они вместе мыли посуду. — Так хорошо, что вы попали к нам. Мне всегда хотелось иметь в доме девушку прямо из деревни. Здешняя копенгагенская прислуга такая избалованная. Если дом не на господскую ногу, они и жить не хотят. Требуют себе отдельную комнату с печкой, обед из двух блюд с десертом и выходные вечера! Муж мой говорит, что, попади они только под его команду на неделю-другую, он бы их так вышколил!.. И я ужасно рада, что вы любите детей. Почти все девушки, которые служили до вас, сбежали. А последнюю мой муж сам прогнал! В самом деле, разве уж так трудно посидеть вечером с маленьким? Он себе сшит, а вы все-таки не одна. Но знаете, что она делала? Мы с мужем иногда уходили в гости, а ее оставляли с малышом и думали, что она сидит около него. Но мы понять не могли, отчего мальчик стал такой бледный. И вот однажды мы уехали с бала раньше — мне нездоровилось, — и вдруг муж говорит мне: «Смотри, не Клара ли это впереди нас катит колясочку, а рядом с него гусар?» — «Ты с ума сошел? — говорю я. — У Клары нет ребенка, и вдобавок она сидит дома, караулит нашего мальчика!» И все-таки это оказалась она с нашим малюткой, на улице, в полночь! — Барыня даже прослезилась. — Муж мой хорошенько взялся за нее, и она призналась, что почти две недели подряд проделывала это — возила ребенка в танцульку и оставляла там в гардеробе, пока сама отплясывала со своим гусаром! Разве это не ужасно? Можно ли поступать так бессердечно с беззащитным малюткой?.. И из-за чего? Чтобы только поплясать самой!
Она прижала к глазам платок и вдруг бросила все, кинулась в гостиную и распахнула окно. С бульвара доносился неистовый звон. Она позвала Дитте:
— Это едет «скорая помощь»! Что бы там могло случиться?.. Я, когда выхожу из дому, всегда надеваю глухие панталоны и кладу в портмоне свою визитную карточку — на всякий случай!
Однажды Дитте, к большой своей радости, получила по почте фотографию своего мальчика. Приемные родители возили его крестить и заодно сняли. Назван он был Йенсом в честь приемного отца, писали они, и был такой крепкий, здоровенький, но ужасный крикун и все бы сосал и жевал. Дитте от души посмеялась, прочитав это. Да, он всегда был маленьким обжорой!.. И по карточке видно, какой он упитанный. Немножко странно только показалось ей, что ему дали имя — даже не спросив ее — в честь постороннего человека! Но зато какой он славный в как важно сидит среди пальм и колонн, растопырив пухлые ручонки! — И одевают они его нарядно!
Как хорошо было бы теперь иметь свою каморку с комодом, на котором стояла бы эта карточка! Взглянешь на нее нечаянно — и сразу повеселеешь! Несколько дней Дитте носила фотографию за пазухой, но затем подумала, что от тепла ее тела она испортится и начнет линять! Тогда она поставила карточку на буфет в столовой. Но, вернувшись домой после обеда с гулянья с хозяйским ребенком, не нашла карточки на месте.
— Ах, портрет? — сказала барыня. — Да, с ним вышла неприятная история. Муж мой вернулся, увидел и страшно рассердился, чуть не бросил карточку в печку. Но мне удалось все-таки спасти ее. И как это вам могло прийти в голову поставить ее тут?
Она достала из ящика карточку — слегка поцарапанную, и у Дитте навернулись слезы.
— Он премиленький, — сказала барыня, чтобы утешить ее. — Это ваш братишка?
— Это мой собственный ребенок! — едва выговорила Дитте.
— Ах, извините!.. Как жаль, что так вышло!.. — Молодая барыня взяла ее обеими руками за щеки. — Вы уж не сердитесь. Я куплю вам для него хорошенькую рамку. Знаете, я ведь тоже немножко поторопилась со своим… — прибавила она со слезами на глазах. — И можете себе представить, каково мне было, пока я носила его, не зная, женится ли на мне Адольф! Ах вы, бедняжка! — И она поцеловала Дитте, добродушно смеясь сквозь слезы.
Этого было достаточно, чтобы у Дитте не хватило духу сразу отказаться от места. Но она так устала! Правда, работы было немного, но что толку? Она все равно никогда не бывала свободной. Даже ночью не отнимала руки от колыбельки, чтобы покачать, чуть ребенок пискнет. Офицер терпеть не мог, чтобы его ночью беспокоили.
У Дитте как-то пропала всякая охота возиться с детьми. И впервые в жизни нянчила она ребенка, не только не чувствуя к нему привязанности, но даже ловя себя на прямом недоброжелательстве к нему. Она нянчила его, потому что так уж пришлось, вставала к нему по ночам, грела для него молоко и перепеленывала его, но безучастно, как неживой сверток, и знала про себя, что ни чуточку не огорчилась бы, если бы нашла его утром мертвым, как тех ангелочков в приюте, которых она так оплакивала. В последний вечер месяца Дитте пересчитала свое жалованье несколько раз и безнадежно вперила взгляд в пространство. Господ опять не было дома. Потом Дитте достала из дивана старый брезентовый мешок, в котором держала свои пожитки, и принялась вынимать оттуда и раскладывать на обеденном столе разные разности — как всегда, когда ей становилось скучно. Но вдруг живо побросала все в мешок, согрела и дала малютке бутылочку с молоком, накинула на себя старенькую кофточку и — сбежала. По лестнице она мчалась, словно спасаясь от погони, но на улице на нее напало отчаяние при мысли о том, что она сделала, о брошенном малютке, обо всем… Назад вернуться она не хотела, уйти своей дорогой не смела, вот и осталась сидеть на скамейке на бульваре, время от времени прокрадываясь во двор дома послушать: не кричит ли ребенок. Да и ночник мог накоптить, или пожар сделаться, или стрястись другая ужасная беда. И только завидев возвращавшихся домой господ, она поспешила на Дворянскую улицу, к Йенсенам.
XII Дитте возведена в горничные
Будильник отчаянно трезвонил. Кухарка Луиза скатилась с кровати и окликнула Дитте. Это не помогло; тогда она принялась трясти ее и едва-едва добудилась. Уже сидя на кровати, Дитте все еще в полусне, не в силах очнуться.
— Ей-богу, она опять заснет сейчас! — воскликнула кухарка и схватила кувшин с водою. Кувшин шаркнул о дно умывального таза, и перспектива холодного душа заставила Дитте проснуться окончательно.
— О, как я устала, устала! — жаловалась она со страдальческим видом.
— Ладно, ладно! Одевайся поскорее! — сказала Луиза. — Сейчас выпьем по чашке крепкого кофе, и все как рукой снимет.
— Да ведь буфет-то еще заперт, — послышался унылый ответ.
— Как! Заперт! Дура я, что ли? — сказала кухарка, повертываясь к Дитте своим пышным задом. — Нет, я, не будь глупа, отсыпала себе вчера кофе на целую неделю вперед. Ха! Скупиться на горсточку кофейных зерен для прислуги и что ни вечер швырять деньги на гостей! По-твоему, дешево обходятся такие пиры, как вчерашний? Тут небось ничего не жалеют, а ты потом трясись да выгадывай каждый грош, чтобы сократить расход! Нет уж, сколько выйдет, столько и выйдет! Недавно утром, после пира, приходит ко мне в кухню наша «королева праздника», — кухарка запомнила эту фразу из тоста в честь хозяйки дома, — и давай вытаскивать из помойного ведра косточки от телячьих котлеток. «Вы, — говорит, — хорошенько сполосните их, Луиза, из них можно суп сварить — из костей отличный суп выходит». А я терпеть не могу, когда барыни в кухню нос суют, — только беспорядок от них. «Кто же, — говорю, — суп этот есть станет?» — «Все мы, — говорит она этак колко, — но если вы думаете, что для вас он не годится, то мы можем приготовить вам особое блюдо!» А я и ответь, что этим уж ей самой придется заняться! Вот она и прикусила язык. Стряпать-то она ведь совсем не умеет. Все они, впрочем, в этом ничего не смыслят… Только и могут, что накрошить на блюдо свеклы да морковки и называют это крошево итальянским салатом. А считается, что барыни сами хозяйничают. И сидят за столом да хвалят друг дружку: «Ах, как у вас все вкусно, госпожа директорша! Вы великолепная хозяйка!..» Да, как же! Попробовали бы гости ее собственной стряпни, небось скоро перестали бы ходить сюда!
Луиза продолжала ворчать, пока бинтовала ноги, распухшие, все в венозных узлах. Потом накинула на себя платье и заторопилась вниз. Дитте, следуя за нею по пятам, взмолилась:
— Уж ты помоги мне и сегодня, пожалуйста! Хоть немножко!
Дитте уже несколько раз приходилось по утрам делать уборку после гостей — господа ее часто задавали пиры. Вообще она была теперь далеко не новичком, но все же невольно содрогалась, входя утром после такого пира в барские комнаты. Везде — на шкафах, на столе, на мягкой мебели — раскиданы пепельницы, и вокруг каждой — горы пепла, обгорелых спичек, сигарных и папиросных окурков. Бутылки и стаканы прилипли к мокрому от пролитого вина столу, вся мебель и портьеры пропитаны запахом спирта и табака. Не знаешь, с чего начать и чем кончить уборку!
Первое время Дитте вся в слезах просто убегала в кухню, и кухарке приходилось идти с нею и показывать ей, как и за что взяться. Ведь если начать не с того конца, только еще пуще наследишь да нагадишь! Тут тебя не выручит ни метла, ни мокрый песок! Луиза бранилась, зачем Дитте нанялась в горничные, коли ничего не смыслит в этом деле, но все-таки помогала. А Дитте в благодарность покупала ей из своих «чаевых» шелковый носовой платочек или что-нибудь еще.
Да сказать по правде, Дитте достигла такого повышения в ранге с помощью маленького обмана.
— Если тебя спросят, умеешь ли ты то или это, — отвечай на все «да»! — учила ее мадам Йенсен. — Стоит тебе попасть на место, живо научишься всему.
И вот, когда барыня спросила ее, служила ли она раньше в горничных, Дитте и ответила «да». Правда, не очень смело, но все-таки утвердительно.
Стало быть, надо постараться поскорее научиться всему, чтобы хоть мало-мальски похоже было, что она только с непривычки к новому дому не так берется за дело. И Дитте старалась не без успеха. Но если ей удавалось справляться, то только благодаря указаниям и советам кухарки. Барыня лежала в постели до полудня и ни во что не вмешивалась, только бранилась, если что было не так.
— Ты будь рада этому, — говорила кухарка Дитте. — Попади ты к настоящей хозяйке, тебя бы давно турнули.
Это было не очень утешительно, но Дитте решила стараться вовсю, не жалея себя, чтобы освоиться с новой обстановкой. Да, это был совсем новый мир — здесь на полу лежали толстые ковры, которые нельзя было ни мыть с мылом, ни даже вытирать мокрой тряпкой, а надо было чистить щеткой и влажным спитым чаем, до люстр и прочих хрупких предметов страшно дотронуться, того и гляди, уронишь и разобьешь. Она всегда замирала от страха, убирая комнаты. Частые гости и связанные с этим бессонные ночи отнюдь не облегчали ей дела. Им обеим с Луизой приходилось быть на ногах весь вечер, подавать и принимать часто до самого утра, а пока их не позвали, сидеть в кухне и зевать, прислушиваясь к шуму и гаму в комнатах. Часов около двух барин, правда, выходил к ним и говорил, что они могут ложиться спать, но они все-таки не уходили, дожидаясь, когда все кончится, чтобы помочь гостям одеться: гости обыкновенно расходились в веселом настроении и не скупились на чаевые. Дитте, как молоденькой и недурненькой, давали щедрее, хотя хлопот и трудов доставалось больше Луизе, но так уж ведется на белом свете! После они делились между собою поровну.
— А ты смотри, бери, сколько бы тебе ни дали, не ломайся, — наставляла Луиза. — И если спросят, не можешь ли ты дать сдачи, говори: «нет»! Разве много одной бумажки за то, что мы хороводимся из-за них целую ночь? И не визжи, если кому вздумается ущипнуть тебя. Мужчины без этого не могут, когда подвыпьют. И если им кажется, что они таким манером больше получают за свои деньги, — так по мне, сделайте одолжение! Синяк на боку не беда, если получишь за него пятерку или десятку. Идешь порой и не на такой изъян, да задаром.
И мать моя всегда твердила: «Бери свой кусок с благодарностью, где бы его ни положили!»
Чаевые подымали дух Дитте. Она прятала их за лиф платья и с удовольствием прислушивалась к хрусту бумажек, старательно прибирая и приводя в порядок комнаты. В половине восьмого сам директор спускался вниз из своей спальни, и к этому времени необходимо было убрать, проветрить и натопить столовую. Как бы ни затянулся пир, директор всегда вставал на другой день рано, свежий и бодрый, ничего его не брало. Он никогда не заглядывал к своей супруге, имел отдельную спальню наверху и держал любовницу в городе.
Дитте ничего не понимала. У этих людей было все: дом — полная чаша, никаких забот о том, откуда что взять, живи в свое удовольствие, в блеске и роскоши, и все-таки они не были счастливы!
Немного погодя звонила барыня. «Директор ушел?» — спрашивала она, и Дитте приносила ей на большом подносе остатки от вчерашнего кутежа — недопитые винные и водочные бутылки, стаканы и рюмки. Все это барыня приказывала ставить около своей кровати и начинала сливать остатки в графинчики, а рюмки, отдававшие запахом мужских усов и табака, допивала сама, — по уверениям Луизы, очень уж нравился барыне этот запах! Спальня у нее была светлая, просторная, окнами в сад; массивный, покрытый позолотой туалет был весь заставлен хрустальными и фарфоровыми флаконами, баночками и коробочками. В них хранились разные притирания и другие снадобья для наведения красоты; были тут электрические щипцы для завивки волос и приборы для массажа лица. Но сама-то барыня не становилась от этого краше. Рыжеватая челка напоминала поутру опаленную кудель; на шее и коже головы виднелись мазки каштановой краски для волос; подведенные черные ресницы давали потеки, нарумяненные щеки и накрашенные губы — тоже. Дитте хотелось бы знать — какова собой «королева праздника» на самом деле, если стереть с нее всю эту мазню?
Когда в рюмках ничего не оставалось, Луиза советовала Дитте наливать в них вина, тогда барыне было чем заняться, и она оставляла прислугу в покое все утро, на что отнюдь Дитте не жаловалась.
Доставалось же ей частенько, особенно в первое время, и она с трепетом ожидала по утрам выхода барыни. Бранить Дитте было за что, она сама это сознавала, хотя уже давно отучилась вытирать, например, мокрой мочалкой или пыльной тряпкой масляные картины. Дитте была не глупа! Но оставались сотни других вещей, не столь очевидных, как эта. Она попала вдруг в новый мир — мир, изобиловавший роскошью, драгоценными вещами, о существовании которых она раньше и не подозревала и стоимость которых ей довольно трудно было определить даже приблизительно.
Комнат было много, дорогих вещей тоже, и каждая требовала особого, бережного обращения.
Прибирать эти комнаты было так же опасно, как ходить по раскаленным углям, и Дитте было совсем не весело. Одна хрустальная ваза для фруктов стоила, по словам барыни, несколько сот крон; упаси боже, если Дитте разобьет ее! Ну, эту-то вазу она не разбила, а вот в другую, цветочную, налила однажды воды и сразу испортила, хотя сама никакого изъяна в ней и не могла разглядеть.
Барыня относилась к таким промахам Дитте спокойнее, чем она сама. Дитте теряла душевное равновесие, двигаясь по комнатам, как с повязкой на глазах, никогда не зная, не натворила ли какой беды, и становилась просто истеричной. Вдруг убежит к себе наверх, кинется на постель и разревется. Луиза волей-неволей шла уговаривать ее.
— Замухрышка ты, не тебе жить в господском доме! Но ты стараешься изо всех сил, этого у тебя никто не отнимет. Ну-ка, вставай лучше да иди вниз, а то барыня совсем расстроилась из-за тебя. Да постарайся скорей отказаться и найти себе новое место. В этом доме могут заездить не одну горничную за год. Совсем, как у нас дома, в барской усадьбе, где, бывало, каждый год загоняли пару господских лошадей так, что оставалось только пристрелить их. Ну, а на нас никто и заряда пороха не истратит, мы должны надрываться, пока сами не околеем.
Ноги у Луизы сильно раздулись от переутомления, все налились водою. Она ждала только, пока скопит достаточное приданое, чтобы повенчаться со своим женихом, землекопом.
Но Дитте не хотела отказываться от места. Она уже сбежала с двух мест, теперь хватит. И в первый раз в жизни она почувствовала стыд за то, что не справлялась с работой. Ею не были довольны и в других местах, где она служила, но там дело другое. Дитте начала подозревать, что вполне удовлетворить хозяйские притязания столь же невозможно, как вскарабкаться на луну. Но здесь она сама была недовольна собою, чувствовала, что не в силах справиться с взятыми на себя обязанностями, и это удручало ее. Она всегда гордилась своею исполнительностью.
Дитте ждала от столицы очень многого, но не стремилась к удовольствиям; по этой части она не была избалована. Рано подняла она на свои плечи ответственное бремя хозяйки в доме, и это помогло ей развиваться и накопить опыт. Она знала цену себе как работнице, но хотела добиться большего. В деревне домашнее хозяйство нехитро было вести, — никаких разносолов за столом: каша или треска — и на обед и на ужин. Скатерть стелилась редко, и постели прибирались, лишь когда оставался досуг. В городе порядки совсем другие. Тут люди не были заняты днем в хлеву или в поле, как в деревне, где на уборку дома у женщины оставались только те часы, когда мужчины ели или спали. В городе женщины сидели целый день дома, стряпали по книжке, часто очень мудреные кушанья, и держали дом в чистоте и порядке. Вот, стало быть, где нуждались в домовитой, заботливой и дельной работнице. И Дитте сознавала за собою все эти качества. Она ведь почти десяток лет вела домашнее хозяйство самостоятельно — и не плохо, все хвалили ее.
Но, увы, скачок от каморок Сорочьего Гнезда и конур «богадельни» к этим барским залам был слишком велик. Тут и сравнения никакого не было, и никакого перехода. Из бездны нищеты — прямо в райские чертоги! В прежнее время Дитте казалось иной раз — особенно по воскресеньям утром, когда она, бывало, выскребет пол и посыплет его свежим песком, — что у них в хижине очень мило и уютно. Но теперь она хорошо понимала, что это вообще была лачуга, а не человеческое жилье. Конюшня у здешнего виноторговца содержалась куда чище и была теплее их лачуги с источенным червями потолком и прогнившим полом. Да и утварь и одежда у них были вытащены из мусорной кучи, выброшенные другими за негодностью. И вот из такой обстановки попасть в залы с дорогими коврами, роскошною мебелью, картинами, драгоценными безделушками!.. Дитте была подавлена, ослеплена, сбита с толку, у нее не хватало мерила для оценки, и ей трудно было освоиться с такой обстановкой, где вещь, совсем невзрачная с виду, могла стоить тысячи крон.
И в здешних людях она тоже не могла толком разобраться. Дитте получала пищу для ума из окружающей среды, она была вся зрение, вся слух, воплощенное любопытство; ничто не могло ускользнуть от ее внимания. Но здесь и люди были какие-то непонятные; она столь же мало могла добраться до их сути, как и до сути вещей. На что им были все эти дорогие вещи, — они ведь даже не смотрели на них никогда! И вечно они были недовольны, хотя могли иметь все, чего только захотели бы. И на языке у них было одно, а на уме другое. Гости целовали барыне ручку, как в светских романах, и насмешливо гримасничали у нее за спиной. Дитте отлично видела это! Барин с барыней жили под одной крышей, но спали в разных этажах.
У Дитте теперь были постоянные выходные вечера — раз в неделю и два полных свободных воскресенья в месяц. Но она, как птица, засидевшаяся в клетке, не скоро свыклась с тем, что клетка оказалась открытой.
— Ступай же со двора, девчонка! — гнала ее кухарка. — Ступай и найди себе жениха, а не сиди в своей каморке, повесив нос!
Дитте нехотя пошла раз-другой и вдруг пристрастилась к гулянкам. Нашла себе подруг, через них свела знакомство с кавалерами, и ее уже не надо было выпроваживать из дому: она сама дорожила своими свободными вечерами и днями, как скряга. Однажды, поздно вечером, ее провожала до дому целая компания молодежи, с которой она была вместе на загородном гулянье. Они долго стояли на дороге перед виллой и забавлялись резиновыми пищалками.
— Смотри, девушка, не попади в беду! — сказала ей на другое утро Луиза. — Не хвати через край!
В тот же день Дитте отказали от места. Сначала она заплакала — ей было стыдно опять менять работу. Вдобавок она только было начала привыкать к обстановке и ей легко стало справляться с делом. Но затем она быстро успокоилась. Другие девушки из ее знакомых относились к делу куда проще. Им ничего не стоило переменить место. Кроме того, ей дали три свободных полдня после обеда — да еще в будни! — чтобы иметь возможность приискать себе новое место. Дитте воспользовалась этим, хоть место нашла в первый же день, — так научила ее одна из подруг. Это было не совсем честно, но никогда не следует упускать своего, раз никто не дарит тебе ничего лишнего! И какое удовольствие разгуливать по улицам в такое время дня, когда все другие работают и когда все магазины открыты! У Дитте в первый раз в жизни были деньги в кармане, и она накупила всякой всячины своему малышу и домашним.
Да и новое место казалось довольно заманчивым, так что нечего было плакать о старом. Все хорошее вообще еще впереди! Во всяком случае, в прошлом его пока не было.
XIII Ни семьи, ни дома
Временами Дитте казалось, что мадам Йенсен была права: лучше было бы ей остаться в деревне. Жалованье здесь казалось большим, но концы с концами сводить было трудно, если одеваться прилично. И подняться в глазах людей было не так-то легко. Здесь Дитте чувствовала себя еще более жалкой и ничтожной, чем в деревне. Там все-таки уделяли семье Живодера внимание, хоть и не всегда лестное; все же они считались там людьми, хотя бы и такими, которых сажают за самый нижний конец стола. Здесь ее и ей подобных попросту не замечали, как будто их и не было вовсе.
Дитте составила себе общее представление о здешних условиях благодаря собственным наблюдениям, а также через подруг. Были места хорошие, были места плохие. Были дома, где барыня всегда носила ключи от кладовки в кармане и собственноручно выдавала прислуге каждый кусок счетом — даже ломти черного хлеба; в других домах можно было есть сколько угодно; а были и такие, где прислуга питалась из одного котла с господами и хозяйка сама отделяла порцию раньше, чем блюдо подавалось на стол, так что можно было быть спокойным, что будешь сыта! Были места, где барыня совала свой нос всюду, и такие, где кухарка была полновластной хозяйкой в кухне, куда барыня едва смела показываться. Ну что ж, спорить против такого порядка вещей не приходилось. Оставалось только поскорее просить расчета, если нанялась неудачно, и постараться устроиться получше в другом месте.
Но и там что-нибудь оказывалось не так; значит, опять расчет и опять новое место. Словно зуд какой не давал засиживаться подолгу, то и дело заставлял сниматься с места! Только что человек устроится, обживется и, кажется, на этот раз чувствует себя совсем хорошо, как вдруг его неудержимо — словно, когда чихнуть хочется — потянет прочь! Жизнь втянула Дитте в этот круговорот, как она ни упиралась сначала. Зато, когда втянулась, — колесо завертелось само собой. Либо ей отказывали, либо она отказывалась — не все ли равно? В общем разницы почти никакой. И подруги ее тоже прыгали с места на место, перебирались из одного квартала в другой, от Западной заставы до Восточной, и опять обратно. Ни дать ни взять, странствующие подмастерья в старину; оседлости у них не было; артельный перевозчик беспрестанно возил их комод то сюда, то туда. А достаточно помучившись, они переставали бродить и поступали на фабрику или в швейную мастерскую.
Дитте сама не сознавала, что гнало ее и других с места на место. Как только она поборола свою деревенскую робость, та «и перестала стесняться своего непостоянства, относилась ко всему равнодушно. И новое, неизвестное вообще стало казаться ей заманчивее старого, известного, — совсем как в детстве, когда она убегала от бабушки. С тех пор она, конечно, пережила кое-что, оставившее на ней свои следы, но надежда и мечты жили в ней по-прежнему. Все та же тоска в душе и ощущение пустоты вокруг, которые в самом раннем детстве уводили ее из-под крылышка бабушки прямо на проезжую дорогу, заставляли бежать куда глаза глядят, двигали ею и теперь. Она жаждала того, чего не давали ей пока ни хорошие места, — ни плохие, — возможностей для своего духовного развития. Она ничего не имела против трудов, забот и обязанностей и знала, что они неизбежно будут на каждом новом месте. Но она чувствовала, что есть еще что-то ценное в жизни, что найти не так-то легко, она не понимала только — почему? Ведь так просто и естественно, чтобы люди делали друг другу только хорошее.
Дитте не умела щадить себя, когда надо было потрудиться для других, помочь другим, сделать, чтобы им было как можно лучше. В ней сильно было чувство солидарности. Но тут оно оказалось лишним; за ее труды ей платили жалованье, давали кров и стол, и этим все исчерпывалось. Никому в голову не приходило, что она пошла в услужение, движимая любовью к людям, и что ей, в свою очередь, нужно немножко любви от них. Никого как будто не касалось, что и она — человек, способный горевать и радоваться, что и ей необходимо посмеяться с кем-нибудь в том доме, где она служит, и поплакать с кем-нибудь. Никто не обращался к ее уму, к ее сердцу, с нее спрашивалось только одно: делай свое дело и будь как можно незаметнее. Смех господ тебя не касается, горе — тем более, а вот пыль в углу за печкой насела — не угодно ли вытереть!
В сущности, так было на всех местах, — Дитте нигде не становилась своей, везде оставалась чужим, иногда враждебным и всегда стеснительным элементом, с которым мирились потому, что трудно было обойтись без него. В каждом доме шла своя жизнь, рамки и условия которой создавались, между прочим, и ее трудами, но в содержании этой жизни она доли не имела. Многое говорило о том, что дом, в сущности, держится на ней, — говорил, например, тот беспорядок, который водворялся в доме, если ей случалось слечь в постель хоть на один день, говорило отчаяние хозяев, когда она уходила от них, а они не успели еще нанять вместо нее другую. И все же она оставалась бесприютным существом на земле!
Дитте по самой натуре своей не могла не входить в положение окружающих, не делить с ними горя и радости и не стараться для них изо всех сил. Дома ей за это платили любовью и послушанием; на хуторе, где она была работницей, она имела свою, хоть и скудную долю в том домашнем уюте, который отчасти создавала и она. Но тут, в городе, она была словно ни при чем! Тяжело было Дитте усваивать себе истину, что она только принадлежность дома, но не человек; горько было мало-помалу проникаться сознанием, что ее добрыми свойствами пользуются лишь для чисто практических целей. Да, она нужна была в доме и тут и там — везде, но лучше бы она была при этом невидимкой.
Она жила своим старым запасом любви к людям, пока набиралась опыта, — нового же запаса ей скопить было не из чего. И чем дальше, тем труднее становилось ей сохранять к своим господам какие-нибудь чувства, она постепенно привыкала равнодушно выполнять их приказания.
Это было удобнее всего! Полагалось быть холодной и бесчувственной куклой, которая делает свое дело, но слепа и глуха ко всему остальному. Полагалось быть сдержанной, приличной и скромной! Дитте заучила эти выражения. Полагалось подавать барыне стакан воды и капли, не замечая, что та готова лишиться чувств; равнодушно говорить с нею о хозяйственных делах, не глядя на ее распухшее, заплаканное лицо.
Раньше Дитте, следуя естественному порыву сердца, положила бы барыне на лоб холодную примочку, утешила бы ее добрым словом, но теперь научилась вести себя иначе и быть сдержанной, как того и требовалось. В первое лето пришлось ей недолго прослужить у одного банкира, имевшего виллу в Торбеке. Дитте поехала с господами на дачу, очень довольная возможностью пожить за городом. Но на дачу часто приезжали гости с ночевкою. Однажды гостей было так много, что пришлось две супружеские пары поместить в одной мансарде, разгородив двуспальные кровати ширмами. Когда Дитте утром принесла гостям кофе, ширмы стояли, где им полагалось, но барыни, как видно, перепутали постели! Дитте так испугалась, что уронила поднос. Ей отказали за нескромность.
Да, ей не полагалось ни думать, ни чувствовать — по настоящему, по-человечески, — это было для нее всего обиднее! Иные господа требовали даже, чтобы она непременно носила форменное платье, — вероятно, чтобы никто из посторонних не ошибся насчет того, кто она в доме. Ведь случалось-таки, что Дитте, с ее недурной наружностью и приличными манерами, принимали за хозяйскую дочку. Хорошо, что это было не при барыне!
Улица заменила ей дом. Там она набиралась недостающих ей впечатлений. А когда она отправлялась гулять, ей ставили это в вину и говорили, что она «шляется»!
Дитте знала это, но оставалась совершенно равнодушной. Особенной радости в обществе молодежи из своей среды она не находила, — слишком сама она была серьезна и слишком много пережила тяжелого, чтобы усвоить себе, как ни старалась, легкость отношений, существовавших среди молодежи.
XIV Лицо Карла
Дитте ела свой завтрак, сидя на табуретке у кухонного стола — в углу, около лоханки. Взгляд ее упирался прямо в сточную трубу, а если Дитте поднимала глаза, то видела окошко, выходившее на дворик-колодец, окруженный серыми стенами. Она смотрела тупо и безрадостно, пережевывая пищу и прислушиваясь краем уха к разговору в столовой, где тоже завтракали.
— Лаура! — услышала она зов; потом вторичный, погромче.
Тогда она встала и отнесла в столовую кофе. Она не могла привыкнуть к этому чужому имени и не сразу на него отзывалась.
Разговор в столовой по той или иной причине перешел в спор. Дитте насторожилась: что там опять? Прошли те времена, когда она страдала, если в доме ссорились; теперь она слушала ссоры хозяев не без некоторого злорадства, испытывала известное удовлетворение, убеждаясь, что и господа — только люди, не лучше и не хуже Дитте и ей подобных, и могут так же и разругаться и даже подраться. Эти факты значительно поколебали внушавшееся ей с детства уважение к богатым людям.
В столовой стихло, слава богу. Может быть, потому, что раздался звонок в прихожей. Дитте пошла было отворять, но в коридоре встретила хозяйскую дочь-подростка, фрекен Кирстине, с письмом в руках.
— Письмо на имя фрекен Манн! — сказала девочка с ударением на слове «фрекен» и с усмешкой протянула Дитте письмо.
Дитте поняла эту усмешку. Господа не любили, чтобы прислугу величали «фрекен». Это обнаружилось, еще когда Дитте нанималась.
— Как зовут вас? — спросила барыня.
— Кирстине Манн, — ответила Дитте.
— Ах, как это неудобно. Нашу младшую дочь тоже зовут Кирстине… Будет путаница. Не согласитесь ли вы, чтобы вас называли по-другому? Например, Лаура?
Дитте это не понравилось, и она простодушно сказала барыне:
— Вы могли бы ведь называть меня не по имени, а по фамилии: фрекен Манн.
— Нет, у нас не принято называть прислугу барышней! — отрезала барыня.
И пришлось Дитте отказаться от своего имени и отзываться на чужое. Сначала она чувствовала себя так, будто у нее отняли ее человеческие права. Ведь таким же образом поступают с собаками, когда они переходят в другие руки, новый хозяин и — новая кличка! К Дитте даже не обращались здесь на «вы», а в третьем лице, как будто ее самой тут вовсе не было или попросту, но стоило считаться с ее присутствием: «Когда Лаура кончит убирать комнаты, пусть не забудет принести дров!» — говорили ей. И это тоже преобидно напоминало манеру обращения с собаками. Таким образом, Дитте становилась еще ничтожнее в сравнении с членами семьи. Сама она обязана была называть господ «барином» и «барыней», а подростков — детей господских — барышней и молодым барином.
Фрекен Манн ее называли лишь тогда, когда это забавляло барышню с братцем, — они часто обращались к ней так в насмешку. Но Дитте относилась к этому так спокойно-серьезно, что для них всякое удовольствие пропало. И почему бы ей не называться фрекен Манн? В лавках ее всегда так называли. И она, при всей своей бедности и необходимости служить из-за куска хлеба, была ничуть не хуже других и столь же воспитанна! Все это задевало Дитте, и она написала домой, чтобы сестра Эльза непременно адресовала письмо на имя «фрекен Манн».
Писали ей из дому редко; Ларс Петер разучился орудовать пером и чернилами, если вообще умел когда-нибудь. Переписку с сестрой приходилось вести Эльзе. Но она не мастерица была сочинять письма. И, с трудом придумав начало письма, она неизменно тут же и заканчивала его: «Ну, теперь мне нечего больше написать, только сердечный поклон!» Все вопросы Дитте насчет житья-бытья домашних и односельчан, о чем ей так хотелось знать, оставались без ответа. Эльза не видела в этом «житье-бытье» ничего интересного, о чем стоило бы распространяться. Она сообщала только: кто умер да кто с кем гуляет. А это уже давно перестало интересовать Дитте. Зато о Карле упоминалось почти в каждом письме, — он продолжал поддерживать связь с ее домашними и время от времени навещал их. Заметно было, что расположение семьи к нему все росло, и это задевало Дитте. Выходило, что он становится им все ближе, тогда как она отходит все дальше. «Видишься ли ты с Карлом?» — спрашивали ее в каждом письме. Как будто не знали, что она с ним порвала! Но это, конечно, вроде попрека ей! А в сегодняшнем письме был еще один попрек. Ларс Петер недавно приезжал в город и пытался повидать Дитте, но оказалось, что она опять переменила место. «Ты, видно, часто меняешь места!» — писала Эльза. Ну, разумеется, как же иначе? Они там ничего не понимают в здешних порядках!.. Но досада быстро сменилась сожалением, что Ларс Петер проехался напрасно. Обидно и за него и за себя, — ей самой так хотелось повидать его и хорошенько порасспросить обо всем, что делается дома! Никогда еще, кажется, не жаждала она так услышать отцовский голос, как теперь. Очень уж много тревоги и смятения накопилось у нее на душе. А его присутствие всегда так успокаивает, отгоняет все сомнения!
Карла она здесь не видела и не слышала о нем ничего. Впрочем, вскоре по приезде своем в столицу она получила от него несколько строк, в которых сообщалось, что он живет на такой-то улице и очень желал бы зайти за нею, чтобы погулять вместе, если она согласна. Она не ответила — к чему? Ведь она все равно не смела отпроситься из дома. Вообще же именно тогда ей была всего нужнее мужская поддержка. А после, когда она стала вольною птицей, ей уж ни к чему было обзаводиться таким контролером и судьей над каждым своим шагом. Но она знала, что Карл в Копенгагене и работает по ремонту улиц. Кухарка Луиза как-то упомянула с таинственным видом, что ее жених работает с одним человеком из тех же краев, откуда Дитте, и знает ее. Ясно было, к чему Луиза клонит, но Дитте не пошла на эту удочку.
Все это, однако, не значило, что она отделалась от Карла совсем. Она могла не отвечать ему, держаться от него подальше, но выкинуть его из своей памяти было невозможно. Общение с ним оставило свои следы в ее душе. Совсем вытравить это никогда не удастся. Карл иногда вдруг всплывал в ее памяти, стоял перед нею, как живой, вперив в нее серьезный, пытливый взгляд, — особенно когда она делала что-нибудь неладное. Но это же ни с чем несообразно, чтобы именно он был ее совестью! Чтобы это постное, богомольное лицо живым упреком всплывало перед нею именно тогда, когда она — сама бывала недовольна собою, и, таким образом, Карл как бы насильно вторгался в ее жизнь!..
И снился он ей часто. После какого-нибудь особенно тревожного дня, полного борьбы и волнений, сны у нее бывали тоже тревожные. Но все на один лад: она боролась с Карлом, пыталась заставить его преодолеть свои мрачные мысли, которые могли довести его до самоубийства, но, несмотря на все жертвы, ей так и не удалось добиться своего.
Нет, никогда ей не отделаться от Карла!
А однажды вечером Дитте встретила его, по крайней мере, так ей показалось. Она ехала в трамвае на танцы в какой-то клуб у Северной заставы. У одной остановки, как раз вблизи улицы, указанной в письме, она ясно различила в толпе лицо Карла в ту самую минуту, когда трамвай уже трогался. Он вперил в нее серьезный взгляд, в котором, вопреки ее ожиданиям, не было упрека, — но нечто новое — немой вопрос. О чем он спрашивал — она знала! О! Лучше бы в его взгляде был гнев!
Танцы не доставили ей никакого удовольствия, — весь вечер мерещилось ей лицо Карла на хорах для зрителей. Сколько раз она украдкой ни посматривала туда, — он сидел там, не сводя с нее пристального взгляда. Наконец, она не вытерпела и поднялась на хоры потребовать объяснения, что это значит? Уж ей и танцевать из-за него нельзя? Но сколько она ни искала на хорах, Карла там не было. Ей как-то жутко стало, и она уже не пошла больше танцевать. Она знала от бабушки, что, если человеку почудится чье-нибудь лицо, это не к добру либо для самого человека, либо для кого-нибудь из его близких. Как тут было не встревожиться! Ребенок и домашние заняли теперь все ее мысли так, как давно уже не бывало. Быть может, с кем-нибудь из них случилась беда, пока она тут болтала и веселилась; быть может, именно в то время, когда она отплясывала! Бывали такие случаи, и нередко, что человек пляшет и ничего не знает, а кто-нибудь из его близких борется в это время со смертью.
Она стала отпрашиваться у своих хозяев, чтобы съездить дня на два домой, сказала, что заболел отец. Но так как ее не отпускали и отказаться от места раньше первого числа она не имела права, то она попросту сложила вечером свои пожитки и сбежала. Ее неудержимо тянуло домой! Комод свой ей удалось в отсутствие господ вынести с помощью дворника, который затем и свез все ее имущество на Дворянскую улицу к Йенсенам.
Дитте не удивилась, застав отца в постели. Он надорвался, когда приподнимал воз, и лежал с горчичником на пояснице, почти не в силах шевельнуться. Но как она изумилась, встретив здесь Сине с Хутора на Холмах. Дитте чуть не выронила от неожиданности и зонтик я муфту, когда, отворив дверь, увидела в кухне у лоханки, в облаках горячего пара, Сине с оголенными пухлыми локтями, в переднике, в будничном платье и в деревянных башмаках. По всему этому и по тому спокойствию, с каким Сине занималась своим делом, видно было, что она здесь у себя дома. Она была все такая же краснощекая и, узнав Дитте, раскраснелась еще больше, смущенно поздоровалась и не пошла за гостьей в комнату. Видимо, стеснялась, хотя Дитте вовсе не собиралась задирать нос.
Ларс Петер так и просиял весь, когда Дитте вошла к нему. Но вид у него был плохой, изнуренный, лицо бледное. Тяжело, должно быть, жилось им это время. Отец как будто и не удивился внезапному появлению Дитте, да еще до окончания месяца, а был только обрадован.
— Да ты и впрямь настоящей дамой стала! — сказал он, окидывая ее таким взглядом, от которого у Дитте стало тепло на сердце. Вот чего ей так недоставало, — любящего взгляда, который бы не критиковал, а только радовал своей добротой.
— Да! Разве не хороша у тебя дочка? — сказала Дитте весело. — Но куда же девались ребятишки?
Они оказались в разных местах. Эльза и двое младших помогают выбирать сельдь из сетей, а Кристиан батрачит на хуторе.
Дитте жадно осматривалась кругом, ей все надо было разузнать и все «разнюхать». В простенке, между окошками, появился красивый сундук — сундук Сине!.. Узнала Дитте и стоявшую на нем лампу с синим колпаком.
— Эльза ничего не писала мне о твоей болезни. Давно ты слег?
— Этак с месяц… Не хотелось пугать тебя зря. Болезнь ведь не опасная, но преподлая, мучительная. Я повернуться не могу сам. Да вот спасибо Сине.
— Я и не знала, что она тут!
— Да, видишь ли… — Ларс Петер замялся. — Я подрядился возить щебень для общины, — хотелось заработать немножко. Ну, чтобы разгрузить телегу, надо приподнять ее и опрокинуть набок, а это страсть тяжело. Однако я, бывало, и не такие грузы поднимал. А теперь вдруг надорвался. Сколько времени на дороге провалялся, — встать не мог. Потом уж меня отвезли домой. Сине узнала о моей беде, и, как видно, ей показалось… Эльзе ведь где же было справиться одной, бедняжке!.. И я скажу тебе, Сине явилась к нам прямо как ангел с небес… Так что, ежели бы ты обошлась с ней поласковее…
Он понизил голос. Сине как раз принесла кофе и поставила его на стол, не глядя ни на кого.
— Да, я вот только что рассказал Дитте, сколько добра ты нам сделала, — прибавил он, протягивая ей руку.
Сине быстро перевела глаза с Ларса Петера на Дитте, потом подошла и присела на скамью у изголовья кровати.
Дитте вовсе не была огорчена, но чувствовала, что отец и Сине этого не понимают. Не зная, как разуверить их, Дитте просто подошла к Сине, взяла ее за голову и поцеловала, говоря:
— Я сама давно этого желала!
— Ну, так все отлично, — с облегчением проговорил Ларс Петер. — Пускай теперь другие говорят, что хотят!
Дитте была того же мнения.
— Но почему же вы не поженитесь?
Это было сказано так поспешно, что Сине рассмеялась.
— Ну, такой вопрос и мы могли бы задать тебе, — сказал Ларс Петер, тоже смеясь. — Тебе-то раньше нас следовало бы! Но надобно сначала на ноги встать, — продолжал он серьезно, заметив, что Дитте недовольна напоминанием о собственной участи. — Только важных бар венчают в постели! Мы, впрочем, подумывали сыграть свадьбу в день конфирмации Кристиана, коли он не сбежит от нас до тех пор.
— Разве он опять дурит?
— Да, недавно сбежал было. Пастор, кажется, побранил его, он и махнул в Копенгаген — повидаться с тобою, а потом наняться юнгой на корабль. Недурно — пройти восемь-девять миль пешком! Пришлось мне ехать разыскивать его. Вот тогда-то я и тебя искал там напрасно. И мальчишку мне вовек бы самому не найти; к полиции пришлось обратиться. Да, вот он какой бедовый!
— Отпусти ты его в море после конфирмации, — сказала Дитте. — Будь я мужчиной, я бы тоже ушла в море непременно. На суше не стоит оставаться.
Да, Ларс Петер уже заметил, что она не очень-то довольна столицей. Но Дитте не захотела начинать разговор об этом, и он не стал настаивать. Она привыкла одна бороться с судьбою, и пускай: ее дело. Небось пробьется!.. Вишь, как она выравнялась к двадцати годам: красивая, ловкая, а нарядная какая! Глядя на нее теперь, никто бы не сказал, что это девчонка Живодера, кособокий заморыш из Сорочьего Гнезда!
На другой день Дитте пора было возвращаться. Ей хотелось завернуть в Ноддебо, взглянуть на сынишку. А там опять в столицу, подыскать себе новое место к первому числу. Здесь в ее помощи не нуждались, а разгуливать и франтить в поселке у нее не было охоты. Со смерти старичков из Пряничного домика она никем из здешних жителей не интересовалась. Домик продали, и так странно было смотреть на него и думать, что в нем живут совсем чужие!
Поуль с Расмусом запрягли клячу и повезли гостью. И хоть Дитте мало побыла дома, но это все же очень освежило ее. А уж как приятно было ей прокатиться с мальчугана ми!.
Но свидание с ребенком принесло ей горькое разочарование. Она так безумно тосковала по мальчику и в то же время со страхом чувствовала, что совсем отвыкла от него. Она не следила за тем, как он растет, не навещала его, вот и не узнала теперь своего малыша в этом чумазом бутузе, который топал по комнате, то и дело повторяя: «Фу, бяка!» — и высовывал язык. А всего ужаснее было то, что он знать ее не хотел, боялся! Жене хусмана пришлось насильно подвести мальчика к матери.
— Йенс ведь молодец, не боится чужой тети! — сказала она.
Дитте так и резануло по сердцу от этой «чужой тети», и она, почувствовав себя здесь лишней, поспешила проститься. «Все-таки это мой ребенок», — твердила она себе, направляясь по дороге в Хиллерэд, где должна была сесть в копенгагенский поезд. «Все-таки это мой ребенок!» Но это было плохое утешение, — она сама лишила себя права на сына! И то обстоятельство, что Карл часто навещал мальчика, не смягчало ее вины. Она была плохая мать, кукушка, подбросившая своего птенца в чужое гнездо, чтобы самой было удобнее, — вот и платись за это теперь!
Не очень-то радостно было ей возвращаться опять в Копенгаген. Надоел он ей. И она завидовала Сине, которая устроила свою судьбу, поселившись в ее родном доме, — именно в таком же бедном гнезде могла бы найти свое счастье и Дитте.
На одну минуту она подумала о Карле, но затем отогнала от себя эту мысль.
XV Рабочий день Дитте
Будильник звонил в шесть часов утра, и Дитте растерянно вскакивала на постели, еще не отдохнув от трудов вчерашнего дня и многих предыдущих. Полусонная, спускала она с кровати ноги и ощупью отыскивала свое платье, едва-едва не валясь снова на кровать. Наконец, стряхнув с себя сонливость сильным напряжением воли, хватала полотенце и плескала себе в лицо холодной водой из таза.
Б-р-р! От холодной воды в ней разом заиграли все «живчики». Сердце испуганно подпрыгивало, перевертывалось в груди и принималось усиленно работать. Шибко стучало оно, и на его зов сбегались толпами из своих тайников все жизненные силы и принимались за дело. Дитте чувствовала, как они овладевают ею, и вполне верила тому, на что туманно намекала бабушка, говоря, что внутри человека находятся живые существа, добрые и злые. Сама кровь была живая, волной приливала к сердцу и окутывала Дитте теплом.
Теперь уж Дитте, не торопясь, тщательно обтирала все тело большой губкой. Вытянув одну руку кверху и взяв губку в другую, она водила ею под мышкою, где росли рыжеватые кустики волос, обводила вокруг всего плеча и обтирала спину. Белые ловкие руки доставали всюду, — такая она вся стала гибкая, мягкая, не то, что в то время, когда она была еще подростком! Тогда суставы у нее так и хрустели, причиняя боль при каждом движении. Дитте в самом деле поздоровела, расцвела с тех пор и радовалась этому.
Зеркальце, поставленное на комод, отражало все ее движения. Теперь, когда она сильно нагибалась, на спине уже не выступал острый хребет, получалась лишь мягкая выпуклая дуга. Вообще, какую бы позу она ни принимала, обрисовывались мягкие округлые линии и формы, сменяя одна другую, словно в игре. Полные бедра, круглые, крепкие плечи и груди. Все было нормально, и это очень радовало Дитте. Землистый оттенок, когда-то так огорчавший Дитте, исчез совсем. И живот был опять плотный, упругий, твердо очерченный, будто охранявший нетронутый плод. Мелкие перламутровые изломы жировых отложений под кожей казались просто недоразумением. Она задержала на них взгляд, когда нагнулась пониже, чтобы вымыть ноги. Родимое пятно на бедре, наверное, никогда не исчезнет. Эта отметина всегда будила в Дитте чувство суеверного удивления. Стоя на одной ноге и балансируя, она так низко нагнулась вперед, что густые волосы скатились с плеч, закрыв ей лицо, и окунулись в таз с водой. Она откинула их и стала ощупывать припухшие от постоянной беготни лодыжки и небольшой венозный узел на одной из икр. И то и другое серьезно ее беспокоило.
Вообще же Дитте была довольна своей внешностью, она знала, что сложена хорошо, и радовалась этому. Почему? Разве ей хотелось кому-нибудь нравиться? Не было ли у нее тайного поклонника?
Нет, Дитте все еще не вполне проснулась! Она родила ребенка, но осталась целомудренной, — желания и страсти еще не просыпались в ней. Она просто радовалась на самое себя, как радуются, глядя на удачный результат своих стараний. Возлюбленного у Дитте не было, — не было и потребности в нем. Довольно уже потратила она сердечной теплоты, теперь она скорее казалась холодной. Как скряга, прятала она свои сокровища до поры до времени.
В семь без четверти Дитте спускалась вниз, ставила на газовую горелку чайник с водой и будила детей, которые ходили в школу. Пока они одевались, она убирала столовую и готовила им завтрак в школу. Они обыкновенно так и вертелись возле нее в это время и, одевшись, глядели, как она намазывала бутерброды… В Дитте подымалась борьба между долгом и жалостью. Служила она теперь в семье чиновника с маленьким окладом, но с большими претензиями, — здесь была так называемая позолоченная нищета. Это отражалось главным образом на детях, и они вечно были голодны. Дитте жалела их и совала им лишние куски, когда только могла. Так тяжело было отказывать голодным ребятишкам, особенно мальчикам. Они следили за нею жадными глазами.
— Задаст мне головомойку ваша мама! — говорила она.
— Ну, ничего! — умоляли они. — Вы такая хорошая! — Дети искренне говорили это, так как любили ее. Зато от хозяйки ей доставалось, когда та выходила в столовую взглянуть, что осталось к завтраку.
В восемь часов хозяин пил кофе и читал газету перед тем, как отправиться на службу. В девять часов хозяйка пила чай у себя в постели и потом еще дремала с четверть часика. Она была изнурена частыми родами — четверо детей! — и должна была беречь себя, не вставать слишком рано. Через полчаса она звонила снова и начинала одеваться, а Дитте помогала ей, подавая одежду. Одеваясь, хозяйка осведомлялась о том, что Дитте успела сделать с утра, и отдавала дальнейшие распоряжения. «Как, вы еще не сделали этого? Право, должно быть, вы слишком поздно встаете!» — часто говорила она Дитте.
Утро было самым трудным временем дня. Приходилось обслуживать одних членов семьи за другими, всех порознь, и в то же время успевать прибрать комнаты. Дитте металась между комнатами и кухней да еще бегала на звонки к хозяйке. Когда комнаты были убраны и становилось тепло и уютно, хозяйка переходила туда, а Дитте принималась за уборку спальни. Едва успевала она сделать это, пора было готовить завтрак. Но обычно ей приходилось еще кое-что доделывать в комнатах по указанию хозяйки.
Эти хозяева Дитте были образованные и воспитанные люди, между собой не ссорились и ее не бранили. Они только делали ей замечания особым, бесстрастным тоном, который, однако, часто уязвлял больнее сердитой брани. Во всяком случае, Дитте предпочла бы, чтобы они иногда вышли из себя, но зато когда-нибудь выразили ей и свое удовольствие. Этого им, однако, в голову не приходило.
Вообще Дитте не понимала их вечного недовольства! Убрав сор и пыль и приведя дом в порядок, Дитте могла отправляться в кухню, довольная тем, как хорошо все прибрала и приготовила. Уходя, она бросала последний испытующий взгляд в открытую дверь гостиной — право, хоть кому будет приятно там посидеть! Но вскоре хозяйка звонила и молча водила ее по комнате, указывая пальцем то туда, то сюда. Боже мой! Ну, кое-где соринка, пылинка!.. Ведь это же сущий пустяк! Хоть бы раз хозяйка позвонила да сказала: «Ах, спасибо вам, Кирстине, как вы чисто и хорошо все прибрали!»
Дитте больше всего недоставало одобрения, признательности. В ее среде было принято всегда выражать благодарность, если вообще было за что благодарить. Там давали, брали и благодарили за это. Здесь же только брали, но спасибо не говорили, словно так и полагалось! Дитте явилась сюда с большим запасом доброй воли и с желанием угождать людям. С раннего детства внушалось ей, как она должна вести себя, когда поступит в услужение: поступай вот так-то и так-то — тогда тебя будут подолгу держать на одном месте. Теперь все внушенные ей понятия не годились, господа уже не казались ей какими-то высшими, почти неземными существами, для которых она собственно и создана, которым обязана служить.
Да, она стала умнее, но не чувствовала себя счастливее. Ее натуре было свойственно стремление служить ближним, и это обусловливалось ее добрым сердцем, но, не имея возможности проявить здесь доброту, она чувствовала себя от этого духовно беднее. Волей-неволей ей приходилось побольше думать о себе самой, чтобы не свалиться с ног. Господам и в голову не приходило поберечь ее; знай бегай взад и вперед до упаду! Господа по существу были такими же, как и люди из ее среды, не хуже и не лучше, и даже не всегда оказывались более воспитанными, однако они имели на своей стороне одно большое преимущество: они все принимали как должное и не чувствовали благодарности. Простой человек все-таки совестился: «Полно тебе бегать и хлопотать из-за меня!» — я всегда благодарил за оказанную ему услугу. А тому, кто работал на него за деньги, говорил в определенный час: «Ну, достаточно на сегодня!» Господам же, сколько ни работай на них, им все казалось мало. «Вы могли бы встать пораньше!», или: «Вы ведь можете сегодня вечером посидеть подольше?» Считалось в порядке вещей, чтобы прислуга все свои силы отдавала господам. Прислуге полагался всего один свободный вечер в неделю, но и то господа считали, что он украден у них!
Несмотря на все свои старания, Дитте редко могла услышать похвалу от хозяев. Она иной раз прямо из кожи лезла, урывала время от своего отдыха или сна и в результате чаще всего этого оказывалось все еще мало! Хозяева или хотели большего или требовали, чтобы такое непомерное напряжение повторялось изо дня в день. А уж беспокойства о здоровье прислуги и ждать было нечего. Словом, если человек не хотел надорваться, надо было ему самому вовремя поубавить пыл и не делать ничего сверх самого необходимого.
Да, для здоровья полезно было вовремя набраться та-кого опыта! Но для души и тела Дитте опыт этот был не столь полезен. Она отделалась от опухоли ног ценою другого изъяна, который пугал ее. Было время, когда Дитте сознавала, что по своему внутреннему содержанию она лучше, чем по внешности; теперь она почувствовала, что произошла перемена. Она знала, что стала красивой девушкой, и радовалась бы этому, будь только по-прежнему уверена, что вместе с тем осталась и хорошей девушкой! Но ей приходилось подавлять лучшие свои задатки и чувства — в целях самозащиты!
Она усвоила себе плохую привычку: стала беречь себя, как принято говорить, или отлынивать от работы, по выражению барынь. Дитте, раньше никогда не знавшая, что такое лень, теперь обленилась. Нанимаясь, она уславливалась насчет времени и количества работы и строго придерживалась условий. Она избегала поступать в семью, где были маленькие дети, а если уж приходилось взять такое место, то ставила условием, что не будет нянчиться с детьми. Иначе тебя заставят ухаживать за ними день и ночь! Часто ей самой становилось больно от этого, но она нарочно ожесточала свое сердце, чтобы доброта не пошла во вред ей.
Смирения и робости в ней давно не осталось, — столичная жизнь унесла их. Мало того, Дитте даже усвоила некоторую резкость, которая часто служила хорошим громоотводом. Это она от прачек — грозы барынь — научилась напускать на себя храбрость! Прачки умели постоять за себя!
Часто подумывала она последовать примеру своих подруг, одна за другою поступивших на фабрики. Прислуга была обеспечена гораздо лучше: готовый кров и стол и определенное жалованье, тем не менее они предпочитали фабрику. Дитте отлично это понимала. На фабрике было холодно, серо, пыльно, солнца в ее стенах вряд ли много увидишь! Но служить в семейном доме и только наблюдать чужое счастье, а самой не иметь в нем доли, но получать сердечного тепла — было еще тяжелее. Чем уютнее был самый дом, тем более одинокой чувствовала себя в нем прислуга, ведь не собака же она, в самом деле! Прислуге в семейном доме было не легче, нежели той наперснице в сказке, что должна была держать свечу у ложа влюбленных, — проклятая доля!
Дитте была недовольна тем, как складывались ее жизнь, и часто спрашивала себя, не сама ли она виновата во всем; может быть, чересчур требовательна, — вот все и не по ней! Во всяком случав, самое большое счастье — уметь мириться со своим подчиненным положением. «Прислуге всего лучше не иметь собственного мнения», — говорил Ларс Петер, когда Дитте после конфирмации впервые собиралась поступить в работницы. И самое лучшее было бы ей держаться этого правила неукоснительно. Бедным людям полезнее всего молчать и покоряться!
Ну, а если она не может, что тогда? В ней был мятежный дух. Дитте сама это чувствовала и с годами становилась все строптивее.
Однажды вечером она вернулась к себе и заметила, что кто-то побывал в ее каморке и трогал ее вещи на комоде. Случалось это и прежде, но сегодня это показалось ей нестерпимым. В этой каморке полной хозяйкой была она, — ведь нужно же и ей иметь свой собственный угол! Произошло столкновение с барыней, и Дитте попросила расчет.
В один из следующих дней, после обеда, она ушла со двора — искать новое место. И нашла было такое, которое ей понравилось, — у одинокой пожилой дамы, вдовы статского советника.
Барыня несколько раз переспросила ее:
— Так правда у вас нет жениха?
— Нет, нет, — улыбаясь ответила Дитте.
— А то я так боюсь, когда в доме ночует посторонний мужчина, — я ведь совсем одна живу.
Они сговорились насчет жалованья и услуг. Дитте осмотрела квартиру и решила, что вполне справится.
— Ну, покажите мне теперь ваши рекомендации, — сказала барыня.
И вдруг строптивый дух обуял Дитте.
— А барыня покажет мне свои? — спросила она.
Старушка так и отпрянула, словно наступив на ядовитую змею:
— Что такое? Извольте убираться вон!
Потом Дитте поняла, что поступила глупо. Разумеется, она и ей подобные должны являться с рекомендациями, свидетельствующими об их честности и порядочности.
Господам аттестатов не требовалось, их надо было брать такими, каковы они были, и применяться к ним.
Дитте не захотела бегать искать места, вообще решила не поступать больше в услужение. Наймет себе комнату на месяц и поищет какой-нибудь поденной работы.
Вечером у хозяев были гости. Входя за чем-нибудь в комнаты, Дитте ловила обрывки разговоров и чувствовала известное удовлетворение от того, что по развитию барыни не далеко ушли от нее, — она отлично могла бы поддерживать такие разговоры! А что касается наружности, то шея у нее, во всяком случае, красивее, чем у любой из них. Наденька она нарядное платье, с глубоким вырезом, так она их за пояс заткнет! И без того случалось, что господа мужчины на минутку забывали про своих дам, заглядываясь на нее.
— В общем, все они на один покрой! Совсем из другого мира, чем мы! — поймала Дитте на лету фразу одной из дам.
Ага, добрались, значит, до прислуги. Дитте хорошо знаком был этот тон! Теперь очередь скоро дойдет и до нее лично. Совершенно верно! Когда она опять вошла в комнату, разговор разом оборвался, и дамы зорко оглядели ее. Это с самого начала было для Дитте одним из самых горьких переживаний, так как она рано поняла, что в то время, пока она бегает и хлопочет изо всех сил, стараясь угодить господам, они разбирают ее по косточкам, забавляются ее деревенскими манерами и высмеивают перед гостями. Никогда не чувствовала она острее своего одиночества и своей беззащитности, как именно в такие минуты. Как могла она защищаться, когда не смела рта разинуть! Она была как бы бессловесною тварью: молчи и делай свое дело. Собаку они все-таки гладили и брали под свою защиту почти всегда, в чем бы она ни провинилась, а прислуга не могла рассчитывать ни на чью защиту! И Дитте понемногу проникалась убеждением, что господам она, в сущности, ненавистна. Они пользовались ее трудом, потому что не могли обойтись без него, но сама она, как человек, мозолила им глаза. Если бы только можно было не иметь с ней никакого дела и в то же время пользоваться ее услугами, они бы лучшего и не желали. Теперь, однако, ей стало уже все равно! Смеяться над ее наружностью больше не приходилось, а если они прохаживались насчет чего-нибудь другого, — сделайте одолжение! Она не придавала их мнению никакого значения.
Тем не менее Дитте с некоторой горечью прислушивалась к разговору, стоя около дверей. Хозяйка сказала что-то, и некоторые гости рассмеялись. Но чей-то мужской голос произнес:
— Вы меня извините, сударыня, но я не охотник критиковать прислугу. Наша, пока живет у нас в доме, находится под покровительством моим и моей жены, и я полагаю, что так же обстоит дело и в других домах.
Сердце Дитте обдало теплом. Вот в таком доме она хотела бы служить!
Вскоре гость этот распростился и ушел. Глаза Дитте сияли признательностью, когда она подавала ему пальто. Она готова была расцеловать гостя, до того была ему благодарна.
XVI Весна
Фру Ванг и Дитте готовили вместе обед на кухне. Окно было открыто настежь, солнце сияло, прокладывая в воздухе световые полосы сквозь пар и чад.
— Какой свежий, живительный воздух! — говорила фру Ванг. — Наступает чудесное время года!
Сам Ванг с детьми гулял по саду, отыскивая первые весенние цветы. Разгребая перепревшую прошлогоднюю листву, дети радостно восклицали хором, найдя цветочек. Время от времени один из младших мальчуганов подбегал к окну и заявлял:
— Скоро ли обед? Я голоден как волк!
И вдруг вся компания очутилась под окном и подняла страшный шум и гам.
Дайте нам скорее кушать, Или можем дом разрушить! —пели они, громко размахивая руками и топоча. Настоящая шайка разбойников!
— Окатите-ка их водой! — сказала фру Ванг Дитте.
Но шайка мигом бросилась врассыпную с таким визгом, словно сам черт гнался за ними по пятам. У беседки они остановились и затянули:
Фрекен Манн, не будьте злой, Угостите хоть водой!И вдруг неожиданно в самом верху окошка появилась чья-то голова! Обе — и фру Ванг и Дитте — даже вскрикнули. Это был Фредерик, самый старший из мальчиков; он уцепился за садовые шпалеры.
— Что у нас сегодня к обеду? — спросил он своим смешным басом.
— Картошка и жареные головешки, господин оборотень!.. И фаршированные длинные носы на закуску! — ответила мать, приседая.
Мальчик спрыгнул вниз и пустился бегом по саду, крича:
— А я видел, что у нас будет к обеду!
Дитте смеялась:
— Совсем как наши мальчишки дома! Те прямо умирали от нетерпения, когда время подходило к обеду!..
Фру Ванг кивнула. Она хорошо знала мальчиков Ларса Петера по рассказам Дитте и могла представить себе всю картину, как они неслись сломя голову домой с берега.
— Как бывает чудесно на песчаном берегу! Хорошо, должно быть, все-таки вам жилось там, несмотря на бедность. Раз в доме есть дети, он уже не так беден! Правда?
— Да, было бы только чем прокормить их! — сказала Дитте по-старушечьи рассудительно.
— Да-а! — Фру Ванг словно проснулась. — Да, иначе ужасно! — Она вздрогнула. — Ну, фрекен Манн, бегите к себе и переоденьтесь, пока я подогреваю соус. А там и за стол, — прибавила она тихо.
Теперь Дитте уже не выронила из-рук посуды, как в первый день. Тогда у нее прямо руки опустились.
— Разве я тоже за стол сяду? — спросила она с таким растерянным видом, что фру Ванг расхохоталась.
— Ну, разумеется! — ответила она таким тоном, как будто естественнее этого и быть ничего не могло.
В тот день Дитте предпочла бы остаться в кухне, но теперь ей казалось в порядке вещей — обедать вместе с хозяевами, хотя прошла всего неделя с небольшим, как она поступила сюда.
— У самого Ванга аппетит пропадает, если он знает, что в кухне сидит человек и жует что-то в одиночестве, — объясняла фру Ванг.
Дитте отлично понимала это чувство. Сама она с тех самых пор, как еще ребенком попала в Сорочье Гнездо, никогда не могла усесться спокойно, прежде чем не убедится, что все остальные накормлены, в том числе и скотина. Эту черту она, наверное, переняла у Ларса Петера.
Но, встретив то же свойство в других людях, она сначала прийти в себя не могла от изумления.
В первые дни она стеснялась сидеть за общим столом. Теперь же Дитте вполне с этим освоилась. В течение не-скольких лет она привыкла обедать одна, в кухне, около раковины. Так немудрено, что она сначала стеснялась обедать вместе с другими, да к тому же с собственными господами! Вдруг она сделает какую-нибудь глупость, неловкость?
Но никто, видимо, не обращал внимания на то, что она сидит красная и сконфуженная. Фру Ванг чередовалась с нею, когда надо было подать или убрать что-нибудь, а дети насильно втягивали Дитте в общий разговор. Они упрямо спрашивали и переспрашивали ее, пока не добивались ответа.
— Ну, дайте же, наконец, покой фрекен Манн, — говорила мать. — Времени впереди еще много, успеете обо всем узнать.
— Так она навсегда останется у нас? — сейчас же опять спросил один из младших.
А маленькая Инге лукаво подняла на Дитте глаза от своей тарелки:
— Почему тебя зовут фрекен Манн, когда ты — женщина?
Ей исполнилось пять лет, и она была большой шалуньей.
— Потому что ей хочется замуж, — сказал Фредерик пренебрежительно. — Всем женщинам хочется замуж.
Фру Ванг рассмеялась, переглянувшись с мужем, который, как всегда, сидел с двухлетним сынишкой на коленях и кормил его.
— Нечего вам смеяться над фамилией Манн, — сказал Ванг. — Это самый старинный и самый распространенный род у нас в стране. Без Маннов всем нам пришлось бы плохо. Когда-то они и владели здесь всем, но один злой тролль сделал их рыбаками. Зовут его «Брюхом», потому что для него главное набить брюхо. Но у Маннов есть орудие против него — сердце.
— А! Это сказка про тебя! — сказали дети, тараща глаза на Дитте. — Стало быть, ты сказочная принцесса!.. А потом что? Они так и не освободились от тролля?
— Пока еще нет, но когда злой тролль в жадности своей доберется до их сердца, — они освободятся. Сердцем Маннов он подавится!
Дитте в самом деле чувствовала себя здесь чем-то вроде сказочной принцессы. Не то, чтобы работы здесь было меньше, — напротив: семья была не из богатых, здесь и белье стирали дома и шили все дома, трудов вообще не жалели. Много хлопот было с одеждой детей. Изнашивалась она до последней степени, но должна была сохранять приличный вид; и вот рабочая корзинка появлялась на столе каждый вечер. Но в этом мире Дитте чувствовала себя дома. Ей знакомы были и мешочек, куда попадали все старые отпоротые пуговицы и где зато всегда можно было найти нужную пуговицу, и мешок с чистыми полотняными и шерстяными тряпками. Она привыкла распускать старые чулки, чтобы запастись штопкой, и теперь радовалась, что снова могла заняться переделкой старых, изношенных вещей. Здесь, в столице, не было бережного отношения ни к людям, ни к вещам, и Дитте чувствовала это. Тут и с вещами и с людьми не церемонились — бросали в мусорную кучу, раз они отслужили свое; поддерживать их, чинить не стоило труда! И как отрадно было Дитте опять чувствовать себя человеком, жить общею жизнью с окружающими, сознавать, что другие люди о тебе заботятся, и самой иметь право заботиться о других! Дела хватало на целый день. По вечерам, когда детей укладывали в постель, Дитте с хозяйкой долго сидели при лампе за штопкой и починкой. Фру Ванг была необыкновенная мастерица на этот счет. Дитте за нею не могла угнаться. Работали они молча, каждая думая о своем. Дитте была не особенно общительна, а фру Ванг, такая веселая и живая днем, к вечеру затихала, как птица. Дитте сидела, прислушиваясь к этой удивительной, полной мира тишине, господствующей в домах, где дети спят спокойно, в то время как заботливые руки взрослых продолжают трудиться для них. Она забывала, где находится, чувствовала себя опять дома, «мамочкой Дитте», когда она, бывало, уложит спать ребятишек и, намаявшись за день, сидит, усталая, полная забот, за штопкой и починкой. Неужели Дитте тосковала о своем тяжелом трудовом детстве? Почему она вдруг опускала голову на руки и тихо плакала?
— Ну, в чем дело опять? — трогала ее за плечо фру Ванг. — О чем болит у вас сердце, дитя мое?
— Мне слишком хорошо здесь! — отвечала Дитте, всхлипывая и стараясь улыбнуться.
Фру Ванг смеялась:
— Разве об этом плачут?
— Нет, но я никогда не играла в детстве… Это все-таки так грустно! — призналась однажды Дитте.
Фру Ванг вопросительно поглядела на нее в полном недоумении.
— Попасть бы мне к вам пораньше, — пояснила Дитте, прижимаясь к хозяйке.
Этими словами она, во всяком случае, высказала кое-что из того, что в ней наболело. Слишком много пришлось ей пережить, когда она работала в чужих людях. Лучше, если бы она никогда не испытала этого. Сердце ее было бы не так переполнено горечью.
Она по привычке говорила «барин» и «барыня», хотя Ванги решительно протестовали против излишней вежливости. Дитте нередко ловила себя на подозрении: не потому ли с ней так ласковы, чтобы извлечь для себя побольше? Эта мысль приходила ей в голову чаще всего, когда она чувствовала себя усталой. Ведь работы здесь по крайней мере столько же, сколько в любом другом доме; свободной, в сущности, и здесь нельзя было чувствовать себя никогда. Но сама хозяйка работала наравне с Дитте, и если надо было вставать пораньше, приходила наверх будить ее такая веселая, свежая. Уже одни ее легкие шаги по лестнице могли привести человека в хорошее расположение духа. Работа здесь не тяготила, сколько бы ее ни было, — она ведь накапливалась не оттого, что одна из сторон отлынивала от своей доли труда! Хозяева не презирали труд, ярма рабства здесь не чувствовалось.
Словом, у Дитте не было ощущения, что она одна везет воз за других. В ней просто не было прежней неутомимости, — слишком уж злоупотребляли ее силами раньше. Теперь она обессилела и часто нуждалась во внешнем толчке, чтобы снова приняться за работу. Нередко она сама чувствовала, что в ней будто что-то останавливалось и что ее нужно как-то заводить. Удивленного взгляда хозяйки бывало, впрочем, довольно, чтобы помочь Дитте прийти в себя, но в глубине души она долго потом испытывала стыд и страх. И, чтобы оправдать себя, Дитте пыталась обвинить других. Желание Вангов, чтобы она обедала с ними и вместе проводила вечера, пожалуй, имело целью лишь контролировать Дитте и наводить экономию в хозяйстве. Умнее всего — не очень-то полагаться на людское бескорыстие!.. Но затем ее опять, как огнем, жгла мысль: как она могла дойти до такой подозрительности! И раскаяние охватывало ее часто как раз тогда, когда она чувствовала себя особенно счастливою и довольною своим существованием. Невероятно трудно было разобраться во всех этих противоречивых чувствах, и нередко Дитте, совсем обескураженная, начинала беспощадно упрекать себя и обвинять других. Фру Ванг приходилось тогда серьезно увещевать и успокаивать ее.
Но все дело объяснялось слишком разительной переменой обстановки. Ум и душа Дитте отстали в своем развитии, придавленные непосильным бременем, как раньше ее организм, и нужно было время, чтобы она могла оправиться. Дитте внезапно попала из мрака на яркое солнце и кое-где «обгорела». Это было не очень красиво, но из-под лупившейся старой кожи выступала молодая, новая.
Весна была в полном разгаре, и Дитте расцветала день ото дня. Впервые узнала Дитте, что весна может быть столь чудесной. Она, в сущности, никогда не обращала внимания на весну, пока жила в деревне, а просто радовалась ее приходу, так как она обещала передышку, — работы становилось все меньше, ребятишки могли с утра до вечера быть на воздухе, и не надо было ломать себе голову, где раздобыть топливо. Быть может, долголетнее пребывание в каменных казармах столицы открыло ей глаза на прелесть весны! Она оттаивала вместе с полями; в глубине ее существа вдруг забили сокровенные родники и, журча серебряно-звонкою песнью в честь весны, разливались широко, принося с собою много такого, что трудно было схватить, удержать и совсем нельзя было объяснить, но оставляли после себя певучую радость или сладкую грусть. Случалось это обыкновенно по вечерам или ночами, особенно лунными, когда Дитте лежала в постели не в силах уснуть при этом удивительном бледном сиянии, таившем в себе загадочные чары. Надо было остерегаться, чтобы лунный свет не падал прямо в лицо во время сна! По утверждению бабушки, многие молодые девушки поплатились за свою неосторожность всем своим счастьем, и Дитте твердо верила в это до сих пор.
Зато дни текли ровным светлым путем, каждый следующий день был заметно длиннее предыдущего и гораздо теплее. В саду, что ни день, открывалось повое чудо: распускались листья то на одном кустике, то на другом. Дети зорко следили за этим и тотчас же прибегали с новостью, — нужно, чтобы все пошли и посмотрели, и сам Ванг брал на себя роль истолкователя чудес. Он знал, как называется каждое растение, чем оно питается, как растет… чуть ли не что оно думает! В его кабинете все стены были заставлены полками с книгами. Дитте содрогалась при одной мысли, что вся эта премудрость умещается в его голове.
А солнце все продолжало да продолжало свое дело. Вдохнув жизнь в цветы и кусты, оно принялось за большие деревья. А в один прекрасный день обогнуло угол дома и перед самым своим закатом заглянуло в чердачное окошко Дитте. Она сидела за столиком и писала письмо, когда внезапно почувствовала поцелуй солнца в щеку, и без того такую теплую, румяную. Затем солнце поиграло немножко на волосах, обрамлявших твердо очерченный лоб Дитте, и скрылось за лесом.
Фру Ванг поднялась к ней с письмом. Это было приглашение на бал в местной летней гостинице. Приглашал Дитте молодой садовод, живший неподалеку и время от времени доставлявший Вангам овощи из своего огорода.
— Надо подумать, как бы пристроить вас! — сказала фру Ванг, угадавшая, от кого письмо, и читавшая его через плечо Дитте. — Это не дело — кружить головы всей здешней молодежи. Прежде мы не могли заманить сюда разносчиков, а теперь от них отбоя нет, то и дело приходится отказывать: «Нет, спасибо, нам ничего не надо!» Знаете, как вас прозвали здесь? «Барышней-недотрогой»!
Дитте вспыхнула, а фру Ванг звонко расхохоталась.
Поднялся в мансарду и сам Ванг из своего кабинета и с забавной неловкостью заглянул в каморку. Ему пришлось пригнуть голову еще ниже обыкновенного, чтобы не стукнуться о дверную притолоку.
— Милости просим! — сказала фру Ванг.
Он осторожно вошел, Дитте подала ему стул, а сама присела на диванчик, рядом с хозяйкой.
— Да здесь премило! — сказал он, озираясь. — Только книг не хватает; не хотите ли, я дам вам прочитать?
— Да-а! — протянула Дитте, стыдясь признаться, что никогда ничего не читает. — Если можно, про Робинзона, — прибавила она.
Эту книжку она видела у детей, других же книг совсем не знала. Вообще, предложение не очень обрадовало ее; она думала, что потом ее будут расспрашивать о прочитанном, а она так туго запоминала.
— Можно дать вам и другое, не менее интересное, — сказал Ванг. — Но мы пойдем прогуляться, Мари?
— Я лучше останусь сегодня с детьми, пусть фрекен Манн пройдется! — ответила фру Ванг.
Они пошли полюбоваться закатом солнца — Ванг, Дитте и Фредерик. Ванг шел в середине и, к большому удивлению Дитте, рассказывал о бывших недавно в городе рабочих демонстрациях. Она не понимала и половины, но все-таки его мягкий, сдержанный голос открывал ей какой-то новый мир, где люди стоят выше забот о куске хлеба, выше денежных расчетов и низменных житейских дрязг; теперь она знала, что он существует; жизнь складывалась там из прекрасных, непонятных мыслей и чувств сострадания и любви ко всем угнетенным и обиженным. А выше всего находится бог, он любовно и снисходительно наблюдает за всем, что происходит в мире. Дитте отводила всем господам место в прекрасных райских кущах, чуть пониже самого бога, а совсем уже внизу находилась она сама и равные ей люди. Сегодня же ей показалось, что она вместе со своими хозяевами поднялась наверх и свободно гуляет там, в этой сказочной стране, о которой мечтают бедняки.
— Бедняк хочет завоевать себе право с полным основанием распевать гимн жизни: «Как хорош мир земной и чудесно небо!» Вот из-за чего, собственно, идет борьба, — сказал Ванг.
— Зачем же бедняки пьют и делают свою жизнь на земле еще более жалкою? — пробасил Фредерик.
— Затем, что водка является единственной силой, не делающей никакой разницы между людьми; поэтому бедняк распевает свой гимн под действием винных паров и не виноват в том, что поет хриплым голосом!
— Да, отец мой сказал однажды: «Как должно быть чудесно уметь думать и рассуждать», но он был тогда под хмельком, — вставила Дитте. — В трезвом виде он не смеет задумываться над жизнью. «Больно уж она печальна», — говорит он.
И Дитте и Фредерик шли, заглядывая Вангу в лицо, — каждый со своей стороны. Последний отблеск зари отражался в стеклах его очков. Фредерик взял отца под руку.
— Возьми и ты с другой стороны! — посоветовал он Дитте. — Так будет удобнее идти в ногу.
Дитте была счастлива! Когда они шли вот так, втроем, дружной компанией, она отлично могла сойти за старшую сестру Фредерика или за жену Ванга. И, возвращаясь домой, они потихоньку напевали хором: «Наш путь через пышные царства земные…»
Фру Ванг стояла у садовой калитки.
— Долго же вы гуляли! И сколько тут за вечер прошло мимо калитки молодых людей!..
— Да, — сказал Ванг, — надо постараться пристроить фрекен Манн. Она опасна для окружающих.
Дитте засмеялась. Нет, она и не думает о замужестве.
Однако это сама весна расцветала в Дитте, переполняла ее своими живительными соками, непонятно, с какими целями.
XVII Хорошее время
У фру Ванг был заведен свой порядок. Обедали всегда в час дня, чтобы удобнее было располагать временем после обеда, и часто, бывало, в самом разгаре утренней работы она возьмет и скажет Дитте:
— Сегодня после обеда оставайтесь у себя наверху и займитесь своими делами.
Она как будто понимала, что Дитте тоже необходимо время от времени уединиться, заняться собой.
Дитте уходила наверх и с увлечением прибирала, чистила, переставляла мебель, чтобы посмотреть, как будет уютнее, и это было для нее настоящим отдыхом. Из кабинета доносилось покашливание Ванга, и она старалась двигаться потише, чтобы не мешать ему. Когда он писал, все в доме невольно ходили на цыпочках, хотя он этого и не требовал, — он вообще не был притязательным.
Это получалось само собою. Стоило фру Ванг сказать: «Отец работает», как в доме водворялась тишина, словно в церкви. Только младшие мальчишки ничего не признавали и вдруг бурей неслись по лестнице показать отцу какую-нибудь необыкновенную находку — камешек или ржавый гвоздик. Мать устремлялась за ними, взывая вполголоса: «Дети! Дети!..» Но Ванг тотчас же выходил и на минуту впускал их к себе. Когда дверь его кабинета отворялась, струйка табачного дыма поднималась наверх и проникала в каморку Дитте, — как раз достаточно, чтобы оживить, приподнять настроение. В самом же кабинете можно было задохнуться, Ванг сидел весь в дымных облаках.
— Это он воображает себя на небе, иначе он писать не может, — шутила жена.
Она всегда на него нападала за его неумеренное курение, но ей самой как будто не хватало чего-то, когда она не ощущала привычного табачного запаха.
В каморке Дитте было так чисто и мило! На спинке старой железной кровати были надеты белые сборчатые чехлы, так что железа не было видно. Прикрыт был белым чехлом и комод, на окне тоже красовались плотные белые занавески, задергивавшиеся по вечерам. Дитте любила свою комнатку; это видно было по тому порядку, в каком оса ее держала. Нигде ни пылинки, от всего веяло чистотой и свежестью.
Здесь Дитте плакала от радости — впервые в столице или вообще, пожалуй, с тех пор, как стала взрослой! Было это в тот день, когда она, несколько месяцев тому назад совсем упавшая духом вошла сюда в первый раз. Скромно обставленная каморка казалась такой уютной; в вазочке на ночном столике, у изголовья кровати, стояли цветы. В первый раз в жизни люди приветствовали Дитте цветами, которые служили как бы залогом, что здесь ее ждет настоящий отдых и приятный сон. В последствии она всегда заботилась о том, чтобы в ее комнатке были свежие цветы; она срывала их во время вечерних прогулок вдоль полей и ставила в вазочке на ночной столик, у изголовья кровати. Тут было их место!
На комоде лежала большая раковина, когда-то найденная Дитте на берегу, около Хутора на Холмах. Это была единственная памятка прошлого. Карточку своего мальчугана она хранила в ящике комода; не к чему было выставлять ее напоказ. Это подавало повод к расспросам, а когда люди узнавали правду, то начинали коситься на Дитте. Она не хотела портить отношений в доме из-за ненужной откровенности. О ребенке она уже не так сильно тосковала теперь; а если иногда и скучала, то не испытывала больше щемящей боли в сердце йога нестерпимого желания приласкать его. Домой она тоже давно не ездила, но фру Ванг обещала ей двухнедельный отпуск летом; тогда она как следует погостит у своих.
Теперь с нее довольно было себя самой, она росла и развивалась внутренне, хотя с виду никаких перемен не замечалось. Столица казалась издали — из местечка, расположенного между городом и деревней, — совсем иной, чем из столичных домов-казарм… Здесь можно было собрать воедино разрозненные впечатления от города и его жителей. Оттого, верно, Ванги и жили здесь. Ванг называл Копенгаген сердцем страны, но Дитте это было непонятно; ей город скорее казался огромным брюхом, — ведь сколько поглощал он за год, даже за день!..
И ее самое Копенгаген чуть было не проглотил! Но отсюда, из «виллы Ванг», он ей нравился. Попадала она туда только днем, любовалась выставленными на витринах вещами и делала покупки. Или со всей семьей посещала Зоологический сад.
Окошко ее комнатки выходило на Фредериксборгское шоссе, убегавшее в глубь страны, а по ту сторону его виднелись поля, хутора, изгороди и дома. На полях пахали крестьяне, пасся скот, а по шоссе ехали и шли люди, всякий по своему делу. А дальше тянулись нивы, и луга, и леса, попадались крупные садоводства. Пели птицы, лил дождь, проносился холодный ветер, и опять светило и грело солнце. Красиво все это было и удивительно. Но все это ведь создал всемогущий бог, так что удивляться, собственно говоря, было нечего.
А вот где было настоящее чудо: на столе перед Дитте лежала такая четырехугольная штучка — книжка. Сочинил ее Ванг, и прямо уму непостижимо, как люди могут творить подобное! Стоило ведь открыть книжку и начать разбирать эти черные значки, как перед тобою вставал другой мир, никогда тобою не виданный и, разумеется, никогда не существовавший на деле, но все-таки казавшийся хорошо знакомым — деревни и хутора, рыбачьи поселки и люди со всеми их радостями и горестями. Дитте только удивлялась, как это так: достаточно отвести глаза от окошка и уставиться в книгу, чтобы сразу, словно чудом каким, перенестись в другой мир. Чистое колдовство! И по словам фру Ванг, муж ее сочинил много таких книг, а в его кабинете стояло еще множество, целые сотни других книг, написанных другими людьми, и ни одной одинаковой! Дитте остерегалась шуметь у себя по вечерам, чтобы не «спугнуть вдохновения»! Она знала теперь, что это значит. Ванг часто просиживал до глубокой ночи, и Дитте, просыпаясь, видела полоску света в дверную щель. Это он, стало быть, приотворил свою дверь, чтобы не задохнуться от табачного дыма. А без дыма у него дело не ладилось! И так странно было представить себе, что ее хозяин сидит сейчас там и видит в облаках, дыма разные видения.
Внезапно у Дитте мелькала мысль: а что, если бы господь бог не сотворил мира, значит, тогда не было бы и Ванга? Она не испытывала уверенности, что мир Ванга окажется лучше существующего, по, во всяком случае, любовь, о которой говорил Ванг, была гораздо красивее, чем в мире, созданном богом.
Дитте читала, зажав руками уши, чтобы ей не мешали никакие посторонние звуки… Ее раздражал грохот подъехавшей телеги, а в книге о телеге даже вовсе не упоминалось. Тем не менее, Дитте явственно расслышала, как фру Ванг внизу громко воскликнула удивленным голосом: «Да ведь это Ларс Петер!» — и, распахнув дверь, побежала по тропинке к шоссе.
И Дитте бросилась вниз. В самом деле: Ларс Петер и Сине со всеми детьми — целый воз! Фру Ванг уже помогала им вылезать из телеги. Она чмокнула Сине прямо в губы.
— Уж извините, — сказала она, растроганно улыбаясь. — Но я успела полюбить вас всех заочно, по рассказам Дитте.
И она сияющими глазами оглядывала их одного за другим.
— Стало быть, она не хулила нас… и не осрамила перед людьми! — с волнением промолвил Ларс Петер и, опираясь на круп лошади, слез с телеги.
— Здравствуй, девчурка! — Он взял Дитте за голову и, потрепав ее по щекам, прибавил: — Как приятно опять повидаться с тобой.
Прибежал вприпрыжку Фредерик, за ним сестренка Инге и оба мальчугана — налетели со всех сторон! Поспешил явиться и Ванг из глубины сада, держа на руках своего младшего карапузика.
— Лошадка, тпру! — закричал малыш, и улыбка сияла на его личике.
Приезжие хотели было сразу же ехать дальше в город, но лошадь устала, и надо было поскорее поставить ее в стойло. Ларс Петер рассчитывал, что хозяева, может быть, отпустят Дитте на весь остаток дня и она поедет с ними вместе. Но ему и договорить не дали. Фру Ванг настаивала, чтобы они вошли в дом и закусили сначала, а там видно будет, и Ванг присоединился к ее просьбе.
Ларс Петер, потупясь, запустил руки в карманы своего дорожного балахона и словно искал чего-то, в то время как Дитте и фру Ванг тянули его с двух сторон. На самом же деле он просто стеснялся и хотел выиграть время.
— Что ты на это скажешь, мать? — спросил он нерешительно, но Сине только смеялась; на ее румяных щечках не разглаживались глубокие ямки. Тогда он дал уговорить себя, а Поуль с Расмусом занялись лошадью.
Они оба очень выросли с тех пор, как Дитте их видела в последний раз. Настоящими молодцами стали!
Ларса Петера пригласили выкурить сигару в кабинете Ванга, внизу не курили из-за детей. Гость был совсем озадачен, увидев столько книг.
— Неужто вы все их прочли? — спросил он с сомнением.
Ванг должен был сознаться, что некоторых не читал и, вероятно, никогда не удосужится прочесть.
— Я-то никогда не был падок на книги, — продолжал Ларс Петер. — Работа на вольном воздухе отбивает от чтения; как придешь домой да сядешь, так и задремлешь. Но, я думаю, с книгами, как с людьми: к которым привыкнешь, так и полюбишь и будешь стараться взять от них как можно больше хорошего. А вообще незавидная доля корпеть с пером в руках. Вот уж ни за что не согласился бы на это, если б даже способен был!
— Да, это невеселое занятие, вы совершенно правы, — серьезным тоном сказал Ванг. — Я бы с удовольствием поменялся с вами и разъезжал по дорогам. Но у меня есть кое-что на душе, о чем я должен написать и о чем, пожалуй, никто, кроме меня, не напишет! Вообще же редко кто рассуждает так здраво, как вы, большинство просто завидует писателю.
Вошли женщины с кофейным прибором; решено было пить кофе на балкончике перед кабинетом Ванга.
— Это ради вас, Ларс Петер, — откровенно призналась хозяйка. — Вообще-то посторонние сюда не допускаются. Но вас мы так полюбили. Вы и не знаете, как часто мы говорили о вас и о ваших детях, и обо всем у вас в поселке.
Она даже раскраснелась от волнения.
— И вы мне страсть как полюбились — после моей собственной женки, разумеется! — воскликнул Ларс Петер. — Видно, что вы душа человек, хоть и барыня. Но… черт побери, чуть не сказал я, — откуда вы узнали, что это я? Ведь не могла же девчонка прямо нарисовать меня?
— Жена моя ясновидящая, — сказал Ванг, задорно поглядывая на нее. — Но и вы тоже, раз вы увидели в ней барыню. Этого до сих пор еще никто не замечал. Да она и не очень старается показать, что родилась дочерью капитана!
— Тебе это, как вижу, очень не по сердцу, — заметила фру Ванг, гладя мужа по голове. — Но вы извините меня, если я исчезну на минутку. А Дитте может пока побыть тут!
Она сделала знак мужу, чтобы и он вышел за нею в кабинет.
— Должно быть, они без денег, — шепнула Дитте отцу. — И вот теперь в затруднении, не знают, как быть.
— Право, мы не хотели затруднять… Мы решили заглянуть только на минутку! — Ларс Петер совсем расстроился.
— Они так часто говорили о том, как хорошо было бы залучить вас сюда, и я думаю, им очень неприятно было бы, если бы вы вдруг уехали. Ты, верно, тоже не при деньгах, отец?
— Как бы не так, девчонка! — с облегчением сказал Ларс Петер. — Мы как раз прихватили с собою часть деньжонок Сине, — на случай, если подвернется что купить кстати.
Он вынул бумажку в сто крон и дал Дитте. Бумажник был туго набит, как с гордостью отметила про себя Дитте.
— Да, вот какая у нас богачка мамаша! — радостно взглянул Ларс Петер на Сине. — Но мы, понятно, не станем проедать эти деньги, на них мы заведем какое-нибудь дело!.. Но как же быть теперь с твоими хозяевами?
— Я сама сбегаю в лавку, — сказала Дитте. — Можно мне истратить все? Тогда я бы заодно заплатила лавочнику весь наш долг!
— Правда чудесная из нее вышла девушка? — сказал Ларс Петер, когда Дитте вышла.
— Она и всегда такой была, — сказала Сине. — Мужа бы ей хорошего. Она стоит того.
— Такого вот, как я? — рассмеялся Ларс Петер. — Но я побаиваюсь, что она стала чересчур разборчива.
Вошла фру Ванг. Дитте, должно быть, все-таки сказала ей насчет денег, потому что хозяйка подошла к ним сзади и обняла обоих за плечи. Сказать она ничего не сказала, а только задумчиво погладила Ларса Петера по лохматому затылку, а потом вдруг нагнулась и поцеловала прямо в лысеющую маковку.
— А куда же девались ребятишки? — спросил Ларс Петер, чтобы перевести разговор на другое. Он боялся, как бы фру Ванг не вздумала благодарить.
— Они в саду за домом вместе с нашими, — ответила фру Ванг. — Вы бы поглядели, как быстро они подружились. Поуль и Расмус учат наших копать пещеры. Жаль только, что Кристиана с нами нет!
— А вы и его знаете?.. Да… Он теперь работает по-настоящему. Но, может статься, все-таки вдруг нагрянет к вам, бродяга! Таким уж он уродился!
— И, кажется, не в прохожего молодца, — заметила фру Ванг, смеясь.
— Да, — сказал Ларс Петер, теребя себе волосы. — Пожалуй, что так!
Из дальнейшего разговора выяснилось, что они вовсе не прямо из дому сегодня, а уже несколько дней в дороге, у них взяты с собой и провизия и спиртовка. Они располагались где-нибудь на лесной опушке и варили себе пищу. Прошлую же ночь ночевали у одного хусмана в Ноддебо.
— Как это, должно быть, чудесно! — сказала фру Ванг. — Вот бы и мне сделать такую поездку!
Глаза ее блестели.
— Так за чем дело стало? Взять да и отправиться прямо по дороге куда глаза глядят. Но, само собою, надо привыкнуть к этому, — не привередничать, а мириться с разными неудобствами.
— Это мы умеем оба — и муж и я!.. Да оно и необходимо при наших небольших средствах, — прибавила с улыбкой фру Ванг.
— Да, я уже и то дивился на вас, какие вы оба хорошие люди, — заявил Ларс Петер. — Но теперь-то я лучше понимаю, в чем дело. У людей с добрым сердцем редко остается лишнее — как бы там ни было. Но где же наша лошадь с телегой? — испуганно вскочил он.
Фру Ванг расхохоталась:
— Муж мой с сыном отвели ее на постоялый двор. Мы рассудили, что лучше вам переночевать у нас, чем искать ночлега в городе. Мы вас с удовольствием приютим, если только вы не посетуете на какие-нибудь неудобства.
Ну, что до этого, то Ларс Петер способен был, коли на то пойдет, хоть на вешалке повиснуть да уснуть: сои у него крепкий.
— Но у нас и на уме не было причинять вам такие хлопоты!
Вернулись Дитте с Эльзой, таща целую корзину провизии, а вдали на дороге показался Ванг. Ларс Петер пошел ему навстречу, желая познакомиться с окрестностями. Сине предпочла остаться дома с женщинами.
— Смотрю я и соображаю — как же это так: по ту сторону шоссе земля так хорошо обработана, а по эту совсем запущена? — спросил Ларс Петер, когда встретился с Вангом.
— А это все земельная спекуляция виновата, — объяснил Ванг. — Стоит лишь дельцу остановить свой взгляд на каком-нибудь участке, как тот становится словно проклятым с тех пор, ничего на нем не растет.
Они шли вместе вдоль полей. Ларсу Петеру показалось сначала, что Ванг человек не очень общительный и совсем не такой открытый и простой, как его жена; чего доброго, важничает! На самом же деле Ванг просто больше слушал и наблюдал, чем говорил, но теперь, с глазу на глаз, он оказался довольно разговорчивым и остроумным. Он, видно, хорошо разбирался в общественных вопросах и не очень-то церемонился в своих суждениях, — да и к чему было это делать, по мнению Ларса Петера. «Великие мира сего» не внушали Вангу никакого почтения.
— Это мы за них думаем! — сказал он напрямик.
Ларс Петер и сам понимал, что он и все ему подобные работают за «великих мира сего», эта мысль давно запала ему в голову, но то, что сказал Ванг, поразило его своей новизной.
— Да, если вы за них думаете, а мы работаем, то не много же им самим остается делать! — сказал он со смехом.
— Как же! А брюхо себе набивать? — серьезно возразил Ванг.
Как-то странно было слышать такие сильные выражения из уст этого тихого человека, но недаром же говорится, что тихие воды — самые глубокие!..
С балкона виллы замахали им платками и закричали, приглашая к обеду. Стол был накрыт в столовой по-парадному: на нем стояли цветы и вино. Ванг поставил старое дубовое кресло, с высокой спинкой и витыми ручками, у того конца стола, где обыкновенно было его место.
— Здесь вы сядете, Ларс Петер, — сказал он, глядя на гостя почти с сыновним восхищением.
Да, это было настоящее почетное место, и Ларс Петер не знал, куда деваться от смущения, когда уселся.
— Такого почета я еще в жизни своей не удостаивался, — сказал он тихо.
Настроение за обедом было самое праздничное, дети болтали и смеялись. Вангу это нравилось. «За столом дети — хозяева», — говорил он.
Ларс Петер сразу заметил, что Ванг обедает, держа малыша на коленях.
— Да, иначе мне и обед не в обед, — объяснил Ванг.
— Совсем, как, бывало, тебе, отец! — сказала Дитте, влюбленными глазами посматривая то на одного, то на другого. От радости на щеках ее расцвел румянец.
— Да, я, бывало, тоже… — отозвался Ларс Петер, с завистью глядя на Ванга. — А вот теперь не стало у нас малышей в доме, некого мне сажать к себе на колени. Эти щенки считают себя взрослыми. Но мать мне обещала подарочек к рождеству, а за то я должен бросить жевать табак!
Сине покраснела, стала еще румянее.
— Боже мой, нас ведь тринадцать за столом.
Все расхохотались — и старшие и дети, — так это вышло забавно.
— Да, мать у нас суеверна, — сказал Ларс Петер. — А вот я, слава богу, никогда этим не отличался!
— Это у вас родовая черта, — заметил Ванг и поднял свой стакан с вином. — Ваш род никогда не страшился темных сил, оттого люди всегда и преследовали вас. За здоровье тех, в ком нет суеверия, но есть вера! Мы верим в людей, а не в привидения и всякую чертовщину!
Фру Ванг тоже подняла свой стакан.
— Это потому, что вы оба живете будущим, обожаете детей, — сказала она обоим мужчинам. — А я предлагаю выпить за здоровье Сине!
— Едем сегодня вечером в Тиволи{13}. Но только взрослые! — предложил Ванг.
— Ага! — довольно смело заявил Фредерик. — Стало быть, и я поеду!
Фру Ванг засмеялась. Ее словно кто щекотал все время, так много она сегодня смеялась по сущим пустякам.
— Надо подумать о том, кто же останется с детьми! — сказала она озабоченно.
— Я присмотрю за ними, — ответила Эльза. — Все равно я слишком устала, чтобы ехать с вами.
— Ты, дитя? — воскликнула фру Ванг, словно с облаков упала.
— Да ведь она у нас за хозяйку была несколько лет, одна-одинешенька со всем справлялась! — с гордостью пояснил Ларс Петер.
— Так вот вам мой план, — сказала фру Ванг, — сегодня вечером мы, взрослые, едем в Тиволи, а завтра днем Дитте поведет родителей и всех детей, включая наших, в Зоологический сад и город им заодно покажет. Потом вы вернетесь сюда, поужинаете с нами, переночуете опять и уже послезавтра уедете.
— Нет. И я хочу в Зоологический сад! Недоставало только, чтобы я дома остался! — сказал Ванг с самым обиженным видом.
— Ну, так и я не отстану! — заявила фру Ванг. — Но тогда уж не прогневайтесь, ужин будет очень поздний!
XVIII Дитте срывает розы
Наконец наступило и настоящее лето. Жара стояла такая, что прямо видно было, как горячий воздух струится сверху волнами, стелется над землей так, что просто рябило в глазах. Только детям жара была нипочем. Они валялись на траве, уплетали зеленый крыжовник, красную смородину и болтали. Презабавно топали друг за дружкой четверо детишек в деревянных башмаках, мал мала меньше, каждый старше другого на один год. Фредерик укатил на велосипеде купаться.
Фру Ванг и Дитте сидели за шитьем на открытой веранде, под кабинетом Ванга. Слышно было, как он там расхаживает и возится со своей трубкой. Вот он выколотил ее о перила балкончика и вернулся к себе. Обе женщины молчали, прислушиваясь к его шагам. Так он мог шагать целый день, мог и повозиться с чем-нибудь, даже поболтать и все-таки думать при этом свое. Внутренняя работа шла в нем независимо от внешнего мира; это вид-по было по выражению его глаз, — Ванг напоминал лунатика. И не следовало его будить. Фру Ванг в шутку называла его «одержимым».
Они шили для Дитте платье из муслина в цветочках, случайно купленного фру Ванг очень дешево. Женщины проворно работали иглою. Из-за жары обе надели туфли на босу ногу.
— Заодно чулки побережем! — пошутила фру Ванг.
— А разносчики-то? — возразила Дитте колеблясь.
— Ишь, какая важная дама, — поддразнила ее фру Ванг. — Очень нам нужно считаться с разносчиками! Да ведь они будут думать, что на нас шелковые чулки телесного цвета. Теперь в моде такие, чтобы похоже было на голые ноги.
На балкончик опять вышел Ванг, выколотить трубку.
— Только не на обновку нашу! — окликнула его снизу жена.
— Ах, извините! — Он перегнулся через перила, чтобы взглянуть на них, потом спустился вниз. — Как мило вы сидите тут и работаете, словно две добрые сестрички! И совсем забыли про несчастного хозяина дома! Чаю сегодня так и не дадут? А ведь жарко! — сказал он, весело поглядывая на обеих.
Дитте отбросила работу и вскочила.
— Ой, что же это я, совсем память потеряла! — воскликнула она и побежала в кухню.
— Или о женихах замечталась! — шаловливо крикнула ей вслед фру Ванг.
— Настоящий ребенок! Но как к ней идет это мечтательное выражение лица! Право, можно влюбиться!
— Я бы и влюбилась, будь я мужчиной, — серьезно промолвила фру Ванг.
Дитте, стоя в дверях кухни, спрашивала:
— Дети! Дети! Чего хотите: чаю или крыжовенного киселя?
— Киселя! — отвечали они. — Только не процеженного, а с кожуркой!
— Так бегите в беседку!
Голос Дитте звучал так звонко и весело. Скоро она принесла чай.
— Как тебе нравятся наши новые чулки? — фру Ванг выставила ногу. — И сам бы мог, кажется, заметить да сказать что-нибудь!.. Шелковые!
— Красиво! — ответил Ванг. — Только ведь они чертовски дороги!
Обе женщины расхохотались.
— Ах ты, простак! А еще говорят, что поэты…
Ванг запрокинул голову жены и заглянул ей прямо в лицо:
— Что говорят о поэтах?.. И что мне за дело до этого?
— Разве ты не поэт?
— Я — живой человек! Вот и все, но этого и достаточно. Все по-настоящему живые люди вместе с тем и поэты.
— Ну, я тоже настоящий человек, хоть и не поэт!
— Ты балаболка, настоящая балаболка! — Он поцеловал жену в глаза и ушел.
— Он не любит, когда его называют поэтом, — сказала фру Ванг вполголоса. — Он терпеть не может искусства и художников, как вы, может быть, заметили. Называет их парикмахерами. Сам он выбивается из сил, чтобы писать правду, одну неприкрашенную правду. Неужели это в самом деле так трудно? Но он говорит, что все мы начинены фальшью и должны учиться у простого народа.
— У нас? — с ужасом воскликнула Дитте. — Но мы понятия не имеем о том, как надо сочинять!
— Пожалуй, именно поэтому… Не знаю хорошенько. Ванг ведь все больше молчит. И не подумаешь, что он бунтарь, правда? Но за ним следят, поверьте. И непременно забрали бы, если бы могли. Пока его книги только замалчивают, насколько можно, по… дайте срок, о нем скоро заговорят… Они отнимут его у меня, Дитте!
— За то лишь, что он стоит за бедняков?!
Дитте понять этого не могла и широко раскрыла глаза.
— Беднякам принадлежит будущее! Они хотят либо сбросить с себя лохмотья, либо нарядить в лохмотья богачей. А если что-нибудь начнется, муж вмешается… я уверена! О Дитте, ничего в мире не пожалела бы я для него!
Фру Ванг наклонилась над столом и положила голову на руки. «Какие у нее красивые руки! И вся она такая красивая, милая!» — думала Дитте, стоя над нею и осторожно гладя густые темные волосы. Она ничего не поняла, но ей так хотелось утешить фру Ванг. Прибежал кто-то из детей, чтобы показать что-то, и фру Ванг засмеялась и опять стала прежней.
Дети беспрестанно прибегали — то один, то другой. Инге ловила божьих коровок, поднимала кверху на кончике пальца и пела им песенки, пока они вдруг не оживали и не улетали, неожиданно расправив крылышки. Карапузик приплелся показать толстого розового червяка, который извивался у него в смуглом кулачке.
— Вкусно! — заявил он, хотя в рот положить червяка вовсе не собирался, а хотел только испугать мать и Дитте, чтобы они завизжали от страха.
— Ты перестанешь дразнить нас, разбойник? — грозно сказала мать.
Дитте ничего не слышала и не видела, впав в глубокую задумчивость. Она вспомнила свое детство. В какой нищете они жили! Сколько ни бились, из нищеты не вылезали. Словно злой тролль пожирал за ночь все, что они успевали наскрести за день. И вот нашелся человек, который осмеливается высказать правду… Сами бедняки ведь не умеют! А его за это в тюрьму! Дитте затрепетала от ужаса и безграничного восхищения.
— Ну, что же, пойдем примерим? — расслышала она голос фру Ванг.
Они пошли в спальню, там было зеркало. Дитте сняла с себя платье. Белые руки заблестели на солнце, щеки горели, во взгляде еще читались мысли, навеянные тем, что она сейчас слышала. Дитте стояла, подняв руку, пока фру Ванг что-то прилаживала на ней.
— Вы ни дать ни взять сказочная принцесса, которую наряжают на бал! — сказала фру Ванг, повертывая ее кругом. — Сидит отлично, да и немудрено — фигура у вас чудесная. Бегите теперь к моему мужу и покажитесь!.. Ты погляди только, какая у нас Дитте нарядная! — крикнула она.
Дверь у Ванга стояла настежь из-за жары. Дитте вошла, вся пунцовая от радости и смущения.
— Да вы прелесть какая нарядная и красивая! — сказал он, любуясь ею. — Это надо отпраздновать! — Он взял ее за талию обеими руками и высоко приподнял к потолку. — Теперь вы должны угостить нас шоколадом! — весело прибавил он.
Дитте не могла оторвать от Ванга глаз. У нее голова кружилась. Какой же он сильный, и вообще… Его очки поблескивали, а за ними, как за оконными стеклами, в глубине самых зрачков таилось одиночество тюрьмы… Теперь и Дитте разглядела это. Она соскользнула прямо в его объятия, прижалась, закрыв глаза, губами к его губам и кинулась бежать по лестнице.
Дитте потом и сама не знала, она ли поцеловала Ванга или он ее, но, во всяком случае, она ни на что на свете не согласилась бы променять этот поцелуй. Она вообще не желала никакой перемены: все вокруг казалось ей насыщенным такою теплотою и сладостью, все предметы излучали сияние любви. Каждый день и ночь были чудом, опьяняющею грезой. Она открывала глаза по утрам с радостною уверенностью, что ее ждет день, полный счастья, и закрывала их по вечерам, до краев переполненная ожиданием чего-то необычайного, чудесного. она мысленно обнимала все бытие, и оно, в свою очередь, заключало ее в свои объятия.
Дитте родила ребенка, но никогда еще не отдавалась мужчине по любви. Ею двигали чувства материнской нежности и самопожертвования, но только не любовные. Это чувство еще не просыпалось в ней до сих пор. Но какая-то неведомая сила разбудила его; сила эта постучалась в сердце Дитте не за тем, чтобы взвалить на нее новое бремя, но чтобы увлечь ее легкой, чудесной игрой. В ее душе давно смутно звучали нежные мелодии, теперь громко запела вся ее кровь. Казалось, что поет целый хор, бесконечное праздничное свадебное шествие, и сердце ее резво прыгало и порхало, словно пташка. Дитте приходилось крепко прижимать его рукою, чтобы заснуть.
Без рассуждений, без колебаний отдалась она чувству любви. В ее душе не было места никаким расчетам. Она полюбила Ванга, он полюбил ее, больше она ни над чем не задумывалась. Дети стали ей еще милее, а ее преданность фру Ванг была беспредельной.
В уме Дитте, однако, нет-нет да и мелькал вопрос: подозревает ли что-нибудь фру Ванг? Случалось, что фру Ванг гладила ее по щеке с какой-то особенной искоркой во взгляде, словно желая сказать: «Я знаю больше, чем ты думаешь!» Случалось это, когда Дитте возвращалась из города с последним вечерним трамваем и Ванг выходил встречать ее на остановку. А однажды, когда Дитте принесла в кабинет Ванга букет полевых цветов, фру Ванг, обняв его за шею, промолвила:
— Видишь, мы обе за тобою ухаживаем!..
Теплые, мягкие руки фру Ванг всегда притрагивались к тому, с кем она говорила, чтобы или подчеркнуть, или смягчить своим прикосновением сказанное.
Дитте оставляла мелькнувший у нее в уме вопрос без ответа. К ней лично фру Ванг никогда еще, кажется, не была добрее и нежнее, чем теперь. Они жили совсем как две сестры. И Дитте не думала ревновать фру Ванг.
Одного только боялась Дитте, чтобы Ванг не переменился к жене. Но он продолжал оставаться все тем же тихим и любящим мужем. Он стал как будто еще молчаливее, но от всего существа его веяло такой внутренней, здоровой силой, которая покоряла их всех. Прямо непонятно было, что он так мятежно настроен против общества, — его домашние не слыхали от него ни единого слова недовольства.
Для Дитте настала пора счастья, сначала безмятежного, а затем, — после того как ей раз утром показалось, что глаза у фру Ванг заплаканы, — пора счастья, смешанного с отчаянием. Может, это ей только показалось, а может быть, это просто подсказывалось ей нечистой совестью, смутным чувством вины. Во всяком случае, это заставило ее как бы задуматься. Потом она снова отдалась своему чувству, но полноты счастья уже не было. Его как бы окликнули, окинули пытливым взглядом, и оно перестало быть прежним, часто казалось горьким счастьем или сладостным грехом. Дитте могла чувствовать себя порой счастливейшим, беззаботнейшим существом в мире, и вдруг откуда-то набегали тучи, заволакивая безоблачный горизонт бытия, и жизнь приобретала болезненную, греховную сладость. Дитте то плакала, то смеялась, то гордилась, — она была горда тем, что ее полюбил человек с возвышенной душой, с большим умом и женатый на такой милой женщине.
Иногда Дитте ходила как в блаженном полусне, бездумно воспринимая внешние впечатления, словно сквозь густую пелену. Но едва мысли начинали свою работу, она вся холодела от страха. Ведь каждый раз ей приходили в голову новые мысли о вещах, над которыми она раньше не задумывалась. Ее можно было упрекнуть не просто за чувство любви, а за грешную любовь. И грех был не в том, что она отдалась свободно, не связывая себя узами брака, но в том, что отдалась женатому человеку. Нет ничего позорнее для молодой девушки, как вступить в связь с женатым мужчиной, — стало быть, Дитте себя опозорила! Узнай об этом ее односельчане, ей нельзя будет показаться к себе на родину. Ребенка ей простили, а этого не простят. Ларсу Петеру нельзя будет оставаться там больше, а детям… вот когда им, бедняжкам, действительно пришлось бы тяжело.
Дитте таила свое горе про себя, только счастье делила с другими. Муки от этого не становились легче, напротив, одиночество обостряло их. Что, если фру Ванг узнает?.. Каково будет ей, милой, доброй?.. Ведь еще, будь она жестокой, злой, тогда бы не было так больно причинить ей страдание! Порою Дитте положительно не смела взглянуть в глаза фру Ванг, а когда решалась делать это, то сразу опускала свои; что может быть ужаснее предательства! Часто казалось ей, что фру Ванг знает что-то, читала это на ее лице, чувствовала по тону ее голоса. Ужас охватывал тогда Дитте. И все-таки она была счастлива, — дни проходили в блаженном опьянении, в тумане сладких, горячих грез и в страстном ожидании ночной темноты.
— Как должно быть тяжело, когда приходится прибегать к мраку, чтобы скрыть свою любовь, — сказала фру Ванг, гладя белье и задумчиво посмотрела вдаль. А Дитте рада была, что мрак дарил ей счастье. Бежать она не могла, этого ей и на ум не приходило.
Однажды утром они вместе готовили на кухне. Дитте чистила рыбу над раковиной у окна. На дворе шел дождь, дул холодный осенний ветер. Ванг расхаживал наверху в своем кабинете; стало быть, работал. Удивительно, как все претворялось у него в труд — никогда не работал он с таким жаром, как этим летом. «Вдвойне трудится», — сказала однажды фру Ванг с невинной улыбкой, но с особым ударением, которое заставило Дитте насторожиться и призадуматься.
— Вот оно и прошло, это лето! — проговорила фру Ванг, стоя у плиты. — Удивительное было лето!
Дитте хотела ответить, но слова застряли в горле, ее бросало в жар. Она не смела обернуться и еще ниже нагнулась над раковиной. Вот оно, вот оно… приближается!
Фру Ванг отошла от плиты, поставила что-то на кухонный стол, взяла другое, но осталась стоять на месте. Дитте не отрывалась от своего занятия и не поворачивалась, чтобы хозяйка не заметила ее слез. Вдруг она почувствовала на своем плече руку фру Ванг — успокаивающее прикосновение.
— Дитте! — медленно проговорила фру Ванг.
— Что? — Дитте отерла ладонью глаза, но взглянуть на фру Ванг не могла.
— Мы больше не в силах продолжать так, Дитте! Никто из нас не в силах вынести это! И я тоже.
Дитте повернула к фру Ванг свое мокрое от слез лицо и беспомощно посмотрела на нее.
— Я ведь не сержусь, Дитте! — сказала фру Ванг, усмехаясь, но нелегко, видно, было ей выдавить из себя этот смех… — И за что мне сердиться! Но здесь в домене могут быть две… Ни я не в силах… ни вы.
Она прислонилась головой к плечу Дитте.
— Я давно… собиралась отказаться! — с плачем ответила Дитте. — Я так сожалею об этом!
— Ну, ничего… что же делать, — сказала фру Ванг тоном утешения. — Чему быть, того не миновать. Странно только все это вышло… так запутанно. Вы — я… наверху — внизу… — Она опять рассмеялась, на этот раз своим обычным звонким смехом. — И как тебе приходилось прокрадываться, бедняжке!.. — Она взяла Дитте за голову и поцеловала. — Но за обед мы сядем с веселым лицом! Ни ты, ни я сцен не любим!
— Нет, уж лучше уйти сейчас же, сию минуту!..
— А вещи твои, дитя? — Фру Ванг поколебалась с минуту, потом принесла сверху пальто и шляпу Дитте. — Ну, раз, по-твоему, лучше уйти сразу, ступай. Но сначала простись с Вангом хорошенько!
— Нет! Нет! — с отчаянием отмахнулась Дитте. Она едва на ногах держалась.
— Ты можешь отправиться в общежитие Высшей народной школы, — сказала фру Ванг, застегивая на ней пальто. — Я после обеда соберу и привезу тебе твои пожитки. И помни, мы с тобой друзья навсегда!
Она проводила Дитте за порог.
— Постой! — Фру Ванг сорвала крупную красную розу. — Это тебе последняя роза из нашего сада.
Она осталась стоять на кухонном крыльце, махая Дитте вслед белым носовым платком.
Но Дитте, не оглядываясь, вся в слезах, спешила уйти; последний конец пути до трамвая ей пришлось бежать бегом, и, только стоя на задней площадке уже двигавшегося полным ходом вагона, она заметила, что потеряла розу.
XIX Собака
Барин, еще не совсем одетый, вышел в столовую, где Дитте была занята утренней уборкой.
— Желудок у Скотта действовал? — тревожно спросил он.
— Не знаю, — коротко ответила Дитте.
— Он не просился на двор?
— Нет.
Старый охотник засеменил в спальню. Походка и осанка его еще сохраняли следы военной выправки.
— Удивительно, — послышался его голос в спальне, — я сам два раза гулял с ним ночью. Вероятно, он нездоров!
Со стороны барыни ответа не последовало.
Потом барин вошел снова, уже в зеленой домашней куртке, взял из буфета графинчик с портвейном и велел Дитте принести сырое яйцо.
— Ну, дадим Скотту его утреннюю порцию, — сказал он, размешав желток в рюмке портвейна.
Собаку выманили из-под стола, где она спала на коврике. Вид у нее был такой, словно она укусить собиралась. Дитте пришлось силой разжать ей пасть, а барин влил туда питье. Собаку тотчас же вырвало.
— Должно быть, катар желудка! — сказал барии. — У него запах изо рта. Очевидно, катар желудка. Амалия! — крикнул он в открытую дверь спальни.
— Не от шерсти ли это пахнет? Длинношерстные собаки всегда воняют, — сказала Дитте.
Старик уничтожающе взглянул на нее и с обиженным видом опять засеменил в спальню.
— Надо посадить его на диету, — услышала Дитте его голос. — Возьми-ка поваренную книгу для собак, Амалия. И, пожалуйста, не предоставляй это опять прислуге. Простонародье совсем не жалеет животных!
Дитте горько улыбнулась. Да, Скотта она не особенно жалела.
После обеда старый барин обыкновенно сам выводил Скотта на прогулку, но часто не в силах был идти из-за ревматизма, и тогда приходилось Дитте гулять с собакой по бульвару. И Дитте всякий раз казалось, что конца не будет этой получасовой прогулке. Сладу не было с собакой. Она рвалась с цепи, лаяла, тащила Дитте от столба к столбу.
— Вы только следуйте за нею, — говорил барин, который в первые дни сам ходил с Дитте, чтобы научить ее, как следует водить собаку гулять. — Ему надо предоставить полную свободу двигаться, куда он хочет. Только держите покрепче цепь, чтобы он не вырвался от вас.
Не было ни одного столба, к которому бы Скотт сначала не принюхался, а потом не приложил своей ленты, — к величайшему конфузу Дитте. Она рада была, когда дни стали короче, — в сумерки не так заметно было ее с собакой.
Когда она возвращалась, первым вопросом старого охотника было:
— Действовал у него желудок?
Если ответ был отрицательный, старик места себе, не находил от тревоги.
— У него запор! Бедный Скотт! Плохо тебе? — спрашивал он.
А барыня иронически улыбалась:
— Ничего у него нет! Сегодня утром он кинулся и укусил человека, который принес пакет. Пришлось дать ему пять крон на починку — Скотт разорвал ему брюки.
— Значит, у человека был подозрительный вид. Уж будь уверена, у него есть что-нибудь такое на совести! Скотт никогда не кидается на порядочных людей. Правда ведь, Скотт? Пять крон… черт побери! Ты бы лучше за полицией послала; может быть, он сразу бы и сознался во всем.
Барыня ни за что не хотела помогать, когда Скотту ставили клизму, давали касторку или крепительное лекарство. Она прямо говорила:
— Нет уж, спасибо! — и уходила к себе.
Волей-неволей приходилось возиться с собакой Дитте.
Не очень это было весело, но вообще местом она была довольна.
— Пусть бы сбежал или что другое с ним случилось, — сказала как-то барыня, когда они были вдвоем с Дитте. — Не можете ли вы как-нибудь устроить это? Я бы не огорчилась.
— Отчего бы господам не взять лучше приемыша? — спросила Дитте.
— Барин до смерти не любит детей! И, откровенно говоря, рискованно брать приемыша из бедноты. К ним так пристает все дурное… если даже берешь их оттуда совсем маленькими. Но, повторяю, вы преспокойно можете упустить Скотта. Я вам за это головы не сниму.
Случалось, что собака вырывала у Дитте из рук цепь и удирала. Тогда Дитте принуждена была ходить по улицам и ждать — иногда часами, — пока Скотту заблагорассудится вернуться. Прийти домой без него она не смела.
Однажды вечером она бегала по бульвару и вполголоса конфузливо призывала собаку. Из переулка вышел молодой рабочий.
— Вы шотландскую овчарку кличете, барышня?
— Да, — смущенно ответила Дитте.
— Она бегает там по переулку, барышня, — сказал он. — Я сейчас поймаю ее.
— Берегитесь! Она кусается! — в страхе крикнула Дитте.
Но он уже исчез в одном из переулков. Затем она услыхала, как он там свищет и зовет собаку. Вскоре он привел Скотта, который прыгал и ласкался к нему.
— Видите, он ничего мне не сделал, барышня! Меня никто не тронет!
Фуражка у него была сдвинута на затылок, и он так весело смеялся. Засмеялась и Дитте, она была благодарна парню, к тому же он был хорош собой.
— Да, похоже на то! — сказала она.
Он проводил ее до дверей.
— Вы когда бываете свободны? — спросил он, подавая ей руку.
— По четвергам, — ответила Дитте и бегом кинулась по лестнице. — С семи часов! — крикнула она, запыхавшись, уже с верхней площадки.
Дитте с радостью ждала четверга. Она была одинока, и ей так хотелось пойти с кем-нибудь повеселиться, хотелось, чтобы за ней поухаживали немножечко. Перемывая посуду в четверг, она запела так громко, что барыня вышла и шикнула. А как только все было убрано, Дитте пошла к себе наряжаться. Она всегда бывала аккуратно одета, но сегодня нарядилась в свое лучшее платье, чтобы быть покрасивее. И вдруг ее неприятно поразила мысль: да придет ли он? Пожалуй, нашел себе за это время другую! Все они таковы! И узнает ли она его? Она едва успела взглянуть на него мельком.
Но он уже стоял у подъезда и ждал ее. Сначала снял фуражку, потом поздоровался за руку.
— Спасибо, что пришла! — сказал он и тут же обнял и поцеловал ее. — Меня зовут Георг Хансен. Я маляр. А тебя как зовут, моя красавица?
Дитте засмеялась, ответила, и они, словно век были друзьями, под руку пошли на танцульку.
Дитте не пришлось разочароваться! Он оказался гораздо красивее, чем она представляла себе: стройный, с уверенной осанкой. Одет он был не богато, но платье сидело на нем ловко. В сущности, он не похож был на рабочего. Тонко очерченное лицо, слегка впалые виски, волнистые, но не густые черные волосы и необыкновенно умные глаза. И танцевал хорошо! Но Дитте доставляло почти такое же удовольствие сидеть и глядеть, как он танцует с другими. Он казался настоящим кавалером; любая девушка охотно шла танцевать с ним. И его сразу можно было различить среди танцующих пар, — его дамы так и сияли улыбками.
Многие кавалеры были одеты лучше его. Когда он очень уж расплясался, у него отстегнулся воротничок, видимо, пристегнутый прямо к шерстяной фуфайке. И манжеты то и дело выскакивали из рукавов; стало быть, сорочки на нем не было. Но все-таки он был первым кавалером в зале.
И деньги в кармане у него водились! Он то и дело звал Дитте в буфет и угощал ее. В сущности даже не к чему было так часто, но все-таки она была очень довольна. Это они первый вечер веселятся вместе, потом она научит его быть благоразумнее!
Но это было легче сказать, чем сделать. Георг был отличным работником и зарабатывал много, но и не прочь был загулять. Чуть забренчат деньги в кармане — и у него пропадала охота работать. А уж как плачевно обстояло дело с его одеждой! У него только и было вещей, что на нем. Дитте купила бумажной ткани и сшила ему рубашки. Пыталась было вообще прибрать его к рукам и заманить с собою в магазин готового платья, когда он был при деньгах. Но он только дурачился, целовал ее и так остроумно отшучивался, что невозможно был удержаться от смеха, хотя Дитте серьезно пыталась урезонить его. Когда же она припирала его к стене разумными доводами, он попросту удирал от нее под каким-нибудь предлогом. Однажды ей все-таки удалось затащить его в магазин, но когда они остановились посмотреть материю, он вдруг исчез. Встретившись с нею несколько дней спустя, он не знал, куда глаза девать, но деньги уже спустил все, — кроме нескольких крон, на которые приобрел для нее сумочку.
— Вот тебе залог мира! — сказал он, подавая подарок с самым заискивающим видом.
Что ж, только и оставалось — взять да поцеловать его, как доброго, беспомощного ребенка. Таким он и был в действительности.
Без подарка он никогда к ней не являлся, — это было необходимо, по его мнению. Когда же Дитте не выражала удовольствия, а говорила, что лучше бы поберечь деньги, он сильно огорчался.
Доброе у него было сердце, слишком доброе! Любой мог обвести Георга вокруг пальца и взять у него взаймы денег, если только он был при деньгах. Любой мог утащить его с собой кутить. Была у него эта слабость, — он не умел никому отказывать. И была еще чисто болезненная привычка тратить деньги до последнего гроша. Особого пристрастия к вину он не питал и кутил, так сказать, за компанию. Хмель его не брал, и он почти не пьянел. Но после двух-трехдневного кутежа бледнел, как мертвец, и волосы у него прилипали к вискам. Тогда его вообще не узнать было, — он становился алым и придирчивым.
— Брось ты его! — сказала сестра Георга Дитте, с которой она как-то встретилась на улице. — Ничего он не стоит, беспутный!
Но Дитте и думать об этом не хотела. Она любила Георга таким, каким он был, — живой, веселый, даровитый, добрый и беззаботный; все дурное в нем было лишь случайным, и она надеялась исправить его. Когда они гуляли вместе, все обходилось хорошо, и не было человека веселее, милее его. Да не было и другого такого работника, как он. Все товарищи в один голос говорили, что он лучший маляр в городе. Ничего, все будет хорошо!
Бессознательно и невольно Дитте опять взяла на себя опеку. Ей необходимо было нянчиться с кем-нибудь. И когда она, делая свое дело, думала о Георге, то чаще всего именно как о милом, бесконечно добром ребенке. Он нередко огорчал ее, это верно, но когда он приходил к ней с повинной, — что же могло быть естественнее с ее стороны, как не прижать к своей груди эту беспутную голову с мягкими кудрями? Случалось ей и прождать его напрасно на условном месте. Стало быть, он встретил другую. Но через несколько дней Георг снова являлся к ней как ни в чем не бывало, такой же веселый, любящий. Он не мог обойтись без нее.
В одно из воскресений Дитте должна была зайти после обеда за Георгом и вместе с ним отправиться на прогулку. Дитте приготовила несколько бутербродов и сварила три яйца, чтобы Георгу было чем позавтракать в понедельник, когда он пойдет на работу. Питался он вообще как попало. Все это она аккуратно завернула, завязала веревочкой и продела в нее палочку. Шляпу решила надеть новую. Георг еще не видел ее, и Дитте заранее радовалась случаю показаться ему в обновке.
Шел дождь, шляпа могла испортиться. Но все равно! Надо показать Георгу обновку 1 И вот Дитте в воротах сняла с себя шляпу и спрятала ее под накидку. Осторожно, придерживая левою рукою полы накидки, она с непокрытою головою перебежала через бульвар в боковую улицу. Дождь так и лил, и надо было поскорее добраться до места. Сверток болтался у нее на правой руке, которою она придерживала приподнятую верхнюю юбку, нижняя белая шлепала ее по ногам, мокрые пряди волос облепили лицо. На углу, перед дверями мелочной лавочки, стоял и смеялся лавочник, крича ей что-то вслед, а под воротами напротив оказался Георг. Значит, он шел ей навстречу! И вдруг круто повернул назад, словно не видя ее. Воротник был поднят у него до ушей. Дитте догнала его, взяла под локоть, но он резко отдернул руку.
— На что ты похожа! — прошипел он.
— Да ведь дождик… а у меня новая шляпа!.. И я так спешила сегодня!
Она глядела на него сияющими глазами, с обезоруживающей улыбкой, полной прощения и любви. Но он избегал встретиться с нею взглядом, и по его глазам, колючим и беспокойным, она видела, что дело плохо..
— Ты опять выпил? — сказала она жалобно. — А я так радовалась сегодняшней прогулке!
— Мне-то какое дело! Проваливай лучше домой, а не шляйся тут людям на посмешище.
Дитте поняла, что день пропал.
— Ну, так прощай, я пойду домой, — сказала она, дотрагиваясь до его руки, и с улыбкой, как ни горько ей было, протянула ему сверток.
— Это тебе закусить на завтра.
Но это окончательно взбесило его.
— Что ты мне суешь еду на улице, как нищему!
И он разорвал бумагу, выхватил оттуда бутерброды и швырнул ей прямо в лицо. Дитте в слезах кинулась прочь, а он бежал за нею и бросал ей вслед кусок за куском. Хлеб, колбаса, сыр, ливерный паштет так и летели на панель то с одной стороны, то с другой. Яйца всмятку шлепнулись и попали на обе половинки дверей, ведущих в квартиру Дитте. Сама она едва успела вовремя проскользнуть туда и налетела прямо на господ!
Стало быть, начинай сначала: требуй себе три свободных дня, бегай на углы читать объявления, а потом по домам в разные концы города, давай себя разглядывать и чуть не ощупывать, подвергайся допросам; когда же, наконец, наймешься, привыкай сызнова ко всему — к новой квартире, к новой обстановке, к новым порядкам, считайся с новыми привычками, угождай новым капризам или — начинай опять сначала!
Дитте устала от этого бесконечного скитания по разным местам, кочеванья из дома в дом и прохождения сквозь строй! Она хотела пожить на воле, иметь собственный угол и ходить только на поденную домашнюю работу — стирать, гладить, убирать. Тогда можно будет подумать и о сынишке, — взять его к себе. Она снова начала скучать о ребенке.
XX Георг и Дитте
Ларс Петер с Сине окончательно перебрались в Копенгаген. Они поженились по-настоящему и открыли на Истедгаде, одной из крайних улиц Западного квартала, мелочную торговлю железным товаром. Мальчиков отдали в школу, а Эльза уже готовилась к конфирмации. Она должна была потом поступить в магазин. Поуль и Ас в послеобеденное время уже служили «мальчиками на посылках», но мечтали по окончании школы уйти в море. От Кристиана пришло письмо из Южной Америки. Он находился в первом своем настоящем плавании и был очень доволен. Теперь мальчик вволю поездит по свету!
Дома у них было довольно уютно. Но Дитте редко к ним заглядывала. Карл часто бывал там, и она замечала, что Ларс Петер и Сине недовольны ее поведением. Верно, они слышали что-нибудь про Георга. А кроме того, они были так счастливы, так влюблены оба друг в друга, что у Дитте невольно щемило сердце.
С Георгом она так и не видалась. Он не показывался ей на глаза с того дня, как запустил в нее бутербродами и так осрамил ее. Стыдился, видно! И Дитте не собиралась разыскивать его. Она уже не сердилась на него и не требовала, чтобы он унижался перед нею, просил прощения. Но он должен был сам явиться к ней, — тогда она поверит, что он любит ее. Впрочем, она и не сомневалась в этом, ей только нужно было маленькое удовлетворение. Сама она по-прежнему любила его, но он должен сделать первый шаг — ради закрепления их будущих отношений! Он был такой добрый и нежный когда не кутил, и уж она сумеет опять поладить с ним и удерживать его от кутежей, когда они сойдутся поближе и будут связаны друг с другом покрепче. Она ведь так была ему нужна!.. И бог знает, каково-то ему теперь без нее?..
Дитте чувствовала себя одинокой. Она побывала в Ноддебо, чтобы взять своего мальчика, теперь уже пятилетнего бутуза, но приемные родители не захотели расстаться с ним, отнять же его силой она не могла, тем более что мальчик знать ее не хотел. Она наняла себе дешевую каморку в одном из запущенных домов в одном из переулков и просиживала там целые дни, когда не уходила на работу. Она вообще редко гуляла и охотно помогала своим соседкам по хозяйству, а также присматривала за малышами, когда матери уходили на поденщину или бегали разыскивать загулявших мужей.
Вполне счастливой и беззаботной она никогда больше не чувствовала себя. И даже когда она бывала довольной и веселой, в душе у нее оставался темный уголок, куда не заглядывало солнце радости. Как раз наоборот по сравнению с прежним: прежде в душе у нее всегда оставался светлый уголок, как бы темно ни было вокруг нее.
Дитте хорошо знала, отчего и когда началась эта перемена в ней. Это с того времени, когда она жила на «вилле Ванг». Она часто вспоминала проведенные там счастливые месяцы и сделала вывод, что лучше было бы ей никогда не попадать туда. Не потому, что она раскаивалась в своей связи с Вангом; об этом она никогда не пожалеет, доживи она хоть до ста лет! Он был так прекрасен, силен и добр, что зажег ей сердце, и она отдалась ему, подарила ему свою первую любовь! Это было так естественно и оставило по себе лишь сладостное чувство, следы которого затаились в глубине ее сердца.
Но Ванг вместе с тем зажег свет в глубине ее сознания, разбудил в ней духовные запросы. И это стало источником ее отчаяния. После той жизни в дружной и приятной работе, среди настоящих людей, делившихся с нею духовными интересами, тяжело было погрузиться опять в эту душную мглу! Дитте заглянула в страну обетованную, — в этом было ее проклятие. Она не могла считать пережитого чем-то незаслуженным, какою-то особою милостью свыше, но приняла это как нечто само собой разумеющееся, на что и она имела неотъемлемое человеческое право. Ванги сами научили ее так смотреть на жизнь. А теперь она, со своими новыми требованиями к жизни, очутилась в положении отверженной. От этого ощущения она никак не могла отделаться. Мир, к которому она принадлежала по рождению, представлялся ей теперь преисподней. Подобно рабу, изнывавшему в сырой подземной темнице, услыхала она вдруг призыв сверху, возвестивший ей, что она невиновна и обманом лишена своего великого наследия на земле. Но что же в результате? Мало одних лишений, так судьба еще насмехается над ней! Лучше было бы для Дитте вовсе не знать о своих правах.
Да и жизнь в этих старых, запущенных улицах и переулках в районе Адельгаде не могла подбодрить человека. Нужда и нищета здесь бросались в глаза. По вечерам и утрам можно было видеть самое ужасное воплощение этой нищеты — посиневших от холода, оборванных, опухших людей, толпившихся у ворот ночлежного дома. По ночам улицы квартала были полны проституток и иностранных матросов, так что Дитте едва осмеливалась выходить из дому.
Дети в этих домах-казармах умирали от голода и грязи. Помочь по-настоящему им всем Дитте была не в силах, — самое большее, что она могла, — протянуть руку помощи своим ближним — хотя бы соседям. Тем ужаснее все это казалось! Теперь Дитте сама очутилась среди той нищеты, которую описывал Ванг и о которой читал им вслух, когда они с фру Ванг сидели около лампы за работой. Тогда Дитте принимала эти рассказы скорее всего за писательский вымысел, но здесь это было осязаемой действительностью. Дитте хотя и принадлежала сама к миру бедняков, но до сих пор в сущности не знала его. Но вот тут он весь был перед нею, без всяких возвышающих его прикрас.
Названия улиц были довольно громкие, данные в честь короля, королевы и кронпринца. Но Дитте не мечтала больше о счастье, перестала ждать чего-то чудесного. Она довольствовалась мечтой о Георге. Жил он двумя улицами дальше, на Принценсгаде, но сам-то отнюдь не походил на сказочного принца. Дитте понимала это не хуже других, знала по опыту, что он способен был спустить все, что у него было за душой, — ей ведь не раз уже приходилось из своего жалованья выкупать заложенные им вещи, и подарки, что он приносил ей, были по большей части взяты в кредит. Не все, что он выдавал за золото, было настоящим золотом, его громкие слова нельзя было понимать слишком буквально. Но все-таки с ним жилось легче, светлее.
Однажды ей сообщили, что он заболел. Она тотчас же отправилась к нему.
Георг был потрясен, когда увидел ее; голова его скатилась с подушки, и он зарыдал. Дитте положила его голову к себе на колени и долго сидела так. Лицо его осунулось, он сильно похудел, волосы спутались, склеились от пота. И постель была грязная, давно не перестилалась. Рубашки на Георге не было, одна жалкая фуфайка. Ужас!.. Все свидетельствовало о затяжной болезни. Дитте осторожно уложила его.
— Полежи теперь под периной, пока я сбегаю за щепками и затоплю, — сказала она.
Георг лежал и смотрел на нее, пока она растапливала печку и прибирала комнату; его черные глаза прямо не отрывались от нее; они, словно пара детских глаз, следили за каждым ее движением, такие добрые, доверчивые. Дитте улыбалась ему, что-то говорила, и он слабо улыбался, но не отвечал. И вдруг она заметила, что он уснул: в уголках его глаз виднелись крупные слезы.
Подкравшись к постели, она стояла и смотрела на него. Радость и жалость наполнили ее душу. Смертельно бледное, исхудалое лицо казалось чересчур спокойным, но, несмотря на небритую щетину и выступавший болезненный пот, это лицо было все же красивое, хотя и измученное. На губах еще остался след улыбки, посланной ей. Но была около рта и другая складка — скорбная, которая никогда не исчезала, должно быть, она была вызвана внутренними переживаниями, пожалуй, более глубокими, чем он сам сознавал. Что же такое грызло и глодало его светлую, добрую душу изнутри и гнало его к гибели? Дитте никогда не спрашивала Георга, чего ему недостает, — это было бесполезно. Заметны были и следы страшного кутежа: правая рука была вся в синяках и ссадинах, и под глазом расплывались желто-зеленые пятна. Синяк почти рассосался, — должно быть, прошло уже с месяц. А Георг все еще лежал в постели!
Не страдал ли он какою внутреннею болезнью? Не шел ли навстречу смерти?.. Дитте вздрогнула, тихонько выскользнула из комнаты, попросила соседку присмотреть за больным и сама поспешила домой. И, собрав свои пожитки, распорядилась, чтобы их доставили в жилище Георга, куда и сама перебралась.
Наступила полоса тревожного счастья. Дитте так устроилась с работой, что могла несколько раз в день забегать домой — взглянуть на Георга, подогреть ему еду и немножко развлечь его. Она стала интересоваться политическими событиями, чтобы рассказывать ему о них, и покупала дешевые газетки. Он очень любил читать, и у него было несколько толстых книг — романов, набранных из разных библиотек и не возвращенных им. Дитте ни в чем не любила беспорядка, сама она очень аккуратно возвращала взятое по необходимости в долг или напрокат. Но возвращать эти книги теперь было слишком поздно. И они, во всяком случае, пригодились опять. Прочитав все до конца, он начинал опять читать их с тем же интересом; совсем как ребенок!
Так коротал Георг свой день и был благодарен за всякую ласку и заботу. Он хорошо чувствовал себя в постели и не выражал никакого желания встать и выйти из дому. Дитте не радовалась, так как видела в этом лишь доказательство того, как он слаб. Лучше не питать иллюзий, тогда разочарований не будет! Но в глубине ее души все-таки теплилась надежда на более спокойное будущее.
Вставала она в три-четыре часа утра и бегала несколько часов подряд, разнося газеты, чтобы выгадать время днем для ухода за Георгом и для другой случайной работы. Она ни от чего теперь не отказывалась. С трудом можно было заработать деньги на жизнь, но Георг всему радовался. Дитте поражалась, до какой степени он был нетребователен. Достаточно было безделицы, чтобы привести его в радостное настроение.
— Чудесно! — отзывался он обо всем. — Дай только мне поправиться, — закипит у нас дело! — весело прибавлял он. — Будем оба зарабатывать деньги.
По вечерам и по воскресеньям Дитте давала себе отдых: присаживалась к нему на кровать, и они подробно обсуждали свое будущее. Она рассказывала ему о своем мальчугане, ей не хотелось иметь от Георга тайну, ведь они теперь жили, как муж с женой.
— Я добуду тебе его! — сказал он уверенно. — Если приемные родители откажутся отдать его, я обращусь к полиции.
Дитте не очень верила в помощь полиции.
— Полиция не для нас, — сказала она.
— Нет, когда бедняк не поладит с бедняком, полиция отлично делает свое дело, — пояснил Георг.
Он хоть и медленно, но поправлялся, и аппетит у него появился, однако Дитте приходилось соблюдать большую осторожность, его от многого тошнило.
— Это со мною всегда бывало, сколько я себя помню, — говорил он, смеясь над ее испугом. — Очень я, видишь ли, нежным уродился!
Однажды, вернувшись домой, она застала его на ногах. Он сидел у окна и глядел на выпавший снег. Георг, правда, еще был бледен и слаб, но все же это был шаг вперед.
— Знаешь, о чем я тут сижу и думаю? — спросил он. — О жизни. Нету в ней, на мой взгляд, никакого настоящего смысла. Добро и зло, например, разве они от тебя зависят? Ни то-.ни другое. Можно жалеть, что причиняешь кому-то горе или вред, но удержаться от этого не можешь. Иной, пожалуй, сам больше всех терзается, когда замышляет что-нибудь неладное… Но вина все-таки остается на нем. Какой же смысл во всем этом?
Дитте рассмеялась.
— Скажите, пожалуйста, сидит тут и рассуждает! — сказала она радостно, гордясь тем, что он такой умный. — Но вот тебе кое-что другое, чем заняться, — жареный цыпленок. Это мне дали мои прежние господа. Они вообще люди неплохие. Никто так хорошо не ухаживал за собакой, как я, — сказал мне старый барин.
Георг мельком взглянул на цыпленка.
— Не знаю почему, но я всегда был равнодушен к пище, — проговорил он в раздумье. — Чего никак нельзя сказать про вино, — прибавил он с горькой усмешкой.
— Да у тебя и к напиткам пристрастия не было, — с живостью ответила Дитте. — Ты пил только за компанию! И знаешь, почему? Тебе, видно, надоела эта серая жизнь и хотелось перемены — чего-нибудь необыкновенного.
Теперь Георг, во всяком случае, не чувствовал потребности в перемене и большею частью не покидал комнаты. Дитте, в свою очередь, была отчасти довольна тем, что он поправляется так медленно. Она хоть знала теперь, что всегда застанет его на месте.
Но однажды его все-таки не оказалось дома, когда она вернулась; он исчез, не сказавшись, не оставив никакой записки. Дитте стояла, как потерянная, смотря на пустую комнату и прижав руки к сердцу.
Всю ночь она просидела с зажженной лампой и не пошла на другой день на работу. Не в силах была.
Бледная, заплаканная, глядела она в окно на улицу в надежде, что Георг вдруг появится. А может быть, он лежит где-нибудь без помощи! Во всяком случае, он снова растратит последние силы!
Под вечер он неожиданно показался на пороге, держа за руку ее сынишку Йенса.
— Погляди-ка, что я тебе преподнес: чудесного мальчишку и совсем готовенького!.. В магазине купил! — прибавил он со смехом, видимо, очень довольный. — Ну, гляди же повеселей, дорогая!
Но после пережитого страха и напряжения Дитте не могла даже улыбнуться.
Да и мальчик не очень-то обрадовался ей; он скорей всего побаивался ее, зато его не оттащить было от Георга. Разумеется! По нему все с ума сходили. Но тут это было, пожалуй, кстати, — ведь с мальчиком главным образом и пришлось возиться Георгу. Он, видно, слишком рано поднялся с постели и опять слег на несколько дней. Мальчик сидел около него большую часть дня, и Георг читал ему вслух какой-то французский роман. Это была история о приключениях одного женатого господина и его любовницы и о тех муках, которые они переживали в ожидании плода их любви.
— Что такое ты читаешь ребенку? — спросила Дитте. — Ведь Йенс ничего тут не поймет!
— Как же, я все понял, — обиженно возразил мальчик. — У них будет маленький!
— Ага, слышишь! — торжествующе воскликнул Георг. — Йенс у нас молодчина! Живо сообразил!
Они друг друга стоили! Двое малых ребят… Дитте с удовольствием прислушивалась к их болтовне.
Так прошло две недели. Потом явился полицейский и отобрал ребенка.
— Я бы мог, конечно, отправиться туда и сманить у них ребенка еще раз, — сказал Георг. — Но, видишь ли, за их спиной стоит отец ребенка, и с полицией в таких случаях шутки плохи. Возьми-ка ты лучше приемыша.
— Это совсем не одно и то же! — с горечью ответила Дитте.
— Ну, ребенка любишь за то, что он ребенок, а не за то, что ты сам имел несчастье произвести его на свет. Пойди и возьми себе ребенка на воспитание. Тебе еще платить будут вдобавок!
Да, это было бы весьма подходяще! Георг уже поправился, и случайная мелкая работа ему подвертывалась, но недельный заработок получался пустячный. Постоянною же работою еще нельзя было заручиться: зима — мертвый сезон для маляров!
— Тогда придется обманывать контроль, — сказала Дитте. — В таком доме нам ведь не позволят держать приемыша!
— Контроль! — расхохотался Георг. — Слыхала ли ты когда, чтобы контроль в это вмешивался?.. И уж, конечно, мы не можем содержать ребенка в лучших условиях, чем сами живем, — прибавил он серьезно. — Но чертовски весело иметь птенцов в гнезде. Они так щебечут, что просто любо!
Дитте взяла приемыша, и они кое-как перебивались зиму, борясь с холодом и мраком. Питались скудно, но жили дружно, да и зиме предвиделся конец. Дни становились уже длиннее. Георг держался стойко, и, кроме одного случая, его не в чем было упрекнуть. Дело в том, что разок он все-таки загулял. Дитте догадалась об этом, заметив, что пропала хорошая скатерть. Но он рано вернулся домой и улегся спать. Когда он заснул, Дитте осмотрела его карманы и нашла залоговую квитанцию. Дитте спрятала ее, чтобы выкупить вещь, когда у нее будут деньги, и даже не намекнула Георгу на случившееся, — не стоило ссориться из-за такого пустяка. Но через несколько дней он сам заговорил об этом.
— Я опять выкинул номер! Больше этого не будет.
Дитте готова была поверить ему — ребенок очень занимал Георга, его больше не тянуло по вечерам на улицу.
— По мне, так можешь взять на воспитание еще одного! — сказал он как-то, играя с малюткой.
— Не нужно, — мягко отозвалась Дитте. — Летом у нас будет свой.
— Так надо обзавестись настоящей квартирой на хорошей улице, — сказал Георг. — Это ведь просто дыра, а не жилье. И как только я получу постоянную работу, ты будешь сидеть дома. Скверно все-таки, если жена должна бегать на поденщину.
Дитте ничего против этого не имела, хватит ей дела и дома. Она надеялась, что Георга возьмут работать по внутренней отделке большого здания, перестраивавшегося под банк. Староста малярной артели обещал постараться устроить Георга. И Дитте заранее радовалась возможности отдохнуть: очень уж она устала, измучилась, бегая с одной работы на другую.
XXI День получки
Зима все еще давала себя знать — и на улицах, и на стройках, и в жилищах рабочих. Дитте никак не могла добиться, чтобы оконные стекла не замерзали изнутри. Приходилось дышать на них, чтобы образовался «глазок» и она могла поглядеть на улицу. Ребенка она уложила в постель, чтобы он не зяб. Дрова у них вышли двумя днями раньше срока, — очень уж донимал мороз. Мало толку было, что солнце все дольше оставалось на небе, раз оно не показывалось людям! Снег валил с неба, оседал на крышах и сплошной пеленой лежал на улицах. Окна у всех позамерзли, и другим, видно, жилось не лучше Дитте, у всех топлива не хватало. В соседних окошках тоже виднелись «глазки», должно быть, другие женщины тоже поглядывали на улицу, как Дитте! Сегодня была суббота — день получки. Слава богу, что в неделе только семь дней! Для Георга и Дитте этот день был вместе с тем и «днем расплаты». Целый месяц перебивались они на деньги, выплаченные им за приемыша. Только сегодня предстояло Георгу получить по условию расчет за всю сделанную работу, и выплатить ему должны были изрядную сумму, — он работал изо всех сил. На столе лежал длинный список того, что необходимо или желательно было приобрести. Они сообща составили список с вечера, и он вышел предлинным. Георгу то и дело приходила на ум какая-нибудь новая покупка — меховая шапочка для Дитте, игрушка ребенку, все только для них. О самом себе он никогда не думал! Сегодня Дитте еще раз просмотрела список и вычеркнула много вещей. И без того денег выйдет немало; не худо, если останется несколько крон лишних, — пригодятся.
Она зябко куталась в большой платок и зорко поглядывала на улицу. Как только завидит Георга, выбежит встретить его на улицу. Надо дать ему почувствовать, как она любит его.
— Вон отец идет! — услыхала она радостный детский голос в соседнем помещении, и сейчас же там зажегся огонь, сквозь щели в стенах пробились к Дитте тонкие полоски света. Мало-помалу зажигались огни и в других жилищах вокруг. Стало быть, мужья вернулись и сидели с женами за столом, распределяя получку: это на топливо, это на питание, это на квартиру, это на лотерейный билет… Дитте вздрогнула, — она забыла возобновить билет Георга!
Улица тонула в тумане, но Дитте не отходила от окна. Когда же опомнилась, было уже слишком поздно искать Георга на месте работы. Все-таки она набросила платок на голову и выбежала.
Часа два ходила она взад и вперед по своей коротенькой улице, от одного утла до другого, зорко вглядываясь в каждого человека.
Завернуть за угол она не решалась: Георг мог прийти с другой стороны. Прохожие, вынырнув из снежного тумана, снова поглощались им. Все они были облеплены снегом с ног до головы, и каждый мог оказаться Георгом. Должен же он вернуться!.. Не раз уже готова была она уйти со своего поста домой, но в конце улицы, в световом круге уличного фонаря, показывалась новая занесенная снегом фигура, и Дитте бежала ей навстречу.
— Георга ждешь? — сказала ей девчонка, вышедшая из переулка, одна из обитавших в том квартале «веселых девиц». — Не жди! Я встретила его около Нового Порта, — он загулял!
Тогда Дитте пошла домой и легла.
На другой день она выпросила в долг немного угля, чтобы истопить печку, — если Георг вернется, надо как-нибудь удержать его дома. Она прибрала комнату получше и сама нарядилась. Когда он вернется, надо встретить его повеселее, кислая мина может прогнать его.
Она ждала до вечера, потом поручила ребенка соседке и сама побежала на Дворцовую улицу, к сестре Георта. Может быть, муж сестры знает что-нибудь, он был собутыльником Георга. Когда она вернулась назад, оказалось, что Георг приходил, да еще с товарищем, но словам соседки. Они съели все, что было у Дитте в шкафу.
И опять она кинулась на поиски — наугад. Сбегала в Новый Порт совершенно зря. Он ведь был там вчера! Обежала все танцульки и все рабочие клубы: он мог быть и там. Холод стоял ужасный, прямо кости ломило, если стоять на одном месте. А вдруг он лежит где-нибудь на улице? Быть может, под забором или в каком-нибудь сарае, и замерзает! Возможностей было столько, что и не счесть, и поиски становились безнадежными, А что, если он сидит дома и ждет ее и понять не может, куда она девалась? Скорей назад домой! Она безумно спешила.
А потом опять на улицу! Надо обыскать все трактиры и погребки, где, как она знала, он бывал и куда могли его затащить. И обегать всех его приятелей! Как товарищей по работе, так и тех жалких забулдыг, с которыми он водил компанию, когда ему случалось загулять. И всех его старых возлюбленных! Дитте и их обошла. Со слезами пробиралась она по длинным коридорам разных трущоб и стучалась во все двери. Ей и в голову не приходило щадить себя. Где-нибудь да должен же он быть, и лишь бы найти его — все равно где. Ее подгоняли отчаяние и надежда. Всякий раз, как она уже готова была сдаться, свалиться от усталости, что-нибудь вновь подхлестывало ее. Во многих местах ей говорили, что он был здесь, она напала на его след, но с опозданием. Все жители квартала знали о ее погоне, и когда она шла домой, они выходили на улицу и давали ей указания, которые гнали ее снова на поиски.
На третий день утром Дитте, едва волоча ноги, дойдя до полного изнеможения, пробиралась по Гельсингёрской улице домой. Она все еще искала и теперь шла только взглянуть — не вернулся ли Георг домой, но двигалась она уже чисто механически, не в силах ни думать, ни чувствовать. Вдруг в одном из «веселых домов» открылось окошко, и оттуда выглянула женщина в пестром утреннем капоте, навалившись грудью на подоконник.
— Эй! С час тому назад в Новом Порту выудили одного… Видно, свалился в потемках. Ступай, взгляни — не твой ли! — Окошко захлопнулось.
Дитте никуда не пошла больше и тихо побрела домой. Теперь она знала, где Георг. Раздевшись, она заползла в постель, застывшая, полумертвая. И в то время, как она лежала, глядя в потолок и ничего не видя, не чувствуя и не сознавая, внутри у нее что-то шевельнулось… Она ощутила какое-то мягкое, медленное движение в животе. Вперед, вперед — назад, словно кто чертил пальцем, а вслед затем — два глухих предупреждающих толчка. Дитте приподняла голову с подушки и в смятении широко раскрыла глаза. Но через минуту она поняла значение этих таинственных сигналов, поданных из глубины ее лона. Словно огонек затеплился где-то глубоко во мраке. Чувства разом нахлынули на нее с непреодолимой силой, и она залилась горькими слезами.
К ЗВЕЗДАМ
…Ты, что бросил жар сердечный
в холод бездны вековечной,
уповаешь ли и там?..[2]
I Птички божьи
Лютое время зима для мелких пташек. Но бедному люду зимою прямо ад, и терпит он адовы муки дважды: сначала испытывает страх в ожидании зимы, а затем — когда зима наступает. Как злой призрак, начинает она тревожить умы бедных людей, едва минуют долгие дни, и приходится ложиться спать уже при свете лампы. Для лампы нужен керосин, а скоро понадобится покупать и растопку, и кокс, и чем темнее и холоднее на дворе, тем больше расходов в доме. Мрак и холод — свирепые кони зимы. А правит ими сам князь тьмы — сатана, взгромоздясь на страшную кладь из нужды, забот и горя. Едет он прямехонько из преисподней и является вообще единственным постоянным поставщиком для бедняков. Правда, они и не думают звать его. Перевернуться бы ему по дороге со своей кладью или вывалить ее, к примеру, у дверей богатых!.. Любопытно бы поглядеть, как они примут сатану с его хламом. Но сатана знает свое дело! Не с мусором к парадной двери, а к черному крыльцу с праздничным пирогом!
Пташки, впрочем, переживают невзгоды на свой лад, довольно беззаботно, — ежатся и хохлятся, когда небо в тучах, и звонко щебечут, чуть проглянет солнце, — во всем полагаются на волю неба! У бедняка же злосчастная повадка размышлять; создатель в свое время сотворил его по ошибке человеком, хоть и отвел ему место среди животных. Бедняк никак не может забыть прошлое и не может не думать о будущем. Еще не опомнившись от жестокой трепки прошлогодних холодов, он уже с содроганьем прислушивается к щелканью бича грядущей зимы. Какова-то будет она? Очень лютая? Да уж лучше бы так, — тем скорее отделались бы от нее: «жестокие господа редко правят долго»! Или она будет изводить бедняка понемножку, медленно и упорно? Это хуже всего!
Во всем ищет бедняк примет: смотрит и на урожай, и на полевую мышь, и на листопад — медленный он или быстрый, и на хлеб из новины — спорый вышел или нет? Примечает цены на топливо. Если уголь дорожает — быть зиме суровой! Черт горазд на выдумки и любит подшутить над бедняком, а бедняк слишком хорошо знает его изобретательность.
Господь бог в изобилии уродил в деревне рябину и калину для пташек, а здесь, в городе, крысы все лето покоя людям не давали, пренахально собирая себе запасы на зиму. Воробьи, правда, спаривались на крышах до глубокой осени, словно рассчитывая на вечное лето, но эти бродяги в счет не идут. Им был бы только теплый конский навоз, а его круглый год много.
Зима действительно пришла суровая. Холода завернули рано, снега выпало много, и все работы приостановились. Как раз такая же зима, какая запомнилась Дитте с детства, когда она жила на Песках, тогда холод пробирал до костей и давал о себе знать в двух шагах от затопленной в комнате печки.
Все, что только можно было собрать и наскрести, поглощалось этой ненасытной железной утробой, и все ей было мало. Целый совок угля, а то и два шли на то, чтобы только заставить кофейник, все время стоявший на конфорке, покрыться копотью да плюнуть гущей разок-другой. Зато торговцу углем было выгодно, он чертовски быстро богател. Порядочно откладывал, должно быть, в копилку, ибо мерки для угля у него становились все меньше да меньше. Все же остальные мелкие торговцы квартала в один голос жаловались.
Пташки мерзли и прилетали за едой под окна; бывало, что даже прямо стучались клювами. Стекла никогда не оттаивали, так что птичек не было видно, но Дитте знала, что они тут. Оцинкованный наружный подоконник мансардного окошка служил кормушкой, куда Дитте выкладывала остатки еды. Поблизости всегда караулила какая-нибудь пичужка, и стоило Дитте стукнуть оконной рамой, как пташка подавала сигнал, и вмиг слеталась целая стая. Малышей это очень забавляло, и Дитте приходилось перечислять названия всех птиц, в которых она узнавала своих старых знакомцев из деревни.
— Они тоже узнали тебя? — спросил Петер.
Похоже было на то. Во всяком случае птицы ее ничуть не боялись. Кроме воробьев, прилетали овсянки, зяблики, черные дрозды и подорожники — откуда только они брались! Раньше Дитте никогда не видала их в городе. Видно, холод сгонял их всех вместе к человеческому жилью. Нужда вызывает удивительную доверчивость и общительность. Обычно боявшиеся людей лесные зверьки подходили, бывало, в суровые зимы к самому Сорочьему Гнезду и выпрашивали подачки у кухонной двери — и лисицы, и зайцы. Пришлось Дитте рассказать детишкам и об этом. И им Сорочье Гнездо — презренное логово Живодера, которое добрые люди объезжали за милю, — рисовалось каким-то волшебным замком, где картофель запасался на всю зиму в подвале, селедок солилась целая бочка, в печной трубе коптилось свиное сало. С трудом верилось теперь во все это даже самой Дитте, не то что детям, а старуха Расмуссен только руками всплескивала и восклицала:
— Господи! У вас, значит, был настоящий хутор! И еще лошадь вдобавок? Этого даже у булочника нашего нету!
Крысы, и те стали действовать скопом. Однажды к утру через задний двор была протоптана в снегу широкая тропа: это все крысы, одна за другой, ушли из «Казармы» искать счастья в другом месте.
Да, хорошо было тем, кто знал, куда уйти! Другим оставалось только дрожать и кутаться. Старуха Расмуссен совсем сгорбилась и даже стала меньше ростом, да и Дитте как-то съежилась от холода.
Туго ей приходилось последнее время. Несчастье с Георгом надломило ее, она и до сих пор еще не совсем оправилась от этого удара. Потрясение отразилось на ее здоровье, и она страдала кровотечениями, несмотря на беременность. Сильные холода еще более ухудшили положение; работы почти не сыскать было. Да это, пожалуй, и к лучшему, если учесть слабость здоровья Дитте.
Но ужасно трудно было перебиваться. Еще спасибо соседям — помогали!
Все это были люди, столь же неимущие, как и она, — по крайней мере большинство из них, но все они делились с ней и с ее ребятишками последним куском.
Приходилось сказать спасибо и Карлу, хотя это и было ей не очень по душе.
Он какими-то путями проведал о том, как тяжело ей живется, и вскоре после несчастья с Георгом явился к Дитте, тоже, видимо, измученный безработицей. Дитте даже вскрикнула, увидев его в первый раз, — они ведь не встречались с самого ее переезда в столицу. С тех пор Карл всякий раз, как ему удавалось заработать что-нибудь, приходил поделиться с ними и ничуть этим не кичился. Дитте понемногу привыкла к нему, но не понимала, как и чем он перебивается. Жалоб от него она не слыхала.
Но однажды он пришел с пустыми руками, голодный и промерзший.
— Вот горе-то, ничего я вам сегодня не принес, детки! — сказал он малышам, выжидательно смотревшим на него.
Бледные они были, заморенные, в золотушных болячках.
— Где же твое пальто? — спросила Дитте. — Тебе ведь холодно в одной куртке.
Карл только улыбнулся.
— Теперь я спрячу самолюбие в карман и отправлюсь домой, — сказал он. — Невозможно тянуть так дольше.
Последнюю неделю у него даже пристанища не было; обедал он через день, в те дни, когда кормили бесплатно у «Самаритян», а ночевал в сараях и на чердаках.
— Но долго так не проживешь, полиция выследит, — добавил он тихо.
Дитте слушала его, широко раскрыв глаза, медленно заплывавшие слезами.
— А я и помочь тебе не могу, — сказала она. — Даже покормить тебя нечем. Я могла бы только предложить тебе теплую постель…
И она нерешительно перевела глаза с него на кровать.
— О, да! — умоляюще вырвалось у него. — Ты позволишь? На какой-нибудь часок всего! Я так давно не спал в теплой постели.
Карл был так измучен и слаб, что моментально уснул. Дети старались не шуметь, но в сущности это было неважно, потому что он спал как убитый. Куртку и жилет он снял с себя и повесил на спинку кровати. Дитте осмотрела пуговицы и подкладку. Видно было, что он сам чинил свою одежду, — стежки ложились так неумело; все, однако, было сделано аккуратно и чисто. Карл ни к чему не относился спустя рукава.
Но платье было потертое, изношенное донельзя. Мороз пробежал у Дитте по спине при мысли о том, что Карл день и ночь бродил по холоду в такой одежонке. С горя она взяла свой старый вязаный платок и, подложив вдвойне под спинку жилетки, простегала ее. Этим платком обвязывали маленького Петера, когда он кашлял или у него болели уши. Но вместо платка ведь можно будет взять старый чулок.
Под вечер Карл проснулся, отдохнувший и такой веселый, каким Дитте еще ни разу его не видала.
— Ну, теперь я отправлюсь в путь-дорогу домой, на хутор, — сказал он. — Пойду пешком, ночевать буду в ометах, как-нибудь доберусь. А как попаду домой, пришлю вам, ребятки, съестного. Колбасы, сала!
Дитте сбегала в булочную и выпросила лишний пеклеванник, который сунула Карлу.
— Это тебе на дорогу, — сказала она, боясь, что он поделится с ребятишками.
— Спасибо! — поблагодарил он и положил хлеб за пазуху.
Но после его ухода они нашли пеклеванник на кухне.
Дней через десять от него действительно пришла посылка со съестным. К ней было приложено письмо. Против ожидания Карлу обрадовались, и Дитте поняла из письма, что он чувствует себя хорошо дома, куда не заглядывал почти семь лет. Мать заболела от грубого обращения Йоханнеса. Приезжали старшие сыновья и выгнали его вон. Хутор нуждался в хозяине, и Карл решил пожить там и поработать — во всяком случае некоторое время. Нужно бы туда и молодую работящую хозяйку, писал он, все там пришло в еще больший упадок. А мать стала такая ласковая, обходительная, совсем изменилась.
Много раз вынимала и перечитывала Дитте письмо. Она как-то не могла хорошенько уяснить его себе. Удивительную весть принесло оно ей, обездоленной. Неужели же и для нее пришел час награды? Неужели сбудутся ее мечты, давным-давно отцветшие, увядшие? Она знала, что Карен Баккегор и дядя Йоханнес жили как кошка с собакой. Слишком уж они торопились забегать вперед! Еще до свадьбы вели себя как муж с женою, давно пережившие свой медовый месяц, и даже трех-дневная свадебная пирушка кончилась у них потасовкой. Дальнейшая их жизнь была нескончаемым рядом ссор и примирений; они справляли «один медовый день в месяц», — по выражению Ларса Петера, который изредка бывал в тех краях по своим торговым делам.
Как ни влюблена была хозяйка Хутора на Холмах в своего черномазого юнца, она все-таки проявила осторожность и хутор ему не передала. Поэтому ему не удалось спустить все дочиста, но из-за этого-то они вечно и ссорились. Теперь, стало быть, его выгнали вон, и старшие сыновья опять бывают дома. Карл, если захочет, может стать хозяином хутора, а Дитте…
Дитте видела перед собой новые возможности, но в восторг не приходила. Не то она не вполне верила в них, не то они попросту перестали прельщать ее. Как будто дело касалось не ее самой, а кого-то постороннего. «Мы могли бы тогда взять домой Йенса», — говорилось в письме Карла. Да, Йенс! Сколько слез пролила Дитте по ночам, тоскуя о мальчике! Но эти слезы давно высохли. Горе и тоска вызывались уже другими причинами. А горячие желания… да разве она еще желала чего-нибудь горячо? Будничные ее желания во всяком случае не выходили за пределы ее маленького мирка, и чаще всего она довольствовалась теплым углом жилой комнаты, под покатым потолком. Поставить бы туда плетеное кресло с мягким изголовьем, чтобы иногда дать отдых своим отекшим йогам, посидеть, закрыв глаза, и забыть обо всех заботах!
Дитте была больна, измучена, она могла еще кое-как тянуть старую лямку, но перестраивать жизнь на новый лад ей было уже не по силам. С трудом переживала она день за днем, дождаться не могла конца зимы и своей беременности. Тогда, может быть, и сил у нее прибавится, и духом она воспрянет.
В марте наступил наконец перелом. Холод вдруг сменился теплым дождем, снег стаял в течение нескольких дней, все кругом, словно только что вымытое, блестело на солнце.
— Только бы погода установилась, — вздыхала Дитте.
— Установится, установится, — говорила старуха Расмуссен. — Воробьи уже разлетелись по полям, а вчера ночью и крысы вернулись в старые норы, всю ночь нищали и возились на чердаке.
— Вон, вон одна! — крикнул Петер с окошка, где он грелся на солнышке.
В самом деле, большая старая крыса прогуливалась по водосточной трубе, осторожно и деловито оглядывая знакомые места. Она напоминала старого хозяина, только что выставившего зимние двери балкона, — прямо трогательное зрелище!
Словом, что касается весны, все было в порядке, вот только с работой дело еще не налаживалось. Раньше можно было во всем винить погоду. Но «стаял последний снежок, можно опять за плужок!» — говорит пословица. Стало быть, пора бы начаться работам и в городе, прежде всего земляным, а за ними пойдут и другие. Но на этот раз причина была, видно, иная, чем раньше, более серьезная! Будто сам лукавый стакнулся с предпринимателями и за жал своей лапой мешок, откуда бедняк доставал себе хлеб. «Уж не было ли тут и впрямь какой чертовщины? Не имелось ли в виду еще сильнее скрутить рабочих? Смирить непокорных?» — так перешептывались между собой с глазу на глаз мужчины; распространился слух, что предприниматели добираются до рабочих организаций!
Как бы там ни было, работа не налаживалась. Рабочие выползли из своих зимних берлог и с утра до вечера околачивались в тех местах, где можно было рассчитывать найти работу: слонялись по набережным и стояли перед воротами фабрик с видом безнадежной покорности судьбе. Но хозяева предприятий не подавали признаков жизни. Пароходы не грузились и не выходили в море, как бывало весной, а большею частью оставались стоять в порту; даже муниципалитет словно заразился общей вялостью и ничего не предпринимал. Должно быть, недаром сложили поговорку: «Стоит оводу укусить одну корову, как за нею побежит все стадо», одно тянет за собою другое.
Каменщики были без работы, хотя нужда в постройках ощущалась немалая. Поговаривали, что банки отказывают в кредите на постройки, чтобы вызвать лишний кризис и взвинтить цены на аренду помещений. Видно, банки вложили большие капиталы в недвижимость, и им хотелось нажиться.
Положение землекопов и бетонщиков было прямо отчаянное. По части сооружения и ремонта дорог и канализации всегда было затишье в месяцы с буквою «р» — в противоположность потреблению трески{14}— и рабочие этих профессий гуляли без дела с самой осени. Они голодали и закладывали последнее. Кто мог, уходил из города в деревню, где все-таки легче было прокормиться.
Не машины ли были во всем виноваты? Они ведь становятся все совершеннее и почти не требуют обслуживания! Чего доброго, скоро дело дойдет до того, что рабочий вообще не нужен будет на земле. Ему останется лечь да умереть с голоду! Или самому взять бразды правления, как предлагают иные смельчаки.
II Мама Дитте
Бабушка была права, предсказывая Дитте, что у нее будет много ребят.
— У тебя сердце готово выскочить из-под платья, дитятко! И потом — эта темная полоска на животе… — говорила старуха. — Смотри, не нажить бы тебе беды с твоим неуемным сердечком!
Да, уж это глупое сердце! Едва Дитте вышла из детского возраста, как оно ввело ее в грех, но и беда не научила ее уму-разуму. Дитте не могла видеть маленькое беспомощное существо и не приласкать, детский плач переполнял ее сердце нежнейшей материнской» жалостью. В «Казарме» все прозвали ее, несмотря на молодость, «мамой Дитте». Прозвище это дали ей собственные дети, но за ними ее стали называть так и взрослые. Как-то само собой выходило, что ей оставляли своих ребят все соседки, когда им самим нужно было сбегать куда-нибудь, и как-то само собой у детей вошло в привычку бежать к ней со всеми своими бедами и нуждами. Своей шершавой рукой и грубоватым голосом она останавливала потоки детских слез и утоляла немало печалей, — мягкостью она не отличалась, но помочь умела! И дети бессознательно ценили это — «мама Дитте» все всегда уладит!
Дитте была на редкость отзывчивой. Вечно так или иначе оказывалась с новой обузой на шее, кормила чей-нибудь лишний рот. Петера она взяла на воспитание, чтобы Георгу было веселее, когда тот лежал больной. Мать Петера бросил ее сожитель, и она могла платить за воспитание ребенка всего десять крон в месяц. Но еще до Рождества скрылась и мать, и никаких денег Дитте больше не получала. Но она радовалась, что у нее не отняли ребенка.
Под самое Рождество умерла молодая жена одного рабочего, оставив трехлетнюю сиротку. Жили они в одном коридоре с Дитте, и она стала присматривать за малюткой, когда отец уходил на работу. Затем настала безработица, выбившая его из колеи, и девочка осталась всецело на руках Дитте. Отец перебивался случайной работой, переходя с места на место, и, когда ему удавалось заработать, присылал кое-что. Он был человек честный. Но такие посылки были нерегулярны, да и мало радости получать деньги по таким мелочам — когда крону, а когда и полкроны в письме к девчурке. Вдобавок вечно приходилось опасаться, что на почте обнаружат и конфискуют деньги, а сколько-нибудь порядочной суммы — хотя бы на уплату за квартиру — все равно Дитте никогда не получала.
Петер и маленькая Анна — вот вам уж двое! А когда к ним прибавится и собственный младенец, то будет целое гнездо! Да не забудьте старую вдову Расмуссен, с которой Дитте делилась и куском хлеба и теплом, да жильца, снимавшего ее другую комнату «с утренним кофе». Он носил кожаную обувь, отложные воротнички из резинового полотна и очки, — видно было, что он знавал лучшие времена. Но спросите, — получала ли с него Дитте когда-нибудь плату? Да, нечего сказать, мастерица она была устраиваться! Без малого целым зверинцем обзавелась! Что бы сказали ее родные, если бы когда-нибудь в воскресенье она нагрянула к ним вместе со всей своей семьей.
Грех, впрочем, сказать, чтобы Дитте обивала там пороги. Она заходила помочь, когда у Сине родился маленький. И Сине тогда же дала ей понять, что они не одобряют ее поведения и что ей, во всяком случае, следовало бы вовремя обвенчаться с Георгом! С тех пор Дитте бывала на Истедгаде только по особому приглашению. Но Ларс Петер заглядывал к ней и совал деньжонок, — Сине о его посещениях, очевидно, знать не полагалось. Он и не оставался никогда подолгу; вообще стал сдержаннее, совсем не тот, что прежде.
Дитте хорошо понимала, что он так переменился благодаря Сине с ее господскими замашками и стремлением выбиться в люди. Ей, понятно, вовсе не лестно иметь падчерицу, о которой идут всякие пересуды. Эльза поступила в контору печатать на машинке, ходила в жакетке даже по будням — на службу и со службы — и свела знакомство с учеником почтамта, который и был принят у них в доме, как водится у благородных. Забежать к Дитте она все никак не могла удосужиться. Зато Ноуль частенько заглядывал, когда бывал в городе с поручениями от хозяина. Пока он служил на посылках у мастера из велосипедной мастерской и к нему же должен был поступить в учение сразу после конфирмации. Поуль почти всегда куда-нибудь спешил и, как бешеный, несся на своей дребезжащей, ржавой машине. Повстречаться с ним на повороте прямо беда была: он мчался и все время звонил, словно пожарная машина, — сторонись с дороги! Мог он теперь отдаться и своей склонности разбирать предметы по частям и снова собирать их. И всегда приносил малышам какую-нибудь забавную или замысловатую игрушку, смастерив ее из старых велосипедных частей. В хорошую погоду Петеру разрешалось сойти вниз и сесть на перекладину велосипеда. Поуль вскакивал на седло, и они уносились вихрем. У Дитте душа уходила в пятки, но не успеет она, бывало, оглянуться, как они уже с трезвоном несутся с другой стороны, объехав кругом весь квартал.
— Как ты не боишься полиции, мальчуган! — говорила Дитте.
— Да я у них под носом проскочу, только они меня и видели!
Поуль был не робкого десятка, и могло показаться, что он все детство провел на городской мостовой.
Расмус, близнец, тоже заходил, — оба они с Поулем продолжали считать Дитте своей настоящей матерью. Она чинила им прорехи на одежде, за которые им могло достаться дома, а они делились с ней своими небольшими карманными деньгами. Расмус, впрочем, уже не жил у Ларса Петера, его отдали в мальчики в зеленную лавку, и его тоже часто посылали по городу с поручениями. Вообще жилось ему у хозяина неплохо, но Дитте все-таки как-то не могла освоиться с мыслью, что он живет у чужих; она не понимала, как это Ларс Петер расстался с мальчиком, точно не сам подобрал сироту у мертвой старухи Дориум! Как сейчас видела она перед собой отца с осиротевшим птенчиком в сильных, надежных объятиях! И это, верно, устроила Сине, — она все в доме умела повернуть по-своему! Но между собою супруг, жили в большом ладу.
Правда, Ларс Петер не разделял мещанских взглядов Сине, — для этого ему пришлось бы переродиться. Но он был по уши влюблен в свою краснощекую, пухленькую женку и питал к ней необыкновенное почтение. Такой жены у него еще ни разу не было, — всегда мягкая, обходительная, она была в то же время твердой и решительной. На ее суждения можно было положиться, хотя бы они и шли вразрез со всеми его житейскими принципами. Она ведь вывела его семью на дорогу. А какого мальчишку ему подарила!.. Ларс Петер храбро боролся с судьбой, не раз начинал сызнова и опять оставался ни с чем, как библейский Иов. Немудрено, что он был не прочь, наконец, добиться настоящей удачи. И Сине помогла ему, принесла с собой в дом счастье, как говорится; поэтому считаться с ее взглядами значило помогать собственной удаче. Взять хоть бы то, как они теперь устроились: квартира в три комнаты, в гостиной — красная плюшевая мебель, а в столовой — дубовый буфет с медной посудой. Обстановка эта, конечно, досталась им дешево — из подержанных вещей, проданных в их лавку, но сам Ларс Петер никогда бы не додумался устроиться так. Тут нужна была сообразительность Сине.
Иногда ему, по-видимому, становилось как-то скучно дома, — пожалуй, в такие-то минуты он по преимуществу и заглядывал к Дитте. С нею он любил поговорить о Сорочьем Гнезде и о поселке. Он скучал по деревне, а больше всего по проезжей дороге.
Зима, для большинства людей столь тяжелая, ему была на руку. Они еще к Новому году расширили свою торговлю и, кроме старого железа, стали скупать подержанную мебель, обувь, одежду. В подвалах скопились горы всякого добра. Продающих было сколько угодно, — Нужда заставляла людей продавать. Но зато покупателей стало меньше; те люди, что приобретали у Ларса Петера подержанные вещи, сидели теперь на мели. Мало-помалу были битком набиты и подвал и сарай во дворе. Даже наверху, в самой квартире, повернуться стало негде из-за лишней мебели и вещей, нагроможденных до самого потолка и портивших воздух. Дышать становилось трудно. Все сбережения Сине ушли понемногу на покупки, и в один прекрасный день Ларс Петер мог вылететь в трубу, — нечем, пожалуй, оказалось бы заплатить за квартиру!
Вот тут-то Ларсу Петеру и пришла на ум удачная мысль — как раз кстати, в самую трудную минуту, когда сравнительно легко было добиться согласия Сине. Он нанял лошадь с телегой и начал по-старому разъезжать по деревням и хуторам. В городской лавке, конечно, можно было обойтись без него, — Сине была куда деловитее его. Он был попросту слишком добр и жалостлив ко всем, кто тащил к нему свой скарб. Зато торговать подержанными вещами было как раз по нем! А крестьяне большие охотники покупать подержанные вещи — может быть, потому, что уверены в таком случае в дешевизне покупки. И их кошельков Ларс Петер не жалел, со спокойной совестью соблюдал свою выгоду, как только умел.
Это помогло вздохнуть полегче, товаров в складах стало меньше, а в кассе денег прибавилось. Конечно, это было не совсем благородное занятие, и соседям незачем было знать, что мебельный торговец Ларс Петер Хансен торгует старьем по деревням. Поулю Сине строго-настрого запретила рассказывать об этом кому бы то ни было. А Дитте еще больше привязалась теперь к отцу. Когда он заходил, от его одежды, как в старину, припахивало лошадкой, а от волос и от звуков его голоса опять веяло проезжей дорогой.
«У бедняков много ходов и выходов», — говорят копенгагенцы. Нет работы — пусть идет в работный дом, а если и там не примут, то бедняку и голодать не привыкать стать! Да, хорошо иметь какую-нибудь специальность!
Дитте с детских лет приходилось изворачиваться, и жизнь постоянно напоминала ей об этом. Кроме того, она никогда никого другого ни в чем не винила, а только себя. Если дети и старуха Расмуссен мерзли и голодали, Дитте считала, что в этом виновата одна она. Она никогда не винила ни других людей, переложивших свою ношу на ее плечи, ни общество, обрекающее беременную женщину на тяжелый труд. Теперь и на морозы больше не приходилось сетовать, — будто они вызывают безработицу, стало быть, можно так или иначе извернуться, найти выход, надо только постараться, поискать хорошенько.
И Дитте действительно изворачивалась — во всяком случае, настолько, чтобы не пустить к себе на порог крайнюю нужду. Но какого нечеловеческого напряжения воли и сил ей это стоило! Понадобилась помощница газетчице, чтобы разносить за нее газеты по самым верхним этажам, — Дитте сейчас же предложила свои услуги и целую неделю являлась в пять часов утра на условленное место на углу и обходила третьи и четвертые этажи. Потом ей стало уже невмоготу, но время от времени подвертывались другие подобные заработки. Найти постоянное место нечего было и думать: кому из счастливцев, заручившихся таким местом, придет в голову добровольно уступить его другому в столь тяжкие времена? Но иногда удавалось походить два-три дня подряд на поденщину, а собирать кокс на местах разгрузки можно было в любое время. И если приналечь хорошенько, крону в день всегда заработаешь, не считая кокса, собранного для себя лично.
Труднее всего было с платой за квартиру. Всю зиму Дитте с тревогой ждала первого числа, — ведь каждое первое число вынь да положь целых пятнадцать крон, а где она возьмет их, она никогда не знала вперед. Теперь эта забота свалилась с плеч. Как-то утром старую дворничиху — вернее, уборщицу, мывшую в доме все лестницы, — нашли мертвой в постели. И управляющий предложил Дитте занять ее место, которое оплачивалось даровой квартирой. Работа была грязная, неблагодарная, и трудно было найти желающих взяться за нее, тем более что она считалась вдобавок унизительной. Но Дитте ухватилась за предложение, как за помощь свыше.
Итак, она скатилась еще ниже, — поломойка! Теперь ей уже нечего рассчитывать получить приглашение на конфирмацию Поуля. Горько ей это было; не часто «в своей жизни приходилось ей бывать на праздниках, а это ведь будет настоящий праздник! Но зато квартира обеспечена, не нужно больше дрожать над каждым грошом скудной пенсии вдовы Расмуссен. Удастся справить старухе и летнюю одежду, — ей это прямо необходимо.
Оценить по достоинству поведение Дитте было теперь тем легче, что каждый мог подвести итог ее безрассудным поступкам. Мало того, что она не позаботилась вовремя обвенчаться с Георгом, — с этим теперь уже ничего не поделаешь, — она могла бы все-таки выпутаться после его смерти, если бы отказалась от дарового питомца, вместо того чтобы навязывать себе на шею еще второго, и перебралась бы в другой квартал, поприличнее. На место она, беременная, поступить не могла, но почему бы ей не принять предложенную ей помощь? Карл ведь готов был признать себя отцом будущего ребенка! Такого покровителя не скоро вообще сыщешь, тем более в ее положении! Мужем ей он был бы хорошим, и довольно уже кружили они один около другого, словно кошка около блюдца с горячей кашей. Чего им было еще раздумывать или опасаться? Оба ведь успели обжечься!
Да, плохо вела Дитте свои дела; сам Ларс Петер должен был признать это. Она не отличалась ни особой бойкостью, ни особым честолюбием в личных делах, но зато была добра. И слишком много брала на себя! Иная доброта хуже глупости; не мешает иногда и о себе подумать. Но говорить об этом с Дитте не стоило; она поступала по-своему.
Бедная «мама Дитте»! Что же могла она поделать с собою? Она была виновата во всем этом не больше кого-либо другого. Ее так и подмывало помочь ревущему ребенку, сбегать навестить больную соседку — не валяется ли та без всякой помощи? Дитте не могла перестать думать обо всем или даже за всех. У нее прямо чесались руки, и она не могла видеть младенца или больного взрослого, чтобы не поправить сейчас же ему подушку, остальное выходило уже само собой. Она словно отмечена была божественной печатью, обрекавшей ее вечно взваливать на себя чужое бремя, вечно быть к услугам других, вечно опекать кого-то. Старичок из Пряничного домика прозвал ее «маленьким провидением», глядя, как она хлопочет у себя дома и заботится о младших братьях и сестре. Годы шли, и Дитте оставалась все такой же великодушной. Она только научилась довольно успешно обороняться от тех, кто хотел эксплуатировать ее, но перед слабыми и беспомощными отступала.
— Знаете что? Когда вы попадете на небо, то первым долгом поспешите выяснить, сухи ли пеленки у херувимчиков! — насмешливо сказал ей однажды жилец.
Но что толку от таких разговоров?
Помешать Дитте делать по-своему было не легче, чем помешать солнцу светить или курице рыться в земле.
Дитте ходила уже на последнем месяце беременности, здоровье ее было надорвано. Часто по утрам она чувствовала себя до такой степени измученной, что ей хотелось остаться в постели.
— Тебе бы в самом деле полежать денек, — говорила старуха Расмуссен. — Как-нибудь прокормимся и сегодня. Мне вот скоро восемьдесят стукнет, а я до сих пор еще не помирала от голода.
Но Дитте все-таки вставала и гонялась за заработком, — откуда только брались у нее силы! Должно быть, они таились глубоко внутри, потому что выглядела она далеко не крепкой. Дитте и не собиралась ложиться, пока не свалится!
Нет! И пощады просить не думала. Не приходила ей также в голову мысль о том, что она приносит себя в жертву. Правда, иногда она была грубовата, когда заботилась о других; слишком уж много расходовала она физических и душевных сил, чтобы содержать свое гнездо; излишков никаких и не оставалось. Дитте отдавала все, но без улыбки; кормила своих птенцов, но дающая рука ее не всегда была тепла и мягка. Она сама искренно жалела об этом, но переделать себя не могла.
Дети, однако, чувствовали ее доброту — как свои собственные, так и чужие. Они бежали к ней с самого дальнего конца длинного коридора, когда с ними приключалась беда. Мама Дитте поможет!
III Малютка Георг
Ночью, в начале мая, Дитте проснулась с криком. Ей приснилось, что ее колесуют за то, что у нее должен родиться ребенок.
Чувствуя острые боли в пояснице и в нижней части живота, она было встала, чтобы позвать старуху Расмуссен и попросить ее взять к себе детей. Но тут же пришлось снова лечь, — ноги сильно отекли, и она не могла стоять.
Дети спокойно спали: маленькая Анна рядом с Дитте у стенки, Петер в ногах постели, ножками к Анне. Дитте лежала и, прислушиваясь к их дыханию, соображала: что же ей делать? Нельзя ведь оставить детей здесь. Дурацкие ноги! При всяком недомогании они непременно отекали — это она нажила себе в прислугах. Дитте ловила ночные звуки, чтобы догадаться, который час; будильник давно уже был заложен, и квитанция продана. Долго ли еще она промучится, прежде чем родит? И не начнутся ли опять судороги в икрах? Это, пожалуй, самое болезненное. А вдруг она умрет от родов? Впрочем, это не беда. Только бы кто-нибудь сидел в это время около нее и держал ее за руку! Но кому же было? Карлу? Ну, он, наверное, уж забыл о ней, и немудрено, раз она так поступила с ним. Но хорошо в сущности, что она не поддалась его фантазиям, не согласилась выйти за него и переехать на хутор. Мать-то, в конце концов, не смогла обойтись без Йоханнеса и снова позвала его к себе, а Карл ушел из дому. Дитте знала, что он опять здесь, в городе, но еще не виделась с ним. Может быть, он теперь стыдился ее. Вообще, нужна ли она кому-нибудь в мире? Многим будет недоставать ее, но она не могла вспомнить ни единой души, которая бы любила ее по-настоящему. Только бы солнышко светило, когда ей придется умирать! При солнышке легче!
Она старалась лежать спокойно во время схваток и ждала, когда же забрезжит сквозь занавески утро, — ей страстно хотелось, чтобы скорее рассвело. В четыре часа утра обыкновенно спускался по лестнице вниз ломовой извозчик, чтобы задать корма лошадям, стоявшим на соседнем дворе; можно будет позвать его.
На лестнице послышались тяжелые шаги, — это жилец возвращался домой. Она слышала, как он спотыкался, стукался и бормотал; видно, под хмельком был, как всегда. Значит, можно сейчас позвать его, — когда он трезв, к нему не подступись.
— Господин Крамер! — тихонько, чтобы не разбудить детей, окликнула она его, когда он вошел в свою комнату. — Господин Крамер!
Он постучался и вошел, покачиваясь, с лампой в руках; несколько раз он чуть-чуть не подпалил себе длинные, свисающие усы.
— Простите за беспокойство, — прогнусавил он, обводя комнату затуманенным взором. — Что случилось?
— Ох, мне так плохо, господин Крамер, — жалобно проговорила Дитте. — Не будете ли вы так добры помочь мне, забрать у меня детишек?
Крамер, по прозвищу «Поздравитель», с недоумением воззрился на нее.
— Э-э-э! Следовательно… Но тогда вам лучше бы обратиться к моему отцу, старшему акушеру… То есть если бы это случилось лет двадцать тому назад! А позвольте спросить, вы разве сразу нескольких ждете?
— Ох, господин Крамер, мне так неможется!.. — Дитте отвернулась к стене и заплакала.
У жильца был такой вид, словно он с луны свалился.
— Ну, ну, чего вы? — забормотал он.
С величайшим усилием он расклеил слипавшиеся веки и решительно подошел к постели.
— Извините за беспокойство, но вы сами же сказали насчет детишек, фру Хансен, — произнес он, наклонясь над ней.
— Я говорила об этих вот малышах. Не будете ли вы так добры отнести их к старухе Расмуссен?
Она не решалась повернуться к нему лицом, — слишком уж от него разило спиртом.
— Ну, разумеется, да! То есть, я хотел сказать: конечно, нет! Тревожить старуху среди ночи!
— Мне бы хотелось, чтобы она посидела со мной.
— Это совершенно лишнее, раз я теперь вполне трезв. — Он сделал размашистый жест. — Крамер берет бразды правления в свои руки, моя милая. Малышей он уложит в свою собственную постель, приняв все меры предосторожности! Все меры предосторожности! А вы себе лежите и помалкивайте! Согласны?.. Только ни о чем не думать, и все обойдется отлично. Женщины лучше всего справляются со своими делами, когда не думают. А то одна моя знакомая дама рожала мальчишку, и он вышел ногами вперед. Она, видите ли, была доктор математики и слишком много рассуждала!
Болтая и пошатываясь, он раза два прошелся в свою комнату и обратно, перенес туда стул и опять принес его назад, вновь отнес и вновь принес.
— Видите, удалось! — самодовольно заявил он. — Всегда надо начинать с чего-нибудь небьющегося.
Затем он взял девочку и, пошатываясь, понес ее к себе, а Дитте осталась одна, готовая в случае нужды звать на помощь. Она не очень-то полагалась на него, несмотря на предварительную пробу. Но все сошло благополучно, сонные дети лежали у него на руках, как мертвые, и не чувствовали, что их куда-то переносят.
— Ну-ну, мелюзга! — приговаривал он, укутывая их у себя на постели.
Это было просто трогательно. В трезвом виде он нимало ими не интересовался и даже ворчал, когда они попадались ему под ноги.
— Что? Кричать-то не пришлось? Не понадобилось? — смеясь, поддразнивал он Дитте, стоя в дверях. — Я приметил, как вы поглядывали мне на ноги — не заплетаются ли! Женщины всегда смотрят на ноги, а все дело-то в голове. Вот как мальчишки, когда им нужно пролезть сквозь частокол… ну, чтобы, скажем, украсть яблок; они всегда сначала суют голову, потому что, если голова пролезет, и все тело пролезет. Все дело в голове! — Он предостерегающе поднял палец и вдруг хихикнул: — Большинство людей, впрочем, безголовые… потому так легко и пролезают всюду!
Он стоял, прислонясь спиной к дверному косяку, и вдруг стал сползать все ниже и ниже. Но внезапно встряхнулся и выпрямился.
— Итак, я остаюсь здесь… буду бодрствовать и молиться. Решено! — сказал он и уселся около Дитте, в логах постели, прислонясь плечом к стене. — А милая «мама Дитте» пусть укроется хорошенько и вздремнет, чтобы собраться с силами к решительному бою. Спите себе, — право, бояться нечего. Дети рождаются ежеминутно… быть может, даже ежесекундно, так что вы сами можете понять… Вы давеча жаловались на нездоровье… Да разве это можно назвать нездоровьем? Тогда, пожалуй, и мой хмель нездоровье! Послушайте, а как насчет квартирной платы? Получили ли вы когда-нибудь хоть грош с этого субъекта-поздравителя? — Он порылся в жилетном кармане и выложил на ночной столик несколько монет. — Черт его знает! Неужели только всего и осталось? А день был в общем прибыльный, но я свинья, как вам небезызвестно! Крамер — свинья, даром что носит очки; спросите сами у здешних баб… ах, извините, у здешних дам!.. В общем, я недурно провел день: один из этих идиотских юбилеев — двадцать пять лет позированья в качестве возглавляющей особы… Причесан, прилизан… с орденом или другой вещичкой в петлице по случаю торжественного дня! И я тут как тут — с букетом: «Извините, ваше превосходительство, за беспокойство, но по случаю торжественного дня…» — «Помилуйте! Что за беспокойство!» — отвечает жертва и сует десятку. Совсем не так глупо для круглого идиота, не правда ли? Потому что, признаться сказать, можно ведь и за насмешку принять.
Дитте застонала от боли.
— Ну, ну!.. Конечно, дело трудное. Но нет худа без добра. Я хочу сказать, что хорошо, когда дети посылаются тем, кто их любит. Потому что, доведись мне быть на вашем месте… Впрочем, тогда досталось бы голове, — мы, мужчины, способны творить только головою. Представьте же себе: вдруг череп трескается, а оттуда выползает маленький человеческий детеныш!.. Да я это так только, к слову. Тут нет ровно ничего смешного. Но и опасного тоже ничего нет. Моя жена тоже, бывало, вопит: «Умираю, умираю!» — «Вздор, — говорю, — ты просто родить!» Послушали бы вы, как она на меня напустилась. Женщины не признают логики, черт возьми! Ну, закройте же глаза!..
Да, ему легко говорить!.. И будет ли конец его пьяной болтовне?
Наконец он устал от собственной болтовни и уснул, облокотясь на спинку кровати и положив голову на руки. В маленькой ком пате стало душно от его пропитанного спиртом дыхания, и у Дитте кружилась голова. Извозчик давно ушел на работу; за спущенной занавеской светлело. В кухне послышалось шарканье туфель старухи Расмуссен; она собиралась согреть себе кофейку. Значит, уже пять часов утра.
Старуха унесла детей к себе в чердачный чуланчик и уложила их на свою постель. С большим трудом удалось ей растолкать Поздравителя и отправить его спать. Он страшно ругался со сна.
— Ох, — скорчила старуха гримасу, когда он, наконец, убрался. — Вот уж отвратительный человек!
— Он был очень мил, — возразила Дитте. — Сам захотел посидеть около меня, чтобы не беспокоить вас, бабушка!
— Нечего сказать, хороша сиделка! Не всякий согласится принять такую! С него ведь все станется!..
— Ну, что вы! — Дитте улыбнулась, но вдруг вскрикнула и скорчилась от боли. — Ой, как мне больно!.. Право, я не выживу! У меня такое странное ощущение — будто все внутренности разрываются на части… И потом, я не понимаю, в чем дело — на целых шесть недель раньше?
Сомневаться все-таки не приходилось. Старуха Расмуссен сама не раз терпела эти муки и хорошо знала все признаки. Она прибрала комнату и затопила печку, чтобы малютка родился в тепле. Потом нужно было по-собрать тряпья, чтоб подстелить под Дитте. А это нелегко было: за зиму исчезло все, без чего можно было как-нибудь обойтись. Детское белье пришлось выпросить у соседей — у кого что. Да надо было еще сбегать за повитухой, добыть сдобного хлеба и сварить свежего кофе, — эти акушерки такие разборчивые! Словом, пришлось старухе побегать, — досталось ее больным ногам!
К счастью, сегодня они не давали себя знать. Событие подбодрило старуху, и она справилась молодцом. Еще счастье, что этот «субъект» Крамер не пропился вечером до последнего эре!
После полудня Дитте родила мальчика; он был недоношен и весил всего пять фунтов. Но все же это был мальчик, наперекор всем приметам и предсказаниям старухи Расмуссен, что родится девочка.
— Надо хорошенько посмотреть еще разок, — сказала она. — Не вышло ли ошибки? — Она положительно сердилась, что мальчишка, так сказать, надул ее.
— Впрочем, немудрено было и ошибиться, когда он такой малюсенький! — сконфуженно оправдывалась она.
Разумеется, акушерка явилась, когда все уже было кончено. Она постояла с минуту, красуясь в своем новом пальто, потом осмотрела, крепко ли перевязан пупок у новорожденного, и упорхнула. От кофе она отказалась, — верно, запах кофе ей не понравился.
— Ну так мы сами его выпьем, — заявила старуха Расмуссен. — Вишь, какая спесивая! Пускай себе убирается на все четыре стороны! Мне не впервые быть за повитуху. Сколько младенцев приняла на своем веку!
Они напились кофе. Дитте налили чашку крепкого-прекрепкого.
— Это разгоняет кровь! — сказала старуха.
Детям позволили войти и взглянуть на нового братца. До сих пор они играли на чердаке. Но они мало интересовались малюткой и убежали, получив свою долю угощения; достаточно уже насиделись они в этой комнате.
Старуха Расмуссен примостилась у печки, держа на коленях голенькое, иссиня-красное крохотное созданьице и смазывая ему все складочки салом. Потом она обернула его ватой для тепла — крови-то в нем было маловато, — уложила в заменявший люльку выдвинутый ящик комода, куда сунула еще бутылку с горячей водой.
Да, все-таки это был мальчик!
— И тоже сумеет натворить бед, как ни мал уродился, — бормотала старуха, укутывая младенца. — Бог весть, почему господь создал мужчин такими, что они только причиняют горе женщинам!
Дитте самой на этот раз хотелось девочку.
Ну, уж этого старуха никак не могла взять в толк.
— Стало быть, ты довольна своей участью! — сказала она и даже перекрестилась. — По существу разницы не должно быть: что есть у одного, без того не обойтись другому, и наоборот. А вот господь бог взял да неладно устроил — отдуваться приходится всегда нам, бедным женщинам. Случись что, — мы и попались! И убежать никуда не убежишь, — реви, сколько хочешь, а последствия при тебе останутся. Нет, будь наша воля выбирать, поверь, многие не захотели бы родиться женщинами. Влипнет какая-нибудь несчастная девчонка, и, сколько ни мечется потом, прибыль никуда не денешь, неси домой. А виновник всего — где? Женщины — все равно что узкие переулки, куда наносит сугробы снега; и откуда только он берется? Но, видно, господь бог знал, что делал, создавая нас такими дурами: кабы мы больше думали о последствиях, ему, пожалуй, долго пришлось бы ждать, пока его белый свет заселится.
— А вы разве не были замужем по-настоящему, бабушка? — удивилась Дитте.
— Была-то была, да что толку, если мужа все равно что и не было? Ему ничего не стоило в один прекрасный день взять ключ от уборной и — на целый год исчезнуть. А потом вдруг явиться опять как ни в чем не бывало, даже без шапки, как ушел, и даже с ключом в руках! Надо бы и мне делать вид, будто ничего не случилось, будто с его ухода прошло не больше пяти минут, да не всякая жена способна на это!
Дитте рассмеялась.
— Да, смейся, хотя смешного тут мало. Ни вдова, ни мужняя жена! Детьми-то нас бог благословил, но отца своего они не больно часто видели. Вот как прошли мои лучшие годы… Куда дети девались? Да коли не померли, так живы и по сию пору…
Старуха Расмуссен никогда не рассказывала о своих детях.
— А теперь пора ужинать, да и на боковую!
— У нас ведь ничего нет, — сказала Дитте.
— Как же? У нас еще осталось полхлеба солдатского, что я выпросила на днях. Солдат целый мешок нес лавочнику, я и попросила — что ж тут такого, думаю, раз его все равно лошадям скормят. Да, лошади небось не голодают. Будь я в свое время господской лошадью, а не прачкой, я бы, пожалуй, не осталась без куска хлеба под старость.
Маленький Петер тоже был не прочь стать лошадкой. Он постоянно играл так: просунет голову между перекладинами спинки старого стула и ржет. Сиденье изображало ясли, и когда на него, бывало, положат нарезанный мелкими кусочками черный солдатский хлеб и скажут; «Ну, теперь покушай, лошадка!» — мальчик готов был жевать без конца. С сестренкою было труднее, у нее и зубы-то настоящие еще не прорезались. Но хлеб, размоченный в воде, и она глотала.
— Завтра я посыплю его тебе сахарком, — приговаривала старуха, чтобы девочке хлеб казался вкуснее.
Новорожденного Дитте оставила на ночь при себе, — он лежал у самой груди и мог сразу начать сосать, когда молоко появится. Сосок находить он уже наловчился. У стенки спала девочка, а в ногах постели Петер, ножками к ней. Таким образом, все они были собраны в кучу около Дитте и согревали друг друга. Кровать с лучшими перинами была предоставлена жильцу.
Дитте лежала и прислушивалась к ровному дыханию детей, к возне крыс за покатой переборкой у своего изголовья и пристально вглядывалась в темноту, пока перед глазами у нее не замелькали яркие цветные круги, как, бывало, в детстве. Тогда она вспомнила о боге и о бабушке, о Карле и о Георге — обо всех тех, с кем была связана ее судьба. О боге она быстро забывала: если он в самом деле существует, то она не была у него в долгу. Вспоминая же все, о чем говорила и гадала ей бабушка, она раздумывала, сбылось ли хоть что-нибудь из того? В будущем она не рассчитывала уже ни на что, у нее все было в прошлом. Дитте не создавала себе никаких иллюзий. Богатой и знатной ей так и не довелось стать, но ведь могло же сбыться предсказание о том, что ей выпадет счастье! Была ли она счастлива? Она сама не знала. Спросить бы у кого-нибудь, в чем счастье? У кого-нибудь из тех, кто читает книги. В книгах об этом, наверное, написано.
IV Господь бог
Дитте проснулась от детской болтовни. И не успела еще собраться с мыслями, как что-то подсказало ей, что сегодня воскресенье. Может быть, тишина? Детские голоса тоже звучали как-то особенно, почти торжественно. У нее все тело было, как свинцом, налито усталостью, и она осталась лежать с затуманенными глазами, прислушиваясь к лепету малышей.
Маленькая Анна переползла в ноги к Петеру, и они сидели там, сонявшись, и смотрели в окошко на небо, по которому плыли белые прозрачные облака, бросая в комнату отсвет пойманных где-то лучей утреннего солнца. Отсвет перебегал по потолку и по стенам из одного угла комнаты в другой и исчезал.
— Это, наверное, ангелочек пролетел, — уверенно заявила Анна, кивая головкой.
— Нет, никаких ангелочков нету! — сердито ответил Петер.
— Нет, есть! Анна сама видела, — настаивала девчурка и шлепнула его по руке.
— А я сам видел, что их нету! — крикнул Петер, возвращая ей шлепок.
Пришлось Дитте вмешаться.
— Мама проснулась! — воскликнула Анна, хлопая в ладоши. — Моя мама не спит больше!
— А ты разве веришь в ангелов? — угрюмо спросил у матери Петер, наморщив лоб.
Дитте не хотелось отвечать прямо, и она сама задала ему вопрос:
— А почему ты не веришь?
— Да всякий понимает, что нельзя летать на таких крыльях, — ответил он, указывая на картинку с парящим ангелом, засунутую за раму зеркала, чтобы прикрыть трещину. Ну, с этой стороны Дитте не обсуждала вопроса; у нее были другие основания сомневаться в существовании ангелов.
— Ох, я уже много-много чему не верю больше, — вырвалось вдруг у Петера с таким глубоким вздохом, что Дитте не могла удержаться от улыбки.
— Ну, чему же еще? — весело спросила она, сохраняя, однако, серьезный вид, потому что Петер требовал серьезного отношения к себе — ему было без малого семь лет.
— Да вот в аиста не верю, — ответил Петер.
— Анна верит! — сказала Анна, только чтобы поспорить.
— Как старуха Расмуссен! — воскликнул Петер с нескрываемой насмешкой в голосе. — Она говорит, будто деток приносят из болота, где они сидят. Но ведь это было бы очень плохо, они бы замерзли там в холодной воде! Нашему братцу, наверное, было гораздо теплее лежать у тебя в животике, мама!
Дитте неуверенно обвела взглядом комнату.
— А больше, значит, ничего нет? — уклончиво спросила она.
— Чего больше? — с важностью пробасил Петер, наслаждаясь умными разговорами.
— Чему ты больше не веришь?
— Ах, нет, есть. Я совсем не верю теперь в господа бога. Как он может усидеть там, на облаках, и не свалиться? Ведь они все время бегут!
Дитте вдруг вспомнила про стирку и вскочила, отняв малютку от груди, к которой он присосался, словно пиявка, и тянул так усердно, что у нее даже спина заныла.
— Ну, будьте умниками, — сказал она, — тогда мама угостит вас кофейком.
Она накинула на себя юбку и зажгла керосинку. Потом побежала взглянуть, куда девалась старуха Расмуссен; та обычно вставала первая. Все двери по обе стороны длинного коридора стояли настежь, — всюду подметали и перестилали постели, от пыли и спертого воздуха можно было задохнуться.
Дитте поднялась на чердак, где находились чуланчики, и постучала в дверь старухи Расмуссен. Та лежала в постели, — она плохо провела ночь, но не признавалась, что у нее болит.
— Верно, вы опять приняли что-нибудь вредное, бабушка? — предположила Дитте, оглядывая каморку. На комоде стояла коробочка с пилюлями. Дитте узнала ее и удивилась: — Как она к вам попала?
— Ах, это учительша выбросила кое-какие лекарства. Я нашла их, когда выносила ей мусорное ведерко. И приняла на ночь три штучки, думала, не помогут ли мне от боли в спине? И не пойму, с чего же это меня так схватило.
Дитте громко засмеялась:
— Ну, бабушка! Ведь эти пилюли доктор прописал учительше Лангхольм против бесплодия. Я сама ходила за ними в аптеку.
Тут и старуха засмеялась:
— Стало быть, и правда, я невпопад приняла! То-то у меня живот разболелся, как отроду не болел. А у Лангхольмов, пожалуй, семейная радость, коли они выбросили пилюли. Ведь как им хотелось ребенка! Лишь бы это к добру вышло, — иному потомству лучше бы не родиться.
Этого Дитте не могла понять, — по ее мнению, все дети милы.
— А ты послушай-ка крик миссионерского выродка! Вон он опять завел музыку! Всю ночь орал, покою от него нет.
— Должно быть, они не умеют с ним обращаться, — предположила Дитте.
Старуха наклонилась к ней и шепнула:
— Говорят, он бесноватый. Пожалуй, миссионер сам и возится с ним по ночам, чтобы изгонять из него бесов. А днем над ним по нескольку раз читают молитвы. Когда ж и это не помогает, запирают его в темный чулан под лестницей и не дают ему есть, чтобы уморить нечистого.
— Ах, замолчите, бабушка! — воскликнула Дитте, вся содрогаясь и взволнованно прислушиваясь к пронзительному визгу.
— Я скоро принесу вам кофе, — сказала она, поборов волнение, и быстро пошла к себе.
Дитте сунула детям игрушки и усадила всех на кровать, а сама принялась стирать белье, — смены у них не было, и они сидели голышом. Но в мансарде было достаточно тепло в это время года. Малютка Георг лежал и мусолил фиалковый корень; говорят, это помогает, когда режутся зубы. Стирала Дитте в кухоньке; чтобы там было попросторнее, она открыла дверь в длинный коридор. Соседние жильцы сновали мимо взад и вперед. Дитте еще не успела прибрать комнату и потому притворила в нее дверь, хоть и не плотно, — только чтобы чужие туда не заглядывали и чтобы ей самой слышно было, что делают детишки. Но ей поминутно приходилось бросать работу и бегать к ним, так как они выпрыгивали из кровати и скакали голыми по полу. Раз сто она усаживала их на место и закутывала одеялом, надавав предварительно шлепков каждому. Но это помогало лишь на минуту, пока они ревели от обиды. Потом вдруг один из них улыбался сквозь слезы, заражая своим весельем другого, и снова начиналась возня. Наконец Дитте надоело это, и она захлопнула дверь, — пусть возятся, лишь бы никто не видал.
Жильцы сновали по коридору — кто с пивными бутылками, кто с молочником, — все торопились сбегать в лавку или в булочную, пока они не закрылись. Все здоровались с Дитте, мужчины большею частью весело, а женщины, бросая выразительные взгляды на дверь, за которой шумели дети. Дитте хорошо понимала, что это означает! Люди всегда очень требовательный другим, а у самих, небось, тоже не всегда все в порядке.
Хорошая хозяйка стирает и чинит детское белье и платье в ночь с субботы на воскресенье, чтобы детям было во что одеться, когда они проснутся в праздник утром, — Дитте отлично знала это. Не ее было учить порядку! Но как же быть, если приходишь домой с работы такая усталая, что впору с ног свалиться?
Конечно, не в буквальном смысле. Дитте и не свалилась сразу, как вернулась, а присела отдохнуть немножко и поболтать с соседкой. Но потом, когда надо было приняться за ночную работу, уже не могла держаться на ногах от усталости и сонливости. Не следовало «распрягаться» надо было сразу везти воз дальше, без передышки! Точь-в-точь как старые извозчичьи клячи: стоит им лечь, и они уже не могут встать. Вот Дитте и поплатилась теперь — кругом грязь, беспорядок, дети безобразничают, скачут и разбрасывают постельное белье, горшки и бог весть что-еще по всей комнате, да и сама она на что похожа? Настоящее чучело! Нечесаная, неодетая. Глаза не глядели бы ни на что; тоска и злость разбирали ее — злость и на себя и на людей. Вперед будет умнее, уж больше не станет так делать.
Вдруг она бросила работу и прислушалась: дети что-то подозрительно притихли. Она поспешила в комнату. Они сидели все в кучке — с братишкой посредине — на полу у окна. Дверца стенного шкафчика под окном, где Дитте хранила провизию, была открыта, а содержимое разбросано по полу. Детское судно, которое они подтащили к окошку, чтобы встать на него и посмотреть на двор, было опрокинуто, и все это посыпано сверху мукой, чтобы прикрыть безобразие. Ужас! Ужас! И чудесная мука, из которой Дитте собиралась напечь блинчиков к обеду, погибла! А яйцо, припасенное, чтобы сдобрить блинчики, ребятишки разбили и вымазали себе головы. На что они вообще стали похожи — все в грязи, в скорлупках! И смеяться и плакать впору! Дитте принялась было расправляться с ребятами, осыпая их бранью и немилосердно шлепая, но потом упала на стул и принялась всхлипывать вместе с ними.
— Да, да, хныкайте теперь, — выговаривала она сквозь слезы, — вы и сами не знаете, что натворили! Ну, где я теперь возьму вам обед?
Однако она скоро поднялась — белье закипело в котле, ж вода могла перелиться через край.
— Ну, сидите теперь, и боже вас избави прыгать на пол!
Она решительно усадила их на кровать и устремилась в кухню. Ребятишки хныкали, косясь на дверь.
Некоторое время она усердно старалась наверстать упущенное, но работа что-то плохо спорилась сегодня. Она ощущала слабость и тяжесть в животе и в коленях. После рождения малютки Георга у нее снова появились крови, несмотря на кормление грудью. Видно, она не успела толком оправиться после родов и окрепнуть.
Она присела и, уронив руки на колени, задумалась… А может быть, и не думала ни о чем, просто отдыхала в минутном забытьи. Откуда-то доносился монотонный детский плач, такой отдаленный, что мог сойти за тягучую, однообразную песню. Это, верно, миссионеров уродец. Он вечно плакал — если не строил каких-нибудь каверз. Ему было всего три-четыре года, но просто невероятно, чего он только не вытворял. Родители были люди серьезные, молились каждое утро и каждый вечер, и прямо непостижимо было, как это мог уродиться у них такой ребенок! Счастье, впрочем, что он попал к людям столь долготерпеливым. Дитте по себе знала, как легко выйти из терпения.
Звуки знакомых шагов по лестнице заставили ее испуганно встрепенуться, торопливо накинуть на себя кофточку и пригладить волосы. Вся красная, она склонилась опять над корытом.
— Э, да ты за воскресной работой! — сказал Ларс Петер, еще не успев войти. — Здравствуй, девчонка!
Голос его стал тише. Сине сумела приглушить его, но в нем все еще слышалась прежняя теплота.
Дитте вытерла для отца табурет и снова взялась за стирку.
Ларс Петер ездил в Мальмё и стал рассказывать о своей поездке и еще кое о чем. Дитте не проявила никакого интереса, не задала ни одного вопроса, и он приостановился, поглядывая на нее.
— Я, пожалуй, не совсем кстати сегодня, — сказал он наконец, положив руку ей на спину. — Какого черта ты так заработалась? Сегодня ведь воскресенье!
— Право, не знаю, — неохотно ответила Дитте. — Наверное, потому, что ленилась всю неделю!
— Ну, это чертовски мало на тебя похоже, — засмеялся Ларс Петер. — Просто у тебя дела выше головы. Не под силу справиться.
— Ну, — последовал ответ, — дела у меня не больше, чем мне по силам.
— Что-то не верится! Ты, как эти помидоры, что теперь сажают повсюду, — чересчур ретива. Если их вовремя не ощипывать, они выгоняют одну завязь за другою, а плодов-то взрастить и не в силах.
— Это небось Сине так думает? — сказала Дитте. — Что ж, не всем быть одинаково домовитыми и благоразумными.
— Да, что касается сердца, то благоразумия с тебя не спрашивай! — ласково сказал Ларс Петер. — Говорю: сердце у тебя чересчур ретиво, и как только ты с ним справляешься!
Дитте улыбнулась:
— Вот и доктор говорил то же самое, когда я болела. Нашел у меня расширение сердца.
— Да, да, но с этим шутки плохи. А как поживают дети? — спросил он, вставая.
— Дети спят, — ответила Дитте. — Очень рано проснулись сегодня.
Она невольно сделала шаг к дверям, но Ларс Петер опередил ее.
— Ну, странная у них манера спать, — засмеялся он и отворил дверь.
Малыши, услыхав его голос и торопясь опередить один другого, кубарем скатились с постели и теперь валялись на полу, стараясь выпутаться из одеяла. Потом они оба повисли на нем и вцепились в оттопыренные карманы пальто.
— Ты что-нибудь принес нам? — кричали они, теребя его.
Да, в огромных карманах Ларса Петера всегда были припрятаны какие-нибудь гостинцы, привезенные из последней поездки. На этот раз под рукавицами и платком оказались яблоки и груши; они немножко позавалялись и испачкались, но были удивительно вкусные. А из внутреннего кармана он извлек кое-что для Дитте — домашнюю колбасу с аршин длиною.
— Я привез ее, с Песков, — сказал он. От фогта. Помнишь, как они вас приютили и потом отвезли домой, когда вы в детстве вздумали прогуляться одни?
Дитте отлично помнила, но ей казалось, что с тех пор прошла целая вечность. И недосуг ей вспоминать о том, что было сто лет назад! Теперь на обед есть что подать. Только бы отец ушел поскорее, чтобы ей успеть привести в порядок детскую одежду.
— Ну, видно, пора мне и восвояси, — сказал Ларс Петер, словно угадывая ее мысли.
Но ненадолго оставили ее в покое, — скоро на лестнице опять послышались знакомые шаги. Дитте не на шутку рассердилась: меньше всего хотелось ей, чтобы Карл застал такой беспорядок. Он молча пожал ей руку и присел на табурет, хотя она и не пригласила его садиться.
— Ты, видно, занята, — сказал он, помолчав.
— Да. Лучше тебе уйти и вернуться через часок. Тогда я буду готова, — отрывисто проговорила она.
— Хорошо. Я думал, что ты уже готова, скоро одиннадцать часов. — Он спокойно поднялся. — Ну, что ж тут такого? Ничего не поделаешь!
— Да, разумеется!
И он взялся за ручку двери.
— Нет, я не хочу, чтобы ты входил туда сейчас, — остановила его Дитте за рукав, — там еще беспорядок.
— Ну, я-то не прибавлю беспорядка, если войду туда, — возразил он.
Она слышала, как он разговаривал с детьми, но не могла решиться войти туда сама и закусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться.
— Что с вами? — доносился из комнаты голос Карла. — Чего это вы валяетесь до сих пор? Живо одевайтесь и пойдем гулять на луг, лакомиться пряниками.
— Нам не во что одеться, пока мама не выстирает, — заявил Петер.
Карл показался в дверях кухни.
— Так им, бедняжкам, совсем не придется вставать сегодня?
— Я могу просушить все утюгом, — ответила Дитте, не глядя на него. — Я сейчас кончаю стирку.
— Нет, где же тебе успеть. А жаль, они так редко гуляют.
Дитте горько расплакалась.
— Чем же я-то виновата? Разве я по своей охоте мыкаюсь с утра до вечера и не успеваю улаживать за ними? На еду им едва наскребешь, где ж тут о другом думать! Или я, по-твоему, трещотка — языком треплю на лестницах, или лежебока — в постели валяюсь да дрыхну?
Нет, ничего такого Карл не думал.
— Но ты могла бы, пожалуй, устроиться иначе, — сказал он и, чтобы успокоить, обнял ее за плечи.
Но она стряхнула с себя его руку и нагнулась над лоханкой, спиною к нему. Он постоял немного в нерешимости и пошел.
Дитте и досадно было и стыдно. Досадно на весь свет и больше всего на самое себя. Она отлично знала, на что Карл намекал, говоря, что она могла бы устроиться иначе. Но мало проку в том, что у него были добрые и честные намерения, раз она не могла заставить себя вовремя принять его протянутую руку.
— Надо же и нам кого-нибудь изводить и над кем-нибудь измываться, — сказала однажды старуха Расмуссен, явно намекая на обращение Дитте с Карлом. — Да еще как раз над теми, кто лучше всех к нам относится.
Старуха была права, хотя Дитте никак не хотела принять ее слова на свой счет. Но сегодня она сама убедилась в этом.
Она постоянно раскаивалась — задним числом — в том, что была резка и неприветлива с Карлом, и постоянно снова поступала так же. Ничего не могла с собой поделать! Что-то против воли и желания удерживало ее от сближения с Карлом. Видимых поводов для этого не было, но что-то невидимое всегда становилось между ними. Она напоминала курицу, которая никак не может перейти черту, проведенную мелом на полу.
Надо было бы ему попросту предъявить свои права, а не предоставлять решение ей! Ведь он раз навсегда приобрел на нее права мужа, и она часто дивилась, почему он не воспользуется ими. Он словно ждал терпеливо чего-то, что должно было пробудиться в ней, а она не понимала, чего ему нужно, и подчас сомневалась — настоящий ли он мужчина? Если он воображает, что она первая бросится к нему, то долго же ему придется ждать!
И вместе с тем отделаться от него окончательно она не могла. Она способна была невероятно грубо, бессовестно грубо обойтись с ним, но стоило ему переступить порог, как ее охватывало раскаяние и страх, что ему, наконец, надоест все это и он больше не вернется. Его уважение к ней заставляло ее невольно спрашивать себя: что было в ней такого особенного? Почему он обращается с ней, как с благородной барышней, да еще вдобавок как с настоящею девицей? Стало быть, он видит в ней нечто такое, о чем она и сама не подозревает и во что не верит. Но это, видно, в его характере, — он всегда был такой; теперь от «святош» он отстал, но по-прежнему был религиозен. Вместе с другими молодыми рабочими он основал клуб, где они собирались и спорили. У них были пресмешные идеи. Карл по-прежнему не отличался умом! Например, они воображали, что человек вообще свят, в каких бы жалких условиях ни находился, и что бог — внутри нас. Дитте ничего в этом не смыслила и подчас еле удерживалась от смеха, слушая, как торжественно обсуждает Карл такие вопросы.
— Это значит, что твоя душа еще дремлет, — пояснял Карл.
Он не признавал никаких иных законов, кроме закона собственной совести, и уверял, что вся жизнь сложилась бы иначе, если бы только бедняк понял, наконец, свою неуязвимость. Тогда человек не позволил бы втоптать себя в грязь, а восстал бы. «Человек свят», — говорил он. Дитте из этого заключала, что он еще не совсем отрешился от своих прежних склонностей, хотя и не бегал больше на собрания «святош».
Дитте хорошо знала, что всему бывает конец, и все время, пока достирывала белье, мучилась мыслью, что, пожалуй, Карл больше не вернется сегодня. «Ну, и пусть его!» — строптиво решила она. Тем не менее продолжала торопиться, и работа живо подвигалась вперед.
Вскоре последняя тряпка была повешена на веревку перед открытым кухонным окном, и, пока мокрое сушилось на осеннем ветру, Дитте гладила уже полусухое. Надо было доказать Карлу, что она может управиться и успеет нарядить детей во все чистое к его приходу, если он вернется, чтобы пойти с ними гулять. У него не будет тогда повода жалеть детей.
Когда на башне королевского дворца Розенборг пробило двенадцать, Дитте уже нарядила детей, привела в порядок комнату и чувствовала себя совсем другим человеком. Всю ее сварливость как рукой сняло: теперь пусть кто хочет приходит полюбопытствовать, все ли у нее в порядке, ей незачем огрызаться. Щеки у нее разгорелись, и она прямо похорошела, когда подвязывала Анне волосы ленточкой.
— Ну вот, теперь Петер с сестренкой возьмутся за ручки и пойдут показаться бабушке Расмуссен — какие они нарядные. А мама обед приготовит, — сказала Дитте, выпроваживая детей в коридор. — Скажите, что мама скоро принесет ей покушать.
— Ах, у нас будут блинчики к обеду! — сказали дети.
— Еще бы! Рассыпали мамину муку и разбили яйцо, а блинчики вам все-таки подай! Ну, проваливайте!
— Фу, какая гадкая кошка! Бяка кошка! — ворчала девочка, когда они брели по коридору.
Дитте не могла удержаться от смеха, — они ровно ничего не поняли. А некоторые еще думают, что можно исправить детей колотушками. Впредь она постарается получше владеть собой и не давать воли гневу. К счастью, дети скоро позабывают обиды, — не злопамятны.
Малыши сидели за столом и весело болтали, когда увидели колбасу. Дитте зажарила ее целиком, и колбаса лежала на тарелке, свившись кольцом, как змея.
— Ну, теперь ешьте, сколько хотите! — сказала Дитте.
И Петер важно заявил, что готов один съесть все целиком.
— Ай-ай, прощай мамина колбаса! — смеялась Дитте. — Этак, пожалуй, нам ничего и не останется!
Но, как всегда, желудки насытились раньше глаз. Вдруг Анна и Петер почувствовали, что не в силах больше проглотить ни кусочка. Братишка тоже получил свою долю, он был еще мал, но уже умел ценить вкусные кушанья.
V На лугу
Дитте пошла прибрать у старухи Расмуссен, умыла и причесала ее и оправила ей постель. Бедняга! Несмотря на расстройство желудка, она не удержалась и приняла еще пилюлю; теперь ей было совсем скверно. Вообще она никак не могла примириться с тем, что силы и здоровье ей изменяют, и невозможно было втолковать ей, что она стара и немощна. Всякое недомогание она объясняла внешними причинами и прибегала к любым средствам, чтобы выгнать хворь. Дитте спрятала пилюли, чтобы сразу покончить с этими глупостями.
После обеда Дитте с детьми наслаждалась воскресным отдыхом. Она села у окна, посадив обоих к себе на колени, и они стали смотреть во двор, где сновали жильцы из средних флигелей и с заднего двора; малютка Георг уснул. Внизу играли ребятишки, устроив себе лавку из мусорных ящиков; для игры пригодилась и крыша уборной. Один мальчуган залез на эту крышу, а оттуда перебрался на крышу конюшни извозопромышленника и начал там отплясывать. Эта постройка принадлежала соседнему дому, и тетка Гейсмар, дворничиха, явилась с палкой гнать мальчика. Она, видимо, воображала себя самим управляющим. Каждый раз, когда она замахивалась на шалуна, он подскакивали кривлялся.
Знай, что водка и наливки Во сто раз вкусней, чем сливки!.. —распевал он, увертываясь; она грозила палкой и ругалась, Петер хохотал до упаду, но вдруг сделал серьезное лицо и заявил:
— А ведь это нехорошо с его стороны! — Но потом опять засмеялся.
Ну, конечно, не следовало так делать, но Дитте считала, что старухе поделом. Она была такая подлиза, вечно старалась вертеться на глазах управляющего. Вообще же Дитте в эту минуту была довольно рассеянна и занята своими мыслями. Сначала думала о том, что она все-таки управилась с работой, а потом стала сожалеть, что проспала сегодня, и, наконец, вспомнила о детской болтовне. Бог!.. Петер не верит в бога, — недурно для семилетнего мальчишки. Кто знает, к чему это может привести? А вот старуха Расмуссен верит, хотя и на свой лад. «Есть-то он есть, — отвечала она на вопросы детей, — да только его никогда не оказывается дома, когда мы его разыскиваем. Так всегда бывает у важных господ!» А сама Дитте верит в бога или нет? Как сказать? Ей ни разу не пришлось убедиться в его существовании. Но если бог и существует, то он, видно, большой неудачник: мир, им созданный, немного стоит, да и люди тоже. Вот уж они никогда не удивят Дитте ничем, потому что всегда поступают так, как им выгоднее и приятнее. Один Карл не похож на всех остальных ни поступками, ни словами. Глядит на тебя, как будто пришел из какого-то неведомого мира, и взгляд этот невольно вспоминается, когда ты сама собою недовольна. Уж не от бога ли это у него? Но сколько ей было известно, Карл теперь становился неверующим. Надо будет поговорить с ним об этом.
Все остальное в жизни было явно скорее от черта, нежели от бога. Приходится и голодать и холодать, хотя и стараешься изо всех сил; домовладелец увиливает от ремонта, но боже упаси хоть на один час просрочить квартирную плату! Лавочник обмеривает и обвешивает, старается вместо двух десятков лучинок для растопки всучить восемнадцать, соблюдая свою выгоду. А булочник с женой не могут свести концы с концами, хоть и ведут все дело сами. Право, не нужно никакого бога, чтобы поддерживать такой плохой порядок. Бедняк все равно, что овца: всякому дано право стричь его. «Господь бог пошлет тебе погодку потеплее!» — ласково говорят ему и стригут его наголо.
Уж не существует ли бог для того, чтобы покрывать плутов и мошенников, раз они вечно ссылаются на него и призывают его имя? Еще когда-то бабушка говорила Дитте, что бог держит руку сильных и окучивает их картошку, а с тех пор ничего не изменилось. Но всем все же выгодно твердить постоянно о боге! Тетка Гейсмар была такой же поломойкой, как Дите. Но сам приходский священник навещал ее, а дамы из общины приносили ей разную пищу и одежду, и, кроме того, она получала денежные пособия ни за что ни про что! Только за то, что посещала все приходские собрания. «Пойдем и ты со мной! — звала она Дитте. — В наше время ничего нельзя упускать!» Но у Дитте не было ни малейшей охоты, и что пользы от этого? Она не еврейка, чтобы ее обращением в христианство можно было бы гордиться. Тетка Гейсмар, та позволяла переманивать себя из одной секты в другую. Ее даже прозвали в доме «переходящим кубком». Когда она успевала примелькаться в одной секте и доходы ее сокращались, она обращалась в новую веру. Во всех сектах особенно любят новообращенных и охотно жертвуют на них. Да для чего же иначе и делаются сборы? На эти подачки да на скудный заработок от мытья лестниц и коридоров в доме тетка Гейсмар жила довольно прилично.
Подручный булочника поставил в сарай свою повозку, — поздно же управился он сегодня с развозкой булок! Он по обыкновению поднял голову наверх, а Дитте поторопилась отойти от окна. Но было уже поздно, пришлось ответить на поклон. Будет теперь о чем посудачить соседкам! Этот ютландец никак не мог научиться говорить как следует По-датски, но был красивый и солидный мужчина, любимец всего квартала. Он служил у булочника уже пятнадцать лет, с самого основания булочной.
— Не мешало бы вам выйти за него, — говорила булочница почти всякий раз, как Дитте заходила в булочную. — Он ведь по уши влюблен в вас. И человек он солидный. Муж часто говорит: «Бог знает, как бы шло у нас дело без Лэборга!»
Да, солидности в нем было достаточно, это всякий видел. Но…
Взгляд Дитте скользил по главному корпусу, спальни и кухни которого выходили окнами во двор. Фру Лангхольм одевалась и расхаживала перед открытым окном. Если пилюли в самом деле помогли, то не одним Лангхольмам на радость. Многие были, так сказать, заинтересованы в этом деле. Муж был на пятнадцать лет моложе жены, и уже несколько лет всех занимал вопрос: насколько прочно их сожительство. Все женщины в доме в один голос решили, что ей нужно родить ребенка, иначе она рано или поздно надоест ему. И много раз по дому распространялся слух, что фру Лангхольм в положении, и сама она расхаживала с таким видом, словно носила в себе сладчайшую тайну. Многим казалось даже, что действительно по фигуре ее заметно кое-что. Но всякий раз дело кончалось ничем — без всякой основательной причины. «Она просто подкладывает что-нибудь себе на живот, чтобы удержать муженька!» — говорили женщины. «А может быть, у нее эта модная болезнь — истерия, вот ее и вздувает!» Но будь то воображение или просто обман, — игра становилась опасной. Фру Лангхольм по была красива, да к тому же на пятнадцать лет старте мужа. Но она была хорошая женщина, не смотрела свысока на обитателей задних флигелей. И тоже участвовала в общей борьбе, — большинство женщин билось ведь за то, чтобы удержать при себе своих мужей. Поэтому все женщины искренно сочувствовали ей.
Впрочем, и в среднем и в заднем флигеле жили все люди приличные, — Дитте с удовлетворением отмечала это. Они выходили из разных подъездов целыми семьями — мужья, жены и дети — и направлялись к воротам: видно, шли гулять; может быть, тоже на Луг. Дети, растопырив ручонки, едва осмеливаясь переступать ногами, а матери обдергивали на них платьица, оправляли рукавчики и шагали сбоку своего выводка, словно унтера около взвода. Отцы шли сзади, наблюдая, как дети ставят ноги, и бранились, если ребятишки загребали носками или кривили каблуки. Да, не шутка детям бедняков гулять разодетыми по-праздничному! Дитте вспомнила свое собственное детство: как славно было бегать босиком! Никто не придирался к ее босым ногам.
А! Вот и рыбак с Чертова острова с двумя красавцами приятелями, — все трое настоящие хулиганы с виду и уже на взводе. Не сладко придется бедной Марианне, в особенности, если ей нечем угостить их. Ведь она не получила в эту субботу на недельные расходы, и пришлось ей вчера занимать и пиво и кофе! Жили они в мансарде наискосок, и у них бывали часто скандалы по ночам; Марианне немало ночей пришлось провести на лестнице в одной рубашке!
Дитте распахнула окно и крикнула:
— Марианна, к тебе гости!
— Спасибо, я уже видела! — показалась в своем окне Марианна.
Она надевала шляпку, и руки ее заметно дрожали. Только бы она успела улизнуть раньше, чем те поднимутся наверх! Впрочем, она может пробежать чердаком. Спустя минуту в дверь постучали, и Марианна шмыгнула в комнату.
— Вот мы и удрали! — сказала она. — Пусть себе забавляются одни. Ты понимаешь, что я не имею ни малейшего желания быть битой за то, что у меня нет ни водки, ни пива.
Слышно было, как они там хозяйничали наверху.
— Шарят в кухонном шкафу, — фыркнула Марианна. — Благодарю покорно! Не хотела бы я сейчас очутиться там. — Она зажала рот рукой и даже присела от смеха. — Ну, прощайте, я пройдусь в Алеенберг{15}!
А вот и миссионер, или проповедник, как его там называют, с женой. На нем длинный черный сюртук, и лицо такое вытянутое, словно он несет покойника или читает про себя молитвы. Они шли на религиозную беседу или куда-то там в этом роде; ребенка, по обыкновению, оставили дома. Значит, опять заперли бедняжку! У Дитте до сих пор стоял в ушах его крик.
Удивительное дело: стоило только подумать или заговорить о злополучном ребенке, как он тотчас подавал голос, словно призывая на помощь; его пронзительный визг проникал через стены и все время резал слух. Обычно же его словно и не слыхали, до того к нему привыкли. И ребенок как будто чуял, когда о нем шла речь. Печальна участь этого порченого ребенка! Дрожь пробирала Дитте, когда она вспоминала о нем.
Петер с Анной соскучились ждать, и мать позволила им выбежать на лестницу посмотреть — не идет ли дядя Карл.
— Не дальше первой площадки, — решительно приказала Дитте: она не пускала их во двор.
Покормив малютку, она приготовила колясочку, чтобы потом не задерживаться. Это был подарок Ларса Петера, и сегодня Дитте решила обновить коляску. Нетерпение начинало одолевать и ее.
Вот уже и Поздравитель встал, — она слышала, как он зевал у себя, а потом вышел в кухню за водой. Она пошла взглянуть, не надо ли ему чего-нибудь.
— Вы сегодня что-то заспались, господин Крамер! — сказала она.
— Да, приходится отсыпаться по воскресеньям, — хрипло ответил он. — В будни-то встаешь спозаранку — по делам службы.
Лицо у него было все в сизых пятнах, одутловатое и распухшее со сна.
— Ну, уж не вам бы сетовать на раннее вставание, — смеясь сказала Дитте. — Лучше бы вы вовремя ложились.
Он проворчал что-то, но Дитте и ухом не повела, — пусть послушает правду. Ну, не умора ли эти его разговоры о службе! Просто ему нужно до девяти утра поспеть на рынок, чтобы выпросить там остатки цветов для букетов, с которыми он обивал пороги. Вот кто умел пользоваться жизнью за чужой счет! Но скоро придется выселить его. Он задолжал за два месяца, невозможно так тянуть дальше.
Наконец явился Карл, ведя за собой обоих детей. Он так торопился, что весь вспотел.
— Ты уж прости меня, мне пришлось пойти на собрание, а оно затянулось.
— На собрание? — удивилась Дитте. Значит, он опять бегает на собрания!
— Да, это по поводу организации рабочих. Мы хотим попытаться сколотить оппозицию из недовольных. Правление нашего союза саботирует наши требования.
Как дети любили Карла, даром, что он был такой тихий и не очень-то много возился с ними! Они шли молча, держа его за руки, и наслаждались. Время от времени они доверчиво поглядывали на него.
— Ты наш папа! — сказала Анна.
— Не настоящий, — благоразумно заметил Петер. — Но мы так считаем. Ведь ты все равно женишься на маме, говорит старуха Расмуссен.
Карл кивнул и украдкой обернулся. Дитте отстала с коляской и ничего не слыхала. Они вышли по Серебряной улице на Луг и расположились там на траве поглядеть на молодежь, игравшую в мяч и упражнявшую свои мускулы. Карл захватил с собой съестного, но закусывать было еще рано.
— Отчего ты такой мрачный? — спросила Дитте. — Или получил плохие вести из дому?
Карл улыбаясь покачал головой, — домашние дела не стоили того, чтобы из-за них огорчаться.
— Нет, тут дело общественное!.. Нашу организацию собираются разогнать, а если это удастся, нам сбавят заработную плату. Находят, что наш заработок слишком высок! Рабочему не полагается зарабатывать больше, чем ому необходимо, чтобы не умереть от голода.
— А вы разве не можете дать отпор и отстоять свою организацию, чтобы она не распалась?
— Ну, конечно, до роспуска не дойдет, — об этом наши руководители позаботятся. Иначе они лишатся своих должностей, и им снова придется стать простыми рабочими, что им вряд ли будет по вкусу. Но я боюсь, что они продадут нас вместе с организацией предпринимателям, чтобы спасти свое собственное положение.
— Знаешь, что? Вам надо бы заполучить Пелле, — убежденно сказала Дитте. — он бы вам наверняка помог.
Карл рассмеялся.
— Да, этот — мастер говорить, — иронически заметил он. — Но и в нем уже мало пороха осталось, каким бы молодцом он ни был раньше. Выдохся! Да и не хочет он вмешиваться в новые дела. Сажает капусту в огороде и твердо уповает, что мир будет спасен потребительскими обществами и огородными колониями. «У каждого рабочего свой кочан капусты!» — вот его лозунг.
— Ну, ты просто выдумываешь! Он много делает для рабочих, я-то знаю это. От разных людей слыхала.
— Да, реформа общественного призрения бедных — его конек. Он хочет, чтобы все рабочие имели право на пенсии и пособия из общественных сумм, но без потери права голоса. Ты ведь знаешь, что общественное призрение лишает людей избирательного права.
— Но ведь это же очень хорошо, что вы не лишились избирательного права. Без него нельзя считаться настоящим человеком!
— Настоящим избирательным скотом, хочешь ты сказать? — пожал плечами Карл.
— А я все-таки считаю, что Пелле делает хорошее дело, — упрямо настаивала Дитте. — Взять хотя бы старуху Расмуссен. Она получает каких-то несчастных десять крон в месяц. Уж она ли не трудилась всю свою жизнь, и вот считается, что ей дают «пособие на бедность», а не заслуженную пенсию! А все, кто получил увечья на работе? А безработные? Разве общество из должно им помогать? Я нахожу, что вы слишком жестоки.
— Многие думают как ты, — серьезно сказал Карл. — Но на кой черт ваша общественная помощь! Прав своих нужно добиваться, а не клянчить подачек!
— Пожалуй, бедняку долго придется дожидаться, пока он добьется своих прав!
Дитте знала это по опыту.
— Пусть лучше так. Но все вы думаете только о плоти да о том, как бы получше ублаготворить ее. О душе вы не заботитесь. А какой прок будет, если бедняк завоюет весь мир, да потеряет душу свою?
Дитте так и кольнуло в сердце. Опять он за свое, как бывало в юности, когда всем грозил гибелью души!
— Поди ты с твоей душой, — сказала она. — Этим жив не будешь.
— Да, душа несъедобна, — засмеялся Карл. — Но без нее, во всяком случае, обойтись трудно, если не хочешь превратиться в скота. И сдается мне, мы вроде крестьянской скотины: скупой мужик держит ее впроголодь, умный кормит, даже когда она не работает, но скотина остается скотиной. Для рабочих тоже что-то делается, основываются разные общества, вроде обществ покровительства животным или охраны мальчиков! Все это шаги по ложному пути. Нам необходимо добиваться того, чтобы стать людьми и хозяевами своей судьбы!
Дети все время приставали, чтобы Карл поиграл с ними.
— Оставьте дядю в покое! — уговаривала их Дитте, но они не слушались.
— Ты же можешь поболтать с мамой и в другой раз, — обиженно заявил Петер.
Это подействовало на Карла, как электрический заряд. Он вскочил и сбросил куртку.
— Ну, во что же мы будем играть? — весело спросил он:
Пришлось Карлу стать на четвереньки, изображая слона, а ребятишки взобрались ему на спину. Петер сидел позади, болтая ногами. Малыш тоже махал ручонками, словно желая принять участие в игре.
— Смотри, какой он умница! — с гордостью сказала Дитте и посадила Георга впереди всех, на шею слону, а сама пошла рядом, придерживая ребенка. Тот визжал от удовольствия. Недурно для четырехмесячного ребенка!
Погода стояла хорошая, и на Луг собралась масса рабочих с семьями. Многие захватили съестное и располагались группами возле корзинок с провизией: мужчины ели, пили и спорили о политике. Молодежь играла в мяч и подражала цирковым атлетам. Некоторые из старших, заразившись примером молодежи, тоже поснимали с себя куртки и принялись бороться. Последнее время рабочие особенно увлекались французской борьбой, это была буквально какая-то мания.
— Смотри, как они стараются, — смеялась Дитте, с интересом следя за приемами боровшихся.
— Рабочий чует в себе силы, да не знает еще, к чему их приложить. Вот и играют в «силачей», — сказал Карл.
У него было здесь много знакомых, и он, по-видимому, пользовался общей любовью, — ежеминутно к нему подходили и пожимали руку, говоря:
— Ну, как живется? Вы, видно, с семьей сегодня?
— Оставь-ка ты нас лучше одних. А то твои товарищи подумают, что ты женился и взял в приданое троих ребят! — сказала Дитте.
— Давай условимся раз навсегда не обращать внимания на то, что люди думают! — засмеялся Карл.
Чересчур много значения придавала Дитте мнению людей!
— Да ты-то вечно хорохоришься, — ответила Дитте, отчасти довольная. Это все-таки был уже не тот Карл, что лежал и ревел от страха перед карой божьей за грехи. Она со своей стороны не прочь была теперь опереться на мужскую руку.
Йенсены с Дворянской улицы подошли поздороваться, потом присоединились к ним со своей закуской. Йенсен всю неделю ходил без работы и потому был в дурном настроении.
— Что же будет зимой? — уныло спрашивал он.
— В прежние времена только из-за морозов останавливались работы, и нам приходилось слоняться без дела. Прямо не верится, что живешь в организованном обществе, — заметил Карл.
У него было за лето тоже немало свободных дней, да и со всех сторон слышались подобные жалобы.
— Впрочем, чем лучше будет организовано общество, тем хуже придется всем нам, — добавил он. — Потребность в рабочих руках все сокращается, так как все меньше и меньше становится людей, у которых хватает средств на самое необходимое, — машины да два-три человека при них вполне могут удовлетворить существующий спрос.
Мадам Йенсен с ужасом взглянула на него.
— А что же будет тогда со всеми нами?
— Нам, видно, останется один исход — подохнуть!
— Нечего сказать, хороший исход для свободной страны! Нет, знаешь ли, это уж слишком! — воскликнул Йенсен.
— Не знаю, может быть, в этом-то как раз и заключается свобода. Не воображаешь ли ты, что у рабов имеется какой-либо иной свободный выход, кроме смерти? В сущности, мы взялись за дело не с того конца: нам не дано никакой свободы, даже права умереть, когда нам этого захочется. Зато кое-кому дана свобода предоставлять нам право издыхать, когда в нас нет больше нужды. Вот как я смотрю на дело! Демократия!.. В старину, когда еще не додумались до демократии, господам приходилось поневоле заботиться о рабах, даже если в них не было нужды. Но вот американцы, которые, говорят, считают себя знатоками рабочего вопроса, поняли, что это невыгодно. Выдумали эту свободу и силой заставили Южные штаты согласиться на то, чтобы изгнать рабов в пустыню, раз надобность в них миновала.
— Черт побери! Мне что-то невдомек! — ответил Йенсен. — Больно уж это мудрено!
Карл помолчал в раздумье, досадуя на себя за то, что не сумел выразить свою мысль более понятно. Затем попытался взяться за дело иначе.
— Да вот, видишь ли, Йенсен! Если крестьянину хочется завести пару рабочих лошадей или дойную корову, ему приходится немало похлопотать, израсходоваться. Положим, у него есть кобыла, но она уже не настоящая работница, пока носит жеребенка, да приходится еще заплатить за случку. Потом надо года два кормить жеребенка, пока из него выйдет рабочая лошадь. По-твоему, крестьянин захотел бы нести все эти расходы, если бы мог пойти да просто поймать себе арканом лошадь или корову, когда они ему понадобятся?
— Не-ет! Нашли дурака! — нехотя согласился Йенсен.
— А с нами проделывают как раз такую же штуку: нашим трудом пользуются, потом выгоняют нас на все четыре стороны, потом опять ловят, когда им понадобится, а в промежутки мы кормись, как и чем знаешь. Вот она, твоя свобода!
— Это новое толкование свободы, — сказал Йенсен. — Такого мне еще не доводилось слышать.
— Я и не жду, чтобы ты сразу согласился со мной. Но тебе следовало бы пойти послушать Мортена. Он будет говорить о свободе рабов в среду в кабачке плотников. Это как раз по соседству с тобой. Он сумеет растолковать тебе.
— Да этот Мортен сам ничему не учился! Он такой же рабочий, как и мы все. Нет, я хожу на лекции, которые устраивают для рабочих свободомыслящие, — вот мастера говорить! Там ведь все профессора да ученые люди, но они ничуть не боятся говорить все начистоту. Свободомыслящие держат нашу руку!
— Совсем как лисица держит за лапку гуся! — рассмеялся Карл.
Понемногу вокруг них собрались рабочие, все стояли и слушали молча. Но Карлу казалось, что большинство из них думает, как Йенсен.
— Свободомыслящие! Большинство из них банкиры, крупные торговцы и тому подобное! И ты воображаешь, что они спроста заигрывают с нами? Они пользуются нами, чтобы взобраться повыше. Мелкота всегда должна подставлять свои спины, когда важным господам вздумается покататься верхом.
— Он скоро заткнет за пояс самого Мортена, своего учителя, — сказал кто-то из окружающих, указывая на Карла.
— Верно! — воскликнул другой. — Но зато как хорошо Мортен пишет, — добавил он примирительно.
— А правда, что они с Пелле земляки? — спросил Неясен. — Говорят, они учились вместе. Но они не ладят. На последнем собрании Мортен обозвал Пелле генералом Армии спасения{16}.
Рабочие рассмеялись:
— Метко сказано! Злой язык у этого парня!
— Да, хорошо сказано. Вся эта затея больше всего напоминает Армию спасения, — едко заметил Карл. Он, обычно такой спокойный и рассудительный, такой сдержанный на язык, сегодня был на себя не похож. Голод, видно, научил его! Но вдруг он спохватился и улыбнулся:
— Но это не должно сеять между нами рознь!
— Да, да, долой сеятелей раздора! — воскликнул какой-то старый рабочий и демонстративно отошел.
Дитте слушала молча. Ей не раз приходилось задумываться над этими вопросами, но вслух она не высказывалась. Она не знала, кто был прав, да и нелегко, видно, было установить это Знала она и то, что мужчинам тоже необходимо иногда выговориться. Но ей было досадно, что большинство было на стороне Йенсена. Ведь это же несправедливо, — Карл куда умнее его. Еще ей было досадно, зачем они все подсмеивались над Армией спасения. Прошлой зимой ей не раз случалось посещать эти собрания, где было так тепло, играла музыка и никто не обращал внимания на то, как люди были одеты. Но мужчины, разумеется, предпочитают трактиры!
— А правда, что крестьяне щадят в работе жеребых кобыл? — спросила она на обратном пути.
— Да, благоразумные крестьяне так делают, — отвечал Карл.
— Тогда, значит, животным живется лучше нашего! — Дитте подумала о том, как ей пришлось надрываться над работой вплоть до самых родов.
— Разумеется, животным лучше живется. Но зато их ведь можно съесть, когда они отслужат свой век. В этом-то вся и разница!
Дитте взглянула на него. Никогда не разберешь, в шутку он говорит или всерьез. Тут она вспомнила сомнения, одолевавшие ее утром. Надо спросить сейчас, Карл такой умница!
— Раньше ты много думал о боге, — сказала она. — Веришь ли ты в него еще?
Карл ответил не сразу.
— Ну, разумеется, бог есть! — произнес он наконец с глубочайшею, почти мучительною серьезностью. — Но только не для нас. Бога создали те, другие, чтобы он стал нашим палачом, и он выполняет свою задачу. Одно время я думал, что смогу также считать его отцом для себя, но это невозможно. Никто не может угождать одновременно и угнетателям и угнетенным.
— Но ведь ты сам говоришь, что это мы верим в него, а не те, другие, — возразила Дитте.
— Ну да, он для того и выдуман, чтобы держать нас в повиновении. Плохо бы им всем пришлось, вздумай они удовольствоваться охраной лишь одной полиции. Но мы, всеми угнетаемые, должны постараться создать себе свою собственную веру и создадим! Это будет бог справедливости, бог вдов и сирот и всех трудящихся и обремененных.
— Из чего же вы создадите его? — насмешливо спросила Дитте. — На это потребуется такая уйма доброты, что во всем свете ее не хватит!
— Небось хватит! Ведь мы создадим его из сердец и рук самих бедняков. Тогда он будет действительно добрым.
VI Крысы
Маленький Георг был настоящим обжорой. Не отрывался от груди всю ночь и к утру высасывал молоко до последней капли. Да и предусмотрительно было с его стороны наедаться про запас, потому что днем-то молочка не перепадало. Управляясь с домашними утренними делами, мать укладывала его в плетеную корзинку и бежала с ним по холодным темным улицам в ясли, а возвращаясь с работы, забирала его. При таком порядке вещей ребенок доставлял мало удовольствия, но приходилось радоваться и тому, что он был под присмотром, да надеяться, что он не схватит там какой-нибудь болезни. В яслях собиралось десятка два ребят, и заразные болезни среди них не переводились.
Остальные двое малышей оставались дома без присмотра. Дитте перед уходом разводила огонь, варила кофе и приготовляла детям еду. Петер умел сам ставить кофейник на конфорку, чтобы разогреть кофе, но подкладывать дрова в печку ему не разрешалось; за огнем присматривала жена ломового извозчика Ольсена. Много еще чего не позволялось детям! Одни и те же наставления повторяла им мать каждое утро, с замиранием сердца целуя их на прощание; тревожно билось у нее сердце и вечером, когда она плелась домой, таща из яслей малютку в корзинке. Мало ли что могло случиться за день!
Но, слава богу, ничего плохого не случалось, — ей везло. Петер был мальчуган благоразумный и на особые шалости не пускался. Оба они с Анной лежали в постели до позднего утра, пока совсем не рассветало, — так было приказано, и они охотно слушались. В темноте хозяйничали крысы и «черный дед». Он прятался под кроватью и по углам — всюду, где было темно, — словом, он как-то сливался для них воедино с самим мраком. Только под перину он не мог забраться, хотя там было тоже совсем темно, — там жили сны. В постель «черный дед» вообще попасть не мог, в постели ребята чувствовали себя в полной безопасности.
Но случалось, что встать было необходимо; чаще всего эта беда приключалась с сестренкой.
— Вставай, вставай, — ободрял ее Петер, — нечего бояться. Когда у человека дело, никто не смеет его тронуть. Это сам дядя Карл говорит. Делай свое дело — и все!
— Так пойдем со мной, — звала Анна, беря его за руку.
Но на это он все-таки не отваживался.
— Нет, ведь мне-то не надо, — объяснял он, — оттого я и не смею. Вот если бы мне было нужно!
Приходилось сестренке вставать одной. Она высовывала голову из-под перины и шептала: «Хелле!». Затем, спустив на пол босые ножонки, снова повторяла «хелле» уже громче, чтобы наверное быть услышанной и хныкала со страху. Зато, когда дело было сделано и она снова забиралась под перину, девочка чувствовала себя настоящей героиней. Ребята лежали, болтали и прислушивались к возне крыс за деревянной переборкой. В комнату крысы не смели пробираться, — мама не позволяла. Она сердилась, если они прогрызали дырку, и накладывала в нее битое стекло. Кроме того, она испекла лепешек с отравой, как это делалось в Сорочьем Гнезде.
— Можешь не трудиться, — говорила старуха Расмуссен. — Здешних крыс ничто не берет, как и здешних людей ничем не проймешь. Что для всех обыкновенных тварей отрава, то для здешних крыс просто лакомство.
И правда, лепешки исчезли, а крыс не убавилось! Каждую ночь они скреблись и грызли перегородку, требуя еще лепешек.
Когда совсем рассветало, детишки вставали с постели. Петер умывал Анну и застегивал ей лифчик, потом она бежала к старухе Расмуссен причесываться, а Петер с трудом нес большой кофейник к печке, чтобы разогреть кофе. Еда для детей была спрятана под глубокой тарелкой, и мать заранее насыпала им в чашки сахару и наливала молока, так что оставалось только прибавить туда кофе. Одно горе: весь вкус был в сахаре и в молоке на дне чашек — как же не лизнуть чуть-чуть? Потом еще и еще капельку, еще немножко… И не успеешь опомниться, как все вылизано дочиста, и кофе приходится пить черный! Весь вопрос в том, как бы изловчиться лизать так, чтобы в чашке оставалось что-нибудь, и каждый день дети пытались так сделать, но безуспешно.
Закусив, прибирали комнату. Никто не просил их об этом, но Петер, славный мальчик, сам догадался, что матери будет меньше дела, когда она вернется домой! Он был ведь безродный, так что ему не от кого было унаследовать плохих качеств, — по словам старухи Расмуссен. Оттого он и был такой добрый, внимательный. Зато сестренка, наверное, была зачата в период безработицы; она себя утруждать не любила — во всяком случае услуживать другим была не охотница. Старуха Расмуссен спросит, бывало, не принесет ли Анна очки ей, старухе? Девочка сейчас же энергично замотает головой и скажет: «Я устала!» Но о себе самой она не забывала. Должно быть, настоящей барышней вырастет.
Справив все дела, дети брались за руки и шли к старухе Расмуссен узнать, не надо ли ей чего. Петер исполнял ее поручения, и ему спокойно можно было доверить и бутылку и деньги. Но иногда им случалось пройти мимо старухиных дверей, не останавливаясь, — это им хотелось посмотреть, как пляшут булочниковы крысы. Для этого надо было пройти весь длинный чердак, мимо запертых чуланов, сквозь решетчатые дверцы которых виднелись самые удивительные вещи, обогнуть большую дымовую трубу и ощупью спрыгнуть с приступочки как раз перед решетчатой переборкой, отделявшей чулан булочника от чердака. Там проходила труба из булочной, всегда такая горячая, а около нее в полутьме, между мешками с мукой, играли и плясали крысы. Булочниковы крысы всегда были веселы, потому что еды им хватало. Были там и большие и малые крысы; молодежь резвилась, а старики сновали вверх и вниз по мешкам и доскам; они умели так же быстро бегать по отвесной стене, как Петер по полу. Крысы прогрызали мешки, лежавшие сверху, мука сыпалась из них на пол, и крысы подбирали ее. Набрав полный рот, они садились на задние лапки, поднимали мордочки кверху и быстро-быстро шевелили усиками. Потом вдруг опять принимались резвиться. Просто умора была смотреть на них, только приходилось самим притаиться, как мышкам. Но, когда какой-нибудь крысенок вдруг сереньким клубочком выкатывался в полосу света, сестренка не выдерживала:
— Вот бы нам такого крысевочка!
А их след уже простыл!
— Экая ты дурочка! — сердился Петер, и они пробирались по чердаку обратно.
Жили здесь, в полутьме, и люди, но только такие, которые в счет не шли. Позади каморки старухи Расмуссен, под самым скатом крыши, была нора, откуда торчал угол матраца в куда заползал на брюхе Червонная Борода. Он слыл дурачком и зарабатывал этим на жизнь. Если ему предлагали на выбор монетки в десять эре и в два, он всегда выбирал в два. Петер сам убедился в этом, когда однажды получил на гостинцы два эре за то, что сбегал в булочную для старухи Расмуссен. Но старуха высмеяла его за это и сказала про Червонную Бороду:
— Он вовсе не так глуп, отлично понимает, что делает. И немало денег заработал на глупости других.
Прозвище свое он получил, еще когда носил длинную, пышную бороду. Она у него была такая красивая, что ни одна женщина не могла перед ним устоять. Тогда он и кормился своей бородой. Но одна из его возлюбленных взяла и обстригла ему бороду, когда он спал, вот он и потерял свою силу. Теперь он побирался по большим ресторанам и ночным кабачкам, проделывая свой идиотский номер; полиция не трогала его, как слабоумного. Он накопил массу денег, полную нору.
— Поди сам погляди, — предлагала Петеру старуха Расмуссен, — у него матрац набит битком монетками по два эре!
Но Петер не решался, он побаивался дурачка. Зато не боялся заглядывать к старику тряпичнику, занимавшему темный угол за большой печной трубой. Там валялась куча тряпья, на которой старик спал; к трубе был прислонен стоймя ящик, и на нем помещались свечной огарок, коробка спичек и старая колода карт. Дети частенько заглядывали туда узнать, дома ли старик, — случалось, что он давал им игрушку, подобранную где-нибудь среди мусора. Когда на трубе была вывешена таинственная семерка, это означало, что старик лома. Он сделал занавеску из мешков и таким образом отгородил свой угол от чердака. Сам он сидел за этой занавеской и при свете огарка разбирал тряпье, собранное за утро.
— Что? Пришли навестить рыцаря свалок? — весело спрашивал он и, вывалив весь хлам из мешка на пол, позволял детям рыться в куче и наслаждаться разными сокровищами, подобранными в мусорных ямах. Сам старик ложился на пол и отбирал в одну сторону тряпки, в другую ржавые жестянки; даже старую рваную бумагу можно было перепродать. Если детям что-нибудь особенно нравилось — остатки растрепанной книжки с картинками, обломки какой-нибудь игрушки, — им разрешалось взять это себе.
— Только маме своей не показывайте, она у вас такая чистюля, — говорил старик.
Нет, дальше каморки старухи Расмуссен они со своим добром не шли; там у них помаленьку образовался целый склад, о котором мать и не подозревала. Попадавшиеся в мусоре объедки старик тщательно выбирал и, обчистив ножиком, съедал.
— Фи, бяка! — говорила сестренка.
— Нет, если запить рюмкой водки, то это не вредно. Ну, а теперь отправляйтесь-ка домой к вашей доброй, славной маме Дитте, — говорил он вдруг и выпроваживал их.
— Да, он это недаром говорит про маму Дитте, — сказала однажды старуха Расмуссен. — Посмотрела бы я, что с ним сталось бы, если бы мама Дитте то и дело не совала ему прошлой зимой горяченького! Мы, бедные старики, бога должны благодарить за нашу добрую маму Дитте.
Водились в доме и другие крысы, кроме булочниковых, но куда злее. Марианне, когда у нее оставалось что-нибудь съестное, приходилось прятать это в корзинку и подвешивать под самый потолок. Однажды крысы даже искусали миссионерского мальчишку, когда его заперли в темном чулане, да и позабыли там на всю ночь.
Ежедневно дети проводили по нескольку часов, сидя у окошка и поглядывая на игры других ребятишек во дворе; они держались друг за друга, чтобы не поддаться искушению высунуться из окошка чересчур далеко. Им позволялось держать окно открытым, пока они сами сидели возле, иначе приходилось запирать его из-за крыс. Крысы разгуливали по желобам крыши, поднимались по водосточным трубам, как по лестницам, и выскакивали из отверстий внезапно, прямо под носом у людей, обходили вокруг всей крыши, все нюхали, пищали и презабавно задирали мордочки кверху, шевеля усами. Когда дождь прогонял ребятишек со двора, крысы забирались на крыши низких надворных строений и возились там. А ночью было еще хуже! При свете месяца можно было видеть крыс, стороживших у входов во все погреба; и стоило булочнику выставить из своего окна на крышу низкой пристройки листы с горячими булками, как фью-ить! — крысы набрасывались на них, едва он успевал отвернуться. Старуха Расмуссен сама видела это, когда ей приходилось дежурить ночью у постели рожениц, живших в том же доме. Случалось ей также видеть, как крысы обжигались о горячие булки. Тогда они начинали вертеться волчком, пищать и тереть себе мордочки лапками.
Иногда день казался детям очень длинным, особенно после обеда, когда они успевали исчерпать все собственные источники развлечений, а старуха Расмуссен засыпала. Тогда случалось сестренке настоять на своем, и они, взявшись за руки, отправлялись искать маму. Петер был уже достаточно благоразумен, чтобы не отважиться по собственной охоте заходить за пределы знакомого мира, но уличная жизнь захватывала их, в окнах магазинов было столько восхитительных вещей, которые заставляли забывать обо всем на свете и заманивали все дальше и дальше от дома. Словом, не успевали дети опомниться, как оказывалось, что они уже заблудились! Тогда сестренка начинала реветь, и Петер присоединялся к ней; он тоже терял присутствие духа и едва мог узнать свою улицу. В конце концов они благополучно возвращались домой, и старуха Расмуссен бранила их и обтирала им слезы.
— Не стоит рассказывать об этом маме Дитте, — говорила она.
Но Дитте узнавала об этом от соседок, когда возвращалась вечером домой, и такие сообщения мало радовали ее.
К счастью, такому порядку скоро пришел конец: старуха Расмуссен преодолела-таки действие пилюль и в один прекрасный день встала с постели Это было в сущности настоящим чудом, так как средство-то было очень сильное! Стоило только взглянуть на жену учителя, ее прямо распирало. А муж стал относиться к ней так нежно, заботливо. Каждый раз, когда она выходила во двор, он бежал за ней следом и совал ей теплый платок в отверстие между досками.
Однажды дети зашли утром к старухе и застали ее на ногах: она надевала на себя юбки.
— Ты выздоровела, Расмуссен? — с интересом осведомились они. — Совсем выздоровела?
— Да, да, будьте спокойны! — отвечала она, прыгая по комнате, как сорока.
Дети смеялись так, что у них в горлышках булькало.
— Еще, еще! — просили они.
— Нет, больше не могу, теперь надо нарядиться по-зимнему.
И старуха Расмуссен накинула на себя через голову еще одну юбку, да вдруг и застряла в ней, — юбка не двигалась ни вниз, ни вверх. Это частенько случалось, к великой потехе ребятишек. Виноваты были старые плечи, которые от ревматизма и подагры совсем окостенели я вдруг отказывались действовать как раз, когда руки были подняты кверху. Так старуха и стояла с шерстяной юбкой на голове, ничего не видя кругом.
— Где вы, милые детки? — спросила она, притворяясь испуганной.
— Мы здесь! Меня зовут Анна Свенсен, а Петера просто Петер, — он безродный. Видишь ты нас? — серьезно говорила сестренка.
— Нет, но зато я вижу небо, — сказала старуха, стараясь стянуть юбку вниз. — И вижу, как Пер-Голяк едет верхом на черте… нет, на спине участкового попечителя о бедных! Эх, кабы огрел он хорошенько черта кнутом! Да уж больно добр он, простофиля.
— Посмотри-ка еще! Куда они поедут — к господу богу?
Но тут юбка съехала на свое место, и смотреть было уже поздно. Но хорошо, кабы Пер-Голяк добрался до господа бога и пожаловался на попечителя. И будь еще старуха Расмуссен с ним, уж она сумела бы рассказать про попечителя, — много чего знала она про этих господ!
— А какой-такой Пер-Голяк? — спросили дети. — Он сильный?
— Еще бы не сильный! Страсть! Такой силач, что приходится ему ходить, засунув руки в карманы.
— А может он поколотить всех людей? — басом спросил Петер, выпятив живот.
— Может-то может, да больно он прост и добр. Люди всячески помыкают им и мытарят его, а он все сносит. Одно слово — простофиля!
— Ай, как мне его жалко! — сказала сестренка.
Но Петер напыжился и принял грозный вид.
— А я бы взял да убил их всех до смерти! — заявил он. Последнее время он убивал всех подряд.
Старухе Расмуссен пришлось рассказать им о Пере-Голяке. Это был такой силач, что деревянные башмаки на нем трескались, и такой добряк, что никак не мог нагулять себе жирку. Когда господь бог создал его, то посадил на землю и сказал: «Вот тут и живи! Тут и солнце найдешь и тень!»
Но всю солнечную сторону занял черт со своими присными и заявил: «Тут наше место!» Пришлось Перу-Голяку удовольствоваться местечком на теневой стороне, — там было хорошо днем, но холодно ночью. «Замерз небось! — кричал ему ночью лукавый. — Я слышу, как у тебя зубы стучат!» — «А ты вспотел небось, — отвечал ему Пер-Голяк днем, когда светило солнце. — Берегись, толстопузый, как бы тебя не растопила жара!» Тогда лукавый взял да выдумал зиму. И Перу-Голяку пришлось мерзнуть и днем и ночью. Увидав это, господь бог послал Перу чудесное новое пальто и теплую перину. Лукавый даже позеленел от зависти. «Эти вещи и мне бы пригодились», — подумал он, хотя они вовсе не нужны ему были. Походил, пораскинул умом и открыл ссудную кассу. Вот он каков! А Пер-Голяк так уж был создан, что не мог пройти мимо ссудной кассы и не заложить чего-нибудь. Вот он сбыл туда и пальто и перину, да как раз зимою, когда холодно. Летом, когда тепло, он, пожалуй, их выкупит, — у него все идет шиворот-навыворот. Пера-Голяка всякий сразу узнает именно потому, что он закладывает свои вещи как раз тогда, когда особенно нуждается в них, и выкупает, когда они не нужны вовсе.
— Вот и мама тоже, — сказал Петер.
— Да, если посмотреть хорошенько, вы, пожалуй, сродни Перу-Голяку. Ну, вот так и тягается из-за него господь бог с лукавым. Но господь бог-то поблагороднее, где же ему угнаться за всеми каверзами лукавого! Оттого Перу-Голяку живется все хуже и хуже.
— Все это неправда, — сказал Петер, — потому что никакого бога нет.
— Как нет? А кто же сидит в Мраморном соборе? Если кто хочет разбогатеть, — должен потянуть его за бороду да трижды плюнуть. Но мало у кого хватает на это духу; оттого-то на свете так много бедняков.
VII Торжество по случаю конфирмации
Дитте заранее отдала свое лучшее платье переделать — освежить оборочкой и новым воротничком. Это обошлось недешево, но ведь, если ее пригласят на торжество по случаю конфирмации Поуля, ей необходимо одеться прилично. На Истедгаде собирались задать настоящий пир. Дитте известно было, что им пришлось освободить от лишней мебели все комнаты, включая спальню, — столько ожидалось гостей к ужину. Было закуплено вино, а в типографии заказали отпечатать тексты подобающих случаю псалмов. Сине знала все порядки! Дитте ни разу в жизни не была приглашена на пир, хотя на многих пирах и присутствовала, но всегда в качестве прислуги, и она заранее радовалась предстоящему событию. Ее собственная конфирмация была отпразднована беднее бедного, и теперь, когда ее семья жила в довольстве, Дитте так приятно было бы присутствовать на празднике. Ей так хотелось этого, что в субботу вечером она готова была спрятать в карман всякое самолюбие и пойти туда напомнить о себе.
Утром в воскресенье она всплакнула. Много нужно было, чтобы довести Дитте до слез, и старуха Расмуссен как следует разбранила ее.
— Стоит ли изводить себя из-за какого-то угощения? Здоровье дороже всего. Радуйся, что ты здорова и можешь прокормить себя и детей. А они там просто позабыли обо всем в этой сутолоке. Небось попозже днем пришлют за тобой, увидишь.
Но никто не пришел, и Дитте ходила с красными глазами.
Уложив вечером детей в постель, она попросила старуху Расмуссен посидеть с ними, пока она прогуляется. Она нарядилась в свое лучшее платье и отправилась на Истедгаде. Перед домом она словно опомнилась, остановилась и спряталась в тени подъезда на противоположной стороне, не сводя глаз с окон. Вся квартира была освещена, верхние половинки окон были открыты, — табачный дым, громкие голоса и смех так и неслись оттуда. Голос отца покрывал все остальные, — он стоял у окна и говорил речь. Когда он замолк, все засмеялись. Засмеялась невольно и Дитте, — должно быть, он сказал Поулю что-нибудь забавное и милое. Маленький Поуль! Как ей хотелось обнять его, расцеловать и пожелать всякого счастья и благополучия! Ведь это ее питомец! Она стыла кособокой, таская его на руках, жертвовала ему своим ночным отдыхом. Слезы душили ее.
А там, видно, праздник окончился; дверь на улицу отворилась, вышла Эльза с женихом и без шляп стали прохаживаться по улице, отвернувшись друг от друга и перебраниваясь, как поссорившиеся лети.
Дитте выскочила из подъезда, где притаилась, и, торопливо завернув за угол, пошла куда глаза глядят, чувствуя тоску одиночества и боль в сердце. Она была уверена, что отец вспомнил о ней сегодня вечером, и ей казалось предательством, что он не настоял на том, чтобы ее пригласили. Труслив он стал под старость! С Сэрине он не боялся схватиться из-за детей. А Сине стоило только засмеяться, словно ее щекотали, и он сдавался. Такая ласковая, пышная и аппетитная, она шутя лишила Дитте последнего ее прибежища здесь на земле — родной семьи.
Боковыми улицами Дитте вышла на Фредериксбергскую аллею. Вход в помещение Армии спасения был ярко освещен.
«Великая неделя священного ликования под пение псалмов» — гласила надпись на плакате, вывешенном над входом. Дитте зашла, — она замерзла, и на душе у нее было так пусто; хотелось света и тепла как для души, так и для тела.
Как чудесно, светло и тепло было в зале! На эстраде выступали солдаты Армии спасения — мужчины и женщины, пели, проповедовали и играли — чуть ни не все одновременно. Пение внезапно обрывалось на полустрофе, и кто-нибудь один принимался молоть языком; потом вдруг — бум! его заглушал гром духового оркестра! Это каждый раз заставляло вздрагивать от неожиданности, пробирало насквозь и встряхивало основательно. Оркестр так дудел, что буквально выдувал всякое уныние из души. Проповедники мало трогали Дитте, они просто выдумывали разные штуки, чтобы подбодрить людей и вызвать у них на устах улыбку. Но так приятно было посидеть там, где каждый чувствовал себя не только желанным гостем, но еще как бы виновником этого торжества; все как будто старались ради него одного!
Дитте узнала в лицо многих, бывавших здесь прошлой зимой. На одной из передних скамеек сидел старик тряпичник с их чердака, прикрыв лицо шапкой, и казался погруженным в молитву. А там, поодаль, прислонясь к подоконнику, стоял… господин Крамер! Поздравитель! Дитте чуть не вскрикнула от испуга, увидав его здесь. Лицо у него было иссиня-черное, таким она его еще никогда не видала, — верно, ему за весь день не удалось хлебнуть спиртного. Руки он сложил над отвислым животом, усы, щеки — все у него обвисло. Вообще вид у него был такой истерзанный, несчастный, что Дитте горько раскаялась в своем намерении выставить его из квартиры. Куда же ему деваться. Она старалась придумать, как бы увести его с собою домой.
Когда она поднялась, он взял с подоконника свою шляпу и у выхода подошел к Дитте.
— Извините за беспокойство… можно проводить вас немного? Ведь не каждый день удается подцепить себе даму! — сказал он.
— Да, пойдемте вместе домой, господин Крамер, — с живостью откликнулась Дитте. — Я куплю белого хлеба и сварю кофе.
— Домой? — протянул он. — Семейный уют, пылающая печка, кофе с булками? Нет, это не для нас, милая фру Хансен, лоно семьи для нас наглухо закрыто, вот что. Но тут неподалеку, на площади, есть чудесный погребок, вы смело можете зайти туда, — там бывают и дамы!
Нет, спасибо, Дитте не бывает в таких местах.
— Ну конечно, вам это не подходит, вы слишком порядочная женщина. Но не можете ли вы ссудить мне крону-другую?
— У меня нет денег, господин Крамер, — сказала Дитте, глядя ему прямо в глаза. — Ни монетки!
— Но вы же хотели купить хлеба. Отдайте лучше эти деньги мне, — сбережете на хлебе!
Он взял ее за рукав и умоляще глядел на нее потухшими глазами, словно в ожидании небесного чуда.
— Я хотела взять в долг, — ответила Дитте. — Мне всегда верят в долг у булочника. Но я постараюсь раздобыть вам рюмку коньяку к кофе вместо хлеба.
Он пожал плечами.
— Вы отлично знаете, что я никогда не пьянствую дома: считаю это недопустимым. Но, черт побери, извините за беспокойство, — раз вы пользуетесь кредитом, будьте такая милая, займите для меня пару крон. Я верну их вам завтра же; это так же верно, как то, что я когда-то был порядочным человеком.
Они стояли и разговаривали на площади; Крамер всем своим существом стремился в погребок, буквально упиваясь вырывавшимся оттуда шумом.
— Пожалуйста! — молил он. — Ведь всего-навсего две кроны!
Дитте охотно сдалась бы на его просьбу, — так тяжело было смотреть, как он пожирал глазами дорогой его сердцу винный погребок.
— Но я, право, не вижу никакой возможности! — с отчаянием проговорила она. — Откуда же мне взять?
Почувствовав, что Дитте колеблется, Крамер стал настойчивее.
— Откуда? Не видите возможности! — воскликнул он. — Небось вы бы не сказали этого, заболей у вас ребенок и нуждайся он в докторе и лекарстве! Тогда бы вы нашли возможности! Их сколько угодно! Будь я на вашем месте, я в какие-нибудь четверть часа шутя добыл бы крон двадцать.
— Каким же образом? — удивилась Дитте.
Он фамильярно положил ей руку на плечо и наклонился к ней.
— С вашей наружностью! — произнес он, указывая на улицу, где, подобно ночным мотылькам, в свете фонарей мелькали мужчины.
Дитте, окаменев, посмотрела на него. Затем повернулась и пошла, плача потихоньку.
Вернувшись домой, она узнала, что Карл только что ушел. Дети еще не спали и были очень возбуждены. Он принес с собой свой ужин, потому что ему было скучно жевать его дома в одиночку. И вот они поужинали все вместе, а затем пили кофе с пышками.
— Да! Он угостил нас хлебом с сыром и с колбасой! — рассказывали дети наперебой.
— Вот уж человек, так человек! — заметила старуха Расмуссен. — Такой приличный и серьезный. Не пропьет ни гроша из своего заработка. Хорошо бы иметь такого мужа!
Дитте не ответила, она устала, и все было ей противно.
Все же она получила свою долю праздничного угощения: на другой день утром пришел Ларс Петер с корзинкой, наполненной вкусной снедью — остатками жаркого, сладкого пирога и прочего.
— Извини, что мы не пригласили тебя, — сказал он. — Но мы собрались самым тесным кругом, кроме нас самих, были только двое-трое ближних соседей. Матери, в ее положении, не годится утомлять себя хлопотами.
Говоря это, он не глядел на Дитте, и она не сочла нужным возражать. Она не взяла у него корзинку; пришлось ему самому поставить ее возле печки. Дитте не поблагодарила, вообще даже не взглянула на угощение.
— Ну, мне, видно, пора; я собираюсь опять в поездку, — сказал Ларс Петер, подавая ей руку. Взгляд у него был грустный. Дети находились у старухи Расмуссен, все трое, и он даже не спросил про них.
Дитте оделась; сегодня ей нужно было прийти на работу к часу. Перед уходом она занесла корзинку к старухе Расмуссен.
— Нельзя ли отправить это с каким-нибудь мальчуганом на Истедгаде? Отец принес это… от вчерашнего празднества, но мне не нужно их объедков.
— Ну, еще бы! Только этого не хватало, — сказала старуха. — Я попрошу Кристиана Ольсена сбегать к ним. Нате, получайте в морду! Так вам и следует!
Когда Дитте ушла, старуха-открыла корзинку.
— Нет, гляньте-ка, детки, какие лакомства! — воскликнула она, всплеснув руками. — Обидно отдавать все это назад той спесивой дряни. Не съесть ли нам лучше все самим? Только смотрите матери ни гу-гу!
Да! Ребятишки умели молчать; они со старухой Расмуссен привыкли секретничать! Ну, и попировали же они всласть, то-то было вкусно! Хорошо стряпает эта гордячка с Истедгаде! Тут на несколько дней хватит. Жалко до слез, что Дитте так и не отведает ни крошки!
VIII Новые башмаки старухи Расмуссен
Когда много работы — это хорошо и плохо. Дитте следовало благодарить бога за то, что ее так охотно берут на поденщину — стирать и убирать квартиры. Таким образом она сама была сыта и приносила домой немного денег. Перепадало кое-что из съестного и старухе Расмуссен и детям. Иногда сами хозяйки давали Дитте что-нибудь с собой. Иногда еду украдкой совала прислуга.
Зато дети, ради которых она в сущности билась, страдали от этого. Они были, правда, сыты, во им недоставало присмотра. Старуха Расмуссен любила их, но воспитывать не умела. Они ни чуточки не боялись ее и делали, что им вздумается. Дитте не хотелось пускать их во двор, — там было очень грязно, да и не только в этом было дело. Дети могли научиться плохому. Она запретила им бывать во дворе, но и по одежде их и по всему замечала, что они не слушались ее. Старуха Расмуссен пускала их гулять потихоньку от матери и велела молчать об этом. Вот это было хуже всего, — таким образом они приучались лгать и скрытничать.
Дитте решила отменить запрет, это лучше, чем знать, что он все равно нарушается за ее спиной. Но зато у нее прибавилось работы по воскресеньям. За неделю вообще накапливалось много работы по дому, а теперь приходилось еще отмывать и очищать детей от грязи, прилипшей к ним. И это был неблагодарный труд, усложнявшийся тем, что она не могла принимать участия в их будничной жизни. Как в саду, зараставшем сорной травой, ей приходилось удалять сорняки за всю неделю сразу, а не по мере того, как они появлялись. И частенько Дитте теряла всякое терпение.
Нередко также, покончив с работой, сидя и прислушиваясь к детской болтовне, она чувствовала, как сердце у нее обливалось кровью: ей казалось, что она не так воспитывает их, как надо, но что же могла она поделать? Ничего. Они были в сущности центром всего, — она жила и работала не покладая рук только для того, чтобы им было хорошо, чтобы они были сыты, веселы и могли вырасти порядочными людьми. Но, если им случалось провиниться, уронить кусочек, или пролить что-нибудь, а тем более выпачкаться, — она выходила из себя и бывала с ними чересчур строга. Она прекрасно сознавала, что маленькие дети и не могут вести себя иначе, но, когда доходило до дела, не могла сдержаться. После, когда уже, бывало, разбранит их, нашлепает, доведет до слез, — приходили раскаяние и жалость, да поздно! А в следующий раз повторялось то же самое. Она вспоминала, как была терпелива ее бабушка, — а у Дитте этого как раз не было! Правда, бабушке и не приходилось зарабатывать на целую ораву, и она могла постоянно наблюдать за Дитте; это совсем другое дело.
И Дитте решила снова попытаться брать работу на дом. Ей уже не повезло однажды, но это ничего не значит, теперь она выучится шить и будет брать заказы на определенные вещи. Такая работа лучше оплачивается и надежнее. В заднем флигеле, там же, где тетка Гейсмар, жила белошвейка фрекен Йенсен — специалистка по шитью манишек и воротничков. У нее всегда было несколько учениц, и с утра до вечера стучали швейные машины.
Фрекен Йэнсен была обручена с полицейским надзирателем и копила себе приданое, потому и старалась теперь вовсю. После свадьбы ее жених бросит службу и поступит управляющим в большой дом, — на такие места всегда предпочитают брать бывших полицейских; она же откроет тогда настоящую швейную мастерскую.
Дитте спросила, не возьмется ли белошвейка обучить ее? За двухнедельный курс фрекен Йенсен брала пятнадцать крон. После этого можно будет получать у нее же заказы. Тогда незачем бегать на поденщину. Только бы теперь добыть денег на ученье! Но деньги ведь ей был должен жилец!
Она решила не ложиться и дождаться возвращения Поздравителя, предпочитая переговорить с ним вечером, когда он бывал вообще понятливее и сговорчивее. Было уже далеко за полночь, когда наконец на лестнице послышались его неуверенные шаги. Она открыла дверь в коридор и сказала:
— Господин Крамер, мне нужно поговорить с вами.
Он вошел и стал у двери, щурясь от света в отдуваясь.
— Уф! Эти проклятые лестницы!
Дитте объяснила ему, в чем дело.
— Не могли бы вы отдать мне хоть за один месяц за комнату? Тогда у меня хватило бы на уплату за ученье. А прокормиться мы уж как-нибудь прокормимся эти две недели.
— Да, еда всегда откуда-то берется, словно чудом, — сказал он, делая размашистые жесты. — Об этом не стоит особенно сокрушаться! Но, скажите мне на милость, за кого вы меня, собственно, принимаете, сударыня? Уж не воображаете ли вы, что Поздравитель вдруг стал миллионером?
— Ну, этому, видно, не бывать, — горько засмеялась Дитте. — Но за комнату все-таки надо платить! Неужто малым детям погибать без призора только потому, что вы пропиваете их деньги?
— Стоп! Не говорите так! — в ужасе воскликнул он, отмахиваясь от нее руками. — Мне больно, что вы так ставите вопрос. Оставим невинных малюток в покое.
— Он стоял, глотая слюну, ища опоры, — так он был расстроен.
— Извините за беспокойство, — с трудом заговорил он. — Но мне ужасно больно, что вы ставите вопрос именно таким печальным образом… Малые дети… Фу, черт возьми!..
Он, шатаясь, побрел к себе. «Фу, черт побери!» — громко доносилось оттуда.
Затем он опять вернулся и заговорил, глядя на нее влажными глазами:
— Я свинья, а вы предобрая маленькая женщина. Да, да, именно так, не возражайте, пожалуйста!. И какая же вам за это награда? Поздравитель вас обманывает, родители ребятишек тоже надувают, а у вас не хватает духу вышвырнуть рас всех вон. «Небось не выгонит она тебя! — говорю я себе. — Ты можешь преспокойно пропивать деньги!» Признайтесь, мама Дитте, ведь вы все равно не вышвырнете меня? И если я завтра слягу, вы сварите мне овсянку, хотя бы вам пришлось веять в долг и воду и крупу? Вот это называется покровительством… прямо-таки попечительством о бедных. Боже мой, какой чудесной женой могли бы вы быть, и не выбрось я давным-давно из головы все эти глупости… Но теперь увольте, — Поздравитель не поддастся! Пожалуйста, не вздумайте вообразить себе что-либо подобное, вы понапрасну потратите порох! Нам тут не к лицу играть в несчастную любовь!
Дитте засмеялась:
— Что же вы, собственно, собирались сказать мне, господин Крамер?
— Что я собирался сказать? Да вот, — что я свинья. А потом еще относительно денег. Я вел себя довольно неблаговидно в тот вечер, советуя вам добыть денег неподобающим способом, не правда ли?.. Но мы не будем больше вспоминать об этом, не так ли? Зато теперь Крамер сделает для вас кое-что еще более неподобающее. Завтра же мы решимся на преподлую штуку ради мамы Дитте; она вполне заслуживает этого. Мы отправимся в Восточную аллею и поздравим ее милость с днем свадьбы.
Дитте в ужасе вскочила:
— Господин Крамер, уж не собираетесь ли вы пойти за подачкой к вашей бывшей жене? Я не хочу этого, слышите! Вы не должны этого делать!
Поздравитель так и залился смехом, наслаждаясь ее смятением.
— А мы все-таки пойдем к ней. Только не за подачкой, а с поздравлением, — понимаете? Изящный букет ее мужу! «Позвольте поздравить с достойной супругов Ангельский характер… знавал ее до вас!» Разве за это не стоит заплатить пятнадцать — двадцать крон, черт побери! Ну, спокойной ночи, милейшая! Теперь мы пойдем к себе и будем почивать сном праведных, а завтра уж поползаем на четвереньках! Фу, черт возьми!
На другой день в обеденное время Крамер явился и швырнул на стол пятнадцать крон.
— Вот! — сказал он злобно, метнув на нее пылающий ненавистью взгляд, и ушел.
Дитте хорошо понимала, чего стоил ему этот визит, — он ведь так тщательно избегал всех, кто был близок ему в лучшие времена. Он втоптал себя самого в грязь, чтобы помочь ей выйти из затруднения, сделал ради нее то, на что не шел даже ради столь желанной водки. Это было необычайно благородно с его стороны!
Дитте стала ежедневно посещать швейную мастерскую и считала дни, когда наконец ей можно будет засесть дома с детьми и шить на заказ. Для этого, однако, ей не хватало самого главного — швейной машины!
— Надо тебе обратиться к подручному булочника, — советовала старуха Расмуссен. — Он дает деньги в рост, он ведь такой солидный человек.
Но Дитте по некоторым соображениям не хотелось обращаться к Лэборгу, она предпочитала иметь дело с совершенно чужими людьми.
После обеда она вышла и вернулась час спустя в большом волнении. Она побывала в магазине, где продавались швейные машины в рассрочку, с погашением долга еженедельными взносами.
— Знаете, бабушка, мне дают чудесную машину, — с восторгом заявила она. — Самую лучшую, какая нашлась в магазине. Они говорили, что могли бы продать мне и похуже, это было бы куда выгоднее, но они на это не пошли. Разве это не благородно с их стороны? Она обойдется мне в двести крон, при еженедельном взносе по четыре кроны, — через год она будет моей собственностью. Тут и проценты присчитаны, — наличными деньгами она стоит сто пятьдесят крон. Разве я не дешево сторговала?
— Конечно, если она стоит дороже, — сухо ответила старуха. Она вовсе не обрадовалась.
Уже к вечеру машину доставили. Она оказалась не совсем новой, вообще это была не та машина, которую Дитте выбирала. Но она была в порядке, хорошо шипа и — раз уже стояла на месте, то… Белошвейка приходила ее проверить, и покупку спрыснули чашкой кофе. Теперь только оставалось выплачивать еженедельно по четыре кроны, но это пустяки, была бы работа! Дитте с надеждой смотрела в будущее.
Теперь она стала работать дома, получая от белошвейки дюжинами выкроенные и сметанные воротнички, которые оставалось только сшивать. Крону в день о на уже могла зарабатывать, не запуская при этом своего домашнего хозяйства. Но, разумеется, на это просуществовать нельзя. Надо заручиться заказами непосредственно из бельевого магазина. И фрекен Йенсен обещала порекомендовать Дитте самому хозяину, как только она хорошенько научится шить.
Старуха Расмуссен ходила понурив голову, и, видимо, была чем-то удручена, стала больше держаться особняком. Как-то Дитте застала старуху в ее чуланчике всю в слезах. Оказалось, все из-за этой швейной машины!
— Теперь бедной старухе нечего больше делать на белом свете, — всхлипывала она. — А она так привязана к малышам!
— Да что вы, бабушка, что это вам вздумалось? — Дитте сама была готова заплакать. — Вам непременно придется помогать мне по хозяйству, разве я иначе справлюсь? А когда я начну работать самостоятельно, вам надо будет помогать мне и в работе — сметывать воротнички и тому подобное.
Старуха снова повеселела и стала опять приходить вместе с ребятишками, когда те забегали к ной, чтобы позвать ее к столу. А то последнее время она все сидела у себя, боясь быть в тягость.
— Эх, кабы мне выдали из попечительства пару новых башмаков. Я могла бы тогда относить и приносить тебе работу. Это сберегло бы тебе много времени.
Башмаки у старухи совсем износились.
— Надо попытаться, — сказала Дитте. — В худшем случае вы только получите отказ. Ведь не съедят же вас!
— С них все станется, — целиком сожрут! Благодари бога, что тебе не приходится иметь дело с попечительством о бедных.
— Ничего, как-нибудь, — уверяла Дитте. — Вы только настаивайте на своем праве. Они обязаны снабжать стариков обувью.
— Да, тебе хорошо разговаривать, сидя тут; не то бы запела, коснись дело тебя самой. Сперва стой в приемной навытяжку час за часом да жди, пока твои старые ноги подломятся под тобой, а там выскочит из своего кабинета этот чертов попечитель, положит на барьер свои лапищи и облает тебя прямо в лицо.
Старуха вся дрожала при одной мысли, что ей придется пойти в попечительство. Пришлось Дитте сопровождать се туда на следующее утро, а то старуха возьмет да обманет, — придет домой и скажет, что побывала. Настоящий ребенок!
Домой Расмуссен вернулась к концу дня, — пришлось ей все время простоять в приемной вместе с другими старухами, и она была совсем измучена. Дитте помогла ей снять верхнее платье и старые, насквозь промокшие башмаки, потом напоила ее горячим кофе, болтая о том о сем, чтобы подбодрить старуху.
— Ну, как сошло? — спросила она наконец.
— Хе!.. Обругали здорово, вот как сошло! Самого-то старшего попечителя не было, но обругать и молодые франты горазды. Сказали, что обувь была выдана мне в прошлом году и нечего мне то и дело клянчить. Уж не танцую ли я на балах? А когда я показала им, во что обута, они предложили мне пару деревянных башмаков. Если же я недовольна, то они могут отправить меня из месту жительства моего покойного мужа. Только этого не хватало! Сорок лет прожила я тут и гнула спину, работая на людей, а когда из сил выбилась, они ушлют меня куда-то, где у меня ни души знакомых нет!
Старуха расплакалась.
— Бедные мои ноги, они и так сплошь в мозолях, как же я буду ходить в деревянных башмаках?
— Ну, ну, мы как-нибудь выкрутимся, — утешала Дитте, целуя ее мокрые от слез щеки. — Полно, не плачьте! В субботу я наверняка получу деньги за Анну от ее отца! Вот и купим вам башмаки, бальные туфельки, бабушка!
Она, улыбаясь, заглядывала старухе в глаза.
— Да, ты добрая душа! Но откуда тебе-то взять? Тебе самой надо заткнуть десять дыр!
И вдруг она рассмеялась.
— На балах танцую! Ах, они, молокососы! Насмехаться над старухой семидесяти девяти лет!
После обеда забежала тетка Гейсмар взглянуть на новую машину и выпить чашечку кофе. Ей рассказали историю с башмаками.
— Да, вот таковы наши попечители, — сказала она. — А в магистрате сидят какие-то тряпки; они сами больше нашего боятся старшего попечителя, даром что он у них под началом. А вы знаете что, мадам Расмуссен? Пойдите-ка в этих деревянных башмаках в церковь. Это им не поправится, потому что дом божий все-таки дом божий. Тогда небось у них найдется для вас кожаная обувь. Только вы погромче топайте.
Старуха Расмуссен так и сделала; она далеко не так боялась господа бога и пастора, как попечителя. Пастор сам подошел и заговорил с ней после обедни. Он стоял, положив руку ей на плечо, и ласково беседовал с ней, а все прихожане смотрели на них. И на другой же день старуха Расмуссен получила пару чудесных, теплых башмаков. Деревянные башмаки тетка Гейсмар выпросила себе за совет; их всегда можно было обратить в деньги.
Жилось людям в столице вообще ничуть не лучше, чем в деревенском поселке, — тоже еле-еле перебивались с хлеба на воду. Но там все-таки было видно, куда уходили плоды их трудов, и рука, выгребавшая мед из улья, всегда оставляла кое-что, чтобы пчелы не умерли от голода. А рука, хозяйничавшая здесь, была невидима и одинаково могла принадлежать как богу, так и дьяволу. Во всяком случае, это была рука самой судьбы, а потому и противиться ей было бесполезно. Дитте начинала борьбу сызнова, но без особенной веры в успех. Ей было с кем сравнить себя; ведь в «Казарме» ютились сотни семейных в одиноких жильцов, целый маленький городок. Но, кроме жильцов дома, выходящего на улицу, все были приблизительно в одинаковом положении. Нельзя было заметить существенной разницы в образе жизни тех, кто пьянствовал и транжирил деньги, и тех, кто жил скромно, — и у тех и у других одинаково мало оставалось денег, вернее, совсем их не было.
Да и в большом здании далеко не все обстояло благополучно. Взять хоть бы семью булочника. Как они ни старались, толку не было. Жена стояла за прилавком, сам Нильсен работал целый день вместе с подмастерьем пекарем и огромным ютландцем Лэборгом. Все они были работящие и добросовестные люди, покупателей было много, хотя грех сказать, что булки выпекались чересчур большие. Белые булки и сдоба получались такие пышные и ноздреватые, что в эти дыры могла бы пройти душа самого Нильсена, по выражению старухи Расмуссен. И все-таки шли разговоры о том, что булочник вот-вот прогорит.
Дитте ничего понять не могла. После разговора с Карлом она пыталась разобраться, ломала себе голову над скрытым смыслом происходящего, но скоро бросила. Слишком много было ежедневных забот и хлопот, чтобы еще загадывать о будущем. «Довлеет дневи злоба его!» И без того трудно держаться на поверхности, куда бы ни занесло тебя течение, а куда оно несет — про то знает судьба! Да, очень трудно было держаться на поверхности, и многие шли ко дну.
Дитте неохотно сближалась с другими женщинами в доме и держалась несколько особняком. Так было спокойнее, а то легко можно было нажить неприятности, — в доме то и дело случались скандалы. Она прослыла за это гордячкой, но пускай, лишь бы не давать никому повода совать свой нос в ее дела. Она достаточно долго пробыла в положении отверженной и теперь не прочь была слыть дочерью мебельного торговца с Истедгаде. Живодер, Сорочье Гнездо и преступление Сэрине — пусть все это сгинет во мраке забвения.
Полиции она страшно боялась и жила в вечной тайной тревоге. Вздумай они порыться в ее прошлом, они наверняка отнимут у нее приемышей. И она всегда нервничала, когда полиция появлялась в доме.
А это случалось не так уж редко. Ночью сплошь да рядом происходили скандалы — то во дворе, то в квартирах, и приходилось звать полицию. Бывало, что полицейские являлись по собственному почину и вели себя здесь совсем не так, как в кварталах богачей, где Дитте жила прислугой. Здесь они не держали обтянутую белой перчаткой руку у козырька! Нет, рука была в заднем кармане, где находилась резиновая дубинка, и, если перед тем не было свалки на улице, им удавалось организовать ее здесь. Они, видимо, скучали без дела!
Однажды ночью Дитте в ужасе проснулась от криков и стука во дворе. Она бросилась к окну. Внизу возле помещения рабочего Андерсена стояло несколько темных фигур, барабанивших в дверь. По их форменной одежде видно было, что это полицейские.
— Отворяй! — кричали они. — Это полиция. С вас приходится штраф в восемьдесят эре за неисполнение закона о школьном обучении. Сельма должна отсидеть за это.
— Лучше возьмите меня! — произнес сонный мужской голос.
— Нет, вы ведь не венчаны, отвечать за детей должна мать. Да поскорее! Фургон ждет у ворот!
— Я больна, — прозвучал жалобный голос Сельмы. — Штраф будет внесен завтра!
— Ладно, знаем мы вас! Какая такая болезнь приключилась? Нарыв прорвался? Дай-ка мы посмотрим!
Полицейские пытались отпереть дверь, слышно было, как они звякали связкой ключей.
— Мы не уйдем, пока вы не отворите! — кричали они.
Из окон всюду высунулись жильцы, кто бранился, кто острил.
— Убирайтесь-ка подобру-поздорову, ищейки! — крикнул хриплый голос рядом с Дитте. — Не то я запущу вам в головы черепицей!
Это был Поздравитель, он перевесился за подоконник и угрожающе махал руками. Наконец полицейские удалились.
На другое утро Сельма ходила по всему дому и занимала деньги, чтобы уплатить штраф. Она зашла и к Дитте и получила пять эре. Отец ее ребятишек был болея.
С ним случилась беда: при выгрузке угля с парохода ему уронили на спину мешок с углем. Он лежал в постели уже шесть недель, не получая никакого пособия, вот ребятишкам и приходилось пропускать занятия в школе, чтобы подрабатывать немножко. Но Сельма с честью вышла из затруднения; все жильцы гордились тем, что полиция осталась с носом.
IX Всего понемножку
Карл забегал ежедневно, ему нечего было дорожить временем, — работы почти не было. Городские заправилы уже прекратили уличные работы.
— Эти важные господа там, наверху, страдают, видно, подагрой, — насмешливо говорил он. — Вот им и кажется, будто земля замерзла.
— Ну, как дела? — первым долгом спрашивал он. Опыт со швейной машиной интересовал его ничуть не меньше самой Дитте.
— Спасибо! Отлично! — отвечала она неизменно.
Это было не совсем верно. Самой Дитте казалось, что она сделала отличные успехи, шила не хуже старших мастериц, хотя и несколько медленнее пока. Но курс ученья — последняя его часть — что-то затянулся; ей все еще приходилось шить на фрекен Йенсен, вырабатывая всего крону в день. Каждый раз, когда Дитте напоминала белошвейке обещание взять ее с собой в магазин, чтобы рекомендовать хозяину, та отвечала: «Это от тебя не уйдет! Тебе еще надо попрактиковаться».
Спасибо! Это прекрасно, но Дитте нужно было поскорее начать зарабатывать побольше: посулами сыт не будешь! И нельзя долгое время перебиваться на шесть крон в неделю, тем более что выплата за машину поглощала четыре. К счастью, сборщик взносов был очень покладист. И если у нее в субботу к его приходу не оказывалось денег, то ничего ужасного не случалось. Не полагалось только слишком запускать платежи.
— Приготовьте восемь крон к следующей субботе, ее то мы заберем машину, — говорил он.
Ну, до этого дело не дойдет, Дитте старалась не задерживать плату больше чем на неделю.
Но подчас туго приходилось, и так бы нужно было посоветоваться с кем-нибудь. Тем не менее она отвечала Карлу свое:
— Спасибо, все идет отлично!
Как-то стыдно было признаться, что ей приходится туго, или не хотелось напрашиваться на сострадание и помощь Карла. Дитте напоминала курицу, которая боится перешагнуть через проведенную мелом вокруг нее черту.
А больше ей некому было довериться. Она стеснялась даже Ларса Петера. Слишком рано, с самого детства, привыкла Дитте сама справляться со всякими затруднениями и брать всю ответственность на себя, вот теперь и трудно было ей обращаться к кому-нибудь за советом или поддержкой. Она ни за что не могла заставить себя попросить кого-нибудь о чем бы то ни было, и чем тяжелее становилось у нее на душе, тем больше замыкалась она в себе.
Но Карл сам заметил, что дело неладно, и однажды вечером припер Дитте к стене.
— Да она просто выжига, — сказал он про белошвейку, когда ему удалось мало-помалу выпытать у Дитте всю правду. — Она наживается на твоей работе, вот и все. У нее небось много таких батрачек, как ты?
Дитте не хотела верить.
— Фрекен Йенсен сама из бедноты, — возразила она.
— Ну, и что с того? Это не мешает ей обирать других. В конце концов все люди на свете одинакового происхождения.
Дитте не поняла хорошенько, что он хочет сказать, — на свете есть ведь и богачи и бедняки.
— Да, но каждый человек рождается на свет одинаково нагим и жалким!
— Ах, вот как это надо понимать! — Дитте сначала говорила неуверенно, боясь, что на Карла опять нашел религиозный стих. — Так вот она какая! — воскликнула она затем оживленно. — А еще смеет смотреть на нас сверху вниз и корчить из себя даму. Собирается замуж за полицейского надзирателя, а потом хочет открыть собственную мастерскую, — стало быть, сколачивает себе капитал на нашей работе. Окажите!
— Завтра тебе надо самой пойти в магазин и попросить работы, — посоветовал Карл. — Лучше, впрочем, обратиться в другое место, иначе она может насолить тебе. Люди безжалостны, когда стремятся повыгоднее устроиться.
Дети давно уже были в постели и спокойно спали. Вдруг Петер поднял голову.
— Мне так и снилось, что это ты пришел, — сказал он Карлу с сияющими глазами. Затем опустил голову на подушку и снова заснул. Малютка Георг тоже проснулся и принялся ворковать.
— Похоже, что он пытается выговорить: «мама». Недурно для семимесячного ребенка, — сказал Карл.
— Нет, это он зовет «папу», — серьезно ответила Дитте. — Он ведь мал еще и не понимает, что у него нет отца.
Карл посмотрел на нее, но ничего не сказал. Выражение его лица заставило ее умолкнуть и призадуматься, и вдруг Карл, забавляясь с малюткой, заметил, что Дитте плачет.
— Что с тобой? — спросил он.
— Не знаю… все как-то так… страшно. Я совсем перестала соображать.
— Перемелется, мука будет, надо только иметь терпение, — ответил он. Ласка, прозвучавшая в его голосе, заставила ее громко зарыдать.
— Почему ты не настоял на своем? — вдруг вырвалось у нее страстным порывом. — Тогда все это было бы пережито. Зачем ты ждешь, чтобы я сама пришла к тебе? Ведь ты мужчина!
Карл покачал головой.
— Я уже раз поступил против твоего желания, и это дорого обошлось мне, поверь. Каждый человек должен решать и действовать свободно, по доброй воле.
— Да, это по-твоему так. Но если человеку и хочется чего-нибудь, и он все-таки не может заставить себя самого решиться?.. Надо, чтобы кто-нибудь другой взял его за шиворот и сказал: «Так нужно!»
— От меня ты этого, во всяком случае, не дождешься! — сказал Карл, вставая. — Надеюсь, что мне никогда больше не придется прибегать к насилию над кем бы то ни было. А теперь мне пора на собрание безработных!
Он протянул ей руку.
— Там ты, верно, не боишься говорить о том, что надо силой заставить уважать свои требования! — И Дитте не сразу выпустила его руку, словно цепляясь за него.
— Ну, там дело другое! Каждый имеет право на кусок хлеба, хоть бы и приходилось брать его с бою! — твердо произнес Карл.
Дитте совсем задумалась и забыла о своей работе. Ей было досадно на себя за то, что она сказала, и за то, чего не сказала, да, верно, никогда и не решится сказать. Нуждайся Карл в ней, ей ничего не стоило бы поддаться своему сердцу и притянуть Карла к себе. Но тут было наоборот: ей нужно было разделить с кем-нибудь свое бремя, — вот что затрудняло дело. И почему он сам не придет ей на помощь, если она в нем нуждается? Почему нуждающийся должен непременно просить о помощи? Дитте всегда избавляла от этого других, угадывая их нужды, по опыту зная, как трудно просить. Почему Карл попросту не схватит ее и не покорит себе? Что ему мешает? Уважение к ней? Или он думает, что в ней еще жива привязанность к другому?
Да, первое время Георг не выходил у нее из головы. Казалось, будто он просто в отлучке или закутил и может вернуться в любую минуту. У Дитте сложилось такое представление еще и потому, что ведь так и не выяснилось в точности — действительно ли он погиб, или что с ним сталось? Дитте в сущности не горевала о нем, но с нежностью вспоминала его за своей работой. Она позабыла все плохое и помнила только, какой он был добрый и как нуждался в ней. Большой ребенок!
В конце концов ей стало ясно, что он исчез безвозвратно, и она поняла, что это было, пожалуй, наилучшим исходом. Борьба за существование и без того тяжела, но было бы еще тяжелее, если бы Дитте пришлось вдобавок ко всему еще заботиться о Георге. И после того как она перестала носить под сердцем его ребенка, она как-то невольно изменила свое отношение к Карлу. Он все больше занимал ее мысли, — если он долго не заглядывал, она начинала беспокоиться о нем. Карл был силен духом, и она смотрела на него снизу вверх. Как чудесно было бы снять с себя ответственность и подчиниться его воле! Но, если она любила его, почему же не могла показать ему свое расположение? Не потому ли, что между ними легло слишком многое?.. Дитте сама этого не знала, знала только, что что-то мешает ей смягчиться, сдаться. Так почему бы Карлу не помочь ей — не обнять ее властной рукой?.. Дитте даже говорила себе подчас: какой же это мужчина!..
Карл был прав: фрекен Йенсен действительно оказалась эксплуататоршей. Работая прямо на магазин, Дитте могла иметь порядочный заработок, — были бы только заказы. Но трудные времена заставили многих рабочих экономить и обходиться в будни простой блузой. Таким образом, Дитте нельзя было совсем перестать ходить на поденщину. К счастью, она еще не упустила своих лучших мест. Но большую часть недели она все-таки проводила дома с детьми и могла сама присматривать за ними.
А это оказалось далеко не лишним; они были изрядно запущены, как она убедилась.
Как-то Дитте раньше обыкновенного вернулась домой с работы, и оказалось, что Анна сбежала. Это и раньше случалось, только Дитте об этом не рассказывали, — Петер и старуха Расмуссен успевали вовремя изловить и водворить беглянку на место. Дитте страшно испугалась, сбросила передник и кинулась на улицу, обежала весь квартал, расспрашивая всех встречных ребятишек. Могло ведь случиться несчастье! Одна мысль об этом сводила ее с ума! В лучшем случае, если девочка цела и невредима, она может попасть в полицейский участок! При этой мысли из груди Дитте вырвался болезненный стон, и пришлось ей остановиться и перевести дыхание, прижимая рукою сердце, невыносимо занывшее. Полиция непременно разорит ее гнездо, если доберется до него. У Дитте ведь не было разрешения, и она не имела права держать приемышей!
С плачем вернулась она к себе во двор в надежде застать ребенка дома. Но Петер со старухой смотрели из окна вниз, и по их лицам она поняла, что Анна не возвращалась.
Делать нечего! Придется идти в полицию, добровольно положить голову на плаху! Она поднялась наверх, чтобы переодеться.
— Она уже убегала один раз, — сказал Петер про сестренку. — Но тогда мне удалось поймать ее.
Старуха сделала ему знак.
— Как, разве она уже убегала раньше? — вырвалось у Дитте.
— Да, я нагнал ее уже в конце Дворянской улицы. Она сказала, что идет к бабушке.
Дитте помчалась в Новую слободку, где жила родственница Свенсенов, старая вдова лоцмана, получавшая пенсию. Ей было за восемьдесят лет, и она большую часть времени лежала в постели; девочка была у нее раза два еще вместе с отцом.
Не верилось, что крошка до сих пор помнит старуху, и нелепо было предполагать, чтобы она добралась до Слободки. Но, слава богу, она оказалась там, и старуха только что собиралась отправить ее домой с соседским мальчиком.
— Как ты меня напугала, девочка, — сказала Дитте на обратном пути. — У меня даже сердце заболело!
Она шла, прижимая руку к груди, чтобы заглушить боль. Вернувшись домой, она должна хорошенько всыпать девчонке! Да и старухе Расмуссен задать головомойку, чтобы не приучала детей скрытничать и таиться от матери. Дитте была очень сердита.
Но возвращение домой заняло довольно много времени. Дитте была слишком измучена страхом и беготней. И когда они дошли, гнев ее успел остыть, чему она сама была рада, иначе она опять вышла бы из себя и потом опять каялась бы. Теперь же она отделалась одним испугом. Расмуссен — славная, простая старуха и старалась по мере сил, да не всегда могла справиться с детьми. Что касается ребенка, то сколько раз сама Дитте в детстве удирала из дому, к бабушке! И ей бы всякий раз влетало за это, если бы Ларс Петер не заступался за нее.
Ларс Петер! Да, вот кто был добр и снисходителен! Он всегда отводил от нее удары. А как она отблагодарила его? Злом за добро! Дитте внезапно охватило раскаяние. Пережитые только что испуг, гнев и чувство облегчения внезапно перешли в угрызения совести и вызвали потребность искупления. Она была так признательна судьбе за благополучное возвращение Анны домой, что готова была взять на себя всякую вину и просить прощения у кого угодно. А так как Сине была единственным человеком в мире, который, по ее мнению, поступал с нею несправедливо, то она и решила мириться с ней. Экая беда в самом деле, что Сине хотелось выбиться в люди! Она была работящая, домовитая, и Ларс Петер нашел в ней хорошую жену во всех отношениях. Дитте просто завидовала ей, вот и все!
Когда дети улеглись, она отправилась к родным. Застала их уже за ужином; настроение в доме было несколько подавленное. Эльза с женихом по обыкновению перебранивались; сущие дети — как сойдутся, так и сцепятся, а врозь им скучно! Эльза, по-видимому, слишком много танцевала накануне с другим кавалером, и Яльмар обиделся.
— Я отлично видел, как он потом сидел и пожимал тебе руку! — упрекал он Эльзу с мрачным видом.
— Ах, замолчи, пожалуйста! Нечего тебе попрекать меня, — отвечала Эльза. — Ты сам поцеловал Мари в шею, когда помогал ей надевать горжетку. Думаешь, я не видела?
И они продолжали в том же духе. Кончилось тем, что Эльза ушла на кухню и там разревелась.
— Нечего сказать, хороши вы оба! — говорил Ларс Петер, переводя взгляд с одной на другого. Он не мог с ними ничего поделать. Сине молчала.
Вскоре, однако, Эльза с женихом помирились и отправились вместе в театр.
— Ах, хорошо иногда отдохнуть! — сказал Ларс Петер после их ухода. — Можно и расположиться поудобнее!
Он придвинул к лампе кресло и уселся в него с газетой. Когда будущий зять бывал у них дома, то всегда садился в кресло.
— А зачем он вечно торчит у вас? — спросила Дитте.
— Да видишь ли, ему больше и деваться некуда. Кроме того, они друг без дружки ни на шаг. И заработок у него маленький, а чтобы мальчишка не пропал, пришлось его пригласить столоваться у нас.
— Да вы бы прямо поселили его у себя, — с легкой иронией заметила Дитте.
— Мы с матерью толковали об этом, — серьезно ответил Ларс Петер. — Но ведь кто их знает, может, еще и разойдутся? Так лучше, пожалуй, не сближаться так рано.
Дитте кое-что смекнула. Но не ей было подавать свой голос, и она промолчала.
По некоторым признакам видно было, что дела у отца пошатнулись.
— Как идет торговля? Неважно? — спросила она.
— Так себе, — ответил Ларс Петер, — Нашим покупателям теперь приходится слишком туго, им теперь не до покупок.
— Отец слишком дорого покупает вещи сам и слишком дешево продает их, — вставила Сине.
— Не всякому приятно наживаться на чужой беде, вот в чем загвоздка! — сказал Ларс Петер. — Мало радости в том, что люди тащат тебе последнее — перину или что-нибудь такое, без чего им самим нельзя обойтись в такие холода! Покупаешь скрепя сердце, где же тут еще прижимать их в цене!
— Да! И отец часто дает им деньги, а вещей не берет, когда видит, что они продают самое необходимое.
— А они идут в лавку напротив да продают вещи нашему конкуренту прямо под носом у меня. Не очень-то это приятно!
Сине засмеялась.
— Ну, значит, не надо так поступать!
— А как же быть? Ведь не хочешь же ты, чтобы мы драли шкуру с бедняков?
Нет, этого Сине не хотела.
— Но я знаю, что нельзя разговаривать, набрав полный рот воды. Те, кто поприжимистее, процветают, а мы разоряемся. Что же ты думаешь, бедняки выиграют, если мы в трубу вылетим?
— Да, в том-то и беда!.. И нам есть тоже хочется! Но скверно, когда приходится жить чужой бедой, как вот нашему брату, старьевщику.
Ларс Петер совсем приуныл.
Но тут Сине пошла в спальню и вынесла проснувшегося ребенка. Ларс Петер сразу повеселел. Сама Сине опять была в положении. Дитте почему-то неловко стало, когда она подумала, что у них продолжают рождаться дети, но вместе с тем и любо было глядеть, как оживал и молодел отец, нянчась с малышом. Он подкидывал ребенка и хохотал от восторга. А малыш вцеплялся отцу в венчик уцелевших волос, слюнявил губенками его круглую лысину и визжал от удовольствия. Таким вот помнила Дитте отца с тех пор еще, когда сама была маленькой, — громогласным и веселым! И все малыши всегда были без ума от него. А задолго до того, как она его узнала, он водился и нянчился с другим выводком ребятишек, который таинственным образом исчез из его жизни, — как именно, Дитте никогда и не довелось узнать.
Ларс Петер ни чуточки не менялся!
X Поздравитель открывает свои карты
Господин Крамер был последнее время какой-то странный. С ним что-то случилось, — он не кутил по вечерам, рано приходил домой и заваливался спать. Бывало, что он вовсе не вставал и дремал весь день, укрывшись с головой. В комнате было холодно, а кровь уже не грела его. «Слишком голубая! — говорил он. — Мы ведь старинного рода! По одному носу это уже видно!»
Дитте приносила ему газету, но Крамеру читать не хотелось.
Правда, он принадлежал к хорошей семье, но что толку, если она допустила его до гибели. Права была старуха Расмуссен, говоря, что чем меньше родни, тем лучше.
Однажды его притащил домой Червонная Борода, — с Крамером случился припадок на Новой Королевской площади, и он едва держался на ногах. К счастью, слабоумный оказался поблизости и помог ему, иначе полицейские сдали бы его в богадельню как бродягу. Когда Поздравителя укладывали в постель, он трясся всем телом, как больной пес.
— Водочки ему не хватает, — шепнул Червонная Борода.
И хоть он и был слабоумным, Дитте готова была признать, что он прав.
Вот и пришлось Поздравителю слечь, как он сам себе напророчил во хмелю, а Дитте угощать его овсянкой.
— Выкиньте его вон! — советовали соседки. — Охота сам кормить взрослого человека — такого дармоеда! Ежели это у него поплексия, так он может пролежать таким манером лет двадцать! Дайте знать полиции, и пусть его возьмут в больницу.
Но Дитте не могла на это решиться. Он был ее жилец, и она жалела его. Возможно, что он по своей вине дошел до такого состояния, — вел жизнь, прямо-таки сказать, безобразную, шатался по трактирам и никогда не ел вовремя. Но не в характере Дитте было доискиваться, кто и в чем виноват; начни только разбирать, по чьей вине люди впадают в нищету, конца не будет. Крамер нуждался в помощи, и этого было для нее достаточно.
Но трудно было понять, чем он, в сущности, болен. Карл знал одного врача, который был на стороне недовольных рабочих и не потребовал бы платы, если бы его позвали к больному. Но Поздравитель и слышать об этом не хотел. Ему было решительно все равно, что с ним будет, и он сам над собой подтрунивал.
— Вы ведь слышали, чем я болен? Идиот шепнул вам об этом! — злорадно говорил он. — Мало вам разве, что сам идиот это сказал?
В другой раз он постучал в стенку и встретил Дитте с самой торжественной миной.
— Откровенно говоря, вам бы хотелось знать, чем я болен? — серьезно спросил он. — Так знайте же! У меня заражение крови, злокачественное отравление организма. Я отравился в тот день, когда очутился лицом к лицу с ее милостью, моей бывшей супругой. Этого мой организм не вынес.
Дитте приходилось подкармливать его, чтобы не дать умереть от голода.
— Ну, как поживаете, господин Крамер? Не встанете ли сегодня? — спрашивала она по утрам, принося ему кофе.
— Право, не знаю. И для чего мне вставать, скажите на милость?
— Чтобы попробовать заработать немножко денег, подышать свежим воздухом. А то вы этак помрете.
— Ну, и что же? Кому от этого какой вред?
Днем она заходила к нему опять и приносила чего-нибудь горяченького.
— На кой черт это нужно? Ешьте сами вашу стряпню и оставьте меня в покое! — обыкновенно ворчал он. — Не желаю я вовсе ваших милосердных супов!
— Да ведь пьете же вы утром кофе? — находчиво возражала Дитте.
— Ну, это, черт побери, другая статья. Это входит в плату за комнату, — отвечал он сердито.
Это было верно, но он ведь и за комнату не платил, стало быть, разницы никакой не было. Дитте оставляла ему кушанье, и, когда заходила снова под вечер, все оказывалось съеденным. Жилец лежал и злился про себя.
— Что, торжествуете? — спрашивал он. — По глазам вашим вижу, как вы злорадствуете. Для женщин высшее счастье поставить на своем, даже если это им самим во вред. Знаете, что вам следовало бы сделать, фру Хансен? Выкинуть меня на улицу. Ведь за комнату я все равно вам не заплачу, даже если бы вдруг сделался миллионером. Поняли?
— Вы это только так говорите. Совсем вы не такой злой, каким прикидываетесь. На самом деле вы…
— Ну, кто же я на самом деле? Ну? Что же?
— Нет, это я просто так! — Дитте плотно сжимала губы, теперь ей хотелось подразнить его.
— Ах, просто так? Сказать вам, что вы подумали? Что я на самом деле честный простак. Но это ложь. Иначе я не валялся бы здесь. Честными людьми не пренебрегают, ими пользуются. Но вы добры до глупости, а потому я вас терпеть не могу. С добрых дураков надо шкуру драть!
— Это и без вашей помощи делается, — отвечала Дитте и уходила, захлопывая за собой дверь.
— С живых, с живых с вас драть шкуру! — кричал он ей вслед.
Дитте делала вид, что не слышит.
Так он лежал и молол всякий вздор. Трудно было решить, серьезно он болен или просто в нем желчь расходилась.
— Вы, пожалуй, верите в справедливость, фру Хансен? — спросил он Дитте однажды утром.
— Право, не знаю хорошенько; может быть, и верю, — ответила Дитте.
— А я знаю, что верите. Нечего нам плясать друг перед другом на задних лапках! Во всяком случае вы верите, что нужно быть справедливым и милосердным, черт побери! Нужно жалеть несчастных и помогать им, — таким вот опустившимся субъектам, как Поздравитель, не правда ли? Особенно тем, кто опустился, — это ведь так трогательно! А знаете, что это на самом деле? Я всю ночь сегодня думал об этом и убедился, что все это ерунда. Что, собственно, значит: человек опустился? Продай я свою совесть дьяволу за хорошую цену, никому в голову не пришло бы говорить, что я опустился. А вот если я устоял перед искушением, захотел держать свой свиной хлев в чистоте, взяв на себя все последствия, — это значит, что я покатился под гору, стал отпетым неудачником. Как тут не запить?.. Возьмем, к примеру, вас самих. Вы довольно бестолковы, но сердце у вас на месте, вы самая порядочная женщина во всей нашей «Казарме». Да, да, это так! Но вы моете и чистите лестницы и прочее, а это занятие неблагородное, даже для обитателей такой трущобы, как наша. И в результате вас называют не фру, а поломойкой; самая последняя бабенка в доме считает себя вправе глядеть на вас свысока! «Вы-де какая-то поломойка, не забывайтесь!» Как тут не запить? Люди — порядочная сволочь!
— Да, некоторые, пожалуй, — согласилась Дитте.
— Нет, все! Вот в чем горе. И кое-кому следовало бы сделать это открытие несколькими годами раньше, тогда не пришлось бы мне валяться тут, пьяному, с больной печенью! Но бог или сатана, сотворивший Крамера, создал его оптимистом, то есть своего рода идиотом, верующим в добро. Он считал себя ответственным за свои поступки, как существо высшего порядка, созданное по образу и подобию божию, — у него, видите ли, высокие идеалы. Черт знает, впрочем, откуда они у него веялись? Только не от окружающих. Наоборот, он несколько сторонился всех, был чудаком, вот и прослыл идеалистом. Помилуйте, шапку долой перед благородным образом мыслей, — лишь бы это не доводило человека до глупостей. Все, так сказать, с часу на час ждали, что я непременно выкину какую-нибудь глупость.
Но все шло благополучно, несмотря на идеалы. Я сдал свои экзамены, получил хорошее место, женился на богатой, шикарно обставил свой дом — все это несмотря на идеалы, как уже сказано. Идеалы-то еще не подвергались серьезному испытанию! И окружающим такое «совместительство» даже внушало уважение. Оказывается, идеалы могут уживаться с богатством. К тому же идеалы украшают жизнь, — значит, стоит обзаводиться ими. Видали вы свинью с золотыми коронками на зубах. А я видел. Как тут не запить горькую?
Но час испытания настал, — дело шло о какой-то несчастной телеграмме. Крупный спекулянт, основавший большое телеграфное агентство, считал себя вправе первым просматривать все телеграммы, даже адресованные его конкурентам. Для того, главным образом, он в основал агентство, а вовсе не ради пользы отечества и не из чувства патриотизма, как говорилось для красного словца. Но главный его помощник, идиот, вообразил, что тайна телеграфа священна, и уперся на этом.
— Да ведь это же правильно! — воскликнула Дитте. — В чем же тут идиотство?
— Правильно… по мнению идиота, разумеется! Словно мне-то не все равно было, кто кого слопает: свиньи — псов или псы — свиней! Бог мой, до чего я был глуп тогда! Разумеется, я знал, чем рискую, чувствовал себя, когда меня спустили с лестницы, героем, мучеником за справедливость. И отправился искать себе новую службу, чуть не лопаясь от гордого сознания своей правоты, — ведь все должны были с распростертыми объятиями встретить такого героя! Однако, извините, везде отказ! У могущественного финансиста руки длинные, — никто не смел взять героя к себе на службу. Даже конкурент, тот самый, которого собирались разорить с помощью его собственных биржевых телеграмм, и он только пожал плечами. Да-а, он что-то такое слышал и, пожалуй, готов похлопотать за меня, чтобы меня вернули на прежнюю должность, если я дам обязательство выдавать ему телеграммы моего принципала! Вот они все какая сволочь! Как честный человек я был ему не нужен, а как сыщик — пожалуйста. Ну, как не запить, черт побери!
— Почему вы не обратились в газеты? — спросила Дитте. — Они ведь заступаются за невинно обиженных!
— Газеты! О святая простота! — Крамер возвел глаза к потолку. — Я, впрочем, обращался в газеты, невинное дитя! Я сам был тогда простаком. Но всюду встретил отказ. Мне отвечали, что пресса не может нападать на одного из лучших сынов отечества. И, вероятно, позвонили всемогущему человеку, чтобы заработать кое-что на этой истории. Потому что однажды во всех газетах появились заметки о сумасшедшем субъекте, которого великий финансист уволил за сомнительное поведение и который в благодарность за то, что избежал законного возмездия, преследует его превосходительство и чуть ли не угрожает его жизни. Всем было ясно, что это обо мне, и мне разом были отрезаны все пути. Даже мои близкие начали понемножку убеждаться, что я свихнулся. Правда, ведь все ожидали, что это случится рано или поздно. Со мной перестали считаться в обществе и даже в собственной семье, жена начала придираться ко мне и восстанавливать против меня девочек, а в один прекрасный день они все переехали к старикам. Игра была кончена.
Вот когда я действительно свихнулся. Знаете, что я сделал? Я купил большой букет цветов и отправился с ним к его превосходительству. У него была целая толпа поздравителей по случаю какого-то торжества, я привес ему свое поздравление в самой язвительной форме. «Благодарю, — сказал он, улыбаясь, — большое спасибо!» — и протянул мне бумажку в сто крон. Вот тебе и на! Опять он вышел победителем. Ну, как тут не запить, черт побери!..
Я так и сделал. Напился, как свинья, чтобы сравняться со всей этой сволочью. «Ты не можешь с ними конкурировать, пока не вываляешься в грязи», — говорил я себе.
Вот откуда и появилась у меня мысль ходить с поздравлениями. Это давало недурной заработок, особенно вначале, потому что я как бы поворачивал нож в собственной ране у всех на глазах. И они скорее хватались за кошельки, чтобы откупиться от этого зрелища. Я обошел их всех по очереди и, разумеется, подносил им не самые дорогие цветы… Но понемногу все позабыли, с чего, собственно, началась история, и видели перед собою только жалкого субъекта, от которого можно откупиться одной кроной.
— Я думала, что вы больше ходите к артистам, писателям, вот к таким людям, — сказала Дитте.
— Да, но это уже позднее, когда дела пошли хуже и приходилось ничем не брезговать. Да, можете поверить, я дорого расплатился за свою веру в людей. Существует всего два рода людей — честные и мошенники. И мошенники удерживаются наверху, остальные идут ко дну, — слишком уж они тяжеловесны. Ваш жених хочет, кажется, перестроить общество? Я слышал кое-что сквозь стенку и много смеялся над этим.
— Карл Баккегор вовсе не жених мой, — сказала Дитте, краснея.
Крамер отмахнулся.
— Пожалуйста без откровенностей. Он социальный реформатор — вот что меня в данном случае интересует. А вы знаете, что тянет пролетариат книзу? Честность. Искорените честность, и проблема решена.
Так он лежал и болтал. Он стал очень покладист, душа его как будто смягчалась со дня на день. Но вместе с тем он слабел и физически. Несколько дней спустя он вдруг раскаялся в своей откровенности.
— Нагородил же я вам вздору на днях, — сказал он. — Надеюсь, вы не всему верите, что вам плетут?
Но Дитте знала, чему верить. Тетке Гейсмар было кое-что известно про его семью. И она могла кое-что порассказать о нем, если навести ее на этот разговор. Крамер был женат на дочери крупного лесопромышленника из какого-то приморского городка. Обе его дочери уже вышли замуж за офицеров и получили от деда с бабкой огромное приданое.
Странно было, что Крамер так вдруг разоткровенничался. В алкоголе он, по-видимому, не чувствовал больше потребности. Зато стал словоохотлив. Дитте приходилось брать с собой работу и сидеть у него. А он лежал и рассказывал на своем гнусаво-картавом трактирном жаргоне о всевозможных проделках, на которые пускался, чтобы добыть деньги. Артистам и певцам он подносил букеты от «неизвестных поклонниц, скрывавших свои имена» — но причине их высокого положения, разумеется! К начинающим писателям являлся в качестве первого выразителя восторгов всей нации. Дерзал даже пробираться во дворец в качестве «представителя великого безыменного народа».
— Просто ужас что такое! — смеялась Дитте. — Откуда это бралось у вас? Другому бы вовек не додуматься!
— Ужас! Нет, это было настоящее благодеяние. Мало кто доставлял ближним столько радости, как Поздравитель. А что он получил за это? Да, для этого нужно было поработать головой! Приходилось все расширять и расширять круг знакомств, чтобы не очутиться в тупике. Нельзя ведь было показываться слишком часто в одном месте. Словом, я создал совсем новую отрасль отечественной промышленности. Жаль, что некому унаследовать это предприятие после меня! Знаете что? Пойдите после обеда и заложите мой костюм.
Нет, Дитте и слышать об этом не хотела.
— Вы не можете обойтись без него, вам выйти не в чем будет! — сказала она.
— Мне все равно не встать больше, — возразил он. — Я отжил свой век. И с восторгом думаю об этом. Часто ловлю себя на том, что лежу и прямо радуюсь мысли развязаться со всей этой ерундой. Право, недурно будет присесть на краешек мокрого облака и, распевая «аллилуйя», наплевать на весь этот кавардак внизу!
После обеда, когда Дитте не было дома, он уговорил старуху Расмуссен пойти заложить его костюм.
— Захватите заодно сапоги, и шляпу, и палку, — сказал он. — Тогда нечего будет опасаться, что я стану бродить тут привидением!
Он остался в одной рубашке.
Но через день или через два он все-таки встал с постели и выбежал в коридор в одном белье. У него был припадок. Женщинам пришлось послать за подручным булочника, чтобы уложить больного в постель. «Этот ютландец такой солидный, он справится!» — говорили они, и, правда, Лэборг преспокойно взял Поздравителя на руки, словно малого ребенка, и отнес его прямо в постель. Теперь Дитте была не прочь отправить жильца в больницу, она не решалась больше оставаться с ним по ночам. Но это легче было сказать, чем сделать. Сначала нужно было достать записку врача о необходимости больничного лечения, а потом еще дождаться места. Это могло затянуться до бесконечности. Старуха Расмуссен лишь год спустя после смерти своего мужа получила извещение, что он может быть принят в больницу.
— Все это легко устроить, если есть знакомый полицейский, — сказала тетка Гейсмар. — Полиция все может!
Шурин извозчика Ольсена был постовым полицейским, за ним и послали. А он вытребовал из больницы карету и отвез туда Поздравителя.
— Теперь они должны принять его! — сказала тетка Гейсмар, глядя вслед карете, собравшей толпу зевак и во дворе, и на улице.
— Наконец-то вы избавились от него, фру Хансен!
Дитте ничего не ответила, отвернувшись от них и тоже провожая взглядом карету. Лицо ее передергивалось. Тяжелою поступью вернулась она к себе, вошла в комнату Поздравителя, присела на край постели и заплакала.
XI Изо дня в день
Опять наступила зима со снегом, стужей, морозами. Слишком скоро миновало лето. Только успели выкупить одежонку, как снова закладывай! В каморке старухи Расмуссен не было печки, да и чем стала бы она топить? Старуха дрогла по ночам — кровь уже не грела ее, и сколько она ни накидывала тряпья поверх перины, все равно было холодно. Вода замерзала у нее в кувшине и в ведре. Дитте решила перевести старуху в комнату Поздравителя, там вообще теплее, и, кроме того, можно было на ночь не затворять туда двери из жилой комнаты, откуда все-таки тянуло немножко теплом.
— Пока что! — сказала Дитте. — А если Крамер вернется, мы уж придумаем, как все устроить, бабушка!
— Да, пусть все-таки Крамер знает, что ему есть куда вернуться, если он понравится. — Впрочем, на это было мало надежды. Дитте два раза навестила его в больнице, — ему становилось все хуже и хуже.
Но так хорошо было, что старуха тут же рядом: по крайней мере, ее слышно ночью, и Дитте стала спать спокойнее. Да и Карл теперь мог отказаться от своей комнаты на стороне и перебраться в чуланчик старухи Расмуссен. И деньги оставались в кармане, и Карл был поближе. Важно всем объединиться против общих врагов — холода и безработицы, — они хоть кого заставят призадуматься.
Все это время у Карла не было постоянной работы по специальности, и он перебивался случайными заработками: бегал то на Рыночную площадь, то в Порт, то на Охотный рынок — всюду, где могла подвернуться работенка. Ни себя, ни башмаков не жалел и опять спустил весь жирок, что нажил за лето. Настроение, однако, у него было бодрое. Дитте радовалась, — большую часть своего заработка Карл все-таки оставлял здесь, и теперь она могла отплатить ему хоть какими-нибудь заботами. Вечера он — если не уходил на собрания — проводил в общей комнате: читал или писал статейки для газеты, которую безработные сами выпускали раз в неделю.
— Какой, в сущности, прок от ваших собраний? — сказала как-то раз Дитте. — В прошлом году вы тоже собирались, а безработных в этом году еще больше. Что вы там ни говорите, ни делайте, хозяева и в ус не дуют!
— Да, большого впечатления это на них, пожалуй, не производит, — согласился Карл. — Но мы, по крайней мере, сами себе не даем задремать… и, наверное, кое-кого пробуждаем от спячки. Пока в человеке кипит злоба, он еще не совсем пропащий! Кроме того, «Самаритяне» все-таки открыли в этом году свои столовые раньше прошлогоднего, и газеты трубя вовсю, призывая помочь безработным. Так что, видно, все-таки побаиваются нас.
— Скорей, пожалуй, нужда смягчила людям сердца, — предположила Дитте.
— И это может быть. Во всяком случае они должны все время видеть нуждающихся, чтобы задуматься о них. На собаку, которая забьется в свою конуру зализывать раны, никто и внимания не обращает. Поэтому мы собираемся устроить демонстрацию — шествие наиболее нуждающихся безработных с женами, детьми и хорошо бы со всем скарбом. У большинства ведь не больше добра, чем может уместиться на ручной тележке. Хочешь участвовать? Кажется, это будет в сочельник, когда люди вообще становятся добрее, чем обычно.
Нет, Дитте не хотела выставлять напоказ свои лохмотья. Она предпочитала перебиваться как-нибудь сама.
— И к чему вы это затеваете? — спросила она. — Удивительно!
— Мы хотим заставить уважать лохмотья и попугать филантропов. Не мешает им посмотреть, сколько нас. Но, может быть, выгоднее дождаться настоящей зимы. Теперь, пожалуй, рановато.
— Ты словно спекулируешь на всей этой нужде и нищете! — сказала Дитте с оттенком упрека.
— Ну, да! У нас в деревне, среди «братьев» всегда проповедовалось, что нужда и страдания посылаются людям, чтобы обратить их к богу. Но я только теперь понял смысл: голодающих физически надо превратить в алчущих духом!
Дитте внимательно слушала. Она начинала уже находить в речах Карла более глубокий смысл и перестала пренебрегать ими, как раньше, когда думала, что в них заключается что-то религиозное.
— А что же ты сделаешь с беднягами, которые не могут стать алчущими духом, а только требуют себе кусок хлеба, когда голодны, как я, например? — опять спросила она серьезно.
Карл взглянул на нее с радостным изумлением. Впервые Дитте не отклонила такого разговора, а заинтересовалась его идеями.
— Тебя-то нам не приходится будить. Напротив, ты нас будишь!
— Я? Да я ровно ничего не смыслю во всем этом! — с испугом ответила Дитте.
— Да, ты, потому что ты всегда одинакова — и в счастье и в несчастье. Очутись ты на троне или в яме, ты была бы все та же. Тебя переделать нельзя, да и не нужно, потому что мы в некотором роде следуем за тобой. Пусть бы все сердца в мире бились, как бьется твое сердце, тогда бы на земле стало хорошо!
— Ну, навряд ли, — возразила Дитте, — мое сердце все больше и больше дурит. Иной раз как будто выскочить хочет, а то вдруг совсем замрет… Но теперь я пойду, добуду немножко хлеба, и напьемся кофе. — Дитте накинула платок на голову. Они питались это время главным образом хлебом и кофе.
— А я пойду навестить старика тряпичника, — сказал Карл. — Его что-то давно не видать.
— Заодно позови старуху Расмуссен с ребятишками пить кофе, — сказала Дитте. — Они на чердаке белье вешают. Да захвати с собою тряпичника, если застанешь его. И вели старухе поставить кипятить воду! — крикнула она уже с лестницы.
В булочной стояла учительница и покупала сдобу к послеобеденному кофе — сладкие подковки и венские булочки. Она была на сносях и ничуть не старалась скрыть это, — напротив, прямо как будто кичилась своим положением и не понимала, как это вообще можно говорить о чем-либо другом.
— Как вы себя чувствуете, фру Лангхольм? — спросила булочница.
— Ах, я никогда еще не чувствовала себя так хорошо, — ответила та блаженно. — Я готова вечно ходить в положении!
— Ох, боже избави! — невольно воскликнула жена извозчика Ольсена. Разумеется, она не принимала участия в разговоре, и это просто сорвалось у нее с языка.
— Да, мадам Ольсен родила восьмерых детей! — пояснила булочница. — Так ведь?
Мадам Ольсен кивнула.
— Но живот у меня никогда так не торчал. Я немножко подбирала его.
Фру Лайгхольм с гордостью взглянула на нее:
— Я свое бремя несу прямо перед собой. Это и моему мужу больше нравится. И всего здоровее так — и для матери и для ребенка. Ему тогда больше места. А по-вашему как, фру Хансен?
Дитте не знала, что ей ответить.
— Кстати, послушайте, мне бы хотелось пригласить вас к себе, пока я буду лежать. Вы такая ловкая, за все так умело беретесь. У вас было много детей?
— Я с детских лет нянчилась с ребятишками, — ответила Дитте, смущенная и обрадованная такой похвалой и вниманием.
— А мы рады, что у нас нет детей, — сказала булочница. — Хоть этой-то заботы нет, — чем и как прокормить их! И без того туго приходится.
— Да, вы ведь скоро закрываетесь? Неужто правда, дела так плохи? Нам очень грустно расстаться с вами!
— Да вот, мы бились пятнадцать лет и ничего не нажили. Муж мой хочет пойти в пекаря… По крайней мере, каждую неделю будет жалованье получать.
Дитте держалась в сторонке, — ужасно неловко просить в долг при людях. Понемногу все разошлись, и тогда она подошла со своей просьбой.
— Стало быть, записать, — сказала булочница. — Я уж давно догадалась, глядя на вас. Знаешь ведь своих покупателей. Да, за вами уже есть должок!
— Только до субботы, — попросила Дитте. — Я сдам заказ и расплачусь за все сразу.
— Вообще-то мы больше не отпускаем в долг, — нам не по средствам. Но вам трудно отказать, вы сами такая отзывчивая на каждую нужду. И покупаете только простой хлеб, когда сидите без денег. Большинство же думает: раз в долг, так можно и сладенького. Это ведь большая разница.
Дитте, веселая, с легким сердцем, побежала домой с хлебом. Но в воротах столкнулась со сборщиком взносов за машину, и сердце ее так и упало.
— Я был у вас, — сказал он.
— Ах, у меня сегодня нет денег, — сказала Дитте, едва переводя дух. — Нельзя ли подождать до субботы, — тогда я все заплачу.
— Хорошо, — сказал он. — Но опасно запускать платежи, помните! — Он стоял и посмеивался над ее испугом. — Ну, ну, мы ведь не людоеды! — прибавил он, пряча квитанцию обратно в бумажник.
Как она, однако, перепугалась! Ноги дрожали и положительно подкашивались под ней, когда она подымалась по темной лестнице флигеля.
Старуха Расмуссен уже приготовила кофе Он стоял на печурке, распространяя чудесный аромат. Малютке Георг сидел у нее на коленях, а двое других ребят слушали сказку, стоя возле старухи и жадно глядя ей в рот. Он особенно притягивал к себе их внимание, — ни одного зуба и полон самых чудесных сказок!
Дитте сразу бросилась к швейной машине и погладила ее, словно не веря своим глазам, что она еще тут.
— Да, он сейчас только заходил сюда, сборщик, — сказала старуха Расмуссен. — Но пока он еще очень милостив.
— Я встретила его в воротах и так перепугалась, что едва на ногах устояла. Но я получила отсрочку, как и в прошлый раз. А в субботу, стало быть, необходимо выложить денежки — откуда хочешь бери.
Старуха кивнула с таким видом, как будто об этом только и думала все время.
— Сколько ты уже выплатила за машину?
— Пятьдесят крон, бабушка! — с гордостью ответила Дитте и ласково провела рукой по машине.
— Так будь спокойна, еще слишком рано отбирать ее у тебя. Они выпускают когти, когда большая часть суммы уже выплачена. Пока им просто не выгодно отбирать. Но берегись!.. Знаю я этих продавцов в рассрочку. Они, может быть, нарочно прикидываются такими добродушными, чтобы успокоить тебя. Это как кошка играет с мышкой: вдруг возьмет да и цапнет.
Старуха пуще всего на свете боялась этих «рассрочек». Но Дитте не принимала ее слова всерьез.
— Вы всегда так мрачно смотрите на все, бабушка! — сказала она, обняв старуху за шею.
— Ну, ну, увидим, — отозвалась та.
— Но куда же запропастился дядя Карл? Кофе остынет ведь. Сбегайте-ка за ним, дети! — сказала Дитте, но в эту минуту Карл сам вернулся.
— Тряпичника нет дома, и даже тряпья в его углу не оказалось.
— Должно быть, управляющий вышвырнул его, — предположила Дитте. — Наверное, у него, бедняги, не было денег.
— Я думал, что ему отвели этот угол даром.
— Даром-то даром, только надо было задабривать управляющего.
— Можно нам пойти поиграть во дворе? — спросили дети, когда поели.
— Нет, очень уж там воздух плохой. Я вот приберу в комнате и прогуляюсь с вами. Пойдем в Королевский сад… Нет, впрочем, мне некогда. Но пусть бабушка возьмет вас с собой, когда понесет мою работу.
Дитте вспомнила, что ей надо еще сделать кое-что, пока не принесли новый заказ.
— А в Королевском саду воздух не плохой? — спросили дети.
— Нет, там воздух свежий, приятный.
— Почему же он здесь, у нас, такой плохой?
Этого Дитте толком не знала и ответила:
— Потому что мы бедняки.
Малыши ничего не поняли и обратились к старухе:
— И тут тоже черт виноват?
— Разумеется, черт, — убежденно ответила старуха. — Когда ему больше не на что было наложить лапу, он захотел, чтобы господь позволил ему накрыть всю землю стеклянным колпаком. Пусть-де люди покупают себе воздух, как и все прочее. «А то с какой же стати они дышат задаром? Это неправильно», — сказал он. К тому же, у него остался еще один сын, которому нечем было торговать; все другие были уже хорошо пристроены. Но господь не согласился. «Только один воздух бедняки и получают даром», — сказал он. Тогда черт начал дуть и сдунул весь плохой воздух в кварталы бедняков. «Пусть дышат даром», — сказал он. И на это уж господу нечего было возразить.
— Охота говорить детям такие глупости, — сказала Дитте, принимаясь вертеть колесо машины.
— Что ж, коли не уродилась умнее, — ответила старуха обиженно. — Да и больно стара я, видно, чтобы вообще разговаривать.
Она ушла к себе, и дети за нею, притворив за собою дверь. Тогда никто не будет вмешиваться в их разговоры и называть их глупостями. Они-то знали, кому верить, коли на то пошло.
XII Солидный ютландец
Поздравитель умер. Из больницы приходили к Дитте справляться, не оставил ли он после себя какого-нибудь имущества на покрытие расходов по его лечению и похоронам. Пачка залоговых квитанций — и только! А они ни к чему. Дитте хотела пойти на похороны, но не могла узнать, когда они состоятся. Раз некому было похоронить его на свой счет, его попросту свалили в яму. Он был беспокойным жильцом, но все-таки как-то странно и жалко было, что его нет и не будет больше. При всей своей напускной грубости он был просто большим ребенком.
Но горевать, а тем более оплакивать мертвых, не приходилось, — не такое было время. Коли взвесить все, так умершие оказывались счастливее живых — были по крайней мере пристроены. И по причине ли холодов или страшной нужды только в бедных кварталах смертность в этом году была необыкновенно велика. Так утверждала старуха Расмуссен и до некоторой степени была права.
Однажды утром нашли мертвым и Червонную Бороду: он замерз в своей норе, за каморкой старухи Расмуссен. Днем пришла полиция и взяла его труп вместе со сказочным матрацем. В участке матрац распотрошили, но медных монет в нем не нашли, — стало быть, и это был вздор! Старуха Расмуссен так и думала. Зато матрац оказался набитым длинными волосами, — чего доброго, волосами прежних возлюбленных Червонной Бороды. Ходили такие рассказы в былое время, что он обстригал волосы тем женщинам, с которыми жил. Верно, одна из них в свою очередь и обстригла ему бороду — из мести!.. Как бы то ни было, теперь он умер, и крысы успели заняться им, прежде чем его нашли.
В главное здание тоже как-то раз нагрянула полиция — к миссионеру, обследовать положение ребенка. Видно, кто-нибудь донес. Ребенка нашли в плачевном виде, исхудалым и замученным, и взяли в больницу. При этом обнаружилось, что миссионер с женой вовсе не были родителями ребенка; он был приемыш, за которого им заплатили раз навсегда. Ну, хоть это мучение кончилось. Дитте вздохнула свободнее. Неумолчный плач ребенка надрывал сердце и в то же время мало-помалу ожесточал: оно уже переставало отзываться на чужие слезы.
Но, как говаривала старуха Расмуссен, стоит судьбе развязать свой мешок, — из него так и посыплется одно за другим, без конца. Не успели затворить дверь за одним вестником печали, как на пороге стоял новый!
В тот же самый день, когда утром отобрали ребенка у миссионера, подручный булочника вышел после обеда во двор мыть крытую тележку, в которой развозил булки и хлеб на дом покупателям и по ларькам. И, как всегда, залюбоваться было можно — как он моет. Лэборг держал свою тележку в большой чистоте. Да и сам был такой опрятный и щеголеватый! И трезвый. Недаром девушки-служанки из главного здания все время торчали около кухонных окон. В самом деле, на Лэборге особенно приятно было остановить взор, — когда кругом все было так безрадостно. Говорил он громко, протяжно и с раскатистым «р». Он ведь был родом из Ютландии, из тех бедных мест, где люди с детства приучались глядеть в оба и быть скопидомами. Он был сыном хуторянина, и у него водились деньжонки, хотя жалованье он получал маленькое. Но, конечно, выручали «чаевые».
— Их у него за месяц набежит не меньше жалованья, — говорила булочница. — Но он их честно зарабатывал, он такой солидный.
Ох, и надо же было беде стрястись как раз с ним!
Ведь он действительно был такой солидный… и добрый. Ребятишки его очень любили. Так и вертелись около него, подымая визг, когда он окатывал тележку водой из ведра. Тут им и попадало! Старухи, глядевшие из окон, хохотали, а он со смехом кивал им. Ничуть не важничал. Счастлива будет та, которая заполучит такого мужа! Но у него даже невесты не было. Поговаривали, впрочем, что он сватался за Дитте-поломойку, да получил отказ. Нелепо, но правдоподобно. Уж, видно, она такая уродилась, что замужество пугало ее. А любовников она не боялась заводить! Дитте, окруженная ребятишками, тоже сидела у окна, — и, как всегда, прилежно шила. Лэборг раскланялся с ней. Да, перед ней он ломал шапку! И она ответила на поклон с улыбкой, словно между ними никогда и не было разговору ни о чем серьезном.
И тут-то как раз оно и случилось. Под воротами послышались тяжелые шаги, насчет которых никто из жильцов «Казармы» не ошибался. Все прильнули носами к оконным стеклам. Полицейский направился прямо к Лэборгу, не ответил на его приветствие и положил руку ему на плечо. В первую минуту Лэборг как будто хотел освободиться силой, но, к счастью, сдержался и попытался подействовать на полицейского уговорами. Но не стоило трудиться. Легче, кажется, уговорить Круглую башню{17} сдвинуться с места, чем освободиться из полицейских лап. Пришлось Лэборгу поневоле пойти в участок.
В «Казарме» поднялась суматоха. Женщины одна за другой выбегали с корзинками и молочниками в руках, — всем вдруг понадобилось сбегать в булочную за хлебом и сливками к кофе. Дитте некогда было самой, так она послала старуху Расмуссен. Та вернулась совершенно ошеломленная.
— Нет, видно, скоро свету конец! Ты послушай только! — начала она. — Поверишь ли, он их обдувал! Солидный ютландец обкрадывал их все пятнадцать лет!
Она задыхалась от волнения.
— Как? Лэборг?! — воскликнула Дитте, роняя из рук шитье. — Такой славный, порядочный!..
— Да, вот тебе и на! Да еще со своей аккуратностью сам вел счет своим плутням. У него были две книжки — в одну он записывал все для собственного удовольствия, а другую показывал хозяевам. И вдруг сегодня утром ошибся, сунул им не ту! Прямо чудо какое-то, при его-то аккуратности во всем. Хозяева сначала глазам своим верить не хотели. Глядят в эту удивительную книжку и читают: «Обдул хозяина на две кроны при развесе булок», «Стянул венских булочек и пышек на четыре кроны и продал»… И что там еще было позаписано!.. Он, как видно, не жалел хозяев, нет, грешно сказать. Не диво, что у них никакой прибыли не было, одни убытки, говорит теперь фру Нильсен. Так и заливается слезами, бедняжка. Им ведь приходится закрыть свое дело, и муж должен поступить пекарем из-за этого плута. Лучше бы они сами проели и пропили все, по крайней мере хоть удовольствие бы имели, говорит фру Нильсен. Но я всегда подозревала что-то неладное, как ни солиден он был с виду. Мужчины все подлецы, и самые порядочные с виду часто оказываются хуже всех.
Дитте не могла удержаться от улыбки:
— Неужто вы в самом деле чуяли это, бабушка? Мне кажется, напротив, он всегда был вашим любимцем.
— Ну, да… он всегда так любезно кланялся бедной старухе: «Здрасте, фру Расмуссен…» Поневоле подивишься, бывало, что он величает тебя «фру». Один только он. Но обманывать они все мастера.
Да, на этот счет Дитте была согласна со старухой.
Вообще же она ничему больше не удивлялась. Здесь, в этом мире, надо было глядеть да глядеть в оба, а то как раз тебя надуют — стоит только человеку выйти за ворота своего дома. Если Дитте посылала за покупками маленького Петера, его частенько обманывали, да трудно было уберечься от этого и старухе Расмуссен, — торговцы пользовались тем, что она плохо видела.
Мелким лавочникам квартала туго приходилось. Они ведь прямо друг на друге сидели тут, и продавал каждый из них в день самую безделицу, — так велика была конкуренция. Волей-неволей они плутовали — обвешивали и обмеривали ради куска хлеба. Покупатели, в свою очередь, надували торговцев: не возвращали назад бутылок, взятых без залога, а продавали где-нибудь в другом месте, или набирали товару в долг, а в один прекрасный день переезжали потихоньку куда-нибудь подальше. И особенно жаловаться на все это не приходилось, — сам виноват, гляди в оба! То же самое испытала Дитте с заказами: не проверь только материала, как раз тебе дадут меньше, и покупай потом недостающее из своего скудного заработка. Да, тут приходилось вести настоящую борьбу за существование. И всюду так!
Спокойною чувствовала себя Дитте лишь в своей «Казарме». Что бы там ни говорили про жильцов, — большинство из них действительно было не в ладах с правосудием, но между собой они жили дружно. Помогали друг другу где и чем могли, тесно смыкая фронт против злого внешнего мира. Чуть кому повезет немножко, он тотчас ставит угощение. Деньги как будто жгли им руки, и они торопились поскорее их сплавить, как говорили про них. Пожалуй, оно и было верно до некоторой степени. Бережливыми и предусмотрительными они не были, большинство жило так: что заработал, то и проел или пропил. Но Дитте любила их такими, каковы они были. Попадались тут изредка и люди другого сорта, которые стремились выбиться из нужды, переехать в более зажиточный квартал, например, белошвейка из соседнего дома. Но те были далеко не такие симпатичные.
Сама Дитте не стремилась больше выбиться наверх. Борьба за кусок хлеба изо дня в день достаточно утомляла и голову, и руки. И Дитте укладывалась вечером в постель со вздохом настоящего облегчения, — день прошел, и слава богу. Зато утром открывала глаза навстречу новому дню с некоторым страхом. Она как-то постарела Душой.
Да и на вид не была молода, несмотря на свои двадцать пять лет. Она сильно исхудала, — кровотечения лишили ее полноты и красок. Венозные узлы увеличились, и по вечерам ее ноги сильно отекали. Морщины на лице свидетельствовали о перенесенном горе, ведь позади у нее была уже целая жизнь, трудовая жизнь. Она все это хорошо знала сама и с особым удовольствием вспоминала о том, какою видной и красивой была когда-то, такою красивою, что люди оглядывались на нее на улице! Недолго длился этот расцвет красоты. Она невольно вспоминала и свою раннюю юность, когда так горячо желала и старалась выправиться и похорошеть. Да, быстро отцвели ее счастье, ее внешность и красота, — как те недолговечные цветы, что распускаются и отцветают лишь за одни сутки. Не сама она сгубила свою красоту; ее истощило слишком раннее материнство; венозные узлы и отеки ног она приобрела, служа у господ; морщины на лице — ну, они были добыты разными путями.
Каковы бы ни были причины, Дитте не упрекала ни себя, ни других ни в чем; только чувствовала себя усталой, замученной. Никому не приходило теперь в голову обернуться ей вслед на улице, и за то спасибо! Нарядами похвастать она ведь тоже не могла теперь. И всегда жалась к самым стенам домов, торопясь прошмыгнуть как можно скорее и незаметнее. Строптивого упорства, как у Карла, у нее не было. И когда он звал ее с собой пройтись, она отговаривалась тем, что плохо одета, он тоже не мог похвастаться одеждой, но не забивался из-за этого в угол, а преспокойно разгуливал по самым людным улицам в дырявых башмаках и обтрепанных брюках.
— С какой стати я должен прокрадываться глухими переулками? — говорил он. — Пока я могу напоминать богачам о себе, они обязаны считаться со мной.
Дитте уступала и шла с ним поневоле, но радости от этого не испытывала, прогулка превращалась для нее в мучение.
Одно только поддерживало в ней бодрость — забота о детях, лишь они и привязывали ее к жизни. У Карла иногда создавалось такое впечатление, что Дитте ждет скорой смерти и радуется ей. Порой она так задумывалась, что ее прямо не дозваться было. Но дети умели возвращать ее к жизни. Когда дело касалось их, она выпрямлялась опять, как упругая и крепкая стальная пружина. Дети ее любили, и она этому радовалась, но ей все казалось, что она не стоит их любви. То, что она могла давать им, далеко не удовлетворяло ее.
XIII Швейная машина, перина и «Самаритяне»
Булочник с женою как будто в лотерею выиграли. Во всяком случае, это было для них вторым, по меньшей мере столь же неожиданным сюрпризом: все деньги были им возвращены!
Выяснилось, что Лэборг за пятнадцать лет своей службы в булочной надул их ровно на пятнадцать тысяч крон. У этого молодчика был большой порядок в делах. Денег он не промотал, но часть разместил по разным сберегательным кассам, часть раздал взаймы частным лицам под верное обеспечение и за хорошие проценты; остальное потратил на обзаведение. У него оказалась преуютная для холостяка квартирка, хорошо обставленная, было даже пианино.
Большая часть денег Нильсенам была уже возвращена, остальные им предстояло получить после продажи всей обстановки Лэборга, так что, в общем, большого убытка не было. Фру Нильсен так и сияла — еще бы! Ведь это все равно, что опустошить огромную, битком набитую копилку.
Право, как будто над ними был назначен опекун, который вел за них дело. И, кто знает, скопили бы они что-нибудь, веди они его самостоятельно? Пожалуй, вся прибыль прошла бы между пальцев. Да, вот это был управляющий — пятнадцать тысяч в пятнадцать лет! Рачительный ютландец! И обидно, в сущности, что ему приходится отсиживать в исправительном доме. Нильсены поговаривали уже, что опять возьмут его к себе по отбытии им двухгодичного срока, — «такой он дельный и аккуратный!»…
Другим не везло, для них никто не откладывал в копилку. Во всех этажах среднего и заднего флигелей перебивались с трудом, а кое-где смотрела прямо в лицо жильцам неприкрытая нужда. Неприятная это гостья! Стоит ей переступить чей-нибудь порог, ее уже не выживешь, она и за стол вместе со всеми садится и в постель ложится. Мужчины большую часть дня околачивались у ворот, не зная, как убить время. Под вечер они обыкновенно уходили: некоторые на собрания, где вырабатывали резолюции, выражающие протест против существующих порядков в требующие вмешательства общественных сил; другие не интересовались политикой и отправлялись в трактир. Пока что толку и от того и от другого все равно не было. Побывавшие на собрании прехрабро колотили дома кулаками по столу и грозили расправиться с кем-то, а вернувшимся из трактира и сам черт был не брат. Денег на расходы по хозяйству, однако, ни у тех, ни у других не оказывалось, и жены бегали друг к дружке занимать, но это все равно, что калеке искать помощи у калеки. Бедняжки без устали рыскали всюду, надеясь получить хоть маленькую помощь, но большею частью напрасно. Очень уж много стало нуждающихся и слишком мало средств. Все разговоры о пособиях из приходских попечительств или профессиональных союзов чаще всего оказывались лишь слухами, порожденными слишком пылким воображением.
Вскоре после Нового года к Дитте неожиданно пришли и отобрали швейную машину. Это было как удар грома. Она запоздала с платежами всего на две недели, что не раз случалось и раньше и на что они сами ее, так сказать, подбивали. Дитте обещала достать деньги и внести их в тот же день, но им нужны были не деньги, а машина.
Особенной пользы машина сейчас, правда, не приносила, и можно было обойтись без нее, но Дитте все-таки заливалась горькими слезами и не столько из-за того, что успела выплатить почти все сто крон, которые теперь пропали, но потому, что очень полюбила свою машину. Она была для Дитте добрым товарищем и долгое время кормила семью… Словно за руку верного друга, бралась Дитте за свою машину, принимаясь за шитье. Шум машины служил бы как аккомпанементом думам и заботам Дитте и убаюкивал детей. Когда они засыпали по вечерам, машина все еще строчила, когда они просыпались по утрам, Дитте уже шила. Наконец дети стали думать, что машина работает и день и ночь.
— Мама никогда не спит! — говорил Петер.
Плакала и старуха Расмуссен. Как ни злилась она сначала из-за покупки машины, потом все-таки много раз говорила ей спасибо за кусок хлеба.
Ни Дитте, ни старуха Расмуссен не могли примириться с тишиной и пустотою в комнате, да и малыши тоже. Дитте ощущала утрату всем своим существом — ее рукам не приходилось больше ласкать полированный дубовый столик, или наматывать шпульку, или подсовывать шитье под иголку, ее ногам недоставало размеренного движения, которым они заставляли работать машину. Раздобыв небольшой заказ, она бежала теперь к какой-нибудь знакомой, у которой была швейная машина, — главным образом для того, чтобы опять почувствовать ход машины, услышать знакомое постукивание.
Но вообще дело было плохо, — без машины Дитте не могла больше работать для магазинов, откуда иногда удавалось заручиться заказом сразу на целую дюжину воротничков или на две, если хорошенько постараться, побегать да попросить. Дитте посоветовалась со старухой Расмуссен, и они решили, что можно обойтись без верхней хорошей перины. Это было единственное их достояние, которое можно заложить. И если старухе покрываться вместо верхней перины нижнею, а вниз постелить себе перину из кровати Дитте, то все будет хорошо. Дитте и детям нижняя перина, право, ни к чему, они и так потеют по ночам!.. Хорошую перину завязали в простыню, и Дитте понесла ее к заказчику. Петеру разрешили пойти с матерью и помогать ей нести перину. Его не меньше матери занимал вопрос о швейной машине; славный он был мальчуган, такой заботливый!
— Когда ты опять возьмешь машину, мы уже будем караулить, чтобы ее в другой раз не унесли! — сказал он. — Я все время буду стоять у двери и, если они придут, скажу, что дома никого нет.
Дитте улыбнулась.
— Теперь уже мы не позволим унести ее! — сказала она решительно.
За перину дали десять крон, и Дитте с мальчиком заторопились на площадь Святых братьев, где был магазин. Мороз так и пробирал, но они даже не замечали этого в своем волнении.
— Знаешь, мама, у тебя совсем красные щеки, — радостно объявил Петер.
— И у тебя тоже, мальчуган. Румяные, как яблочки! — ответила Дитте, крепче сжимая маленькую ручонку. — Знаешь, чему я радуюсь? Что мы успеем вернуть машину до возвращения дяди Карла. Он и не узнает, что ее у нас отнимали.
Карл уехал в деревню искать работы. И, как только успевал немного заработать, присылал деньги в письме.
На площади был сооружен большой снежный болван для сбора пожертвований в пользу бедных. Вместо глаз ему вставили два куска угля, а между колен у него помещалась металлическая копилка.
— Можно мне отдать ему мои деньги? Это ведь бедным! — сказал Петер.
— Отдай, милый, — ответила Дитте.
И Петер принялся шарить где-то глубоко между подкладкой и верхом куртки и наконец извлек оттуда завернутые в клочок газетной бумаги три медных монетки по одному эре. Когда он заработал их, сбегав по поручению извозчика Ольсена, и строил бесчисленные планы, на что их истратить; теперь все эти планы рухнули.
Удивительно! Владелец магазина швейных машин как будто и в глаза не видел Дитте. Оказался таким несговорчивым.
— Мы тут ни при чем, — холодно заявил он. — Вы платили неаккуратно, и мы достаточно долго давали вам льготы. Как вы думаете, могли бы мы вести дело, если бы соглашались таскать машины взад и вперед по капризу клиентов? Живо прогорели бы. Но вы можете взять в рассрочку другую машину, — то есть выдав новое обязательство.
Дитте в недоумении глядела на него глазами, полными слез.
— У меня трое малышей… Без машины я не могу… Просто не знаю, что и делать.
Она держала в руке десять крон, словно надеясь, что вид денег умилостивит его, — он действительно так и впился в них глазами.
— Очень жаль, но, право, мы не можем взять на себя призрение ваших…
Он стал перелистывать конторскую книгу с записями, то и дело поглядывая на руку Дитте с зажатой бумажкой.
— Постойте… вы ведь недоплатили, кажется, как раз… Ах вот: за вами восемь крон! Позвольте, я дам сдачи.
И он протянул руку за деньгами.
Но Дитте быстро отдернула свою руку и в ужасе выскочила из магазина, таща за собой мальчика. Лишь по другую сторону площади она приостановилась и оглянулась назад.
— Кровопийца проклятый! — крикнула она, грозя кулаком. — Чтоб тебе самому когда-нибудь обеднеть и хорошенько почувствовать — каково это!
— Я скоплю тебе на новую машину, — сказал Петер. — Я могу зарабатывать, только бы ты отпустила меня.
— Ах ты, добрый мой мальчик! Ты еще слишком мал. Вот когда подрастешь…
— Эйнар не больше меня, а он каждый день ходит зарабатывать. И говорит, что возьмет меня с собой, покажет хорошие места…
Дитте не ответила. Не по душе ей было это. Город такой огромный, со множеством глухих и мрачных улиц и закоулков… Она сама побаивалась его трущоб и пускать туда ребенка не решалась. Но Петер истолковал ее молчание по-своему. Не то ведь она решительно сказала бы «нет», по своему обыкновению.
Около большого ресторана они постояли и погрелись немножко на одной из железных решеток, ограждавших подвальные кухонные окна, откуда обдавало теплом. Греющихся набралось немало, все решетки были заняты детьми и женщинами. Но из подвала вышел человек и согнал всех, — они загораживали свет. Тогда Дитте и Петер двинулись дальше. Одну ручонку он сунул в карман старого пальто матери, и, когда она тоже спрятала туда свою руку, руки их встречались, и становилось еще теплее. Другую ручонку мальчик засунул за пояс штанишек, прямо к голому телу. Ужасно было холодно тащиться назад, потерпев неудачу!
— Пойдем к «Самаритянам». Я есть хочу! — захныкал вдруг Петер.
Дитте ожидала этого, у нее самой сосало под ложечкой от голода. Должно быть, его раздразнил запах из ресторанной кухни. Но она не любила ходить к «Самаритянам», — слишком там много бывало народу из их квартала.
— А мы не пойдем в ту, что у нас в переулке, — сказал Петер. — На Вестербро тоже есть столовая.
— Ты откуда знаешь? — удивилась Дитте.
— Эйнар говорил, — ответил Петер с запинкой.
Они пошли по Старой набережной и через мост, чтобы не идти по главным улицам. Петер не прочь был бы поглазеть на блестящие магазины, но Дитте не хотела идти этой дорогой. Когда они прошли порядочный кусок пути, Петер вдруг сказал:
— Ты не сердись… я сам был там… вместе с Эйнаром. Я только боялся сказать. Ты меня не прибьешь за это? Нет?
— Нет, нет! Разве я уж так часто бью вас? — спросила она с огорчением.
— Не так часто, как прежде, — откровенно признался Петер, глядя на нее..
Ответ порадовал Дитте. Ведь сколько раз бывало, когда дети напроказят, разобьют что-нибудь или выпачкаются и она сгоряча их прибьет, она раскаивалась потом в своей раздражительности и давала себе слово быть в другой раз терпеливее. Дети после трепки опять, как ни в чем не бывало, беззаботно болтали между собой, еще больше ласкались к ней и в самом наказании находили пищу для развлечения, она же не знала, куда деваться от угрызений совести. Какая огромная пропасть между их детскими душами и ее душой, между их неистощимой способностью забывать и прощать обиды и ее непомерной строгостью! Бедность материальная вела к бедности духовной, к недостатку отзывчивости и снисходительности, а этого не следовало допускать. Дитте так хотелось быть доброй и отзывчивой. И она вечно раскаивалась в душе, что ничуть не становится лучше. А вот теперь Петер все-таки признал, что она стала добрее. Дитте готова была обнять его, так она обрадовалась.
— Я никогда больше не буду бить вас, ни за что! — сказала она. — Но и не будем больше ничего скрывать друг от друга, ладно? Это очень нехорошо.
— А что-нибудь хорошее можно ведь все-таки скрывать? Например, если я захочу купить тебе машину, — сказал Петер.
Столовая «Самаритяне» помещалась в мансарде над большой пивоварней, и там было замечательно тепло. Они уселись за стол.
Много людей сидело за длинными столами, каждому давалась чашка горячего молока и несколько ломтей хлеба с салом или с маргарином. Видно было, что люди изрядно проголодались: почти все сразу огораживали руками свою порцию хлеба, словно боясь, что ее отымут, и низко нагибались над чашкой. Больше всего было тут стариков и женщин с детьми. Старики выглядели ужасно одинокими, заброшенными, изможденными и все напоминали тряпичников: седые, остриженные под машинку головы, видимо, никогда не знавали воды и мыла. Бедные, нищие старики! Никого-то у них, должно быть, нет на земле, ни одной души, близкой, которая бы позаботилась о них немножко, помыла их, почистила. Дитте вспомнился их прежний сосед, старый тряпичник. Узнать бы, куда он девался.
— Не знаете ли вы старого тряпичника Риндома? — спросила она своего соседа за столом.
Старик поднял голову от чашки и уставил на Дитте выцветшие глаза.
— Как же, знаю, — это мой товарищ, — ответил он и начал большим складным ножом резать ломти хлеба на мелкие кусочки. — Он работал одно время тут, на Вестербро. А теперь, должно быть, перебрался на свое старое место около Боргергаде. У него есть медаль за спасение утопающих.
Этого Дитте не знала.
— Как же. Он вытащил из воды двух тонувших ребятишек и получил за это медаль. Он тогда был еще полицейским надзирателем. Потом он как-то ночью стащил в участок одну важную особу, которую никак нельзя было трогать, — его и уволили.
Люди приходили и уходили. Поев, вставали и давали место другим. Ни одно место не пустовало, у дверей толпились очереди ожидавших. Никто не вступал в разговор, каждый глотал, потупившись, свою порцию и тихонько пробирался к выходу. Дитте одна завела беседу со своим соседом-стариком. Множество глаз уставилось на них, и они тоже замолчали.
Молодая брюнетка принесла порции Дитте и Петеру. Дитте поклонилась, — это была дочь кого-то из ее прежних господ.
— Как поживаете? Вы очень изменились. Замужем? И он пьет? — спросила дама и, не дожидаясь ответа, отошла.
Дитте от души порадовалась, что не пришлось отвечать.
Вдруг Петер схватил ее за руку:
— Мама, смотри, вон дядя Карл!
Он весь дрожал от радости и порывался кинуться туда. Дитте едва удержала его.
Карл только что вошел и озирался, исхудалый, оборванный. Увидев их, он радостно улыбнулся и быстро подошел.
Найдется местечко рядом с вами? — спросил он, протискиваясь, чтобы сесть рядом с Петером.
Но Дитте с мальчиком уже должны были освободить свое место для других.
— Мы подождем тебя у входа, — сказала она.
Долго ждать им не пришлось, всего несколько минут.
— Какой ты проворный! — сказала Дитте. — Сыт?
— Да, спасибо! Не такое это место, чтобы засиживаться дольше, чем это необходимо. Благотворительность все-таки отвратительная вещь!
Дитте вполне согласилась с ним.
— Но все-таки прибегаешь к ней… и радуешься, когда тебя покормят, — сказала она.
— Да, разумеется. Мы, как потерпевшие крушение, о которых иной раз читаешь: до того, бывает, наголодаются, что под конец набрасываются на нечистоты.
Карл пытался устроиться в деревне, но из этого ничего не вышло.
А вы тут как поживали? — спросил он.
Дитте рассказала насчет швейной машины. Он сжал кулаки.
— Будь я тут, я не позволил бы им унести ее!
— Ну, они вернулись бы с полицией, — возразила Дитте. — С такими мошенниками ничего не поделаешь. Закон ведь на их стороне.
— Вчера на Саксогаде хозяин выставил жильца, моего товарища, со всей семьей на улицу, — сказал Карл. — Но нас собралось несколько человек, мы внесли вещи в квартиру и заставили хозяина снова навесить двери и окна. Он было снял их! Как будто клопов морил!
— Вчера? — удивленно спросила Дитте. — Отчего же ты домой не пришел?
Выяснилось, что Карл уже несколько дней жил на улице Саксогаде, стесняясь показаться домой с пустыми руками.
Вечерело, зажглись уличные фонари. Карл не мог сразу пойти с Дитте домой; ему надо было помочь товарищу осмотреть рыболовные снасти, расставленные ими в бухте Кэге.
— Но я вернусь завтра поутру и принесу рыбки. А может быть, и денег, если нам повезет.
Он проводил их, и на этот раз, к удовольствию Петера, они прошлись по главным улицам. Карл и Дитте медленно шли, разговаривая, а мальчик перебегал от одной витрины к другой.
Оставшись вдвоем, Дитте и Петер поговорили было о том, чтобы зайти к закладчику выкупить перину об-ратно, пока деньги не истрачены. Но сообразили затем, что это невозможно, — откуда взять еще денег на проценты?
— Ну, раз так, надо и старуху с малышами угостить, — решила Дитте.
Они зашли в лавку и купили маринованную селедку, немножко сала, кофе и кусочек копченой колбасы. Дитте положила на стол свои десять крон и тут же раскаялась в этом, да было уже поздно.
— А, сегодня мы при деньгах! — сказал лавочник с поклоном. — Так вы позволите, сударыня, получить заодно должок?
Дитте сдали всего одну крону. Вот тебе и десять крон, — улетели. Ни денег, ни перины! И машины своей ей так и не видать больше!
Увидеть-то ее Дитте, впрочем, увидела. Как-то раз утром она зашла на Дворянскую улицу к своей знакомой, тоже бедной и находившейся почти в таком же положении, как сама Дитте — без мужа и с тремя малышами. Оказалось, что женщина только что взяла себе швейную машину в рассрочку, собираясь шить на магазины рабочие блузы, что, как говорили, хорошо оплачивалось.
— Только бы меня не Надули, — сказала она, — попробуй машину, ты больше меня понимаешь.
Дитте села за столик и принялась шить. Но вдруг остановилась и тяжело перевела дух, почувствовав в руках какую-то особую теплоту, которая затем горячими струями растеклась по всему ее телу и согрела, размягчила сердце. Дитте впилась глазами в машину, в номер ее, в каждую мелочь… Потом уронила голову на руки, прильнула к машинному столику, как, бывало, часто делала, и вдруг на полированную поверхность дерева, — тоже как часто бывало, — капнула горячая слеза, вызвав знакомый запах скипидара.
Женщина положила руку ей на плечо:
— Ты что? Не больна ли? Или случилось что?
Дитте подняла голову, силясь улыбнуться:
— Нет, ничего, так как-то странно на душе… Ты совсем новую машину покупала?
— Да… то есть мне кажется, что она была совсем новая, когда я ее смотрела в магазине. Но она, видно, все-таки немножко подержанная. По-твоему, она плохая?
— Нет, отличная машина, — сказала Дитте, стараясь побороть отчаяние. — Но береги ее хорошенько, иначе она улетит от тебя в другие руки, когда ты выплатишь за нее сотню крон! Она так уж вышколена. У них там есть с десяток машин, обученных ходить по людям и грабить бедных швей. Выгодное, должно быть, дельце.
— Ай-ай! Вот я в какие когти попала! Ну, да мы-то вывернемся. Весной я уезжаю в Швецию к жениху — там мы поженимся. Пусть они тогда ищут свою машину в путеводителе!
Карл вернулся на следующее утро, основательно продрогший, но с порядочной связкой рыбы и пятью кронами в кармане. Он был в отличном настроении.
— Сегодня ночью опять отправимся, — сказал он. — Надо ловить, пока можно. Иметь бы только какую-нибудь непромокаемую одежонку, а то плохо приходится, когда вымокнешь насквозь и мерзнешь всю ночь.
— Не сбегать ли к нашим спросить: нет ли у них? — предложила Дитте. — Отец ведь всем понемножку торгует. И могут же они поверить нам в долг.
Но Карл предпочитал несколько дней обождать — какова-то погода будет. Если южное течение затянет море льдом, не о чем и хлопотать. Рыбачьи лодки у Чертова острова уже замерзли во льду.
— Но тогда мы что-нибудь другое придумаем, — прибавил он весело, чтобы подбодрить Дитте.
Она поджарила ему рыбы и дала чашку крепкого кофе, чтобы он хорошенько согрелся. Поев, он хотел пойти к себе в каморку соснуть. Но ему не позволили.
— Поди и ляг на кровать старухи Расмуссен, — сказала Дитте, — в твоем чулане и кровать, и все в ней ужасно отсырело. Мы шуметь не будем.
— По мне хоть из пушек палите! — сказал Карл, зевая.
У него глаза слипались. Когда он уснул, Дитте решила веять его одежду, чтобы просушить на печке. Карл лежал, скрестив руки, и крепко спал. Лицо было спокойное, почти счастливое. Это потому, что ему опять удалось заработать кое-что. Крепкий сон говорил о том, что он хорошо поработал. Дитте постояла с минуту, глядя на него, потом подкралась к нему и поцеловала в губы. Он пошевелился, но не проснулся.
Дитте расправила, вычистила и положила сушить его одежду на печку. Так приятно было повозиться с этим, — это напоминало ей то время, когда отец рыбачил.
XIV Маленький Петер вступает в жизнь
Надо было бы отдать Петера в школу еще с осени, но почему-то не отдали. Никто из городских властей ни разу не навестил Дитте по поводу приемышей; и она постепенно успокоилась на том, что никто в мире не интересуется ее гнездышком. И ей в голову не могло прийти самой заявлять о себе. Но раз, когда Петер был внизу и играл с Эйнаром, мать Эйнара, Сельма, вдруг вспомнила, что Петер не ходит в школу. Она поделилась этой мыслью со своей соседкой, — ей показалось это странным, ведь мальчику шел уже восьмой год! Другие соседки подхватили это, и по всему двору пошли разговоры о том, что Дитте поступает неладно. Или она в самом деле думает, что ей и закон не писан? Что ее детям не к чему ходить в школу и учиться чему-нибудь — как принцам каким! А жена извозчика Ольсена так прямо и выпалила Дитте, что она накличет на себя беду: ведь каждый ребенок в стране подлежит обучению грамоте и закону божьему. Хоть с голоду помирай, а без религии нельзя, потому Что сам господь установил, что и бедняки имеют право приобщаться святых даров наравне с богатыми. У нее самой было восьмеро ребят, так она все это доподлинно знает!
У Дитте даже уши загорелись:
— А я-то и не подумала об этом ни разу!
Это было не совсем так. Петер довольно часто напоминал ей об этом и просился в школу. Эйнар рассказывал настоящие чудеса про школу, про учителей добрых и про учителей вспыльчивых, про мальчиков, которые получали оплеухи, не пикнув и даже головой не качнув. Петер так осмелел, что даже сказал однажды:
— Если ты не хочешь свести меня в школу, я сам пойду. Я хочу в школу!
Ему было стыдно отставать от других. Но Дитте питала нерасположение и недоверие ко всему, что было связано с начальством, да и трудно ей было обойтись без Петера, — он нянчил младших, когда старуха Расмуссен уходила, чтобы немножечко подработать.
Но вот, значит, теперь вопрос должен быть решен. Волей-неволей предстояло потерять день, выправляя разные свидетельства и бог весть что еще, приведя в действие сложный аппарат — ради того только, чтобы малышу Петеру покорпеть над катехизисом Лютера! К счастью, жена извозчика Ольсена была опытна по этой части, — своих восьмерых детей определяла в школу и знала все ходы и выходы.
Дитте послала с мальчиком старуху Расмуссен, сама она идти побоялась.
— Некогда мне, — отговаривалась она. — А если начнут придираться, что привели его так поздно, скажи просто, что его отправляли в деревню из из-за золотухи. — Так посоветовала ей мадам Ольсен.
Однако все обошлось гладко; свидетельства оказались в порядке, и Петер стал школьником. Это с первого же дня все почувствовали. Он начал говорить низким голосом, складка между бровями появлялась чаще. И беда, какой он строгий стал и взыскательный, — чтобы все было как следует! Упаси боже не позаботиться вовремя снарядить его в школу! Тогда он попросту уходил — без всякой еды. Ему бы прямо машинистом на поезде быть с его точностью! Старуха Расмуссен совсем, бывало, запыхается с ним.
— Да ведь еще всего половина восьмого, не суетись ты! — говорила она ему.
— Без пяти минут восемь, — хмуро отвечал он и марш за дверь. И впрямь, вскоре било восемь.
— Обидно, что нет у меня больше тех хороших часов с кукушкой и с боем. Подумать — он спустил их, бездельник-то мой, заложил, чтобы только напиться!
Тому минуло уже тридцать лет, но старуха сердилась, как будто это случилось вчера.
Дитте встала рано, ей надо было сегодня идти на поденщину, стирать в одном доме на Королевской улице. В пять часов утра полагалось уже быть на месте и развести огонь под котлом в прачечной, чтобы белье закипело вовремя. Она поставила вскипятить воду для кофе и перенесла лампочку в кухню, чтобы светом не разбудить детей. Петер все это время спал тревожно из-за школы. В окошко глядел месяц, и при его свете можно было причесаться. Как повылезли у нее волосы! Она скатала вычески и сунула в ящик стола, — надо будет заказать из них привязную косу, когда разживется деньгами.
Месяц освещал двор, белый от снега, и разливал во-круг удивительно яркое голубое сияние. Отчетливо были видны лишь очертания темных зданий и предметов. Вдруг на сверкавшем снегу что-то зашевелилось, люк навозной ямы раскрылся сам собой — совсем как в сказке, — и оттуда с трудом вылез какой-то человек, весь в облаках теплого навозного пара. Человек вытащил из ямы большой мешок и осторожно прикрыл люк. Это был — старый тряпичник. Дитте поспешно распахнула окошко, нарочно с шумом, чтобы старик услыхал, и поманила его. Он поднял свой железный крючок кверху — в знак того, что заметил ее. Вскоре она услыхала его шаги по лестнице и посветила ему.
— Входите и выпейте чашечку горячего кофе! — шепнула она, впуская его в комнату.
Петер, конечно, проснулся от света, но не беда!
На дворе появился извозчик Ольсен и прошел в конюшню задать корму лошадям; хорошо, что старик убрался вовремя.
— Да, не следует попадаться Ольсену на глаза. Ему ведь поневоле пришлось бы поднять шум, чтобы самому не слететь с места, — сказал старик.
— Неужто у вас нет другого приюта… даже днем? — содрогаясь, спросила Дитте.
— Нету, вот до чего дошел! Прежде я сам сортировал хлам и выручал иной раз порядочно. Теперь приходится сбывать все целиком другим тряпичникам, которые сумели лучше устроиться. И скольким еще надо нажиться на этом хламе, пока он переходит из рук в руки — от тряпичников к старьевщику, от него к скупщику и наконец к оптовику! А тому, кто роется в мусорных кучах, почти ничего не остается. Да, дрянь дело. Днем еще туда-сюда, заберешься в уголок какого-нибудь кабачка и сидишь — ежели только заработка хватит, и туда ведь даром не пускают, все денег стоит!
— А вы заходите к нам, когда кончаете свою работу, — сказала Дитте. — У нас тепло и поговорить есть с кем, — старуха Расмуссен рада будет.
— Спасибо, но… Нет, это не подойдет. Куда мне, такому грязному. В кабачки-то еле пускают, — уж очень воняет от меня. Часто из-за этого выходят неприятности, и приходится бродить по улицам.
Да, действительно от него воняло; недаром Петер лежал и потирал свой носишко, словно туда мухи залетели. Но не гнать же старика из-за этого на улицу!
— Не беда, заходите, — храбро оказала Дитте. — Дети вас так любят.
— Да, это ничего, что от тебя плохо пахнет, можно ведь нос заткнуть, — вмешался Петер, подымая голову.
— А ты уже проснулся? — спросил старик, трогая его своим крючком. — Заткнуть нос, говоришь? Да, многие затыкают, как только встретят меня. Ничего не поделаешь, у всякого ремесла свои неудобства!
— Найти бы только вам пристанище на ночь! — озабоченно сказала Дитте. — В Карловой каморке, пожалуй, слишком холодно, а то ведь он последнее время каждую ночь уходит из дому.
Но старик и слышать ничего не хотел.
— Нет, нет, не место мне теперь среди приличных людей! — сказал он.
Вот в том-то и весь ужас. Жалость боролась в Дитте с брезгливостью. Его ведь не отмыть, не отскоблить, раз он вечно роется в помойных ямах. Бедняга! И на стуле-то ему не сидится.
— А что, если устроить вас в богадельню?
Старик встал и зашатался.
— Ежели ты это задумала, то я не знаю, что с собой сделаю, — сказал он, весь дрожа от страха. — Ну, мне пора теперь!
И он вскинул свой мешок на плечо.
— Да вы все равно ничего не увидите в таких потемках. Посидите у нас, пока рассветет! — уговаривала его Дитте.
Но он уже не мог сидеть.
— Мне надо еще сходить в дом миссионеров — там в пекарне продают хлеб за полцены, если прийти до шести утра.
— Ой, какая даль! — Дитте вдруг показалось, что самой ей удивительно хорошо живется.
— А не все ли равно, где и куда шагать мне? — ответил старик. — Как-нибудь надо скоротать свой век. Ну, прощай. Бог благословит тебя и твоих детей за твою добрую душу.
Проводив старика, Дитте налила чашку кофе и Петеру. Он не просил, но лежал и поглядывал на кофейник загоревшимися глазами, беззвучно шевелил губами и улыбался. Этакий плут! Как тут устоять?
— А теперь закутайся и усни опять, — сказала Дитте. — Еще пяти часов нет. Старуха Расмуссен разбудит тебя. Не балуйся по дороге в школу и обратно домой и там веди себя хорошенько, чтобы никто не сказал: плохая, видно, у него мать, что так распустила детей. И скажи старухе Расмуссен, что тут оставлена солонина для Карла. Пусть она уж позаботится о нем. А если он придет домой мокрый, пусть она не позволяет ему спать в его каморке. И если кокса не хватит, то…
— Я сам принесу, не беспокойся, — сказал Петер.
— Спасибо, мальчик. Да напомни старухе Расмуссен, что ей надо сегодня сходить к участковому попечителю. — Она постояла еще немного, соображая. — Ну, кажется, больше ничего. — Поцеловала мальчугана, погасила лампу и ушла.
Как только мать спустилась с лестницы, Петер вскочил и живо оделся. Чего тут валяться и сопеть? У него явилась блестящая мысль: старик Риндом плетется теперь к Большому трактиру… Преинтересно, должно быть, на улицах ночью… Надо захватить с собой Эйнара и махнуть на разгрузочную пристань набрать кокса… К началу занятий в школе они успеют вернуться, а потом после обеда будут совсем свободны, делай, что хочешь. Петер вытащил из-под стола мешок и потихоньку выбрался за дверь. В коридоре было темно, а Петер немножко трусил темноты, но, спустившись во двор, он опять стал храбрецом. Торопливо направился к окошку Андерсенов и постучал. Сам Андерсен лежал в больнице, а то Петер не отважился бы.
— Кто там? — боязливо спросила Сельма.
— Можно Эйнару со мной?.. Я иду собирать кокс! — сказал Петер.
— Боже! Это ты, мальчуган! Уже на ногах в такую рань! — удивилась мать Эйнара и впустила Петера.
В помещении было жарко и тесно, — у них была всего одна комната. Всюду были постланы постели — на стульях вдоль стен и на полу. Эйнар быстро оделся, глаза его сияли в ожидании сказочных приключений.
Быстро шагали мальчуганы к пакгаузам, находившимся около Глиняного озера. На полдороге они спохватились, что ближе было бы пойти в Вольную гавань. Оно так и было, если считать от их дома. Мальчишки повернули назад и припустились бегом, чтобы наверстать упущенное время. Около Триангля из-под темной арки вышел полицейский и долго смотрел вслед двум мальчишкам, во всю прыть бежавшим к Вольной гавани с пустыми мешками за спиной. Прохожих на улицах не было видно, лишь иногда встречалась газетчица, которая брела в одну из больших газетных контор за утренними выпусками газет.
Но в самую гавань нечего было и думать пробраться в такую пору, а уж улизнуть оттуда подобру-поздорову — с поживой вообще никогда не удавалось. Эйнару все это было доподлинно известно. Но отчего не подразнить кровожадных сторожевых псов, которые бегали взад и вперед между двумя железными решетками. То-то была потеха, когда они с пеной у рта вонзали зубы в железные прутья, думая, что это тощая нога мальчишки! Потом выскакивал сторож и тоже бесновался попусту, столь же беспомощный и безвредный за своей высокой оградой, как и псы.
К северу от Вольной гавани есть участок, наполовину залитый водой, там виднелись развалины старых молов и насыпей, стояли лодки, мелкие баржи, буксирные пароходы. По всем направлениям бежали и перекрещивались рельсы, валялись какие-то доски, заржавевшие пароходные котлы и прочие интересные и удивительные вещи. И на рельсах всюду был рассыпан кокс. Кроме того, дощатый забор, ограждавший большие кучи угля, недавно сломался от тяжести навалившегося на него груза, и куски угля валялись повсюду, вплоть до самых рельсов. Можно преспокойно присесть и набить себе полный мешок — и это даже воровством нельзя назвать. Но лучше, конечно, чтобы никто не заметил. Эйнара с Петером, впрочем, и нелегко было заметить. Они, словно крысы, шмыгали между старыми опрокинутыми вагонетками, сараями, перевернутыми лодками и рыбными садками.
Эйнар здесь, бывал частенько, но Петеру все казалось новым и занимательным, и он не скрывал этого. Но всего удивительнее была сама ночь. Ему еще никогда не случалось гулять ночью. И сердце его билось так, что дышать было трудно, настолько все вокруг было поразительно, волнующе, необыкновенно. Весь мир как будто затаил дыхание, месяц светил совсем иначе, нежели вечером, когда он словно робел и стеснялся уличных фонарей. Теперь он прямо поливал землю своим сиянием, а звезды то и дело мигали, будто устав бодрствовать. Озаренный сиянием снег похрустывал, а там, на мрачных водах, дремали форты, плыли домой корабли с яркими фонарями. Это были рейсовые пароходы, прибывавшие из провинциальных гаваней.
— Будь мы с тобой сейчас на пристани у Морского госпиталя, мы могли бы таскать багаж пассажиров и заработать на этом, — сказал Эйнар.
Петер и понятия не имел, где это Морской госпиталь, но, во всяком случае, твердо знал, что нельзя быть в двух местах сразу, как всегда внушала ему старуха Расмуссен. Он и этим был вполне доволен.
Набрав в мешки сколько им под силу было тащить, мальчики спрятали их под старую лодку и побежали к воде попробовать, крепок ли у берега лед. Спугнули нескольких спавших на воде уток, которые длинной мягкой цепочкой перелетели подальше и опять опустились на воду, взметнув высокую струю. Послышался фабричный гудок, другой, третий… Значит, четверть седьмого. Рабочим пора идти на работу.
Со стороны моря раздался сигнал. Вскоре послышалась продолжительная, раскатистая трескотня, похожая на беспрерывную дробь барабанов.
— Это с Куриных мостков, — сказал Эйнар. — Стало быть, рабочие переходят на островок. Они-идут гуськом по длинным-длинным мосткам и не могут вернуться назад раньше полудня. Отец мой работал там.
Эйнар знал тут все распорядки.
Пора было и домой. Мешки были претяжелые, и мальчики попросту волочили их за собой по снегу, благо снег был твердый, утоптанный. На Северной дороге их остановил полицейский, спросив, что у них в мешках и куда они их тащат.
— А это нас матери за углем посылали. Мы тут на углу купили, — смело сказал Эйнар. — Нам недалеко идти, на Греногаде.
Их пропустили. Около семи часов они были дома. Старуха Расмуссен возилась с двумя малышами.
— А ты уж теперь без спросу шляешься, как большие мальчишки? — сказала она язвительно.
Петер покраснел до ушей и пробормотал:
— Разве это худо?
— Да уж хорошо, нечего сказать! Чего-чего я не передумала со страха! Думала, тебя нечистый уволок!
Петер наскоро проглотил свой завтрак и поспешил уйти от воркотни. Эйнар поджидал его во дворе.
Петер уже пресытился школьными впечатлениями, они не удовлетворяли его мальчишескую жажду чудесного. Были в школе и добрые учителя, которые, например, разрешали мальчикам-молочникам, встававшим очень рано, дремать весь первый урок; были и такие, которые не терпели, чтобы какой-нибудь школьник рассмеялся. Ну, что же тут интересного?
В эти дни случилось, однако, и нечто особенное: назначен был осмотр зубов школьников, и дантисты обходили все школы.
— Это потому, что мы такие худые, — объяснил Петер домашним.
В самом деле, так и в газетах было напечатано; школьные инспектора были встревожены, замечая у детей симптомы все возрастающего недоедания. И так как с полным основанием можно было предположить связь между скверным питанием и плохим состоянием зубов детей из бедных классов, то город поручил нескольким зубным врачам осмотреть и полечить зубы городским школьникам. Зубы у детей оказались прямо-таки в плачевном состоянии. Впрочем, виноват был не один жевательный аппарат, — приготовление пищи тоже ведь играет роль! И для плохих зубов немало значит, хорошо ли проварена или прожарена пища. Поэтому возник план — ввести в школьную программу обучение девочек стряпне, — женщины из бедных классов просто невежды по этой части.
Петер с Эйнаром могли подтвердить это на основании собственного опыта: у них дома частенько даже и попыток не делалось сварить или изжарить что-нибудь. Ну, да планы обучения стряпне не так занимали мальчиков сейчас, — для Петера это будет иметь значение только, когда подрастет и станет ходить в школу сестренка Анна; до тех пор он может потерпеть. Но оба мальчика были страшно заинтересованы — неужто им в самом деле каждому выдадут по зубной щетке?! Эйнар, вообще не очень-то аккуратно посещавший школу, не пропускал теперь ни одного дня.
Домой из школы Петер пошел сегодня по Вольной Королевской улице, где стирала мать. Если ему посчастливится прийти во время ее обеда, то и ему перепадет кое-что. Тефтели! Господа только тефтели и кушают. Куда бы он ни пришел к матери на поденщину, везде готовили тефтели с тушеной картошкой. И Петер отлично понимал господский вкус. Будь он богат, и он бы ничего другого не кушал. А вот жена извозчика Ольсена всегда говорила господам, у которых стирала:
— Только, пожалуйста, не угощайте меня тефтелями с тушеной картошкой. Достаточно я их наелась в сотнях домов, где стирала последние годы.
Она была очень разборчива. Зато господа и брали её лишь тогда, когда не могли найти другой прачки.
Мать как раз обедала, когда пришел Петер. Тефтели с тушеной картошкой — ура! сидела на табуретке, вся съежась. Видно, ей плохо было. Петер подошел и обнял се за плечи. Так он часто делал, когда никто не видел. Под большим котлом с бельем гудело пламя. Ах, как тут было тепло! На лбу у матери выступили крупные капли пота.
— Как это славно, что ты зашел меня проведать! — сказала она и протянула ему тарелку.
Он так и накинулся на еду.
— Мама, знаешь, нам выдадут в школе зубные щетки! — заявил он вдруг, набив себе рот.
— Неужели, мальчуган?.. Ну, хоть какая-нибудь работа будет зубам, — тихо отозвалась она.
— Да, потому что у нас мало жиру на теле из-за плохих зубов.
Дитте слабо улыбнулась, но ничего не ответила, а он подтвердил:
— Да, вот как!
— Передай старухе Расмуссен, что я вернусь поздно, — сказала Дитте, когда мальчик собрался уходить, — Очень много белья сегодня. Но она придумает, чем накормить вас вечером.
И она усердно принялась за стирку, а Петер пошел домой.
— Знаешь что! Девчонки должны будут теперь учиться в школе стряпать. И всем нам выдадут зубные щетки! — восторженно прокричал мальчик, врываясь в комнату.
— Холоду-то, холоду-то напустил! — сердито встретила его старуха Расмуссен.
Она перестала благоволить к нему с тех пор, как он начал ходить в школу. Мальчик он, конечно, и теперь ничего себе, но уж больно самоволен стал.
— Должны будут стряпать! — подтвердил Петер и опять повторил все сначала.
— Ладно, ладно, верим! Не придумай только еще чего!
— Ах, ты никогда ничему не веришь! — с досадой сказал мальчик. — Так и я тебе никогда не буду верить.
— Поверить такой чепухе? Да я небось родом не с острова Моль{18}. Нет, проваливай со своими выдумками подальше — где люди ушами кисель хлебают!
— Но если сам инспектор так сказал! По-твоему, и он врет?
Старуха сочла за лучшее сдаться.
— Оно, положим, похоже на них — завести зубные щетки и стряпню в школе. Черт коли дурит, так дурит!
Петер опять проголодался и сел за стол со всеми вместе. Он всегда готов был поесть. Когда они кончили, старуха стала собираться к участковому попечителю. Анну она брала с собой; тогда Петеру надо было смотреть только за одним братишкой, это было нетрудно.
Обыкновенно он хорошо справлялся даже с двоими, — он часто нянчил их. Но сегодня братишка все время с рук не шел. У него резались зубки, и он не выпускал пальцы изо рта, десны сильно распухли. Петер таскал ребенка по всей комнате — то к окну, чтобы он посмотрел вниз, во двор, то опять к столу, где лежали игрушки. Но братишка никак не мог успокоиться и стоило Петеру присесть с ним, начинал реветь. Приходилось опять таскать его по комнате. Дядя Карл провел ночь на рыбной ловле, и надо было дать ему теперь покой.
Петер совсем изнемог, ребенок сползал все ниже и ниже и готов был выскользнуть из рук. Тогда Петер бросился с ним в кухню и затворил за собой дверь, чтобы Карлу не слышно было рева. Но в кухне оказалось слишком холодно, и малютка весь посинел. Под конец Петер прямо не знал, что делать, и сам разревелся.
Пришел Карл.
— Вот так концерт! В два голоса! — весело сказал он и забрал их обоих в теплую комнату. Скоро ему удалось развеселить малютку.
— Отчего ты не позвал меня, малыш? — спросит Карл.
— Зачем?.. Я и сам могу справиться, — хмуро ответил Петер.
Он был сконфужен. Карл заметил это.
— Ты вообще молодчина! Я не понимаю, как ты можешь таскать такого тяжелого мальчишку!
Это помогло.
Пришел Эйнар и спросил, протискиваясь в дверь, можно ли Петеру выйти во двор поиграть?
Он был низенький, но плотный мальчуган, с чудесным, смелым личиком, но уж очень сопливый.
Петер отрицательно закачал головой и сделал знак Эйнару.
— Старухи Расмуссен ведь нету дома, — прибавил он, исполненный чувства ответственности.
— Проваливай! — смеясь, сказал Карл. — Ты думаешь, я не справлюсь с братишкой?
Оба мальчугана кубарем скатились с лестницы, затем Эйнар стрельнул из ворот прямо за угол. Там он остановился и подождал Петера. Он боялся, что его кто-нибудь увидит и остановит, пошлет по какому-нибудь делу. Кому бы он ни попался на глаза, всякий норовил послать его куда-нибудь.
— Теперь давай побродим немного, — весело сказал он, радуясь, что удрал-таки. — На озера! Живо!
Петер слепо следовал за ним и только уже на мосту Мира вспомнил, что дал матери какое-то обещание, но какое именно — запамятовал. Да и поздно было — они уже спускались на лед.
«Лед не прочен» — написано было на всех дощечках на набережной. Но Эйнар с Петером и внимания на них не обратили. Всеми этими объявлениями норовят только испортить тебе всякое удовольствие! Мальчики сбежали вниз и заскользили по льду.
Кто-то закричал им с берега — полицейский! Он грозно приказал им вернуться. Петер хотел было послушаться.
— Ты спятил? — сказал Эйнар и пустился бегом по направлению к мосту Королевы Луизы.
Полицейский шел за ними по набережной, а затем тоже спустился на лед.
Петер, утекая, ревел во все горло: «Мама, мама!»
— Замолчи! — сказал Эйнар, схватив его за руку.
Они направились к противоположному берегу, но туда бежал другой полицейский, чтобы сцапать их. Мальчики, однако, оказались проворнее его, выскочили на озеро Сорте дам и пустились переулком в обход. У Павильона они вынырнули опять, по-прежнему не убавляя рыси и держась за руки, и вдруг оба разом остановились и замерли, не дыша.
— Ага! Гляди! Гляди! — закричал Петер. Он весь вспотел и раскраснелся.
Здесь, должно быть, лед был прочный. Весь этот конец озера огорожен и обсажен елками. Сотни нарядно одетых людей бегали по льду на коньках, или их катали на креслах-санках под звуки духового оркестра. Почти у всех были меховые шапки и меховая опушка на одежде, а у дам топорщились в руках муфты, щечки же алели, как самые спелые яблоки. Петер никогда еще не видал, как катаются на коньках!
— Гляди! Гляди! Летит! — кричал он, указывая на одного конькобежца. — Еле дотрагивается ногами до льда!
Попасть бы теперь туда, на ледяной круг!
— Не пристегнуть ли вам коньки, барышня? — спросил Эйнар молодую даму в сером, которая сидела у самого барьера, возясь с коньками.
Спасибо, — ответила она, и он мигом очутился около нее.
Петер поглядел-поглядел и тоже прыгнул за барьер. Подошел сторож.
— Они помогают мне… Это мои кавалеры! — сказала молодая дама.
Сторож вежливо притронулся к козырьку и отошел.
Дама сделала круг, потом вернулась и повела их обоих в маленькую беседку, где заказала им по чашке шоколада, горячего-прегорячего, и по две пышки. Покончив с угощением, они пошли по льду, любуясь на конькобежцев. Молодая дама каталась с каким-то господином, — они взялись за руки и словно играли в «кто кого перетянет». Увидев мальчиков, она приостановилась, и Петер взял протянутую дамой руку.
— Это мои рыцари! — сказала она своему кавалеру и потрепала мальчиков по щеке.
Кавалер засмеялся и дал Петеру монетку в двадцать пять эре.
Теперь самое время было уходить отсюда, сторож продолжал следить за мальчиками. Они направились на площадь Ратуши.
— Не купить ли нам чего-нибудь на эти двадцать пять эре? — спросил Эйнар, останавливаясь перед булочной. — Я проголодался.
— Нет, это надо спрятать на покупку новой швейной машины матери. Но можно пойти к «Самаритянам»! — Петер тоже проголодался.
Побывав у «Самаритян», они отправились к Главному вокзалу, — может быть, удастся заработать еще столько же. Случалось, что приезжие поручали донести свои пожитки до экипажа или до трамвая.
— Только не суйся к старухам! — сказал Эйнар. — Эти ничего не дают. Скажут только «спасибо», да «большое спасибо», и все тут.
Какой-то толстяк переходил через улицу с чемоданом в руках.
— Вот к этому стоит подойти, — шепнул Эйнар, и они побежали рядом с ним, каждый со своей стороны, он смерил их взглядом, потом дал им чемодан. Они еле потащили его вдвоем. Толстяк шел рядом, отирая пот с затылка и с лица. «Черт побери! Вот так молодцы!» — одобрительно говорил он.
Мальчики заработали целую крону. Эйнар взял ее себе. У входа в отель «Бристоль» дни с полчаса двигали вертящиеся двери, впуская и выпуская посетителей. Но ничего за это не получили. Люди думали, что так и полагается, и даже не смотрели на них. К тому же дети опять проголодались.
— Слушай, не купим ли чего на крону? — сказал Петер.
Эйнар состроил гримасу: «Чего захотел!» Но немного погодя зашел в булочную и вышел оттуда с целым пакетом крендельков. И вдруг они заметили, что уже смеркается, — пора домой.
Они побежали по главным улицам, чтобы заодно чуточку полюбоваться на окна магазинов. Да и застряли у витрины большого игрушечного магазина, позабыв про все на свете. Прильнув носами к стеклу, они разглядывали выставленные сокровища жадными глазами, в которых играли отсветы магазинных огней. От дыхания мальчиков стекло запотевало, так что им то и дело приходилось менять место.
— Гляди! — воскликнул Петер. — Настоящий паровоз! Это будет мой!
Но Эйнар утверждал, что локомотив его, так как он первый его увидел. Мальчики готовы были вцепиться друг другу в волосы.
— Если ты уступишь мне локомотив, то бери себе вон тот большой дом с лошадьми и коровами, — просительно проговорил Петер.
Эйнар великодушно согласился:
— А еще я беру себе эти лошадки-качалки! Слышишь?
Они опять взялись за руки и принялись делить игрушки между своими братьями и сестрами. Нельзя же было и тех обидеть, хоть их тут и не было. И вдруг огни в магазине погасли. «Что же это? — спросили они изумленно, глядя друг на друга. — Сон, что ли?» Но по всей улице, в одном окне за другим, световые блики исчезали. Магазины запирались, гремели железные жалюзи, спускаемые на окна, двери прикрывались глухими железными створками. Петер заревел.
— Ах ты, олух! Ведь они каждый вечер так запираются, — сказал Эйнар.
Но Петер не переставал реветь, и дети помчались домой.
— А тебе зададут дома трепку? Так ты скажи, что бегал с поручением на край города! — попытался урезонить его Эйнар. — У тебя ведь есть двадцать пять эре.
Нет, трепку ему не зададут, и врать Петер не хочет. Просто он устал и соскучился.
А дома он увидел, что хорошая верхняя перина висит на стульях перед печкой и сушится. Дядя Карл выкупил ее сегодня. Мать еще не вернулась. Старуха Расмуссен нянчила братишку. Анна сбежала.
— Да, такая глупая девчонка, — говорила озадаченная старуха. — Поди-ка поищи ее, Петер!
В это время вернулась Дитте, до смерти усталая и алая.
— Ах, оставьте, сегодня не стоит затевать историю! — сказала она, валясь на кровать. — Девчонка, конечно, как всегда, к бабушке убежала в Новую слободку. Пусть там переночует, коли ей так нравится!
Дитте жаждала только одного — чтобы все поскорее затихло в доме и она могла бы отдохнуть как следует. Завтра пораньше утром можно сходить за девчонкой.
Вскоре все заснули. Петеру снилось, что он все время толкает вертящуюся дверь и при каждом новом обороте двери сверху падает монета в одну крону. Затем он на все свои деньги покупает швейные машины, но стоит ему только приобрести их, как их снова увозят.
XV Дитте попала в газеты
Дитте с усталости заспалась. Да и все заспались — и старуха Расмуссен, и Петер, и братишка. Уж больно хорошо сегодня лежалось в постели — выкупленная перина была положена на место, старуха снова получила свою нижнюю перину, и Дитте с детьми теперь не приходилось ложиться прямо на солому. Это было чудесно, но располагало к лени.
— Да, когда мы выкупим все наши вещи, то заживем! — сказала Дитте.
Жизнь вообще стала казаться чуточку светлее с тех пор, как у Карла появился маленький постоянный заработок, только бы ей-то силы не изменили!
Сегодня Дитте сама стала снаряжать Петера в школу. Время от времени необходимо было заняться им хорошенько, обыкновенно он одевался и умывался кое-как. Возясь с Петером, Дитте со старухой вспоминали Анну. Теперь бабушка, наверное, тоже одевает ее, и когда Петер отправится в школу, Дитте пойдет за девочкой. Было еще очень рано, старая вдова лоцмана долго лежала по утрам в постели.
Вошла жена извозчика Ольсена с газетой.
— Уж не ваша ли это девочка? — сказала она и начала читать вслух объявление о девочке, лет трех-четырех, найденной вчера вечером и отправленной в участок на Большой Королевской улице, куда полиция приглашала явиться родителей, или других близких, или просто лиц, могущих дать сведения о ребенке.
— Догадываются, что девочка сирота, — прибавила женщина злорадно, — оттого и пишут про лиц, могущих дать сведения. Я сначала хотела было сама сбегать туда.
Дитте ничего не сказала, глядя перед собой растерянным взглядом и бессмысленно улыбаясь. Потом вдруг тихо опустилась на пол. Мадам Ольсен взвизгнула, — весь ее задор как рукой сняло.
— Не притворяйся! — сурово сказала ей старуха Расмуссен. — Поищи-ка лучше уксусу.
Они смочили Дитте виски и привели ее в чувство. Она поднялась.
— Глупое сердце, — сказала она, озираясь, и, вдруг вспомнив о случившемся, кинулась в чем была на улицу и побежала в участок.
Девочки там уже не было. Пришла старушка из Новой слободки и взяла ее.
— Славная девчурка, — сказал полицейский надзиратель. — Она переночевала у нас в дежурной. Такая ласковая. Но как же вы это, черт побери…
Ну, он, конечно, знал условия жизни. Во всяком случае, не докончил вопроса. Но дело-то выходило серьезное.
С Дитте сняли настоящий допрос. Пришлось ей выложить все: и что сама она незаконная, и что у нее двое детей незаконных. Все, что она так долго скрывала, вся ее родословная и весь список грехов всплыли наружу, и все было записано в протокол. До такого унижения она еще ни разу не доходила и сгорала от стыда во время допроса. Слезы душили ее. Теперь она попала в полицейские протоколы — вместе с другими преступниками! Она! Когда она сроду не имела дела с полицией!..
Наконец ее отпустили, и она побежала за девочкой. Дитте понесла ее домой на руках, крепко прижимая к себе и заливаясь слезами.
— Анна была у бабушки. Анна спала у дядей! — повторял ребенок.
— Да, да, ты у меня совсем большая! — захлебываясь от слез, отвечала Дитте.
Когда она проходила по своей улице, все глядели ей вслед, а жильцы ее дома высыпали на двор или на лестницы, — так интересно было всем взглянуть на нее. Она торопливо поднялась с ребенком к себе и заперла дверь на задвижку. Старуха Расмуссен ходила и бранилась — ругала и себя за то, что не углядела за девчонкой, и других за то, что так раздули событие.
— Не принимай ты этого близко к сердцу, — говорила она Дитте. — Если бы лить слезы из-за всякого дурного слова, иной ведра слез бы наплакал. Анна дома, и теперь будем получше глядеть за нею. Но дурная это повадка у нее — убегать. Прямо порок какой-то.
Дитте хорошо понимала, что это за порок, вспоминая собственное детство. Как много значило для нее тогда сбегать к бабушке хоть на одну ночь! Ничто в мире не могло сравниться с бабушкой. И самая тяга вдаль была ей так понятна, хотя ее самое давно уже не тянуло к себе неизвестное. Но, будучи ребенком, как часто она убегала куда глаза глядят! А мальчики, особенно Кристиан, сколько раз они удирали! Многого, видно, не хватает детям бедняков, что их так тянет из дому.
Дитте оставила все дела, ни за что не могла приняться и все утро просидела с Анной на коленях и тихонько разговаривала с нею. Дитте вся как-то притихла, у нее было предчувствие, что Петера и Анну отберут теперь. С минуты на минуту мог явиться попечитель — обследовать, как она живет, и отобрать детей. И, заслышав шаги по лестнице, она каждый раз вздрагивала.
— Да не бойся ты, — уговаривала ее старуха Расмуссен. — Никому не нужны твои ребятишки. Вот единственное добро, которое не стоит страховать от воров.
Мало-помалу Дитте успокоилась и стала подумывать насчет обеда. Петер всегда приходит из школы голодный как волк. Да вот и он. Бурей мчится по лестнице — гораздо раньше, чем Дитте ожидала. Значит, она и не заметила, как пробежало время. В руках у него зубная щетка, настоящая, патентованная Старуха Расмуссен должна была признать, что он говорил правду.
— Ну, что ж, и отлично! — сказала она. — Ведь сколько пищи застревает в дуплах. Этой же щеточкой можно все в горло спровадить.
Петер и за обедом не выпускал щетки из рук.
Около двух часов дня вышли послеобеденные газеты и принесли новое горе. Один из газетчиков побывал в участке, добыл адрес Дитте и накатал большую статью: «Нерадивая мать». Газетка даже поместила что-то вроде портрета этой матери — пусть читатели полюбуются на нее! Этот удар прямо свалил Дитте. Сил не было снести такое обвинение, такой позор. Она скорчилась на постели и рыдала безутешно; ни старуха Расмуссен, ни дети ничем не могли утешить ее. Захлебываясь слезами, она без умолку жаловалась и оправдывалась. Петер тихонько подошел к ней и сунул ей в руку свою зубную щетку.
— Возьми себе, если хочешь, — предложил он.
Щетка выпала на пол, он украдкой поднял ее и торопливо спрятал.
Заглянула фру Лангхольм с пакетиком печенья. Она подошла к Дитте и поцеловала ее в лоб.
— Я хотела сказать вам, что мы оба за вас — и муж мой и я. Просто стыд, как с вами поступили! Муж мой хочет завтра протестовать в утренних газетах… или поговорить с полицией.
Это немножко подбодрило Дитте. Она встала и занялась домашними делами.
Под вечер вернулся домой Карл, совершенно охрипший, он почти не мог говорить.
— Ну, ты прославилась на весь город, — прошептал он.
Узнав, как сильно потрясена Дитте, он стал серьезен. Пришлось подробно рассказать ему обо всем.
— Право, можно подумать, что все это делается только для того, чтобы доконать бедную женщину, — со слезами говорила Дитте. — Войти же в ее положение никому в голову не приходило, не говоря уж о том, чтобы помочь.
— Ну да, власть имущие считают, что мы, бедняки, — люди с порочными задатками и что нас само небо поручило их надзору, — с горечью сказал Карл. — Эта история для них настоящее лакомое блюдо. Теперь они всласть наглотаются всех этих рассуждений о граничащей с преступлением небрежности и нерадивости бедняков. Но стоит ли обращать на это внимание? Пусть себе газеты расписывают наше жестокосердие и недобросовестность. Я на твоем месте радовался бы, что поднял на ноги всю эту свору. Я бы… — Тут голос у него совсем пропал.
— Но до чего же ты простужен, бедняга! — с испугом воскликнула Дитте. — Ложись скорей в постель старухи. Я заварю тебе чай из бузины.
Но Карл решил отправиться в свою каморку.
— Я думаю, что сегодня ночью не смогу пойти на лов, — просипел он.
Он лежал в постели и потел — горячий кирпич лежал у него в ногах, а шея была укутана теплым платком Дитте. Дети бегали то к нему, то от него.
— Дайте же покой дяде Карлу! — прикрикнула на них Дитте.
Немного погодя они опять побывали у него.
— Мы не мешаем ему, — заявили они.
— Дядя так сказал?
— Нет, но он нас не прогнал. Он лежит и так смешно — сам с собою говорит.
Дитте поспешила туда. У Карла был сильный жар, глаза его блестели.
— Только бы раздобыть непромокаемую одежду, и все обойдется! — бормотал он. Дитте он даже не видел.
Болезнь Карла заставила Дитте забыть о глупых газетных статьях. И на следующее утро она спокойно прочитала газеты. Теперь они уже не занимались больше ее личностью, но перешли к общественной стороне дела. Одна газета требовала наложения штрафа на родителей и воспитателей — и бедных и богатых — за всякое пренебрежение своими обязанностям и по отношению к вверенному их попечению потомству. Другая газета красноречиво расписывала необходимость просвещения для бедных.
Дитте не поняла, о чем газеты писали. Но вообще с этого дня стала лучше разбираться в том, что вокруг творилось. Событие оставило горечь в ее сердце, чувство злобы против тех, кому жилось тепло и сытно и кто бичевал низшие классы.
Полиция не приходила, учитель Лангхольм побывал в участке и замолвил словечко за Дитте. Зато наконец явился попечитель, за ним другой, третий — в течение нескольких дней подряд. Приходили разряженные дамы, от которых пахло духами, господа, пропахшие конторой, пастор, исполненный елейного достоинства. Все держали себя очень торжественно, так торжественно, что Дитте приходила в ужас и с минуты на минуту ожидала — вот-вот детей отберут.
— Фу, — фыркала старуха Расмуссен. — И не подумают, вот увидишь. Очень им нужно навязывать себе на шею пару голодных ребят. Просто это одна комедия с их стороны, как почти все их затеи.
XVI Фуфайка
Вышло все так, как старуха предсказывала. Дитте милостиво разрешили оставить ребят у себя, но страху на нее нагнали, и первые две-три недели после события попечители продолжали посещать дом и справляться у других жильцов о том, как Дитте обходится с детьми. Не очень это было весело.
Болезнь Карла затянулась дольше, чем он сам или другие ожидали. День и ночь лежал он в жару, и одно время казалось, что у него будет воспаление легких. Но вдруг дело пошло на улучшение, и опасность миновала. Дитте уже не нужно было больше сидеть около Карла по ночам. Но в уходе и в хорошем питании он очень нуждался, — лихорадка истощила его силы, немного их оставалось у него. А как хорошо было, что он все-таки поправлялся!
Верхнюю перину снова отнесли в заклад. Дома она не залеживалась. Зато, пока гостила, сколько от нее было удовольствия! И просто диво, что это именно она то и дело исчезала; другие постельные принадлежности, к счастью, оставались на месте. А эта перина была настоящей бродяжкой, вроде Анны. И все-таки девочка непонимала, что за охота была перине исчезать!
Анна больше не убегала, — Петер всюду сопровождал сестренку, не выпуская из рук своей зубной щетки. Она вечно была зажата у него в левом кулачке, словно приросла к нему. Мальчик даже и спал с нею. Никогда еще он не сходил так с ума ни по одной игрушке. Он ее и в школу с собой таскал, пряча за пазуху, когда входил в класс. Словом, не расставался со своей щеткой, как младенец с соской.
Вообще же Петер был довольно рассудительный мальчик. Болезнь Карла сделала его совсем взрослым. Он взял на себя заботу о топливе.
— Не забудь только, что меня нет дома, — внушал он перед уходом старухе Расмуссен, — а то ты будешь думать, что я смотрю за сестренкой.
— Нет, нет, не забуду, — отвечала старуха так покорно, как будто он был ее начальником. Она совсем терялась, когда он говорил с ней таким важным тоном.
Однажды он заработал целую крону, да, кроме того, принес полный мешок угля. Плутишка сначала насобирал и продал целый мешок. Крона пришлась как нельзя более кстати.
— Ты только побольше их приноси, мы найдем куда девать, — сказала старуха.
Она была в отличном настроении, несмотря на свои недуги. Ей прибавили две кроны в месяц — вместо десяти она стала получать от попечительства о бедных двенадцать. Закутить на них нельзя, но все-таки это были деньги. Кроме того, она взялась на старости лет — ей шел уже восьмидесятый год — за новую работу; поставлять «зажигалки» на «фабрику» на Дворянский улице. Собственно говоря, просто в мелочную лавку, но старуха называла ее фабрикой для пущей важности. Если приналечь хорошенько, то можно было выработать в неделю крону с лишком. Справлялась она и с мытьем лестниц в доме, так что Дитте могла заняться чем-нибудь поважнее.
— Да, слава богу, даром хлеба еще не ем, — говорила Расмуссен; старуха совсем ожила.
На долю Дитте оставалось еще немало всяких дел. Чем хуже обстоятельства, тем труднее найти выход. Обстоятельства же складывались все печальнее и печальнее: безработных в этом году было еще больше, чем в прошлом, и число их все увеличивалось. А бороться с безработицей не хватало средств — прошлогодняя зима разорила все семьи, летний же рабочий сезон был слишком короток, чтобы они опять могли стать на ноги. Сборы в пользу нуждающихся устраивались и среди богатых и среди бедных; тот, кто имел заработок, отдавал четвертую часть его в пользу безработных. Но много ли получалось, если на имевшего работу приходилось по два безработных? Зажиточные люди не отказывались жертвовать и давали изрядные суммы, но вместе с тем многие как будто испугались чего-то или ими овладел демон бережливости: они перестали звать поденщиц, тогда как прежде никогда не обходились без посторонней помощи при большой стирке и при генеральной уборке в доме. Между тем плохие времена этих людей вовсе не задевали! Словом, холод и нужда как будто заставляли сжиматься даже тех, кому совсем незачем было считать каждый грош. И люди стали дешево ценить свой труд. Где только можно было заработать хоть пять эре, безработные десятками стекались туда и перебивали друг у друга работу, сбавляя цену. Под конец выходило так, что работали почти задаром.
Устраивались сборы и в провинции. Там ведь, говорят, хлеб нипочем! И надо сказать правду, крестьяне давали щедро, хотя вообще-то недолюбливали горожан. В город посылались возы хлеба, сала, картошки и распределялись благотворительными комитетами и профессиональными союзами среди нуждающихся. Но и тут, как везде, — у кого локти были посильнее, тот первым продирался вперед; запастись нахальством поэтому было нелишнее. Ни у старухи Расмуссен, ни у Дитте его, однако, не было, и лучше, пожалуй, было посылать Петера. Тот умел прошмыгнуть между ног взрослых, и ему иногда удавалось добыть кое-что. Но для этого нужна была именно удача. И всего, что удавалось собрать или сколотить, хватало так ненадолго! Бедность была каким-то решетом, бездонной бочкой.
Хорошо еще, что доктору платить не приходилось. Он навещал Карла ежедневно, хотя и знал, что не получит за это денег. Он помнил Карла по его выступлениям на собраниях рабочих. Стало быть, кое-какую пользу они принесли. Дитте доктора побаивалась. Он был сухой, как щепка, словно много лет у него крохи во рту не было. Невыгодно, видно, лечить бедняков. В сущности, у него на лице выделялись одни глаза. Зато они были выразительны, так глядели на человека сквозь очки, что тот не знал, куда деваться. И когда доктор говорил, Дитте никогда не была уверена в том, как надо его понимать — буквально или же наоборот:
Но старуха Расмуссен никого не боялась и смело обращалась к нему: не пропишет ли доктор ей чего-нибудь против болезней?.. Самое лучшее — чего-нибудь укрепительного!
— Прописать-то, конечно, можно, — говорил доктор, слегка усмехаясь, — но от этого толку не будет. Не больше, чем если вы проглотите рецепт вместо лекарства, как это делают в католических странах.
— Нет, я, слава богу, не католичка, — с живостью отвечала старуха. — И голова у меня в порядке. Ломит мне поясницу да ноги болят… ну и лопатки тоже. Не бывает разве каких-нибудь остатков в пузырьках, которые все равно выбрасывают?
— Вы думаете, что-нибудь выбрасывают в такие времена?
— Да ведь если случится помереть кому… А мне почти все равно, что принимать — лишь бы подкрепить себя немножко.
Доктор рассмеялся, но на другой день принес ей все-таки и пилюли и микстуру.
— Пусть принимает, — сказал он Дитте, — старым людям нужно подбодрить себя чем-нибудь. А послезавтра мы попробуем поднять Карла с постели. Но ему необходимо носить на теле фуфайку, теплую шерстяную фуфайку, иначе он опять может заболеть. Сумеете вы достать ему фуфайку? То есть две, — для смены; он ни в коем случае не должен снимать с себя фуфайку!
Ну конечно, она достанет. Дитте сказала это, даже не сморгнув, но, в сущности, сама не знала, как это сделать. Перина ушла на лекарства, и больше заложить было нечего. В долг она брала направо и налево, задолжала кругом, болезнь истощила решительно все ресурсы. И каких неимоверных трудов стоило Дитте давать Карлу и то немногое, что он мог проглотить!
Сегодня она поджарила ему кусочек печенки. Остальных она накормила картошкой с луковым соусом. Когда она принесла Карлу еду, он читал.
— Ах, какое вкусное блюдо ты мне принесла! — сказал он растроганно. Но сам больше ковырял вилкой, чем ел. Исхудал он за эти две-три недели страшно, просто жалость брала глядеть.
— Да ты ешь, — сказала Дитте, — ведь ты почти ничего не берешь.
— Погоди, дай мне только выйти на воздух. Это лежанье в постели ужасно действует на нас, людей, привыкших работать на вольном воздухе. Завтра я встану, слышишь?
— Нет, послезавтра, — возразила Дитте, слабо улыбаясь. — Ты меня надуть хочешь, совсем как ребенок.
— Бели доктор говорит послезавтра, стало быть, можно встать и завтра, будь спокойна. Они всегда чересчур осторожны.
— Но, ведь нужно сначала добыть тебе фуфайку, без этого тебе нельзя вставать.
— Ну так долго же придется мне лежать. Откуда нам взять ее? И на что она мне? Я отроду не носил фуфайки на теле.
Дитте не стала больше разговаривать об этом. Фуфайка ему необходима, и она ее добудет во что бы то ни стало.
— А что такое ты читаешь? — с удивлением спросила она. — Как будто Библию?
— Да, обличения пророка Исаии. Он обличил современное ему общество. Раньше я никогда не понимал этого как следует, но и он проповедовал бога — защитника вдов и сирот. Вот послушай: «Горе издающим законы несправедливые и попирающим закон, дабы устранить от правосудия бедных и похитить право у малосильных, ограбить вдов и сирот…» Прямо точно наше общество бичует.
— Плохо он, видно, бичевал, — сказала Дитте, — раз и до сих пор нам приходится бороться все с той же несправедливостью.
— Да, он ведь уповал на агнца. Но не агнцу прогнать волков. По-моему, Христос был слишком мягок сердцем, вот мы и расплачиваемся за это. Нашей земле требуется, как гласит поговорка, «крепкий щелок для паршивой головы». О, как хотелось бы мне дожить до того дня, когда «наступит правосудие», — заключил он с фанатическим блеском в глазах.
— Укройся-ка хорошенько да брось свои книжки, — сказала Дитте, отбирая у него Библию. — А то опять у тебя жар начнется.
Когда они поели, старуха Расмуссен собралась пойти в попечительство — не дадут ли кусочек шпику или грудинки; сегодня там должны были раздавать продукты.
— Карлу необходимо дать чего-нибудь посытнее — тарелку горохового супа с салом.
— Ох, возьмите Анну с собой, — попросила Дитте, — тогда Петер понянчится с братишкой, а мне надо как-нибудь раздобыть Карлу фуфайку.
— Ты бы попробовала пойти к своим на Истедгаде, — посоветовала старуха. — Когда они узнают, что это для Карла, то…
Дитте и сама об этом подумывала.
— Но ступайте скорей, бабушка, иначе опоздаете! — И, выпроводив старуху с девочкой, заторопилась сама. — Ты ведь понянчишь братишку, хорошенько посмотришь за ним? — сказала она Петеру, взяв его за подбородок. — Только не надо ходить к дяде Карлу, он еще слишком слаб.
Петер потерся мордочкой о ее ладонь, словно ласковый жеребенок.
— Мы будем умниками, — ответил он серьезно. — Иди спокойно.
На Готерсгаде Дитте встретила человека, продававшего «Листок безработных», и купила для Карла. Потом сообразила, что лучше порадовать его газеткой сейчас же, и поспешила обратно. Запыхавшись, вошла она в каморку, — Петер оказался там. Мальчик покраснел.
— Как? Ты здесь! — воскликнула мать.
— Я хотел только… — начал он, но замолчал и пошел за нею в большую комнату.
Малыш сидел и играл на своей подушке, положенной на пол. Печка была загорожена треугольником из стульев, чтобы он не мог подобраться к ней, все было устроено очень умно.
— Но я бы все-таки предпочла, чтобы ты не оставлял его, — сказала Дитте, — и ты ведь обещал мне!
— Да меня ноги сами понесли, я никак не мог сладить с ними, — оправдывался Петер, совсем сконфуженный.
— Пусть они в другой раз не несут тебя, — сказала Дитте, целуя его.
У Ларса Петера дела оказались плохи, в доме денег не было.
— Яльмар все забрал у отца, — сказала Сине. — В долг взял, чтобы съездить к себе в Нэствед и заставить своих стариков раскошелиться. Они ведь зажиточные. А мы сейчас не богаче тебя.
Ну, в их-то бедность Дитте не очень верила: одного товару сколько в лавке и в кладовых. Но, разумеется, раз его нельзя превратить в деньги, то все равно толку мало.
— А ты угодила в газеты! — сказала Сипе несколько колко. — Мы даже погордились родством с тобой.
— Ну, некоторые газеты отзывались даже очень хорошо о ней, — сказал Ларс Петер. — И не всякий ведь удостоится чести попасть в газету — с портретом и все такое. Я спрятал газету, — презабавно они тебя изобразили, Ни за что не признаешь. — И он взялся было за боковой карман.
Но Дитте не обнаружила никакого интереса, — довольно было с нее этих газет. Да и гордиться тут, по ее мнению, вообще нечем было.
— Многие ведь приняли твою сторону, — прибавил Ларс Петер.
Напрасно она, стало быть, трудилась заходить к своим. А она-то уж заранее радовалась, представляя себе, как вернется домой с толстой теплой фуфайкой и наденет ее на Карла. Он, бедняга, так исхудал за время болезни, где же его тощему телу сохранять тепло? Сам-то он все шутит над этим, но с мокротой в легких шутки плохи.
Когда она вернулась домой, маленький Георг смирно сидел на полу, играя зубной щеткой. Петер дал ее ребенку, чтобы занять его, а сам сидел рядом — со связанными ногами! Да, он связал их веревкой, да так запутал, что почти не развязать было.
Вернулись старуха Расмуссен с Анной, порядком усталые, но все-таки очень довольные. Им дали кусок копченой грудинки с прослойками сала и четыре фунта картофеля.
— Смотри, какой чудесный кусочек! — сказала старуха. — Теперь бы только гороху еще, чтобы сварить Карлу суп. Ему необходимо что-нибудь посытнее, пожирнее.
Бедная старуха сама питала страсть к жирному. Чем дряхлее она становилась, тем больше думала о еде.
Дитте задумалась, соображая, где взять денег на горох, и как будто витала в облаках. Потом очутилась на земле — с пустыми руками.
— Тебе не жалко будет дать маме взаймы твои двадцать пять эре? — спросила она Петера.
Мальчик не ответил, он начал рыться за подкладкой курточки, монетки там не оказалось. Вдруг он вспомнил, где она, побежал и вытащил ее из-за обоев в том месте, где они отстали. И молча подал матери. Теперь разлетелись и его мечты приобрести матери новую швейную машину. А Дитте давно уже перестала мечтать об этом.
Она подошла к двери Карла, но он спал, у него было темно. Тем лучше, что ей не придется показаться ему с пустыми руками. Он говорил, что отлично обойдется и той одеждой, какая у него есть, но ведь это он сказал, только жалея Дитте. Себя самого он не жалел. Из своего скромного заработка он выкупал ее вещи и давал ей денег на хозяйство, вместо того чтобы обзавестись непромокаемой одеждой. Вот и поплатился за свою доброту. Необходимо добыть ему теплую фуфайку — хоть бы пришлось ее украсть.
Дитте помогла старухе поставить горох на огонь. Та не в силах была поднять большой котелок, а сегодня суп варили в нем, чтобы отпраздновать выдачу грудинки. Затем Дитте снова побежала, чтобы раздобыть где-нибудь денег.
XVII Встреча
Трудно отыскать иголку в сене; найти в городе с полумиллионным населением пять крон оказывается еще труднее. Дитте пришлось убедиться в этом. Она рыскала часа два без всякого результата. Те, кого она знала, были такие же нищие, как она. Просить же милостыни у посторонних — напрасный труд; Дитте, впрочем, и это попробовала. Слишком уж много развелось нищих, и люди, даже не дослушав ее рассказа о фуфайке, торопились дальше.
Около Новой площади ей попалась Марианна.
— Не знаешь ли ты, где мне взять пять крон на теплую фуфайку Карлу? — жалобно спросила ее Дитте. — У него скопление мокроты в легких, и ему нельзя без фуфайки.
Марианна покачала головой.
— Заработай, — сказала она затем. — Другого способа я не знаю. Там, в Новом Порту…
Дитте пошла дальше — через Сенную площадь к Истедгаде. Хотела еще раз попытать счастья у Ларса Петера. Но, дойдя до дверей их дома, все-таки не нашла в себе храбрости выслушать новый отказ из уст Сине. По темным боковым улицам, ведущим на улицу Вестербро, так и шныряли женщины. На главных улицах они не смели показываться, так как боялись полиции, и прятались в тени, в закоулках, у самых выходов на большие улицы и, заманив кого-нибудь, спешили со своей добычей восвояси. Они были тепло одеты, в пышных горжетках, с муфтами. Мех Дитте давным-давно был продан и проеден.
— Послушайте, дружок… подите сюда! — Дитте слышала этот возглас, но не знала, кто это сказал. Неужели она сама!
Какой-то человек круто обернулся, хотел что-то сказать, но осекся. Это был Ванг.
— Вот где мне довелось тебя встретить! — сказал он, глядя на нее с особенным выражением.
Кровь бросилась Дитте в лицо.
— Да. А мне — тебя! — ответила она, гневно сверкая глазами.
— Я не хотел тебя обидеть, — сказал он, протягивая ей руку. — Я только не мог сразу помириться с тем, что это ты.
— Конечно, я, а кто же? — спросила Дитте вызывающе. — Или ты думал: жена твоя? — Она презрительно расхохоталась.
Ванг не ответил. Она почувствовала, что попала в цель. Но поделом ему, если он мог поверить, что она способна на это.
— Да, в былое время ты путал нас! — продолжала она. — А теперь, может, тебе домашний стол наскучил, что ходишь тут да разнюхиваешь?
Она хорошо понимала, что он попал сюда случайно; даже по его походке видно было, что он шел по делу. Но она притворилась, что верит этому — из чувства мести, желая восторжествовать над ним. Злоба, ненависть, отчаяние так и клокотали в ней. Пусть, пусть думает о ней самое худшее, — именно он. Ей доставляло какое-то жестокое наслаждение быть грубой, нахальной и циничной.
— Ну, дружок! Пойдем со мной! — крикнула она ему прямо в лицо грубым голосом и расхохоталась.
Ванг стоял и молча глядел на Дитте с растерянным видом. Потом протянул руку к ней и взмолился:
— Перестань! Ты ведь только помучить меня хочешь, Дитте… — И он с ласковой настойчивостью глядел ей в глаза.
— Ну, конечно, я хочу помучить тебя, а то что же еще? Но в тебе сразу совесть заговорила, — ты подумал, что это я из-за тебя смешалась с грязью. Признавайся! Нет, это только в романах так бывает. Но неужели все-таки я похожа на пропащую женщину?.. Небось они иначе одеваются. Вы, мужчины, не охотники до лохмотьев. Да и поэты тоже их не любят. По крайней мере не в жизни.
— Перестань же, — повторил он, взяв ее под руку. — Пройдемся вместе немножко. У меня лекция в восемь часов, так что время еще есть.
— Знаю, в «Зале»! Я, кажется, читала в газетах. Ты будешь с кафедры поучать нас, барахтающихся в грязи, как мы должны вести себя, чтобы не совсем пропасть от нищеты. Говорят, твои лекции такие нравоучительные. Неужто тебе в самом деле еще не надоело возиться с нами? — Она сделала ударение на последних словах.
— Дитте, неужели ты действительно считаешь меня лицемером? — спросил он, грустно глядя на нее.
— Не знаю, — уклончиво ответила Дитте, — да и не все ли мне равно? Проповедуй себе, коли это дает тебе что-нибудь. По мне — трубите нам в уши, морочьте нас сколько угодно. Мне решительно все равно.
— Пойдем со мной на лекцию и тогда суди сама, лицемер ли я.
— Нет, мне домой надо, к ребятишкам.
— Ты замужем?
Она презрительно расхохоталась.
— Можно прижить ребятишек и без этого. У меня их целых четверо… и любовник в придачу. Лежит дома и ждет меня с заработком.
— У меня нет денег, — тихо сказал Ванг, — но за лекцию я получу пятнадцать крон. Возьми их. Или я пришлю их тебе, если тебе некогда пойти со мной.
— Спасибо, у меня нет адреса, — ответила Дитте. — Меня можно встретить на улице между восемью и двенадцатью вечера.
Он протянул ей руку, очевидно, желая отделаться от нее. Она сгорала от гнева и обиды, от стыда и отчаяния; хотелось обругать и его, и себя, и весь мир за то, что он мог так дурно думать о ней.
— Все вы надругались надо мной, все — каждый по-своему. Никто из вас не пожалел меня! — вырвалось у нее почти криком.
— Дитте, неужели и я хотел надругаться над тобой? Неужели ты так думаешь? — спросил Ванг.
— Нет, конечно, не думаю, — резко ответила она. — Нечего тебе ломать руки. Я не строю из себя невинной жертвы. Но зачем ты поднял меня к свету и дал снова упасть в яму? Ты не знаешь, каково там, внизу, тому, кто заглянул хоть одним глазком в другой мир! Но теперь оставь меня в покое, слышишь! Оставь меня!
Голос се стал невнятным; не прощаясь, она повернула и пошла по улице. Отойдя на несколько шагов, Дитте обернулась. Ванг стоял сгорбившись и смотрел ей вслед. Тогда она кинулась бежать.
Когда она отбежала на порядочное расстояние, сердце дало знать о себе так сильно, что пришлось пойти шагом, едва передвигая ноги. Да и чего ради было бежать, — она сама не понимала. Впрочем, она вообще теперь перестала понимать, что-либо. И меньше всего то, что это был тот самый Ванг, которому она отдала свою чистую, юную любовь. И свою невинность… Ну, да! Она ведь была, в сущности, невинна тогда.
Боже мой! Да разве он похож на мужчину? Как он стоял и моргал глазами под тяжестью нечистой совести, этот благородный грешник!.. Точь-в-точь, как тот богослов, которого Дитте в свое время видела в «приюте ангелов»! Должно быть-, тогда Дитте смотрела на Ванга влюбленными глазами его супруги! С ней бы она была не прочь встретиться!..
Всего меньше Дитте понимала теперь самое себя, — как могла она вести себя так! Словно истеричка. Разве удивительно, что он принял ее за продажную женщину? И разве эти женщины хуже других? Во всяком случае, только их труд и оплачивался неплохо.
Сегодня Дитте во всем сомневалась, нигде не видела просвета, куда бы ни обращала взор — везде сплошной мрак. Ведь предложи она хоть жизнь свою в заклад, никто не даст ей пяти крон на фуфайку. А еще проповедуют, что стоит только не поддаваться, не падать духом!..
Смертельно усталая вернулась она домой. Карл лежал и волновался.
— Это все горох с салом наделал. Я прямо опьянел, — сказал он.
Он и в самом деле вел себя, как подвыпивший, — вытащил свою кровать на середину комнаты!
— Ты вставал? — испугалась Дитте.
— Из-за этих проклятых крыс… Они прогрызли дыру в переборке около самого моего изголовья… видишь? И сколько я ни стучал в стену, ничего поделать не мог. Слышишь? Опять! Вот нахальство!
Крысы преспокойно грызли покатую перегородку. Обои так и шевелились. И вдруг что-то выпало из дыры и покатилось по полу. Дитте посветила лампой — монетка в два эре. Упала еще одна и еще… потом они полились дождем.
— Это клад Червонной Бороды! — воскликнула она почти со страхом, глядя, как сыпались монетки.
Карл мигом вскочил с кровати и в одной рубашке, не обращая внимания на холод и болезнь, начал расширять дыру в стене.
— Гляди! — крикнул он, вытаскивая из отверстия сигарный ящик. — Гляди!..
Ящик был полон позеленевших медных монет по два эре.
Дитте уставилась на деньги. Губы у нее тряслись.
— Хватит тебе на фуфайку, — с трудом проговорила она, силясь улыбнуться, но не выдержала и разрыдалась. Она как-то разом ослабела, страшное напряжение дало себя знать полным упадком сил.
— О чем же тут плакать? — сказал Карл, поддерживая ее, он ведь не знал, что пришлось ей пережить из-за несчастной фуфайки.
Она тихо плакала, припав головой к его груди, — вся ее гордость, все упорство как будто таяли, растворялись в этих слезах. Карл гладил ее по голове, успокаивая, но ничего не говорил. Надо было дать ей выплакаться до конца.
Когда она перестала, он приподнял ее голову и, держа в своих руках это измученное лицо, ставшее от слез трогательно-прекрасным, как осеннее поле в росе, глядел ей в глаза.
— Теперь ты выплакалась на моей груди… теперь ты моя! — серьезно сказал он, но в глубине его глаз словно смеялось что-то. Может быть, это ликовало его сердце. Во всяком случае, Дитте невольно закрыла глаза и прильнула к нему.
XVIII Дитте отдыхает
Хорошо, что Карл поправился, — так как через несколько дней заболела Дитте.
Как-то утром старуха Расмуссен вошла к ней и застала ее в постели.
Дитте попыталась улыбнуться:
— Просто не знаю, что со мной сегодня, но я, право, не в силах встать.
— Так и полежи, моя милая. Не мешает тебе хоть разок отдохнуть хорошенько, — сказала старуха.
Но Дитте лежала и мучилась.
— Просто срам, что я валяюсь без дела, да вот ноги не держат, — оправдывалась она. — Завтра я встану.
На следующий день, однако, вид у нее был еще более изнуренный, и Карл запретил ей вставать.
— Если ты встанешь, я приведу доктора Торпа, — пригрозил он ей. Это подействовало.
Плохо, должно быть, было Дитте, коли она мирилась с тем, что ей приходилось лежать в постели, — что-то в ней надломилось, хотя ни на какую боль она не жаловалась. Вообще-то ведь не в ее натуре было валяться и смотреть, как другие работают.
— Уж не лопнуло ли у нее что-нибудь внутри? — высказала старуха свою догадку Карлу.
Болезнь Карла и напряженная борьба за существование всей семьи — вот что свалило Дитте. Теперь только обнаружилось, как изнурена была она сама. Очевидно, ее заездили основательно, раз она, пролежав два дня и поглядев, как другие работают, предоставила им справляться без нее. Это она-то! Тогда как прежде за все хваталась сама, справляла и свое и чужое дело.
Карл ухаживал за ней. Он был еще слаб, чтобы рыбачить, да и бухту последние дни опять затянуло льдом, место же рыбак оставил за Карлом, пока он болеет.
— Хороший человек и хочет, чтобы я остался у него подручным, — сказал Карл. — Говорит, что я могу отработать свою долю в лодке. Значит, мы с тобой поженимся весною.
Дитте улыбнулась.
Весной! Да, весна была не за горами. Дни становились длиннее, но и зима была суровая. Нагнала льду с Балтийского моря. Бухта Кэге наполовину замерзла. Но и хорошо, что так, — Карл сидел дома. А прокормиться они как-нибудь прокормятся, — ведь не умерли же с голода до сих пор!
Благодаря знакомству с рыбаками Карл уже имел кое-какой заработок, помогая то одному, то другому из них на Старой набережной. Однако это занимало у него лишь утро, и прожить на такой заработок, конечно, нельзя было. Но и рыскать по городу в поисках случайной работы он еще не в силах был.
Однажды Дитте увидела, что он стоит и вертит в руках свою профсоюзную книжку.
— Ты что задумал? — спросила Дитте.
— Да вот, думаю, не сходить ли в союз. Там сегодня раздача продуктов.
— Не ходи, легко ли это тебе!
Ну, раз не можешь работать, то не имеешь права стесняться просить милостыню, — сказал Карл с мрачным юмором.
Вернулся он с пустыми руками. Он был ведь холостой, а на первом плане стояли люди семейные.
— Но это просто потому, что я в оппозиции, — сказал он с горечью. — Мы всегда у них на последнем плане, и когда работу распределяют — тоже, хотят смирить нас, строптивых.
— Да ну их с продуктами этими! — беззаботно сказала Дитте. — Как-нибудь без них перебьемся. Завтра я встану.
Это она говорила каждый день. И когда прошла неделя, Карл привел к ней своего друга доктора. Торп исследовал больную очень внимательно.
— Весьма благоразумно с вашей стороны, что вы дали себе маленький отдых, — сказал он после осмотра. — Я вам пропишу кое-что. Лежите и принимайте. Это подкрепит ваше сердце.
Карл проводил его до ворот.
— Что у нее? — спросил он.
— Все и ничего. Она, как говорится, совсем выбилась из сил.
Карл изумленно глядел на него.
— Говорю тебе, что я никогда еще не видел пациента, до такой степени истощенного — во всяком случае, в столь молодом возрасте. Даже сердце никуда не годится, хотя она, собственно, и не хворала никогда. А ведь сердечные мышцы у нас самые выносливые. Должно быть, жизнь ее была неимоверно тяжела.
— Это правда, — сказал Карл упавшим голосом. — Как ты думаешь, когда она будет в состоянии подняться?
— Не знаю, подымется ли она вообще когда-нибудь; в лучшем случае, не скоро еще. И никакой такой явной болезни нет, которую можно было бы вылечить лекарствами. Предоставьте ей отдыхать, может быть, отдых сделает чудо.
Карл распорядился перевести больную в другую комнату. Там было ей спокойнее, и постель была лучше.
— Доктор говорит, что она скоро поправится, — сказал он старухе. — Но ей нужен полный покой. Детей нельзя оставлять с нею… особенно на ночь.
— Ну, слава богу, что дело не хуже, — обрадовалась старуха Расмуссен. — Я было думала, в ней лопнуло что. Душа надорвалась или в этом роде, если она, всегда такая неугомонная, может лежать неподвижно. Я подобные примеры видывала.
Петера переселили к Карлу в каморку, а маленького Георга укладывали на двух стульях. Старуха Расмуссен должна была спать с Анной.
— Вот и хорошо, моей старой пояснице теплее будет! — сказала она. Старуха всегда со всем мирилась.
Покой оказал по крайней мере то чудесное воздействие, что Дитте повеселела.
Она прямо нежилась, лежа на мягкой, широкой постели, и под боком у нее не было никого, кого бы надо было укрывать и поднимать ночью.
— Вот так же я спала, когда служила у господ, — сказала она. — Тогда у меня тоже была собственная постель с пружинным матрацем. Но я еще слишком молода была, чтобы ценить это.
Дитте теперь иногда перебирала в памяти свое прошлое, — досуга ведь хватало. Когда же Карл говорил ей, что она скоро встанет, она только улыбалась. Он собирался купить хижину близ постоялого двора на берегу моря, — оттуда недалеко приезжать с рыбой на Старую набережную.
— А ты будешь выбирать сельдь из снастей и чинить сети, как, бывало, в поселке, — сказал он.
Дитте слушала молча, не поддакивая и не противореча.
Она была так тиха и покорна и со дня на день становилась все бледнее — от лежания в постели. Губы распухли и посинели. И она часто жаловалась на боль около сердца.
Микстуру Дитте глотала неохотно, Карлу приходилось заставлять ее. Тем не менее лекарство в бутылке убывало. Это старуха Расмуссен прикладывалась. Они посмеивались над ней.
Теперь только обнаружилось, как все любили Дитте. Не было человека в «Казарме», который бы не навестил ее. И все что-нибудь приносили, как ни туго жилось им самим.
— Ты тут лежишь и принимаешь визиты, как королева, — шутила старуха Расмуссен.
Фру Лангхольм явилась с жареным цыпленком и стаканчиком вина, жена булочника принесла сладкий пирог. Неплохо так болеть! Сопливые ребятишки шмыгали с площадки, когда дверь стояла отворенной, и совали Дитте липкие леденцы из своих грязных кулачков. Их посещения радовали ее, пожалуй, больше чьих бы то ни было. Все складывалось на стол возле кровати и так и лежало, — у Дитте не было аппетита. Зато тем больше перепадало детям и старухе; эта четверка умела отдать честь лакомствам.
Старый тряпичник заходил каждый день.
— Ну, как поживает наша мама Дитте? — спрашивал он с площадки лестницы; входить он не хотел. Он последнее время начал трястись всем телом, сильно сгорбился, ноги у него слабели с каждым днем, и сам он становился все грязнее и запущеннее. И память у него слабела. Только спросит о чем-нибудь и сейчас же забудет, — опять спрашивает.
— В детство впадает бедный старик, — говорила старуха Расмуссен.
Забавно слушать! Сама-то она была на целый десяток лет старше.
Но Расмуссен в детство еще не впадала. Хлопотала и всячески изворачивалась, впряглась опять в хомут, несмотря на свои восемьдесят лет. О прошлом своем она и не вспоминала. Не слишком-то хорошо ей жилось в свое время, как можно было заключить из многого. Но она никогда не говорила об этом. Дитте так и не узнала даже, где ее дети. «Коли не умерли еще, так живы», — вот был и весь ее ответ на вопросы об этом, как почти и на все, касавшееся ее прошлого. У нее были более серьезные дела, чем пустая болтовня о прошлом, которого все равно не вернешь, не изменишь.
Зато Дитте это время часто обращалась мыслью к своему прошлому, перебирала в памяти старые переживания, благо у нее впервые в жизни появился досуг.
— Должно быть, я умру, — говорила она, — столько странных мыслей приходит мне в голову. Это всегда перед смертью бывает.
Да, не странно ли, что люди преследовали ее еще раньше, чем она родилась. Они и потом к ней не очень-то хорошо относились, но сначала они просто намеревались избавиться от нее. Странно! Ведь они даже не знали — какова она будет. Это все нищета виновата была. И в смерти бабушки и в медленном угасании Сэрине и тюрьме повинна была нищета.
— Хотелось бы знать, не от нищеты ли все зло на земле? — однажды спросила она Карла.
— Главным образом, по крайней мере, — решительно ответил он. — Удалось бы нам устранить нужду и нищету, мир выглядел бы совсем иначе.
— В детях, во всяком случае, нет зла, — в раздумье сказала Дитте. — Одно время и я строго обращалась с детьми и наказывала их, когда они, бывало, разобьют или сломают что-нибудь, потому что трудно было купить новое. Но если дети разобьют хорошенькую чашку в крону ценой, а в кармане есть лишняя крона, то ведь так просто — взять да купить новую. Стало быть, и проступка нет. Да, нищета — настоящее зло!.. Но если дети не злы, то откуда же злоба у взрослых людей? — продолжала она.
— Взрослые тоже не злы сами по себе, — возразил Карл. — Обстоятельства вынуждают нас к злым поступкам.
— Нет, я, например, злая. Иногда я всех вас ненавижу, и ничто на свете мне не мило. Когда ты был болен, мне приснилось, что ты можешь выздороветь, если я соглашусь пожертвовать для тебя своей жизнью, — из нее сделают тебе теплую фуфайку. Приснится же такой вздор! Но я не согласилась.
— Я сам причинил тебе больше зла, чем кто-либо, — сказал Карл.
— Ты? — Дитте удивленно посмотрела на него. Прежде ее часто злило, что он так бесконечно добр, теперь она радовалась этому — за детей и старуху Расмуссен. Им будет хорошо. Да и ей самой… Уж одно то, что она идет навстречу смерти, держась за его руку, как будто оправдывало, обеляло ее.
— По-твоему, это нехорошо с моей стороны, что мне совсем не жаль расстаться с вами? — спросила она в другой раз.
Карл покачал головой.
— А тебе разве так-таки и не жаль расстаться… ни с кем? — спросил он со слабой надеждой.
Дитте подумала.
— Пожалуй, с маленьким Петером. Он может научить человека быть добрее.
— Не хочешь ли ты взглянуть на Йенса, — как он вырос! — спросил Карл. — Я привезу его.
Нет, зачем? Теперь Дитте и не узнает его, он стал ей совсем чужим. А чужих детей и здесь довольно, есть на кого порадоваться.
— Те слезы давно уже высохли, — добавила она. — Я думаю, все равно — сама ли ты родила ребенка или нет. Главное — жить с ним, заботиться о нем и отвечать за него. С кем вместе живешь, о ком заботишься и за кого отвечаешь, того и полюбишь непременно.
— И так как ты заботишься обо всех нас и за всех нас отвечаешь, то всех нас и любишь, — сказал Карл, целуя ее.
— Нет, я ни за что больше не отвечаю, — возразила Дитте. — Не хочу.
— Еще бы, ты устала! Но вот ты отдохнешь и опять соберешься с силами… Не забудь, тебе всего двадцать пять лет.
— Разве не больше?.. Да ведь и в самом деле! — Дитте радостно рассмеялась. — А я-то воображала себя такой старой-старой… Сколько я пережила! Право, я, должно быть, никуда уж не гожусь, и меня надо основательно починить. Как вспомню себя маленькой, когда я бегала, держась за бубушкину руку, сидела около нее и читала ей, — мне кажется, с тех пор прошла целая вечность. Какой это был долгий и тяжелый путь, Карл. И Хутор на Холмах и Сорочье гнездо — как все это далеко позади!
— Да, ты всю жизнь работала… не была лежебокой. И много выпало на твою долю тяжелого… В сущности, тебе никогда не жилось хорошо. Но теперь ты хорошо заживешь, обещаю тебе.
— Да, да. Мне уже и теперь хорошо. Я как будто переселилась в другой мир, где нет никаких забот и обязанностей. Никто меня больше не зовет как будто, — ты понимаешь? Дети, правда, еще требуют забот — славные малыши, я ничего от них не видела, кроме добра. Но и это, как все прочее, словно передано в чьи-то другие руки… Или как будто нищета уже уничтожена!.
О, не будь только нищеты! По-твоему, ее можно уничтожить? Делается ли для этого что-нибудь по-настоящему? Пелле ничего не предпринимает?
— Как же, он как раз внес предложение об устройстве коммунальных яслей, — ответил Карл. — Они должны находиться под контролем врачей и устроены по последнему слову гигиены — с ваннами, паровыми прачечными и стерилизацией молока. Служащие будут доставлять детей в ясли и обратно домой, чтобы избавить матерей от этой беготни. И возить детей будут, кажется, в особых закрытых повозках.
Глаза Дитте заблестели.
— Вот будет чудесно! — воскликнула она. — Так удобно. — Но, поймав взгляд Карла, она досадливо спросила: — Разве и тут есть что-нибудь неладное?
— Мне бы не хотелось огорчать тебя, — ответил Карл, — но не этим путем надо нам идти. Лучше бы дать матерям возможность остаться дома, при детях. А то все рассчитано только на расширение производства и увеличение прибылей.
— Это верно, — согласилась Дитте удрученно. — Знаешь, что ужасно? Что не смеешь ничему порадоваться. За всем кроется какой-нибудь подвох. И вот ты видишь, что кроется в том, что мне показалось хорошим, а другой, может быть, увидит что-нибудь плохое в том, что тебе кажется хорошим, и объяснит это по-своему.
— Да, пожалуй, не скоро люди дойдут до сути, а может быть, скорее, чем нам кажется, — задумчиво сказал Карл.
Пока они разговаривали, Карл поглаживал руки Дитте, у него была такая привычка.
— Теперь ты можешь даже поцеловать их, — сказала Дитте, — они стали такие мягкие и гладкие.
Он взял обе ее руки и, поднеся к губам, спрятал в них лицо. Дитте улыбнулась счастливой улыбкой.
— Помнишь, я когда-то жаловалась, что руки у меня загрубели от черной работы и ничего с ними не поделать? А ты поцеловал и сказал, что мне нечего стыдиться моих загрубелых рук, что они мой лучший аттестат и на небе, и здесь, на земле. Тогда я не поняла тебя и только оторопела. Но теперь понимаю, что ты хотел сказать. А ночью мне приснилось, что и сам господь поцеловал мои руки — не странно ли? Он стоял в райском саду, куда приходят на покой все усталые… И я пришла, а другие не хотели пустить меня. «Она слишком молода, — может еще немножко поработать», — говорили они. Но господь взял мои руки, поглядел на них и сказал: «Она достаточно поработала. Мои собственные руки были не лучше, когда я кончил творить мир». И он взял и поцеловал их, а мне стало так стыдно. Они ведь были такие грубые. Но он потому именно и поцеловал их, и тогда все мне поклонились.
Она устала говорить и закрыла глаза. Карл сидел около нее молча, чтобы она заснула. Вдруг Дитте подняла голову и сказала, словно прислушиваясь к звукам с неба:
— Слышишь? Опять поют псалмы!
— Это в большом коридоре… новый жилец, — сказал Карл. — Для меня-то он, впрочем, старый товарищ, с водокачки. Чудесный малый. Но он всегда поет псалмы, когда один. Он борнхольмец, а они все немножко не в своем уме.
Мысли Дитте перескакивали с одного на другое, и теперь ей пришло в голову нечто новое.
— Бабушка всегда говорила, что мы, Манны, как овцы: чем короче нас стригут, тем гуще мы обрастаем шерстью опять. Верно это? Ты ведь сам из рода Маннов.
— Да, пожалуй, верно. Про Маннов говорят, что они больше живут сердцем, чем умом. И не умеют постоять за себя. Таких людей давят, нас и придавили. Как ни многочисленны Манны, а все остаются на дне, — заметь себе. Шерстью мы обрастаем густо, и я об этом не жалею, — когда-нибудь мир благословит нас за это, я думаю. Но вовсе не безразлично, кто стрижет нас. До сих пор ножницы держал сам черт, так мне кажется. Ты согласна?
Но теперь она в самом деле уснула, спокойно и крепко. Карл на цыпочках вышел из комнаты. Он хотел воспользоваться временем, пока Дитте спит, чтобы навестить кое-кого из безработных товарищей и узнать о положении дел. Он знал, что начинается брожение, — все возраставшая нужда озлобляла; поднимался ропот и против властей, и против собственных вожаков; раздавались призывы к общей забастовке с прекращением подачи и газа, и воды, и электричества; слышались даже угрозы, что рабочие сами возьмут дело в свои руки! Ему хотелось разузнать обо всем поподробнее; за последнее время он перестал встречаться с товарищами из профсоюзной оппозиции.
XIX Петер собирает уголь
Старуха Расмуссен оказалась права как всегда: Дитте все-таки поднялась. Слишком она была крепко сколочена, чтобы сразу рассыпаться. В один прекрасный день она спустила с кровати ноги и сказала, что хочет сегодня помогать старухе изготовлять зажигалки. А как только у нее в руках оказалось дело, так и подошвы зачесались, — понадобилось встать. Сил у нее, конечно, было еще немного и под вечер она опять слегла, но все же это был шаг вперед. Если приналечь хорошенько, они вдвоем со старухой могли бы выработать в день почти крону. Наконец-то работа делалась не впустую; в эту стужу на зажигалки был большой спрос.
Помогал им и Карл, когда у него не было другой работы, повыгоднее. За работой они беседовали и проводили время превосходно, — особенно по вечерам, уложив детей спать. Дитте тоже лежала в постели, там ей было уютнее; стол с работой придвигали к кровати.
Маленький Петер стал за это время чуть не главным добытчиком в семье. Он зарабатывал почти столько, сколько все остальные вместе. Придет из школы, поест и уже отправляется с Эйнаром в поход, забрав с собой два мешка и старую детскую коляску; в ней мальчики привозили уголь. Вернувшись домой часов в семь вечера, Петер приносил полкроны или целую крону. Молодец он был на этот счет, даром что такой маленький и тихий с виду.
Смельчаки они были оба, и он и Эйнар. Город знали вдоль и поперек, знали, где можно заработать те гроши, из которых складывался дневной заработок. Добыть эти монетки было не так-то просто, частенько одну приходилось зарабатывать у Северной заставы, другую — на противоположном краю города или даже за городом. Ног ребятишки не жалели. Но еще больше работы доставалось мозгам. Если не шевелить мозгами, — только башмаки трепать зря.
Когда мальчик возвращался домой и тихо, как и все, что он делал, клал свой заработок на стол, не говоря ни слова, старуха всплескивала руками:
— Господи! Ну и работник! Быть ему когда-нибудь миллионером. Где же ты заработал столько денег? Надеюсь, не стибрил?
Дитте видела, что мальчик устал, и не расспрашивала ни о чем, но с особой нежностью помогала ему снять рукавицы и верхнюю курточку. Она всегда оставляла ему чего-нибудь горячего в печке, часто больше, чем другим, так как он ведь был в некотором роде кормильцем семьи. Покормив мальчика, она укладывала его в постель, и он моментально засыпал.
Тогда она тщательно осматривала и приводила в порядок его одежду, а затем прилаживала где-нибудь новый кармашек. Петеру хотелось иметь как можно больше карманов — больше, чем у кого-либо из школьников, — это тешило его мальчишескую гордость. Так уж пусть в этом-то отношении он не чувствовал бы себя бедняком. Бели у нее была для него какая-нибудь обновка, она укладывала это на его сложенную одежду. Просыпался он обыкновенно свежим и бодрым, находил обновку и очень радовался, потом развертывал куртку и штанишки и искал, не вырос ли у него за ночь новый карман.
Петер не любил рассказывать, как он охотится за заработком. О чем тут рассказывать? Что ему пришлось целый час — пока погонщик сидел в трактире — караулить несколько голов скота на Скотном рынке, продрогнуть, как собака, и получить за это двадцать пять эре? Что удалось заработать десять эре, сбегав за бутылкой пива для шкипера одной баржи, стоявшей на якоре у Газового завода, и пятнадцать эре, сбегав к Северной заставе с письмом от штурмана? Или, что относил за за город спешное письмо и не получил за это ничего, так как велено было принести ответ, а человека того не оказалось дома? Подобные неудачи случались. Эйнар уверял, что такие поручения давались всегда с целью надуть, и требовал плату вперед. Но Петер был, стало быть, глуп и доверчив — о чем же было тут рассказывать? Героического в этом ничего не было.
А если он и совершал подвиги, то о них-то как раз и не следовало рассказывать; во всяком случае — взрослым; они слишком глупы. Поэтому мальчуган и помалкивал. Главный заработок давал им уголь, но и тут нужны были и удача и отвага, так что опять болтать много не стоило. Когда мальчики уходили после обеда из дому, катя перед собой старую детскую коляску, они были похожи на двух простодушных ребятишек, отправлявшихся завоевывать мир и воруженных детской наивностью. И возвращались они вечером домой такими же, только усталыми до смерти. Но между этими двумя моментами было немало переживаний.
Как только они выходили из своей улицы, они сбрасывали с себя свой детский наивный вид и превращались в двух маленьких насторожившихся хищных зверьков, от внимания которых ничто не ускользало. Они поделили между собой город. Главной ареной действий одного служила Сонная площадь с прилегающими к ней районами — бойнями и пристанью Газового завода, где всегда было много рабочих и матросов. Другой брал себе район Старой и Новой площади с университетом и улицами, где обычно останавливаются приезжие крестьяне. Через день мальчики менялись районами, — главным образом из-за «угольной вагонетки», как они называли остов детской коляски. Тот, кто шел на Сенную площадь, забирал с собой коляску и прятал ее за одним из вагонов Скотного рынка. Не очень-то весело было таскаться с нею — и некрасиво и неудобно, так как у нее недоставало одного колеса. Но все же уголь перевозить в ней можно, а уголь был для них главной доходной статьей. Когда ничто другое не удавалось, выручал уголь.
И сегодня мальчики, по обыкновению, встретились в пять часов на том месте, где была спрятана их «угольная вагонетка». День выдался плохой. Эйнар заработал тридцать эре. Петер — всего двадцать. Они разделили деньги поровну, как всегда, и отправились наверстывать упущенное. Для этого был один способ — насобирать угля и продать. В конце Южного бульвара проживала старуха, державшая лавчонку в подвале; она давала за мешок угля пятьдесят эре, и они часто продавали ей. Уголь же валялся всюду — на набережных, около Газового завода, а больше всего на огромном железнодорожном участке, прилегавшем к товарной станции. Но вход был запрещен, так что туда мальчики отправлялись лишь в крайнем случае. К пакгаузам, что около Глиняного озера, мальчики давно перестали ходить, — слишком далеко было, да и полусожженный кокс не то что настоящий уголь.
Сегодня времени терять было нельзя, и поэтому они остановились на железнодорожном участке. Чтобы проникнуть туда незаметно, надо было идти до самой тюрьмы, где участок освещался слабо. Мальчуганы припустились со своей «вагонеткой» бегом. Эйнар катил ее, а Петер поддерживал с того бока, где не хватало колеса.
По дороге они обсуждали планы действий. Старухе торговке пойдут два мешка, это составит целую крону — стало быть, каждый из них принесет домой по семьдесят пять эре. Затем мама Дитте могла обойтись без угля еще один день, у матери же Эйнера уголь весь вышел, и вдобавок завтра у нее стирка. Стало быть, надо два мешка с половиной, это они наберут живо.
Уже почти у самой Садовой улицы они прокрались на железнодорожный участок, оставив свою «вагонетку» на дороге. Набрав каждый в свой мешок угля, сколько в состоянии были снести оба вместе, они перетащили мешки к коляске и ссыпали все в один мешок. С другим они вернулись обратно и стали собирать в него оба, держа его каждый за свой угол и волоча за собой. Набрав опять по силам, они стащили и опорожнили и второй мешок в первый; и так раз за разом, пока первый мешок не был набит битком — лишь взрослому снести впору. Зато и устали они. Из второго мешка они высыпали уголь прямо на землю около вагонетки с тем, чтобы, когда наберется порядочная куча, набить и второй туго. Это была нелегкая задача. Старая торговка требовала, чтобы мешок был набит доверху, иначе сбавляла цену. Мальчики уже ко всему приноровились. Но времени на это требовалось немало, — почва была такая неровная, освещение плохое, да и возить далеко приходилось, а на «вагонетку» больше одного мешка сразу нельзя было нагрузить.
— Слушай, пойдем подальше, там у самого полотна угля много, и там светлее! — предложил Эйнар.
Они покатили «вагонетку» вдоль забора и у самого полотна сползли вниз со своим мешком.
Тут уголь валился всюду и пропадал зри; его затаптывали в грязь и в снег. Собирать его, однако, считалось большим преступлением. Если поймают — вздуют или в полицию сведут.
Полотно было ярко освещено, дуговые фонари висели высоко в воздухе, словно огненные птицы, парящие на распростертых крыльях. Когда же они взмахивали крыльями, полотно на секунду погружалось в полумрак. Мальчики держались в тени нескольких больших вагонов. Невдалеке слышались крики людей и свистки маневрировавших паровозов. Мальчики работали неутомимо, как пчелы, торопясь покончить сбор, не разговаривали и даже не перешептывались. Всюду тянулись высокие шпалы и рельсы, о которые легко было споткнуться. Эйнар остерегал Петера, дергая его за рукав. Петер начал дрожать, страшно было, но делать нечего, да и привыкли они, как ни малы были, шмыгать взад и вперед под колесом судьбы.
Вдруг голоса раздались совсем близко от них, какой-то человек бежал и кричал: «Ах вы, чертенята!» Эйнар потащил Петера за собой в тень товарных вагонов, но Петер упустил свой угол мешка и упал — прямо в полосу света. И свет быстро приближался. В левой руке Петера было зажато что-то белое, зажато крепко, чтобы не потерять. Он хотел упереться коленками в мерзлую землю, но одна нога завязла в стрелке. А на него катилась серая, чудовищно-огромная угольная платформа — без паровоза, только на задней подножке висел человек и поглядывал вперед. Мальчик громко закричал от ужаса…
Когда его подняли, он увидел Эйнара, на четвереньках ползущего по насыпи и волочившего за собой мешок.
Затем все вокруг него погрузилось во мрак, словно огненные птицы разом снялись со своих мест и улетели.
XX Золотое сердце
Поуль зашел проститься с мамочкой Дитте. Он получил письмо от Кристиана из Гамбурга, где его корабль простоит еще две недели. Настоящее письмо, на четырех страницах. Кристиан пространно описывал, как хорошо быть моряком, и звал Поуля, пусть он приезжает немедленно. И пусть только приедет, об остальном уж Кристиан позаботится. В письме были вложены и деньги на проезд, все как следует. И Поуль собирался уехать завтра же утром — в чем был, без долгих сборов. Ни мастер его, ни родители не будут знать ничего, пока он не очутится за морем. Никто — кроме Дитте — не должен знать ничего! Но, может быть, она не одобряет его намерения?
— Нет, поезжай себе, если тебя тянет на простор, — сказала Дитте. — Никаких таких особых причин нет тебе киснуть здесь. Кристиан тоже сбежал, и ничего худого из этого не вышло.
К родителям она обещала сходить после его отъезда.
— Сине можешь и не кланяться от меня, — прибавил он.
— Нехорошо это, — сказала Дитте. — Она ведь ничего худого тебе не сделала.
— Прямо-то не сделала, но она такая… Не люблю я ее. Порочит всю нашу семью… потому лишь, что Яльмар скрылся.
— Как, он не вернулся? Ведь он занял у отца деньги на эту поездку!
— Не вернулся, а Эльза…
— Ну, что же Эльза? — со страхом спросила Дитте.
— Да, знаешь…
Поуль заплакал и быстро простился. Пора ему, дел еще много.
Странно было на душе у Дитте. Вот и Поуль у и дет… как Кристиан в свое время. Пожалуй, она не увидит больше ни его, ни Поуля. Она словно сына родного отпустила сегодня на все четыре стороны!
За Эльзу обидно, но уж не такое это ужасное несчастье. И у Сине, во всяком случае, нет особых причин относиться к этому так серьезно, ведь сама она в молодости страховала свою добродетель вкладами в сберегательную кассу!
Вернулась старуха Расмуссен с Анной. Они были в гостях у тетки Гейсмар и пили там кофе — она праздновала день рождения.
— Она опять в другую веру переходит, — сказала старуха. — Теперешняя ее вера, — как бишь она называется? — ничего больше не дает.
— Как она называется? Что такое вы говорите, бабушка! Ведь тетка Гейсмар той же веры, что и вы, — улыбаясь, сказала Дитте.
— Разве? Ну, понятно, от этой веры не разжиреешь. Я, по крайней мере, никогда не замечала, чтобы на нас манна с неба падала. Но тетка Гейсмар, кажется, к мормонам переходит.
Дитте рассмеялась.
— Смейся, смейся, — сказала старуха и сама засмеялась. — Во всяком случае в такую веру, где сызнова крестят. А кстати: не пора ли Георга окрестить? Люди уже удивляются, что он у нас до сих пор некрещеный, говорит тетке. Гейсмар.
— Придется еще подождать с этим — пока немножко разбогатеем. Вы у нас крестной будете, бабушка.
— Да уж кому же ближе быть крестной, как не мне, — с самого его рождения с ним нянчусь!.. И, по крайней мере, знать будем, как его звать по-настоящему. Георгом ли его нарекут или иначе как?
— Но, бабушка, ведь его уже назвали Георгом, — возразила Дитте.
— То есть мы зовем его Георгом, но имени у него еще нет, пока он не окрещен, — насколько я понимаю… Да можно ведь окрестить и без денег, если кто не в состоянии заплатить, — продолжала старуха. — Они обязаны скорее сделать это бесплатно, чем дать душе погибнуть.
Но, разумеется, с кого только можно содрать денежки, они сдерут.
Дитте подала ужин.
— Поешь-ка лучше, да малышей укладывать пора.
Карл отправился на рыбную ловлю — в первый раз после своей болезни.
— А сама ты разве, ничего не хочешь? — спросила старуха.
— Нет, я дождусь Петера. А то он все один ужинает и носом клюет над тарелкой. Жалко мальчишку.
— Да ведь тебе тоже в постель пора. Ты еще больна, не забудь, — сказала старуха.
Нет, Дитте дождется мальчика. Сегодня она как-то особенно соскучилась по нем. Так хотелось обнять его покрепче и, глядя в его серьезные детские глаза, слушать, как он, положив ей руки на плечи, начнет говорить: «А знаешь, мама?» Так Петер начинал каждую фразу. Смешить он был не мастер, но такой добрый.
Анна, наоборот, такая уморительная девочка, настоящая проказница-мартышка, когда была в хорошем настроении. Вообще же ей ничего не стоило разгневаться. Но если она была веселой, вот как сегодня, никто не мог устоять против нее. За ужином она, изображая всяких троллей и диких зверей, строила такие рожицы, что старуха Расмуссен чуть не падала со стула от страха. Братишка тоже потешался, хохотал и прыгал на коленях у матери. Эта тройка отлично забавлялась. Сама же Дитте не принимала особого участия в веселье, — шумные забавы теперь не по ней, она стала такая тихая после болезни. И для нее было настоящим облегчением, когда они все отправились в постель — старуха тоже устала и улеглась одновременно с малышами.
Дитте села за работу, не переставая думать о Петере. Ей жалко было, что он так запоздал сегодня, — устанет еще больше обыкновенного. Должно быть, сегодня ему особенно не везло, случилась какая-нибудь неожиданная неудача, что иногда бывало; вообще же он такой аккуратный. Грешно, что мальчуган столько работает, вечно занят, и поиграть ему некогда. Как только она сама немного поправится, этому надо положить конец. Не то с ним случится то же, что было с нею, — и он лишится детства и не будет знать, за что взяться, когда ему выпадет на долю часок-другой поиграть. Не то чтобы Дитте чувствовала себя обиженной или недовольной тем, как сложилась его жизнь, но детство, проведенное без игр, оставило ощущение какой-то пустоты в ее сердце и в уме, и это ощущение до сих пор не сгладилось. Надо также постараться добыть Петеру какую-нибудь настоящую игрушку. Ему хотелось локомотив и рельсы. Пока же он не расставался со своей зубной щеткой, вечно она была зажата у него в кулачке и стала невероятно грязной, а вымыть ее он не давал. Поиграть как следует ему никогда не приходилось, вот он и обратил щетку в игрушку, не выпускал ее из рук. Вдобавок это был единственный подарок, полученный им за всю жизнь и чего-нибудь стоивший. А то, кроме старого хлама, случайно подобранного где-нибудь на свалке, у него никогда ничего не было.
Когда часы на башне дворца Розенборг пробили десять, Дитте не на шутку встревожилась. Дорого бы дала она, чтобы Карл был дома. Идти разыскивать мальчика было бесполезно, — неизвестно, в каком конце города он находился. Но ей нужно было, чтобы кто-нибудь сказал ей: «Он придет, будь спокойна, ничего не случилось, просто он запоздал сегодня. Может быть, они с Эйнаром зашли в цирк, мало ли что приходит в голову мальчикам!»
Она уговаривала сама себя, но именно потому, что не верила себе, ей так хотелось услышать это от кого-нибудь другого. Лучше всего от Карла, — он никогда не говорил ничего, в чем не был уверен сам.
Поминутно подходила она к окну и выглядывала во двор, и каждый раз, заслышав шаги на лестнице, приотворяла дверь в длинный коридор.
Внизу у Андерсенов зажгли огонь, Дитте спустилась к Сельме, — не знает ли та чего. Сельма, видно, бегала на поиски и не успела еще скинуть платка с головы. Лицо у нее было заплакано.
— Что могло случиться? — спросила она Дитте. — Я целых два часа рыскала повсюду. Мы ведь сидим и мерзнем, он обещал принести угля, и вот… этого еще никогда не бывало! Он большой озорник, но дела никогда не забывает… затопить нечем! — Она опять заплакала.
— Возьми у меня угля, — предложила Дитте. — Это еще не самая большая беда, я боюсь…
Но Сельма продолжала жаловаться, даже не обратив внимания на предложение. Она цеплялась за уголь, лишь бы только не взглянуть в глаза истине.
Женщины потолковали было — не пойти ли заявить в полицию. Но ни той, ни другой не хотелось вмешивать в свои дела полицию, — обе они были незамужние. Да мальчики и сами придут, не стоит выдавать себя, рассказывать полиции, на какие штуки приходится детям пускаться. Разумеется, они придут, они ведь такие молодцы оба и привыкли выкручиваться из всяких бед. Как же им не прийти!
— Может, где пожар случился, — тогда мальчишки все на свете забыть готовы! — продолжала Сельма. Она сама сколько раз видела, как дети простаивали на пожаре всю ночь напролет, забыв обо всем.
Дитте вернулась к себе и продолжала ждать. Долго сидела она, зажав рот рукой, точно не давая чему-то вырваться наружу и пристально глядя в огонь лампы невидящими глазами. Потом силой взяла себя в руки. Нет, не поддастся она черным думам! Встала и вынула из старого комода свою черную вязаную безрукавку, уцелевшую у нее с тех времен, когда она служила прислугой. Надевалась эта вещь только по праздникам и была совсем как новая. Дитте распустила ее, затем взяла длинные деревянные спицы и начала вязать. Петер всю зиму мечтал о вязаной шапке с кисточкой, да все не на что было купить шерсти для вязанья. Теперь у него будет и шапка, и шарф, и напульсники — все одинаковое! Вот обрадуется! Дитте смутно представлялось, что, если она исполнит самое заветное желание мальчика, он придет, непременно придет!..
Мало-помалу, однако, напряжение воли ослабело, усталость взяла свое, и Дитте уснула счастливым сном. Ей снилось, что Петер с нею, стоит, прислонившись к ее плечу, как всегда, когда они бывали одни, и кладет на стол свой заработок. «Чуть было не остались сегодня ни с чем, — говорит он со своей забавной серьезностью, — но потом все-таки заработали кое-что».
Дитте проснулась от шума во дворе, — извозчик Ольсен шел задавать корм лошадям. В комнате было холодно, лампа слабо коптила. Теперь Дитте больше не сомневалась. Она прибрала в комнате и пересмотрела все детское белье и платье. Лицо у нее совсем застыло, словно окаменело. Пересмотрела и Карловы носки, — чтобы старухе Расмуссен было поменьше работы. Пробрала штопальной бумагой все проредившиеся места: тем дольше проносятся, и старуха успеет передохнуть. Только скорее, скорее бы разразилось неизбежное! Словно камень давил сердце или застряла острая кость. Пришлось раскрыть окно, чтобы не задохнуться.
У Сельмы все еще светился огонь. И она, видно, ждала! По двору прошлепали деревянные башмаки, — проковыляла газетчица со своей тяжелой кипой газет и сунула «Листок» в дверь Сельмы. Вскоре по лестнице послышались тяжелые шаги Сельмы. Дитте знала, что это означает. Сельма плакала, держа газету трясущейся рукой.
— Тут напечатано… — сказала она, всхлипывая.
Но Дитте по ее голосу поняла, что она не Эйнара оплакивает.
Да, вот оно напечатано:
«Ужасное несчастье на товарной ветке. Ребенок попал под грузовую платформу. Обе ноги раздроблены. — Дитте читала чисто механически; она ведь уже заранее знала это… Уже перестрадала это. — Бедняжка немедленно очутился на операционном столе и лежал, обводя докторов и сиделок большими удивленными глазами. Видимо, он был еще в сознании, так как, когда сестра милосердия стала ножницами разрезать на нем одежду, он заплакал и сказал: — Не режьте платье, мама огорчится»…
В груди у Дитте вдруг стало так отрадно-легко, когда она услыхала эти последние слова своего умиравшего мальчика. Как будто застрявшая в сердце косточка пробила себе дорогу и выскочила.
Она нагнулась, — изо рта у нее хлынула кровь.
XXI Смерть
Дитте медленно открыла глаза. Взглянула на себя, на свои белые исхудалые руки, вытянутые на белой простыне: вокруг кистей белые оборочки, и наволочка с оборочками, и по груди у нее бежит оборочка ночной рубашки, одним концом подымаясь кверху и обрамляя шею, другим спускаясь вниз. Дитте уже пришлось однажды лежать во всем белом, — когда она родила Йенса. Но тогда ее волосы падали на это белое золотистыми волнами, а рядом с нею лежал плачущий младенец. Теперь ее жиденькие волосы прилипли к затылку и к вискам. И шея у нее стала тонкая, как у птицы, она знала это и не глядясь в зеркало; сухожилия так и выделялись, когда она повертывала голову.
Умерла она, что ли, или только готовится умереть? Да. Она находится в большой комнате, — вон знакомые трещины на потолке, — и лежит на хорошей кровати с пружинным матрацем. И верхнюю перину узнает по тому, как она мягко прикасается к коленям; это верхняя хорошая перина. Но кто надел на подушку эту красивую белую наволочку? «Астрид Лангхольм» — вышито на одном углу. На минуту Дитте пожалела было, что ей не придется поухаживать за фру Лангхольм, как обещала и чему заранее радовалась сама. Но это ощущение было мимолетно.
Она лежала с закрытыми глазами в полудремоте. Кто-то подкрался к двери и заглянул в комнату. Дитте заметила это, но не разглядела кто. Может быть, Сэрине или вдова Ларса Йенсена? Впрочем, не все ли равно. Но вот Людоед мелькнул между дюнами. Он отстрелил себе полчерепа и бродил теперь, высматривая, не пригодится ли ему чей-нибудь чужой череп. Хорошо, что он не заметил Дитте! Прибежал Кристиан с пораненной ногой. Дитте забинтовала, как сумела, — он спешил. «Придется держать для мальчика пару ног в запасе, — подумала Дитте. — Трактирщик обязан дать в долг». Тут вдруг в дверях показалась хозяйка Хутора на Холмах, высокая, тучная, с книгой законов в руках. «Теперь ты осуждена», — сказала она и начала хлопать книгой по дверному косяку, каждый удар означал целый год тюрьмы. Да что же она? Никогда не перестанет?! Ведь столько лет не наберется во всем мире!..
Дитте с трудом приоткрыла глаза на минуту. В дверях стояла фру Лангхольм и тихонько стучала. Она улыбнулась, на цыпочках прошла к кровати и села. Дитте почувствовала, что ей обтирают лицо.
— Дети у нас, — прошептал ей кто-то на ухо. — Не беспокойтесь о них.
— Дети? — Дитте силилась понять смысл: дети? Да ведь они повсюду бегают.
Чья-то рука легла ей на лоб и вернула ее к сознанию действительности. Это рука Карла. Дитте улыбнулась и открыла глаза.
— Лучше тебе? — шепнул он, наклоняясь к ней.
Она чуть кивнула, не раскрывая рта — ради Карла.
Он думал, что если она не будет разговаривать, то скорее поправится. Фру Лангхольм простилась, пожелав Дитте выздоровления. Карл занял ее место. Он сидел и держал Дитте за руку, ставшую совсем прозрачной, но ничего не говорил, разговаривать не следовало.
Дитте опять погрузилась в свои мысли-грезы. Она следовала за маленькой девочкой, одиноко бродившей по лесу. Вот она вышла к реке. Через реку ведет мостик — в Сказочную страну. Что сталось с той девочкой? Она получила башмаки, которые были ей слишком велики, а бабушке слишком малы, но стала ли она принцессой? Дитте захотелось спеть «Песенку пряхи». Но она не могла припомнить ни слов, ни напева.
— Теперь мне надо уйти, — шепнул Карл над самым ее ухом. — Но старуха Расмуссен в кухне и будет заглядывать к тебе.
Спасибо! Ведь старуха Расмуссен не знает «Песенку пряхи» и петь совсем не умеет. Вот борнхольмец, тот умеет. Теперь он опять запел свой любимый псалом: «Эффафа![Прозрей!» Он помешан, не оттого ли и поет так много? Дитте хотелось бы взглянуть на него — каков он? Она еще не видала его.
Заметно ли, что он помешанный? И видит ли в нем господь бог какую разницу с другими? Для него, пожалуй, мы все одинаковы — умные и безумные. И тяжелее ли живется безумному, или, может быть, он легче все переносят? Нет, ведь в чем вся тяжесть жизни? В чувстве ответственности, а борнхольмец взял на себя страшную ответственность за благо всех людей, — говорит Карл. Может, в этом-то и безумие его?.. А сама она? Не вела ли она себя тоже как безумная?
Самой Дитте казалось, что она ничего не совершила, ведь она все время как будто несла огромную тяжесть в гору — все эти заботы: чем прокормиться, во что одеться, как согреться? И каждое утро оказывалось, что тяжесть за ночь опять скатилась вниз и надо весь день снова тащиться с нею в гору. Ужасно!
Борнхольмец все пел свое: «Эффафа! Прозрей!» Как знать, долго ли он выдержит? Но если, как говори! Карл, еще три тысячи лет тому назад судьи и пророки израильские громили тех, кто эксплуатировал ее и маленького Петера, если тогда еще пытались всколыхнуть массы, то, значит, им ничего не удалось: люди глухи и немы по-прежнему! И безумный прав, вечно распевая «Эффафа!» Может, правда, уши и глаза у него открылись, он правильно поступает. Да, мало, значат, подвинулось дело, если тот, кто действует правильно, слывет безумцем!..
В дверях стоял человек и пристально глядел на нее странно колючими глазами, глубоко сидевшими во впадинах. Мысль в них мелькала, как светлая точка мигающего в темноте огонька.
— Можно войти? — осторожно спросил он. — Я тебя хорошо знаю. Карл много о тебе рассказывал, и я пришел тебя поздравить с наступающей смертью. Сейчас узнаешь причину.
Он осторожно затворил дверь, вошел и сел несколько поодаль. Долго сидел он, нагнувшись вперед, упираясь руками в колени и задумчиво глядя в пол. Дитте с напряжением ждала, что он скажет ей, с таким напряжением, что у нее закололо в сердце и она застонала.
Он несколько раз кивнул с самодовольным видом, как будто хотел сказать, что так должно быть.
— Ты, может быть, заметила, что наступило великое время! — спросил он, подняв голову.
— Да, и тяжелое время, — прошептала Дитте, с ужасом вспоминая вдруг безработицу и нужду.
— Я говорю: великое время, — сказал он с, досадой. — Тяжелое уже позади. Мы с тобой вдвоем должны окончательно прогнать его. Для того ты и умираешь. Господь бог посылает нам злое, чтобы мы превращали его в великое. Но это не всякому дано. Знаешь, почему мы все блуждали по пустыне и никак не могли найти выхода из нашей нищеты? Потому что уши наши не были отверсты, глаза не видели. Но однажды господь бог коснулся ушей и глаз моих: Эффафа! И я увидел ясно все: у нас и глаза и уши засыпаны землей! Знаешь ты, кто я?
Он глядел на нее взором фанатика.
Дитте слабо качнула головой, — она не совсем твердо была уверена.
— Я пролетарий, вот уже много тысяч веков, и потому мне дано было прозреть и сделать великое открытие. Товарищи на водокачке смеялись надо мной и над моим открытием. Карл был лучше их всех, но и он не мог постигнуть всей правды. Я додумался, что душа наша самостоятельное существо, которое бьется за наше благо там, в мировом пространстве! За каждое доброе дело начисляется одно очко. И я стяжал первый приз за то, что страдал и боролся больше всех в течение этих бесконечных времен. А ты заслужила второй приз и потому принадлежишь мне!
Он многозначительно посмотрел на нее и сделал паузу; словно для того, чтобы дать ей время проникнуться его словами.
— Я принадлежу Карлу, — робко прошептала Дитте; она не испытывала страха, но вся холодела.
— Ты понимаешь, что должна умереть? — продолжал он убедительно. — И твоя смерть все разрешит. В тебе наше спасение. Никто лучше тебя не отстоит наше дело там. Ты расскажешь, какие мы добрые и как страдаем безвинно и что мы немы. Для этого нужна такая, как ты, которая может прийти и уйти и все-таки оставаться там вечно. Карл рассказал мне о тебе. Тебя мы искали — господь бог и я! Ты должна войти туда на радость господу богу. А радость заражает, проникает во все души, особенно среди бедняков.
Он запел вдруг свой псалом:
«Эффафа! Прозрей и внемли!» Зов услышали глухие, Дрогнули уста немые, Око зоркое не дремлет! Люди слышат глас призыва, Их уста не замолкают; В светлом, радостном порыве Имя бога прославляют»[3].— Я был послан в мир немым, и глухим, и слепым. Но потом я сочинил этот псалом, и все узы мои распались.
— Неправда, — сказала из дверей старуха Расмуссен. — Я знаю этот псалом много лет. И теперь самое лучшее тебе отправиться восвояси, Анкер, а не сидеть тут и морочить голову больным людям своей болтовней.
Она указала ему на дверь. Анкер встал со стула.
— Да, я не сам его написал, — робко пробормотал он и стал пробираться к двери. — Потому что все мы немы. И были глухи и слепы. Но господь повелел другим говорить за нас, пока мы сами не обретем голос… Слышите? Словно само солнце взывает: «Эффафа!» — и он, скользнув за дверь, громко запел опять, — в коридоре он расхрабрился.
— Ну, совсем спятил со своими проповедями, — возмущалась старуха Расмуссен. — Чтобы спасти мир, нам не нужны полоумные! Это и умные сумеют. И небось придумать, откуда взять хлеба дли всех, эти проповедники не могут. Воображают, что опрокинут стены иерихонские своими песнопениями!
Она бы еще много чего наговорила, да вспомнила, что Дитте нужен покой.
— Господи! — прошептала она и на цыпочках подошла к кровати.
— Незачем ходить на цыпочках, бабушка, — сказала Дитте.
— Значит, тебе получше? — радостно спросила старуха.
Дитте не ответила.
— А ведь правда, ты могла спокойно отдохнуть? Я уж так тебя стерегла, так стерегла… Вот только этот полоумный как-то прошмыгнул, а то я все время у дверей стою и никого не пускаю. Нельзя, больной нужен покой, — говорю всем. Народу страсть ведь сколько перебывало, чтобы выразить тебе свое сочувствие. Это потому, что в газетах напечатали, какая ты была хорошая мать и как жертвовала собой. Одна из газет так красиво описала: «Разбитое материнское сердце». И один человек принес двадцать пять крон. Ты ведь знаешь, что наши малыши у Лангхольмов?.. Там им хорошо. А венков сколько нанесли! Карл говорит., что весь гроб покрыт цветами. Бедняга только и знает, что бегает. Похороны завтра и самые торжественные. Все безработные пойдут за гробом. Жалко, что тебе нельзя проводить маленького Петера!
— Я провожу его, бабушка, — сказала Дитте и качнула головой в подкрепление своих слов. — Если не смогу пойти, то полечу!
XXII * * *
Опустясь без колебанья
В бездну, воющую злобно;
Мысли тяжкие неводит
Холод пустоты загробной,
Угрожая наказаньем!
Лучше к богу возвратись
Иль на небо подымись,
Где луна печально бродит»
Дитте на этот раз безропотно приняла свои капли и большую часть ночи спала. Проснулась с ясной головой и сразу вспомнила, что сегодня день похорон маленького Петера. Да, она знала, что его хоронят сегодня. Знала и еще нечто — и этого было довольно, чтобы снять с ее души последние путы земные. Она чувствовала сильную слабость, но и какую-то особенную легкость, тело больше не напоминало о себе болями и тяжестью, и душа обрела своеобразное равновесие, освобожденная от всех горестей и радостей. Ничто в сущности не трогало ее больше — ни смерть Петера, ни печаль Карла о ней. Она отстрадалась.
С утра стали приходить люди с венками и цветами. Это все были соседи по кварталу, бедняки, раздобывшие жалкие гроши в последнюю минуту. Венки складывали в углу комнаты, где лежала Дитте, — ей хотелось видеть их. Мало-помалу стол и все стулья были заняты венками, столько их нанесли, не считая тех, что были отправлены прямо в кладбищенскую часовню. Извозчик Ольсен обещал свезти после обеда и эти все туда же. То и дело приходили поговорить с Карлом люди, которые должны были нести знамена. Не одни безработные, но и профессиональные союзы решили принять участие в похоронах маленького Петера. Похоже было, что в городе приостановятся все работы. Бедному мальчику устроят пышные похороны!
Дитте велела подложить себе под голову и за спину побольше подушек, так что почти сидела в постели. Ей хотелось следить за всем происходившим. Карл время от времени заглядывал к ней и опять исчезал, — он был очень занят. Много хлопот было и старухе Расмуссен. Это отвлекало мысли обоих от Дитте, им некогда было думать, что она в тяжелом состоянии. Все время пахло кофе, — каждого приходившего ведь надо было угостить.
И вдруг в те время как Дитте сидела и прислушивалась ко всему, что творилось вокруг, с ней сделался припадок удушья. Карл кинулся к ней дать лекарство. Несколько минут лежала она, уставясь в потолок остановившимися глазами. Затем ей стало легче, и она задремала. Карл тихонько вытащил из-за ее спины подушки, чтобы она опять легла как следует. Потом сел возле Дитте и с горечью и душе смотрел на ее исхудалое лице. Неужели на этот раз он потеряет ее? Вопрос этот страшно мучил его. Опять кто-то пришел, и он выскользнул из комнаты. Это оказался Мортен.
— Я пришел предупредить тебя, — сказал Мортен, — Похороны готовятся грандиозные, таких, пожалуй, еще и не видели в нашем городе. Что, если случится что-нибудь, чего мы не сможем предотвратить? — Он был бледен.
— Ты собираешься выступить с речью? — спросил Карл.
— Да, если бы я мог сказать все, что у меня на сердце! Весь город взволнован — и обыватели и пресса — все. Оплакивают бедного мальчугана! А кто же убил его, как не они все? Если бы мы могли вызвать настоящий потоп, чтобы смыть все это дочиста! Не напрасно бы погиб этот маленький мученик.
— Да, — тихо отозвался Карл, — я бы ничего не имел против этого.
— Но мы только расшибем себе лбы об стену. Ведь даже руководители профессиональных союзов не на нашей стороне. Подумай, как взвинтила всех безработица, а теперь еще трагический конец Петера! Долго ли тут до вспышки? И там готовы к этому и уже приняли все меры предосторожности — и правительство и полиция. Сначала хотели запретить столь торжественные похороны, но теперь отказались от этого и выбрали сегодняшний день для внесения нового закона о безработных — именно сегодня днем! Не знаю: нервничают ли они или хотят нас спровоцировать, но только и полиция, и войска наготове. Рассчитывают, очевидно, что народ с кладбища двинется для — демонстрации к ригсдагу. Можем ли мы помешать этому, по-твоему?
— Не знаю, — сумрачно ответил Карл. — У меня жена умирает. Неизвестно, доживет ли до завтра. Несчастье с Петером доконало ее.
— Так твое место — дома, а мы уж как-нибудь обойдемся без тебя, — сказал Мортен, с участием протягивая Карлу руку. — Разумеется, это ужасный удар для матери. Но если бы судьба этого мальчика могла встряхнуть как следует нас самих и припугнуть других, то по крайней мере один из этих бедняков, раздавленных нашим жестоким строем и гибнущих тысячами, умер бы не напрасно!
— Отныне многое должно измениться, злое время миновало, — произнес кто-то в дверях.
— Войди, войди, Анкер! — сказал Карл. — Это мой товарищ; он думает, что призван спасти пролетариат. Его сломили эти ужасные условии, — грустно продолжал он, обращаясь к Мортену.
— Да, и поэтому меня считают безумным, — подхватил Анкер, входи. — Но пусть себе!
Его глаза все время перебегали с одного на другого.
— Разумеется, ты безумный, — сказал Мортен, гляди на него с бесконечной добротой. — Какие-то букашки стремятся пошатнуть устои общества — где же тут здравый смысл? А между тем благодаря муравьям обвалилась часть Китайской стены! Великое безумие, что самый ничтожный из всех людей — жалкий бедняк, у которого скованы руки, — хочет сокрушить все границы и объединить все человечество! Да, мы безумцы, а потому будущее принадлежит нам. Руку, товарищ!
— Вот ты как смотришь? — сказал старик, весь сияя и тряся руку Мортена. — Можно и мне сказать тебе кое-что? Я хочу поздравить тебя с тем, что тебе дано было узреть это. Другие насмехаются надо мной и мешают мне. Но теперь ты со мной, и нас будет трое. Дитте подымется на небо и расскажет о нас всем душам, а ты будешь защищать наше дело здесь. На то тебе и дан талант, чтобы писать!
— Не обращай внимания на то, что о тебе говорят другие, — сказал Мортен. — Ты это хорошо придумал, что души борются за наше дело там, на небе. Здесь, на земле, мы проповедуем перед глухими и бессердечными.
— Нет, теперь уже будет по-новому. Дитте идет туда недаром! — Анкер просветленно взглянул на Мортена и запел своим красивым голосом отрывок из любимого псалма:
Прозвучит и в садах смерти Зов господень «Эффафа!» — И разверзнутся могилы С криком радостным: «Хвала!»Потом он спросил:
— А можно и мне сказать слово над могилой?
— Вряд ли найдется время для этого, — ответил Мортен. — Но ты спой над могилой свой любимый псалом. Всем полезно будет его послушать!
— Если бы успели напечатать листок! — Карл посмотрел на часы.
— Мы еще успеем, у нас впереди четыре часа. Тогда и сейчас же иду в типографию и все устрою.
Дитте слабо стукнула в стенку, и Карл поспешил к ней.
— Моя жена хочет поздороваться с тобой, Мортен, — позвал он.
Мортен вошел в комнату, сумасшедший Анкер за ним по пятам.
Дитте лежала на спине, ее подбородок резко выделялся, глаза и щеки глубоко запали, — смерть уже наложила на ее лицо свой отпечаток. Дитте слабым движением руки указала на стул рядом с изголовьем. Мортен сел. Тогда она повернула голову, чтобы разглядеть гостя. Дышала она отрывисто и тяжело.
— Ты — Мортен, — с трудом прошептала она. — Я о тебе слыхала. Мне-то некогда было почитать что-нибудь из написанного тобой. Но ты многим доставил радость. Говорят, ты так хорошо пишешь о нас. Ты и сам веришь в то, что о нас пишешь?
Мортен не сразу ответил.
— Да, когда я в хорошем настроении — верю.
— Приходится ведь жить в такой грязи и тесноте… бедность заставляет. Так можно ли сохранить душу чистой и доброй?
— Часто это бывает довольно трудно… Нищета — настоящее проклятие. Но все же я предпочитаю быть вместе с угнетенными, а не с угнетателями?
— Да, да, потому что угнетенные получают на небе очко за каждое доброе дело, — вмешался Анкер, — Дитте набрала их много. Потому ей пора и умереть.
— Я должна уйти туда, чтобы отыскать моего мальчика, — с трудом проговорила она. — Как ты думаешь, встречусь я с ним?
Мортен как будто растерялся и промолчал.
— Я мало о нем заботилась, но теперь…
Начался новый припадок. Пришлось Карлу просить всех уйти. Он приподнял Дитте. Такого ужасного припадка не было еще ни разу. Дитте вся посинела, и глаза готовы были выскочить из орбит. К счастью, пришел доктор Торп навестить больную. Он сделал ей вспрыскивание, и она затихла. Холодный пот выступил на лбу у Карла, когда припадок кончился.
— Мне надо пойти распорядиться, — сказал он шепотом доктору, — но я боюсь оставить ее одну со старухой. Не найдется ли у тебя время посидеть с ней часок?
Торп кивнул и вынул из кармана книгу.
Карл с Моргеном вышли. Был уже полдень. Всюду встречались им рабочие, возвращавшиеся домой. Шествие должно было быть многолюдным. Кое-где на домах, занятых промышленными и торговыми предприятиями, а также на частных домах развевались траурные флаги.
— Это все-таки трогательный акт сочувствия, — сказал Карл взволнованно.
— Сочувствия или страха. Может быть, и то и другое… Как знать? Сердце — самое сильное взрывчатое вещество, какое только существует. И как бы там ни было, лучше бы они воздержались. Жутко становится от такого сочувствия… Ведь только смерть ребенка заставила их выразить его.
— Скажи мне, Мортен, — спросил Кард с запинкой, — ты веришь в другую жизнь после этой? Или ты только хотел утешить Дитте?
— Я верю в новую жизнь для всех нас, для всех, кто борется за лучшие условия существования, — ответил Мортен. — Но только не для людей с сытым брюхом. Неужели ты думаешь, Карл, что у них может быть душа? Верить естественно и необходимо для всех, кто смотрит в будущее. Без веры нельзя жить; лишь тот, кто должен умереть, может удовольствоваться догмой.
— Люди, однако, склонны прибегать к вере как раз на смертном одре.
— Нет, не к вере, а к той или иной догме. Для меня вера есть постоянная надежда, твердое убеждение в том, что наступит то, чего мы еще не видим; и не придумано ли это слово «вера» ради самого последнего бедняка и его светлой мечты о будущем!..
— Значит, ты веришь в Христа? — спросил Карл, с затаенным дыханием ожидая ответа Мортена.
— Я верю в того Христа, который изгнал торгующих из храма, но не в того Христа, который учил подставлять для удара другую щеку. Не все ли равно, каким образом появился Христос — может быть, он никогда не существовал как действительная личность, но является плодом человеческой фантазии. Я верю в Христа — бунтаря, властителя сердец. Теперь господствует разум, и он всемогущ; наша задача — снова воздать должное сердцу, бедному, искалеченному сердцу, которое лишь мешает людям пробиться вперед! Иметь отзывчивое сердце считалось более неприятным, чем быть горбатым, так как сердце причиняло одни страдания. Только когда мы одержим победу, снова наступит блаженство для всех. Следует отдать полную справедливость старому изречению! «Блаженны нищие духом». Ум и хитрость должны склониться перед добротой сердца.
— Подумай, как умны люди, — продолжал Мортен немного погоди. — Они с точностью могут рассказать нам, что представляют собой звезды, и даже до последнего грамма определить вес солнца. Но разделить хлеб дли голодных они не в состоянии. А вот Христос — друг бедных — это умел. Его душа внимала любому голосу; поэтому голодные и по сегодняшний день держатся за него. Ты сомневаешься, Карл, в доброте божьего сердца? Она повсюду, где бедняку протягивают хлеб.
— Тогда, значит, и в Дитте проявилась эта божья доброта? — радостно проговорил Карл. — Она ведь не могла пройти мимо нуждающегося чтобы не помочь ему. Она извелась, работая за всех нас! Не можешь ли ты в своей речи упоминуть о ней в связи со всеми событиями?
— Я уже думал об этом, — ответил Мортен. — Дитте поможет нам продвинуть наше дело вперед! Это прекрасная мысль: мы постараемся привлечь людей на нашу сторону. Однажды зажженный огонь не погаснет!
Дитте лежала в предсмертной агонии. Карл один оставался с нею, — он отпустил старуху Расмуссен. Ей очень хотелось посмотреть на похороны, устроенные маленькому Петеру.
Приступы удушья все учащались; в промежутках Дитте бредила. Как только припадок приближался, Карл приподнимал ее, чтобы ей легче было дышать. Сознавала ли она, что это он рядом с ней? Чувствовала ли вообще, что чьи-то сострадательные руки стараются помочь ей, что чье-то сердце обливается из-за нее кровью? Она казалась до ужаса одинокой в этой своей предсмертной борьбе. Ничто не выдавало, что она ощущала присутствие Карла, она повисала на его руках и вперяла в него глаза, не видя его. Тяжело было Карлу, невыносимо тяжело следить за последней борьбой самого дорогого ему человека в мире и чувствовать свое полное бессилие не только помочь, но даже внушить ей, что она не одна, что около нее близкий человек.
Ей чуточку полегчало. Она неровно дышала и бредила:
— Да, да, да! Хорошо, хорошо…
Что-то как будто мешало ей, не давало покоя.
— Иду! Иду же! — пробормотала она вполголоса, с оттенком нетерпения.
Карл положил руку ей на лоб.
— Успокойся, дружок. Не надо тебе ни о чем заботиться. Ни о чем. Мы все сами сделаем.
Дитте открыла глаза и пристально посмотрела на него, сознание вернулось к ней, но вопрос: «Почему ты плачешь?» — она задала с удивительным безучастием.
Карл покачал головой.
— О, все это так бессмысленно.
— Что бессмысленно?
— Все… — Он припал головой к ее постели.
— Не можешь же ты требовать, чтобы я все время занималась тобой одним, ведь и другим надо… Да, да, да. Иду же, иду! — опять бредила она.
— Бедняжка моя, — сказал Карл со страхом, бережно обнимая руками ее голову, беспокойно метавшуюся на подушке. — Постарайся успокоиться, милая, милая моя Дитте.
— Успокоиться, — сказала она. — Разумеется. Но если меня то и дело зовут… Как это утомительно!
И опять наступил припадок, ужасный, продолжительный. Карлу показалось, что он длился час. Припадки становились все тяжелее и мучительнее.
Где-то в мансарде заплакал ребенок. Его плач громко раздавался среди полной тишины и делал ее еще более ужасной, гнетущей. Когда плач становился громче, Дитте как будто еще сильнее чувствовала боль.
Карл тихо вышел и запер дверь на лестницу.
— Ребенок, наверное, мокрый, — сказала вдруг Дитте громким, звенящим, как хрусталь, голосом, — а матери нет. Но я не пойду возиться с ним. Не хочу я вставать из-за него.
Нет, нет, и не надо ей стараться. Карл покачал головой, пытаясь улыбнуться перекошенным ртом.
— Дитте, — сказал он затем дрожащим голосом, — а помнишь ты девочку, которая ужасно боялась темноты и все-таки встала впотьмах, чтобы дать кошке молока? И помнишь… — Голос у него оборвался, он уронил голову на ее одеяло и зарыдал.
В лице умиравшей Дитте появилось страдальческое выражение, как будто воспоминания причиняли ей боль. Она коснулась рукой волос Карла — пусть он не плачет! — и слабым движением попыталась откинуть одеяло, чтобы дать ему местечко подле себя, прижать его голову к своей груди. Она, видно, хотела по-матерински утешить его, сказать ему доброе слово, но из горла ее вырвалось лишь клокотанье. И вдруг ее сильно подбросило, как будто измученное сердце ее наконец взметнулось, не в силах больше выдержать страданий, и — разорвалось. Карл в ужасе содрогнулся и — понял. Сумрачно, без слез, сложил он ей руки на груди.
Издали доносилось пение — это был марш социалистов. И страшный шум, словно ливень, послышался на мостовой. Шум рос, становился бесконечным шарканьем ног, громким топотом. Это многотысячное похоронное шествие, направляясь к зданию ригсдага, завернуло в улицу, где жила Дитте, чтобы пройти мимо ее дома — в знак сочувствия матери маленького сборщика угля.
Затем раздались звуки новой песни:
«Эффафа! Прозрей! Проснись!» Отзывалось это слово. Будто гром в душе слепого, И глава его зажглись. И немой услышал тоже Зов могучий: «Эффафа!» И запели славу божью Вдруг ожившие уста. «Эффафа! Прозрей! Проснись!» Сердце внемлет гласу бога, И стихает в нем тревога. И вокруг светлеет жизнь. И звучит он, не смолкая, И, над миром воспарив, Я, счастливый, повторяю Этот пламенный призыв. «Эффафа! Прозрей! Проснись!» Звуки радости нездешней Прошумели рощей вешней, Вешним ливнем пролились. В небе солнце огневое К пробуждению зовет: Эффафа! Пусть все живое И ликует, и цветет! «Эффафа! Прозрей! Проснись!» Словно звук трубы в день Судный, Льется, льется голос чудный, Растекаясь вширь и ввысь. Пусть грохочет, торжествуя, В долах смерти вещий зов, И раздастся «аллилуйя» Из разверзшихся гробов![4]Но долго еще слышался вдали топот шагов. И долго сидел Карл не шевелясь, обхватив рукою колени, уставясь глазами в безмолвную темноту.
Наконец он встал, — по лестнице поднималась старуха Расмуссен, полная переживания от всего происшедшего.
XXIII Человек умер
Около полутора миллиардов звезд насчитывается в мировом пространстве, и — как известно — полутора миллиардов человеческих существ живет на земле. Одинаковое число! Недаром утверждали в древности, что каждый человек рождается под своей звездой. Сотни дорогостоящих обсерваторий возведены и на равнинах и на горных высотах, и работают в этих обсерваториях тысячи талантливых ученых, вооруженных самыми чувствительными приборами, и ночь за ночью исследуют мировое пространство, наблюдают и фотографируют. Всю свою жизнь они занимаются одним: стремятся обессмертить свое имя, открыть новую звезду или установить исчезновение старой: стало ли одним небесным светилом больше или меньше среди миллиарда с половиной звезд, вращающихся в мировом пространстве?
Ежесекундно умирает на земле одно человеческое существо. Погасает светоч, который уже никогда не зажжется вновь, потухает звезда, быть может, необычайной красоты, во всяком случае, отличавшаяся своим собственным, никогда раньше не виданным спектром.
Ежесекундно покидает землю человеческое существо, которое, может статься, было гениальным, сеяло вокруг себя доброе, прекрасное. Никогда раньше не виданное, неповторимое чудо, ставшее плотью и кровью, перестает существовать. Ни один человек не бывает ведь повторением другого и сам неповторим. Каждое человеческое существо напоминает те кометы, которые лишь раз в течение вечности пересекают орбиту земли и лишь краткое время чертят над нею световой путь свой. Мгновенная фосфоресценция между двумя вечностями небытия!
Стало быть, люди горюют о каждой угасшей на земле жизни человеческой! Стоят у смертного ложа со скорбными лицами и говорят: «Смотрите, какая потеря для мира, невозместимая потеря! Смотрите, какое чудо гостило у нас на земле!»
Увы! Дитте была не погасшей звездой, опустевшее место которой в мировом пространстве должно быть зарегистрировано на все времена. Она была незваной гостьей, украдкой прошмыгнувшей в мир, во всяком случае, принята была как таковая. С трудом, всякими правдами-неправдами, пробила она себе путь на белый свет. И, став одной из миллиарда с половиной единиц, составляющих массу человечества, взялась за свое дело и до конца жизни без устали трудилась. Она сделала мир богаче, но этого никто не заметил. Она была и осталась одной из бесчисленных безыменных тружениц. Дитя человеческое — вот ее настоящее имя, а примета — загрубелые, шершавые руки!
Дитте похоронили на том участке кладбища, где хоронят бедняков, где могильные холмики особенно недолговечны, — их полагается сровнять с землей как можно скорее, чтобы дать место другим умершим. Ее похоронили на общественный счет: это была единственная почесть, оказанная ей за всю ее жизнь, да и то вынужденная!..
Удалось ли Дитте смягчить сердца людей?..
Примечания
1
Перевод И. Миримского.
(обратно)2
Из стихотворения Мартина Андерсена-Нексе, посвященного им в 1907 году датскому революционному деятелю Софусу Расмуссену.
(обратно)3
Перевод А. И. Кобецкой.
(обратно)4
Перевод И. Миримского.
(обратно)Комментарии
1
Замысел романа «Дитя человеческое» начал складываться у Нексе задолго до начала активной работы над книгой. Г» 1907 году им был опубликован рассказ «Дитя любви», который по своей сюжетной канве во многом был близок роману о Дитте. К написанию романа «Дитя человеческое» Нексе приступил десять лет спустя и работал над ним с 1917 по 1921 год. Это были годы резкого обострения социальных противоречий в Дании. Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая новую эпоху в мировой истории, оказала огромное воздействие на характер общественного развития в Дании. Эти годы были переломными и для творчества Нексе. Как писал в книге «Датская литература 1918–1952 годов» известный датский литературовед Свен Меллер Кристенсен, «Нексе одним из первых в Дании безоговорочно приветствовал русскую революцию, и это привело к разрыву с датской социал-демократией, к которой он ро того времени был близок… Отныне все его отношение к событиям и людям определяется вопросом: за или против Советского Союза, за или против коммунизма».
В конце 10-х — начале 20-х годов Нексе активизирует свою политическую деятельность. Он сотрудничает в революционной газете «Классе-кампен» («Классовая борьба»). На страницах печати, в своих речах он выступает в защиту молодой Советской республики, резко полемизирует с буржуазной и правой социал-демократической печатью, клевещущей на русскую революцию. В ноябре 1919 года революционные силы датского рабочего движения объединились в Лево-социалистическую партию Дании, которая несколько позднее приняла название Коммунистической партии Дании. Нексе был одним из тех, кто участвовал в создании партии нового типа — марксистско-ленинской партии.
Октябрьская революция открыла новый этап в эволюции мировоззрения Нексе, оказала решающее влияние на его творческое развитие, привела писателя к новым четким и ясным эстетическим идеалам. Показательна в этом отношении высказанная Нексе в 1935 году оценка своего раннего творчества: «Я был такой же пролетарский революционер, как и сейчас, но я не имел такого ясного представления о своих путях и целях… Коммунизм рисовался смутным и недоступным, как сон. Еще не был выработан конкретный план, с помощью которого можно было строить новый мир. Советского Союза еще не было…» (Гослитиздат, т. 10, М. 1934, стр. 219).
Естественно, что изменения в мировоззрении писателя сказались и на его художественном творчестве, хотя, конечно, этот процесс проходит постепенно, в течение длительного времени. Эти изменения в известной мере нашли свое отражение и в романе «Дитя человеческое», особенно в последних его книгах.
Роман Нексе выходил по частям в копенгагенском издательстве «Локехоуг и К°», причем обычно этому предшествовала публикация отдельных отрывков в периодической печати.
Первая книга, «Детство», вышла в ноябре 1917 года, вторая. «Мамочка Дитте», в марте 1919, третья, «Грехопадение», в ноябре 1919 года, четвертая, «Чистилище», в ноябре 1920, пятая и последняя, «К звездам», в ноябре 1921 года. В сентябре 1923 года то же издательство выпустило эти книги вместе под общим названием «Дитте — дитя человеческое». Издание это было приурочено к 23-летию писательской деятельности Нексе.
Выход каждой из частей нового романа Нексе был крупным событием в литературной жизни Дании. Мощный реализм Нексе, глубина и последовательность его идейных убеждений, его гуманизм противостояли той подавленности и растерянности, которые были так свойственны многим произведениям датской литературы в годы после первой мировой войны. Вместе с крупными датскими писателями X. Понтопанданом, И. Окьером, И. Скьольборгом и другими он явился хранителем и продолжателем передовых традиций национальной литературы. Новое произведение Нексе получило в его стране широкое признание: писателю была присуждена в 1923 году премия Общества содействия развитию науки и искусства.
Все очередные публикации неизменно вызывали самые широкие отклики в печати, lie только крупные, но практически почти все провинциальные газеты выступали с рецензиями на новые книги романа. Мнения при этом высказывались самые различные. Если печать, близкая к рабочему движению, подчеркивала идейную, социальную глубину нового произведения Нексе, то буржуазные и социал-демократические газеты, как правило, сводили содержание книги к анализу извечного женского начала или, если воспользоваться определением социал-демократического писателя и критика Ю. Вомхольта, к «мистерии женщины-матери». II в последующем в датском литературоведении нередко проявляется стремление смягчить ту острую постановку социальных проблем, которая была столь характерна для романа, и свести его содержание к проповеди душевной доброты. Так. X. Кергор писал в 1934 году в «Истории датской литературы новейшего времени»: «Если «Пелле» был Ветхим заветом в Библии низшего класса, книгой борьбы избранного народа, то «Дитте» — это Новый завет, книга страдания и любви». Л. Ергенсен («История датской литературы», 1947) представляет содержание романа как «глубоко романтическое мировоззрение», как «торжество доброты и любви над пороками этого мира».
Как и «Пелле-завоеватель», роман «Дитте — дитя человеческое» приобрел мировую известность. В Германии каждая из очередных книг романа выходила в немецком переводе вскоре после ее выхода на датском языке. В 1920–1922 годах в Англии и Соединенных Штатах вышли английские переводы. Всего к настоящему времени «Дитте — дитя человеческое» издан на девятнадцати языках народов мира. Первое русское издание относится к 1923–1924 годам (1-я и 2-я книги были выпущены Государственным издательством в 1923 году в переводе Э. Л. Вейнбаум, а три последующих — в 1924 году в переводе А. В. Ганзен). После этого роман выходил на русском языке еще трижды в отдельных изданиях (в 1939, 1955 и 1958 годах), а также в Собрании сочинений Нексе (Собрание сочинений в десяти томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1952).
Роман Нексе «Дитте — дитя человеческое» по праву занимает достойное место среди крупнейших произведений мировой литературы XX века. Показательны те оценки, которые дали роману видные деятели международного коммунистического движения. Клара Цеткин говорила в 1932 году: «Западноевропейские писатели, которые так охотно делают женщин героинями своих романов и драм, не знают женщин и не знают, что такое героизм… Они не понимают, что гораздо легче после обильного ужина, сидя в кожаном кресле и раскуривая сигару с золотым мундштуком, философствовать о том, как страшна, как трудна и некрасива жизнь, чем, получая зарплату, меньшую даже мизерного жалованья мужчин, воспитывать четверых или пятерых детей, нищенство-гать и страдать, ненавидя при этом не самую жизнь, а тех, из-за которых надо так жить. Страдать — и все же верить в жизнь, страдать — и бороться за лучшую жизнь. Такого героя-женщину сумел нарисовать только одни из западноевропейских писателей — Мартин Андерсен Нексе. Свою героиню, ставшую из прислуги фабричной работницей, великий революционный писатель с полным правом назвал «Дитя человеческое».
Высокую оценку вкладу Нексе в развитие революционной литературы дал в 1949 году в связи с 80-летием писателя Отто Гротеволь: «Гитлеровские фашисты хорошо знали, что они делают, когда в 1933 году жгли книги Нексе. Это были не только реалистические описания жизни простых людей… Это были произведения, которые помогали трудящимся и эксплуатируемым осознать силу своего класса. «Пелле», «Дитте — дитя человеческое» и другие произведения Нексе излучали веру в то, что пролетариат достаточно силен для того, чтобы построить более справедливое, лучшее будущее».
(обратно)2
Стр. 42. …теребя кисть постельного шнура. — Старинные крестьянские кровати в Скандинавии напоминали довольно глубокие открытые лари, на дне которых стелилась постель. Чтобы легче подняться с нее, лежавший хватался за толстый постельный шнур.
(обратно)3
Стр. 82. …из рода переселенцев-угольщиков… — Речь идет об итальянца х-угольщиках, поселившихся на северо-западе Зеландии еще в начале XVII века.
(обратно)4
Стр. 86. Хусман — домохозяин-крестьянин, владеющий лишь маленьким дворовым участком без земельного надела.
(обратно)5
Стр. 104. …не тратила… ни единого эре; откладывала скиллинг за скиллингом… — По курсу до первой мировой войны эре ценилось приблизительно в 2 копейки. Скиллинг же равнялся двум эре.
(обратно)6
Стр. 139. Ригсорт — монета, ныне вышедшая из употребления.
(обратно)7
Стр. 142. Подъезжая… к Треугольнику к Треугольнику. — Треугольник — треугольная площадь на скрещении нескольких дорог, прежде находившаяся в восточном предместье Копенгагена, а теперь входящая в черту города.
(обратно)8
Стр. 201. …вышла мадам Ольсен… — Женщин из непривилегированных слоев населения принято в Дании называть мадам (в отличие от госпожи — фру).
(обратно)9
Стр. 269. …в первое же воскресенье после дня найма и увольнения. — Для найма и увольнения сельскохозяйственных рабочих в Дании установлены два срока: один в ноябре и второй в июне.
(обратно)10
Стр. 332. «Песнь великой беды» — название одной из тех песен, которые с 1286 по 1630 год пели в церкви датского города Виборга в память короля Эрика Глиппинга, убитого близ этого города восставшими против него дворянами.
(обратно)11
Стр. 348. Амагер — остров, составляющий часть Копенгагена.
(обратно)12
Роскильде — древняя столица Дании.
(обратно)13
Стр. 435. Тиволи — летний увеселительный сад в Копенгагене.
(обратно)14
Стр. 466. …всегда было затишье в месяцы с буквою «р» — в противоположность потреблению трески… — Треска считается в Дании здоровым и вкусным блюдом лишь в те месяцы, в названии которых есть буква «р».
(обратно)15
Стр. 493. Алеенберг — увеселительный сад.
(обратно)16
Стр. 499. Армия спасения — реакционная религиозно-филантропическая организация.
(обратно)17
Стр. 544. Круглая башня — старинная, чрезвычайно массивная и высокая — башня в центре Копенгагена.
(обратно)18
Стр. 564. …родом не с острова Моль. — Намек на непроходимую тупость и сказочное легковерие, приписываемые «жителям острова Моль», — излюбленная тема датских народных анекдотов.
А. Погодин
(обратно)


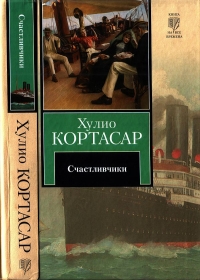

Комментарии к книге «Дитте – дитя человеческое», Мартин Андерсен Нексе
Всего 0 комментариев