Ивлин Во
― МЕРЗКАЯ ПЛОТЬ ― (роман, перевод М. Лорие)
«В нашей стране, — сказала Алиса, все еще не успев отдышаться, — если бежать очень долго и очень быстро, вот как мы сейчас, обычно попадаешь в какое-нибудь другое место».
«Значит, у вас очень медленная страна, — сказала королева. — А здесь, ты сама видишь, твоего бега хватает только на то, чтобы остаться на том же месте. А если хочешь попасть в другое место, нужно бежать по крайней мере вдвое быстрее!»
«Если бы я была не настоящая, — сказала Алиса, готовая рассмеяться сквозь слезы, до того все это было нелепо, — я бы не могла плакать».
«Ты, надеюсь, не воображаешь, что это настоящие слезы?» — перебил ее Твидлдум весьма презрительным тоном.
Льюис Кэрролл. «Зазеркалье».Глава 1
Всем было ясно, что качки не миновать.
Отец Ротшильд, иезуит, с чисто восточным фатализмом поставил свой чемодан в углу бара и вышел на палубу. (Чемодан был небольшой, из поддельной крокодиловой кожи. Инициалы, выдавленные на нем готическим шрифтом, были не отца Ротшильда — он в то утро попросил на время чемодан у лакея французской гостиницы, где провел ночь. Содержимое его составляло кое-какое белье, шесть очень нужных новых книг на шести языках, накладная борода и школьный географический атлас с испещренным пометками указателем.) Выйдя на палубу, отец Ротшильд облокотился о поручни, подпер ладонями подбородок и стал смотреть, как по трапу поднимаются пассажиры, все как один со сдержанно-опасливым выражением на лицах.
Большинство этих лиц было иезуиту знакомо, так как он обладал счастливой способностью запоминать все, что можно было узнать, обо всех, кто мог представлять хоть какой-то интерес. Язык его чуть высунулся наружу, и, не будь мысли пассажиров так заняты багажом и погодой, кто-нибудь из них мог бы заметить, как он похож на те гипсовые копии с химер собора Парижской богоматери, которые можно увидеть в витринах художественных магазинов, где они, покрашенные в цвет «старой слоновой кости», пытливо глядят на вас из-за наборов кистей и трафаретов, разноцветного пластилина и тюбиков с акварельными красками. Высоко над его головой, на фоне темнеющего неба, проплыл видавший виды «паккард» миссис Мелроз Оранг, неся на себе пыль трех континентов, а на палубу поднялась во главе своих ангелов сама миссис Мелроз Оранг, знаменитая проповедница.
— Вера!
— Здесь, миссис Оранг.
— Любовь!
— Здесь, миссис Оранг.
— Стойкость!
— Здесь, миссис Оранг.
— Непорочность… Где Непорочность?
— Непорочность плохо себя чувствует, миссис Оранг. Она ушла в каюту.
— От этой девчонки больше забот, чем толку. Чуть нужно заняться вещами, как она чувствует себя плохо. Остальные все здесь? Кротость, Оглядка, Доброта, Праведная Обида, Справедливость, Святая Тревога?
— Святая Тревога потеряла крылья, миссис Оранг. Она в поезде заговорилась с одним джентльменом… Ах, вот она.
— Нашла? — спросила миссис Оранг.
Святая Тревога так запыхалась, что могла только кивнуть головой. (Ангелы носили свои крылья в узких черных картонках, похожих на футляр для скрипки.)
— Хорошо, — сказала миссис Оранг. — И пожалуйста, не выпускай их из рук и поменьше разговаривай с джентльменами в поездах. Вы же ангелы, а не хористки, понятно?
Ангелы сокрушенно сбились в кучку. Ужасно, когда миссис Оранг бывает такая. Ох и зададут же они Непорочности и Святой Тревоге, когда останутся одни, в ночных рубашках! Мало того, что всех будет тошнить от качки, так еще миссис Оранг шпыняет.
Заметив, как они расстроены, миссис Оранг смягчилась и заулыбалась. В «обаянии» ей нельзя было отказать.
— Ну, девочки, — сказала она, — мне нужно идти. Говорят, будет сильно качать, но вы не верьте. Если на душе спокойно, то и желудок не подведет. И помните, если все-таки станет мутить — пойте. Это самое лучшее средство.
— До свидания, миссис Оранг, спасибо. — Они сделали грациозный книксен, повернулись и дружно засеменили на корму, во второй класс. Миссис Оранг проводила их благосклонным взглядом, а потом, расправив плечи (ни дать ни взять бывалый моряк, только бороды маловато), решительно зашагала в бар первого класса, расположенный на носу.
На борт всходили и другие выдающиеся личности, тоже очень недовольные погодой; чтобы уберечься от ужасов морской болезни, они прибегли к различным видам цивилизованного знахарства, но веры им недоставало.
Были здесь мисс Рансибл, и Майлз Злопрактис, и весь Цвет Нашей Молодежи. Они весело провели утро, обклеивая друг другу животы полосками липкого пластыря (как мисс Рансибл при этом повизгивала!).
Был здесь и достопочтенный Уолтер Фрабник, член парламента и на прошлой неделе — премьер-министр. Перед утренним завтраком мистер Фрабник выпил две максимальные дозы некоего хлорного препарата (после чего завтрак не лез ему в горло), а потом в поезде, совсем упав духом, допил весь флакон. Он двигался как во сне, сопровождаемый по пятам двумя откровенными детективами. Они побывали с ним в Париже и знали о его тамошних делах все, что стоило знать, — по крайней мере с точки зрения романиста. (Между собой они называли его Достопочтенный Бабник, но это было скорее остроумной игрой на его фамилии, чем порицанием его любовных интрижек, в которых он, если говорить начистоту, проявлял изрядную робость, а то и поддавался паническому страху.)
Леди Троббинг и миссис Блекуотер, сестры-близнецы, чей портрет кисти Милле был недавно продан на аукционе у Кристи за рекордно низкую цену, сидели на палубной скамейке тикового дерева, ели яблоки и пили то, что леди Троббинг со старомодной игривостью называла «шипучкой», а миссис Блекуотер именовала более эксцентрично — «шампань», произнося это слово в нос, на французский лад.
— Посмотри, Китти, ведь это мистер Фрабник, тот, что на прошлой неделе был премьер-министром.
— Не может быть, Фанни, где?
— А вон, чуть впереди тех двух мужчин в котелках рядом со священником.
— Да, похоже на его фотографии. Какой у него странный вид!
— В точности так выглядел покойный Троббинг… весь тот последний год.
— … А мы ведь не подозревали, пока кто-то не нашел флаконы под половицей в его гардеробной… а то мы все думали, что он просто пьет…
— По-моему, в наши дни премьер-министры были маркой выше, ты не находишь?
— Говорят, на мистера Фрабника имеет влияние только одна особа…
— Из японского посольства…
— Разумеется, милочка, только не говори так громко… Но серьезно, Фанни, как ты думаешь, мистер Фрабник действительно такой?
— Фигура у него для его возраста вполне хорошая.
— Да, но его возраст и этот явно полнокровный тип так часто бывают обманчивы. Еще бокал? Не пожалеешь, когда мы отчалим.
— А я думала, мы уже плывем.
— Чудачка ты, Фанни, такие уморительные вещи говоришь.
И пьяненькие старушки, давясь от беззвучного смеха, под ручку отправились вниз, в свою каюту.
Из остальных пассажиров одни заткнули уши ватой, другие надели темные очки, а кое-кто ел сухари из бумажных пакетов — говорят же, что индейцы едят змеиное мясо, чтобы перехитрить врага. Миссис Хуп лихорадочно твердила формулу, которой обучил ее в Нью-Йорке один йог. Немногочисленные «морские волки», чей багаж пестрел ярлыками многих плаваний, расхаживали по палубе, вызывающе попыхивая короткими вонючими трубками и подбирая партнеров для партии в бридж.
За две минуты до того, как пароход должен был отойти, когда уже раздавались вокруг первые предупредительные свистки и возгласы, по трапу поднялся молодой человек с чемоданом. Ничего примечательного в его внешности не было. Он выглядел в точности так, как выглядят подобные ему молодые люди; свой чемодан, до противности тяжелый, он нес сам, потому что у него не осталось ни одного франка да и почти никакой другой валюты. Он прожил два месяца в Париже, где писал книгу, а теперь возвращался домой, потому что сделал по почте предложение и получил согласие. Звали его Адам Фенвик-Саймз.
Отец Ротшильд приветливо ему улыбнулся.
— Едва ли вы меня помните, — сказал он. — Мы познакомились пять лет назад в Оксфорде, на завтраке у декана Баллиол-колледжа. Мне будет интересно прочесть вашу книгу, когда она выйдет, — сколько я понимаю, это автобиография? И разрешите мне одним из первых поздравить вас с вашей помолвкой. Боюсь, вы убедитесь, что ваш тесть несколько чудаковат… и забывчив. Этой зимой он перенес сильный бронхит. Дом — сплошные сквозняки, непомерно велик по нашим временам. Ну что ж, пойду к себе. На море волнение, а я плохо переношу качку. Встретимся двенадцатого у леди Метроленд, а если посчастливится, то и раньше.
Адам не успел ничего ответить — иезуит уже исчез. Вдруг голова его опять возникла рядом.
— Здесь находится одна весьма опасная и неприятная женщина, некая миссис Оранг.
Он опять скрылся из глаз, и почти тотчас же пароход заскользил прочь от пристани, к выходу из порта.
Началась качка, то бортовая, то носовая, а то пароход, весь дрожа, замирал на месте, над бездной черной воды, после чего низвергался, как вагонетка на американских горах, в безветренную глубину и снова взлетал прямо в пасть к урагану; то он прорывал себе путь, судорожно тыкаясь носом, как терьер в кроличьей норе, то падал камнем, как лифт. Этот последний его трюк доставлял пассажирам больше всего мучений.
— Ой, — стонал Цвет Нашей Молодежи. — Ой! Ой! Ой!
— Точно из тебя сбивают коктейль, — сказал Майлз Злопрактис. — Ну и лицо у вас, деточка, — оттенка нильской воды.
— Это же заболеть можно, — сказала мисс Рансибл и, что редко с ней случалось, попала в точку.
Китти Блекуотер и леди Троббинг лежали одна над другой на своих койках, содрогаясь от парика до пят.
— Как ты думаешь, неужели это шампань…
— Китти.
— Да, милочка?
— Китти, мне кажется… нет, я уверена, у меня есть где-то нюхательные соли… Китти, я подумала, тебе там ближе… А мне отсюда слезать просто небезопасно… как бы не сломать ногу…
— А ты не боишься, что после шампань…
— Но они мне нужны. Конечно, милочка, если это тебе затруднительно…
— Мне ничего не затруднительно, ты же знаешь. Но помнится, нет, я даже совершенно ясно помню, что нюхательные соли ты не укладывала.
— Ну, Китти, ну, пожалуйста… тебе же будет жалко, если я умру… Ой!
— Но я видела нюхательные соли на твоем туалетном столике уже после того, как твои вещи снесли вниз. Помню, я еще подумала, надо захватить их, а потом замешкалась с чаевыми, так что, понимаешь…
— Я… их… сама уложила… Вместе со щетками… Китти, противная!
— Как не стыдно, Фанни!
— Ой! Ой! Ой!
Для отца Ротшильда все плавания были равны. Он размышлял о муках святых угодников, об изменчивости человеческой природы, о Четырех Последних Вещах [1] и время от времени повторял про себя отрывки из покаянных псалмов.
Лидер оппозиции его величества лежал, погруженный в сладостный транс, созерцая роскошные восточные видения: домики из раскрашенной бумаги; золотые драконы и цветущий миндаль; золотые фигурки и миндалевидные глаза, смиренные и ласкающие; крохотные золотые ножки среди цветов миндаля; раскрашенные чашечки, полные золотого чая; золотой голос, поющий за ширмой из раскрашенной бумаги; смиренные, ласкающие золотые ручки и глаза формой как миндаль, а цветом как ночь.
Два совсем обмякших детектива, дежуривших у его каюты, покинули свой пост.
— Если он и при такой качке сумеет набедокурить, молодец будет, — решили они. — Грех было бы ему мешать.
Пароход скрипел всей обшивкой, хлопали двери, падали чемоданы, выл ветер; винт, то взлетая над водой, то зарываясь в волны, бешено крутился, и шляпные картонки сыпались с полок, как спелые яблоки. Но сквозь весь этот рев и грохот из дамского салона второго класса звучали отчаянные голоса ангелов миссис Оранг — они пели, пели в унисон, исступленно, надрывно, словно сердца их готовы были разлететься вдребезги, а рассудок помрачиться, — пели знаменитый гимн сочинения миссис Оранг «Агнец Божий — барашек что надо».
Капитан и первый помощник сидели в рубке и увлеченно решали кроссворд.
— Похоже, ветер свежеет, того гляди погода испортится, — сказал капитан. — Вечером может и покачать.
— Не всегда же бывает так тихо, как сейчас, — сказал первый помощник. — Хищное млекопитающее. Слово из восемнадцати букв. Просто непонятно, как они такое выдумывают.
Адам Фенвик-Саймз сидел с морскими волками в курительной, пил третий стакан виски и гадал, когда ему окончательно станет плохо.
Уже сейчас он ощущал какую-то тяжесть в затылке. Плыть еще тридцать пять минут, а скорее всего, и больше, раз ветер встречный.
Наискосок от него сидел болтливый, объездивший весь свет журналист и рассказывал ему неприличные анекдоты. Время от времени Адам вставлял более или менее подходящие к случаю замечания вроде «Да, здорово», или «Это надо запомнить», или «Ха-ха-ха», но по-настоящему что-либо воспринимать он был неспособен.
Корабль взлетел — выше, выше, выше, а потом как-то наискось ухнул вниз. Адам успел схватить свой стакан и спасти содержимое. Потом закрыл глаза.
— А вот этот годится и для дамских ушей, — сказал журналист.
За спиной у них четыре коммивояжера играли в карты. Сначала игра шла весело — когда карты, стаканы и пепельница летели на пол, они только приговаривали: «Вот это так тряхнуло!» и «Держись, гвардейцы!» — но за последние десять минут заметно притихли. Тишина была неуютная.
— …И сорок за тузы и двести пятьдесят. Роббер. Ну что, опять тянуть или останемся так?
— А может, сделаем небольшой перерыв? Стол все время куда-то едет, я даже устал.
— Э, Артур, тебя уж не тошнит ли?
— Ничего не тошнит, просто устал.
— Конечно, если Артура тошнит…
— Кто бы подумал, что нашего Артура будет тошнить?
— Да не тошнит меня вовсе. Устал немножко, и все. Но если вы хотите продолжать — пожалуйста, я вам игру портить не собираюсь.
— Молодчина, Артур. И нисколько его не тошнит. Эй, Билл, не зевай, карты сейчас упадут. Опять нас подымает.
— Может, повторим, друзья? Того же?
— Того же.
— Твое здоровье, Артур. Ваше здоровье. Чтобы не в последний.
— Кто сдает? Ведь последним сдавали вы, мистер Гендерсон?
— Да, теперь сдавать Артуру.
— Тебе сдавать, Артур. Гляди веселей, приятель.
— Перестань! Разве можно так хлопать человека по спине!
— Не спутай карты, Артур!
— Попробуй не спутать, когда тебя так хлопнули по спине. Устал я.
— Ну вот, у меня оказалось пятнадцать карт.
— А этот вы слышали? — сказал журналист. — Как один человек из Абердина очень любил бриллианты, до того любил, что, когда надумал жениться, выбрал жену с солитером. Здорово, а? Понимаете, у нее был солитер, а он, понимаете, любил бриллианты. А жил в Абердине. Ловко, ничего не скажешь.
— Знаете, я, пожалуй, выйду ненадолго на палубу. Здесь что-то душновато.
— И не думайте. Там все время заливает. Или, может быть, вас мутит?
— Ни капельки не мутит. Я просто подумал, что на свежем воздухе… О черт, да когда же это кончится?
— Держитесь, дружище. Я бы на вашем месте не стал прогуливаться. Лучше сидеть, как сидели. Глоток виски, вот что вам требуется.
— Меня не мутит. Просто здесь душно.
— Правильно, дружище. Уж вы мне доверьтесь.
Игра в бридж явно не клеилась.
— Эй, мистер Гендерсон, это еще что за пика?
— Туз, а то что же?
— Вижу, что туз. Я про то говорю, что нельзя вам было брать взятку козырем, когда у вас на руках была пика.
— Почему это нельзя было козырем? Ведь пошли-то с козыря.
— Ничего подобного. Артур пошел с пики.
— Нет, с козыря. Так ведь, Артур?
— Артур пошел с пики.
— Не мог он пойти с пики, а то зачем бы ему класть червонку на моего короля пик, когда я думал, что у него дама. Нет у него пик.
— Почему это у меня нет пик? У меня дама.
— Артур, старина, тебя, видно, и вправду тошнит.
— Ничего не тошнит, просто устал. Ты бы тоже устал, если б тебя так хлопнули по спине… В общем, хватит с меня этой забавы. Вот видите, опять карты разлетелись.
На этот раз никто не дал себе труда их собрать. Вскоре мистер Гендерсон сказал:
— Странно, с чего это у меня вдруг перед глазами все поплыло? Наверно, что-нибудь съел не то. С этими заграничными блюдами всегда такая история — намешают бог весть чего.
— А знаете, у меня тоже, оказывается, самочувствие не ахти. Вентиляция на этих пароходах ни к черту.
— Да-да. Вентиляция. Это вы верно заметили. В этом все дело.
— Странная вещь. Меня, имейте в виду, никогда не укачивает, но иногда морские переезды плохо на меня действуют.
— Вот и со мной так же.
— Вентиляция… безобразная.
— Уж поскорей бы очутиться в Дувре. «Родина, милая родина». Верно я говорю?
Адам крепко ухватился за обитый медью край столика, и ему стало легче. Нет, не допустит он, чтобы его вырвало, во всяком случае, пока на него пялится этот журналист. Теперь-то уж скоро, скоро покажется берег.
В это-то время, когда настроение в курительном салоне упало до нуля, там опять появилась миссис Оранг. Секунды три она балансировала между вращающейся дверью и ускользающим косяком, а как только судно немного выровнялось, зашагала к стойке, широко расставляя ноги и сунув руки в карманы толстого жакета.
— Рома. Двойную порцию, — сказала она и с обаятельной улыбкой обвела глазами жалкую горстку мужчин, сидевших в салоне. — Ой, мальчики, какой у вас расстроенный вид. В чем дело? Душа тоскует или пароход не хочет стоять смирно?… Качает? Ну ясно, качает. Но я вот что у вас спрошу. Ежели вы за какой-нибудь час так расклеились от морской болезни («Не морская болезнь, а вентиляция», — машинально пробормотал мистер Гендерсон), так что же с вами будет, когда вы пуститесь в далекое странствие, которое всех нас ожидает? Чисты ли вы перед богом? — вопросила миссис Оранг. — Готовы ли вы к смерти?
— А то нет? — сказал Артур. — Я последние полчаса только об этом и думаю.
— Так вот, мальчики, знаете, чем мы с вами сейчас займемся? Мы с вами споем песню. («О господи», — сказал Адам.) Вам, может, кажется, что не споем, а вот споем. От нее и душе и телу будет польза. Это песня надежды. Не очень-то много сейчас говорят о надежде, правда? О вере — сколько угодно, о любви — пожалуйста. А про надежду забыли. Ныне в мире есть только одно истинное зло — безнадежность. Я Англию как свои пять пальцев знаю, и я вам прямо говорю, мальчики, — у меня есть для вас нужный товар. Вам требуется надежда. Я вам ее предлагаю. Ну-ка, бармен, раздайте всем эти листки. Там на обороте слова песни. Вот так. А теперь давайте хором. Сумеете меня перепеть, бармен, заработаете пять шиллингов. Нет — пять шиллингов с вас. Ну, мальчики, дружно!
Миссис Оранг запела звучным голосом и очень внятно. Руки ее поднимались, трепетали и падали в такт песне. Бармен повиновался ей сразу. Слова он немного перевирал, но уверенная сила его голоса на низких нотах была заразительна. Следующим вступил журналист, потом Артур, сжав зубы, стал подтягивать мелодию. Скоро уже пели все, пели как оглашенные, и надо сказать, что им действительно стало легче.
Отец Ротшильд услышал их и повернулся лицом к стене.
Их услышала Китти Блекуотер.
— Фанни!
— Да?
— Фанни, милочка, ты слышишь — поют?
— Да, милочка, благодарю.
— Фанни, милочка, а это не молебен? А то звучит похоже на песнопения. Может, мы в опасности, как ты думаешь? Фанни, может быть, мы идем ко дну?
— Вполне возможно. Туда и дорога.
— Фанни, какие ты ужасные вещи говоришь! Но ведь мы бы почувствовали, если бы пароход на что-нибудь наскочил? Фанни, милочка, если хочешь, я сейчас поищу твои нюхательные соли.
— Стоит ли, милочка, ведь ты сама видела, что они остались на моем туалете.
— Я могла ошибиться.
— Ты же сказала, что сама видела…
Их услышал капитан.
— Сколько ни плаваю, — сказал он, — до сих пор от этих миссионеров с души воротит.
— Слово из шести букв, — сказал первый помощник, — первые буквы «кб», означает «применяется при астрономических вычислениях».
— Не может быть, чтобы «кб», — сказал капитан, подумав.
Их услышал Цвет Нашей Молодежи.
— Как на первых вечерах в семнадцать лет, — сказала мисс Рансибл. — Тебя тошнит, а другие поют.
Их услышала миссис Хуп. «Хватит с меня теософии, — решила она. — Присмотрюсь-ка я, пожалуй, к католикам».
На корме, в салоне второго класса, где качка ощущалась сильнее всего, их услышали ангелы. Сами они уже давно перестали петь.
— Опять она за свое, — сказала Праведная Обида.
Один только мистер Фрабник лежал в безмятежном забытьи, и в мозгу его проплывали чарующие видения — нежные голоса, такие ласкающие, такие смиренные, и темные глаза цвета ночи, а формой как миндаль, над раскрашенными бумажными ширмами, и золотые фигурки, такие гибкие, пружинистые, принимающие столь неожиданные позы.
В курительной все еще пели, когда пароход, почти точно по расписанию, вошел в дуврский порт. И тут миссис Оранг, следуя своему неизменному правилу, пустила, так сказать, шапку по кругу и собрала около двух фунтов стерлингов, не считая собственных пяти шиллингов, которые ей, впрочем, возместил бармен. «Спасение души не идет впрок, когда дается бесплатно» — таково было ее любимое изречение.
Глава 2
— Что имеете предъявить?
— Крылья.
— Ношеные?
— Конечно.
— Тогда все в порядке. Проходите.
— Праведной Обиде всегда все улыбаются, — пожаловалась Стойкость Доброте. — А между прочим, хорошо опять очутиться на суше.
— Нетвердыми шагами, но с воскресшими надеждами пассажиры уже покинули пароход.
Отец Ротшильд помахал дипломатическим паспортом и исчез в огромном автомобиле, высланном его встретить. Остальные толкались со своими чемоданами у барьера, стараясь привлечь внимание таможенных чиновников и мечтая о чашке чаю.
— У меня припрятано полдюжины, высшей марки, — откровенничал журналист. — В такую погоду они обычно не придираются.
И правда, вскоре багаж его уже был погружен, а сам он с удобством устроился в вагоне первого класса (расходы его, само собой, оплачивала газета).
Адам дожидался своей очереди довольно долго.
— У меня только старая одежда и книги, — сказал он.
Это были опрометчивые слова — вялое равнодушие чиновника как ветром сдуло.
— Книги? А какие у вас книги, позвольте спросить?
— Смотрите сами.
— И посмотрю. Скажи пожалуйста, книги!
Адам, чуть не падая от усталости, расстегнул ремни и отпер чемодан.
— Так, — сказал таможенный грозно, словно подтвердились его худшие подозрения. — Книги у вас есть, это я вижу.
Одну за другой он стал доставать их из чемодана и складывать стопкой перед собой. На томик Данте он взглянул прямо-таки с отвращением.
— Французская? Так я и думал, небось сплошные пакости. Так, а теперь я проверю эти ваши книги (как это было сказано!) по своему списку. Министр внутренних дел — он насчет книг знаете какой строгий. Если мы не можем искоренить литературу у себя дома, мы можем хотя бы добиться, чтобы ее не ввозили к нам из-за границы. Это он сказал на днях в парламенте, и правильно сказал… Стоп, а это что, позвольте спросить?
Осторожно, точно опасаясь, что она вот-вот взорвется, он вытащил и положил перед собой толстую пачку исписанных на машинке листов.
— Это тоже книга, — сказал Адам. — Я ее сам только что написал. Это мои мемуары.
— Вот оно как? Ну, я их тоже захвачу к начальнику. И вы со мной проходите.
— Но мне нужно поспеть на поезд…
— Пошли, пошли, бывают вещи и похуже, чем опоздать на поезд, — намекнул он зловеще.
Они проследовали во внутреннее помещение, где стены были увешаны отобранной у пассажиров порнографией и какими-то инструментами непонятного назначения. Из соседней комнаты неслись вопли и визги мисс Рансибл, которую приняли за известную аферистку, промышляющую продажей контрабандных драгоценностей, и передали на предмет личного обыска двум свирепого вида досмотрщицам.
— Ну, что у вас там с книгами? — спросил начальник.
По длинному печатному списку, в котором первым значилось «Аристотель. Сочинения (иллюстрированное издание)», они сверили книги Адама, старательно, одну за другой, по складам читая заглавия.
Через кабинет прошла мисс Рансибл, на ходу манипулируя губной помадой и пудрой.
— Адам, миленький, как же я вас не видела на пароходе. Ой, если б я могла вам рассказать, что они там со мной делали… Где только не искали, это со стыда сгореть можно. Точно у врача, и такие злющие старухи, чем-то напоминают вдовствующих герцогинь. Как только попаду в Лондон, сейчас же позвоню всем министрам и во все до одной газеты и сообщу им такие подробности…
Начальник между тем читал рукопись Адама, время от времени издавая смешок, не то победоносный, не то язвительный, но, в общем, непритворно восхищенный.
— Прочитай-ка вот это, Берт, — сказал он. — Здорово закручено, а?
Наконец он собрал листы в пачку, перевязал тесемкой и отложил в сторону.
— Так вот, — сказал он. — Книги по архитектуре и словарь можете взять. И книги по истории, так и быть, тоже забирайте. Но вот эта книга, по экономике, подходит под рубрику «Подрывная пропаганда», она останется у нас. И этот самый «Purgatorio»[2] мне что-то не нравится, ее мы тоже оставим здесь до выяснения. А уж что касается ваших мемуаров, так это чистейшая порнография, мы ее незамедлительно сожжем.
— Боже милостивый, да там нет ни одного слова… вы, наверно, не так поняли…
— Еще чего. Уж я-то знаю, что порнография, а что нет, иначе меня бы тут не держали.
— Но вы поймите, от этой книги зависит мой хлеб насущный!
— А мой хлеб насущный зависит от того, чтобы не пропускать такую пакость в Англию. Так что топайте отсюда, не то ответите перед полицейским судом.
— Адам, миленький, не спорьте, а то мы опоздаем на поезд.
Мисс Рансибл взяла его под руку и потащила на платформу, а по дороге рассказала, на какой замечательный вечер она сегодня приглашена.
— Тошнило? Кого это тошнило?
— Да тебя же, Артур.
— Ничего подобного… просто устал.
— Одно время там действительно стало душно.
— Просто чудо, как эта тетка нас взбодрила. На будущей неделе она выступает в Альберт-холле.
— А что, можно и сходить. Вы как считаете, мистер Гендерсон?
— Она говорит, у нее труппа ангелов. Наряжены, с белыми крыльями, красота. Да если на то пошло, она и сама недурна.
— Ты сколько положил ей в тарелку, Артур?
— Полкроны.
— И я тоже. Странное дело, никогда я раньше не отдавал полкроны вот так, ни за что. Она, черт ее возьми, как-то их из тебя вытягивает.
— В Альберт холле тоже небось придется раскошелиться.
— Скорее всего, но уж больно охота посмотреть на разряженных ангелов, верно я говорю, мистер Гендерсон?
— Фанни, смотри, ведь это Агата Рансибл, дочка бедной Виолы Казм.
— Не понимаю, как это Виола пускает ее всюду одну. Будь она моей дочерью…
— Твоей дочерью, Фанни?
— Китти, как не стыдно!
— Прости, милочка, я только хотела сказать… Кстати, ты давно о ней не слыхала?
— Последние вести были совсем плохие, Китти. Она уехала из Буэнос-Айреса. Видимо, окончательно порвала с леди Метроленд. Теперь, говорят, разъезжает с какой-то труппой.
— Какая жалость, милочка, зря я об этом заговорила. Но всякий раз, как я вижу Агату Рансибл, я невольно думаю… Нынешние девушки так много знают… Нам-то, Фанни, приходилось до всего доходить своим умом, это занимало столько времени… Будь у меня в юности такие преимущества, как у Агаты Рансибл… А кто этот молодой человек, с которым она шла?
— Не знаю, и, честно говоря, мне не кажется… а тебе? На вид он такой сдержанный.
— У него красивые глаза. И походка хорошая.
— Возможно, если бы дошло до дела… И все же, я говорю, будь у меня в свое время такие возможности, как у Агаты Рансибл…
— Ты что ищешь, милочка?
— Смотри-ка, милочка, какие чудеса. Вот они, мои нюхательные соли, все время тут и лежали, вместе со щетками.
— Ах. Фанни, мне так совестно, если б я знала…
— Вероятнее всего, моя дорогая, ты видела на туалете другой пузырек. Может быть, это горничная его туда положила. В той гостинице все бывает, правда?
— Фанни, прости меня…
— Что тут прощать, дорогая? Ведь ты же, милая, правда видела там другой пузырек?
— Смотри-ка, а вон Майлз.
— Майлз?
— Твой сын, дорогая. Ну знаешь, мой племянник.
— Ах, Майлз! А знаешь, Китти, кажется, это и в самом деле он. Совсем перестал меня навещать, такой нехороший мальчик.
— Странный у него вид, ужасно похож на педа.
— Знаю, моя дорогая. Это для меня большое огорчение. Но я стараюсь меньше об этом думать, ведь иного трудно было и ждать при том, что представлял собой бедный Троббинг.
— За грехи отцов, Фанни…
Где-то, не доезжая Мейдстона, мистер Фрабник окончательно пришел в себя. Напротив него на диване спали оба детектива — котелки съехали на лоб, рот раскрыт, красные ручищи бессильно лежат на коленях. По стеклам барабанил дождь; в вагоне было очень холодно и стоял застарелый запах табака. Со стен глядели рекламы отвратительных живописных развалин; снаружи под дождем мелькали щиты, рекламирующие патентованные средства и собачьи галеты. «Каждая галета МОЛЛАСИН виляет хвостом», — прочел мистер Фрабник, а колеса без конца отстукивали: «Достопочтенный джентльмен, достопочтенный джентльмен…»
Адам сел в вагон вместе с Цветом Нашей Молодежи. Все они еще выглядели неважно, но сразу воспрянули духом, когда узнали, какому жестокому обращению подверглась мисс Рансибл на таможне.
— Ну, знаете ли, — заявили они, — Агата, деточка, это же просто позор! Это неслыханно, это безобразие, это недомыслие, это варварство, это ужасно, ужасно! — А потом заговорили о предстоящем вечере у Арчи Шверта.
— Кто такой Арчи Шверт? — спросил Адам.
— А-а, это уже после вашего отъезда. Жуткий человек. Его обнаружил Майлз, но с тех пор он так вознесся, что скоро перестанет нас узнавать. В общем-то, он очень милый, только безнадежно вульгарен, бедняжка. Живет в отеле «Ритц», это, по-моему, шикарно, правда?
— Он и вечер устраивает там?
— Ну что вы, милый, конечно, нет. Вечер будет в доме Эдварда Троббинга. Вы же знаете, это брат Майлза, но он занят какой-то там политикой и ни с кем не знаком. Он заболел и уехал в Кению или куда-то там еще, а его дом на Хартфорд-стрит, идиотский такой дом, стоит пустой, вот мы все туда и переселились. И вы к нам вселяйтесь, очень будет весело. Дворецкий и его жена сначала были очень недовольны, но мы их угощали вином и дарили им всякие вещи, и теперь они в восторге, только и делают, что вырезают из газет заметки о нашем времяпрепровождении.
Одно плохо, что у нас нет машины. Майлз ее разбил, я имею в виду машину Эдварда, а ремонт нам абсолютно не по карману, так что скоро придется переезжать. Да и вообще там все побилось и грязь ужасная. Понимаете, прислуги в доме нет, только вот дворецкий с женой, а они теперь вечно пьяные. Такой дурной пример… Мэри Маус была ангельски добра, она нам присылала корзины с икрой и всякими вкусностями… Сегодняшний вечер Арчи, конечно, тоже устраивает на ее деньги.
— А знаете, меня что-то опять начинает тошнить.
— Ох, Майлз!
(Ох, Цвет Нашей Молодежи!)
У ангелов, ехавших в переполненном вагоне второго класса, настроение поднималось медленно.
— Опять она взяла Оглядку с собой в машину, — сказала Праведная Обида, которая когда-то в течение одной блаженной недели состояла у миссис Оранг в любимицах. — Что она в ней нашла, не понимаю… А в Лондоне хорошо, Стойкость? Я там только раз побывала, уже давно.
— Там просто рай. Магазины и вообще.
— А мужчины там какие, Стойкость?
— У тебя, Непорочность, только и есть на уме что мужчины?
— Ничего подобного. Я просто спросила.
— Как тебе сказать. Смотреть особенно не на что по сравнению с магазинами. Но польза от них есть.
— Слышали? Ай да Стойкость! Вы слышали, что она сказала? Она говорит: «Польза от них есть».
— От магазинов.
— Да нет же, дуреха, от мужчин.
Ах, от мужчин? Да, это неплохо сказано.
И вот поезд прибыл на вокзал Виктории, и все эти пассажиры разъехались во все концы Лондона.
Адам оставил чемодан в гостинице и сразу поехал на Генриетта-стрит, к своему издателю. Рабочий день в редакции кончался, многие сотрудники уже разошлись, но Сэм Бенфлит, младший компаньон, с которым Адам всегда имел дело, по счастью, еще сидел в своем кабинете — читал в корректуре роман одной из их постоянных авторш. Это был весьма толковый, молодой еще человек, внешности элегантной, но строгой (секретарша всегда трепетала, когда входила к нему с чашкой чаю).
— Нет, это у нее не пройдет, — приговаривал он, скрепляя своей подписью протесты наборщика. — Нет, черт возьми, это не пройдет. Этак мы все из-за нее угодим за решетку. — Одной из самых ответственных его обязанностей было «подсаливать» не в меру пресные рукописи и приглушать не в меру откровенные, приводя их таким образом к единому, апробированному на данный день уровню нравственности.
Адама он приветствовал как нельзя более сердечно.
— Рад вас видеть, Адам. Как дела? Садитесь. Закуривайте. Хорошенькой погодой вас встречает Лондон. А на море как было, сносно?
— Так себе.
— Сочувствую. Хуже качки ничего не придумаешь. Может, пообедаете у меня нынче вечером? Будут кое-какие симпатичные американцы. Вы где остановились?
— В «Шепарде». У Лотти Крамп.
— Ну, там не скучно. Я десять лет стараюсь вытянуть из Лотти автобиографию. Да, кстати. Ведь вы, вероятно, привезли нам рукопись? Старик Рэмпол только на днях о ней справлялся. Неделю-то вы уже просрочили. Аннотации давно разосланы, надеюсь, вам понравились. Выпуск назначен на вторую неделю декабря, чтобы она попала в продажу за полмесяца до выхода автобиографии Джонни Хупа. Его то раскупят мгновенно. Там есть кое-какие рискованные места, кое-что пришлось снять — вы же знаете, что такое старик Рэмпол. Джонни очень сердился. А теперь я уже предвкушаю, как буду читать вас.
— Понимаете, Сэм, тут случилась одна ужасная вещь.
— Что такое? Вы, надеюсь, не хотите сказать, что работа не кончена? Договорный срок, сами понимаете…
— Да нет, она кончена. И сгорела.
— Сгорела?
— Сгорела.
— Какой ужас. Надеюсь, вы застрахованы?
Адам рассказал ему об обстоятельствах гибели своей автобиографии. Потом наступило долгое молчание — Сэм Бенфлит размышлял.
— Я все думаю, как бы поубедительнее преподнести это старику Рэмполу.
— Мне кажется, это достаточно убедительно.
— Не знаете вы старика Рэмпола, Адам. Работать под его началом бывает трудновато. Будь моя воля, я бы сказал: «Не торопитесь. Начните сначала. Не надо волноваться». Но от старика Рэмпола никуда не денешься. Он просто помешан на договорных сроках. И вы же сами сказали… Очень это все сложно. Право же, я от души жалею, что так получилось.
— Представьте себе, я тоже.
— Есть и еще одна загвоздка. Вы ведь получили аванс? Если не ошибаюсь, пятьдесят фунтов? Да, это очень усложняет дело. Старик Рэмпол вообще против того, чтобы платить молодым авторам такие большие авансы. Не хотелось бы это говорить, но мое мнение такое: лучше всего было бы вам вернуть аванс — разумеется с процентами, это уж старик Рэмпол непременно потребует — и расторгнуть договор. Тогда, если бы вам захотелось написать книгу заново, мы бы, конечно, с радостью приняли ее к рассмотрению. Вероятно, вы… вам как, было бы сейчас вполне удобно вернуть аванс?
— И неудобно и просто невозможно, — сказал Адам ничего не выражающим тоном.
Снова наступило молчание.
— Черт знает, какая глупость, — заговорил Сэм Бенфлит. — Это просто безобразие, что таможенным чиновникам разрешают творить такой произвол. Это же совершенно невежественные люди. Понятия не имеют о свободе слова. А мы вот что сделаем. Поместим ряд писем по этому поводу на страницах «Нью стейтсмен»… Черт знает до чего глупо. Но знаете, я, кажется, нашел приемлемый выход. Вы как, успели бы написать книгу заново к тому времени, когда мы публикуем наши весенние списки? Ну вот, тогда мы расторгнем договор, а про аванс забудем. Нет-нет, голубчик, не благодарите. Будь я сам себе хозяин, я бы только так и поступал с утра до ночи. А потом заключим с вами новый договор. К сожалению, несколько менее выгодный, чем прежний. Второго такого старик Рэмпол не подпишет. Да чего же лучше, мы просто заключим с вами наш типовой договор на первый роман. У меня вот и печатный бланк под рукой. Заполнить — одна минута. Вы подпишите вот здесь.
— А условия прочесть можно?
— Сделайте одолжение. Я знаю, на первый взгляд они несколько жестки, но это наша обычная форма. В тот раз мы сделали для вас исключение. Все очень просто. За первые две тысячи экземпляров ничего, потом два с половиной процента, а после десяти тысяч — пять. Право на журнальную публикацию, на экранизацию, инсценировку, на выпуск в Америке и в колониях и на перевод мы конечно, оставляем за собой и, конечно, следующие ваши двенадцать книг вы в первую очередь предлагаете нам на тех же условиях. В общем, все ясно до предела и не оставляет места для пререканий, отравляющих отношения между издателем и автором. Почти все наши авторы работают по таким договорам… Так, отлично. И по поводу аванса очень прошу вас больше не тревожиться. Мне все понятно. А уж старика Рэмпола я как-нибудь ублажу, в крайнем случае вычтем из моего жалованья.
— Старика Рэмпола ублажу, — задумчиво повторил мистер Бенфлит, когда за Адамом закрылась дверь. Хорошо еще, размышлял он, что ни один автор в глаза не видел старшего компаньона — благостного старичка, который раз в неделю приезжал в город на заседание правления, а делами фирмы интересовался главным образом в связи с судьбой собственной книжечки о разведении пчел, изданной двадцать лет назад и уже давно — хоть и без его ведома — снятой с продажи. В трудные минуты мистер Бенфлит нередко спрашивал себя, какие аргументы он будет пускать в ход, когда Рэмпола не станет.
Только теперь Адам вспомнил, что он помолвлен. Звали его нареченную Нина Блаунт. На станции метро он вошел в зловонную будку и позвонил ей с автомата.
— Алло.
— Алло.
— Можно попросить мисс Блаунт?
— Сейчас узнаю, дома ли она, — сказал голос мисс Блаунт. — А кто ее спрашивает? — Это была ее маленькая слабость — притворяться, будто она не сама подходит к телефону.
— Мистер Фенвик-Саймз.
— Ах…
— Иначе говоря, Адам. Как поживаешь, Нина?
— Сейчас мне что-то нездоровится.
— Бедная Нина. Можно к тебе приехать?
— Нет, милый, я как раз собралась принять ванну. Давай лучше пообедаем вместе.
— Обедать я пригласил Агату Рансибл.
— Почему?
— Ее сегодня раздевали какие-то матросы.
— Да, знаю, про это уже есть в вечерней газете… Ну тогда сделаем по-другому. Встретимся на вечере у Арчи Шверта Ты ведь будешь?
— Обещал быть.
— Вот и хорошо. Фрак не надевай. Никто не будет во фраке, кроме Арчи.
— Да, Нина, чуть не забыл. Кажется, я все-таки не смогу на тебе жениться.
— Ну что ты, Адам, как скучно. Почему?
— Они сожгли мою книгу.
— Негодяи. А кто это «они»?
— Расскажу, когда увидимся.
— Да, непременно. До свидания, милый.
— До свидания, моя радость.
Он повесил трубку и вышел из телефонной будки. В вестибюле метро было тесно — люди спасались здесь от дождя, они стряхивали воду с зонтов и читали вечерние газеты. Через плечи ближайших соседей Адам прочел заголовки:
ЧТО ПЕРЕЖИЛА ДОЧЬ ПЭРА В ДУВРЕ.
СВЕТСКАЯ КРАСАВИЦА ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ ОБВИНЕНИЯ.
ДОСТОПОЧТ. АГАТА РАНСИБЛ ЗАЯВИЛА: «СО СТЫДА СГОРЕТЬ МОЖНО».
— Бедняжечка, — возмущалась рядом с ним какая-то пожилая женщина. — Вот уж безобразие так безобразие. И личико у нее такое милое. Я вчера только видела ее портрет в газете. Всюду им надо нос совать, такие бессовестные. А отцу-то ее каково? Видишь, Джейн, тут и про него прописано: «В интервью, данном им сегодня вечером в Карлтон-клубе, лорд Казм…» — это ее папаша — «сказал, что отказывается сделать какое-либо определенное заявление. „Мы этого так не оставим“, — добавил он». И правильно добавил, неужто это можно так оставить! Душа болит за девушку, ну точно она моя родная дочь. Столько раз ее портрет видела, а наша Сара ведь ходила по вторникам убирать черную лестницу в том доме, где раньше ее тетка жила — та, что прошлый год развелась, еще такое скандальное было дело.
Адам купил газету. Теперь всех денег у него осталось ровно десять шиллингов. Идти пешком в такой дождь не хотелось, и он доехал в битком набитом поезде метро до Дувр-стрит, а оттуда пробежал по лужам до отеля «Шепард» (который мы, применительно к настоящему повествованию, условно поместили на углу Хэй-Хилла).
Глава 3
Лотти Крамп, хозяйка гостиницы «Шепард» на Дувр-стрит, в неизменном сопровождении своих двух скотч-терьеров, служит нам отрадным напоминанием о том, что наследие блестящей эпохи Эдуарда — это не только леди Энкоредж и миссис Блекуотер. Лотти — видная женщина, неподвластная влиянию житейских невзгод и отказывающаяся замечать те общественные перемены, что так волнуют ее более наблюдательных сверстниц из высшего света. Когда началась война, Лотти сняла со стены фотографию кайзера с собственноручной надписью и не без торжественности перевесила ее в уборную для мужской прислуги. На этом ее боевые действия закончились. С тех пор она познала свою долю забот — подоходный налог, ограничения продажи спиртных напитков, молодые люди, чьи отцы были ее добрыми друзьями, сующие ей фальшивые чеки, — но все это быстро забывалось. Человек, задыхающийся от современности, если только лицо его нравится Лотти, и теперь еще может в любую минуту прийти в гостиницу «Шепард» и жадными, целительными глотками вдыхать холодный и чистый воздух довоенной незыблемости.
Здание гостиницы имеет простой кирпичный фасад с небольшим фронтоном и широкий, простой парадный подъезд. Внутри оно напоминает загородный дом. Лотти обожает распродажи и, всякий раз как идет с молотка еще одно родовое гнездо времен ее молодости, старается унести что-нибудь к себе на память о прошлых днях. В гостинице тесно от мебели, частью прекрасной, частью невообразимо уродливой; там полно красного плюша, и красной кожи, и всевозможных свадебных подарков восьмидесятых годов, в особенности тех механических приспособлений, украшенных монограммами и гербами, что связываются в нашем представлении с сигарами. Так и кажется, что в ванной там должны быть свалены крокетные молотки и клюшки для поло, в нижнем ящике комода — детские игрушки, а в коридорах между обитыми сукном, пропахшими сыростью дверьми — велосипед, и трость из тех, что превращаются в пилу, и план поместья, и старинная, с торчащей соломой мишень для стрельбы из лука. (На самом же деле если вы что и обнаружите в своем номере, так только пустую бутылку от шампанского или смятую ночную кофточку.)
Прислуга здесь, как и мебель, старая и побывавшая в услужении у знати. Метрдотель Додж — он теперь туг на ухо, подслеповат и замучен подагрой — когда-то был дворецким у Ротшильдов. Более того, он не раз качал на коленях отца Ротшильда, когда тот в раннем детстве приезжал со своим отцом (одно время пятнадцатым по богатству человеком в мире) навестить еще более богатых родичей; но не в характере Доджа было бы притворяться, будто он питал симпатию к будущему иезуиту, который уже тогда был «смышлен не по летам», любил задавать мудреные вопросы и отличался редкостной проницательностью в распознавании всякой лжи и преувеличений.
Кроме Доджа, там имеются несчетные старые горничные, которые с утра до ночи трусят взад-вперед с кувшинами горячей воды и чистыми полотенцами. Имеется там и молодой итальянец, который выполняет почти всю работу и выслушивает оскорбительную ругань Лотти — она как-то застала его в ту минуту, когда он пудрил себе нос, и не дает ему об этом забыть. Это чуть ли не единственный эпизод из ее личной жизни, который она предала широкой гласности.
В гостиной Лотти, этом главном средоточии жизни «Шепарда», размещается богатое собрание снимков мужской половины едва ли не всех царствующих фамилий Европы (кроме бывшего германского императора, так и оставшегося в изгнании, несмотря на то, что в связи с его вторым браком отношение к нему заметно потеплело). Здесь запечатлены на фотографиях молодые мужчины, верхом берущие барьеры, пожилые мужчины — победители на «классических» скачках, отдельно лошади и отдельно молодые мужчины в тесных белых воротничках и в гвардейских мундирах. Есть карикатуры работы «Шпиона» и снимки, вырезанные из иллюстрированных журналов, многие с кратким некрологом «Пал на поле боя». Есть снимки яхт с распущенными парусами и пожилых мужчин в яхтсменских кепи; есть несколько забавнейших снимков автомобилей первых марок. Есть считанное число писателей и художников, и нет ни одного актера, ибо Лотти, как истинный сноб старого закала, превыше всего ценит деньги и титулы.
Когда Адам вошел в гостиницу, Лотти стояла в холле и ругала лакея-итальянца.
— Совсем нас забыли, — сказала она. — Входите, входите. Мы тут как раз собрались выпить. Встретите многих старых знакомых.
Она повела Адама в гостиную, где сидело несколько мужчин — ни одного из них Адам раньше не видел.
— С лордом Какбишьего вы, конечно, все знакомы? — спросила Лотти.
— Мистер Саймз, — поправил Адам.
— Да, голубчик, я так и говорю. Ведь я вас знала, когда вас еще на свете не было. Как ваш батюшка, жив-здоров?
— Нет, к сожалению, умер.
— Подумать только. Я бы вам могла кое-что о нем порассказать. Ну а пока знакомьтесь. Это мистер Забылафамилию, вы его, наверно, помните. А вон тот в углу — майор, а это мистер Нукакего, а это американец, а вот король Руритании.
— Увы, бывший, — сказал печальный мужчина с бородой.
— Бедненький, — сказала Лотти, питавшая слабость к коронованным особам, даже свергнутым с престола. — Такое, право, безобразие. После войны взяли и выгнали в шею. И ни гроша в кармане. Много-то у него никогда не было. А теперь и жену его упрятали в желтый дом.
— Бедная Мария-Христина. Это правда, что миссис Крамп сказал. У нее мозги совсем нет. Она думает, все люди — бомба.
— Что правда, то правда, — горячо подхватила Лотти. — Я в субботу возила короля к ней на свидание (не хочу, чтобы он ездил третьим классом). Жалко ее до слез. Все время подпрыгивает, дрожит. Ей мерещится, что в нее что-то бросают.
— И одна вещь странная, — сказал король. — Во всех моих родных бросали бомбы, а в королева никогда. Мой бедный дядя Иосиф, его разорвало на куски в опере, моя сестра нашла три бомба в своей постели. А моя жена — никогда. Но один день горничная причесывала ее перед обедом и говорит: «Ваше величество, повар брал урок от повара французской миссии…» Еда в моем доме не была, как вы говорите, шик. Баранина горячая, завтра баранина холодная, потом та же баранина опять горячая, но вкус хуже, не шик, вы понимаете… «Он брал урок от французского повара, — говорит горничная, — и приготовил одна большая бомба. Это сюрприз к обеду сегодня, для шведский посланник». Тогда бедная королева сказал «ах», вот так, и теперь ее бедные мозги перепутался.
Бывший король Руритании тяжело вздохнул и закурил сигару.
— Ну что ж, — сказала Лотти, смахнув слезу, — давайте выпьем. Вот вы, ваша честь, судья Каквастам, может, угостите общество?
Американец, которого, как и остальных слушателей, рассказ экс-короля взволновал до глубины души, ответил с поклоном:
— Я почту за большую честь, если его величество, и вы, миссис Крамп, и все присутствующие джентльмены…
— Вот и молодец, — сказала Лотти. — Эй, где там мой сказочный принц? Опять небось пудрится. Ну-ка, Нэнси, отложи косметику и иди сюда.
Итальянец появился на пороге.
— Бутылку вина, — сказала Лотти. — Запишешь на судью Какего. (В гостиной у Лотти «вино», если сорт не оговорен особо, означает шампанское. Еще там процветает таинственная игра в кости, где каждая партия кончается тем, что кто-нибудь преподносит по бутылке вина каждому из участников. Впрочем, Лотти — справедливая душа: выписывая счета своим постояльцам, она обычно устраивает так, что за все платят самые богатые.)
После третьей или четвертой бутылки Лотти сказала:
— А знаете, кто сегодня обедает у нас наверху? Премьер-министр.
— Я никогда не любил премьер-министры. Они все говорят, говорят, говорят. «Сэр, вам надо подписать вот это». «Сэр, вам надо поехать сюда и туда». «Сэр, вам надо застегнуть эту пуговицу, прежде чем дать аудиенция черному послу из Либерии». Ха! После войны мой народ дал мне по шапке, но моего премьер-министра они выбросили из окна, прямо бух — и на землю. Ха-ха.
— Причем обедает не один, — сказала Лотти, очень хитро подмигнув.
— Кто, сэр Джеймс Браун? — спросил майор, шокированный, несмотря ни на что. — Быть не может.
— Нет, фамилия ему Фрабник.
— Он не премьер-министр.
— Нет, премьер. Я в газете читала.
— Нет, не премьер. Он ушел с поста на прошлой неделе.
— Ну и чудеса. Все время они меняются. Просто сладу с ними нет. Додж! Додж! Как зовут премьер-министра?
— Простите, мэм, не расслышал.
— Как зовут премьер-министра?
— Нет, мэм, нынче не ожидается. Мне, во всяком случае, ничего не сообщали.
— Невозможный старик. Как зовут премьер-министра?
— О, прошу прощения, мэм, я вас не понял. Сэр Джеймс Браун, мэм, баронет. Очень приятный человек, так мне говорили. Консерватор, если не ошибаюсь. Они из Глостершира, как будто так.
— Ну, что я говорила? — торжествующе воскликнула Лотти.
— Это очень удивительная вещь, ваш конституция, — сказал бывший король Руритании. — В детстве меня все время обучали только британская конституция. Мой домашний учитель был раньше учитель в вашей школе Итон. А теперь, когда я приехал в Англию, тут все время новый премьер-министр, и никто не знает, который какой.
— Понимаете, сэр, — сказал майор, — это все по вине либералов.
— Либералы? Да. У нас тоже были либералы. Я вам расскажу. Я имел одна золотая вечная ручка. Мой крестный, добрый эрцгерцог Австрийский, подарил мне одна золотая вечная ручка с орлами. Я любил моя золотая вечная ручка. — Король прослезился. Ему теперь не часто доводилось пить шампанское. — Я очень любил моя золотая вечная ручка с маленькими орлами. И один день у нас стал министр-либерал. Граф Тампен, человек чрезвычайной скверности, миссис Крамп. Он пришел ко мне говорить, и стоял около моего секретера, и говорил слишком много — про что, я не понимал. А когда он ушел — где моя золотая вечная ручка с орлами? Тоже ушла.
— Бедный король, — сказала Лотти. — Вы не унывайте, лучше выпейте еще бокал.
— … Почту за большую честь, — сказал американец, — если ваше величество, и эти джентльмены, и миссис Крамп…
— Додж, пришлите-ка сюда моего херувимчика… Эй ты, судья просит еще бутылку вина.
— Зачту по большую честь… почту за большую честь, если миссис величество, и эти джентльмены, и его Крамп…
— Молодец, судья. Сейчас принесут еще бутылку.
— Почту за большую Крамп, если его джентльмены, и эти величества, и миссис честь…
— Да-да, судья, все правильно. Вы там смотрите, друзья, как бы он не свалился. И пьют же эти американцы.
— … Почту за величество Крамп, если миссис джентльмен…
И его честь судья Скимп из федерального верховного суда залился громким смехом. (В оправдание всех этих людей следует напомнить, что никто из них еще не обедал.)
В комнате, между прочим, находился также некий молодой человек с усами, на вид очень тихий и корректный. До сих пор он молча пил в своем уголке, лишь изредка бросая судье Скимпу короткое «за ваше», а теперь вдруг поднялся и сказал:
— Держу пари, что вам этого не сделать.
Он выложил на стол три монеты по полпенса и не спеша подвигал их, после чего гордо вскинул голову.
— К каждой монете я прикоснулся всего пять раз, — сказал он, — и два раза поменял их местами. Ну-ка, кто так сумеет?
— Вот это ловкость рук! — сказала Лотти. — И где только вас такому обучили?
— Один тип в поезде показал.
— Мне кажется, это нетрудно, — сказал Адам.
— А вы попробуйте. Не выйдет. Держу пари на что хотите.
— На сколько, например? — Лотти сияла, такие вещи были в ее вкусе.
— На сколько хотите. На пятьсот фунтов?
— Соглашайтесь, — сказала Лотти. — Выиграете. У него денег много.
— Идет, — сказал Адам.
Он взял монеты и тоже подвигал их по столу, а кончив, спросил:
— Ну как?
— Ах, черт побери, — сказал молодой человек. — В первый раз вижу. Я за одну неделю заработал этим фокусом уйму денег. Получите. — Он достал бумажник и протянул Адаму кредитку в пятьсот фунтов. Потом опять сел в тот же уголок.
— Одобряю, — сказала Лотти. — Сразу виден благородный человек. По этому случаю надо выпить. И все выпили еще по бокалу. Вскоре молодой человек опять встал с места.
— Предлагаю реванш. Орел или решка. Два из трех — выигрыш.
— Идет, — сказал Адам.
Они бросили монету по два раза, и оба раза выиграл Адам.
— Ах, черт побери, — сказал молодой человек, протягивая ему вторую кредитку. — Везет вам.
— У него денег куры не клюют, — сказала Лотти. — Тысяча фунтов для него пустяк.
Ей нравилось воображать это про всех своих постояльцев. Но в данном случае она заблуждалась. У этого молодого человека было в кармане столько денег потому, что он только что продал те немногие ценные бумаги, которые у него еще оставались, чтобы купить новый автомобиль. Вместо этого он на следующий день с горя купил подержанный мотоцикл.
Чувствуя легкое головокружение, Адам выпил еще бокал, чтобы мысли прояснились.
— Можно, я схожу позвоню? — сказал он. И позвонил Нине Блаунт.
— Это Нина?
— Адам, милый, ты уже пьян.
— Откуда ты знаешь.
— Слышу. Тебе что нужно, а то я сейчас уезжаю обедать.
— Я только хотел сказать, что пожениться мы сможем. У меня есть тысяча фунтов.
— Чудесно. А как ты их добыл?
— Расскажу, когда увидимся. Мы где обедаем?
— В «Ритце». Потом к Арчи. Милый, я очень рада, что мы поженимся.
— Я тоже. Но не надо делать из этого мелодраму.
— А я и не собиралась. К тому же ты пьян.
Он вернулся в гостиную. Мисс Рансибл уже приехала и стояла в холле, разодетая для вечера.
— Кто эта девка? — спросила Лотти.
— Она не девка. Это Агата Рансибл.
— А на вид девка… Здравствуйте, душенька, входите. Мы тут как раз собрались выпить. Вы, конечно, со всеми знакомы? Вот этот, с бородой, — король… Нет, солнышко, король Руритании. Вы не обиделись, что я приняла вас за девку, нет? Очень уж похоже, и наряд весь такой. Теперь-то я, конечно, вижу, что ошиблась.
— Дорогая моя, — сказала Агата Рансибл, — если б вы увидели меня сегодня днем… — И она стала рассказывать Лотти Крамп про свои злоключения на таможне.
— Что бы вы сделали, если бы вдруг получили тысячу фунтов? — спросил Адам.
— Тысячу фунтов, — сказал король, и глаза его затуманились от такого фантастического видения. — Ну, сначала я бы купил дом, автомобиль, и яхта, и новые перчатки, а потом основал бы в моей стране одна маленькая газета, чтобы она писала, что я должен вернуться и быть король, а потом не знаю, что буду делать, когда опять получу веселость и великолепность.
— Но к сожалению, сэр, тысячи фунтов на все это не хватит.
— Да?… Не хватит?… Целой тысячи фунтов? Ну, тогда я, наверно, куплю золотая вечная ручка с орлами, какая украли либералы.
— А я знаю, что бы я сделал, — сказал майор. — Я бы поставил их на лошадь.
— На какую?
— Могу вам назвать аутсайдера, у которого есть все шансы победить в ноябрьском гандикапе. Кличка — Селезень. Пойдет в двадцати к одному, а то и меньше. Если поставить на нее тысячу и она придет, вы сразу станете богатым человеком, разве нет?
— Верно. Это идея. Вы знаете, я, пожалуй, так и сделаю. Идея просто замечательная. А как это можно сделать?
— Давайте мне вашу тысячу, я все устрою.
— Вы очень любезны.
— Ничего, ничего, пожалуйста.
— Нет, в самом деле, это очень любезно с вашей стороны. Спасибо, вот они. Вам налить?
— Нет, уж это я угощаю.
— Я первый сказал.
— Ну, тогда выпьем вместе.
— Одну минуту, мне только нужно позвонить по телефону.
Он позвонил в отель «Ритц» и попросил найти Нину.
— Милый, ты что-то очень часто звонишь.
— Нина, у меня к тебе важный разговор.
— Слушаю, милый.
— Нина, тебе что-нибудь известно про лошадь по кличке Селезень?
— Кажется, да. А что?
— Какая это лошадь?
— Никуда не годная. Она принадлежит матери Мэри Маус.
— Совсем плохая лошадь?
— Да.
— У нее нет шансов победить в ноябрьском гандикапе?
— Ни малейших. Ее, наверно, даже не выпустят. А что?
— Знаешь, Нина, выходит, что мы все-таки не сможем пожениться.
— Почему, дорогой?
— Да понимаешь, я поставил мою тысячу фунтов на Селезня.
— Очень глупо сделал. Ты не можешь взять их обратно?
— Я их отдал майору.
— Какому еще майору?
— Вдребезги пьяному. Фамилии не знаю.
— Ну, так постарайся догнать его, пока не поздно. А мне надо идти, я обедаю. До свидания.
Но когда он вернулся в гостиную Лотти, майора там не было.
— Какой майор? — ответила Лотти вопросом на его вопрос. — Я тут никакого майора не видела.
— Тот, с которым вы меня познакомили. Сидел вот там, в углу.
— С чего вы взяли, что он майор?
— Вы же мне и сказали.
— Голубчик, я его в первый раз видела. Но он, пожалуй, и правда похож на майора, разве нет? Вы нам не мешайте, эта милашечка рассказывает мне ужасно интересные вещи. Аж сердце замирает, до чего безнравственные бывают люди.
Пока мисс Рансибл заканчивала свою историю (которая при каждом повторении все больше смахивала на непристойную антитурецкую пропаганду), бывший король поведал Адаму, что он тоже знавал одного майора — тот приехал из Пруссии с задачей реорганизовать руританскую армию, а потом скрылся в южном направлении, прихватив с собой все столовое серебро из офицерского собрания, жену лорда-камергера и пару подсвечников из королевской часовни.
К тому времени, как мисс Рансибл кончила, негодование Лотти достигло предела.
— Просто уму непостижимо, — сказала она. — Этакие скоты. А я ведь знала вашего батюшку, когда вас не то что на свете, даже в проекте еще не было. Сейчас же поговорю об этом с премьер-министром. — И она взялась за телефонную трубку. — Мне Фрабника, — сказала она телефонисту. — Он наверху, в двенадцатом номере, с японкой.
— Фрабник не премьер-министр, Лотти.
— Нет, премьер. Вы разве не помните, что сказал Додж?… Алло, это Фрабник? Говорит Лотти. И вам не совестно? Лучше ничего не придумали, чем срывать платье с бедной, беззащитной девушки?
Лотти говорила еще долго.
Мистер Фрабник уже пообедал, и упреки, сыпавшиеся на него из телефона, отчасти соответствовали его настроению. Он далеко не сразу сообразил, что речь идет всего лишь о мисс Рансибл. Лотти к тому времени почти иссякла, однако закончила весьма эффектно.
— Не Фрабник вы после этого, а похабник, — сказала она, швыряя трубку. — Вот какого я о нем мнения. А теперь, может, выпьем?
Но компания ее уже распалась. Майор ушел, судья Скимп спал, уронив красивые белые волосы в пепельницу. Адам и мисс Рансибл решали, куда отправиться обедать. Вскоре остался только король. Он предложил Лотти руку с изысканной грацией, усвоенной много лет назад в далеком краю, в маленьком солнечном дворце, где огромная люстра разбрасывала звездные блестки, как бриллианты от разорванного колье, по малиновому ковру с тканым узором из монограмм и корон.
И они вдвоем проследовали в столовую.
Наверху в двенадцатом номере — апартаментах просторных и даже роскошных — мистер Фрабник уже скользил вниз с вершины отваги, на которую с таким трудом взобрался. Если бы не этот телефонный звонок, говорил он себе, он, безусловно, довел бы дело до конца. А теперь баронесса лепечет, что его, вероятно, ждут дела, и она, конечно, ему мешает, и пусть будет так любезен, вызовет ее машину.
До чего же это все трудно. По европейским понятиям приглашение пообедать вдвоем в номере «Шепарда» могло означать только одно. То, что она согласилась приехать в первый же вечер по его возвращении в Англию, исполнило его трепетной надежды. Но во время обеда она держалась так спокойно, так по-светски непринужденно. Впрочем, как раз перед тем, как зазвонил телефон, когда они только что встали из-за стола и пересели к камину — тут, несомненно, да, несомненно, чем-то таким повеяло. Но с этими восточными женщинами никогда не знаешь… Он обхватил руками колени и выговорил каким-то странным, чужим голосом, неужели ей нужно уезжать, и что так было чудесно после двух недель, и еще — совсем уже через силу — что он столько думал о ней в Париже. (Ах, куда девались слова — те сокровища речи, что он мог растрачивать как хотел, швырять в палату общин, где они сверкающими крутящимися червонцами катились по полу! Где те несчетные фразы, что он звонкими пригоршнями рассыпал по своему избирательному округу!)
Маленькая баронесса Иосивара, сложив золотые ручки на коленях золотого вечернего платья от Пакена, сидела, куда ее послали, еще более озадаченная, чем мистер Фрабник, и ждала приказаний. Что нужно этому лукавому англичанину? Если он занят, почему не велит ей уйти? Не скажет приехать в другой раз? Если хочет, чтобы его любили, почему не подзовет ее? Почему не поднимет с этого красного плюшевого кресла и не посадит к себе на колени? Или она сегодня выглядит безобразной? Ей-то казалось, что нет. Так трудно понять, что нужно этим западным мужчинам.
И тут опять зазвонил телефон.
— Одну минуту, — сказал чей-то голос. — С вами будет говорить отец Ротшильд… — Это вы, Фрабник? Очень вас прошу, приезжайте ко мне, как только сможете. Мне нужно обсудить с вами ряд вопросов.
— Право же, Ротшильд, не понимаю, к чему это. У меня гостья.
— Баронессе следует немедленно ехать домой. У лакея, который подавал вам кофе, брат работает в японском посольстве.
— Боже мой, неужели? Но почему вы не хотите потревожить Брауна? Ведь премьер-то он, а не я.
— Вы вступаете в должность завтра… Прошу вас, как можно скорее, адрес вам известен.
— Ну хорошо, хорошо.
— О да, конечно.
Глава 4
На вечере у Арчи Шверта пятнадцатый маркиз Вэнбру, граф Вэнбру де Брендон, барон Брендон, лорд Пяти Островов и наследственный сокольничий королевства Коннот, сказал восьмому графу Балкэрну, виконту Эрдинджу, Алому рыцарю Ланкастерскому, Паладину Священной Римской империи и Шенонсосскому Герольду герцогства Аквитании:
— Здорово. Ну и отвратный вечер. Ты что будешь о нем писать? — потому что оба они по странной случайности вели отдел светской хроники в ежедневных газетах.
— Я уже передал материал по телефону, — сказал лорд Балкэрн. — Теперь, слава тебе господи, можно и уходить.
— А у меня что-то ни одной мысли в голове, — сказал лорд Вэнбру. — Вчера моя редакторша заявила, что ей надоело изо дня в день читать одни и те же имена, а сегодня они опять все тут, все до единого. Ну, расстроилась помолвка Нины Блаунт, но это не бог весть какая сенсация. Агата Рансибл обычно тянет на несколько абзацев, но ее завтра разгоняют на всю первую полосу в связи с этой историей на таможне.
— У меня неплохо получилось про Эдварда Троббинга, как он живет в Канаде в бревенчатой хижине, которую построил сам, с помощью одного только индейца. Меня это потому соблазнило, что Майлз сегодня наряжен индейцем. Недурно, а?
— Очень даже недурно. Можно, я это использую?
— Хижину, так и быть, возьми, но индейца оставь мне.
— А где он на самом деле обретается?
— Кажется, в Оттаве, как гость правительства.
— Кто эта страховитая женщина? Чем-то она, по-моему, знаменита. Это не миссис Мелроз Оранг? Я слышал, она должна здесь быть.
— Которая?
— Да вон, подходит к Нине.
— Ох, нет. Она никто. Сейчас ее зовут миссис Пэнраст.
— Она как будто тебя знает.
— Да, я с ней знаком всю жизнь. Она, понимаешь ли, моя мать.
— Ах, прости, мой милый. Можно я об этом упомяну?
— Лучше не надо. В семье ее терпеть не могут. Она ведь с тех пор два раза разводилась.
— Ну понятно, мой милый. Не буду.
Пять минут спустя он сидел у телефона и диктовал:
— …орхидея, точка. Абзац. Одной из самых интересных женщин в зале была миссис Пэнраст, П, Э, Н, Р, А… нет, С, система… бывшая графиня Балкэрн. Она одевается в строгом, мужском стиле, который придает такой шик многим американкам, точка. С ней был ее сын, запятая, нынешний граф Балкэрн. Лорд Балкэрн, запятая, один из немногих истинно светских молодых людей… Достопочтенный Майлз Злопрактис был в костюме индейца. В настоящее время он живет в доме своего брата лорда Троббинга, где и состоялся вчерашний вечер. Выбор этого костюма был особенно… как бы это сказать… вот, был особенно пикантным, курсив, потому что лорд Троббинг, по последним сведениям, живет сейчас в Канаде в бревенчатой хижине, которую он построил своими руками, с помощью одного-единственного слуги-индейца, точка…
Теперь вам ясно, какого рода вечер был этот вечер у Арчи Шверта.
Мисс Маус (в чрезвычайно смелом туалете от Шерюи) сидела на стуле у стены и смотрела во все глаза. Нет, никогда ей не привыкнуть к таким волнующим переживаниям! Она привела с собой подругу, некую мисс Браун, потому что гораздо интереснее, если есть с кем поговорить. Просто дух захватывает, когда на твоих глазах никчемные деньги, скопленные отцом, как по волшебству превращаются в такой блеск, и шум, и столько молодых скучающих лиц. Арчи Шверт, пробегая мимо с бутылкой шампанского, приостановился, сказал:
— Мэри, как себя чувствуете, деточка, веселитесь? — и побежал дальше.
— Это Арчи Шверт, — сказала мисс Маус своей подружке. — Удивительно интересный человек.
— Да? — отозвалась мисс Браун, которой очень хотелось выпить, только она стеснялась это сказать. — Какая ты счастливица, Мэри, знаешь столько занятных людей. А у меня совсем нет знакомых.
— И приглашения так интересно составлены, правда? Это Джонни Хуп сочинил.
— Да, наверно. Но знаешь, какой ужас, я ведь все эти имена в первый раз слышу [3].
— Ну что ты, милая, не может быть, — сказала мисс Маус и где-то очень глубоко, в неизведанных уголках своей души, ощутила легкий, непривычный трепет превосходства. Сама она несколько дней назад подробно изучила это приглашение у отца в библиотеке и теперь знала все про всех.
В этом новом для нее состоянии душевного подъема она уже готова была пожалеть, что не приехала в маскарадном костюме. Вечер назывался дикарским — Джонни написал в приглашении, что все должны нарядиться дикарями. Многие так и сделали. Сам Джонни, в маске и черных перчатках, изображал магараджу Поккапорского, к некоторой досаде самого магараджи, который тоже оказался в числе гостей. Подлинная аристократия — младшие отпрыски тех двух-трех фамилий пивоваров, что правят Лондоном, — не снизошла до переодевания. Они приехали с какого то бала и держались кучкой, явно забавляясь, но сами совсем не забавные. Сердце у мисс Маус билось, как птичка в клетке. Ее так и подмывало сбросить свой ослепительный туалет и, оголившись до пояса, станцевать танец вакханки. Когда-нибудь, думала мисс Маус, она еще их всех удивит.
Был там один известный актер, который шутил. (Правда, те, кто смеялся, смеялись не тому, что он говорил, а тому, как это говорилось.) «Я приехал на этот вечер диким вдовцом», — заявил он. Вот такие он отпускал шутки, но, разумеется, лицо у него при этом было очень смешное.
Мисс Рансибл переоделась в гавайский костюм и была душой общества.
Были там, в другой комнате, два человека с запасом взрывчатого вещества — они делали снимки. Их вспышки и взрывы порядком нервировали гостей, создавая несколько напряженную атмосферу, потому что все строили пренебрежительные мины и говорили, какая тоска эти газеты и угораздило же Арчи пустить сюда фотографов, но на самом деле большинству ужасно хотелось сфотографироваться, а остальные дрожали от неподдельного страха — вдруг их снимут без их ведома, и тогда их мамы узнают, где они были, когда сказали, что едут потанцевать к Бистерам, и опять будет сцена, а это так утомительно, не говоря уже о прочем.
Были там и Адам с Ниной, они немного расчувствовались.
— А знаешь, — сказала она, выдирая у него клок волос, — я почему-то была уверена, что ты шатен.
Арчи Шверт, пробегавший мимо с бутылкой шампанского, остановился и сказал:
— Разве можно быть такой садисткой, Нина?
— Катись отсюда, баранья твоя голова, — сказал Адам, изображая простолюдина. И добавил уже более нежно: — И теперь ты разочарована?
— Да нет, просто немножко чудно, решила выйти замуж за шатена, а он, оказывается, блондин.
— Но ведь помолвка наша все равно расстроилась… или нет?
— Я еще не уверена. У тебя хоть сколько-нибудь денег есть?
— Нет, дорогая, ни гроша. Даже за обед сегодня пришлось платить бедной Агате. А что я буду делать, когда Лотти Крамп подаст мне счет, одному богу ведомо.
— В конце концов… Адам, пожалуйста, не спи… есть еще папа. По-моему, он гораздо богаче, чем кажется. Он мог бы ссудить нас деньгами на то время, пока ты ничего не получаешь за свои книги.
— А ведь если я буду писать по книге в месяц, то через год развяжусь с этим договором… Как-то я об этом раньше не подумал… Это ведь вполне можно сделать… или нет?
— Конечно, можно, милый. Знаешь что? Давай-ка мы завтра съездим к папе. Хочешь?
— Это было бы просто божественно.
— Адам, не спи…
— Прости, милая. Я хотел сказать, что это было бы просто божественно.
И он уснул, положив голову к ней на колени.
— Красота, да и только, — сказал Арчи Шверт, проходя мимо с бутылкой шампанского.
— Адам, проснись, — сказала Нина, выдирая у него еще немного волос. — Нам пора уезжать.
— Было бы божественно… Ой, неужели я заснул?
— Да, ты проспал часа три. А я тобой любовалась.
— И ты все время сидела… Честное слово, Нина, ты что-то расчувствовалась… Куда мы отправимся?
Гости уже почти все разъехались. Оставалось человек десять — то твердое ядрышко веселья, которое ничем не расколоть. Было около трех часов ночи.
— Поехали к Лотти Крамп, там выпьем, — сказал Адам. И они, погрузившись в два такси, покатили через Баркли-сквер — дождь, казалось, смыл с этой площади всю косметику — на Дувр-стрит. Но в «Шепарде» ночной швейцар сказал им, что миссис Крамп только что легла. Кажется, у судьи Скимпа еще не спят, может, они желают присоединиться? Они поднялись в номер судьи Скимпа, но оказалось, что там произошло несчастье с люстрой, на которой пыталась покачаться одна из девиц. Сейчас ей промывали рассеченный лоб шампанским; двое гостей крепко спали.
Так что Адам и его компания опять вышли под дождь.
— Конечно, на худой конец есть еще «Ритц», — сказал Арчи. — Там у ночного швейцара всегда можно чем-нибудь разжиться. — Но сказал он это таким голосом, что все остальные сразу сказали: нет, не стоит, «Ритц» среди ночи — это невыносимая скука.
Они пошли было к Агате Рансибл, жившей в двух шагах, но оказалось, что она потеряла свой ключ, так что ничего не вышло.
Вот-вот кто-то должен был произнести роковые слова: «Ну, мне, пожалуй, пора и спать. Подвезти кого-нибудь до Найтс-бриджа?» — и на этом вечер бы закончился.
Но тут раздался взволнованный голосок:
— А почему бы не поехать к нам?
То была мисс Браун.
И вот они опять погрузились в такси и поехали уже подальше, к мисс Браун. Она зажгла свет в мрачноватой столовой и угостила всех виски с содовой (показав себя неплохой хозяйкой дома, хоть и не в меру радушной). Потом Майлз заявил, что проголодался, и все пошли вниз, в необъятную кухню, где с полок глядели кастрюли и сковороды всевозможных сортов и размеров, и тут отыскали яйца и ветчину, из которых мисс Браун и сготовила яичницу. Потом вернулись в столовую, выпили еще немного виски, и Адам снова заснул. Тут Вэнбру сказал: — Вы мне разрешите позвонить от вас по телефону? Мне только передать в газету конец корреспонденции.
Мисс Браун провела его в кабинет, чем-то похожий на канцелярию, и он продиктовал свою колонку до конца, а потом вернулся к остальным и выпил еще виски.
Для мисс Браун это был упоительный вечер. Возбужденная успехом своего гостеприимства, она порхала от гостя к гостю, предлагая кому спички, кому сигару, кому грушу из огромной золоченой вазы, стоявшей на буфете. Подумать только, все эти блистательные особы, о которых она столько слышала от мисс Маус и так ей завидовала, они здесь, в папиной столовой, и называют ее «дорогая» и «деточка»! А когда они наконец стали уверять, что теперь им в самом деле пора, мисс Рансибл сказала:
— Мне-то просто некуда ехать, ведь я потеряла ключ. Ужасно будет неудобно, если я здесь переночую?
Мисс Браун ответила, замирая от страха, но совершенно естественным тоном:
— Ну что вы, Агата, деточка, это будет божественно.
И тогда мисс Рансибл сказала:
— Вы просто божественно добры, дорогая.
Какое блаженство!
На следующий день в половине десятого семья Браун собралась в столовой к утреннему завтраку.
Первыми пришли четыре скромные девушки (та, что ночью принимала гостей, была из них самая младшая). Брат их, работавший в гараже, уходил из дому намного раньше. Они уже сидели за столом, когда вошла их мать.
— Хочу вам напомнить, дети, — сказала она, — нужно за завтраком побольше разговаривать с папой. А то он обижается. Чувствует себя посторонним. Его так легко втянуть в разговор, стоит только немножко постараться. Ведь ему все интересно.
— Хорошо, мама, — сказали они. — Мы и так стараемся.
— Ну а как было у Бистеров, Джейн? — продолжала мать, разливая кофе. — Потанцевали, повеселились?
— Было просто божественно, — ответила младшая мисс Браун.
— Как, как ты сказала?
— Было прелестно, мама.
— Еще бы. Вы, нынешние девушки, счастливицы. Когда я была в вашем возрасте, столько балов не устраивали. Раза два в неделю во время сезона, а уж чтобы до Рождества — этого не бывало.
— Мама!
— Да, Джейн?
— Мама, я пригласила одну девушку у нас переночевать.
— Хорошо, милая. Когда? Ты ведь знаешь, ближайшие дни у нас заняты.
— Вчера, мама.
— Нет, это просто поразительно. И она согласилась?
— Да, она сейчас здесь.
— Н-ну… Амброз, скажите, пожалуйста, миссис Спэрроу, пусть сварит лишнее яйцо.
— Прошу прощенья, миледи, миссис Спэрроу сама не понимает, как это вышло, только яиц нет. Она говорит, наверно, ночью воры в дом забрались.
— Глупости, Амброз. Где это слыхано, чтобы воры проникали в дом красть яйца?
— Скорлупа валялась по всей кухне, миледи.
— Ах, так. Хорошо, Амброз, можете идти… Это что же Джейн, твоя гостья вдобавок съела все наши яйца?
— Да, наверно… то есть… я хотела сказать… В это время к завтраку явилась Агата Рансибл. В утреннем свете она выглядела не слишком авантажно.
— Привет всей компании, — сказала она непринужденным тоном. — Наконец-то я попала куда надо. Я тут, понимаете, забрела в чей-то кабинет. Там за столом сидел премилый стариканчик. Он очень удивился, когда меня увидел. Это ваш папа?
— Познакомьтесь с моей мамой, — сказала Джейн.
— Здравствуйте, — сказала мисс Рансибл. — С вашей стороны страшно любезно, что вы разрешили мне выйти к завтраку в таком виде. (Напомним, что она все еще была в гавайском костюме.) Нет, правда, вы не очень на меня сердитесь? Для меня-то все это получилось еще более неудобно, ведь правда?… Или нет?
— Вам чаю или кофе? — заговорила наконец мать юной Джейн. — Джейн, милая, накорми свою подругу завтраком. — За долгие годы, проведенные на общественном поприще, у нее сложилось мнение, что своевременное предложение поесть может разрешить любую сложную ситуацию.
Тут в столовую вошел отец юной Джейн.
— Марта, это что-то поразительное!.. Я, наверно, выжил из ума. Сижу я у себя в кабинете, перечитываю речь, которую должен сегодня произнести, и вдруг отворяется дверь и появляется какая-то полуголая танцовщица-готтентотка. Она только сказала «это же сквозь землю провалиться можно» и исчезла, а я… О-о… — Он только сейчас заметил мисс Рансибл. — А-а, здравствуйте, как…
— С моим мужем вы, кажется, не знакомы?
— Только чуть-чуть, — сказала мисс Рансибл.
— Как себя чувствуете, как спали? — выдавливал из себя отец Джейн. — Марта мне и не сказала, что у нас гостья. Простите, если я не проявил должного гостеприимства… я… Да скажите же кто-нибудь что-нибудь! Мисс Рансибл тоже ощутила некоторую неловкость. Она взяла со стола утреннюю газету.
— Тут есть одна ужасно забавная история, — сказала она, чтобы поддержать светскую беседу. — Давайте я вам прочту. «Ночные оргии в доме № 10». Божественно, правда? «Самое, вероятно, необычайное сборище этого года состоялось сегодня под утро в доме № 10 на Даунинг-стрит. Часа в четыре утра полисмены, постоянно дежурящие у резиденции премьер-министра, с удивлением увидели…» Забавно, правда? «… как к дому подъехала целая вереница такси, из которых высыпала веселая толпа в экзотических маскарадных костюмах». Вот бы поглядеть! Воображаете, какая это была картина? «Хозяйкой сборища, которое один из гостей назвал самым душистым букетом их всех, какие составлял до сих пор Цвет Нашей Молодежи, была не кто иная, как мисс Джейн Браун, младшая из четырех прелестных дочерей премьер-министра. Достопочтенная Агата…» Вот это уже поразительно… Боже мой!!
В мозг мисс Рансибл внезапно хлынул поток света, как было однажды, когда она еще в юности пошла за кулисы на благотворительном утреннике, а на обратном пути ошиблась дверью и очутилась на сцене, в слепящих лучах прожекторов, в середине последнего действия «Отелло».
— Боже мой! — сказала она, обводя глазами семейство Браунов. — Какой же нахал этот Вэнбру. Вечно он проделывает такие вещи. Нужно пожаловаться куда следует, тогда он потеряет работу, и поделом ему будет, правда, сэр Джеймс?… Или нет?
Мисс Рансибл умолкла и снова оглядела всех Браунов, ища в их глазах поддержки.
— О господи, — сказала она. — Жуть какая.
Потом повернулась и, волоча за собой гирлянды из тропических цветов, бежала в холл, а оттуда на улицу, к великой радости и выгоде репортеров и фотографов, уже толпившихся у исторического подъезда.
Глава 5
Адам проснулся совершенно больной и разбитый. Он позвонил раза два, но никто не пришел. Позже он опять проснулся и позвонил. В дверях появился, грациозно извиваясь, лакей итальянец. Адам попросил принести ему завтрак. Вошла Лотти и села на кровать.
— Ну как, сытно позавтракали, голубчик? — спросила она.
— Я еще не завтракал, — сказал Адам. — Я только что проснулся.
— Вот и хорошо, — сказала Лотти. — Сытный завтрак — это великое дело. Вам звонила одна барышня, но что велела передать — хоть убей, не помню. Мы нынче утром совсем с ног сбились. Полный кавардак. Полиция явилась — я уж и не запомню, сколько времени этого не было, — пили мое вино, задавали всякие вопросы, совали нос куда не надо. А все потому, что Флосси взбрело в голову покачаться на люстре. Всегда она была с придурью, эта Флосси. Ну, вперед будет знать, бедняжка. Качаться на люстре — надо же такое выдумать! Бедный судья Какбишьего просто вне себя. А я ему говорю: что люстра была дорогая, это еще, говорю, полбеды. Можно и новую купить, были бы деньги, верно ведь, голубчик? Что мне обидно, говорю, так это смертный случай в доме и весь этот кавардак. Кому же приятно, когда люди приходят в гости и убивают себя, вот как эта Флосси? А тебе что здесь понадобилось, мой итальянчик? — обратилась она к лакею, входившему в комнату с подносом, от которого шел запах копченой рыбы, назойливо заглушаемый ароматом духов «Nuit de Noël».
— Завтрак джентльмену, — сказал лакей.
— Сколько же еще ему требуется завтраков, хотела бы я знать? Он уже давным-давно позавтракал, пока ты там внизу пудрил нос. Ведь верно, голубчик?
— Нет, — сказал Адам. — Определенно нет.
— Вот, слышал, что джентльмен говорит? Не требуется ему двух завтраков. Так что не стой тут, виляя задом. Уноси свой поднос, да поживей, не то получишь хорошую трепку… Вот так оно и бывает — стоит заявиться полиции, как сразу на всех затмение находит. Надо же, подал вам два завтрака, а какой-нибудь горемыка дальше по коридору небось ни одного не дождался. Без сытного завтрака это разве жизнь? Из нынешних постояльцев, какие помоложе, большинство по утрам только и заказывают, что cachet Faivre да апельсиновый сок. На что это похоже, а этому мальчишке я сто раз говорила, чтобы не смел душиться.
Из-за двери появилась голова лакея, а с нею новая волна «Nuit de Noël».
— Простите, мадам, там внизу инспектор, он хочет с вами поговорить, мадам.
— Хорошо, моя райская птичка, сейчас иду.
Лотти убежала, а лакей бочком внес в комнату поднос с копченой рыбой и подмигнул Адаму до безобразия фамильярно.
— Будьте добры, напустите мне ванну, — сказал Адам.
— Увы, синьор, в ванне спит один джентльмен. Разбудить его?
— Нет, не стоит.
— Больше ничего, сэр?
— Ничего, спасибо.
Лакей еще постоял, оглаживая медные шары на спинке кровати и заискивающе улыбаясь. Потом извлек из-под куртки гардению, слегка пожухлую по краям. (Он нашел ее в петлице одного из фраков, которые только что чистил.)
— Не желает ли синьор бутоньерку?… Мадам Крамп такая строгая… только и удовольствия, что изредка поболтать с джентльменами.
— Нет, — сказал Адам. — Уходите. — У него сильно болела голова.
Лакей глубоко вздохнул и мелкими шажками двинулся к двери; вздохнул еще раз и понес гардению джентльмену, спавшему в ванной.
Адам немного поел. Никакая рыба, размышлял он, не бывает так же хороша на вкус, как на запах; трепетная радость предвкушения меркнет от этого слишком прозаического контакта с костями и мякотью; вот если бы можно было питаться, как Иегова — «благоуханием приношения в жертву ему»! Он полежал на спине, перебирая в памяти запахи съестного — отвратительный жирный вкус жареной рыбы и волнующий запах, исходящий от нее; пьянящий аромат пекарни и скука булок. Он выдумывал обеды из восхитительных благовонных блюд, которые проносят у него под носом, дают понюхать, а потом выбрасывают… бесконечные обеды, во время которых запахи один другого слаще сменяются от заката до утренней зари, не вызывая пресыщения, — а в промежутках вдыхаешь большими глотками букет старого коньяка… О, если бы мне крылья голубя, подумал Адам, немного отвлекаясь от темы, и опять уснул (все мы подвержены таким настроениям наутро после званого вечера).
Вскоре у изголовья Адама зазвонил телефон.
— Алло, слушаю.
— Вас женский голос… Алло, Адам, это ты?
— Это Нина?
— Как себя чувствуешь, милый?
— Ох, Нина…
— Бедненький, я тоже. Слушай, мой ангел, ты не забыл, что сегодня едешь к моему папе? Я послала ему телеграмму, что ты будешь у него ко второму завтраку. Ты знаешь, где он живет?
— А ты разве не поедешь?
— Да понимаешь, нет. Я лучше побуду дома, хорошо? Мне что-то нездоровится.
— Дорогая моя, если б ты знала, как мне нездоровится…
— Знаю, но это совсем другое дело. И вообще ехать обоим нет никакого смысла.
— Но что я ему скажу?
— Милый, не задавай глупых вопросов. Ты сам прекрасно знаешь. Попроси у него денег, и все.
— А это ему понравится?
— Да, милый, конечно. Ну что ты тянешь? Мне пора вставать. До свидания. Береги себя. Когда вернешься, позвони, расскажешь о результатах. Да, кстати, ты уже читал газеты? Там есть очень забавные вещи про вчерашний вечер. Нахал этот Вэн. Ну, до свидания.
Одеваясь, Адам вспомнил, что понятия не имеет, куда ему ехать. Он опять позвонил.
— Между прочим, Нина, где живет твой отец?
— А я разве не сказала? Дом называется Даутинг, очень старый, вот-вот развалится. Надо ехать поездом до Эйлсбери, а дальше на такси. Они там ужасно дорого берут. У тебя есть деньги?
Адам бросил взгляд на тумбочку.
— Около семи шиллингов.
— Этого не хватит. Придется попросить папу заплатить за такси.
— А это ему понравится?
— Да, конечно. Он у меня ангел.
— Хорошо бы нам поехать вместе, Нина.
— Милый, я же тебе сказала. Мне ужасно нездоровится.
Внизу, как и выразилась Лотти, был полный кавардак. Другими словами, во всех углах гостиницы мельтешили полицейские и репортеры, каждый с бутылкой шампанского и бокалом в руках. Лотти, Додж, судья Скимп, инспектор, четыре детектива в штатском и труп находились в номере судьи Скимпа.
— Мне неясно одно, сэр, — говорил инспектор. — Что побудило молодую девицу качаться на люстре? Не сочтите за дерзость, сэр, но не была ли она…
— Да, — сказал судья Скимп. — Была.
— Понятно, — сказал инспектор. — Несчастный случай, никаких сомнений, а, миссис Крамп? Дознания, разумеется, не избежать, но, скорее всего, сэр, мне удастся повернуть дело так, что ваше имя не будет упомянуто… Вы очень любезны, миссис Крамп, разве что еще один бокал, напоследок.
— Лотти, — сказал Адам, — вы не могли бы одолжить мне немного денег?
— Денег, голубчик? Почему же нет? Додж, у вас есть при себе деньги?
— Сам я в это время спал, мэм, и о прискорбном событии узнал только утром, когда меня разбудили. Поскольку я глуховат, шум, вызванный катастрофой…
— Судья Каквастам, у вас деньги есть?
— Я сочту себя польщенным, если смогу как-либо содействовать…
— Вот и хорошо. Дайте сколько-нибудь этому. Какого. Больше вам ничего не нужно, голубчик? Куда же вы, не убегайте, мы тут как раз собрались выпить. Нет, не этого вина, это мы держим для полиции. Я велела моему папильону принести бутылочку получше.
Адам выпил бокал шампанского в надежде, что ему от этого хоть немного полегчает. Ему стало гораздо хуже.
Потом он поехал на вокзал Мэрелбоун. Был День перемирия, на улицах продавали искусственные маки. Как раз когда он добрался до вокзала, пробило одиннадцать, и на две минуты вся страна погрузилась в сосредоточенное молчание. Потом он поехал в Эйлсбери и в поезде прочел корреспонденцию Балкэрна о вечере у Арчи Шверта. Он с удовольствием обнаружил, что фигурирует там как «блестящий молодой романист», спросил себя, читает ли отец Нины светскую хронику, и решил, что это маловероятно. Зато две женщины, сидевшие напротив, несомненно, ее читали.
— Не успела я развернуть газету, — сказала одна из них, — как тут же бросилась к телефону, обзвонила всех членов нашего комитета, и мы еще до часу дня послали телеграмму нашему члену парламента. Мы в Чешеме не сидим сложа руки. У меня с собой есть копия телеграммы. Вот смотрите: «Члены комитета Женской консервативной ассоциации в Чешеме выражают крайнее неудовольствие по поводу сообщения в сегодняшних утренних газетах о ночном сборище в доме № 10. Они призывают капитана Кратвела, — это наш депутат, превосходный, кстати сказать, человек, — решительно воздержаться от поддержки премьер-министру». Стоило это около четырех шиллингов, но я тогда же сказала — сейчас не время экономить по мелочам. Вы со мной согласны, миссис Айтуэйт?
— Совершенно согласна, миссис Оррауэй-Смит. Это как раз тот случай, когда настоятельно необходим наказ избирателей. Я непременно поговорю с нашей уборщицей.
— Да, миссис Айтуэйт, поговорите. В случаях, подобных этому, голоса женщин особенно ценны.
— Уж если выбирать между отказом от нравственных критериев и национализацией банков, я предпочту национализацию. Вы меня понимаете?
— Еще бы. Такой пагубный пример для низших классов, не говоря уже об остальном.
— Вот именно. Взять хотя бы нашу Агнес. Как я могу запретить ей приглашать на кухню кавалеров, когда она знает, что сэр Джеймс Браун устраивает такие сборища в любое время дня и ночи…
Обе они были в немыслимых шляпах, которые кивали и подпрыгивали в такт их словам.
В Эйлсбери Адам сел в «форд» и попросил отвезти его в усадьбу под названием Даутинг.
— Даутинг-холл?
— Наверно. Там дом вот-вот развалится?
— Да, покрасить бы его не мешало, — сказал шофер такси, прыщеватый юнец. — Хозяина зовут Блаунт.
— Ну, правильно.
— Конец не близкий. Пятнадцать шиллингов.
— Ладно.
— Ежели вы коммивояжер, прямо вам скажу, только время зря потеряете. Тут утром один парень на «моррисе» спрашивал, как к нему проехать. Хотел продать ему пылесос. Старик написал по объявлению, чтобы прислали образец. А когда этот парень явился, так и смотреть на него не захотел. Видали что-нибудь подобное?
— Нет, я ничего не собираюсь ему продавать… вернее, это было бы неточно.
— Значит, по личному делу?
— Да.
— Ну, так.
Убедившись, что намерения у пассажира серьезные, шофер надел несколько плащей (шел сильный дождь), вылез из машины и стал крутить рукоятку мотора. Скоро они пустились в путь.
Мили две они ехали среди летних домиков, нарядных вилл и деревянных трактиров до деревни, где чуть ли не в каждом доме помещался гараж и заправочная станция. Здесь они расстались с асфальтом, и Адам окончательно затосковал.
Наконец слева появились две парные восьмиугольные сторожки и ворота с геральдическими столбами и чугунной решеткой, за которыми начиналась широкая неухоженная подъездная аллея.
— Даутинг-холл, — сказал шофер.
Он посигналил, но из сторожки не вышла румяная привратница в чистом переднике и не впустила их с улыбкой и поклонами. Тогда он вылез из машины и увещевательно потряс решетку.
— Замок и цепь, — сообщил он. — Попытаемся с другого боку.
Проехали еще добрую милю; со стороны усадьбы вдоль дороги тянулась ветхая каменная стена и мокрые от дождя деревья; вот показалось несколько домиков и белые ворота. Отворив их, они свернули на грунтовую дорогу, отделенную от парка низкой железной оградой.
По обе стороны паслись овцы. Одна из них забрела на дорогу. Она в панике помчалась впереди машины, то останавливалась и оглядывалась через свой грязный хвост, то мчалась дальше, пока от волнения не прибилась к обочине, так что они ее наконец обогнали.
Дорога привела к конюшням, потом долго петляла мимо парников, навесов, собранных в кучи мокрых листьев, мимо полуразвалившихся служб — бывшей прачечной, бывшей пекарни, и пивоварни, и огромной конуры, где когда-то держали медведя, — а потом, миновав купу вязов, остролиста и лавровых кустов, круто свернула на открытую площадку, некогда посыпанную гравием. Глазам их открылся высокий классический фасад и перед ним — конная статуя, властно указующая жезлом на главную подъездную аллею.
— Приехали, — сказал шофер.
Адам расплатился с ним и поднялся на парадное крыльцо. Он позвонил и стал ждать. Ничего не последовало. Он позвонил еще раз. В то же мгновение дверь отворилась.
— Раззвонились, — сказал какой-то очень сердитый старик. — Что вам надо?
— Мистер Блаунт дома?
— Никакого мистера Блаунта здесь нет. Это дом полковника Блаунта.
— Простите… Насколько я знаю, полковник ждет меня к завтраку.
— Глупости. Полковник Блаунт — это я. — И дверь захлопнулась.
«Форд» уже исчез. Дождь не прекращался. Адам позвонил снова.
— Да? — сказал полковник Блаунт, мгновенно появляясь в дверях.
Может быть, вы разрешите мне вызвать по телефону такси?
— У меня нет телефона. Дождик идет. Вы бы зашли. Не идти же на станцию пешком в такую погоду. Вы насчет пылесоса?
— Нет.
— Странно, а я все утро жду одного типа, он должен был показать мне пылесос. Да вы входите. Может быть, останетесь к завтраку?
— Я бы с радостью.
— Вот и прекрасно. Меня теперь мало кто навещает. Вы не взыщите, что я сам отворил вам дверь. Мой дворецкий сегодня лежит. У него, когда сыро, страшные боли в ногах… Оба мои лакея убиты на войне… Пальто и шляпу давайте вот сюда… Жаль, что вы не привезли пылесос… ну да ничего. Здравствуйте, — произнес он неожиданно, протягивая руку.
Они обменялись рукопожатием, и полковник повел Адама по длинному коридору между шпалерами мраморных бюстов на желтых мраморных подставках в большую, заставленную мебелью комнату с превосходным камином в стиле рококо, в котором весело потрескивали дрова. У окна, выходившего на террасу, стоял большой ореховый письменный стол, обтянутый кожей. Полковник Блаунт взял со стола телеграмму и прочел ее.
— Совсем забыл, — сказал он в некотором замешательстве. — Боюсь, вы сочтете это очень неучтивым с моей стороны, но я, оказывается, не могу пригласить вас к завтраку. Ко мне должен приехать гость до очень щекотливому семейному делу… Короче говоря, какой-то молодой лоботряс, который хочет жениться на моей дочери. Мне нужно повидать его наедине, чтобы обсудить условия.
— Но я тоже хочу жениться на вашей дочери, — сказал Адам.
— Какое совпадение! А вы не ошибаетесь?
— Может быть, эта телеграмма касается меня? Что в ней сказано?
— «Выхожу замуж Адама Саймза. Жди его завтраку. Нина». Адам Саймз — это вы?
— Да.
— Милый мой, что же вы раньше не сказали? Болтаете тут про какой-то пылесос… Ну, здравствуйте.
Они снова обменялись рукопожатием.
— Если вы не против, — сказал полковник Блаунт, — мы сперва позавтракаем, а деловой разговор пока отложим. Сейчас здесь, к сожалению, все выглядит очень голо. Приезжайте летом, тогда увидите, какой у меня сад. В прошлом году гортензии удались на диво. Я, вероятно, здесь последнюю зиму живу. Куда старику такие хоромы? Я все присматриваюсь к новым домам на окраине Эйлсбери. Вы их заметили, когда ехали сюда? Такие приятные красные домики. С ванной и всем прочим. И совсем недорого, и к кинематографам близко. Вы, надеюсь, любите кинематограф? Мы с пастором частенько бываем. Надеюсь, наш пастор вам понравится. Вообще-то он человечишко неважный. Но у него есть автомобиль, это удобно. Вы на сколько дней приехали?
— Я обещал Нине, что к вечеру вернусь.
— Жалость какая. В «Электро-паласе» идет новый фильм, могли бы съездить.
Вошла пожилая горничная и доложила, что завтрак подан.
— Что сегодня идет в «Электро-паласе», миссис Флорин, вы не знаете?
— Кажется, «Венецианские поцелуи» с Гретой Гарбо, сэр.
— Грета Гарбо — это все-таки не в моем вкусе, — сказал полковник Блаунт. — Я старался отдать ей должное, но нет, не могу.
Они прошли в огромную столовую, темную от множества семейных портретов.
— Если вы не против, — сказал полковник Блаунт, — я предпочитаю не разговаривать во время еды.
Он взял переплетенный в сафьян комплект «Панча» и прислонил перед собой к большой серебряной вазе, в которой рос куст клещевины.
— Дайте мистеру Саймзу книгу, — сказал он. Миссис Флорин положила рядом с прибором Адама еще один комплект «Панча».
— Если попадется что-нибудь смешное, прочтите вслух, — сказал полковник Блаунт.
И они приступили к завтраку.
Завтрак длился без малого час. Блюда сменялись в обескураживающем изобилии, а полковник Блаунт все ел и ел, переворачивая страницы и время от времени одобрительно покряхтывая. Они ели заячий суп и вареную рыбу, тушеную печенку и копченый кабаний окорок под соусом из мадеры, фазанье жаркое и ромовый омлет, поджаренный сыр и фрукты. Пили сначала херес, потом бордо, потом портвейн. Потом полковник Блаунт закрыл свою книгу широким жестом, напомнившим Адаму, как директор его школы закрывал Библию после вечерней молитвы, аккуратно сложил салфетку и сунул ее в массивное серебряное кольцо, пробубнил благодарственную молитву и наконец встал из-за стола со словами:
— Не знаю, как вы, а я сосну, — и затрусил к двери.
— В библиотеке затоплен камин, сэр, — сказала миссис Флорин. — Я вам подам кофе туда. Полковник кофе не пьет, а то у него потом бессонница бывает. Чай в котором часу желаете пить, сэр?
— Мне бы надо двигаться обратно в Лондон. Как вы думаете, полковник скоро проснется?
— Трудно сказать, сэр. Обычно он отдыхает часов до пяти, до половины шестого. Потом до обеда читает, обед в семь, а после обеда пастор возит его в кино. Очень регулярный у него образ жизни.
Она провела Адама в библиотеку и поставила возле него серебряный кофейник.
Адам сидел у камина в глубоком кресле. По двойным рамам барабанил дождь. В библиотеке было несколько журналов — по большей части дешевые еженедельники, посвященные кинематографу. Было там и чучело совы, и витрина с реликвиями древнебританской эпохи: черепки, костяные иглы и череп — много лет назад их откопали в парке, и Нинина гувернантка старательно их переписала. Был шкафчик, где хранились следы Нининых коллекционерских увлечений — несколько бабочек и жуков, несколько окаменелостей, птичьи яйца и десятка два марок. Были шкафы, полные роскошных неудобочитаемых книг, а в углу — ружье, альпеншток и сачок для ловли бабочек. Были каталоги сельскохозяйственных машин и приборов для ацетиленовой сварки, косилок для газона и «спортивного инвентаря». Был перед огнем экран с гербом. Над камином висели расшитые попоны уланского полка, в котором когда-то служил полковник Блаунт. Была гравюра — все члены Королевской флотилии и в углу небольшой план с обозначением кто есть кто. Было и много других, не менее интересных предметов, но Адам не успел их заметить — он крепко уснул.
В четыре часа миссис Флорин разбудила его. Кофе исчез, а на его месте появился серебряный поднос, покрытый кружевной салфеткой, и на нем — серебряный чайник, под которым горела миниатюрная спиртовка, серебряный сливочник и серебряная миска, полная пышек. Еще там были горячие гренки с маслом, мед, кетчуп, шоколадный торт, пирог с вишнями, пирог с фруктами, пирог с тмином, сэндвичи с помидорами, соль, перец и намазанные маслом ломтики хлеба с коринкой.
— Не желаете ли яйцо всмятку, сэр? Полковник обычно кушает яйцо, если не спит в это время.
— Нет, спасибо, — сказал Адам. Он чувствовал себя выспавшимся и бодрым. Когда они с Ниной поженятся, подумал он, надо будет приезжать сюда отдыхать после особенно бурных вечеров. Он только сейчас заметил на коврике у камина толстого рыжего с белым спаниеля, который тоже пробуждался от сна.
— Очень прошу вас, не давайте ей пышек, — сказала миссис Флорин. — Они ей вредны, а полковник все равно дает. Очень уж он любит эту собаку, — добавила она в порыве откровенности. — По вечерам берет ее с собой в кино. Хоть ей там не так интересно, как людям.
Адам дал ей — не миссис Флорин, а собаке — кусок сахару и легонько толкнул ее ногой. Она с нескрываемой сердечностью облизала его башмак. Адам, не презиравший собачьего дружелюбия, счел себя польщенным. Он допил чай и стал набивать трубку, когда в библиотеку вошел полковник Блаунт.
— Вы кто такой, черт побери? — осведомился хозяин дома.
— Адам Саймз, — ответил Адам.
— В первый раз слышу. Как вы сюда попали? Кто дал вам чаю? Что вам нужно?
— Вы пригласили меня к завтраку, — сказал Адам. — Я приехал поговорить о нашей с Ниной женитьбе.
— Милый вы мой, ну конечно! Вы уж меня простите. Совсем нет памяти на имена. А все оттого, что мало видаю людей. Здравствуйте.
Они опять обменялись рукопожатием.
— Значит, вы тот молодой человек, который хочет жениться на Нине, — сказал полковник, впервые оглядывая Адама так, как полагается оглядывать кандидата в зятья. — А скажите, зачем вам вообще понадобилось жениться? Я бы на вашем месте не стал, ни в коем случае. Вы богаты?
— Нет, пока нет. В сущности, я об этом и хотел с вами поговорить.
— Сколько же у вас есть денег?
— Понимаете, сэр, в данную минуту у меня их вообще нет.
— А когда в последний раз были?
— Вчера вечером у меня была тысяча фунтов, но я отдал их одному пьяному майору.
— Зачем вы это сделали?
— Понимаете, я надеялся, что он поставит их на Селезня в ноябрьском гандикапе.
— Никогда не слышал о такой лошади. А он не поставил?
— Боюсь, что нет.
— Когда же у вас опять будут деньги?
— После того, как я напишу несколько книг.
— Сколько именно?
— Двенадцать.
— И сколько у вас тогда будет?
— Вероятно, пятьдесят фунтов как аванс за тринадцатую книгу.
— А сколько времени вам потребуется, чтобы написать двенадцать книг?
— Примерно год.
— Сколько на это требуется, как правило?
— Лет двадцать. Я, конечно, понимаю, если так подойти, это выглядит довольно безнадежно… но, понимаете, мы с Ниной надеялись, что вы… что, может быть, в течение ближайшего года, пока я пишу свои двенадцать книг… что вы могли бы нам помочь.
— Как я могу вам помочь? Я в жизни не написал ни одной книги.
— Нет, мы думали, может, вы дадите нам денег.
— Вот что вы, значит, думали?
— Да, мы думали так…
Несколько минут полковник Блаунт внимательно его разглядывал. Потом сказал:
— По-моему, это прекрасная мысль. Не вижу никаких оснований вам отказать. Сколько вам нужно?
— Вы чрезвычайно добры, сэр. Ну, я не знаю, сколько… чтобы некоторое время пожить спокойно.
— Тысяча фунтов вас выручит?
— Еще бы! Мы вам будем страшно благодарны.
— Не стоит, мой милый, не стоит. Как, — вы сказали-то, вас зовут?
— Адам Саймз.
Полковник Блаунт подошел к столу и выписал чек.
— Вот, прошу, — сказал он. — Смотрите, не отдайте его какому-нибудь другому пьяному майору.
— Что вы, сэр! Не знаю, как и благодарить вас. Нина…
— Ни слова больше. Теперь вам, наверно, не терпится вернуться к себе в Лондон? Сейчас мы пошлем миссис Флорин через дорогу к пастору и попросим его отвезти вас на станцию. Удобно, когда у соседа есть автомобиль. В автобусе отсюда до Эйлсбери дерут пять пенсов. Сущий грабеж!
Нечасто бывает, чтобы молодой человек два вечера подряд получал по тысяче фунтов от совершенно незнакомых людей. По дороге на станцию Адам громко смеялся в пасторской машине. Пастор, которого оторвали от сочинения проповеди и которого с каждым днем все больше раздражало, что полковник Блаунт на правах соседа беспардонно эксплуатирует его машину и его самого, не сводил глаз с залитого дождем ветрового стекла, делая вид, что ничего не слышит. Адам смеялся до самого Эйлсбери — сидел, обхватив руками колени, и трясся от смеха. Когда они расставались в станционном дворе, пастор с трудом заставил себя с ним попрощаться.
Поезда пришлось ждать полчаса, и протекающая крыша и мокрые рельсы немного отрезвили Адама. Он купил вечернюю газету. На первой странице был уморительный снимок: мисс Рансибл в гавайском костюме выбегает из дома № 10 на Даунинг-стрит. «Правительство пало во второй половине дня, — прочел он, — по предложению, последовавшему за ответом на запрос по поводу обращения, которому подверглась мисс Рансибл со стороны таможенных чиновников. В парламентских кругах считают, что решающим фактором в отставке правительства послужила бурная реакция членов парламента — либералов и нонконформистов — на разоблачения, касающиеся образа жизни в доме № 10 на Даунинг-стрит в период, когда сэр Джеймс Браун был премьер-министром».
«Ивнинг мэйл» поместила передовую, в которой проводилась тонкая аналогия между Личной и Общественной Чистоплотностью, между трезвостью в семье и в государстве.
И еще одна коротенькая заметка в той же газете заинтересовала Адама:
Трагедия в вест-эндской гостинице.
Сегодня утром в одной частной гостинице на Дувр-стрит скончалась мисс Флоренс Дюкейн, как нам сообщили в материальном отношении вполне обеспеченная. Смерть наступила в результате падения с люстры, которую мисс Дюкейн хотела починить.
Завтра состоится дознание, а затем кремация в Голдерс-Грин. Мисс Дюкейн, ранее выступавшая на сцене, была хорошо известна в деловых кругах.
Что доказывает, подумал Адам, насколько искуснее, чем сэр Джеймс Браун, Лотти Крамп умеет избежать нежелательной огласки.
Когда Адам приехал в Лондон, дождь перестал, но на влажном ветру проплывали полосы негустого тумана. Через здание вокзала толпами спешили на пригородные поезда служащие с портфелями и вечерними газетами в руках. Они чихали и кашляли на ходу, а в петлицах у них еще краснели маки. Адам нашел телефонную будку и позвонил Нине. Он не застал ее, но узнал, что она на вечере с коктейлями у Марго Метроленд. Он поехал в свою гостиницу.
— Лотти, — сказал он, — у меня есть тысяча фунтов.
— Вот как, — равнодушно отозвалась Лотти. Она привыкла считать, что у любого ее знакомого всегда есть несколько тысяч фунтов. С тем же успехом он мог ей сообщить: «Лотти, у меня есть цилиндр».
— Вы не одолжите мне немного денег до завтра, пока я получу по чеку?
— Ох и мастер вы занимать деньги, точь-в-точь как ваш покойный батюшка. Эй вы, там в углу, одолжите этому, как его, немножко денег.
Высоченный гвардеец со срезанным лбом помотал головой и покрутил усы.
— У меня не просите, Лотти, — сказал он голосом, приученным подавать команду.
— Сквалыга, — сказала Лотти. — Где этот американец?
Судья Скимп, сделавшийся после своих утренних переживаний убежденным англофилом, извлек на свет две десятифунтовые бумажки.
— Я почту для себя за честь…
— Молодец, судья, — сказала Лотти. — Этот не подведет.
Выбегая в холл, Адам услышал, как в гостиной весело хлопнула очередная пробка от шампанского.
— Додж, — сказал он, — будьте добры, позвоните в прокатный гараж Деймлера и закажите машину на мое имя. Пусть подаст к дому леди Метроленд, Пастмастер-хаус, на Хилл-стрит. — Потом надел шляпу и зашагал по Хэй-Хилл, размахивая зонтом и снова смеясь, но уже тихо, про себя.
У леди Метроленд он, не сняв пальто, остался ждать в холле.
— Передайте, пожалуйста, мисс Блаунт, что я за ней заехал. Нет, наверх не пойду.
Он окинул взглядом сложенные на столе шляпы гостей. Народу порядочно. Два-три цилиндра — это кто-то собирается отсюда в театр, остальные черные фетровые, как у него. И стал отплясывать что-то вроде жиги, совсем один, просто от избытка радости.
Через минуту по широкой адамовской лестнице спустилась Нина.
— Милый, почему ты не поднялся в гостиную? Это так невежливо. Марго жаждет тебя повидать.
— Прости, Нина. Не могу я сейчас быть на людях. Я так волнуюсь.
— А что случилось?
— Все случилось. Расскажу в матине.
— В машине?
— Да, она сию минуту будет здесь. Мы едем обедать за город. Ты не представляешь себе, как ловко я все обделал.
— Что именно? Да перестань ты танцевать.
— Не могу. Если б ты знала, какой я ловкий малый.
— Адам! Ты опять пьян?
— Посмотри-ка в окно, не ждет ли нас там «деймлер»?
— Адам, что ты, в конце концов, наделал? Я хочу знать.
— Гляди, — сказал Адам, доставая чек. — Красота, кто понимает, а? — добавил он, изображая простолюдина.
— Боже мой, тысяча фунтов. Это тебе папа дал?
— Я их заработал, — сказал Адам. — Еще как заработал. Видела бы ты, какой я съел завтрак и каких начитался острот. Завтра я женюсь. Скажи, Нина, Марго очень рассердится, если я запою у нее в холле?
— Она будет просто в ярости, милый, и я тоже… Чек давай мне. Не забудь, что случилось, когда тебе в прошлый раз подарили тысячу фунтов.
— Это я уже слышал от твоего отца.
— Неужели ты ему это рассказал?
— Я ему все рассказал, а он дал мне тысячу фунтов.
— Бедный Адам, — неожиданно сказала Нина.
— Почему ты так говоришь?
— Сама не знаю… Вон, кажется, твоя машина подъехала.
— Нина, почему ты сказала «бедный Адам»?
— Я разве сказала?… Право, не знаю. Ой, я тебя ужасно люблю.
— Завтра я вступаю в брак. Ты тоже?
— Да, милый, наверно.
Шофер успел заскучать, пока они решали, где будут обедать. На все его предложения они отзывались испуганными вскриками. «Там наверняка будет полно всяких противных людей», — говорили они. Он предожил им Мейденхед, Тэйм, Брайтон. Наконец они решили ехать в Эрендел.
— Туда мы дай бог к девяти часам попадем, — сказал шофер. — Вот в Брэе есть очень хороший отель… Но поехали они в Эрендел.
— Завтра мы поженимся, — сказал Адам. — И на свадьбу никого не пригласим. И сейчас же уедем за границу и не вернемся, пока я не напишу все свои книги. Божественно, правда? Куда бы нам поехать, Нина?
— Куда хочешь, милый, только чтобы там было не холодно, хорошо?
— По-моему, ты не очень веришь, что мы поженимся, Нина, да? Или нет?
— Не знаю… просто мне кажется, такие божественные вещи никогда не сбываются… не знаю почему… ох, я сегодня так тебя люблю… Если бы ты знал, какой ты был чудный, когда прыгал у Марго по всему холлу, совсем один. Я на тебя долго-долго смотрела с верхней площадки.
— Машину я отпущу, — сказал Адам, когда они проезжали через Пулборо. — Вернуться можно поездом.
— Если еще будет поезд.
— Конечно, будет, — сказал Адам. Но у обоих в эту минуту мелькнул в голове некий вопрос, смутно волновавший их всю дорогу. Ни он, ни она больше не касались этой темы, но после Пулборо в машине определенно чувствовалась некоторая скованность.
Вопрос разрешился, как только они добрались до отеля.
— Нам обед, — сказал Адам, — и номер на ночь.
— Милый, меня, кажется, хотят обольстить?
— Боюсь, что так. А ты решительно против?
— Да нет, — сказала Нина и добавила, изображая простолюдинку: — Это оченно даже приятно.
Обедающих в ресторане уже не было. Они ели одни в углу зала, а официанты накрывали столы к утреннему завтраку и бросали на них обиженные взгляды. Подавали самый унылый английский обед. И в салоне после обеда было ужасно; несколько гольфистов в смокингах играли в бридж, да дремали две старые дамы. Адам с Ниной прошли через двор в пивной бар и до закрытия просидели там в теплом мареве табачного дыма, слушая ленивые пересуды местных жителей. Они сидели, взявшись за руки, ничуть не стесняясь, и очень скоро на них перестали обращать внимание. Перед самым закрытием Адам угостил всех пивом. Послышались голоса: «Благодарствуйте, сэр», «За ваше здоровье, мэм», и бармен произнес свое: «Прошу допивать. Закрываем» — совсем особенным, очень певучим голосом.
Когда они вышли во двор, где-то били часы и подвыпивший фермер пытался завести свою машину. По дубовой лестнице, мимо развешанных на стене мушкетов и гравюр с изображением дилижансов и карет, они поднялись к себе в номер.
У них не было с собой даже чемоданчика (как сообщила на следующий день горничная молодому человеку из радиомагазина, добавив, что этим-то и плохо работать в отеле на шоссе — мало ли кто там останавливается).
Адам разделся мгновенно и лег в постель; Нина — помедленнее, она повесила платье на стул и, словно ей изменило обычное самообладание, еще некоторое время перебирала безделушки на камине.
Наконец она погасила свет.
— Ты знаешь, — сказала она, забираясь в постель и слегка дрожа, — это со мной в первый раз случается.
— Тебе будет очень хорошо, — сказал Адам. — Обещаю.
— Я и не сомневаюсь, — сказала она серьезно. — Я ничего такого не говорю… я просто сказала, что это в первый раз… Ох, Адам.
— А ты еще говоришь, что божественные вещи не сбываются, — сказал Адам где-то среди ночи.
— Ничего божественного тут нет, — сказала Нина. — Мне было больно. Да, кстати, только что вспомнила. Утром я должна тебе сказать что-то очень важное.
— Что?
— Не сейчас, милый. Давай лучше поспим, хорошо?
Еще до того, как Нина проснулась, Адам вышел под дождь побриться. На обратном пути он купил две зубные щетки и ярко-красный целлулоидный гребешок. Нина села в постели и причесалась. На спину она накинула пиджак Адама.
Адам, чистивший зубы, оглянулся на нее:
— Дорогая моя, у тебя вид прямо из «La vie parisienne».
Тогда она сбросила пиджак и вскочила с постели, и он сказал ей, что вид у нее как на модной картинке в «Vogue» минус белье и платье. Это Нине понравилось, но она сказала, что ей холодно и все еще больно, хотя уже меньше. Потом она оделась и они сошли вниз.
В ресторане уже никого не было, и официанты накрывали столы ко второму завтраку.
— Ну, — сказал Адам, — ты говорила, что должна мне что-то сказать.
— Да, да. Это очень неприятно, милый.
— Так скажи скорей.
— Понимаешь, это насчет чека, который тебе дал папа. Боюсь, ты зря возлагаешь на него надежды.
— Но дорогая моя, он на тысячу фунтов, разве нет?
— А ты посмотри на него, моя радость. — Она достала чек из сумочки и протянула ему через стол.
— Как будто все в порядке, — сказал Адам.
— А подпись?
— Боже милостивый, этот старый идиот подписался «Чарли Чаплин»!
— Про это я и говорю, милый.
— Но разве нельзя попросить его изменить подпись? У него, наверно, не все дома. Сегодня же съезжу к нему еще раз.
— Пожалуй, не стоит, милый… как ты не понимаешь. Конечно, он очень старый человек и… то, что ты ему наговорил, могло показаться ему немного странным… он-то, может быть, подумал, что это у тебя не все дома. В общем… понимаешь, может быть, этот чек был своего рода шуткой.
— Будь я проклят… это уже скучно. Как раз когда все складывалось так хорошо. Ты когда заметила подпись, Нина?
— Сразу же как ты показал мне чек, еще у Марго. Но у тебя был такой счастливый вид, что мне не захотелось ничего говорить. Ты был такой счастливый, Адам, и такой чудный. Я, наверно, тут-то и влюбилась в тебя по-настоящему, когда увидела, как ты танцуешь в холле один-одинешенек.
— Будь я проклят, — повторил Адам. — Вот старый черт.
— Так или иначе, ты от всего этого получил кое-какое удовольствие, правда? Или нет?
— А ты нет?
— Дорогой мой, я в жизни ничего более противного не испытала… но раз ты доволен, я не жалею.
— Нина, — сказал Адам немного спустя, — значит, мы все-таки не сможем пожениться.
— Да, боюсь, что так.
— Скука какая, а?
Еще немного спустя он сказал:
— Наверно, этот пастор тоже решил, что у меня не все дома.
А еще погодя:
— Вообще-то шутка получилась неплохая, а?
— Просто божественная.
В поезде Нина сказала:
— Подумать страшно, что я больше никогда, до самой смерти, не увижу, как ты танцуешь вот так, совсем один.
Глава 6
В тот вечер леди Метроленд устраивала прием в честь миссис Мелроз Оранг. Пригласительная телеграмма ждала Адама, когда он вернулся к себе в гостиницу. (Оплаченный ответ Лотти уже успела использовать. Кто-то назвал ей вероятного победителя в ноябрьском гандикапе, и она решила рискнуть, а кличку лошади записать на чем-нибудь, пока не забыла.) Еще его ждало приглашение к завтраку от Саймона Балкэрна.
В «Шепарде» кормят главным образом паштетом из дичи — черным внутри и полным клювов, дроби и каких-то непонятных позвонков — так что Адам был вовсе не прочь позавтракать с Саймоном Балкэрном, хотя понимал, что за этим неожиданно радушным жестом кроется какой-то мрачноватый умысел.
Они встретились в ресторане «Chez Espinosa», чуть ли не самом дорогом во всем Лондоне; там полно клеенок и лаликовского стекла [4], и люди того сорта, которые любят такого сорта вещи, ходят туда постоянно и жалуются, какой это ужас.
— Надеюсь, вы не в обиде, что я пригласил вас в этот ужасный ресторан, — сказал Балкэрн. — Дело в том, что меня здесь кормят бесплатно, а я время от времени упоминаю о них в моих заметках. За напитки, к сожалению, приходится платить. Кто здесь сегодня есть, Альфонс? — спросил он метрдотеля.
Тот подал ему отпечатанный на машинке список, который всегда держал наготове для авторов светской хроники.
— Гм, да. Очень красивый список. Что могу, сделаю.
— Благодарю вас, сэр. Столик на двоих? Коктейли?
— Нет, коктейля я не хочу. У меня и времени мало. А вы как, Адам? Коктейли здесь, между прочим, неважные.
— Спасибо, не хочу, — сказал Адам.
— А может быть, все-таки? — сказал Балкэрн, уже увлекая его к столику. Пока им подавали икру, он просмотрел карту вин.
— Пиво у них тут хорошее, — сказал он. — Вы что будете пить?
— Все равно, то же, что и вы. С удовольствием выпью пива.
— Две полбутылки пива, пожалуйста… А вы в самом деле ничего другого не хотите?
— В самом деле, спасибо.
Саймон Балкэрн хмуро оглядывался по сторонам, изредка прибавляя к списку новое имя. (Удручающая это профессия, при которой, о чем ни заговори, разговор получается служебный.)
Вскоре он сказал вымученно-небрежным тоном:
— Сегодня, если не ошибаюсь, прием у Марго Метроленд? Вы пойдете?
— Вероятно, пойду. У нее обычно бывает нескучно, правда?
— Да… Я вам сейчас скажу одну очень странную вещь, Адам. На сегодняшний вечер она меня не пригласила.
— Еще не поздно. Я, например, получил приглашение только сегодня утром.
— Да… Кто эта женщина, вон, в меховом пальто, только что вошла? В лицо-то я ее отлично знаю.
— Кажется, леди Эвримен?
— Ну да, конечно. — К списку прибавилось еще одно имя. Балкэрн умолк и в полном унынии поел салата. — Дело в том… она сказала Агате Рансибл, что и не намерена меня приглашать.
— Почему?
— Видимо, ее привело в ярость, что я что-то сказал насчет чего-то, что она сказала про Майлза.
— Некоторые люди просто не понимают шуток, — сказал Адам, чтобы его подбодрить.
— Для меня это катастрофа, — сказал лорд Балкэрн. — А вон там кто, не Памела Попхэм?
— Понятия не имею.
— Кажется, она. Приду домой — надо проверить по Племенной книге, как она пишется. Я на днях прямо оскандалился с этим написанием… Катастрофа… Вэнбру она пригласила.
— Он ей, кажется, родственник?
— Такая несправедливость, ей-богу. А мои родственники, как назло, либо в психиатрических больницах, либо живут в деревне и проделывают всякие неаппетитные вещи с лесными зверями… все, кроме моей матушки, а эта еще хуже… Начальство было в ярости, что Вэн опередил меня с этой сенсацией насчет Даунинг-стрит. Если я и сегодняшний прием пропущу, впору совсем распроститься с Флит-стрит. Впору сунуть голову в газовую плиту и на том кончить. Если б Марго знала, как это для меня важно, она бы наверняка позволила мне прийти.
В глазах его стояли слезы, готовые перелиться через край.
— Всю эту неделю, — сказал он, — я был вынужден сочинять мои заметки по Гербовнику и Придворному календарю… Никто меня больше не приглашает.
— Вот что, — сказал Адам. — Я знаком с Марго довольно близко. Если хотите, я ей позвоню и спрошу, нельзя ли мне прийти с вами.
— Правда? В самом деле, Адам? Вы готовы это сделать? Так идем позвоним ей сейчас же. Кофе и ликеры по боку, некогда. Скорей, скорей, позвонить можно из моего кабинета… Да, вон ту черную шляпу и зонт… нет, номерок я потерял… нет, не эта, рядом, поскорее, пожалуйста… да, такси.
Адам и слова не успел сказать, как они очутились на улице и в такси. Скоро они попали в затор на Стрэнде, а еще через некоторое время добрались до редакции Балкэрна на Флит-стрит.
Они поднялись в крошечную комнату, на стеклянной двери которой значилось «Высший свет». Внутренность ее плохо соответствовала вывеске. Там был один стул, пишущая машинка, телефон, несколько справочников и кучи фотографий. На единственном стуле восседало непосредственное начальство Балкэрна.
— Здрасьте, — сказала она. — Явились. Где вы были?
— У «Эспинозы». Вот список.
Редакторша прочитала его.
— Китти Блекуотер отставить, — сказала она. — Мы давали ее вчера. Остальные годятся. Абзаца на три-четыре. Как они были одеты, вы, конечно, не заметили?
— Напротив, — заверил ее Балкэрн. — Во всех подробностях.
— Ну, это все равно не влезет. Нужно оставить как можно больше места для вечера у леди М. Я даже герцога Девонширского выкинула. Между прочим, фотография которую вы дали вчера, — это не нынешняя графиня Эвримен, это старый снимок вдовствующей. Они обе сегодня оборвали нам телефон. Опять у вас накладка. На вечер приглашение получили?
— Нет еще.
— Так поторопитесь. Мне до сдачи в печать нужен рассказ очевидца, понятно? Да, а вот об этом вы что-нибудь знаете? Получено сегодня, от горничной леди Р. — Она взяла со стола листок бумаги. — «Расторгнута помолвка, по слухам заключенная между Адамом Фенвик-Саймзом, единственным сыном покойного профессора Оливера Фенвик-Саймза, и Ниной Блаунт, Даутинг-холл, Эйлсбери». Никогда про таких не слышала. Их помолвка, по-моему, и объявлена не была.
— Вы лучше спросите его самого. Познакомьтесь, Адам Саймз.
— А, здравствуйте, прошу меня извинить, если что… Так как же?
— И объявлена не была, и не расторгнута.
— В общем, пшик, так я вас поняла? Значит, это идет сюда. — Она бросила листок в корзину для мусора. — Последнее время эта девица присылает нам сплошную чепуху. Ну, я пошла завтракать. На всякий случай — буду в Гарден-клубе.
Редакторша вышла, хлопнув дверью с надписью «Высший свет», и, насвистывая, удалилась по коридору.
— Вот видите, как меня тут третируют, — сказал лорд Балкэрн. — А ведь первое время на руках носили… Нет, лучше умереть.
— Не плачьте, — сказал Адам. — Это же свихнуться можно.
— А что мне делать?… Войдите, войдите. — Дверь с надписью «Высший свет» отворилась, и вошел мальчик-посыльный.
— Внизу дворецкий лорда Периметра. У него несколько помолвок и один развод.
— Пусть оставит.
— Слушаю, милорд.
— Единственный человек в этом учреждении, который разговаривает со мной вежливо, — сказал Балкэрн, когда посыльный скрылся. — С удовольствием оставил бы ему что-нибудь в завещании, да нечего… Ну, звоните Марго, тогда я буду хотя бы знать, что надеяться не на что… Войдите!
— Внизу джентльмен, зовут генерал Страппер. Желает видеть вас по срочному делу.
— По какому еще делу?
— Не могу сказать, милорд, только он с хлыстом. Видно, очень чем-то расстроен.
— Скажи ему, что у редактора «Светской хроники» перерыв на завтрак… Ну же, звоните Марго.
Адам сказал в телефон:
— Марго, можно мне привести с собой одного знакомого?
— Ой, Адам, лучше бы не нужно. Я и так не представляю себе, где я всех размещу. Вы не сердитесь, ради бога, а кто это?
— Саймон Балкэрн. Ему страшно хочется к вам попасть.
— Верю. Но я этого молодого человека недолюбливаю. Он писал про меня всякие вещи в газетах.
— Ну, Марго, я вас очень прошу.
— Нет, ни в коем случае. Ноги его не будет в моем доме. Я и Вэна позвала только с условием — ничего не писать. А Саймона Балкэрна я не желаю больше видеть.
— Дорогая моя, это в вас говорит богатство.
— Да, я при упоминании об этом молодом человеке сразу ощущаю все мои доходы. Ну, до свидания. До вечера.
— Можете не говорить, — сказал Балкэрн. — Я все понял… не вышло, да?
— К сожалению.
— Конец, — сказал Балкэрн. — Дошел до ручки. — С минуту он рассеянно перебирал какие-то бумажки. — Интересует вас сообщение, что Агата выходит замуж за Арчи?
— По-моему, это враки.
— По-моему, тоже. Это один из наших людей только что передал. Все, что они передают, — либо враки, либо клевета… они, например, прислали нам длинное сообщение о том, что Майлз и Памела Попхэм вместе провели ночь в Эренделе. Но мы не смогли бы его использовать, даже если б это была правда, а это явно неправда, мы же знаем, что такое Майлз. Ну, спасибо, что хотели помочь… до свидания.
Внизу в редакции разгоралась серьезная ссора. Крупный, военного вида мужчина весь трясся и топал ногами на женщину средних лет, в которой Адам узнал давешнюю редакторшу.
— Да или нет? — кричал мужчина. — Отвечаете вы или нет за эту возмутительную ложь о моей дочери?
(В заметке Саймона Балкэрна он прочел, что его дочь видели в ночном клубе. Всякому, кто был лучше знаком с жизнью мисс Страппер, эта заметка показалась бы сугубо деликатной.)
— Да или нет? — выкрикивал генерал. — Говорите, не то я из вас всю душу вытрясу!
— Нет.
— Так кто же тогда отвечает? Уж я доберусь до того мерзавца, который это сочинил. Где он? — взревел генерал.
— На втором этаже, — выдохнула редакторша. «Опять Саймону достанется», — подумал Адам.
Адам заехал за Ниной — они сговорились пойти в кино. Она сказала:
— Ты обещал прийти гораздо раньше. На звуковые фильмы скучно опаздывать.
Он сказал:
— Звуковые фильмы вообще скучные.
После той ночи в их отношениях обозначилась перемена. Адам проявлял склонность к самоуглублению и грусти; Нина держалась как женщина взрослая, во всем разуверившаяся и явно недовольная.
Адам заговорил о том, что теперь ему, очевидно, придется жить в «Шепарде» до самой смерти или, во всяком случае, до смерти Лотти, поскольку он, как честный человек, не может от нее съехать, не заплатив по счету.
На это Нина сказала: — Расскажи что-нибудь забавное, Адам. Я тебя просто не выношу, когда ты не забавный.
И Адам стал рассказывать ей про Саймона Балкэрна и прием у Марго. Он уверял, что сам видел, как Саймона отстегали хлыстом в помещении редакции.
Нина сказала:
— Да, это забавно. Вот так и продолжай.
Истории про экзекуцию над Саймоном им хватило на весь путь до кино. На фильм, который Нине хотелось посмотреть, они опоздали, и от этого настроение у них опять испортилось. Они долго сидели молча. Потом Нина сказала по поводу фильма:
— Столько глупостей придумали об этой физической любви. По-моему, у зубного врача и то приятнее.
Адам сказал:
— В следующий раз тебе больше понравится.
Нина фыркнула:
— В следующий раз! — и заявила, что он слишком много о себе воображает.
Адам сказал, что так выражаются только проститутки.
С этого началась настоящая ссора, которая длилась все время, пока шел фильм, и пока они ехали к Нине, и пока она резала лимон и готовила коктейль, и наконец Адам сказал, что, если она сейчас же не замолчит, он изнасилует ее без промедления, на ее же коврике перед камином.
И она не замолчала.
Но к тому времени, как Адам собрался ехать к себе переодеваться, она поутихла и даже признала, что постепенно к любви, вероятно, можно пристраститься, как к курению трубки. Однако она все еще держалась мнения, что поначалу от нее чувствуешь себя совершенно больной и еще неизвестно, стоит ли игра свеч.
Потом, уже вызвав лифт, они заспорили о приобретенных вкусах — стоит ли их приобретать. Адам сказал, что это результат подражания, а подражать для человека — естественное дело, так что и приобретенные вкусы естественны. Но из-за присутствия лифтера этот спор не мог разрешиться так же, как предыдущий.
— Ух ты, до чего шикозно, — сказала Праведная Обида.
— Все очень мило, — сказала Непорочность светским тоном. — Но превозносить до небес тут нечего.
— Никто и не превозносит до небес. Я просто сказала, что здесь шикозно, а здесь и есть шикозно, скажешь, нет?
— Иным людям все, наверное, кажется шикозным.
— Потише вы, — сказала Умеренность, которую на этот вечер назначили старшей над ангелами. — Не вздумайте тут ничего затевать, да еще в крыльях. Миссис Оранг этого не терпит, как будто сами не знаете.
— А кто что затевает?
— Да ты первая.
— Непорочности что ни говори, все как об стену горох, — сказала Стойкость. — Совсем зазналась, куда уж ей быть ангелом. Она сегодня каталась с миссис Пэнраст в «ролс-ройсе», я сама видела. И уж так пожалела, что все время лил дождь, а то была бы совсем интересная прогулка, верно, Непорочность?
— Тебе бы радоваться надо, Стойкость. Больше мужчин на твою долю остается. Только они что-то не понимают своего счастья.
После этого поговорили о мужчинах. Святая Тревога сказала, что у второго лакея красивые глаза.
— И он это знает, — добавила Умеренность. Все они сидели за ужином в комнате, которая у леди Метроленд все еще называлась классной. В окно было видно, как съезжаются гости. Несмотря на дождь, по обе стороны крытого крыльца толпилось довольно много зевак, провожавших каждое манто либо восхищенными вздохами, либо презрительными смешками. Такси и собственные автомобили следовали друг за другом почти непрерывной вереницей. Леди Периметр в высокой бриллиантовой диадеме и под клетчатым зонтиком прошлепала от своего дома пешком, в галошах. Цвет Нашей Молодежи в полном составе высыпался из чьей-то машины, как выводок поросят, и, повизгивая, взбежал на крыльцо. Компанию «незваных», которые допустили ошибку, явившись в костюмах эпохи Виктории, вовремя распознали и не впустили. Они помчались домой переодеваться для повторного штурма. Никому не хотелось пропустить дебют миссис Оранг.
Однако ангелы чувствовали себя неважно. Они еще в семь часов облачились в свои белые хитоны, золотые пояски и крылья, а сейчас было уже десять, и напряжение начинало сказываться — в крыльях нельзя было даже с удобством откинуться на спинку стула.
— Хоть бы они поторопились, чтобы уж нам отделаться, — сказала Святая Тревога. — Миссис Оранг обещала, что разрешит нам потом выпить шампанского, если мы будем хорошо петь.
— Сама-то небось хлещет там, не стесняется.
— Непорочность!!
— Молчу, молчу.
Тут вошел лакей с красивыми глазами убирать со стола. Перед тем как закрыть за собой дверь, он дружески подмигнул им. «Красотки как на подбор, — думал он. — И надо же, такие религиозные. Лучшие годы зазря пропадают».
(В людской в тот день состоялась серьезная дискуссия об общественном статусе ангелов. Даже дворецкий мистер Бленкинсоп не мог высказаться определенно.
— Ангелы, безусловно, не гости, — сказал он, — но и депутацией их тоже не назовешь. Они и не гувернантки, и, строго говоря, не духовенство. И не артисты, потому что артистов нынче приглашают к обеду, хоть и не следовало бы.
— Может быть, они по внутреннему убранству, — сказала миссис Блауз, — а не то из благотворительных учреждений.
— Те, что из благотворительных учреждений, миссис Блауз, — те идут заодно с гувернантками. Не вижу смысла множить общественные различия до бесконечности. А те, что по внутреннему убранству, — те либо гости, либо рабочие.
После дальнейших дебатов решили приравнять ангелов к сиделкам, и такая резолюция была принята. Только второй лакей остался при своем мнении, что ангелы — просто-напросто «молодые особы, и притом очень приятные», поскольку сиделкам, за редкими исключениями, безнаказанно не подмигнешь, ангелам же — пожалуйста.)
— Нам вот что хотелось бы знать, — сказала Святая Тревога, — как ты, Непорочность, вообще могла подружиться с миссис Пэнраст.
— Да, да, — подхватили ангелы. — Это совсем на тебя не похоже, кататься в машине с женщиной. — И они угрожающе распушили перья.
— Надо ей устроить допрос с пристрастием, — сказала Кротость, хищно облизываясь.
(У ангелов была принята некая система самосуда, которая начиналась с намеков, переходила к перекрестному допросу, затем к щипкам и шлепкам и заканчивалась обычно слезами и поцелуями.)
При виде обращенных к ней злобных, увенчанных нимбами лиц Непорочность сбавила тон.
— Что вы все на меня накинулись? — сказала она жалобно. — Почему я не могу покататься со знакомой?
— Хороша знакомая, — сказала Святая Тревога. — Ты ее сегодня в первый раз видела. — И она больно ущипнула Непорочность повыше локтя.
— Ой! — вскрикнула та. — Ой, не надо… свинья. Тут они все принялись ее щипать, но места выбирали с точным расчетом, чтобы не смять ее крылья и нимб, поскольку это не было оргией. (В своих спальнях они иногда давали себе волю, но не здесь же, не в классной у леди Метроленд, да еще перед серьезной премьерой!)
— Ой, — стонала Непорочность. — Ой, ой, ой, не надо… свиньи, гады, сволочи… ну хорошо, я скажу, я думала, что она мужчина.
— Что она — мужчина? Чушь какую-то мелешь.
— Она и с виду похожа на мужчину и… и ведет себя так. Она сидела за столиком в кафе. Без шляпы, а юбки не было видно… ой… не могу я рассказывать, когда вы щиплетесь… и она мне улыбнулась… ну, а я подошла и попила с ней чаю, а она говорит, не хочу ли я с ней покататься на машине, ну, я согласилась… Ой… лучше бы не соглашалась.
— А что она говорила в машине?
— Не помню… ничего особенного.
— А все-таки? Нет, ты скажи. Если скажешь, никогда больше не будем тебя щипать. Скажи мне на ушко, Непорочность, ты извини, если я тебе сделала больно. Сейчас же скажи, а то хуже будет.
— Да не могу я. Говорю вам, не помню.
— Ну-ка, девочки, подбавьте ей.
— Ой, ой, перестаньте. Сейчас скажу. Они сдвинули головы и были так увлечены ее рассказом, что не заметили, как вошла миссис Оранг.
— Опять грызня, — прогремел грозный голос. — Девочки, мне за вас очень стыдно.
Миссис Оранг была великолепна в вечернем платье из толстой золотой парчи с вышитыми по нему библейскими текстами.
— Мне за вас очень стыдно, — повторила миссис Оранг. — И опять вы довели Непорочность до слез, перед самым представлением. Если уж вам обязательно надо к кому-то цепляться, так зачем именно к ней? Пора бы уж вам знать, что, когда она плачет, у нее краснеет нос. Как, по-вашему, хорошо я буду выглядеть, когда займу свое место перед толпой ангелов с красными носами? Но куда там, вы только и думаете, что о собственных удовольствиях. Шлюхи. — Последнее слово она произнесла с такой экспрессией, что ангелы задрожали. — Не будет вам сегодня шампанского, ясно? И если хоть раз собьетесь, всем закачу хорошую порку, ясно? Ну, пошли, и ради всего святого, Непорочность, приведи в порядок свой нос. А то посмотрят на тебя и решат, чего доброго, что у нас собрание по борьбе с пьянством.
На первом этаже, куда безутешные ангелы спустились двумя минутами позже, все было блеск и великолепие. У подножия лестницы Марго Метроленд с каждой из них здоровалась за руку, тут же оценивая ее опытным глазом.
— Вам что-то невесело, дорогая, — успела она шепнуть Непорочности, пока вела их через весь бальный зал к отгороженной орхидеями эстраде. — Если у вас есть желание переменить обстановку, скажите мне в конце вечера, я могу предложить вам работу в Южной Америке. Я не шучу.
— Ой, большое спасибо, — сказала Непорочность. — Но как же я могу уйти от миссис Оранг?
— Ну, вы это обдумайте, крошка. Такой хорошенькой девушке, как вы, грех тратить жизнь на пение гимнов. И вон той девушке, рыженькой, тоже передайте, что я, вероятно, смогу найти ей место.
— Кому? Кротости? Вы от нее держитесь подальше. Она черт в юбке.
— Что ж, некоторым мужчинам такое по вкусу, но чтобы баламутить других девушек — это мне не нужно.
— А она уж так баламутит, что будьте покойны. Вот, видите, какой синяк?
— Бедняжка!
Марго Метроленд и миссис Оранг поднялись вместе с ангелами по ступенькам между орхидеями и расставили девушек в глубине эстрады, лицом к залу. Непорочность оказалась рядом со Святой Тревогой.
— Пожалуйста, Непорочность, прости, если мы сделали тебе больно, — сказала Святая Тревога. — Я-то ведь совсем не сильно щипалась, правда?
— Кой черт не сильно, — сказала Непорочность. — Отстань. К ее руке потянулись немного липкие пальцы, но она сжала кулак. Уеду в Южную Америку, буду работать у леди Метроленд… А Кротости и не подумаю про это рассказывать…
Она устремила взгляд прямо перед собой, увидела миссис Пэнраст и опустила глаза.
В бальном зале были тесными рядами расставлены легкие золоченые стулья, на всех стульях сидели люди. Лорд Вэнбру, удобно пристроившись возле двери, через которую можно было улизнуть к телефону, обозревал гостей. Все это были люди, в том или ином смысле примечательные. Марго Метроленд вышла вторично замуж [5] по нескольким, одинаково суетным, соображениям, главным из которых было ее желание восстановить в глазах света свою несколько пошатнувшуюся репутацию, и сегодняшнее сборище доказывало, что это ей удалось, ибо многие могут принять у себя премьер-министра, герцогиню Сэйлскую и леди Периметр, и кто угодно может принять и принимает (часто скрепя сердце) Майлза Злопрактиса и Агату Рансибл, но только вполне уверенная в себе хозяйка дома решится пригласить одновременно эти две категории гостей, столь несхожие по своим правилам жизни и нормам поведения. Рядом с Вэнбру, у самой двери, стоял человек, словно олицетворявший те перемены, что произошли в Пастмастер-хаус, когда миссис Бест-Чедвинд превратилась в леди Метроленд, — корректный мужчина пониже среднего роста, чья черная борода, ниспадавшая на грудь тугими блестящими завитками, почти совсем скрывала надетые на шее ордена св. Михаила и св. Георгия. На левом мизинце поверх белой перчатки — большой перстень с печатью, в петлице — орхидея. Глаза, молодые, но очень серьезные, оглядывали собравшихся; время от времени он отвешивал четкий, изящный поклон. Несколько человек проявили к нему интерес.
— Гляди, какой бородач с медалью, — сказала Кротость Вере.
— Кто этот чрезвычайно самодовольный молодой человек? — спросила миссис Блекуотер у леди Троббинг.
— Не знаю, милочка, он же тебе поклонился.
— Нет, милочка, это он тебе поклонился.
— Как любезно с его стороны, я не была уверена… Он немножко напоминает мне нашего милого князя Анрепа.
— Так приятно по нынешним временам увидеть кого-то, кто действительно… ты не находишь, дорогая?
— Ты это про бороду?
— Между прочим, и про бороду, милочка.
Отец Ротшильд плел нити заговора с мистером Фрабником и лордом Метролендом. Он оборвал себя на полуслове.
— Простите, — сказал он, — но шпионы проникают всюду. Вот тот человек с бородой, вы его знаете?
Лорд Метроленд ответил, что он как будто имеет какое-то отношение к министерству иностранных дел; мистеру Фрабнику помнилось, что где-то он с ним встречался.
— Вот именно, — сказал отец Ротшильд. — Я считаю, что нам следует продолжить наш разговор при закрытых дверях. Я за ним давно наблюдаю. Он кланяется через весь зал в пустоту и людям, которые сидят к нему спиной.
Великие мужи удалились в кабинет лорда Метроленда. Отец Ротшильд бесшумно притворил дверь и заглянул за портьеры.
— Дверь запереть? — спросил лорд Метроленд.
— Нет, — отвечал иезуит. — Замок не помешает шпиону слушать, — но нам он помешает поймать шпиона.
— Никогда бы до этого не додумался, — восхищенно произнес мистер Фрабник.
— Какая хорошенькая эта Нина Блаунт, — сказала леди Троббинг, прилежно лорнируя зал из первого ряда. — Но тебе не кажется, что она немножко изменилась? Можно подумать…
— Ты решительно все замечаешь, милочка.
— А что же нам, в наши годы, еще и остается, дорогая! Но у меня в самом деле впечатление, будто она что-то пережила такое… она сидит рядом с Майлзом. Ты знаешь, я сегодня получила весточку от Эдварда. Он возвращается в Англию. Для Майлза это будет страшный удар, ведь он все это время жил в доме Эдварда. А я, скажу тебе по секрету, даже отчасти рада, потому что Энн Опалторп, она живет через улицу, говорила мне, что там такое творится… сейчас у него живет один приятель. Очень странный человек, автомобильный гонщик. Но этого ведь все равно не скроешь, лучше и не пытаться… А вон миссис Пэнраст… да нет же, милочка, ты ее отлично знаешь, она бывшая Элинор Балкэрн… не понимаю, почему Марго приглашает таких женщин, а ты?… Правда, Марго и сама не такая уж святая невинность… а кстати, вон и лорд Мономарк… да-да, владелец этих забавных газет… говорят, он и Марго… разумеется, еще до ее брака (я имею в виду ее второй брак)… но иногда такие вещи затягиваются, правда?… Интересно, где сейчас Питер Пастмастер?… За обедом он, конечно, был, и сколько же он пьет, милочка… а ему ведь всего двадцать лет, ну от силы двадцать один… ах, так вон она какая, эта миссис Оранг. Ужасно грубое лицо… да нет же, милочка, ничего она не услышит. Внешность у нее как у procureuse[6]… но, пожалуй, здесь этого не стоит говорить, как по-твоему?
Адам подошел и сел рядом с Ниной.
— Привет, — сказали они друг другу.
— Милый, — сказала Нина, — посмотри на нового поклонника Мэри Маус.
Адам посмотрел и увидел, что Мэри сидит с магараджей Поккапорским.
— Прелестная парочка, — сказал он.
— Мне так скучно, — сказала Нина.
Мистер Бенфлит, тоже бывший в числе приглашенных, разговаривал с двумя поэтами. Они говорили:
— …и я написал Уильяму, что я этой рецензии не писал, но что Тони прочел ее мне по телефону, прежде чем отправить, только мне в это время ужасно хотелось спать. Я решил, что лучше сказать ему правду, потому что он все равно узнал бы от Тони. Я только сказал, что не советую ее печатать, так же как Уильяму с самого начала не советовал печатать книгу. Ну а Тони позвонил Майклу и сказал ему, что я сказал, что Уильям думает, что рецензию написал Майкл в отместку за ту рецензию, что я дал на книгу Майкла год назад, хотя на самом-то деле Тони сам и написал ее…
— Сочувствую, — сказал мистер Бенфлит.
— …но даже если бы ее написал я, разве это давало бы Майклу основание говорить, что я украл у Уильяма пять фунтов?
— Разумеется, нет, — сказал мистер Бенфлит. — Сочувствую.
— Они просто не джентльмены, ни тот, ни другой. В этом все дело, только теперь как-то не принято на это ссылаться.
Мистер Бенфлит покачал головой печально и понимающе.
Тут миссис Оранг встала и приготовилась говорить. Зал притих — тишина, начавшись в задних рядах, волной прокатилась вперед по золоченым стульям, и несколько секунд был слышен только голос миссис Блекуотер, очень внятно излагающий какие-то подробности из прошлого леди Метроленд. Потом она тоже умолкла, и миссис Оранг начала свою знаменитую речь о надежде.
— Братья и сестры! — произнесла она хриплым, волнующим голосом. Потом сделала паузу и обвела ряды золоченых стульев глазами, чью магнетическую силу испытали на себе три континента. (Это было одной из ее любимых прелюдий.)
— Вы только оглянитесь на себя! — сказала она. Слушателей, как по волшебству, охватило покаянное беспокойство. Миссис Пэнраст заерзала на стуле: неужели эта глупышка проболталась?
— Деточка, — прошептала мисс Рансибл, — у меня нос не перепудрен?
Нина вспомнила, что некогда, всего двадцать четыре часа назад, была влюблена. Мистер Бенфлит подумал, что следовало поставить в договоре не пять, а три процента, начиная с десяти тысяч. У «незваных» мелькнула мысль, что лучше было бы, пожалуй, остаться дома. (Однажды в Канзас-Сити миссис Оранг вообще не пошла дальше этих вступительных слов: они вызвали такой взрыв эмоций, что все стулья в зале были изломаны в щепки. Как раз там в число ангелов вступила Кротость.) Леди Троббинг много чего вспомнила из собственной жизни… В каждом сердце нашлось, о чем поскорбеть.
— Опять она их заарканила, — шепнула Снятая Тревога. — Прямо двойной петлей.
Лорд Вэнбру юркнул к телефону передать в редакцию парочку хлестких абзацев на тему о фешенебельном благочестии.
Мисс Маус уронила две слезинки и потянулась к темной, унизанной кольцами руке магараджи.
Но внезапно в этой насыщенной самобичеванием тишине прозвучал органный глас самой Англии, охотничий покрик Старого режима. Леди Периметр проговорила громко и неодобрительно:
— Бывают же такие нахалки!
Адам, Нина и мисс Рансибл чуть не поперхнулись от смеха, а Марго Метроленд впервые за все свои вечера порадовалась, что ее почетную гостью ждет провал. В общем, минута получилась неловкая.
В кабинете отец Ротшильд и мистер Фрабник с упоением плели нити заговора. Лорд Метроленд курил сигару и спрашивал себя, удобно ли будет сейчас уйти. Ему хотелось послушать миссис Оранг и еще разок взглянуть на этих ангелов. Там была одна рыженькая… К тому же все эти интриги и международная политика никогда его не интересовали. В свое время, будучи членом палаты общин, он любил хорошие перепалки и до сих пор с легкой грустью вспоминал те неистовые состязания в притворстве, что помогли ему подняться до нынешнего высокого положения. И теперь еще, когда на обсуждении стоял какой-нибудь простой, всем понятный вопрос, вроде народного искусства или заработной платы беднякам, он не прочь был произнести возвышенную речь в палате лордов. Ну а к таким вот вещам у него душа не лежала.
Неожиданно отец Ротшильд выключил свет.
— Кто-то идет по коридору, — сказал он. — Прячьтесь за портьеры, быстро.
— Право же, Ротшильд… — начал мистер Фрабник.
— Послушайте… — сказал лорд Метроленд.
— Быстро, — повторил отец Ротшильд.
Государственные мужи попрятались. Лорд Метроленд, не переставая курить, откинул голову, и сигара встала торчком. Они услышали, как дверь открылась. Щелкнул выключатель. Чиркнула спичка. Потом еле слышно звякнул телефон — кто-то поднял трубку.
— Центральная десять тысяч, — сказал приглушенный голос.
— Пора, — сказал отец Ротшильд и выступил из-за портьеры. С телефонной трубкой в руке и зажженной сигарой из запасов лорда Метроленда у стола стоял бородатый незнакомец, возбудивший его подозрения.
— А-а, здравствуйте, — заговорил он, — я не знал, что вы здесь. Хотел сказать два слова по телефону. Прошу прощения. Не буду вам мешать. Очень веселый вечер, не правда ли? Всего хорошего.
— Ни с места, — сказал отец Ротшильд. — И сейчас же снимите бороду.
— Вот еще, — сердито возразил незнакомец. — Нечего мной командовать, точно я какой-нибудь ваш служка… старый вы сводник.
— Снимите бороду, — сказал отец Ротшильд.
— Снимите бороду, — сказали лорд Метроленд и мистер Фрабник, внезапно появляясь из-за портьер.
Столь дружного натиска Церкви и Государства, притом после целого вечера сплошных неудобств, Саймон не выдержал.
— Ну хорошо, хорошо, — сказал он, — если вам так уж приспичило… только это очень больно, ее бы нужно отмочить горячей водой… уф!
Он подергал черные завитки, и понемногу они поддались.
— Вот, пожалуйста, — сказал он. — А теперь советую, заставьте леди Троббинг снять парик… Работать так работать, чего уж там.
— Я, видимо, переоценил серьезность обстановки, — сказал отец Ротшильд.
— Да кто это, в конце концов? — вопросил мистер Фрабник. — Куда делись мои детективы? Что это все значит?
— Это, — с горечью произнес отец Ротшильд, — это мистер Таратор.
— Никогда о таком не слышал… По-моему, такого и нет в природе. Мистер Таратор, скажи на милость… вы заставляете нас прятаться за портьерой, потом уверяете нас, что какого-то молодого человека с накладной бородой зовут Таратор… Право же, Ротшильд…
— Лорд Балкэрн, — сказал лорд Метроленд, — будьте добры немедленно покинуть мой дом.
— Так как же зовут этого молодого человека, Таратор или нет?… Честное слово, вы все с ума посходили.
— Да, я уйду, — сказал Саймон. — Не воображали же вы, что я вернусь в зал в таком виде? — И правда, лицо его с приставшими к подбородку и щекам кустиками черных волос выглядело по меньшей мере странно.
— Лорд Мономарк сегодня здесь, я не премину поставить его в известность о вашем поведении…
— Он пишет в газетах, — попробовал отец Ротшильд объяснить премьер-министру.
— Я тоже, черт возьми, пишу в газетах, но я не ношу фальшивую бороду и не называю себя Таратором… Я просто не понимаю, что произошло… где мои детективы?… Кто мне наконец объяснит? Вы обращаетесь со мной, как с ребенком, — сказал он. Вот так же бывало на заседаниях кабинета, когда все они толковали о чем-то, чего он не понимал, а на него не обращали внимания.
Отец Ротшильд увел его и с чуть ли не унизительным терпением и тактом попытался открыть ему глаза на некоторые сложности, с коими сопряжена в наши дни работа газетчика.
— Не верю ни единому слову, — твердил премьер-министр. — Все это несерьезно. Вы чего-то недоговариваете. Таратор, скажи на милость!
Саймону Балкэрну вручили его шляпу и пальто и проводили его до порога. Толпа у подъезда рассеялась. Дождь все шел. Саймон зашагал домой, в свою квартирку на Бурдон-стрит. Дождь затекал ему за воротник, смыл с его лица еще несколько черных прядок.
Перед дверью его дома мыли машину; он пробрался между машиной и помойкой, открыл дверь своим ключом и поднялся к себе. Квартира его была как ресторан «Chez Espinosa» — сплошь клеенка и лаликовское стекло; еще несколько довольно смелых фотографий работы Дэвида Леннокса, граммофон (купленный в рассрочку) и великое множество пригласительных карточек на камине. Купальное полотенце лежало на кровати, где он его бросил перед уходом.
Саймон прошел в кухню, отколол кусочек льда из холодильника. Потом приготовил себе коктейль. Потом подсел к телефону.
— Центральная десять тысяч, — сказал он. — Миссис Брэйс, пожалуйста… Алло, говорит Балкэрн.
— Ну, добыли материал?
— О да, материал я добыл, только он не в хронику, это последние новости, на первую полосу. А в колонку Таратора придется вам дать «Эспинозу».
— О черт!
— Прочтете — еще не то скажете… Алло! Дайте последние новости… говорит Балкэрн. Ну-ка, посадите кого-нибудь там записывать… готовы? Начали.
Сидя у стола, покрытого стеклом, потягивая коктейль, Саймон Балкэрн стал диктовать последнюю в своей жизни корреспонденцию.
Сцену массового религиозного экстаза запятая напоминающую негритянские радения у костра в южных штатах Америки запятая можно было наблюдать вчера вечером в самом сердце Мэйфэра, на приеме, устроенном в честь знаменитой американской проповедницы миссис Оранг виконтессой Метроленд, в прошлом достопочтенной миссис Бест-Чедвинд, в ее историческом особняке Пастмастер-хаус точка. Никогда еще в этом великолепном бальном зале не собиралось столь блестящее общество…
Это была его лебединая песня. В мозгу его рождались выдумки одна другой чудовищнее.
…когда достопочтенная Агата Рансибл, стоя рядом с миссис Оранг среди орхидей, дирижировала хором ангелов, по лицу ее струились слезы…
Редакция «Эксцесса» заволновалась. Машины было приказано остановить. Репортеры ночной смены, навеселе, как всегда в этот час, сгрудились вокруг стенографиста, печатавшего на машинке.
Наборщики выхватывали у него из рук лист за листом. Редакторы отделов принялись безжалостно ужимать и вымарывать; они выкинули важные политические сообщения, скомкали показания свидетелей по делу об убийстве, сократили статью театрального критика до одного ехидного абзаца — лишь бы освободить место для корреспонденции Саймона.
Она прошла «во всей красе, без сучка, без задоринки», как выразился один из редакторов.
— Наконец-то маленький лорд Фаунтлерой попал в жилу, — сказал другой.
— Давно пора, — одобрительно заметил третий.
…не успела леди Эвримен кончить, как с места поднялась графиня Троббинг, чтобы покаяться в грехах, и прерывающимся от волнения голосом поведала дотоле считавшиеся недостоверными подробности о происхождении нынешнего графа…
— Скажите мистеру Эдвардсу, пусть подберет фотографии всех троих, — распорядился помощник редактора «Последних новостей».
— …маркиз Вэнбру, громко рыдая от раскаяния… Миссис Пэнраст пела в лихорадочном возбуждении… леди Энкоредж, опустив глаза долу…
Тут архиепископ Кентерберийский, до тех пор не поддававшийся всеобщему воодушевлению, во всеуслышание заявил, что в Итоне в восьмидесятых годах он и сэр Джеймс Браун…
…затем герцогиня Стэйлская с возгласом «Во искупление грехов!» сорвала с себя диадему из бриллиантов и изумрудов, примеру ее тут же последовали графиня Периметр и леди Браун, после чего на паркет буквально градом посыпались драгоценные камни — бесценные фамильные сокровища вперемешку с поддельным жемчугом и стразами. Незаполненный чек выпорхнул из руки магараджи Поккапорского…
Получилось два столбца с лишним, и, когда Саймон, выслушав поздравления коллег, опустил наконец трубку, он впервые, с тех пор как стал газетчиком, ощутил полное удовлетворение от своей работы. Он допил водянистые остатки коктейля и прошел в кухню. Затворил дверь и окно и открыл дверцу духовки. В духовке было очень темно и грязно и пахло мясом. Он постелил на нижний противень газету и лег на нее головой. Тут он заметил, что нечаянно взял страницу «Морнинг диспетч» со светской хроникой Вэнбру, и накрыл ее еще одной газетой. (Противень был полон крошек.) Потом он отвернул кран. Струя газа взревела неожиданно громко, пошевелила его волосы и последние ошметки бороды. Сперва он задержал дыхание. Потом решил, что это глупо, и потянул носом. От вдоха он закашлялся, а от кашля стал дышать глубже, а задышав, почувствовал себя очень скверно. Но скоро он потерял сознание и через некоторое время умер.
Так последний граф Балкэрн отправился, что называется, к праотцам (тем, что полегли во многих землях и под многими знаменами, смотря по тому, куда гнали их прихоти внешней политики Англии и собственная тяга к странствиям, — при Акре [7], Азенкуре [8] и Килликрэнки [9], в Египте и в Америке. Одного дочиста обглодали рыбы, пока волны катили его среди крон подводных деревьев, другие почернели под тропическим солнцем до полной непрезентабельности, а многие покоились в мраморных гробницах пышной и причудливой архитектуры).
Примерно в это время в Пастмастер-хаус леди Метроленд говорила о нем с лордом Мономарком. Лорд Мономарк хохотал, как мальчишка.
— Вот молодчина, — сказал он, — так-таки нацепил фальшивую бороду? Ловко, ловко. Как, ты сказала, его зовут? Завтра же повышу его в должности.
И, вызвав сопровождавшего его секретаря, велел ему записать фамилию Саймона.
А когда леди Метроленд попробовала возражать, он не слишком-то учтиво оборвал ее.
— Брось эти штучки, Марго, — сказал он. — Уж со мной-то могла бы не выламываться.
Глава 7
Потом мистером Таратором стал Адам. Когда они с Ниной как-то завтракали у «Эспинозы» и лениво ссорились, к их столику подошла делового вида коротко стриженная женщина, в которой Адам узнал редакторшу светской хроники из «Дейли зксцесс».
— Я вот насчет чего, — сказала она. — Это не вы приходили с Балкэрном в редакцию в тот день, когда он с собой покончил?
— Да, я.
— Вот уж подложил нам свинью. Шестьдесят два вызова в суд за клевету — это полученных, а будет и больше. И это бы еще полбеды. Главное, теперь мне и за него и за себя работать. Я подумала, может, вы знаете кого-нибудь из тех, кто здесь сидит, и мне что-нибудь расскажете.
Адам указал ей несколько примелькавшихся фигур.
— Да, но эти все не годятся. Они в черном списке. Понимаете, Мономарк рвал и метал из-за этой корреспонденции Балкэрна о вечере у леди Метроленд и категорически запретил упоминать всех, кто подал на газету в суд. Так что же мне, спрашивается, делать? Материала-то нет. Даже премьер-министра и архиепископа Кентерберийского и тех нельзя упоминать. Вы, наверно, никого не знаете, кто бы пошел на эту работу? За нее разве что круглый дурак возьмется.
— А сколько платят?
— Десять фунтов в неделю и служебные расходы. У вас что, есть кто-нибудь на примете?
— Я сам не прочь предложить свои услуги.
— Вы?! — Редакторша смерила его скептическим взглядом. — А справитесь?
— Недели две попробую, а там видно будет.
— Дольше-то никто и не выдерживает. Ну ладно, кончайте завтракать и пошли в редакцию. Таких безобразий, как Балкэрн, вам все равно не натворить, а ведь поначалу казалось — толковый работник.
— Теперь мы можем пожениться, — сказала Нина.
Тем временем иски за клевету, предъявленные автору, наборщикам и издателям последней корреспонденции Саймона Балкэрна, буквально парализовали работу судов по всей стране. Старая гвардия под предводительством миссис Блекуотер с головой окунулась в оргию судебных тяжб, какой не бывало с самой войны. (Один из молодых адвокатов вызвал особенное умиление леди Троббинг. «Доживите до моих лет, голубчик, и вы согласитесь, что в парике есть что-то очень sympathique…»). Представители молодого поколения в большинстве не стали доводить дело до суда, а на вырученные деньги устроили превеселый вечер в дирижабле. Мисс Рансибл, натура не столь благоразумная, заполнила два альбома газетными вырезками, запечатлевшими ее многократное появление в суде — то в качестве истицы, то в качестве свидетельницы, то (в шляпе, которую она попросила для этого случая у мисс Маус) в очереди из «одетых по последней моде дам, ожидающих, когда начнут впускать публику», один раз в момент, когда пристав удалял ее с галереи прессы, и, наконец, в качестве подсудимой, приговоренной к десяти фунтам штрафа или семи суткам тюремного заключения за неуважение к суду.
Значительно усложнило всю процедуру поведение миссис Оранг — она дала интервью, в котором полностью подтвердила все, что написал Саймон Балкэрн. Кроме того, она велела своему пресс-агенту разослать по телеграфу сообщение о вечере во все концы света. А затем отбыла со своими ангелами на континент, ибо неожиданно получила приглашение — оживить религиозную жизнь в Обераммергау.
Время от времени из Буэнос-Айреса приходили письма, в которых Непорочность и Праведная Обида отзывались о южноамериканских развлечениях без особого восторга.
— И поделом им, — сказала миссис Оранг. — Нечего было от добра добра искать.
— Выходит, там у них так же, как у нас, — задумчиво произнесла Святая Тревога.
— Этим хоть кол на голове теши, все равно не поймут, в чем разница, — сказала миссис Оранг.
Эдвард Троббинг с двумя секретарями возвратился в свой Дом на Хартфорд-стрит, так что Майлз и его приятель автогонщик были вынуждены перебраться в «Шепард». Майлз уверял, что огорчает его в связи с возвращением брата не столько лишение комфорта, сколько расходы. Троббинг первые несколько недель жестоко страдал оттого, что его секретари снова и снова обнаруживали в разных углах дома всякие любопытные и компрометирующие предметы. И дворецкий его заметно изменился. Однажды он громко икнул, подавая обед двум приглашенным в гости министрам; он жаловался, что в ванне полно пауков и что в доме все время играют на музыкальных инструментах, и, наконец, в приступе белой горячки стал метаться по буфетной, размахивая кочергой, так что пришлось увезти его в больницу. Еще долго после того, как эти непосредственные причины для беспокойства были устранены, секретарям Троббинга периодически отравляли жизнь двусмысленные телефонные звонки и визиты угрожающего вида молодых людей, которым требовались новые костюмы, либо билет в Америку, либо пятерка, чтобы перебиться до лучших времен.
Но как ни велик общечеловеческий интерес этих событий, рассказать о них читателям странички мистера Таратора было, разумеется, невозможно.
Черный список лорда Мономарка внес опустошения в ряды персонажей светской хроники «Дейли эксцесс». Неожиданно и внезапно читателей мистера Таратора спустили с высот в какой-то серый мир, населенный ничтожествами. Их вниманию предлагали снимки, на которых кривобокие дочки захолустных пэров кормят отрубями фамильных кур; им сообщали о помолвке младшей сестры епископа Чертсейского и об обеде, который вдова какого-то верховного комиссара устроила в честь друзей, приобретенных ею еще в колониях. В «Хронику» шли подробности о безупречной семейной жизни писательницы, снятой со своим спаниелем на крыльце увитого розами деревенского дома; студенческие танцульки и встречи старых однополчан; анекдоты из практики видных врачей и юристов; сплетни о вечеринках с коктейлями в подвальных квартирах у прыщавых дикторов Би-би-си, о чаепитиях с танцами на Глостер-террас и о застольных шутках университетских преподавателей.
Адам, подстегиваемый издевками своей редакторши, внес в этот унылый раздел новую жизнь и человеческую теплоту. Он затеял серию заметок «Увечные знаменитости», сразу же завоевавшую огромную популярность. Начал он в тоне легкой светской болтовни: Как-то на днях на званом обеде мы с моей соседкой решили составить список самых известных из числа глухих аристократок. Первой, разумеется, в нем стояла старая леди В…
На следующий день речь шла о глухих пэрах и государственных деятелях; потом об одноногих, слепых и лысых. Хвалебные открытки сыпались в редакцию со всех концов Англии.
«Я уже много лет читаю Вашу страничку, — писал кто-то из Бьюда, — но теперь она впервые доставила мне истинное наслаждение. Я сам давно оглох, и для меня было большим утешением узнать, что тем же недугом страдает так много именитых мужчин и женщин. Спасибо Вам, мистер Таратор, и желаю удачи».
Другая открытка гласила: «С детства для меня были мучением мои ненормально большие уши — предмет бесчисленных насмешек и серьезная помеха в моей карьере (я телефонист). Мне очень хотелось бы знать, есть ли у меня товарищи по несчастью среди великих людей».
Наконец Адам обрыскал дома для умалишенных и психиатрические больницы и целую неделю с большим успехом давал заметки под заголовком «Титулованные чудаки».
Не всем известно, что у графа Н., живущего в строгом уединении, есть необычайная причуда — носить костюмы наполеоновской эпохи. Его ненависть к современной одежде так велика, что однажды…
Лорд А., который в последнее время, к сожалению, лишь очень редко появляется в обществе, посвятил себя сравнительному изучению религий. Существует забавный рассказ о том, как за завтраком у тогдашнего настоятеля Вестминстерского аббатства лорд А. сильно удивил своего хозяина, заявив, что Десять заповедей отнюдь не божественного происхождения, а сочинены им самим и им же переданы Моисею на горе Синайской…
Леди Б., которая подражает голосам животных так натурально, что ее лишь с трудом удается уговорить объясняться как-нибудь иначе…
И так далее.
Кроме того, рассудив, что публике, в сущности, безразлично, о ком ни читать, лишь бы насытить свой неуемный интерес к чужой жизни, он начал сам выдумывать людей.
Он выдумал скульптора по фамилии Провна, сына польского шляхтича, и поселил его в ателье под крышей Гровнер-хаус[10]. Произведения его (находящиеся исключительно в частных руках) созданы главным образом из пробки, эбонита и стали. По сведениям мистера Таратора, Метрополитен-музей уже некоторое время ведет переговоры о приобретении хотя бы одной его скульптуры, но до сих пор ему не удалось перебить предложения частных коллекционеров.
Так велико в наши дни влияние прессы, что вскоре после этой заметки ранние работы Провны потоком хлынули из Варшавы на Бонд-стрит и с Бонд-стрит в Калифорнию, а миссис Хуп сообщила своим друзьям, что Провна работает сейчас над бюстом Джонни, который она решила подарить государству. (Эти последние данные Адам не смог опубликовать, поскольку миссис Хуп состояла в черном списке, но они появились вместе с портретом Джонни в заметке его конкурента маркиза Вэнбру.)
Окрыленный успехом, Адам стал понемногу знакомить своих читателей с целым рядом блестящих и прелестных людей. Для начала он мельком упоминал их имена среди других, реально существующих. Так, в итальянском посольстве появился обаятельный молодой атташе граф Цинциннати… Он был потомком знаменитого римского консула Цинцинната и носил в гербе плуг. Граф Цинциннати считался лучшим в Лондоне виолончелистом-любителем. Однажды вечером Адам видел его танцующим в «Cafè de la Paix». Через несколько дней лорд Вэнбру заметил его среди публики в театре Ковент-Гарден и не преминул сообщить, что графу принадлежит самая богатая в Европе коллекция оригинальных эскизов для русского балета. Два дня спустя Адам отправил его на несколько дней в Монте-Карло отдохнуть и развлечься, а Вэнбру дал понять, что эта поездка предпринята неспроста, и упомянул, что дочь одной известной среди финансовой элиты американки гостит там сейчас на вилле у своей тетушки.
Был еще некий капитан — Энгус Стюарт-Керр, изредка наезжающий в Англию, к великой радости своих друзей; в отличие от большинства охотников на крупную дичь этот капитан превосходный и неутомимый танцор. Адам был сильно раздосадован, когда капитана Стюарт-Керра перехватил у него репортер светской хроники какого-то грошового иллюстрированного еженедельника, видевший его на скачках и написавший, что капитан считается лучшим наездником на Гебридских островах. На следующий же день Адам заткнул ему глотку.
У некоторых людей сложилось впечатление, — писал он, — что капитан Стюарт-Керр, о котором я недавно упоминал в этих заметках, заядлый наездник. Возможно, они путают его с его дальним родственником, Элестером Керр-Стюартом из Инверохти. Капитан Стюарт-Керр вообще не ездит верхом, и вот почему: члены его клана до сих пор хорошо помнят гэльские стихи, которые я привожу в приблизительном переводе: «Господъ скачет на двух ногах». Предание гласит, что, когда глава рода сядет на лошадь, весь клан погибнет [11].
Однако самым значительным творением Адама оказалась миссис Эндрю Квест. Вводить в заметки Таратора англичан всегда было трудновато, поскольку читатели наловчились проверять его сведения по Дебретту (в чем он убедился на горьком опыте: когда он однажды упомянул о помолвке третьей, младшей, дочери одного валлийского баронета, на него обрушилось шесть открыток, восемнадцать телефонных звонков, телеграмма и личное выражение протеста — пусть знает, что в той семье не три, а две сестры, обе красавицы, но еще не вышедшие из школьного возраста. Редакторша в тот раз ругала его долго и язвительно). И все же в один прекрасный день он спокойно и решительно назвал Имоджин Квест самой прелестной и неотразимой из молодых замужних женщин высшего круга. При этом она сразу проявила ярко индивидуальные черты. Адам благоразумно умолчал о ее предках, но его читатели переглянулись и незамедлительно наделили ее высоким (хоть и незаконным) происхождением. Всеми остальными достоинствами Адам снабдил ее, не скупясь. Роста она была чуть выше среднего, смуглая и стройная, с огромными, как на портретах Мари Лорансен, глазами и непринужденной грацией спортсменки (по утрам до завтрака она регулярно по полчаса занималась фехтованием). Даже Провна, известный своим равнодушием к общепризнанной женской красоте, отозвался о ней как об «оправдании своего века».
Туалеты ее были умопомрачительны, и тончайший налет небрежности ставил их много выше стандартного шика манекенщиц.
В ней гармонично сочетались несовместимые, казалось бы, добродетели: она была остроумна и милосердна, порывиста и безмятежна, чувственна и прохладна, импульсивна и скромна.
Ее кружок — самый сплоченный и блестящий в Европе — был некой идеальной серединой между двумя полюсами дикарства — леди Периметр и леди Метроленд.
Вскоре Имоджин Квест сделалась олицетворением недоступности — этой конечной цели всех светских честолюбцев.
Зайдя однажды с Ниной в магазин на Ганновер-сквер, где она собиралась купить себе шляпу, Адам был не на шутку озадачен, увидев на стульях и подзеркальниках множество шляпных картонок, приготовленных, судя по броским карточкам для отправки миссис Эндрю Квест. Он не раз слышал, как ее имя благоговейно произносили в танцевальных клубах или как бы случайно вкрапливали в ничего не значащие фразы вроде: «Дорогая моя, я теперь совсем не вижу Питера, он целые дни проводит у Имоджин Квест», или «Как сказала бы Имоджин…», или «По-моему, точно такой есть у Квестов. Надо будет спросить, где они его достали». Сознание того, что где-то совсем рядом существует этот благороднейший, никому не подвластный и недоступный кружок Квестов, словно вносило сладость и остроту в жизнь читателей мистера Таратора.
Как-то раз Имоджин устроила вечер, приготовления к которому заняли несколько абзацев. На другой день рабочий стол Адама ломился от писем — «незваные» жаловались, что в указанном доме на Симор-плейс никто не живет.
Наконец очаровательной миссис Квест заинтересовался сам лорд Мономарк. В редакцию поступила просьба — не может ли мистер Таратор их познакомить. В этот день Квесты отплыли на Ямайку.
Еще Адам попробовал деликатно подсказать своим читателям кое-что новое по части одежды. Вчера вечером в «Café de la Paix» — писал он, — я заметил на двух самых элегантных в зале мужчинах черные замшевые штиблеты при обычных вечерних костюмах. (Один из них — называть его не буду — человек Очень Высокопоставленный.) Говорят, эта мода, пришедшая к нам, как и многие другие, из Нью-Йорка, найдет здесь в текущем сезоне многочисленных последователей. Несколько дней спустя он упомянул, что капитан Стюарт-Керр заходил в посольство и «на нем, разумеется, были сверхмодные черные замшевые штиблеты». Через неделю он с удовлетворением отметил, что Джонни Хуп и Арчи Шверт пошли по стопам капитана Стюарт-Керра, а через две недели роскошные магазины готового платья на Риджент-стрит перевесили ярлычки в витринах и выстроили на серебряных полочках длинные ряды черных замшевых штиблет с карточкой «Для вечеров».
Не столь успешной оказалась другая его попытка — ввести в обиход котелок бутылочного цвета: один «широкоизвестный шляпочник на Сент-Джеймс-стрит», которого интервьюировала по этому поводу какая-то вечерняя газета, заявил даже, что никогда не видал зеленых котелков и не слышал о них и хотя не отказался бы создать такое чудо, если б его попросил о том какой-нибудь старый клиент, но не допускает мысли, что кому-нибудь из его старых клиентов такая шляпа может потребоваться. (Впрочем, ему передавали печальную историю про одного обедневшего старого щеголя, который пытался выкрасить серый котелок зелеными чернилами, как когда-то в давно прошедшие годы красил гвоздики для бутоньерки.)
Постепенно страничка мистера Таратора все больше приближалась к чистому вымыслу. По собственной прихоти, как восточный владыка, Адам распахивал перед своими читателями двери недоступных для простых смертных харчевен, являющих собой последний крик моды, возил их на балы в гостиницы Общества трезвости в Блумсбери. В заметке, озаглавленной «Монпарнас в Белгрэйвии», он сообщил, что буфет на станции метро «Слоун-сквер» стал любимым прибежищем самых современных писателей и художников. (Мистер Бенфлит поспешил туда в первый же свободный вечер, но не увидел никого, кроме миссис Хуп, лорда Вэнбру да какого-то подвыпившего плебея в целлулоидном воротничке.)
А в безнадежные предвечерние часы, когда фантазия Адама иссякала и его охватывала та черная тоска, что подстерегает равно репортера светской хроники и романиста, он искал утешения в том, чтобы выбрать какого-нибудь смирного, держащегося в тени обывателя и вознести его на вершину известности.
Так он поступил с человеком, которого звали Рыжик.
По долгу службы, приводившему его во всякие диковинные места, Адам поехал с Ниной в Манчестер на ноябрьский гандикап. Здесь их ждало тяжелое переживание: Селезень легко пришел первым, и тотализатор выплатил тридцать пять к одному. Было это во время кампании за зеленые котелки, и Адам тщетно высматривал хоть какие то результаты своего влияния, как вдруг увидел в толпе веселую красную физиономию того пьяного майора, которому вверил тогда у Лотти свою тысячу фунтов. Странно было, что такой крупный мужчина так легко исчезает из поля зрения. Адам не был уверен, заметил его майор или нет, но каким-то таинственным образом тот бесследно пропал, едва Адам к нему кинулся. Толпа, потрясавшая фляжками и сэндвичами, все густела, и, когда Адам добрался до того места, где только что стоял майор, два полисмена хватали там мальчишку-карманника.
— Эй, чего толкаетесь? — спрашивали его зеваки.
— Вы не видели тут пьяного майора? — спрашивал Адам. Но никто не мог ему помочь, и он, приуныв, вернулся к Нине, с которой уже разговаривал какой-то молодой человек с вьющимися рыжими усами.
Молодой человек сказал, что хватит с него скачек, и Адам сказал, что с него тоже хватит; тогда молодой человек предложил подвезти Адама и Нину в Лондон на своем моторе, и они согласились. «Мотор» оказался большущей, с иголочки новой гоночной машиной, и в Лондон они поспели к обеду. Нина объяснила, что в детстве они с этим молодым человеком вместе играли, а последние пять лет он провел на Цейлоне, где был занят чем-то военным. Звали его Эдди Литлджон, но за обедом он сказал, какого черта, пусть называют его Рыжик, как все. И они стали называть его Рыжик, а он предложил, не выпить ли еще бутылку шампанского, и Нина с Адамом нашли, что это отличная идея, и они заказали двойную бутылку и очень подружились.
— Вы знаете, — сказал Рыжик, — мне здорово повезло, что я вас встретил. А то мне уж казалось, что хватит с меня Лондона. Такое, черт возьми, болото. Я, когда возвращался домой, думал, вот уж повеселюсь, кутну как следует… ну, и все такое, вы понимаете. Так вот, читаю я на днях газету, а там сказано, что сейчас самое шикарное место, где потанцевать, — отель «Казанова» в Блумсбери. Мне это показалось чудновато — я, понимаете, никогда про такой не слышал, а потом думаю — меня столько времени здесь не было, мода меняется и все такое. Ну, приоделся как надо и отправился туда провести вечерок. Так что же вы думаете? Приезжаю, а там танцующих человека три, не больше. Спрашиваю, где бар. А они мне: «Бар?» А я им: «Ну, понимаете, где продают напитки». А они говорят, что у них, наверное, найдется кофе. Нет, говорю, не кофе. Тогда они говорят, что не имеют лицензии на продажу алкогольных напитков, так они выразились. Ну, знаете, если это все, что Лондон может предложить порядочному человеку, я предпочту Коломбо. Интересно, кто пишет такие вещи в газетах?
— Могу вам ответить: я.
— Нет, правда? Вы, стало быть, ужасно умный? А про зеленые котелки кто писал, тоже вы?
— Да.
— Ну, знаете, где это видано — зеленый котелок… то есть, я хочу сказать… Знаете, по-моему, все это розыгрыш. Понимаете, по-моему, все это ужасно смешно. Вы только подумайте, ведь всякие болваны вполне могли накупить себе зеленых котелков!
Затем они поехали в «Café de la Paix» и там встретили Джонни Хупа, и он пригласил их всех на вечер в дирижабле, который должен был состояться через несколько дней.
Но Рыжик заявил, что второй раз его не проведешь.
— Ну нет, — сказал он, — только не в дирижабле. Опять вы меня разыгрываете. Где это видано, чтобы устроить вечер в дирижабле? А если кто-нибудь вывалится?
Адам по телефону передал свою страничку в «Эксцесс», а вскоре затем на эстраде, шаркая черными замшевыми штиблетами по освещенному рампой кругу, появился певец мулат, к которому Рыжик отнесся неодобрительно. Рыжик сказал, что ничего не имеет против негров; он справедливо отметил, что негры — это ничего, когда они на своем месте, но, в конце концов, не для того он плыл такую даль из Коломбо в Лондон, чтобы посмотреть на негров. И они ушли из «Café de la Paix» и поехали к Лотти, где Рыжик помрачнел и сказал, что в Лондоне уже не чувствуешь себя дома, — все не так, как было раньше.
— Вы понимаете, — сказал Рыжик, — пока я жил в Коломбо, я все время думал: «Как только мой старик отдаст концы и я унаследую фамильные дублоны, сразу махну домой в Англию и так развернусь, что небу жарко станет». А теперь, когда дошло до дела, выходит, что мне как будто ничего и не хочется.
— Может, выпьем? — сказала Лотти.
Рыжик выпил, потом они с каким-то американцем несколько раз подряд спели песню итонских гребцов, и к концу вечера он признал, что кое-какая жизнь в доброй старой столице империи еще теплится.
На следующий день читатели мистера Таратора узнали, что: Среди публики на ноябрьском гандикапе выделялось несколько спортивных фигур в зеленых котелках, и в первую очередь капитан Литлджон, или Рыжик, как его называют близкие друзья. Капитан Литлджон — один из самых богатых и известных в высшем свете холостяков, и в последнее время его имя поминают в связи с предстоящим замужеством единственной дочери из одного знаменитого герцогского рода. На скачки он вчера приехал на собственном моторе, которым правит сам…
В течение нескольких дней имя Рыжика, к немалому его смущению, снова и снова фигурировало в заметках Адама. Ему прочили несколько разных невест, ходили слухи, что он подписал контракт с кинокомпанией, что он купил небольшой остров в Бристольском заливе с целью превратить его в загородный клуб и что скоро увидит свет его роман из цейлонской жизни, в котором выведено — в весьма прозрачно замаскированном виде — много лондонских знаменитостей.
Однако шутка с бутылочного цвета котелками зашла слишком далеко. Адама вызвали к лорду Мономарку.
— Послушайте меня, Саймз, — сказал великий человек. — Страничка ваша мне нравится. Написано ловко, есть много новых имен, и интимный тон вполне подходящий. Я ее читаю каждый день, и дочь моя тоже. Продолжайте в том же духе, и все будет в порядке. Но что это за болтовня про зеленые котелки?
— Конечно, сэр, пока еще их носят немногие, но…
— У вас, например, есть зеленый котелок? Показать мне можете?
— Сам я, к сожалению, такого не ношу.
— А где вы их видите? Я лично до сих пор ни одного не видел. И моя дочь не видела. Кто их носит? Где их покупают, хотел бы я знать? Так вот, имейте в виду, Саймз, я не говорю, что зеленых котелков вообще не бывает; может, они есть, а может, и нет. Но в моей газете чтобы зеленых котелков больше не было, понятно? И еще одно. Этот ваш граф Цинциннати. Я и про него не говорю, что он вообще не существует. Может, существует, а может, и нет. Но итальянскому послу ничего о нем не известно, и в «Готском альманахе» он не значится… Для моей газеты этого вполне достаточно. И еще, хватит писать про «Эспинозу». Мне там вчера вечером счет неправильно выписали. Итого, значит, три замечания, ясно? Пронумеруйте их в уме — один, два, три. В этом весь секрет, как не забыть, — ну-ме-рация. Вот и все. Теперь бегите да скажите там министру внутренних дел, пусть заходит. Он ждет в коридоре, увидите — такой плюгавый человечек в пенсне.
Глава 8
Через два дня Адам и Нина повезли Рыжика на вечер в дирижабле. Вечер получился не особенно удачный. Долгая поездка в машине Рыжика до захиревшего пригорода, где стоял на приколе дирижабль, повергла их в холодное уныние, погасив последние искры веселья, еще вспыхивавшего изредка за обедом, которым накормил их Рыжик.
Дирижабль, казалось, заполнял все поле. Он был закреплен в нескольких футах от земли бесчисленными тросами, о которые они то и дело спотыкались, пока шли к трапу, застеленному в честь высоких гостей красной дорожкой.
Внутри, в салонах, сообщавшихся между собой винтовыми лесенками и металлическими переходами, было тесно и жарко. Повсюду торчали какие-то выступы, и мисс Рансибл уже через полчаса оказалась вся в синяках. Был оркестр, был бар, и все те же лица. Новым было то, что до сих пор вечеров в дирижаблях никто не устраивал.
Адам поднялся на нечто вроде открытого балкона. Необъятный шелковый пузырь заслонял небо, чуть заметно колыхался на ветру. Фары подъезжающих машин чертили полосы света на растрепанной траве. Кучка зевак у ворот изощрялась в насмешках. На балконе неподалеку от Адама раскинулась на подушках влюбленная парочка. Еще там была незнакомая ему молодая женщина, она держалась за строп и тяжело дышала — видимо, ей было нехорошо. Вспыхнул огонек сигары, и Адам увидел, что влюбленная парочка — это Мэри Маус и магараджа Поккапорский.
Тут к нему подошла Нина.
— Обидно, что двое таких богатых людей влюблены друг в друга, — сказала она, кивнув на магараджу и Мэри. — Сколько денег зря пропадает.
— Нина, — сказал Адам, — давай поскорее поженимся, хорошо?
— Да, надо бы, а то очень скучно.
Молодая женщина, которая плохо себя чувствовала, пошатываясь, прошла мимо них, решив, как видно, уехать домой, если ей удастся найти свое пальто и своего кавалера.
— …не знаю, может быть, это звучит глупо, — сказал Адам, — но мне, честное слово, кажется, что брак должен длиться, понимаешь, — что он должен быть надолго. Тебе тоже так кажется? Или нет?
— Да, это одно из преимуществ брака!
— Я рад, что ты так считаешь. Я почему-то не был в этом вверен. А иначе получается какая-то фикция, верно?
— По-моему, тебе надо еще раз съездить к папе, — сказала Нина. — Писать нет смысла. Съезди и скажи ему, что у тебя есть работа, и ты теперь богатый, и что мы поженимся еще до Рождества.
— Ладно. Так и сделаю.
— …Помнишь, как мы в первый раз сговаривались, что ты к нему поедешь?… Вот точно так же… это было на вечере у Арчи Шверта.
— Ох, Нина, сколько же всяких вечеров!
(Костюмированные вечера, дикарские вечера, викторианские вечера, вечера эллинские, ковбойские, русские, цирковые, вечера, на которых меняются костюмами, полуголые вечера в Сент Джонс Вуд, вечера в квартирах и студиях, в домах и на кораблях, в отелях и ночных клубах, на ветряных мельницах и в плавательных бассейнах, школьные вечера, где пьют чай с пышками, безе и консервами из крабов, оксфордские вечера, где пьют старый херес и курят турецкие сигары, скучные балы в Англии, нелепые балы в Шотландии и отвратные танцульки в Париже — все эти сменяющиеся и повторяющие друг друга людские скопища… Эта мерзкая плоть…)
Он прислонился пылающим лбом к прохладной Нининой руке и поцеловал ее в ямку у локтя.
— Понимаю, милый, — сказала она и положила руку ему на голову.
Самодовольной походочкой, заложив руки за фалды, на балкон вышел Рыжик.
— Как дела, друзья? — сказал он. — Здорово здесь все устроено, а?
— Веселитесь, Рыжик?
— Еще бы. Знаете, я тут познакомился с одним отличным малым, зовут Майлз. Парень хоть куда. Такой, понимаете, общительный. Тем-то и хороши настоящие вечера — знакомишься со стоящими людьми. Понимаете, другого за год и то не узнаешь, а вот с таким малым, как Майлз, сразу чувствуешь себя как с закадычным другом.
Автомобили один за другим уже отъезжали от ворот. Мисс Рансибл сказала, что она слышала об одном божественном ночном клубе, где-то около Лестер-сквера, где подают спиртное в любое время суток. Называется — Клуб святого Христофора.
И они все поехали туда в машине Рыжика.
По дороге Рыжик сказал:
— Этот Майлз, он, понимаете, какой-то странный…
Найти Клуб святого Христофора оказалось нелегко.
Туда вела узкая дверь рядом с входом в магазин, и мужчина, который вышел на звонок, придержал дверь ногой и с опаской выглянул на улицу.
Они заплатили по десять шиллингов и расписались выдуманными фамилиями в книге посетителей. Потом спустились в подвальное помещение, где было очень жарко и накурено, вдоль стен стояли шаткие столики на бамбуковых ножках и несколько пар танцевало на блестящем, крытом линолеумом полу.
Женщина в желтом платье со стеклярусом играла на рояле, другая, в красном платье, играла на скрипке.
Они заказали виски. Официант сказал, что очень сожалеет, но виски нет, сегодня — нет. Только что звонили из полиции предупредить, что в любую минуту может быть облава. А вот копчушки он может порекомендовать.
Мисс Рансибл сказала, что это же смешно, копчушками не напьешься, и вообще клуб производит жуткое впечатление.
Рыжик сказал, что, раз уж они здесь, ничего не поделаешь, надо попробовать копчушки. Потом он пригласил Нину танцевать, но она не захотела. Он пригласил мисс Рансибл, но она тоже не захотела.
Потом они ели копчушки.
Один из танцоров (явно успевший проглотить немало виски до того, как в Клуб св. Христофора позвонили из полиции), подошел к их столику и сказал Адаму:
— Вы меня не знаете. Я — Гилмор. Не хочу затевать скандал при дамах, но, когда я вижу перед собой законченного хама, я ему прямо так и говорю.
Адам спросил:
— А вы почему, когда говорите, брызжете слюной?
Гилмор сказал:
— Это у меня врожденный физический недостаток, а то, что вы о нем упомянули, лишний раз доказывает, какой вы законченный хам.
Тут Рыжик сказал:
— И вам того же, дружище. Мое почтение!
Тут Гилмор сказал:
— Рыжик, старина, здорово!
И Рыжик сказал:
— Это же Билл. Вы на Билла не сердитесь. Он молодец. Мы с ним познакомились на пароходе.
Гилмор сказал:
— Кто друг Рыжику, тот друг и мне.
И Гилмор с Адамом пожали друг другу руки.
Гилмор сказал:
— Заведение здесь, в общем, паршивое. Едем лучше ко мне, там хоть выпьем.
И они поехали к Гилмору.
Гилмор жил в однокомнатной квартирке на Райдер-стрит.
Они сидели на кровати и пили виски, а Гилмора тем временем рвало в ванной.
И Рыжик сказал:
— Что ни говори, а лучше Лондона нет места на свете.
В то самое время, когда Адам с Ниной сидели на палубе дирижабля, в доме леди Энкоредж проходил званый вечер совсем иного рода. Этот дом — последний уцелевший образец городской усадьбы английского вельможи — некогда поражал своим величием и царственными размерами, и даже теперь, хотя он стал всего лишь «живописным уголком», зажатым между железобетонных небоскребов, его фасад с колоннами, отодвинутый вглубь от улицы и затененный оградой и деревьями, был так исполнен достоинства, так дышал благородным изяществом и стариной, что у миссис Хул даже дух захватило, когда ее машина въехала на просторный парадный двор.
— Так и кажется, что здесь бродят призраки, правда? — обратилась она к леди Периметр, поднимаясь вместе с нею по лестнице. — Питт, и Фокс, и Берк, и леди Гамильтон, и Красавец Браммел, и доктор Джонсон (при таком стечении знаменитостей, заметим в скобках, там вполне могло произойти что-нибудь достопамятное). Так и видишь их всех — в шелковых чулках и в туфлях с пряжками, правда?
Леди Периметр поднесла к глазам лорнет и обозрела поток гостей, выливавшихся из гардеробных, как клерки в Сити из станций метро. Она увидела мистера Фрабника и лорда Метроленда, обсуждающих билль о цензуре (мудрую и давно назревшую меру: комитет из пяти атеистов будет полномочен уничтожать всякую книгу, картину или фильм, какие они сочтут нежелательными, без таких глупостей, как право защиты или обжалования). Увидела обоих архиепископов, герцога и герцогиню Стэйлских, лорда Вэнбру и леди Метроленд, леди Троббинг, Эдварда Троббинга и миссис Блекуотер, миссис Маус, лорда Мономарка и какого-то роскошного левантинца, а за ними и вокруг них — целый сонм богобоязненных и благонамеренных людей (чье присутствие делало прием в Энкоредж-хаус выдающимся событием года); женщин в туалетах из дорогих и прочных тканей, мужчин в орденах; людей, которые представляли свою родину в чужих краях и посылали своих сыновей умирать за нее на поле боя, людей, ведущих пристойную и умеренную жизнь, не обремененных ни культурой, ни рефлексами, ни стеснительностью, ни спесью, ни честолюбием, независимых в суждениях и не скрывающих своих причуд, добрых людей, которые хорошо относятся к животным и к знающим свое место беднякам, людей храбрых и не слишком разумных — всю эту славную когорту отжившего строя, — чаящих (как чаяли они в день, когда вострубит архангел, предстать перед своим создателем) сердечно и почтительно пожать руку хозяйке дома. Леди Периметр увидела все это и почуяла запах родного стада. Но призраков она не увидела.
— Охота вам вздор молоть, — сказала она.
Но миссис Хуп, медленно поднимаясь по лестнице, продолжала витать в неясных, но восхитительных грезах о золотом восемнадцатом веке.
Присутствие члена королевской фамилии нависло над гостиной, как грозовая туча.
Баронесса Иосивара и премьер-министр встретились еще раз.
— Я дважды на этой неделе пыталась вас увидеть, — сказала она, — но всегда вы были заняты. Мы уезжаем из Лондона. Может быть, вы слышали? Моего мужа перевели в Вашингтон. Он сам желал туда ехать.
— Нет, я понятия не имел. Но как же, баронесса… это поистине печальная весть. Все мы без вас осиротеем.
— Я думала, может быть, я приеду проститься. Какой-нибудь день на будущей неделе.
— О да, разумеется, это было бы чудесно. Приезжайте с мужем к обеду. Я завтра же скажу моему секретарю, чтобы он это устроил.
— В Лондоне было приятно жить… вы были добры…
— Что вы, что вы. Я просто не знаю, что бы мы в Лондоне делали, если бы не наши заграничные гости.
— Будь ты проклят, свиная твоя рожа, — внезапно сказала баронесса и отошла от него.
Мистер Фрабник ошарашенно поглядел ей вслед, потом сказал: «Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и с мест они не сойдут» (довольно-таки жалкий вывод в устах бывшего министра иностранных дел).
Эдвард Троббинг стоял у окна со старшей дочерью герцогини Стэйлской. Выше его ростом на несколько дюймов, она слегка наклонилась, чтобы не пропустить ни слова из его впечатлений о поездке в колонии. На ней было платье из тех, что только герцогини умеют добывать для своих старших дочерей, — собранное в складки и буфы и украшенное старинным кружевом в самых неожиданных местах, одеяние, из которого ее бледная красота выглядывала, как из неаккуратно завязанного пакета. Ни румяна, ни губная помада, ни пудра не участвовали в ее наряде, а бесцветные нестриженые волосы были собраны в узел и перетянуты на лбу широкой лентой. Из ушей ее свисали длинные жемчужные серьги, шею плотно охватывал жемчужный ошейничек. В свете считали, что теперь, когда Эдвард Троббинг вернулся в Англию, эти двое вот-вот будут объявлены женихом и невестой.
Леди Урсула не возражала, но и не радовалась. Когда она вообще думала о замужестве (что случалось редко, потому что мысли ее занимали главным образом клуб для девушек в Ист-Энде и младший брат, учившийся в школе), то всегда жалела, что рождение детей сопряжено с такими ужасными страданиями. Замужние подруги говорили об этом чуть ли не со смаком, а ее мать — с благоговейным трепетом.
Эдвард до сих пор не делал предложения не столько потому, что сомневался в ответе, сколько из врожденной медлительности. Он решил уточнить ситуацию к Рождеству, и этого было достаточно. Он не сомневался, что удобный случай скоро будет для него изыскан. Жениться нужно, рассуждал он, и предпочтительно до того, как ему исполнится тридцать лет. В присутствии Урсулы он порой испытывал волнение собственника, вызванное ее хрупкой и холодной красотой; бывало, что, читая какой-нибудь непристойный роман или насмотревшись любовных сцен в спектакле, он мысленно — и обычно с нелепейшими результатами — пробовал подставить Урсулу на место героини. Он не сомневался, что влюблен. Возможно, думалось ему, он сегодня же сделает предложение — и с плеч долой. Дать ему повод объясниться — дело Урсулы. А пока что он беседовал с ней о проблеме рабочей силы в Монреале — на этот счет он располагал сведениями обширными и точными.
— Приятный, серьезный молодой человек, — говорила о нем герцогиня, — и одно удовольствие видеть юношу и девушку, так искренне расположенных друг к другу. Разумеется, ничего еще не решено, но из вчерашнего разговора с Фанни Троббинг я поняла, что он уже затрагивал с ней эту тему. Думаю, что к Рождеству все будет улажено. Они, конечно, небогаты, но этого теперь ждать не приходится, а о его способностях мистер Фрабник отзывается очень лестно. Один из самых многообещающих людей в своей партии.
— Что ж, — сказала леди Периметр, — дело ваше, но я бы особенно не мечтала, чтобы моя дочь вошла в это семейство. Все они с гнильцой. Что отец, что сестра, а уж про младшего брата я такое слышу…
— Я не говорю, что сама выбрала бы для нее такого мужа. У всех Злопрактисов кровь подпорчена, в этом вы правы… но ведь знаете, дети нынче такие упрямые, и к тому же они так любят друг друга… а молодых людей сейчас так мало. Я, по крайней мере, их как-то совсем не вижу.
— Поганцы все как один, — сказала леди Периметр.
— И они, говорят, устраивают такие ужасные вечера. Просто не знаю, что бы я стала делать, если бы Урсула захотела там бывать… Несчастные Казмы…
— Я бы на месте Виолы Казм выпорола эту девицу, чтобы вела себя прилично.
Разговор о молодом поколении растекался по гостиной, заразительный, как зевота. Член королевской фамилии отметил отсутствие молодежи, и те счастливые матери, которым удалось привести на буксире хоть одну послушную дочь, пыжились от гордости и сострадания.
— Я слышала, у них сегодня опять какой-то вечер, — сказала миссис Маус. — На этот раз в аэроплане.
— В аэроплане? Это просто поразительно.
— Мэри мне, конечно, никогда ничего не рассказывает, но ее горничная говорила моей горничной…
— Меня вот что интригует, Китти, милочка, чем они, собственно занимаются на этих своих вечерах? Как тебе кажется, они…
— Судя по тому, что я слышу, дорогая, думаю, что да.
— Ах, вернуть бы молодость, Китти! Как вспомнишь, на какие ухищрения нам приходилось идти, чтобы хоть отчасти согрешить… эти встречи под утро… а в соседней комнате спит мама…
— И притом, дорогая, я далеко не уверена, что они ценят это так, как ценили бы мы… молодежь так уверена в своих правах…
— Si jeunesse savait.
— Si viellesse pouvait [12], Китти!
Позже в тот же вечер мистер Фрабник стоял в почти опустевшей столовой, допивая бокал шампанского. Еще один эпизод в его жизни закончен, еще раз счастье поманило и скрылось. Бедный мистер Фрабник, думал мистер Фрабник, бедный, бедный старый Фрабник, раз за разом на грани высокой истины, на пороге какого-то преображения, и каждый раз — осечка. Всего лишь премьер-министр, не более, заклеванный коллегами, источник дохода для низкопробных карикатуристов. Наделен ли мистер Фрабник бессмертной душой? Есть ли у него крылья, свободен ли он, рожден ли для вечности? Он отпил шампанского, потрогал ленту ордена «За заслуги» и смирился с земной юдолью.
Вскоре к нему подошли лорд Метроленд и отец Ротшильд.
— Марго уехала — на какой-то вечер в дирижабле. Я битый час проговорил с леди Энкоредж о молодом поколении.
— Сегодня все, по-моему, только и говорят, что о молодом поколении. Скучнейшая тема.
— Не скажите. В конце концов, какой во всем этом смысл, если некому будет продолжать?
— В чем именно? — Мистер Фрабник оглядел столовую, где уже не осталось никого, кроме двух лакеев — они стояли, прислонясь к стене, и казались такими же восковыми, как цветы, присланные утром из загородных оранжерей. — В чем во всем какой смысл?
— Ну, в управлении страной.
— По себе скажу — почти никакого. Работаешь как вол, а взамен получаешь ничтожно мало. Если молодые придумают, как обойтись без этого, можно только пожелать им удачи.
— Мне ясно, о чем говорит Метроленд, — сказал отец Ротшильд.
— А мне, хоть убей, не ясно. У самого у меня детей нет, и слава богу. Я их не понимаю и не стремлюсь понять. После войны у них были такие возможности, как ни у одного другого поколения. Им выпало на долю спасти и усовершенствовать целую цивилизацию, а они с утра до ночи дурака валяют. Вы поймите меня правильно, я всей душой за то, чтобы они веселились. Викторианские взгляды действительно были, пожалуй, слишком строги. При всем уважении к вашему сану, Ротшильд, я должен сказать, что в молодые годы немножко распутства — вполне естественно. Но в нынешней молодежи есть что-то порочное. Чего стоит хотя бы ваш пасынок, Метроленд, или дочь несчастного лорда Казма, или брат Эдварда Троббинга.
— А вам не кажется, — мягко спросил отец Ротшильд, — что это в какой-то мере историческое явление? Я не думаю, что людям когда-либо хотелось потерять веру — будь то религиозную или иную. Среди моих знакомых очень мало молодежи, но мне сдается, что все они одержимы прямо-таки роковой тягой к непреходящим ценностям. И участившиеся разводы это подтверждают… Людям сейчас недостаточно жить кое-как, со дня на день… И это словечко «фикция», которое они так любят… Они не хотят довольствоваться малым. Мой наставник когда-то говаривал: «Если что-нибудь вообще стоит делать, так стоит делать это хорошо». Моя церковь проповедует то же самое уже несколько веков, пусть не этими словами. А нынешняя молодежь подходит к делу с другой стороны, и, как знать, может быть, она и права. Молодые говорят: «Если что-нибудь не стоит делать хорошо, так вообще не стоит этого делать». Это сильно затрудняет им жизнь.
— О господи, еще бы! Идиотское правило. Если не делать того, что не стоит делать хорошо, тогда что человеку делать? Я всегда считал, что успех в жизни зависит от умения точно определить, какой минимум усилий требуется для каждого дела… распределение энергии… А обо мне, думаю, почти каждый скажет, что я достиг успеха в жизни.
— Да, Фрабник, вероятно, так, — сказал отец Ротшильд, глядя на него чуть насмешливо.
Но обвиняющий голос в сердце премьер-министра уже умолк. Ничто так не успокаивает, как споры. Стоит выразить свою мысль словами, и все становится просто.
— И, кстати сказать, что значит «историческое» явление?
— Ну, того же порядка, как предстоящая нам война.
— Какая война?! — вскинулся премьер-министр. — Никто мне ничего не говорил про войну. Уж кому-кому, а мне-то следовало сказать. Будь я проклят, — заявил он с вызовом, — если они начнут войну, не посоветовавшись со мной. Что проку от кабинета, если среди его членов нет ни капли взаимного доверия? И главное, зачем нам нужна война?
— В том-то и дело. Никто о ней не говорит, и никому она не нужна. Никто о ней не говорит именно потому, что она никому не нужна. Все боятся проронить о ней хоть слово.
— Но, черт возьми, если она никому не нужна, кто может ее начать?
— Войны в наши дни начинаются не потому, что они кому-то нужны. Мы все жаждем мира и заполняем газеты конференциями по разоружению и арбитражу, но весь наш мировой порядок сверху донизу неустойчив, и скоро мы все, не переставая кричать о наших мирных устремлениях, опять ринемся навстречу гибели.
— Что ж, вам, по-видимому, все об этом известно, — сказал мистер Фрабник. — И я повторяю: следовало мне сказать раньше. Надо полагать, теперь нам навяжут коалицию с этим пустомелей Брауном.
— Воля ваша, — сказал лорд Метроленд, — но я не вижу, как можно этим объяснить, почему мой пасынок пьет горькую и путается с негритянкой.
— Думается, одно с другим связано, — сказал отец Ротшильд. — Однако все это очень сложно.
На том они расстались.
Отец Ротшильд натянул во дворе комбинезон и, оседлав свой мотоцикл, исчез во мраке, ибо ему, до того как лечь спать, предстояло еще несколько деловых свиданий.
Лорд Метроленд вышел на улицу немного удрученный. Машину забрала Марго, но до Хилл-стрит было не больше пяти минут ходу. Он закурил толстую сигару и уткнул подбородок в барашковый воротник пальто в полном соответствии с ходячим представлением о завидном довольстве. Но на сердце у него было тяжело. Сколько вздора наговорил этот Ротшильд. По крайней мере надо надеяться, что это вздор.
На беду, он приблизился к своему дому в ту минуту, когда Питер Пастмастер пытался попасть ключом в замок, и они вошли вместе. На столике в холле лорд Метроленд заметил цилиндр. «Не иначе как юный Трампингтон», — подумал он. Его пасынок даже не взглянул на него, а сразу направился к лестнице, пошатываясь, в сдвинутой на затылок шляпе, не выпуская из рук зонта.
— Спокойной ночи, Питер, — сказал лорд Метроленд.
— Ну вас к дьяволу, — ответил пасынок хрипло. Потом, повернувшись на каблуках, добавил: — Я завтра на несколько недель уезжаю за границу. Передайте матери, ладно?
— Желаю хорошо провести время, — сказал лорд Метроленд. — К сожалению, погода сейчас везде такая же холодная, как у нас. Может быть, хочешь взять яхту? Она все равно стоит без дела.
— Ну вас к дьяволу.
Лорд Метроленд вошел в свой кабинет докурить сигару. Неловко было бы столкнуться с Трампингтоном на лестнице. Он опустился в очень покойное кресло… порядок неустойчив сверху донизу, сказал Ротшильд, сверху донизу… Он окинул взглядом кабинет, увидел ряды книг на полках — «Словарь национальных биографий», «Британская энциклопедия» в старом, очень громоздком издании, «Кто есть кто», Дебретт, Берк, Уитакер, несколько томов парламентских отчетов, несколько атласов и «Синих книг», — в углу сейф с бронзовой ручкой, покрашенный в зеленый цвет, его письменный стол, стол секретаря, несколько очень покойных кресел и несколько очень строгих стульев, поднос с графинами и тарелка с сэндвичами — ужин, как всегда оставленный для него на столе… неустойчив сверху донизу? Как бы не так. Только бедняга Фрабник мог поверить выдумкам этого шарлатана-иезуита.
Он услышал, как отворилась парадная дверь и тут же захлопнулась за Элестером Трампингтоном.
Тогда он встал и неслышно поднялся в спальню, а сигара осталась дотлевать в пепельнице, наполняя комнату ароматным дымом.
За четверть мили от него герцогиня Стэйлская зашла, как всегда, проститься на ночь со своей старшей дочерью. Сначала она слегка прикрыла окно, потому что ночь была холодная и сырая. Потом подошла к постели и разгладила подушку.
— Спокойной ночи, моя девочка, — сказала она. — Ты сегодня выглядела на редкость авантажно.
Леди Урсула была в белой батистовой ночной рубашке на кокетке и с длинными рукавами. Волосы она заплела в две косы.
— Мама, — сказала она, — Эдвард сделал мне предложение.
— Деточка моя! Какая ты странная, что же ты раньше мне не сказала? Неужели боялась? Ты же знаешь, мы с папой на все готовы, лишь бы наша маленькая была счастлива.
— А я ему отказала… Мне очень жаль.
— Ну что ты, милая, о чем же тут жалеть? Предоставь это маме. Утром я все для тебя улажу.
— Но, мама, я не хочу выходить за него замуж. Я сама не знала, пока он не заговорил. Вы же знаете, я всегда думала, что выйду за него. А тут, когда он объяснился… я просто не могла.
— Полно, девочка, не волнуйся. Ты ведь отлично знаешь, что мы с папой никогда не станем тебя неволить. В таком деле решать можешь только ты. Ведь речь идет о твоей жизни, а не о нашей, Урсула, о твоем счастье. Но я тебе все же советую выйти за Эдварда.
— Но я не хочу, мама… я не могу… я умру.
— Ну-ну, моя крошечка, успокойся. Ты же знаешь, мы с папой хотим одного — чтобы ты была счастлива. Никто не собирается мою девочку неволить… Папа утром повидается с Эдвардом и все уладит… Дорогая леди Энкоредж только сегодня говорила, какая ты будешь красавица в подвенечном платье.
— Но, мама…
— Ни слова больше, моя прелесть. Время позднее, а тебе надо завтра быть особенно авантажной для Эдварда.
Герцогиня тихонько прикрыла дверь и прошла к себе в спальню. Ее супруг уже переоделся в халат.
— Эндрю!
— Что такое, милая? Я читаю молитвы.
— Эдвард сделал Урсуле предложение.
— Ах, вот что.
— Неужели ты не рад?
— Я же тебе сказал, дорогая, я пытаюсь читать молитвы.
— Милые дети, они так счастливы, просто сердце радуется на них глядя.
Глава 9
На следующий день в начале второго Адам позвонил Нине.
— Нина, радость моя, ты не спишь?
— Я спала, но…
— Послушай, ты правда хочешь, чтобы я сегодня съездил к твоему папе?
— А разве мы решили, что тебе надо к нему съездить?
— Да.
— Зачем?
— Сказать, что у меня есть работа и теперь мы можем пожениться.
— Да, помню… конечно, съезди к нему, милый. Пожениться — это было бы хорошо.
— Но я вот что думаю… как же моя страничка?
— Какая страничка, милый?
— Для «Эксцесса»… ну, понимаешь, моя работа.
— Ах, да… а знаешь что, давай мы с Рыжиком ее напишем?
— Не скучно это тебе будет?
— Это будет божественно. Я в точности знаю, про что ты пишешь и как, и Рыжик, наверно, тоже теперь уже знает, бедняжка… Как он вчера наслаждался… Ну, я еще посплю… мне так нездоровится… До свидания, моя радость.
Адам позавтракал в ресторане. За соседним столиком сидели Агата Рансибл и Арчи Шверт. Она сказала, что завтра все едут на какие-то автомобильные гонки. Адам с Ниной тоже, наверно, поедут? Адам сказал, что да, поедут. Потом он отправился в Эйлсбери.
Напротив него в купе сидели две женщины — они тоже говорили о молодом поколении.
— …и очень это хорошее место для такого желторотого парнишки, я ему так и сказала, и отец говорил. «Тебе, говорю, радоваться надо, что получил такое хорошее место, сейчас, говорю, знаешь, как трудно место получить, не то что такое, а любое». Вот у моей соседки, миссис Хемингуэй, сын уже полтора года как в школу не ходит, сидит дома, бьет баклуши и заочно на инженера учится. «Место, говорю, очень хорошее, а чтобы работа интересная была — этого, говорю, не бывает. Со временем привыкнешь, только и всего, вот как отец привык, да еще будешь скучать в свободное время». Альфред-то мой, как поедет в отпуск, просто не знает, куда себя девать. Посмотрит на море, скажет: «Все-таки разнообразие» — и тут же начинает гадать, что у них там в конторе делается. Да, все это я Бобу выложила, а толку чуть. Заладил свое — хочу, мол, торговать автомобилями. Я ему говорю, торговать автомобилями — это для тех, у кого протекция есть, а ну как дело не пойдет, тебе-то на кого тогда надеяться? Так нет, подавай ему автомобили, да и то сказать, лучше бы ему не жить дома. С отцом они не ладят, и трудно это, когда двое мужчин в доме и обоим одновременно в ванную нужно, и понятно, что Бобу хочется самостоятельности, раз он теперь сам зарабатывает. Но как ему быть? На свое нынешнее жалованье ему одному не прожить, да если б и можно было, хорошего в этом мало, молод ведь, долго ли попасть в беду. Я его новых дружков не одобряю, толкутся у нас с утра до ночи, знаете, как у них принято. Он с ними знакомится в хоккейном клубе, где по субботам бывает. Зарабатывают они почти все больше, чем он, либо просто кажется, что у них свободных денег больше, а в такие молодые годы вредно с теми водиться, у кого денег больше. Начинают завидовать, обиженными себя считают. Мне одно время казалось, что Боб неравнодушен к Бетти Рейнелдс, знаете, дочка миссис Рейнелдс, очень они хорошие люди, и в теннис все с ней играл, и соседи заметили, как они дружат, а теперь он на нее и не смотрит, все со своими хоккейными дружками. Я ему как-то в субботу говорю, давай, мол, пригласим Бетти к чаю, а он мне: «Приглашай, если хочешь». Она и пришла, хорошенькая такая, прямо картинка, а он что выкинул? Ушел из дому и до самого ужина пропадал. Такого, само собой, ни одна девушка не стерпит, она теперь, можно сказать, обручилась с сыном миссис Андерсон, тем, что радиоприемниками торгует.
— А взять нашу Лилли. Вы знаете, как ей хотелось стать маникюршей. Отцу это не нравилось, он долгое время и слышать об этом не хотел. Говорил, что это только предлог, чтобы держаться за руки, но я ему сказала: «Если девочке этого хочется и если она может этим хорошо заработать, так надо родной дочери доверять, а не становиться ей поперек дороги». Я-то, понимаете, держусь современных взглядов. Я так ему и сказала: «Мы не в викторианское время живем». Ну и теперь у нее очень приятная работа. На Бонд-стрит, и отношение к ней хорошее, и никаких жалоб мы не слышим, только вот человек, с которым она там познакомилась… он ей в отцы годится… во всяком случае, уже в летах, но очень интересный — седые усики, такие аккуратненькие, настоящий джентльмен, и автомобиль у него «моррис-оксфорд». По воскресеньям он возит ее кататься, а иногда заходит за ней к концу работы и водит в кино и со мной и с мужем моим всегда так вежливо разговаривает, от такого человека, как он, чего же другого и ждать, а на днях он нам всем прислал билеты в театр. Обходительный такой, меня, поверите ли, называет «ма»… Надеюсь, что ничего дурного тут нет…
— Ну, а наш Боб…
В Беркемстеде они вышли, и в купе сел мужчина в светло-коричневом костюме, достал записную книжечку и вечную ручку и стал решать задачки, которые у него, судя по всему, никак не решались. «Может быть, он все отдал своей дочери?» — подумал Адам.
В Даутинг он поехал автобусом, который довез его до деревни с заправочными станциями. Оттуда пешком дошел до ворот парка. К его удивлению, ворота были открыты настежь, и, приближаясь к ним, он чуть не попал под огромную разболтанную машину, въехавшую в парк на большой скорости; на секунду перед ним мелькнули два злобных женских глаза, с презрением глянувшие на него из заднего окошечка. Еще больше удивило его объявление, повешенное на центральном столбе ворот: «Не входить, кроме как по делу». Пока он шел к дому, его с грохотом обогнали два грузовика. Потом появился какой-то человек с красным флажком.
— Эй, здесь прохода нет. Перед домом сейчас начнут, уже зарядили. Кругом ступайте, коли надо, мимо конюшен.
Лениво прикидывая, о каком оружии идет речь, Адам двинулся по указанной ему тропинке. Он ожидал услышать выстрелы, но до слуха его донеслись только отдаленные крики да еще как будто звуки струнного оркестра, и он заключил, что день для охоты выдался у полковника неудачный. Так или иначе, охотиться возле собственного дома, и притом под аккомпанемент струнного оркестра, — занятие странноватое, и Адам по привычке стал сочинять заметку для «Хроники»:
«Полковник Блаунт, отец прелестной Нины Блаунт, упомянутой выше, теперь лишь изредка наезжает в Лондон. Зато он увлекается охотой в своем поместье в Бакингемшире. Его охотничьи угодья, едва ли не самые богатые дичью во всем графстве, расположены прямо перед домом, и ходит много забавных анекдотов о гостях, нежданно-негаданно оказавшихся на линии огня… Одно из чудачеств полковника Блаунта состоит в том, что он стреляет особенно метко под звуки скрипки и виолончели. (Сходной причудой известен мистер Рыжик Литлджон — тот может ловить рыбу только под звуки флажолета…)»
Не прошел он и двухсот шагов в обход дома, как его опять остановили. На этот раз путь ему преградил человек в сутане, в необъятных епископских рукавах из белого батиста и алой мантии с капюшоном. Он курил сигару.
— Какого черта вы здесь околачиваетесь? — спросил епископ.
— Мне надо повидать полковника Блаунта.
— Нельзя. За него там как раз принялись.
— Боже мой! А что он такого сделал?
— Да ничего особенного, он просто один из веслеанцев — мы сегодня хотим покончить с толпой, благо погода держится.
Адам молчал, подавленный столь бесчеловечным фанатизмом.
— А вы-то к старичку по какому делу?
— Теперь это, пожалуй, не имеет значения… Я хотел ему рассказать, что работаю в «Эксцессе».
— Серьезно? Что же вы сразу не сказали? Всегда приятно встретиться с джентльменом прессы. Курите?
Из-за епископской пазухи появился большой портсигар.
— Я, сами понимаете, епископ Филпотс. — Он подхватил Адама под руку, рискуя смять свой широченный рукав. — Вам, вероятно, интересно посмотреть, что там делается? Сейчас они, скорее всего, допевают последний гимн. Нелегкая работенка, скажу по чести, и организация не всегда на высоте. Вот хоть вчера — заставили мисс Латуш прождать полдня, а когда взялись за нее, свет был такой паршивый, что совсем ее изуродовали — мы вечером, после обеда, прокрутили все кусочки, — таких безобразных ошметков вы в жизни не видывали, многие даже узнать невозможно. Мы не решились показать их ее мужу — он был бы вне себя — несколько штук отобрали и сохраним, а остальное выкинули. Вы что это, вас не тошнит ли? Как сразу позеленели. Или сигара слишком крепкая?
— А она… она тоже была веслеанка?
— Дорогой мой, она играет главную роль. Она — Селина, графиня Хантингтонская… Ну вот, отсюда вам будет видно, как они работают.
Они обогнули крыло дома и теперь могли обозреть лужайку перед главным фасадом, где царило деловитое оживление. Десятка полтора мужчин и женщин в костюмах восемнадцатого века стояли в круг и громко пели; стоявший в центре круга невысокий человек в длинном пасторском одеянии и белом парике дирижировал хором. Неподалеку играл струнный оркестр, а вокруг поющих толпились мужчины без пиджаков, с мегафонами, кинокамерами, микрофонами, связками бумаг и дуговыми лампами. В стороне, дожидаясь своей очереди, стояли карета четверкой, отряд солдат и группа рабочих с изготовленными из холста и досок секциями поперечного нефа Экзетерского собора.
— Полковник где-то там, среди поющих, — сказал епископ. — Он чуть не со слезами просил, чтобы его взяли статистом, а поскольку он предоставил нам свой дом за бесценок, Айзекс решил — пусть побалуется. По-моему, он еще никогда в жизни не был так счастлив.
Пение смолкло.
— Ну, так, — сказал один из мужчин с мегафонами. — Можете расходиться. Теперь будем крутить дуэль. Мне нужны два статиста — нести труп. Остальные на сегодня свободны.
От кучки молящихся отделился старик в кожаном фартуке, шерстяных чулках и льняном парике.
— Прошу вас, мистер Айзекс, — сказал он. — Можно мне нести труп?
— Не возражаю, полковник. Бегите в дом и скажите, пусть вам выдадут крестьянскую блузу и вилы.
— Большое, большое спасибо, — сказал полковник Блаунт и рысцой пустился к дому. Но тут же остановился. — А может быть… может быть, мне бы лучше шпагу?
— Нет, вилы, да поторапливайтесь, не то вообще не позволю нести труп. Эй, кто-нибудь, найдите мне мисс Латуш.
Та молодая женщина, что обогнала Адама в автомобиле, спустилась с крыльца в шляпе с перьями, амазонке и накидке, расшитой тесьмой. В руке она держала охотничью плетку. Лицо было покрыто слоем желтого крема.
— Мистер Айзекс, будет у меня в этой сцене лошадь или не будет? Я спросила у Берти, а он говорит, что все лошади нужны для кареты.
— К сожалению, Эффи, не будет, и вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. Вы же знаете, у нас всего четыре лошади, и вы сами видели, что получилось, когда мы попробовали сдвинуть карету парой. Так что нечего лезть в бутылку. Вы идете через поле пешком.
— У-у, жидюга, — сказала мисс Эффи Латуш.
— Беда в том, — сказал епископ, — что нам для этого фильма не хватает капитала. Просто сердце кровью обливается. У нас первоклассные исполнители, первоклассный режиссер, первоклассная натура, первоклассный сценарий, и все стопорится из-за нехватки нескольких сот фунтов. Можно ли требовать от мисс Латуш, чтобы она играла в полную силу, если ей не дают лошадь? Ни одна женщина не стерпит такого обращения. Я бы на месте Айзекса уж лучше обошелся без кареты. Какой смысл приглашать звезду, если не можешь обеспечить ей приличного обращения? Айзекс всех против себя восстанавливает. Для моей сцены в соборе хотел дать всего двадцать пять статистов. Но вы ведь приехали, чтобы написать о нас, так я понимаю?… Сейчас позову Айзекса, пусть он вас проинформирует… Эй, Айзекс!
— А?
— К вам тут из «Дейли эксцесс».
— Где?
— Тут.
— Иду. — Он надел пиджак, застегнул его на талии и зашагал через лужайку, приветственно протягивая руку. Адам пожал эту руку и словно почувствовал под пальцами целую пригоршню колец. — Рад познакомиться, мистер. Спрашивайте про фильм все, что вас интересует, я для того тут и нахожусь, чтобы отвечать. Фамилию мою запомнили? Вот карточка. В углу — название фирмы. Не то, которое зачеркнуто. То, которое надписано сверху. «Британская компания Вундерфильм». Так вот, эта картина, — продолжал он, видимо повторяя уже не раз произнесенную речь, — из которой вы только что видели один небольшой эпизод, знаменует собой новый этап в развитии британской кинематографии. Это самый значительный звуковой суперрелигиозный фильм, созданный целиком на британской земле силами британских актеров и режиссуры и на британские деньги. С начала до конца, невзирая на трудности и расходы, мы пользовались советами ученых консультантов — историков и богословов. Сделано решительно все, чтобы добиться максимальной достоверности каждой детали. Жизнь выдающегося социального и религиозного реформатора Джона Весли[13] впервые будет показана британскому зрителю во всем ее человечном и трагическом величии… Да впрочем, у меня это все написано. Я распоряжусь, чтобы вам дали экземпляр текста. Пойдемте смотреть дуэль… Вон Весли и Уайтфилд, сейчас они начнут. Разумеется, это не они сами. Это два инструктора по фехтованию, которых мы пригласили из спортивной школы в Эйлсбери. Вот это я и имею в виду, когда говорю, что мы не жалеем затрат, лишь бы детали были достоверны. За полдня платим им по десять шиллингов.
— Но разве Весли и Уайтфилд дрались на дуэли?
— Документально это, правда, не установлено, но известно, что они поссорились, а ссоры в те времена только одним способом и разрешались. Они, понимаете, оба влюблены в Селину, графиню Хантингдонскую. Она хочет предотвратить дуэль, но поздно. Уайтфилд успел уехать в карете, а Весли, раненый, распростерт на земле. Это будет потрясающая сцена. Она увозит его к себе и выхаживает. Говорю вам, это сделает эпоху в истории кино. Вы знаете, сколько на Британских островах проживает веслеанцев? Нет? Я тоже забыл, но мне говорили, и это просто удивительно. И все они как один пойдут смотреть этот фильм, а потом будут обсуждать его в своих молельнях. Мы записали куски из проповедей Весли и поем гимны только его сочинения. Я рад, что ваша газета проявила интерес. Можете передать там от меня, что мы готовим нечто грандиозное. Но есть одна вещь, — сказал мистер Айзекс, внезапно переходя на доверительный тон, — о которой я не стал бы рассказывать направо и налево. Вы-то, думается, меня поймете, потому что вы видели нашу работу и в состоянии оценить ее масштаб и представить себе, каких она требует расходов. Да что там, я одной мисс Латуш плачу десять с лишним фунтов в неделю. И не скрою от вас, мы немножко поиздержались. Успех нас ждет колоссальный, когда фильм будет закончен, если он будет закончен. Так вот, предположим, что найдется кто-то — вы, например, или кто-нибудь из ваших знакомых, — кто захотел бы хорошо поместить небольшой капитал — скажем, тысячу фунтов. Я не против того, чтобы продать ему половинную долю. Риска, заметьте, никакого, дело абсолютно верное. Предложи я такое на открытом рынке, у меня бы отбоя не было от желающих. Но я на это не иду и вот почему. Компания наша британская, и я не хочу, чтобы к ней примазались всякие иностранные спекулянты. А стоит выпустить акции на открытый рынок, их может купить кто угодно. И зачем капиталу лежать без движения и приносить четыре с половиной или пять процентов, когда его за полгода можно удвоить?
— Ко мне обращаться за деньгами бесполезно, — сказал Адам. — Как бы мне повидать полковника Блаунта?
— Если я что ненавижу, — сказал мистер Айзекс, — так это когда на моих глазах человек упускает блестящую возможность. А теперь послушайте, что я вам предложу. Я вижу, что этот фильм вас интересует. Так вот, давайте я вам его продам чохом — всю отснятую пленку, контракты с актерами, авторское право на сценарий — и все за пятьсот фунтов. Тогда вам останется только закончить его, и вы станете богатым человеком, а я буду рвать на себе волосы — зачем не продержался дольше. Ну как?
— Вы очень любезны, но, право же, мне это сейчас не по средствам.
— Как хотите, — сказал мистер Айзекс беспечно. — Многим это очень даже по средствам, и они ухватились бы за такое предложение, я просто подумал, что скажу вам первому, потому что вижу — человек порядочный… Стойте, я вот что сделаю. Уступлю вам все за четыреста. Согласитесь, цена сходная. Только для вас.
— Мне очень жаль, мистер Айзекс, но я не для того сюда приехал, чтобы купить ваш фильм. Мне нужно повидать полковника Блаунта.
— Никогда бы не поверил, что такой человек, как вы, и вдруг откажется от своего счастья. Ладно, даю вам еще один шанс, но уж после этого, имейте в виду, ставлю точку. Уступаю все за триста пятьдесят. Не хотите — не надо. Это мое последнее слово. Разумеется, вы не обязаны покупать, — добавил мистер Айзекс надменно, — но уверяю вас, что, если не купите, будете жалеть всю жизнь.
— Вы уж меня извините, — сказал Адам. — Предложение ваше в высшей степени великодушно, но дело в том, что я вообще не хочу покупать фильмы.
— В таком случае, — сказал мистер Айзекс, — я возвращаюсь к своей работе.
«Британская компания Вундерфильм» трудилась до самого вечера. Адам смотрел и терпеливо ждал. Он видел, как инструкторы по фехтованию в длинных черных сюртуках и белых платках вокруг шей храбро делали выпады и парировали удары, пока один из них не упал; тогда съемку прекратили, и его место занял ведущий актер (который из-за скудости гардероба вынужден был на время дуэли дать дублеру свой костюм). Уайтфилд занял место (и надел парик) победителя и бросился к карете. Из боскета появилась Эффи Латуш, упорно не выпускавшая из рук плетку. Сняли крупным планом сначала Эффи, потом Весли, потом Эффи и Весли вместе. Потом появились полковник Блаунт и другой статист, одетые крестьянами, и унесли раненого проповедника в дом. Все это заняло немало времени, потому что действие то и дело прерывалось из-за разных мелких неполадок, а один раз, когда вся сцена прошла безупречно, оказалось, что оператор забыл перезарядить пленку («Просто не понимаю, мистер Айзекс, как я мог допустить такую оплошность»). Наконец лошадей выпрягли из кареты, на них сели гренадеры и карьером ускакали прочь по подъездной аллее, что и было запечатлено операторами.
— Отряд армия Камберленда-Мясника[14], — объяснил мистер Айзекс. — Всегда полезно бывает создать атмосферу. Повышает познавательную ценность. К тому же за лошадей мы платим поденно, так почему не выжать из них все, что можно. Не понадобятся для «Весли» — приспособим еще куда-нибудь. Сто футов лошадей на скаку всегда пригодятся.
Когда все было закончено, Адам поговорил-таки с полковником Блаунтом, но толку от этого разговора не получилось.
— К сожалению, я могу вам уделить лишь очень немного времени, — сказал полковник. — Я, видите ли, сам сейчас пишу сценарий. Сколько я понимаю, вы из «Эксцесса» и хотите писать про наш фильм? Фильм замечательный, вы как считаете? Я-то, впрочем, имею к нему мало отношения. Я сдал им дом и сыграл несколько мелких ролей, в толпе. Правда, платить за это мне не придется.
— Ну, еще бы.
— Дорогой мой, все остальные платят. А я немного скостил с аренды за дом, но платить не плачу. Я уж, можно сказать, почти профессионал. Понимаете, мистер Айзекс — председатель Национальной Академии Кинематографического Искусства. У него небольшая контора на Эджуэр-роуд, всего одна комната, там он интервьюирует кандидатов. Если он усматривает в них какие-то задатки — а он очень требователен, — то берет человека в ученики. Мистер Айзекс считает, что лучший вид обучения — это практика, так что он сразу ставит какой-нибудь фильм и профессионалам платит из тех денег, что получает с учеников. Очень простая и разумная система. В «Джоне Весли» всех играют ученики, кроме самого Весли, Уайтфилда, епископа, ну и, конечно, мисс Латуш — она жена того человека, который сидит в конторе на Эджуэр-роуд, когда мистер Айзеке в отъезде. Даже операторы пока только учатся. Все получается так интересно… У мистера Айзекса это третий фильм. Первый не удался, потому что мистер Айзекс доверил одному из учеников проявить пленку. Убытки тот, разумеется, возместил — это входит в контракт, который они все подписывают, — но картина погибла, и для мистера Айзекса это было ужасно, он говорит, что готов был совсем махнуть рукой на кино. Однако потом пришло еще много учеников, и они сделали другой фильм, очень удачный. По словам мистера Айзекса, он произвел настоящий переворот в искусстве кино, но его подвергли бойкоту — из профессиональной зависти. Ни один кинематограф не хотел его показывать. Теперь, впрочем, это улажено. Мистер Айзекс проник в верхи, и теперь-то «Вундерфильм» наверняка займет ведущее место в нашей стране. Более того, он предложил мне половинную долю в компании, за пять тысяч фунтов. Это в высшей степени великодушно, но он говорит, что ему нужен в правлении человек, который был бы способен оценить актерскую игру как профессионал. Очень странно, но мой банкир решительно возражает против такого помещения капитала. Даже чинит мне всяческие препятствия. Но мистеру Айзексу, вероятно, не хотелось бы, чтобы вы писали об этом в вашей газете.
— Я-то хотел с вами поговорить относительно вашей дочери, Нины.
— О, она в фильме не участвует. Я вообще далеко не уверен, что у нее есть талант. Удивительно, как такие вещи иногда передаются через поколение. Мой отец, например, был очень плохим актером, хотя всегда играл главную роль, когда мы на Рождестве ставили любительские спектакли. Честное слово, иногда он выглядел просто нелепо. Помню, однажды он изображал пародию на Генри Ирвинга в «Колоколах»[15]…
— Боюсь, вы меня не помните, сэр, но я приезжал к вам недели две назад, насчет Нины. Она просила меня рассказать вам, что теперь я — мистер Таратор.
— Таратор?… Нет, голубчик, что-то не помню. Память у меня не та, что была… Знавал я одного каноника Таратора — это да. Мы с ним учились в Нью-колледже… странная такая фамилия.
— Мистер Таратор из «Дейли эксцесс».
— Нет-нет, мой милый, уверяю вас, вы ошибаетесь. Он был рукоположен вскоре после того, как я кончил колледж, и служил где-то за границей, кажется на Бермудских островах. Потом вернулся, жил в Вустерс. Он никогда не работал в «Дейли эксцесс».
— Нет-нет, сэр. Это я работаю в «Дейли эксцесс».
— Ну, вам своих сотрудников лучше знать. Возможно, он и в самом деле уехал из Вустера и занялся журналистикой. Я знаю, многие духовные лица теперь так поступают. Но должен сказать, что от него я этого не ожидал. Он всегда был глуповат. Да и лет ему уже много, не меньше семидесяти… Ну-ну… кто бы мог подумать. До свидания, голубчик. Хорошо мы с вами поговорили.
— Но вы не понимаете, сэр! — воскликнул Адам, видя, что полковник уходит. — Я хочу жениться на Нине.
— Тогда нечего было приезжать сюда, — сказал полковник сердито. — Я же вам сказал, она где-то в Лондоне. К фильму никакого отношения не имеет. Придется вам у нее самой спросить. Между прочим, я случайно знаю, что она уже помолвлена. Сюда недавно приезжал по этому поводу один молодой болван… пастор говорит, у него не все дома. Всю дорогу смеялся — это плохой признак… но Нина почему-то все-таки хочет выйти за него замуж. Так что боюсь, вы опоздали, голубчик. Очень сожалею… а пастор в связи с этим фильмом показал себя с очень некрасивой стороны. Отказался предоставить нам свой автомобиль. Наверно, из-за веслеанства. Узость взглядов… Ну, до свидания. Спасибо, что приехали. Привет от меня канонику Таратору. Надо будет заглянуть к нему, когда буду в следующий раз в Лондоне, да поддеть его на этот счет… Пишет в газетах, это надо же, в его-то возрасте!
И полковник Блаунт удалился, торжествующий.
Поздно вечером Адам и Нина сидели на галерее в «Café de la Paix» и ели устриц.
— Ладно, — сказала она, — оставим папу в покое и просто теперь же поженимся.
— Мы будем очень, очень бедны.
— Не беднее, чем сейчас… По-моему, это будет божественно… И будем изо всех сил экономить. Майлз говорил, он обнаружил одно место около Тотнем-Корт-роуд, там устрицы стоят три с половиной шиллинга дюжина.
— Наверно, такие, что от них заболеть можно?
— Ну, Майлз говорил, что они ничего, только немножко странно, что они все разные на вкус. Я с Майлзом сегодня завтракала. Он позвонил узнать, где ты. Хотел продать «Эксцессу» новость про помолвку Эдварда Троббинга. Но Вэн предложил ему пять гиней, и он продал ему.
— Жаль, что мы это упустили. Редакторша будет в ярости. Кстати, а как моя светская хроника? Удалось тебе заполнить страницу?
— Ой, милый, по-моему, я справилась замечательно. Понимаешь, Вэн и Майлз не знали, что я к этому причастна, и много чего наговорили про помолвку Эдварда, а я все это пустила в ход… свинство, правда?… И много чего написала про Эдварда и про его невесту. Я была с ней знакома, когда только начала выезжать, это заняло половину страницы. А потом я добавила немножко про всяких вымышленных людей, как ты делаешь, вот и все.
— Что же ты написала про вымышленных?
— Уж не помню. Ну, что я видела, как граф Цинциннати вошел в «Эспинозу» в зеленом котелке… всякое такое.
— Ты это написала?!
— Да, а разве не надо было?… Радость моя, я что-нибудь не так сделала?
— О, черт.
Адам рванулся к телефону.
— Центральная десять тысяч… дайте мне ночного редактора… вы слушаете? Мне надо внести исправление в заметку Таратора… срочно.
— Сожалею, Саймз. Последнее издание полчаса как ушло в машину. Мы сегодня рано отделались. И Адам пошел доедать устрицы.
— Нумерация подкачала, — сказал лорд Мономарк на следующее утро, прочитав злосчастную заметку.
И мистером Таратором стал Майлз Злопрактис.
— Теперь мы не можем пожениться, — сказала Нина.
Глава 10
Адам, мисс Рансибл, Майлз и Арчи Шверт поехали на автомобильные гонки в машине Арчи Шверта. Ехать оказалось долго и холодно. Мисс Рансибл была в брюках, а Майлз надумал подкрасить себе ресницы в ресторане придорожного отеля, где они хотели позавтракать. Поэтому их попросили удалиться. Перед следующим отелем они оставили мисс Рансибл в машине и принесли ей туда холодной баранины и соленых огурцов. Арчи решил, что недурно будет выпить шампанского, и замучил официанта расспросами о сроках разлива (официант питал особое отвращение к этой теме). Они завтракали не торопясь, потому что в ресторане было тепло, а потом еще пили кюммель у камина, пока за ними не явилась мисс Рансибл, очень рассерженная, и не увела их на улицу.
Потом Арчи сказал, что не может больше вести машину — очень спать хочется, — так что Адам сел за руль и сбился с дороги, и они проехали много миль не в ту сторону, по какому-то бесконечному объездному шоссе.
А потом стало темнеть и дождь усилился. Обедали они в третьем отеле, где все подсмеивались над брюками мисс Рансибл, а стены были увешаны старинными медными грелками.
Наконец они добрались до города, где должны были состояться гонки. Они подъехали к отелю, в котором остановился тот гонщик, что дружил с Майлзом. Отель, построенный в готическом стиле 1860 года, был большой, темный и назывался «Империал».
Они заранее послали гонщику телеграмму с просьбой заказать им номера, но… «Что вы, — сказала дежурная, — у нас за полгода вперед все номера были заказаны. Будь вы самые главные асы, я бы и то не нашла, где вас поместить. Сегодня вы во всем городе не найдете комнат, разве что в привокзальной гостинице. А больше нигде».
В привокзальной гостинице их тоже отказались принять, хотя мисс Рансибл оставалась ждать в машине. «Одного из вас я еще могла бы положить на диване в баре, у меня там сейчас только муж с женой и два мальчика, а то можно еще в вестибюле, только там лечь негде, придется всю ночь сидеть». Что касается постелей, так об этом и думать нечего. Пусть заглянут в «Ройял Джордж», только едва ли им там понравится, даже если место найдутся, а мест там, скорее всего, тоже нет.
Тут мисс Рансибл вспомнила, что, кажется, здесь неподалеку живут знакомые ее отца; она узнала их телефон и позвонила, но в ответ услышала — очень жаль, но дом и так полон гостей, и прислуги, можно сказать, нет, а про лорда Казма они, сколько помнится, даже не слышали. Так что ничего не вышло.
Они объездили еще несколько гостиниц, изучив по нисходящей всю гамму: «Отель семейный и для коммивояжеров», просто «Для коммивояжеров», «Пансион высшего класса, плата помесячно», «Общежитие для девушек-работниц», просто «Пивная и чистые постели. Только для мужчин». Везде было переполнено. Наконец на берегу какого-то канала они нашли «Ройял Джордж». Хозяйка, стоя в дверях, доругивалась с пожилым человечком в котелке.
— Сперва он снимает в баре башмаки, — пожаловалась она, взывая к сочувствию новых слушателей, — джентльмены так никогда не поступают…
— Мокрые они были, — сказал человечек, — насквозь промокли.
— А кому нужны его мокрые башмаки на стойке, хотела бы я знать? А потом, видите ли, называет меня интриганкой за то, что я велела ему обуться и идти домой.
— Домой хочу, — сказал человечек. — Домой, к жене и к деткам. Разве это дело — не пускать человека к жене?
— Кто это не пускает тебя к жене, старый ты дурак? Я одно говорю, — обуйся ты ради бога, а потом уж ступай домой. Что жена-то подумает, если ты явишься домой без башмаков?
— А вы знаете, деточка, она совершенно права, — сказала мисс Рансибл. — Будет гораздо лучше, если вы обуетесь.
— Вот, слышал, что дамочка говорит? Дамочка говорит — надень башмаки.
Человечек взял свои башмаки из рук хозяйки, внимательно оглядел мисс Рансибл и швырнул башмаки в канал.
— Дамочка, — сказал он с чувством. — А штаны-то! — И зашлепал в одних носках в темноту.
— Он вообще-то ничего, безобидный, — сказала хозяйка. — Буянит помаленьку, но только когда выпьет. Вот ведь, хорошие башмаки загубил… Небось проведет ночь в кутузке.
— А к жене он, бедняжечка, не пойдет?
— Ну что вы. Она живет в Лондоне.
Тут Арчи Шверт, не наделенный столь всеобъемлющим человеколюбием, как мисс Рансибл, окончательно потерял интерес к этому разговору.
— Мы хотели узнать, можете вы предоставить нам постели на ночь?
Хозяйка метнула на него подозрительный взгляд.
— Постель или постели?
— Постели.
— Это еще надо подумать. — Она перевела взгляд с автомобиля на брюки мисс Рансибл и обратно на автомобиль, прикидывая, что важнее, и, наконец, сказала: — По фунту с каждого, тогда можно.
— И место найдется для всех?
— Да как сказать. Который из вас с дамочкой-то?
— Я, к сожалению, одна, — сказала мисс Рансибл. — Со стыда сгореть можно, правда?
— А вы не горюйте, моя красавица, вы еще свое возьмете… Ну, так как же мы все разместимся? Одна комната есть свободная. Я могу лечь с нашей Сарой, значит, освобождается кровать для джентльменов… если дамочка не против переночевать со мной и Сарой…
— Пожалуйста, не сочтите меня невежливой, но я бы предпочла ту, освободившуюся кровать, — сказала мисс Рансибл смиренно и добавила с большим тактом: — Понимаете, я очень громко храплю.
— Пустяки, наша Сара тоже храпит. Нам это ничего, но, конечно, если вы предпочитаете…
— Да, пожалуй, предпочитаю, — сказала мисс Рансибл.
— Ну что ж, тогда я могу постелить мистеру Тичкоку на полу, так, что ли?
— Да, — сказал Майлз. — Постелите мистеру Тичкоку на полу.
— А если тот джентльмен не против ночевать на площадке… Ну, как-нибудь да устроимся, вы не сомневайтесь.
Они все вместе выпили джину в комнате позади бара и разбудили мистера Тичкока, чтобы он помог внести вещи, и его тоже угостили джином, а он сказал, что ему все равно, где ни спать, он всякому рад услужить, а от второго стаканчика не откажется, это уж, как говорится, на сон грядущий; и наконец все улеглись спать, очень усталые и более или менее довольные, и как же их всю ночь кусали клопы!
Адаму досталась отдельная комната. Он проснулся рано, под шум дождя. Выглянув в окно, он увидел серое небо, какую-то фабрику и канал, из неглубоких вод которого поднимались островки железного лома и бутылок; к дальнему берегу прибило наполовину затонувшие остатки детской коляски. В комнате стоял комод с торчащими из ящиков грязными лоскутами и умывальник, а на нем — ярко раскрашенный таз, пустой кувшин и старая зубная щетка. Еще там был округлый женский бюст, накрытый блестящей красной материей и обрубленный на шее, на талии и у локтей, как в житиях древних мучеников, — предмет, известный под названием портновского манекена. (Адам вспомнил, что такой же был когда-то у них дома, его называли Джемайма — однажды Адам ударил Джемайму долотом, набивка разлетелась по всей детской, и его наказали. В более просвещенный век в этом его поступке усмотрели бы какой-нибудь комплекс и встревожились бы, ему же просто велели самому подмести весь мусор.)
Адаму очень хотелось пить, но на дне графина рос бледно-зеленый мох, и он воздержался. Он снова лег в постель и обнаружил под подушкой чей-то носовой платок (очевидно, собственность мистера Тичкока).
Немного погодя он снова проснулся и увидел, что на краю его постели сидит мисс Рансибл в пижаме и меховом пальто.
— Деточка, — сказала она, — у меня в комнате нет зеркала, а ванной здесь вообще нет, а в коридоре я наступила на кого-то холодного и мягкого, он там спит, а я всю ночь не спала — капала на клопов лосьоном, и все так плохо пахнет, и вообще мне так скверно, просто ложись и умирай.
— Ради бога, давайте отсюда выбираться, — сказал Адам. Они разбудили Майлза и Арчи Шверта, и через десять минут, подхватив свои чемоданы, все на цыпочках двинулись к выходу.
— Как вы думаете, может, надо оставить сколько-нибудь денег? — спросил Адам, но ни в ком не нашел поддержки.
— За джин, пожалуй, надо бы заплатить, — сказала мисс Рансибл.
И они оставили на стойке пять шиллингов и уехали в «Империал».
Было еще очень рано, но все, видимо, уже встали и носились вверх и вниз на лифтах, нагруженные комбинезонами и защитными шлемами. Приятель Майлза, как им сообщили, ушел еще до рассвета — по всей вероятности, в свой гараж. Адам встретил нескольких репортеров, которых помнил по работе в «Эксцессе». Они сообщили ему, что предсказать победителя невозможно, а смотреть гонки интереснее всего с Чертова поворота, где в прошлом году было три смертных случая, а в этом году будет того хуже, потому что гудрон не просох. Самое опасное место, заверили его репортеры, после чего отправились брать новые интервью у гонщиков, добавив на прощание, что все участники одинаково уверены в победе.
Тем временем мисс Рансибл нашла свободную ванную и через полчаса спустилась в вестибюль умытая, подкрашенная и в юбке — она совсем пришла в себя и была готова к любым приключениям. Для начала они пошли завтракать.
В ресторане яблоку негде было упасть. Там были гонщики всех национальностей, по большей части невзрачные мужчины с усиками и с тревогой в глазах; они читали прогнозы в утренних газетах и ели то, что могло оказаться (а для иных и оказалось) последним в их жизни завтраком. Были многочисленные корреспонденты, вознаграждавшие себя за тяготы командировки; была пестрая орава болельщиков — весьма осведомленные молодые люди в ярких свитерах, заправленных в брюки, в галстуках — эмблемах своих закрытых школ, в клетчатых куртках, с развязным лексиконом и чуть заметным акцентом лондонских низов; были инспекторы из К.А.К.[16], инспекторы из А.А.[17] и представители нефтяных фирм и шинных заводов. Была опечаленная семья, приехавшая в этот город на крестины племянницы. (Их не предупредили о предстоящих гонках; счет в отеле явился для них жестоким ударом.)
— Так еще жить можно, — одобрительно сказала мисс Рансибл, попробовав копченую пикшу.
Со всех сторон до них доносились обрывки сугубо технических разговоров.
— … Сменил весь мотор уже после осмотра. Другого бы за такое дисквалифицировали…
— … еле тянет по пятьдесят миль…
— …ужалила пчела, как раз когда он делал поворот, чуть не врезался в дерево и угодил прямо в ратушу. А за ним шел «райли», тот завертелся волчком, полез на насыпь, перевернулся и вспыхнул…
— …клапаны перегреваются… С этим мотором на подсосе ездить бессмысленно…
— …Чертов поворот — это что. Просто нужно перед белым домиком сбавить до сорока — сорока пяти, потом у трактира дать газ и уходить на второй по левой бровке. Это всякий ребенок сумеет. А вот двойной вираж сразу за железнодорожным мостом — это действительно штучка…
— … раз за разом махали ему флажком, чтобы остановился. Говорю вам, эта шайка не хочет, чтобы он победил.
— … назвать себя не захотела, но сказала, что сегодня вечером встретится со мной на том же месте, и дала мне веточку белого вереска, а я, как дурак, ее потерял. Она еще сказала, что будет ее высматривать…
— … в этом году предлагают всего двадцать фунтов премии…
— … сошел с трека на скорости, семьдесят пять…
— … прокладка лопнула, головка блока к черту…
— … сломал обе руки, а в черепе две трещины…
— … хвост затрясло…
— … от скорости вибрация…
— … мерк…
— … маг…
— Тррах…
Позавтракав, мисс Рансибл, Адам, Арчи Шверт и Майлз пошли в гараж искать своего аса. Они застали его за тяжелой работой — он слушал свой мотор. Один угол гаража был отгорожен канатом, и пол посыпан песком, как для встречи боксеров.
Перед канатом крутилась стайка алчных мальчишек с альбомами для автографов и подтекающими вечными ручками, а на песке, окруженные механиками, стояли основные части автомобиля. Мотор работал, и вся махина сотрясалась от бесплодных усилий. Из нее исходили клубы темного дыма и оглушительный рев, который отдавался от бетонного пола и рифленого железа крыши во все углы здания, так что не было возможности ни говорить, ни думать, и все чувства мгновенно притуплялись. Довольно часто этот ровный жалобный рев прерывался резкими взрывчиками, и они-то, видимо, вызывали тревогу, потому что при каждом таком хлопке приятель Майлза, который, конечно же, не мог быть чрезмерно чувствителен к шуму, морщился и многозначительно взглядывал на своего старшего механика.
Непосвященного наблюдателя этот автомобиль поражал не только явными дефектами звука, но и странно незаконченным видом. Впечатление было такое, что он еще в процессе изготовления. У него было всего три колеса, а четвертое находилось в руках у молодого человека в комбинезоне, который бил по нему молотком, то и дело прерываясь, чтобы откинуть лезшую на глаза занавеску из желтых волос. Не было и сидений, и на то место, где им полагалось бы быть, другой механик навинчивал пластины свинцового балласта. Не было капота — им завладел маляр, выводивший черную цифру 13 в белом кругу. Такая же цифра была на задке, и еще один механик прикреплял дощечку с номером над фарой. Был там и механик, мастеривший из тонкой проволочной сетки щиток на ветровое стекло, и механик, который, лежа врастяжку, колдовал над задней осью при помощи жестянки с политурой и тряпки. Еще два механика помогали приятелю Майлза слушать выхлопы. — Как будто мы не услышали бы их с Беркли-сквера, — сказала мисс Радсибл.
Дело в том, что автомобили являют собой очень наглядный пример философского различия между «бытием» и «становлением». Есть машины, служащие всего лишь средством передвижения, механические работяги, такие, как «испано-суиза» леди Метроленд, или «ролс-ройс» миссис Маус, или «деймлер» 1912 года леди Периметр, или «остин» рядового гражданина, — эти, подобно их владельцам, определенно имеют бытие. Их покупают свинченными, покрашенными, снабженными номерами, и такими они остаются, даже переходя из рук в руки, изредка освежаемые краской или на время омолаживаемые добавлением какого-нибудь второстепенного органа, но в основном сохраняя свое естество, пока не отправятся на свалку.
Другое дело настоящие автомобили, те, что становятся хозяевами над человеком, живые металлические особи, которые существуют лишь ради самостоятельного движения в пространстве, для которых шоферы, с опасностью для жизни цепляющиеся за руль, имеют не больше цены, чем стенографистка для биржевого маклера. Эти находятся в непрерывной мутации, они являют собой водоворот сталкивающихся и распадающихся частей — подобно скоплению транспорта в точке, где сходится много дорог и потоки машин сливаются воедино, смешиваются и разделяются вновь.
Приятель Майлза был, видимо, не расположен к беседе, даже будь она возможна в таком шуме. Он рассеянно махнул рукой и продолжал слушать. Потом подошел к канату и прокричал:
— Простите, занят, увидимся на пункте! У меня для вас есть повязки!
— Ой, деточка, а зачем?
Он дал каждому по белой полотняной полоске с тесемками на концах.
— На рукав! — крикнул он. — Без них вас на пункт не пустят!
— Ой, деточка, какая прелесть! У них тут есть какие-то пунктики!
Они надели свои повязки с надписями. Мисс Рансибл достался «Запасный водитель», Адаму — «Персонал гаража», Майлзу — «Запасный механик», Арчи — «Представитель владельца». Мальчишки у каната поначалу сильно сомневались в том, что мисс Рансибл и ее спутники — важные особы, однако при виде этих знаков отличия они незамедлительно окружили их со своими тетрадками. Арчи с готовностью одарил всех автографами, а в одной из тетрадок даже нарисовал не совсем подходящую картинку. Потом они укатили в машине Арчи.
Гонки должны были начаться только в полдень, но возможные колебания насчет того, как провести ближайшие несколько часов, были заранее устранены для них местной полицией, направлявшей все движение независимо от индивидуальных склонностей на дорогу к автодрому. Этой организационной мере было уделено особое внимание: еще за несколько дней начальник полиции издал миниатюрную дорожную карту, которую всем полисменам-регулировщикам было предписано запомнить наизусть, и они выполнили приказ так добросовестно, что с раннего утра и часов до шести вечера весь без исключения транспорт, приближающийся к городу с любой стороны, неукоснительно направлялся по объездному шоссе, помеченному стрелками и пунктирной линией А — В и ведущему к временной стоянке машин позади главной трибуны. (Немало врачей, вынужденных, таким образом, изменить намеченный маршрут, приятно провели этот день без видимого ущерба для своих пациентов.)
Прибывающая публика уже образовала медленный сплошной поток. Одни шли пешком с вокзала, запасшись сэндвичами и складными стульями, другие ехали на велосипедах и мотоциклах с колясками, но больше всего было скромных, недорогих автомобилей. Владельцы их, судя по одежде и повадкам, принадлежали к средним кругам общества; кое-кто вез с собой радиоприемники и другие атрибуты веселья, но, в общем, здесь царило настроение деловое и целеустремленное. То было не гулянье в день дерби; люди не для того урвали среди недели свободный день, чтобы промотать его на карусели, гадалок и шарлатанов с горошиной и наперстком. Они явились сюда ради гонок. И сейчас, продвигаясь вперед на самой малой скорости, они подробно обсуждали конструкцию машин и возможные катастрофы и изучали по карте трассу в поисках наиболее опасных точек.
Объезд, спланированный начальником полиции, был длинный, вдоль дороги тянулись коттеджи и приспособленные под жилье железнодорожные вагоны. Над дорогой, привязанные к телеграфным столбам, реяли плакаты, по большей части рекламирующие газету «Морнинг диспетч», которая организовала гонки и заплатила за приз — безобразную статуэтку из позолоченного серебра под названием «Скорость в объятиях Славы». (Сейчас этот приз находился под надежной охраной в комнате гоночного комитета, потому что в прошлом году его накануне гонок украл официальный хронометрист — заложил в Манчестере за смехотворно малые деньги и был затем отстранен от работы и посажен в тюрьму.) Другие рекламы расхваливали всевозможные марки горючего и запальных свечей, иные предостерегали: «100 ф. ст. за телесное повреждение. Спешите застраховаться». Между машинами расхаживал пожилой мужчина с бело-синим плакатом, гласившим: «Нет отпущения грехов без пролития крови», а франтоватый молодой человек бойко торговал фальшивыми билетами на главную трибуну.
Адам сидел на заднем сиденье с Майлзом. Тот был явно расстроен неотзывчивостью своего приятеля. — Чего я не пойму, — сказал он, — так это зачем нас вообще сюда занесло. Надо, наверно, прикинуть, что бы написать для «Эксцесса». Пари держу, это будет самый нудный день в нашей жизни.
Адам готов был с ним согласиться. Вдруг до него дошло, что кто-то старается привлечь его внимание.
— Там какой-то ужасный человек кричит вам «эй», — сказал Майлз. — Ну и знакомые у вас, мой милый.
Адам обернулся и увидел в каких-нибудь десяти футах отделенный от него велосипедисткой в защитного цвета шортах, ее спутником с рюкзаком за плечами и мальчуганом, продающим программы, вожделенный облик пьяного майора. На этот раз он выглядел вполне трезвым, был в котелке и непромокаемом пальто и отчаянно махал Адаму в окошечко закрытого автомобиля.
— Эй! — кричал пьяный майор. — Эй! Я вас повсюду ищу.
— Я сам вас ищу, — заорал Адам. — Мне нужны деньги.
— Не слышу, что нужно?
— Деньги.
— Не понял, шум стоит адский. Как вас зовут? А то Лотти забыла.
— Адам Саймз.
— Не слышу.
Тут машины, продвигаясь вперед ярд за ярдом, достигли наконец точки В на карте начальника полиции, где пунктирные линии разделялись. На развилке стоял полисмен, направляя транспорт вправо и влево, одних — к стоянке позади главной трибуны, других — на холм над заправочными пунктами. Арчи завернул налево. Машина пьяного майора прибавила скорости и плавно забрала вправо.
— Как ваше имя? — крикнул он.
Все водители, как сговорившись, выбрали это мгновение, чтобы загудеть в клаксоны, велосипедистка рядом с Адамом зазвонила в звонок, ее спутник подудел в рожок, как парижское такси, а мальчик с программами прокричал ему в ухо:
— Официальная программа — карта пробега — полный список участников!
— Адам Саймз! — крикнул он что было сил, но майор беспомощно вскинул руки и исчез в гуще машин.
— Надо же уметь так знакомиться, — сказал Майлз, даже оживившись от восхищения.
Ремонтно-заправочные пункты оказались будками из досок и рифленого железа, построенными в ряд напротив главной трибуны. Многие из гоночных машин уже прибыли сюда и стояли каждая у своей будки, окруженные механиками и зрителями; казалось, их уже начали ремонтировать. Озабоченные инспекторы бегали взад-вперед, внося какие-то данные в свои списки. Над головой из огромного репродуктора гремела музыка военного оркестра.
Трибуна была еще почти пуста, но вдоль остальных участков трассы уже набралось порядочно публики. Трасса — с множеством подъемов и спусков — представляла собой неровное кольцо длиной в тринадцать-четырнадцать миль, и те счастливцы, что имели дом или трактир на особо опасных ее поворотах, соорудили на крышах шаткие деревянные заграждения и продавали (очень дорого) билеты, которые шли нарасхват. Позади заправочных пунктов круто поднимался поросший травою холм. На нем водрузили щит, на котором отряд бойскаутов готовился вести счет по этапам, а пока что коротал время с помощью лимонада, конфет и потасовок. Позади щита была изгородь из колючей проволоки, а за ней — толпа зрителей и несколько палаток-буфетов. Через дорогу была переброшена деревянная арка, рекламирующая «Морнинг диспетч». В нескольких местах можно было наблюдать, как инспекторы пытаются понять друг друга по полевому телефону. Временами музыка смолкала и чей-то голос объявлял: «Мистера такого то просят срочно зайти в кабинет хронометриста», после чего оркестр гремел снова.
Мисс Рансибл и ее компания отыскали будку под номером 13 и сидели на дощатом прилавке, покуривая и раздавая автографы. К ним устремился инспектор.
— Просьба здесь не курить.
— Ой, деточка, простите. Я не знала.
За спиной у мисс Рансибл стояло шесть открытых бочек — четыре с бензином и две с водой. Она бросила сигарету через плечо и волею провидения, не часто ее баловавшего, попала в воду. Упади сигарета в бензин, песенка мисс Рансибл, вероятно, была бы спета.
Вскоре появился № 13. Приятель Майлза и его механик, оба в комбинезонах, защитных шлемах и очках-консервах, соскочили на землю, подняли капот и опять принялись копаться в моторе.
— Тринадцатого номера совсем бы не надо давать, — сказал механик. — Нечестно это.
Мисс Рансибл опять закурила.
— Просьба здесь не курить, — сказал инспектор уже громче.
— Ох, деточка, какая же я безголовая. Забыла.
(На этот раз сигарета упала в корзинку с завтраком механика и тихо дотлевала на куриной ноге, пока не сгорела без следа.)
Приятель Майлза стал заливать в бак бензин через большущую воронку.
— Слушайте внимательно, — сказал он. — Прямо мне передавать ничего не разрешается, но если, когда мы будем проезжать мимо вас, Эдвардс поднимет левую руку, это значит, что на следующем кругу мы остановимся, чтобы заправиться. Тогда вы должны наполнить две канистры и поставить их вместе с воронкой вот здесь, чтобы Эдвардс мог взять. Если Эдвардс поднимет правую руку… — последовали подробные указания. — Вас оставляю старшим, — сказал он Арчи. — Как вам кажется, запомнили все сигналы? Имейте в виду, от них может зависеть результат гонок.
— Если я махну синим флажком, это что значит?
— Что вы велите мне остановиться.
— С чего это я велю вам остановиться?
— Ну, может, заметите какую-нибудь неполадку — бак протекает, или еще что, или инспектор велит протереть дощечку с номером.
— Синий флажок я, пожалуй, оставлю в покое. Как-то жутко к нему прикасаться.
Мисс Рансибл опять закурила.
— Если желаете курить, прошу выйти из будки, — сказал инспектор.
— До чего же грубый человек, — сказала мисс Рансибл. — Пошли лучше наверх и выпьем, там есть божественная палатка.
Они влезли на холм, миновали бойскаутов, нашли проход в проволочной изгороди и в конце концов добрались до буфета. Здесь атмосфера была более располагающая. Множество мужчин в брюках гольф пропускало по маленькой перед стартом. На траве сидела немолодая женщина с бутылкой пива и младенцем.
— Совсем как дома, — сказала мисс Рансибл. Внезапно военный оркестр умолк, и голос из репродуктора объявил: «Без пяти минут двенадцать. Всем водителям и механикам перейти на ту сторону трека».
Шум затих, и буфет стал быстро пустеть.
— Деточка, мы пропустим старт.
— А все-таки выпить бы неплохо.
— Четыре порции виски, — сказал Арчи Шверт.
— Смотрите не пропустите старт, — сказала буфетчица.
— Какая же он был свинья, — сказала мисс Рансибл. — Даже если там нельзя курить, мог бы говорить с нами повежливее.
— Дорогая моя, он имел в виду только вас.
— Тем хуже.
— Побойтесь бога, мисс, — сказала буфетчица, — неужели вы пропустите старт?
— Ни за что. Это, наверно, самое интересное, ой, деточка, они, кажется, уже начали.
Внизу взревело шестьдесят мощных моторов.
— Ну, конечно, пошли… это же умереть можно… — Они стояли в дверях палатки. Через головы зрителей им был виден кусочек трека, там мелькнули машины, все сбившиеся в кучу, как свиньи, которых загоняют во двор. Одна за другой они вырывались вперед и, пронзительно визжа, исчезали за поворотом.
— Через четверть часа они опять пройдут здесь, — сказал Арчи. — Давайте пока выпьем еще по одной.
— Кто шел первым — тревожно спросила буфетчица.
— Точно я не разглядела, — сказала мисс Рансибл, — но, по-моему, тринадцатая.
— Да ну?
Буфет снова стал заполняться. Общее мнение, видимо, сводилось к тому, что сильнейшие кандидаты в победители — № 13 и № 28, красная «омега», которую ведет итальянский ас Марино.
— Подлюга, а не водитель, — захлебывался какой-то мужчина. — В Белфасте, помню, он так и расшвыривал их по кюветам.
— В одном можно не сомневаться — оба не финишируют.
— Просто удовольствие смотреть на этого Марино. Не езда, а сплошное убийство.
— Да, артист, ничего не скажешь.
Адам, мисс Рансибл, Арчи и Майлз вернулись в свою будку.
— Как-никак, — сказала мисс Рансибл, — бедняжечке ведь может что-нибудь понадобиться, может, он уже из сил выбивается, подает сигналы, а нас нет на месте.
К этому времени машины растянулись по всему треку с примерно одинаковыми промежутками. Одна за другой они, визжа, проносились мимо; две-три подкатили к своим будкам, и водители выскочили из них, дрожа всем телом, и бросились к инструментам. А одна машина — большая, немецкая — уже пострадала: лопнула шина, говорили даже, что какой-то наемник Марине нарочно ее проколол. Машина свернула с дороги и взлетела на дерево, как кошка, когда спасается от собаки. Два маленьких американских автомобиля вообще не стартовали; механики исступленно трудились над ними под издевки толпы. Вдруг на прямую вышли две машины, голова в голову, в двух футах друг от друга.
— Тринадцатый! — закричала мисс Рансибл, наконец-то непритворно волнуясь. — А рядом с ней этот черт итальянец. Давай, тринадцатый, давай! — кричала она, приплясывая в будке и размахивая флажком, который попался ей под руку. — Давай! Молодец, тринадцатый!
Машины, мелькнув, исчезли, за ними неслись другие.
— Агата, дорогая, вы ведь напрасно махали синим флажкам.
— Ой, какой ужас. А почему?
— Это же значит, что на следующем круге он должен остановиться.
— Боже милостивый! Разве я махала синим флажком?
— Вы сами прекрасно это знаете.
— Какой стыд! Что же я теперь ему скажу?
— Давайте все уйдем, пока он не появился снова.
— Да, пожалуй, так будет лучше всего. Он, наверно, ужасно рассердится. Пошли в палатку и выпьем, хорошо? Или нет?
И будка № 13 опять опустела.
— Что я говорил? — сказал механик. — Как узнал, что мы вытянули этот злосчастный номер, так сразу подумал: ну, быть беде.
Первым, кого они увидели в буфете, был пьяный майор.
— Опять ваш знакомец, — сказал Майлз.
— А, вот и вы, — сказал майор. — Вы знаете, я за вами гонялся по всему Лондону. Куда вы пропали?
— Я все время живу у Лотти.
— А она уверяет, что в глаза вас не видела. По чести говоря, я в тот вечер малость перехватил, и, когда проснулся, в голове была каша. Ну, потом нашел в кармане тысячу фунтов и сразу все вспомнил. Что у Лотти был какой-то тип, который дал мне тысячу фунтов, поставить на Селезня. Кто-то говорил, что Селезень — лошадь никудышная. Мне вовсе не хотелось, чтобы ваши деньги пропали, но главное — я понятия не имел, кто вы такой. И Лотти как будто тоже. Казалось бы, не так уж трудно разыскать чудака, который раздает тысячи посторонним людям, а я вот не смог, даже отпечатка пальцев не нашел.
— Вы хотите сказать, — начал Адам, чувствуя, как в сердце у него вспыхнула нелепая надежда, — что моя тысяча все еще у вас?
— Не торопитесь, — сказал майор, — все в свое время. Так вот, в день скачек я просто не знал, как быть. Один мой голос говорил: сохрани деньги. Рано или поздно этот тип объявится, тогда уж пусть сам ставит на кого хочет. Другой голос твердил — поставь за него на фаворита, пусть получит удовольствие за свои денежки.
— И вы поставили на фаворита? — Сердце Адама снова налилось свинцом.
— Не угадали. В конце концов я решил: парень, видно, здорово богат. Если он хочет швыряться деньгами — его дело, на здоровье, и ухнул всю тысячу на Селезня.
— Так, значит…
— Значит, имеется пачечка в тридцать пять тысяч фунтов — лежит и дожидается, когда вы соблаговолите ее востребовать.
— Боже мой… послушайте… выпить хотите?
— От этого никогда не отказываюсь.
— Арчи, дайте мне взаймы, пока я не получил это состояние.
— Сколько?
— На пять бутылок шампанского.
— Пожалуйста, только где вы их возьмете?
У буфетчицы оказался припрятан целый ящик шампанского. («Людям часто делается нехорошо, когда автомобили так быстро мелькают перед глазами, — объяснила она. — Особенно дамам».) И они взяли по бутылке, уселись на склоне холма и выпили за процветание Адама.
— Внимание, внимание, — заговорил репродуктор, — машина № 28, итальянская «омега», за рулем капитан Марино, прошла первый круг за 12 минут 1 секунду, со средней скоростью 78,3 мили в час. Поставлен новый рекорд скорости.
Новость эта была встречена взрывом аплодисментов, но Адам сказал:
— Что-то я потерял интерес к этим гонкам.
— Понимаете, любезный, — сказал майор, когда все опять успокоилось. — Я тут дал маху. Даже признаваться стыдно в таком идиотстве, но дело в том, что у меня в этой давке стибрили бумажник. Мелочь у меня, конечно, есть, до гостиницы добраться хватит, а там они, само собой, примут мой чек, но мне очень хотелось заключить пари с одними людьми, которых я почти не знаю. Так вот, вы бы не могли дать мне взаймы пятерку? А я ее верну заодно с теми тридцатью пятью тысячами.
— Ну, разумеется, — сказал Адам. — Арчи, дайте мне взаймы пять фунтов.
— Премного благодарен, — сказал майор, запихивая банкноты в боковой карман. — Если вам все равно, может, добавите до десятки?
— Мне очень жаль, — сказал Арчи сухо, — но у меня осталось только-только на дорогу домой.
— Ничего, ничего, любезный. Все понятно. Ни слова больше… Ну, выпьем за всех.
— Я был на ноябрьском гандикапе, — сказал Адам. — По-моему, я вас там видел.
— Жаль, что не встретились, это бы сильно упростило дело, верно? Ну да все хорошо, что хорошо кончается.
— Ваш майор — просто ангел, — сказала мисс Рансибл. Когда они допили шампанское, майор — теперь уже, несомненно, пьяный — поднялся.
— Ну-с, любезный, — сказал он, — мне надо топать. Обещал тут кое с кем повидаться. Спасибо за угощение. Приятно было со всеми вами встретиться. Пока, милашечка.
— Когда же мы теперь увидимся? — спросил Адам.
— Да в любое время. Когда ни заглянете, буду рад. У меня для старых друзей всегда найдется бутылка и закусончик. Привет всей компании.
— А нельзя зайти к вам поскорее? По поводу денег.
— Чем скорее, тем лучше, дорогой. Только насчет денег я что-то не понял.
— Мои тридцать пять тысяч.
— А, да, конечно. Надо же, совсем забыл. Вот что. Вы нынче к вечеру приходите в «Империал», там я вам их и отдам. Я сам не чаю с ними разделаться. В семь часов в американском баре… или чуть раньше.
— Пошли смотреть гонки, — сказал Арчи.
Они спустились с холма, бодрые и беззаботные (как и положено себя чувствовать, когда много выпьешь до второго завтрака). Подходя к будкам, вспомнили, что проголодались. Решили, что снова подниматься в буфет — очень далеко, и съели завтрак механика — ту его часть, которая не пострадала от сигареты мисс Рансибл.
Тут с машиной № 13 случилась беда. Она нерешительно съехала на обочину, за рулем сидел механик. Он объяснил, что приятеля Майлза ударил в плечо гаечный ключ, брошенный из автомобиля Марино, когда они обгоняли его под железнодорожным мостом. Механик помог ему выйти и повел в палатку Красного креста.
— Дело труба, — сказал механик. — Больше он сегодня ни на что не годится. Чего же было и ждать, раз вытянули тринадцатый номер.
Майлз пошел ухаживать за своим приятелем, а мисс Рансибл, Адам и Арчи бессмысленно уставились на машину. Арчи легонько икал, дожевывая яблоко механика.
Вскоре появился инспектор.
— Что тут случилось? — спросил он.
— Водитель убит, — сказал Арчи. — Гаечный ключ. Под железнодорожным мостом. Марино.
— Так вы что, сошли? Кто у вас запасный водитель?
— Не знаю. Вы не знаете, Адам? Запасного водителя тоже могли убить. Очень просто.
— Запасный водитель — это я, — сказала мисс Рансибл. — У меня на рукаве написано.
— Запасный водитель — она. Вон, на рукаве написано.
— Ну, так вы как, хотите сойти с круга?
— Не надо сходить с круга, Агата.
— Нет, я не хочу сходить с круга.
— Отлично. Как ваше имя?
— Агата. Я — запасный водитель. У меня на рукаве.
— Вижу. Ладно, можете садиться и ехать.
— Агата, — твердо повторила мисс Рансибл, забираясь в машину. — Вон, на рукаве.
— Послушайте, Агата, — сказал Адам. — Вы в себе вполне уверены?
— На рукаве, — сказала мисс Рансибл строго.
— Я хочу сказать, вы вполне уверены, что это безопасно?
— Не совсем безопасно, раз они швыряют гаечные ключи. Но я сначала поеду медленно, а потом привыкну. Вот увидите. Вы со мной?
— Я останусь здесь и буду махать флажком, — сказал Адам.
— Хорошо. До свиданья… Ой, как страшно, это же умереть можно.
Машина пулей вылетела на середину дорожки, чудом не задела другую и с ревом скрылась за поворотом.
— Арчи, послушайте, а это ничего, если на гонках за рулем и в нетрезвом виде? Ее не арестуют?
— Ничего, ничего. Они тут все пьяные.
— Правда?
— Правда.
— Все?
— Все до единого. В стельку.
— Ну, тогда ничего. Пойдем выпьем. И они опять поднялись на холм и прошли сквозь бойскаутов в буфет.
Вести о мисс Рансибл не замедлили последовать.
— Внимание, — заговорил репродуктор, — № 13, английская «планкет-бауз», за рулем мисс Агата, столкнулась на Чертовом повороте с № 28, итальянской машиной «омега», за рулем капитан Марино. № 13 выправилась и продолжает путь. № 28 перевернулась и вышла из гонок.
— Молодец Агата! — сказал Арчи.
Несколько минут спустя:
— Внимание! № 13, английская «планкет-бауз», за рулем мисс Агата, прошла круг за 9 минут 41 секунду. Это рекорд скорости.
Раздались возгласы патриотического восторга. Во всех концах буфета пили за здоровье мисс Рансибл.
Несколько минут спустя:
— Внимание! Вынужден опровергнуть последнее сообщение, будто № 13, английская «планкет-бауз», за рулем мисс Агата, установила рекорд. Только что поступило сообщение, что № 13 сошла с трека сразу после железнодорожного переезда и пять миль шла без дороги, а на трек вернулась только у поворота «Красный лев». Судьи этот этап не зачли.
Несколько минут спустя:
— Внимание! № 13, английская «планкет-бауз», за рулем мисс Агата, вышла из гонок. Некоторое время назад она покинула трек, свернув у Церковного угла не вправо, а влево. В последний раз замечена на объездном шоссе, по которому шла на юг, судя по всему потеряв управление.
— Ну, деточки, мне повезло, — сказал подоспевший Майлз. — Только второй день работаю в газете, и пожалуйста, сенсация. Уж если за такое в «Эксцессе» не похвалят… опять же деньги… — И он побежал в палатку связи — одно из удобств, предусмотренных устроителями гонок, — диктовать длинную корреспонденцию о несчастье, постигшем мисс Рансибл.
Адам пошел с ним и отправил Нине телеграмму: «Пьяный майор в буфете не фикция тридцать пять тысяч поженимся завтра все чудесно Агата пропала целую Адам».
— Как будто все ясно, — сказал он.
Потом они пошли в санитарную палатку — тоже одно из удобств, предусмотренных организаторами, — навестить приятеля Майлза. Он жаловался на боль в плече и тревожился за свою машину.
— Какая бессердечность, — сказал Адам. — По-моему, ему бы следовало тревожиться за Агату.
— Автомобилисты вообще бессердечные, — сказал Майлз со вздохом.
В палатку внесли на носилках капитана Марино. Когда его проносили мимо приятеля Майлза, он с громким стоном повернулся на бок и плюнул ему в лицо. Еще он плюнул в лицо врачу, который делал ему перевязку, и укусил одну из сестер.
В санитарной палатке сложилось мнение, что капитан Марино — не джентльмен.
Арчи выяснил, что до конца гонок уехать невозможно, а гонки продлятся еще не меньше двух часов. Машины все носились и носились по кругу. Время от времени бойскауты наклеивали против какого-нибудь номера большую красную букву В [18], тем отмечая очередную жертву неполадок в моторе, столкновения или Чертова поворота. По гребню холма к дверям палатки-столовой тянулась длинная очередь. И пошел дождь.
Ничего не оставалось, как снова идти в бар.
Последняя машина финишировала уже в сумерках. Победителю вручили серебряный позолоченный приз. Репродуктор передал «Боже, храни короля» и бодрым голосом распрощался с публикой. Стоявшим в очереди перед столовой вежливо сообщили, что обедов больше не отпускают. Буфетчицы в баре затянули: «Стаканы, леди и джентльмены, просим сдавать стаканы». Санитарные машины в последний раз пустились по трассе — подбирать уцелевших. Только тогда Адам, Майлз и Арчи Шверт пошли разыскивать свою машину.
На обратном пути стемнело. До города ехали час. Адам, Майлз и Арчи Шверт почти не разговаривали. Опьянение их достигло той второй стадии, красочно описанной во всех брошюрах о вреде пьянства, когда мимолетная иллюзия довольства и душевного подъема сменяется меланхолией, расстройством желудка и моральным распадом. Адам пытался сосредоточить мысли на своем внезапном обогащении, но они, казалось, неспособны были держаться на столь высоком уровне и всякий раз, как он подтягивал их вверх, бессильно соскальзывали обратно, к его жалкому физическому самочувствию.
Ленивый поток машин, в котором они двигались, вынес их наконец в центр города, к неярко освещенному фасаду отеля «Империал». У его вращающихся дверей крутился бурный водоворот энтузиастов автомобильного спорта.
— Я просто падаю от голода, — сказал Майлз. — Давайте сначала поедим, а потом уж займемся Агатой.
Но управляющий «Империала», игнорируя и превосходство сил противника и необходимость, мужественно отстаивал нерушимый режим британских отелей. Чай, объяснил он, подастся ежедневно в Пальмовом саду от четырех до шести часов, по четвергам и субботам играет оркестр. Табльдот — в ресторане от половины восьмого до девяти. Во втором зале в эти же часы можно пообедать à lа сагtе. Сейчас двадцать минут седьмого. Если джентльменам угодно вернуться через час и десять минут, он сделает для них все, что в его силах, но резервировать для них столик не берется. Публики сегодня особенно много, объяснил он, — вблизи города проходили автомобильные гонки.
Портье оказался более отзывчивым, он сказал, что немного дальше по Главной улице, рядом с кинематографом, есть кафе под названием «Королевское». Однако он, видимо, давал те же сведения всем, кто к нему обращался, — «Королевское кафе» было полно до краев. Все сердились и ворчали, но столики доставались только самым язвительным и надменным, а еда — самым скандальным и грубым. После этого Адам, Майлз и Арчи Шверт попытали счастья еще в двух кафе (одно из них содержали дамы-благотворительницы, и называлось оно «Честный индеец»), в рабочей столовой и в лавчонке, где торговали жареной рыбой. В конце концов они купили в кооперативной лавке пакет печенья «Смесь» и разъели его в угрюмом молчании в Пальмовом саду «Империала».
Шел уже восьмой час, когда Адам вспомнил о свидании в американском баре. Здесь тоже, разумеется, была давка. Сюда заглядывали и гонщики — розовые после ванны, в смокингах и белых крахмальных рубашках, каждый со своей свитой поклонников. Адам протолкался к стойке.
— Вы тут не видели пьяного майора? — спросил он.
— Еще чего, — фыркнула буфетчица. — А и увидела бы, так не стала бы обслуживать. В моем баре таким не место. Выдумали тоже!
— Сейчас-то он, может быть, не пьяный. Но скажите, вы здесь не видели такого толстого краснолицего мужчину с моноклем и усы подкручены вверх?
— Был тут недавно такой. Он что, ваш приятель?
— Мне необходимо с ним повидаться.
— Так я вам вот что скажу — вы приглядывайте за ним получше и больше его сюда не водите. Что он тут только вытворял — страшное дело. Два стакана разбил, к посетителям цеплялся. В руке у него было три, не то четыре фунтовых бумажки. Он все махал ими и приговаривал: «Каков анекдот? Я нынче встретил одного остолопа. Я ему должен тридцать пять тысяч, а он меня ссудил пятеркой». Ну разве можно так говорить при посторонних, а? Он минут десять как ушел. Я рада-радешенька была, что наконец убрался, — честное слово.
— Он в самом деле так сказал — что встретил одного остолопа?
— Сто раз повторил, пока здесь околачивался, даже надоело.
Но Адам, едва выйдя из бара, увидел майора, появившегося из мужской уборной. Он шел не спеша и смотрел на Адама пустым, остекленелым взглядом.
— Эй! — крикнул Адам. — Эй!
— Здравия желаю, — холодно отозвался пьяный майор.
— Ну как? — сказал Адам. — Относительно моих тридцати пяти тысяч?
Пьяный майор остановился и поправил монокль.
— Тридцать пять тысяч и пять фунтов, — сказал он. — Что именно вас интересует?
— Ну, хотя бы где они?
— Место надежное. Английское Объединение Национальных и Провинциальных банков. Компания безупречно честная и платежеспособная. Я бы им и больше доверил, если б имел. Я бы им миллион доверил, клянусь честью. Понимаете, любезный, одна из этих старых почтенных фирм. Теперь таких не делают. Этому банку я бы доверил жену и детей… Вы не думайте, дорогой, что я вложил ваши деньги куда попало… Пора бы вам меня знать…
— Ну конечно, конечно. Вы страшно добры, что так о них позаботились… и вы обещали сегодня вечером дать мне чек. Неужели не помните?
Пьяный майор поглядел на него хитрым взглядом.
— Э-э, — сказал он, — это вопрос другой. Кому-то я обещал дать чек. Но откуда мне знать, что это были вы?… Мне, знаете ли, приходится соблюдать осторожность. А вдруг вы — переодетый мошенник? Имейте в виду, я этого не утверждаю, ну а вдруг? Хорош я тогда буду. В таких делах нужно обе стороны принимать в расчет.
— О господи… Со мной здесь двое друзей, они вам под присягой подтвердят, что я — Адам Саймз. Этого вам довольно?
— А может, у вас шайка. Кроме того, мне-то не известно, что того малого, который дал мне тысячу, звали Адам как бишь вы сказали? Это я только с ваших слов знаю. Я вам вот что скажу, — продолжал майор, усаживаясь в глубокое кресло. — Я тут сосну. Так, совсем немножко. А когда проснусь, сообщу вам свое решение. Вы не сочтите меня подозрительным, дорогой, просто я должен действовать осторожно… чужие деньги, сами понимаете… — И он уснул.
Адам протискался сквозь толпу в Пальмовый сад, где оставил Майлза и Арчи. Только что поступили новости о машине № 13. Ее нашли в большой деревне, милях в пятнадцати от города, разбившуюся о каменный крест на рыночной площади (и нанесшую непоправимый ущерб памятнику древности, уже включенному в список взятых под охрану). Но мисс Рансибл исчезла бесследно.
— Наверно, нам надо что-то предпринять, — сказал Майлз. — Просто не упомню такого несчастного дня. Ну что, получили свое состояние?
— Майор был так пьян, что не узнал меня. Он только что уснул.
— Ну и ну.
— Придется ехать в эту злосчастную деревню искать Агату.
— Я не могу оставить майора. Он, наверно, скоро проснется и отдаст мое состояние первому встречному.
— Пойдем к нему сейчас и будем трясти его до тех пор, пока он не отдаст нам деньги, — сказал Майлз.
Но это оказалось невыполнимым: когда они добрались до кресла, в котором Адам оставил пьяного майора, там уже никого не было.
Швейцар хорошо помнил, что майор вышел из отеля. Он сунул ему фунтовую бумажку со словами: «Встретил одного остолопа», сел в такси и велел везти себя на вокзал.
— Сдается мне, — сказал Адам, — что я никогда не получу этих денег.
— Что ж, по-моему, жаловаться вам особенно не на что, — сказал Арчи. — Вы с чем были, с тем и остались. Мне хуже — я потерял пятерку и цену пяти бутылок шампанского.
— Это-то верно, — сказал Адам и немного утешился.
Они сели в машину и под дождем покатили в деревню, где был обнаружен «планкет-бауз». Там он и стоял в кольце восхищенных зрителей, почти неузнаваемый и еще слегка дымясь. Полицейский в непромокаемом плаще пытался оградить его от налетов охотников за сувенирами, уже собравших с земли все мелкие обломки.
Свидетелей катастрофы не нашлось. Младшие жители деревни были в то время на гонках, старшие отдыхали после обеда. Одному помнилось, что он слышал какой-то грохот.
Из расспросов на ближайшей железнодорожной станции выяснилось, однако, что в тот день, часа в три, у кассы появилась неизвестная молодая женщина весьма растерзанного вида и с повязкой на рукаве и спросила, где она находится. Выслушав ответ, она сказала, что это очень обидно, потому что кто-то оставил посреди дороги огромный каменный гаечный ключ. Она призналась, что чувствует себя неважно. Начальник станции предложил ей посидеть в помещении и выпить глоток бренди. Она сказала: «Нет, хватит с меня бренди» — и купила билет первого класса до Лондона. Уехала поездом 3.25.
— Значит, все в порядке, — сказал Адам.
Они выбрались из деревни на Большую Северную дорогу и скоро нашли гостиницу, где пообедали и переночевали. В Лондон они приехали на следующий день около часа и узнали, что рано утром мисс Рансибл была обнаружена в зале ожидания на Юстонском вокзале, где она, не отрываясь, смотрела на модель паровоза. В ответ на тактичные расспросы она ответила, что, насколько ей известно, имени у нее нет, и как бы в доказательство этого ткнула в повязку на рукаве. Она объяснила, что приехала в машине, которая не желала останавливаться. Машина была полна клопов, которых она пыталась убить, капая на них лосьоном. Один из клопов швырнул гаечный ключ. На дороге торчало что-то каменное. Ни к чему ставить среди дороги такие символы, правда ведь? Или нет?
Ее увезли в больницу на Уимпол-стрит и некоторое время держали в комнате со спущенными шторами.
Глава 11
Адам позвонил Нине.
— Милый, я так обрадовалась твоей телеграмме. Это правда?
— Нет.
— Майор все-таки фикция?
— Да.
— Денег у тебя нет?
— Нет.
— И мы сегодня не поженимся?
— Нет.
— Понятно.
— Что?
— Я говорю — понятно.
— Это все?
— Да, Адам, все.
— Мне очень жаль.
— Мне тоже. До свиданья.
Позже Нина позвонила Адаму.
— Милый, это ты? Мне надо сказать тебе что-то ужасное.
— Да?
— Ты страшно рассердишься.
— Ну?
— Я выхожу замуж.
— За кого?
— Просто не знаю, как тебе сказать.
— За кого?
— Адам, а ты не устроишь сцену?
— Кто он?
— Рыжик.
— Не верю.
— Я не шучу. В общем, это все.
— Ты выходишь замуж за Рыжика?
— Да.
— Понятно.
— Что?
— Я говорю — понятно.
— И это все?
— Да, Нина, все.
— Когда я тебя увижу?
— Я больше не хочу тебя видеть.
— Понятно.
— Что?
— Я говорю — понятно.
— Ну, прощай.
— Прощай… Мне очень жаль, Адам.
Глава 12
Через десять дней после этого Адам купил на углу Уигмор-стрит букет цветов и пошел в больницу навестить мисс Рансибл. Для начала его провели в кабинет заведующей. Там было множество фотографий в серебряных рамках и препротивный фокстерьер. Заведующая курила сигарету — жадно, короткими, чмокающими затяжками.
— Зашла к себе на минуту передохнуть, — сказала она. — Даун, Джек, даун. Впрочем, я вижу, вы собак любите, — добавила она, видя, что Адам вяло потрепал Джека по голове. — Так вы хотите навестить мисс Рансибл? Должна вас предупредить, что волновать ее строго запрещено. Она пережила серьезный шок. Вы ей родственник, позвольте спросить?
— Нет, просто друг.
— Может быть, даже очень близкий друг? — спросила заведующая лукаво. — Ну-ну, не буду вас смущать. Бегите наверх, повидайте ее, только помните — не больше пяти минут, не то я сама приду вас выгонять.
На лестнице пахло эфиром, и это напомнило Адаму те дни, когда он сидел у Нины на кровати, перед тем как вести ее завтракать в ресторан, а она пудрилась и подмазывала губы. (На это время она всегда велела ему отворачиваться, выказывая повышенную стыдливость в отношении именно этой стадии своего туалета — в отличие от иных женщин, которые нипочем не покажутся в одном белье, а с ненакрашенным лицом предстанут перед кем угодно.)
Подолгу думать о Нине Адаму было очень больно.
На двери палаты, где помещалась мисс Рансибл, висела прелюбопытная таблица, показывающая колебания ее температуры и пульса, а также много других захватывающих подробностей о состоянии ее здоровья. Адам с интересом изучал эту таблицу до тех пор, пока сестра, проходившая мимо с целым подносом сверкающих хирургических инструментов, не окинула его таким взглядом, что ему пришлось отвернуться.
Мисс Рансибл лежала в затемненной комнате, на узкой высокой кровати.
Возле нее сидела с вязаньем сестра. Когда Адам вошел, она встала, роняя с колен клубки, и сказала:
— К вам гости, милая. Только помните, много говорить вам вредно. — Потом взяла у Адама из рук цветы, сказала: — Прелесть какая, вы у нас счастливица, — и вышла с цветами из комнаты. Через минуту она принесла их обратно в кувшине с водой. — Вон как по водичке соскучились, — сказала она. — Сейчас оживут, мои хорошие. — И опять вышла.
— Деточка, — раздался слабый голос с кровати. — Я даже не вижу, кто это. Может быть, отдернуть шторы? Или нельзя?
Адам впустил в комнату серый свет декабрьского дня.
— Ой, деточка, это же ослепнуть можно. Вон там в гардеробе есть все для коктейлей. Вы смешайте побольше, сестры их очень любят. Больница здесь прекрасная, только персонал морят голодом, и рядом в комнате сногсшибательный молодой человек, он все заглядывает сюда и справляется о моем здоровье. Сам-то он вывалился из аэроплана, это здорово, правда?
— Как вы себя чувствуете, Агата?
— Да по правде сказать, немножко странно… Как Нина?
— Выходит замуж, вы не слышали?
— Что вы, здешние сестры интересуются только принцессой Елизаветой, а больше никем. Расскажите.
— Есть такой молодой человек по имени Рыжик.
— Что?
— Вы его не помните? Он с нами повсюду ездил после вечера на дирижабле.
— Не тот, которого тошнило?
— Нет, другой.
— Не помню. Нина тоже называет его Рыжик?
— Да.
— Почему?
— Он ее просил.
— Что?
— Они в детстве вместе играли. Ну а теперь она выходит за него замуж.
— А как же вы? Ведь это же загрустить можно.
— Я в полном отчаянии. Думаю покончить с собой, как Саймон.
— Не надо, милый… А разве Саймон покончил с собой?
— Вы же это знаете. В ту ночь, когда посыпались иски о клевете.
— Ах, этот Саймон. А я думала, вы про Саймона.
— Кто такой Саймон?
— Тот молодой человек, что вывалился из аэроплана. Сестры его прозвали Саймон-простачок, потому что он немножко повредился в уме… Но право же, Адам, мне за вас так обидно из-за Нины. Знаете, что мы сделаем? Как только я поправлюсь, уговорим Мэри Маус устроить развеселый вечер, чтобы вас подбодрить.
— А вы разве не слышали про Мэри?
— Нет. Что?
— Она уехала с магараджей Поккапорским в Монте-Карло.
— Ой, как Маусы, наверно, злятся!
— Проходит курс религиозного обучения, чтобы ее можно было официально признать княжеской наложницей. А потом они уедут в Индию.
— Как люди все исчезают, правда, Адам? Вы получили те деньги от пьяного майора?
— Нет, он тоже исчез.
— Вы знаете, все время, пока я была не в себе, меня мучили ужасные кошмары. Мне снилось, что все мы участвуем в автомобильных гонках, все носимся и носимся по кругу и не можем остановиться. А публики масса — сплошь «незваные», и репортеры светской хроники, и Арчи Шверт и ему подобные, и все кричат, чтобы мы ехали быстрее, и одна машина за другой разбиваются, и вот я остаюсь одна и все несусь куда-то, несусь, а потом моя машина тоже вдребезги, и я просыпаюсь.
Тут дверь отворилась, и в палату вошел Майлз.
— Агата, Адам, дети мои, как же долго я сюда пробивался. У них там жуткие порядки — не пускают, и все. Сначала я сказал, что я лорд Казм — не подействовало; потом сказал, что я врач — тоже не подействовало; сказал, что я ваш жених — и это не подействовало; а как сказал, что я репортер светской хроники, тут они меня сразу впустили, только не велели вас волновать и очень просили упомянуть в газете об их больнице. Ну, как вы, Агги, деточка? Я вам принес новых пластинок.
— Вы ангел. Давайте их сейчас же поставим. Патефон под кроватью.
— А к вам сегодня еще уйма гостей собирается. Я их видел на завтраке у Марго. Джонни Хуп, и Вэн, и Арчи Шверт. Только вот не знаю, сумеют ли они прорваться.
Сумели.
Так что вскоре их собралась большая компания, и из соседней палаты явился Саймон в веселеньком халате, и они ставили новые пластинки, а мисс Рансибл под одеялом двигала забинтованными руками и ногами в негритянском ритме.
Последней вошла Нина, очень красивая и на вид совершенно больная.
— Нина, что я слышу, вы выходите замуж?
— Да, это очень удачно. Мой отец только что вложил все свои деньги в кинокартину и все потерял.
— Дорогая моя, это пустяки. Мой отец терял все свои деньги два раза. Никакой разницы не чувствуется. Надо только это усвоить, и все будет хорошо. Вы правда зовете его Рыжик?
— В общем, да, только пожалуйста, Агата, не издевайтесь надо мной за это.
А патефон играл ту песенку, которую пел когда-то негр в «Café de la Paix».
Потом явилась сестра.
— Ну и расшумелись, — сказала она. — Вот узнает заведующая, влетит и вам и мне.
— Возьмите шоколадку, сестра.
— Ого, шоколад… Адам смешал еще коктейлей.
Майлз пододвинул к себе телефон и, сидя на кровати мисс Рансибл, стал диктовать заметку о больнице.
— Вот что значит иметь знакомство в прессе, — сказала сестра. Адам подал ей бокал. — Вы думаете, ничего? Авось не слишком крепкий, а то ну как ударит в голову. Что мои больные-то скажут, если к ним сестра заявится пьяненькая?… Ну, раз уж вы уверены, что не повредит, тогда спасибо.
…Вчера я навестил достопочтенную Агату Рансибл запятая прелестную дочь лорда Казма запятая в больнице на Уимпол-стрит, где она поправляется от последствий автомобильной катастрофы, недавно описанной на этих страницах точка в гостях у мисс Рансибл собралось довольно большое общество, в там числе…
Адам, разносивший бокалы, дошел до Нины.
— А я думала, мы больше никогда не увидимся.
— Рано или поздно мы должны были встретиться, это ясно. Агата неплохо выглядит, правда? Я думала, она хуже. Какая забавная больница.
— Нина, нам нужно повидаться. Поедем отсюда к Лотти, пообедаем вместе.
— Нет.
— Ну пожалуйста.
— Рыжик будет недоволен.
— Нина, ты его не любишь?
— Наверно, нет.
— А меня?
— Не знаю, когда-то любила.
— Нина, я просто не могу с тобой не видеться. Поедем сегодня ко мне обедать. Что тут плохого?
— Милый, я отлично знаю, чем это кончится.
— Ну и что?
— Понимаешь, у Рыжика свой взгляд на эти вещи. Он ужасно рассердится.
— А как же я? Ведь у меня право первооткрывателя.
— Милый, не груби. Кроме того, мы с Рыжиком играли в детстве. Волосы у него тогда были очень красивого цвета.
…мистер «Джонни» Хуп, чья автобиография выходит в свет в будущем месяце, рассказал мне, что намерен посвятить себя живописи и весной уезжает в Париж учиться. Он уже принят в студию известного…
— Нина, в последний раз.
— Ну, что ж, пожалуй.
— Ты ангел.
— А ты, по-моему, знал, что я соглашусь.
…мисс Нина Блаунт, чей жених, выдающийся игрок в поло Рыжик Литлджон… мистер Шверт…
— Ах, Адам, если б только ты был так же богат, как Рыжик, ну хоть вполовину так же. Если б у тебя было хоть сколько-нибудь денег…
— Это что же такое, — сказала, внезапно появляясь, заведующая. — Коктейли и патефон после контузии? Слыханное ли дело? Сестра Бригс, сейчас же спустите шторы. А вы все уходите, живо. На моей памяти больные и не от такого умирали.
Мисс Рансибл и в самом деле уже выказывала признаки возбуждения. Она сидела в постели выпрямившись, улыбаясь безумной улыбкой и милостиво кивая забинтованной головой воображаемым гостям.
— Деточка, — говорила она, — это же божественно. Ну, как вы себя чувствуете?… А вы как?… И все пришли ко мне, какая ангельская доброта! Только будьте очень осторожны на поворотах, а то можно вывалиться… Ух, чуть не столкнулись. Вот опять этот противный итальянец… хоть бы знать, что в этой машине для чего устроено… деточка, постарайтесь ехать прямее, еще бы чуть-чуть, и налетели бы на меня… Быстрее…
— Полно, полно, мисс Рансибл, не волнуйтесь, — сказала заведующая. — Сестра Бриге, несите скорее лед.
— Мы тут все свои, — говорила мисс Рансибл с лучезарной улыбкой. — Быстрее, быстрее… Уж я остановлюсь, когда придет время.
В тот вечер температурная кривая мисс Рансибл подскочила до такой высокой точки, что сбежалась смотреть вся больница. Сестра Бригс за вечерней чашкой какао вздохнула, что жаль будет потерять эту больную. Такая славная девушка, и умница, только очень уж возбудима.
В гостинице «Шепард» Лотти сказала Адаму:
— Этот дядька опять вас спрашивал.
— Какой дядька, Лотти?
— А я откуда знаю? Тот же, что и раньше.
— Вы мне ни про какого дядьку не говорили.
— Разве? Ну, значит, запамятовала.
— Что ему было нужно?
— Не знаю. Что-то насчет денег. Небось кредитор. Сказал, что завтра опять зайдет.
— Так вы ему передайте, что я уехал в Манчестер.
— Передам, голубчик… Винца не хотите выпить?
Позже в тот же вечер Нина сказала:
— По-моему, ты сегодня даже не особенно рад.
— Прости, пожалуйста. Тебе со мной скучно?
— Я, пожалуй, пойду домой.
— Да.
— Адам, милый, что с тобой случилось?
— Не знаю… Нина, тебе никогда не кажется, что так не может продолжаться?
— Что именно? У нас или вообще?
— Вообще.
— Нет… к сожалению, нет.
— Наверно, ты права… что ты ищешь?
— Платье.
— О, Адам, что тебе наконец нужно? Ты сегодня совершенно невозможен.
— Давай помолчи! Нина, хорошо?
Позже он сказал:
— Я бы все на свете отдал за что-нибудь новое.
— Новое вместо меня или вообще новое.
— Вообще… Только ведь у меня ничего нет… какой смысл говорить?
— Адам, родной мой…
— Да?
— Нет, ничего.
Когда Адам на следующее утро спустился в гостиную, он застал там Лотти за утренним бокалом шампанского.
— Что, улетела ваша птичка? Ну садитесь, выпейте. Кредитор этот опять заходил. Я ему сказала, что вы в Манчестере.
— Вот и отлично.
— А он, представьте, даже обозлился. Сказал, что поедет вас искать.
— Еще лучше.
И тут случилось то, чего Адам с ужасом ждал уже много дней. Лотти вдруг сказала:
— А кстати, мне вы ведь тоже кое-что должны.
— Знаю, знаю, — сказал Адам. — Я все собирался попросить у вас счет. Вы распорядитесь, чтобы его выписали и прислали мне как-нибудь на днях, ладно?
— А он у меня здесь, уже готов. Батюшки мои, сколько же тут за одни напитки!
— Да, просто ужас. А может быть, часть этого шампанского брал судья, как вы думаете?
— Вполне возможно, — согласилась Лотти. — У нас частенько получается путаница с записями.
— Ну, все равно, спасибо, я вам пришлю чек.
— Нет, голубчик, — сказала Лотти, — вы лучше выпишите его прямо здесь. Вот вам перо, вот чернила, а вот чистая чековая книжка.
(Счета у Лотти предъявляют нечасто и нерегулярно, но уж если предъявят, от них не отвертеться.) Адам выписал чек на 78 фунтов и 16 шиллингов.
— И два пенса за бланк, — сказала Лотти.
— И два пенса, — приписал Адам.
— Вот и умница, — сказала Лотти, промокнула чек и заперла его в ящик стола. — Смотрите-ка, кто сюда пожаловал. Мистер Какбишьего собственной персоной.
Это был Рыжик.
— Доброе утро, миссис Крамп, — сказал он официальным тоном.
— Подсаживайтесь к нам, голубчик, выпейте винца. Я ведь вас знала, когда вас еще на свете не было.
— Приветствую, Рыжик, — сказал Адам.
— Послушайте, Саймз, — сказал Рыжик, в замешательстве глядя на бокал, оказавшийся у него в руке. — Мне нужно с вами поговорить. Можем мы пройти куда-нибудь, где нам не помешают?
— Да не буду я вам мешать, мои милые, — сказала Лотти. — Говорите себе сколько душе угодно. А у меня дел невпроворот.
Она ушла, и тут же в гостиную донесся ее громкий голос, распекающий лакея-итальянца.
— Итак? — сказал Адам.
— Дело в том, что я хочу сказать вам одну вещь, которая может показаться вам чертовски неприятной и все такое, но, понимаете, я хочу сказать, что победа досталась достойнейшему, только я, конечно, не имею в виду, будто я достойнее вас. Это бы мне и в голову не пришло. И уж, во всяком случае, Нины ни вы, ни я не достойны. Просто мне повезло. Вам-то, конечно, здорово не повезло и все такое, но, однако же, как подумаешь, ну, в общем, вы, черт возьми, понимаете, что я хочу сказать?
— Не совсем, — сказал Адам ласково. — Давайте повторите еще раз. Это что-то насчет Нины?
— Вот именно, — вдруг зачастил Рыжик. — Мы с Ниной помолвлены, и я попросил бы вас не вклиниваться, а то вам же будет хуже. — Он умолк, несколько смущенный собственным красноречием.
— Из чего вы заключили, что я вклиниваюсь?
— Она, черт возьми, обедала с вами вчера вечером, разве не так? И домой вернулась очень поздно.
— Откуда вы знаете, когда она вернулась домой?
— Ну, мне, понимаете, надо было обсудить с ней одну очень важную вещь, и я несколько раз звонил ей, а она ответила только в три часа ночи.
— Вы, надо думать, звонили ей примерно каждые десять минут?
— Ничего подобного, вовсе не так часто. Нет, черт возьми, гораздо реже. Я понимаю, это звучит как-то непорядочно, но мне, понимаете, необходимо было с ней поговорить, а когда я, наконец дозвонился, она только сказала, что ей нездоровится, а разговаривать не захотела. Ну вот, я и говорю. Как-никак, надо быть джентльменом. Еще будь вы давнишним другом семьи, ну, тогда другое дело, а то ведь нет? Вы ведь сами одно время были как будто с нею помолвлены, верно? Ну вот, я и говорю, как бы вы отнеслись, если бы я тогда вклинился? Должны же вы, черт возьми, встать и на мою точку зрения, разве не так?
— А знаете, пожалуй, именно это и произошло.
— Ну что вы, Саймз, как можно, черт возьми, говорить такие вещи. Да вы знаете, когда я жил на Востоке, у меня Нинина фотография всегда висела над кроватью, честное слово. Вы, наверно, сочтете это сентиментальностью и все такое, но, говорю вам, пока я был там, я ни на минуту не переставал о ней думать. Причем, имейте в виду, там было много и других очень славных девушек и, я не скрываю, с некоторыми я дружил — теннис, понимаете, турниры и все такое и танцы по вечерам, но что-нибудь серьезное — этого, понимаете, не было. Единственной девушкой, о которой я думал всерьез, была Нина, и я твердо решил — найду ее, когда вернусь в Англию, и, если она согласится… Вы меня понимаете? Так что видите, как мне должно быть неприятно, когда кто-то вклинивается. Уж это-то вы можете понять?
— Да, — сказал Адам.
— И есть, понимаете, еще одна вещь, это уж независимо от всяких сантиментов. Нина, понимаете, любит хорошо одеваться и любит красивые вещи и комфорт и все такое. Так вот, я хочу сказать, ее отец, конечно, чудесный старик, прямо-таки замечательный, но в денежных делах он, понимаете ли, порядочный осел. Я хочу сказать, что Нине придется очень туго и все такое, а у вас ведь не так уж много денег, верно?
— У меня вообще нет денег.
— Ну вот, я и говорю, это я и хотел сказать, что вам в этом смысле здорово не повезло. Никто вас, разумеется, не осуждает, это даже очень почтенно — я имею в виду зарабатывать на хлеб и все такое. Сейчас у многих нет денег. Я мог бы назвать вам десятки хороших людей, прямо-таки превосходных, у которых нет буквально ни гроша. Нет, я только имею в виду, что, когда дело доходит до женитьбы, это все-таки разница, верно?
— Вы, видимо, все это время пытались сказать, что не уверены в Нине?
— Бросьте, дорогой мой, что за глупости. Это абсолютная чепуха. Черт возьми, конечно, я в ней уверен, как же иначе? В конце концов, что значит любить человека, если не веришь в него?
«В самом деле, что это значит?» — подумал Адам, а вслух сказал:
— Ну-ка, Рыжик, положа руку на сердце, что бы вы дали за Нину?
— О господи, вот странный вопрос, да что угодно, разумеется. Я бы ради этой девушки ничего на свете не пожалел.
— Ну, так я ее вам продам.
— Бог с вами, послушайте, нет, черт возьми, я хочу сказать…
— Продам вам мою долю в ней за сто фунтов.
— Вы уверяете, что любите Нину, а сами так о ней говорите. Да это, черт возьми, непристойно. И кроме того, сто фунтов — очень большая сумма. Я хочу сказать, женитьба вообще связана с большими расходами. А я еще выписал из Ирландии двух лошадок для поло. То, другое, вы знаете, во сколько мне это все обойдется?
— Сто фунтов на бочку, и я отказываюсь от Нины в вашу пользу. Я считаю, что это еще дешево.
— Пятьдесят.
— Сто.
— Семьдесят пять.
— Сто.
— Больше семидесяти пяти не дам, хоть ты тресни.
— Давайте семьдесят восемь фунтов, шестнадцать шиллингов и два пенса. Дешевле уступить не могу.
— Ладно, идет. И вы правда уберетесь с дороги?
— Постараюсь, Рыжик. Выпьем.
— Нет уж, спасибо… Вот теперь ясно, какой участи избежала Нина… бедная девочка.
— Прощайте, Рыжик.
— Прощайте, Саймз.
— Мистер Какбишьего уже уходит? — сказала Лотти, появляясь в дверях. — А я как раз думала, не выпить ли по стаканчику.
Адам пошел в телефонную будку.
— Алло, это Нина?
— Кто говорит? Мисс Блаунт, кажется, нет дома.
— Мистер Фенвик-Саймз.
— Ой, Адам. А я думала, это Рыжик. Я как проснулась, почувствовала, что просто не выношу его. Он вчера позвонил, как только я вернулась.
— Знаю. Нина, радость моя, случилась ужасная вещь.
— Что?
— Лотти предъявила мне счет.
— Милый, и что же ты сделал?
— Сделал нечто из ряда вон выходящее… Родная, я продал тебя.
— Ой, милый, кому?
— Рыжику. Ты потянула на семьдесят восемь фунтов, шестнадцать шиллингов и два пенса.
— Что?!
— И теперь я никогда больше тебя не увижу.
— Ну знаешь, Адам, это свинство. Я так не хочу, чтобы больше тебя не видеть.
— Мне очень жаль… Прощай, Нина, родная моя.
— Прощай, моя радость. Но какой же ты все-таки негодяй.
На следующий день Лотти сказала Адаму:
— Помните, я говорила, что вас тут один спрашивал?
— Кредитор?
— А он, оказывается, был не кредитор. Я только что вспомнила. Он одно время часто здесь бывал, пока не подрался с каким-то канадцем. Он был здесь в тот вечер, когда эта дурочка Флосси доигралась с люстрой.
— Неужели пьяный майор?
— Вчера он был не пьяный. С виду, во всяком случае, было незаметно. Такой краснолицый дядька с моноклем. Да вы, голубчик, наверно, его помните. Он еще ставил за вас на лошадь в ноябрьском гандикапе.
— Но я немедленно должен с ним связаться. Как его зовут?
— Вот этого не скажу. И знала ведь, да начисто забыла. Он поехал в Манчестер вас искать. Обидно, что вы с ним разминулись.
Адам пошел звонить Нине.
— Знаешь, что, — сказал он, — ты там не спеши с Рыжиком. Возможно, я тебя еще выкуплю обратно. Пьяный майор опять объявился.
— Поздно, милый. Мы с Рыжиком сегодня утром поженились. Я как раз укладываюсь. Мы улетаем в свадебное путешествие на аэроплане.
— Я вижу, Рыжик решил ловить момент. Нина, родная моя, не уезжай.
— Нельзя. Рыжик говорит, что знает «чудесное местечко вблизи Монте-Карло с вполне приличной площадкой для гольфа, на девять лунок».
— Ну и что?
— Да, я знаю… мы туда всего на несколько дней. А потом вернемся и Рождество проведем у папы. Может быть, тогда удастся что-нибудь устроить. Я надеюсь.
— Ну, прощай.
— Прощай.
Рыжик посмотрел в окошко аэроплана.
— Нина, — прокричал он, — тебя в школьные годы не заставляли учить наизусть такие стихи из хрестоматии, что-то такое «Страна величья, трон любимый Марса, какой-то там Эдем»? Ну, знаешь, наверно?
«Счастливейшее племя, в малом — мир, Роскошный перл в сверкающей оправе…» «Благословенный край, страна родная, Отчизна наша, Англия, — она, Вскормившая на плодоносном лоне, Взрастившая, как нянька, королей, Рожденьем знаменитых, силой грозных…» [19]Дальше забыл. Что-то насчет упрямого еврея. Но ты знаешь, о чем я говорю?
— Это из одной пьесы.
— Нет, из синей хрестоматии.
— Я в ней играла.
— Ну, может быть, их потом вставили в пьесу. Когда я их учил, они были в синей хрестоматии. Но так или иначе, ты знаешь, о чем я?
— Да, а что?
— Я просто хотел сказать — у тебя нет такого чувства, когда вот так летишь и смотришь вниз и там все видно, не появляется у тебя ощущение вроде этого, ну, ты меня понимаешь.
Нина глянула вниз и увидела накренившийся под каким-то странным углом горизонт беспорядочного красного пригорода; заводы — одни работающие, другие бездействующие, брошенные; заросший канал; вдалеке — холмы, усеянные домиками; радиомачты и электрические провода; людей было не разглядеть — одни точки; они там женились и выходили замуж, бегали по магазинам, наживали деньги и рожали детей. Пейзаж опять накренился и подпрыгнул — аэроплан попал в воздушную яму.
— Меня, кажется, сейчас стошнит, — сказала Нина.
— Бедная девочка, — сказал Рыжик. — Вот бумажные пакеты и пригодятся.
Впереди черная дорога была видна на каких-нибудь четверть мили, не больше. Она разматывалась, как кинопленка. По бокам царил хаос; навстречу несся туман; крики «быстрее, быстрее» перекрывали рев мотора. Внезапно дорога пошла вверх, и белая машина, не сбавляя скорости, взлетела на крутой подъем. На верхней точке был поворот. Две машины незаметно подобрались к нему справа и слева — вот-вот столкнутся.
— Быстрее! — крикнула мисс Рансибл. — Быстрее!
— Тише, тише, милая. Так вы всех перебудите. Лежите спокойно, а то никогда не поправитесь. Все хорошо, и волноваться не о чем. Ничего не случилось.
Ее пытались уложить. Разве можно править машиной лежа? Опять поворот, еще страшнее. Автомобиль приподнялся на двух колесах, дернулся вправо, его потащило через дорогу, до обрыва осталось несколько дюймов. На поворотах надо тормозить, но их же не видно, когда лежишь пластом, на спине. На такой скорости не удержать машину — видите, уже заносит.
— Быстрее! Быстрее!
Шприц. Укол.
— Не о чем волноваться, милая. Ничего не случилось… Ничего.
Глава 13
Фильм был закончен, и все уехали — Весли и Уайт-филд, епископ Филпотс и мисс Латуш, мистер Айзеке и его ученики из Национальной Академии Кинематографического Искусства. Парк тонул в снегу, чистый белый ковер, и на нем ни теней, ни пятен, только цепочки крошечных стрелок, проложенные лапками голодных птиц. Звонари усердно готовились к празднику, и воздух полнился колокольным звоном.
В доме, в столовой, мистер Флорин, миссис Флорин и пятнадцатилетняя служаночка Ада украшали ветками остролиста рамы семейных портретов. Мистер Флорин держал корзину, миссис Флорин держала лесенку, Ада пристраивала ветки по местам. Полковник Блаунт пошел к себе наверх — как всегда, соснуть до чая.
Флорин приготовил сюрприз. Это было древнее знамя из белого коленкора с выведенными по нему красной ленточкой словами: «Добро пожаловать!» Он всегда помнил, где оно хранится, и искать не надо было — сверху в черном чемодане, на дальнем чердаке, позади обеих цинковых ванн и футляра от виолончели.
— Его полковникова матушка сшила, — объяснил он, — когда мальчика в первый раз увезли в школу, и вывешивалось оно потом в холле всякий раз, как он и мистер Эрик приезжали домой на каникулы. Он как войдет в дом, первым делом его высматривает, даже когда уже взрослым приезжал, в отпуск. Сразу, бывало, спросит: «А где мое знамя?» Вот мы его и вывесим для мисс Нины… лучше бы сказать, для миссис Литлджон.
Ада спросила, не нужно ли украсить остролистом спальню капитана Литлджона и его супруги.
Миссис Флорин ответила, где это слыхано, чтобы остролистом украшали спальни, и вообще на второй этаж его не носят, примета плохая.
Ада сказала, ну, тогда, может быть, веточку омелы над кроватью?
Миссис Флорин сказала, что Ада еще молода думать о таких вещах, постыдилась бы.
Флорин сказал, что хватит Аде возражать и спорить, пусть лучше идет с ним в холл вешать знамя. Одна веревка крепится на рог носорога, другая — за шею жирафа.
В положенное время сверху спустился полковник Блаунт.
— Камины в большой гостиной затопить, сэр? — спросила его миссис Флорин.
— В большой гостиной? Нет, конечно, с чего это вы вздумали, миссис Флорин?
— В честь капитана Литлджона и его супруги, сэр. Вы, наверно, не забыли, что они нынче приедут к вам на праздники?
— Какой там еще капитан с супругой? Я слыхом о них не слыхал. Интересно, кто это их пригласил сюда. Я, во всяком случае, не приглашал. Понятия не имею, кто такие. Мне они не нужны… Да вот еще, вспомнил, ведь сюда собираются мисс Нина с мужем, что же мне, весь дом превращать в гостиницу? Так что если эти люди приедут, Флорин, вы им скажите, пусть уезжают. Понятно? Мне они не нужны, и кто их пригласил — не знаю, только очень уж много люди себе позволять стали — приглашают гостей ко мне в дом, даже не спросив у меня разрешения.
— Камины в большой гостиной затопить, сэр, в честь мисс Нины и ее мужа?
— Да, да, разумеется. И в спальне у них тоже, конечно, затопите. И еще. Флорин, пойдемте-ка со мной в погреб, я хочу выбрать портвейн… Ключи у меня с собой… Думаю, что Нинин муж придется мне по вкусу, — доверительно продолжал он по дороге в погреб. — Я имею о нем самые хорошие сведения — порядочный, серьезный молодой человек, и доходы солидные. Мисс Нина пишет, что он бывал у нас в детстве. Вы его помните, Флорин? Я, убей бог, не помню. Как его фамилия-то?
— Литлджон, сэр.
— Вот-вот, правильно. Литлджон. Ведь на языке вертелось. Литл-джон. Надо запомнить.
— Отец его жил одно время в Оукшотте, сэр. Очень богатый джентльмен. Кажется, судовладелец. А сын мальчиком ездил с мисс Ниной верхом. Рыженький такой, на обезьянку похожий… кошкам от него житья не было.
— Ну, это у него с годами, вероятно, прошло. Не упадите, Флорин, здесь ступенька выщерблена. Ну-ка, поднимите фонарь повыше. Так мы зачем пришли? Да, за портвейном. Где-то еще оставался разлива 96-го года, всего несколько бутылок. На этом вот ящике что написано? Я не разберу. Поднесите фонарь поближе.
— 96-й год мы допили, сэр, когда здесь жил тот джентльмен, что снимал картину.
— В самом деле? Это мы напрасно, Флорин, не стоило.
— Мистер Айзекс, он насчет вина был очень разборчив, а вы приказали подавать им, чего ни попросят.
— Да, но портвейн 96-го… Ну что ж, ну что ж… Возьмите две бутылки 904-го. Так, а что нам еще нужно? Да, кларет. Кларет, кларет, кларет, кларет. Где у меня кларет, Флорин?
Полковник Блаунт сидел за чаем — уже съел яйцо всмятку и намазывал медом булочку, когда Флорин распахнул дверь библиотеки и доложил:
— Капитан Литлджон с супругой, сэр.
И вошли Адам с Ниной.
Полковник Блаунт отставил булочку и поднялся им навстречу.
— Ну, здравствуй, Нина, давненько ты не навещала старика отца. А это, стало быть, мой зять? Здравствуйте, мой милый. Подсаживайтесь оба к столу, Флорин сейчас принесет еще чашек… Да, — сказал он, внимательно оглядев Адама, — я бы вас, пожалуй, не узнал. С отцом-то вашим я одно время был хорошо знаком. Он тут жил по соседству, в этом, как его… Вы это время, наверно, не помните. А ведь вы у нас бывали, ездили с Ниной верхом. Вам тогда было лет десять-одиннадцать, не больше. Странно, почему-то мне запомнилось, что волосы у вас были рыжие.
— Ты, наверно, слышал, что его называют Рыжик, — сказала Нина, — поэтому так и решил.
— Возможно, возможно, только с чего бы называть его Рыжиком, когда он самый обыкновенный блондин, ну, да все равно, рад вас видеть, очень, очень рад. Вам-то здесь, может быть, покажется скучновато. Гостей у нас теперь бывает мало. Вот тут Флорин, не спросясь у меня, пригласил какого-то капитана с супругой, но я сказал, что не желаю их видеть. С чего это я буду принимать друзей Флорина? Слуги нынче совсем обнаглели, воображают, что раз они у вас некоторое время прожили, так могут делать, что им вздумается. Возьмите хоть эту несчастную — старую леди Грейбридж. Пока она не умерла, так никто и не знал, что ее дворецкий все время сдавал комнаты в северном крыле дома. Она никак не могла взять в толк, почему это фрукты из сада никогда не попадают к ней на стол, а это, оказывается, дворецкий их все съедал со своими жильцами. А когда она заболела и слегла, он устроил в парке площадку для гольфа, просто безобразие. На такое, я думаю, Флорин бы не пошел, а впрочем, кто его знает. Лиха беда начало, а он — видали? — уже приглашает сюда гостей на праздники.
В кухне Флорин сказал:
— Это не тот мистер Литлджон, которого я знавал мальчиком.
Миссис Флорин сказала:
— Это тот молодой джентльмен, что в прошлом месяце здесь завтракал.
Ада сказала:
— У него наружность приятная.
Флорин и миссис Флорин сказали:
— Помолчи, Ада. Ты им в спальню горячей воды поставила? А чемоданы наверх отнесла? И распаковала? А вечерний костюм полковнику почистила? Ты что же думаешь, Флорин и миссис Флорин за тебя всю работу по дому будут делать? И посмотри на свой передник, нескладеха ты этакая, с утра уже второй изгваздала.
Флорин добавил:
— А знамя-то мисс Нина заметила.
В библиотеке полковник Блаунт сказал:
— На вечер у меня припасено для вас кое-что интересное. Я только что получил две последние проявленные пленки моей кинокартины Вот мы их вечером и посмотрим. Смотреть придется у пастора, потому что у него есть электричество, везет человеку. Я его предупредил, что мы будем. Он как будто не очень обрадовался. Стал говорить, что ему завтра читать три проповеди и к ранней обедне надо встать в шесть часов. Совсем не похоже на рождественский дух милосердия. Да еще не хотел заехать за нами на машине. Тут всего-то каких-нибудь четверть мили, для него это пустяк, а нам легко ли идти пешком по снегу со всей аппаратурой? Я ему сказал: «Если бы вы сами поступали по-христиански, мы бы, может быть, охотнее жертвовали на ваши заграничные миссии, и на бойскаутов, и на постройку органа». Ну, это его проняло. Да я сам, черт возьми, предоставил ему место в здешнем приходе, так кто же, как не я, имеет право на его автомобиль?
Когда Нина и Адам ушли к себе переодеваться к обеду, она сказала.
— Вот видишь, я же говорила, что папа тебя не узнает.
Адам сказал:
— Смотри, кто-то повесил у нас над кроватью омелу.
— Флоринов ты, по-моему, сильно удивил.
— Погоди, что еще скажет пастор. Когда я был здесь первый раз, он отвез меня на станцию. Он тогда решил, что я сумасшедший.
— Бедный Рыжик. Я все думаю, очень гадко мы с ним поступили? Но это словно сама судьба велела, чтобы его именно сейчас вызвали в полк.
— Я оставил ему чек в уплату за тебя.
— Милый, ты же знаешь, что это не чек, а фикция.
— Все чеки хороши, пока банк не отказался по ним платить, а завтра Рождество, потом второй день праздника, потом воскресенье. Раньше понедельника он не предъявит его к оплате, а до тех пор мало ли что может случиться. Вдруг еще объявится пьяный майор. А на худой конец я всегда могу отослать тебя ему обратно.
— Скорее всего, этим и кончится… Милый, наше свадебное путешествие — это был такой ужас… холод собачий, а Рыжику непременно нужно было после обеда выхаживать взад вперед по какой-то террасе, любоваться луной над Средиземным морем. Весь день он играл в гольф и заводил знакомства с другими англичанами в нашем отеле. В общем, что-то кошмарное… это же с тоски повеситься можно, как сказала бы бедная Агата.
— Я тебе говорил, что был на ее похоронах? Народу почти никого не было, только Казмы и какие-то тетки. Мы пошли с Вэном, предварительно выпили, и на нас все глазели. По-моему, им казалось, что я отчасти повинен в катастрофе.
— А Майлз не был?
— Ему пришлось уехать из Англии, ты разве не слышала?
— Милый, я ведь только сегодня вернулась из свадебного путешествия. Я ничего не слышала… Выходит, что из нас почти никого не осталось, только мы с тобой.
— И Рыжик.
— Да, и Рыжик.
Нельзя сказать, чтобы просмотр киноленты прошел с успехом. Пастор приехал, когда они кончали обедать, и вошел в столовую, стряхивая снег с воротника пальто.
— Входите, уважаемый, входите. Мы сейчас. Вот вам рюмка портвейну, присаживайтесь. С дочерью моей вы, конечно, знакомы? А это мой новоиспеченный зять.
— С ним я, кажется, тоже имел уже удовольствие познакомиться.
— Вздор, он здесь не бывал с тех пор, как еще пешком под стол ходил, задолго до вас.
Пастор не спеша тянул портвейн и поглядывал на Адама с таким выражением, что Нина чуть не прыскала со смеху. Наконец Адам тоже фыркнул, и пастор утвердился в своих подозрениях. Таким образом, отношения стали натянутыми еще до того, как все сели в машину. Впрочем, полковник, всецело поглощенный перевозкой своей аппаратуры, ничего не заметил.
— Вы здесь впервые? — спросил пастор, ведя машину по глубокому снегу.
— Я жил в этих краях в детстве.
— Да… но ведь вы совсем недавно сюда приезжали, разве нет? Полковник, знаете ли, очень забывчив.
— Нет, нет. Я здесь пятнадцать лет не был.
— Вот как, — сказал пастор и закончил вполголоса: — Невероятно, невероятно и очень печально.
Жена пастора, предвкушая вечер в веселом обществе, заранее приготовила в гостиной кофе с шоколадным печеньем, но полковник живо положил конец этому легкомыслию, погрузив их всех в темноту.
Он вывинтил электрические лампочки и вставил в розетку штепсель своего проектора. Яркий луч прорезал гостиную, выхватив из мрака пастора, шепотом сообщавшего на ухо жене о своем открытии.
— …тот самый молодой человек, о котором я тебе рассказывал, — говорил он. — Явно помешан, бедняга. Даже не помнит, что приезжал сюда. В возрасте полковника такие вещи, может быть, естественны, но когда человек так молод… печальный прогноз для потомства…
Полковник прервал свои приготовления.
— Знаете, уважаемый, что мне пришло в голову. Хорошо бы сюда доставить старика Флорина. Он, пока снимали картину, почти все время пролежал больной. Ему наверняка интересно было бы посмотреть. Будьте другом, съездите за ним на машине, а?
— Право же, полковник, по-моему, это не обязательно. И машину я уже поставил в гараж.
— Я без вас не начну, не беспокойтесь. Мне тут еще есть с чем повозиться. Мы вас подождем. Обещаю.
— Дорогой полковник, на улице валит снег, началась метель. Не окажется ли это плохой услугой — вытащить пожилого человека из дому в такую погоду, чтобы показать ему фильм, который, я не сомневаюсь, скоро будет демонстрироваться по всей стране?
— Ну хорошо, хорошо, уважаемый, будь по-вашему. Я только подумал, что сегодня как никак сочельник… о черт, током дернуло.
Адам с Ниной и пастор с женой терпеливо сидели в темноте. Через некоторое время полковник развернул скатанный в трубку посеребренный экран.
— Ну-ка, кто-нибудь, — сказал он, — помогите мне убрать с камина всю эту мелочь.
Жена пастора бросилась спасать свои безделушки.
— Как думаете, выдержит? — спросил полковник, взбираясь на рояль и проявляя разбуженные волнением поразительные запасы дремавшей энергии. — Так, теперь подайте мне экран. Отлично. Ничего, если я ввинчу вам в стену парочку шурупов? Совсем маленьких.
Вскоре экран был укреплен и линза повернута так, что на него лег небольшой квадрат света.
Публика замерла в ожидании.
— Начинаю, — сказал полковник и запустил проектор.
Послышалось жужжание, и вдруг стало видно, как четыре всадника в военной форме задом скачут по аллее парка.
— Эге, тут что-то не так, — сказал полковник. — Странно. Должно быть, я забыл ее перемотать.
Всадники исчезли, и снова послышалось жужжание — лента перематывалась на другую катушку.
— Вот, — сказал полковник, и на этот раз появилась надпись ровным, четким шрифтом: ПРОИЗВОДСТВО БРИТАНСКОЙ КОМПАНИИ ВУНДЕРФИЛЬМ. Надпись эта, сильно вибрируя, но в остальном не меняясь, заполняла экран довольно долго («Титры, конечно, надо будет немного подрезать, прежде чем выпускать ее в прокат», — объяснил полковник), а потом сменилась другой: С УЧАСТИЕМ ЭФФИ ЛАТУШ. Это сообщение на экране не задержалось, они едва успели его прочесть, как оно покатилось куда-то вбок и вниз («Черт, — сказал полковник, — съехало».) Последовала долгая пауза, а затем:
ЧУДОМ СПАСШИЙСЯ
ФИЛЬМ, ОСНОВАННЫЙ НА ЖИЗНЕОПИСАНИИ ДЖОНА ВЕСЛИ
(«Вот видите», — сказал полковник.)
АНГЛИЯ XVIII ВЕКА
Четверо мужчин в париках и маскарадных костюмах сломя голову бросились к столу и стали играть в карты. На столе были стаканы, горы денег и свечи. Мужчины играли с лихорадочным азартом и много пили. («Тут должна быть песня, — сказал полковник, — но мой аппарат, к сожалению, не дает звука».) Потом появился разбойник, задержавший ту самую карету, которую Адам видел во время съемок; потом голодные нищие у входа в даутингскую церковь; потом дамы в маскарадных костюмах, танцующие менуэт. Временами головы их исчезали над верхом экрана; временами они по пояс погружались вниз, словно в трясину; один раз сбоку мелькнул мистер Айзекс без пиджака, знаками подгонявший танцующих. («Я его выкину», — сказал полковник.)
ДОМ СВЯЩЕННИКА В ЭПВОРТЕ
ЛИНКОЛЬНШИР (АНГЛИЯ)
(«Это на случай, если картину приобретут в Штатах, — сказал полковник. — Линкольншира, у них там, кажется, нет, но все же уточнить не мешает».)
Появился угол дома в Даутинге, из окон валил дым. Старый священник в лихорадочном темпе передавал стоявшим поблизости ребенка за ребенком. («В доме пожар, — объяснил полковник. — Это мы устроили совсем просто — жгли какое-то снадобье, которое Айзекс привез с собой. Вонь стояла невыносимая».)
Так события в фильме сменялись в течение примерно получаса. Одна из особенностей картины состояла в том, что в самых драматических и важных для развития сюжета местах лента, казалось, крутилась особенно быстро. Крестьяне бежали в церковь, как наэлектризованные; любовники пулей влетали в окна и вылетали обратно; лошади мелькали перед глазами, как автомобили; восстания происходили так мгновенно, что их едва успевали заметить. Зато эпизоды спокойные, статичные — разговор в саду между двумя священниками, миссис Весли на молитве, леди Хантингдота, спящая в своем замке, и т. п. — тянулись нестерпимо долго. Даже полковник Блаунт обратил внимание на этот изъян.
— Здесь, пожалуй, можно кое-что вырезать, — сказал он после того, как Весли просидел за сочинением памфлета четыре с половиной минуты.
Когда пленка кончилась, все с облегчением зашевелились.
— Очень, очень мило, — сказал жена пастора. — Очень мило и поучительно.
— Поздравляю вас, полковник, картина захватывающе интересная. Я понятия не имел, что жизнь Весли была так богата приключениями. Надо будет перечитать Леки[20].
— Просто божественно, папа.
— Большущее вам спасибо, сэр. Я получил огромное удовольствие.
— Что вы, что вы, это не конец, — сказал полковник. — Есть еще четыре катушки.
— О, это хорошо. — Я так рада! — Великолепно. — Да?… Но досмотреть картину им не удалось. В самом начале второй части — когда в Америке леди Хантингдон, переодетая ковбоем, спасает Весли от краснокожих индейцев — произошла одна из тех неприятностей, от которых не застрахованы и самые современные суперкинематографы. Что-то вдруг затрещало, вспыхнула длинная голубая искра, и свет погас.
— Экая досада, — сказал полковник. — Что там еще? Сейчас как раз будет такое интересное место.
Он принялся энергично теребить свои шнуры, в спешке обжигая пальцы. Публика сидела в темноте. Потом дверь отворилась и вошла горничная со свечой.
— Прошу прощения, мэм, — сказал она. — Света нет во всем доме.
Пастор торопливо вышел в коридор и попробовал выключатель. Он несколько раз щелкнул им вверх и вниз, постучал по нему, как по барометру, легонько подергал его.
— Видимо, пробка перегорела, — сказал он.
— Ну, знаете, уважаемый, это не дело, — сказал полковник сердито. — Без электричества я показывать фильм не могу. Вы уж как-нибудь его почините.
— К сожалению, тут потребуется монтер, а вызвать монтера можно не раньше понедельника, — сказал пастор не по-христиански холодным тоном. — Да, мне уже ясно, что нам с женой и всему моему дому предстоит провести рождественские праздники в темноте.
— Признаться, — сказал полковник, — я этого не ожидал. Я, конечно, понимаю, что для вас это так же огорчительно, как для меня. Но все-таки…
Горничная принесла несколько свечек и велосипедный фонарь.
— Последние, сэр, — сказала она. — А лавки только в понедельник откроются.
— Полагаю, что в таком случае мое гостеприимство вам больше не требуется, полковник? Хотите, я позвоню в Эйлсбери и вызову вам такси?
— Что такое? Такси? Да это просто смешно — вызывать такси из Эйлсебри, чтобы проехать четверть мили.
— Миссис Литлджон едва ли захочется идти пешком в такую погоду.
— Может быть, правда вызвать такси, папа?
— Разумеется, если вы предпочитаете переждать… метель, возможно, утихнет. Но не думаю, чтобы вам улыбалось сидеть здесь вот так, в темноте.
— Нет-нет, вызывайте такси, — сказал полковник. По дороге домой он сказал: — Я совсем было решил дать ему на праздник две-три наши лампы. А теперь и не подумаю. Это надо же — гнать такси за семь миль, чтобы проехать несколько сот ярдов. Да еще в сочельник. Жалуются, что народ мало ходит в церковь, а чего же и ждать, когда у них у самих такое понятие о рождественском братстве. И я-то еще старался, привез ему показать мою картину…
Наутро Адам и Нина проснулись под Адиной веткой омелы и услышали гудящий над снегом рождественский благовест. «В церковь, люди добрые, в церковь поспешайте». Накануне они повесили на видном месте по чулку, и Адам положил Нине в чулок флакон духов с пульверизатором, а она ему — два галстука и безопасную бритву новой марки. Ада принесла им чай и поздравила с праздником. У Нины были приготовлены подарки для обоих Флоринов, но про Аду она забыла, поэтому подарила ей свои духи.
— Радость моя, — сказал Адам, — они стоят двадцать пять шиллингов — записаны в магазине Астри на счет Арчи Шверта.
Крошки от хлеба они высыпали на подоконник, прилетел снегирь и стал их клевать. В таком духе прошел весь день.
Завтракали Адам и Нина в столовой одни. На поставленных в ряд спиртовках грелись серебряные блюда с омлетом, жареной куропаткой, пловом, почками, рыбой и булочками; был там еще окорок, холодный язык, солонина и маринованная селедка. Нина съела яблоко, Адам — несколько гренков.
Полковник Блаунт спустился сверху в одиннадцать часов, облаченный в серый фрак. Он поздравил их с праздником, и они обменялись подарками. Адам подарил ему ящичек сигар, Нина — большую иллюстрированную книгу о современном кинематографе. Он подарил Нине брошь с мелкими бриллиантиками, принадлежавшую ее матери, Адаму же — календарь с цветной картинкой — бульдог, курящий трубку, — и строкой из Лонгфелло на каждый день года.
В половине двенадцатого они пошли в церковь.
— Преподам ему урок истинно христианского всепрощения, — сказал полковник (однако с начала до конца проповеди демонстративно читал свою Библию).
После службы они навестили нескольких арендаторов. Флорин еще накануне обошел их и оставил пакеты с провизией. Арендаторы были очень рады познакомиться с мужем мисс Нины. Многие из них помнили его мальчиком и отметили, что он изменился прямо до неузнаваемости. Они взахлеб напоминали ему про всякие компрометирующие эпизоды из детства Рыжика, главным образом случаи жестокого обращения с кошками.
После второго завтрака они пошли смотреть праздничные украшения в людской.
Это был обычай, освященный временем, и Флорины, соблюдая его, развесили в комнате бумажные вымпелы, прикрепив их к газовым рожкам. Ада ушла обедать к родителям, жившим в деревне среди заправочных колонок, так что Флорины ели индейку и плумпудинг вдвоем.
— На моей памяти за этим столом обедало об Рождестве по двадцать пять человек, — сказал Флорин. — Когда полковник и мистер Эрик были школьниками, вот уж бывали праздники, так праздники. Спектакли ставили, весь дом, бывало, вверху дном перевернут, и каждый гость приезжал со своим лакеем.
— Да, — вздохнула миссис Флорин.
— Теперь не то, — сказал Флорин и потянулся за зубочисткой.
— Да, — вздохнула миссис Флорин.
И тут из столовой пришли господа.
Полковник постучал в дверь и спросил:
— Можно нам войти, миссис Флорин?
— Можно, сэр, милости просим, — ответила миссис Флорин. Адам, Нина и полковник полюбовались украшениями и преподнесли Флоринам подарки, завернутые в папиросную бумагу. Потом полковник сказал:
— Давайте-ка выпьем вместе по бокалу вина.
Флорин откупорил принесенную еще утром из погреба бутылку хереса, налил бокалы и подал сперва Нине, потом миссис Флорин, потом полковнику, потом Адаму, а последний взял себе.
— Примите мои наилучшие пожелания, миссис Флорин, — сказал полковник, поднимая бокал, — и вы тоже, Флорин. Годы идут, и мы не молодеем, но я надеюсь и верю, что мы еще не раз вместе встретим Рождество. Миссис Флорин — та вообще изменилась с тех пор, как сюда приехала. Желаю вам обоим и в наступающем году здоровья и счастья.
Миссис Флорин сказала:
— Благодарю вас, сэр, и вам того же.
Флорин сказал:
— И до чего же приятно, что мисс Нина… лучше бы сказать миссис Литлджон… опять среди нас, в родном доме, и супруг ее тоже, и мы с миссис Флорин желаем им счастья и благополучия в совместной жизни, и я одно могу сказать — ежели они проживут так же счастливо, как мы с миссис Флорин, так лучшего я им и пожелать не могу.
Потом господа ушли, и весь дом привычно погрузился в дремоту.
В тот вечер после обеда Адам и полковник взяли по рюмке с портвейном и повернули свои кресла лицом к огню. Нина вышла в гостиную покурить.
— По чести, мой милый, — сказал полковник, подправляя ногой горящее полено, — я очень рад, что Нина вышла за вас замуж. Вы мне сразу понравились. Нина у меня своевольная, всегда такой была, но я знал, что в конце концов она сделает разумный выбор. У вас с ней много хорошего впереди.
— Надеюсь, сэр.
— А я так уверен, мой милый. Она тут чуть не наделала глупейших ошибок. Сюда недавно приезжал один осел — хотел на ней жениться. Журналист. Совсем безголовый. Уверял меня, что мой старый друг каноник Таратор работает вместе с ним в газете. Ну, мне не хотелось с ним спорить — как-никак, ему виднее, — но я тогда еще подумал, что это странно, а потом, представьте, разбирал как-то у себя наверху старые газеты, и мне попалась вырезка из «Вустер геральд» с описанием его похорон. Он умер в 1912 году. Это же надо быть полным идиотом, чтобы так ошибиться, верно я говорю?… Еще рюмочку портвейну?
— Спасибо.
— А то был еще один. Явился сюда, видите ли, продавать пылесосы и попросил у меня тысячу фунтов. Ну, я живо спровадил его… А вот вы, Литлджон, совсем другое дело. Лучшего зятя мне не надо. Ваш брак большая радость для меня, мой милый.
Тут вошла Нина и сказала, что под окнами гостиной собрались колядчики славить Христа.
— Зови, зови их сюда, — сказал полковник. — Они каждый год приходят. Да скажи Флорину, пусть несет пунш.
Флорин принес пунш в огромной серебряной миске, а Нина ввела певцов. Они выстроились вдоль буфета, каждый с шапкой в руке, моргая на ярком свету, с пылающими от быстрого перехода в тепло щеками и носом.
— Весть благая и радостная, — запели они, — благая и радостная.
О весть благая и радостная…
Они спели «Добрый царь Венсеслас», и «Придите, кто верит», и «Первый праздник Рождества», и «Пока пастухи пасли стада». Потом Флорин серебряным черпаком разлил по стаканам пунш, следя за тем, чтобы мальчикам не достались стаканы, предназначенные для взрослых, но чтобы каждому, по его возможностям, досталось вдоволь и даже немножко больше.
Полковник попробовал пунш и заявил, что пунш превосходный. Потом он спросил у певцов, как их зовут и откуда они, и, наконец, дал регенту пять шиллингов и выпустил их на мороз.
— Вот так бывает каждый год с тех пор, как я себя помню, — сказал полковник. — В моем детстве к нам на Рождество всегда съезжались гости… играли в шарады, то-то бывало весело… и после завтрака всегда бокал хереса в людской, а после обеда колядки… Скажите, — спросил он, внезапно меняя тему, — вам вчера в самом деле понравилась та часть моего фильма, которую мы успели посмотреть?
— Другого такого божественного фильма я просто не запомню, папа.
— Честное слово, сэр, я получил колоссальное удовольствие.
— В самом деле? Ну-ну, рад это слышать. А вот пастор, тот, по-моему, не оценил его, по крайней мере недостаточно оценил. Конечно, вы посмотрели только кусочек, так получилось огорчительно. Не хотелось ему это говорить, но я сразу подумал, экая небрежность — допустить, чтобы электрическая проводка в доме пришла в такое состояние, что ее даже на один вечер не хватило. И очень нелюбезно по отношению к людям, которые хотят показать фильм. Но фильм-то грандиозный, верно? Вы правда так считаете?
— Клянусь, я редко получал такое удовольствие.
— Эта картина, — сказал полковник мечтательно, — знаменует собою новый этап в развитии британской кинематографии. Это самый значительный звуковой суперрелигиозный фильм, созданный целиком на британской земле, силами британских актеров и режиссуры и на британские деньги. С начала до конца, невзирая на трудности и расходы, мы пользовались советами ученых консультантов — историков и богословов. Сделано решительно все, чтобы добиться максимальной достоверности каждой детали. Жизнь выдающегося социального и религиозного реформатора Джона Весли впервые будет показана британскому зрителю во всем ее человечном и трагическом величии… Я рад, что вы все это понимаете, мой милый, потому что я как раз собирался обратиться к вам с одним предложением. Я старею, на все меня не хватает, и я чувствую, что могу принести больше пользы как актер и постановщик, нежели в области коммерческой. Тут требуется человек молодой. Вот я и подумал — не заинтересует ли вас войти со мной в долю. Я купил все это предприятие у Айзекса, и, поскольку вы теперь член семьи, я не против того, чтобы продать вам половинный пай — скажем, за две тысячи фунтов. Я знаю, для вас это немного, а вы, со своей стороны, можете с уверенностью рассчитывать, что через несколько месяцев получите за свои деньги вдвое. Что вы на это скажете?
— Да понимаете… — сказал Адам.
Но ответить ему так и не пришлось, потому что в эту самую минуту дверь в столовую отворилась и вошел пастор.
— А-а, это вы, уважаемый, входите, входите. Вот это по-дружески — навестить нас в такой поздний час. Поздравляю вас с праздником.
— Полковник Блаунт, у меня ужасные новости. Я не мог не сообщить вам…
— Что вы говорите, ай-ай-ай. Надеюсь, не заболел никто из домашних?
— Хуже, гораздо хуже. Мы с женой сидели после обеда у камина, и так как читать мы не могли — ведь у нас нет света, — то включили радио. Передавали очень красивые рождественские песнопения. А потом концерт вдруг прервали и прочли экстренный выпуск известий… Полковник, случились нечто ужасное, совсем неожиданное — объявлена война!!
Счастливый конец
Посреди самого большого в истории человечества поля сражения Адам сел на расщепленный пень и прочитал письмо от Нины. Оно пришло еще накануне утром, но сразу же завязался напряженный бой и не было ни минуты свободной, чтобы его распечатать.
«Даутинг-Холл, Эйлсбери.
Адам, радость моя, как-то ты там? Очень трудно понять, что происходит, потому что газеты пишут такие странные вещи. У Вэна сейчас божественная работа — выдумывать новости с фронта, и он на днях сочинил чудесную историю о том, как ты спас жизнь сотням людей, и теперь то, что называют общественным мнением, возмущается, почему тебя не наградили Крестом Виктории, так что теперь ты его, вероятно, уже получил, забавно, правда?
Мы с Рыжиком здоровы. Он работает в одном бюро в Уайт-Холле и носит очень внушительную военную форму, а я, представь себе, жду ребенка, такой ужас, правда? Но Рыжик твердо решил, что ребенок его, и безмерно доволен, так что это не страшно. Он окончательно простил тебе Рождество, говорит, что ты теперь защищаешь родину и вообще в военное время нехорошо таить обиду.
В Даутинге открыли госпиталь, ты слышал? Папа показывает раненым свой фильм, и они в восторге. Я как-то видела мистера Бенфлита, он сказал, какой это ужас, когда посвятишь всю жизнь делу культуры, видеть, как все, ради чего жил, идет прахом, но у него очень хорошо расходится серия военных поэтов „Меч вынут из ножен“.
Правительство издало постановление, что все должны спать в противогазах на случай бомб, но никто не слушается. Арчи посадили в тюрьму как нежелательного иностранца, это Рыжик добился, он очень строг насчет шпионов. Мне часто нездоровится из-за маленького, но все говорят, что родить детей во время войны патриотично. Почему?
Целую крепко, мой ангел.
Береги себя.
Н.»Он вложил письмо обратно в конверт, спрятал в нагрудный карман, а карман застегнул. Потом достал трубку, набил ее и закурил. Местность вокруг него была удручающе безотрадна: огромное пространство развороченной мокрой земли и все, что на ней можно разглядеть, сожжено либо разбито. Где-то за горизонтом гремела стрельба, над серыми тучами кружили аэропланы. Смеркалось.
Он заметил, что к нему приближается какая-то фигура, — мужчина, явно военный, с трудом пробирался между обрывками колючей проволоки, растянувшимися по земле, как паутина. Человек подошел ближе, и Адам увидел, что он целится в него из ручного огнемета. Адам стиснул в пальцах гранату Хаксдена-Халли (для рассеивания бацилл проказы), и так, ожидая друг от друга самого худшего, они сошлись. В полумраке Адам разглядел форму английского офицера штаба. Он убрал гранату в карман и отдал честь.
Офицер опустил руку с огнеметом и приподнял противогаз.
— Англичанин? — сказал он. — Ни черта не вижу. Монокль разбился.
— О, — сказал Адам. — Вы же пьяный майор.
— Я не пьян, сэр, — сказал пьяный майор, — и к тому же я, черт возьми, генерал. Вы-то что здесь делаете?
— Да понимаете, — сказал Адам, — я потерял свой взвод.
— Подумаешь, взвод… Я вот потерял всю свою дивизию, чтоб ей неладно было.
— Бой кончился, сэр?
— Не знаю. Ни черта не вижу. Еще недавно шел вовсю. Тут где-то моя машина поломалась. Шофер пошел искать подмогу и пропал, а я вышел его посмотреть, да вот теперь потерял машину. Чертова местность, тут всякий заплутается. Никаких ориентиров… Смотри-ка, где встретились, это забавно. Я вам кое что должен.
— Тридцать пять тысяч фунтов.
— Тридцать пять тысяч и пять. Я вас повсюду искал, до того как началась эта заваруха. Деньги могу вам отдать хоть сейчас, если хотите.
— Фунт, вероятно, сильно упал в цене?
— Почти до нуля. Но чек я вам, пожалуй, все-таки выпишу. Хватит купить стакан спиртного и газету. Кстати, о спиртном, у меня в машине целый ящик шампанского, только машина-то неизвестно где. Я его спас из одной столовой ВВС, еще там, при штабе. Ее разбомбили. Хорошо бы все-таки найти машину.
Со временем они ее нашли — лимузин «деймлер», по ступицу увязший в жидкой грязи.
— Залезайте, садитесь, — гостеприимно пригласил генерал. — Я сейчас включу свет.
Адам залез в машину и обнаружил, что там уже кто-то есть. В углу, свернувшись калачиком, под французской шинелью крепко спала какая-то молодая женщина.
— А я и забыл про нее, — сказал генерал. — Эту малютку я подобрал на дороге. Познакомить вас не могу, потому что не знаю ее имени. Проснитесь, mademoiselle!
Женщина тихо вскрикнула и раскрыла испуганные глаза.
— Ничего, ничего, малютка, пугаться некого, тут все свои. Parlez anglais?
— А как же, — сказала она.
— Так, может быть, выпьем? — сказал генерал, сдирая фольгу с горлышка бутылки. — Стаканы в шкафчике.
При виде вина съежившийся в углу безутешный комочек женской плоти, казалось, немного успокоился. Она признала в шампанском символ международной доброй воли.
— А теперь наша прелестная гостья, может быть, скажет, как ее зовут, — предложил генерал.
— Не знаю, — сказала она.
— Полно, полно, малютка, не надо стесняться.
— Я не знаю. Меня как только не звали. Когда-то звали Непорочность. Потом на одном вечере была знатная леди, она отправила меня в Буэнос-Айрес, а когда началась война, привезла обратно, и я была у солдат, которые проходили обучение на Солсберийской равнине. Это было чудесно. Они меня звали Белочка, даже не знаю почему. Потом меня послали сюда, я была у канадцев, те меня называли совсем плохо, а когда стали отступать, бросили меня, и я попала к каким-то иностранцам. Они тоже были славные, хоть и воевали против англичан. Они тоже удрали, а тот грузовик, в котором я ехала, застрял в кювете, и тогда я попала к каким-то другим иностранцам, только эти уж были за англичан и на редкость противные, но я встретила одного американца-врача, совершенно седого, и он называл меня Эмили, говорил, что я очень похожа на его дочку, поэтому он увез меня в Париж, и там было чудесно, но через неделю он нашел себе в ночном клубе другую, и когда вернулся на фронт, бросил меня в Париже, а у меня не было денег, и с паспортом получилось недоразумение, и меня назвали numéro mille soixante dix huit [21] и послали меня и еще очень много девушек на Восток, к тамошним солдатам. То есть хотели послать, но в пароход попала торпеда, меня спасли, и французы отправили меня сюда поездом с другими девушками, очень невоспитанными. Потом я жила с этими девушками в барачном лагере, а вчера к ним пришли гости, я осталась одна и пошла погулять, а когда вернулась, ни барака нашего не было, ни девушек, и вообще никого не было, пока вы не приехали на машине, и теперь я уж совсем не знаю, где я. Какой ужас эта война, правда?
Генерал откупорил еще бутылку шампанского.
— А теперь все в полном порядке, малютка, — сказал он, — так что не печалься и улыбнись. А дуться не нужно — с такими-то хорошенькими губками. Давай-ка снимем эту тяжеленную шинель, я тебе сейчас укрою ею коленки. Ну что, так лучше?… Вон какие ножки гладкие, крепенькие…
Адам не мешал им. Вино, и мягкие подушки, и усталость, накопившаяся за два дня боев, сделали свое дело. Отрешенный от всех, не ведая о пульсирующих рядом с ним приятных эмоциях, он погрузился в сон.
Окошки застрявшего в грязи автомобиля светились среди опустошенного поля битвы. Потом генерал, задернув шторки, отгородился от этой печальной картины.
— Так уютнее? — сказал он.
И Непорочность стала грациозно перебирать пальчиками его ордена и медали и расспрашивать, за что он их получил.
А издалека, подобно новому витку тайфуна, уже опять накатывался грохот боя.
― ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД ― (роман, перевод И. Бернштейн)
СВЯЩЕННЫЕ И БОГОХУЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ПЕХОТНОГО КАПИТАНА ЧАРЛЬЗА РАЙДЕРА
Посвящается Лауре
Я — это не я;
ты — это не он и не она;
они — не они.
И. В.Пролог БРАЙДСХЕД ОБРЕТЕННЫЙ
Я дошел до расположения третьей роты на вершине холма, остановился и посмотрел вниз, на наш лагерь, только теперь открывавшийся взгляду сквозь быстро поредевший утренний туман. В тот день мы его оставляли. Три месяца назад, когда мы сюда входили, все было покрыто снегом; сегодня кругом пробивалась первая весенняя зелень. Тогда я подумал, что, какие бы ужасные картины разорения ни ждали нас впереди, плачевнее этого зрелища я ничего не увижу; теперь я думал о том, что не увезу с собой отсюда ни одного мало-мальски светлого воспоминания.
Здесь умерла любовь между мною и армией. Здесь кончались трамвайные пути, так что солдаты, в подпитии возвращающиеся из Глазго, могли спокойно спать на скамейках, покуда их не разбудят на конечной остановке. От трамвая до ворот лагеря надо было еще пройти, наверное, четверть мили, на протяжении которых успевали застегнуться на все пуговицы и выровнять фуражку на голове перед входом в караулку; четверть мили, на протяжении которых бетон на обочине уступал место траве. Здесь проходил передний край города. Одинаковые тесные жилые кварталы с кинотеатрами обрывались, и дальше начинался глубокий тыл.
На том месте, где находился наш лагерь, еще недавно были выгон и пашня; сохранился хозяйский дом в ложбине, служивший нам помещением батальонной канцелярии; кое-где, поддерживаемые плющом, еще виднелись остатки стен, некогда ограждавших плодовый сад; пол-акра захиревших старых деревьев позади душевой — вот все, что от него осталось. Ферма была предназначена на снос еще до вторжения военных. Прошел бы еще один мирный год, и службы, ограды, яблони были стерты с лица земли. Уже и теперь между голыми земляными насыпями лежало полмили недостроенного бетонированного шоссе, а в поле по обе стороны от него осталась сеть незасыпанных канав — след дренажной системы, заложенной муниципальными подрядчиками. Еще один мирный год, и сюда шагнули бы соседние пригороды. Теперь и армейские бараки, в которых мы только что зимовали, тоже ждали здесь своей очереди на слом.
За шоссе, укрытый даже зимой в лоне густых деревьев, стоял городской сумасшедший дом — предмет наших постоянных шуток, и против его чугунных оград и массивных ворот смешной и жалкой казалась наша колючая проволока. В погожие дни было видно, как на аккуратных, усыпанных гравием дорожках и живописных лужайках парка прогуливаются и резвятся сумасшедшие — счастливые коллаборационисты, отказавшиеся от неравной борьбы, люди, у которых не осталось неразрешенных сомнений, которые до конца выполнили свой долг, законные наследники века прогресса, на досуге наслаждающиеся унаследованным богатством. Когда мы маршировали мимо, солдаты кричали через забор: «Пригрей для меня местечко, приятель. Жди меня к вам, я скоро!» Но Хупер, мой взводный из недавно мобилизованных, не мог простить им их беспечной жизни. «Гитлер свез бы их в газовую камеру, — говорил он. — По мне, так и нам не грех у него кой-чему поучиться».
Сюда в разгар зимы я привел походным маршем роту бодрых, окрыленных надеждой людей; говорили, будто нас недаром перебросили из внутренних районов в предместье портового города и теперь мы наконец отправимся на Ближний Восток. Но дни проходили за днями, мы занялись расчисткой снега и разравниванием учебного плаца, и у меня на глазах их разочарование сменилось полной апатией и покорностью судьбе. Они ловили запахи портовых кабачков и прислушивались к знакомым мирным звукам заводских сирен и оркестров на танцплощадках. Получив увольнительную в город, они околачивались на перекрестках и норовили улизнуть за угол при виде приближающегося офицера, чтобы, отдавая честь, не ронять себя в глазах новых подруг. В ротной канцелярии копились докладные и рапорты об отпуске по семейным обстоятельствам; и каждый день в полусумраке рассвета начинался со скуления симулянта и настойчивой скороговорки кислолицего кляузника.
А я, который по всем инструкциям должен был поддерживать в них бодрость духа, как мог я им помочь, когда сам был так беспомощен? Отсюда наш полковник, под началом которого формировался батальон, был переведен куда-то с повышением, и вместо него пришел другой, из чужого учебного пункта, он был моложе и не так располагал к себе. Теперь в офицерской столовой не встречалось почти никого их старых добровольцев, вместе проходивших строевую подготовку в первые дни войны; все разъехались кто куда — одни списаны по состоянию здоровья, другие получили повышение и попали в чужие батальоны, кто перешел на штабную работу, кто записался в специальные части, один был убит на учениях, а один предан военно-полевому суду; их место заняли те, кто пришел по мобилизации; в казарме теперь целый день играло радио, и перед обедом выпивалось море пива; все было не так, как раньше.
Здесь в возрасте тридцати девяти лет я почувствовал себя стариком. Я стал уставать к вечеру, и мне было лень выходить в город; у меня появились собственнические пристрастия к определенным стульям и газетам; перед ужином я обязательно выпивал ровно три рюмки джина и ложился спать сразу же после девятичасового выпуска последних известий. А за час до побудки уже не спал и находился в самом дурном расположении духа.
Здесь умерла моя последняя любовь. Ее смерть произошла самым банальным образом. Однажды, сравнительно незадолго до нашего отъезда, когда я проснулся, как обычно, до побудки и лежал, глядя в темноту, и под мерный храп и сонное бормотание остальных четырех обитателей военного домика перебирал в мыслях заботы предстоящего дня — не забыл ли я назначить двух капралов на стрелковую подготовку, не окажется ли у меня сегодня опять самое большое число невозвращенцев из отпуска, можно ли доверить Хуперу занятия по топографии с допризывниками, — лежа так в предрассветной тьме, я вдруг с ужасом осознал, что привычное, наболевшее успело тихо умереть в моей душе; при этом я почувствовал себя так же, как чувствует себя муж, который на четвертом году брака вдруг понял, что не испытывает больше ни страсти, ни нежности, ни уважения к еще недавно любимой жене; не радуется ее присутствию и не стремится радовать ее и совершенно не интересуется тем, что она подумает, сделает или скажет; и нет у него надежды ничего исправить, и не в чем упрекнуть себя за то, что случилось. Я познал до конца весь унылый ход супружеского разочарования, мы прошли, армия и я, через все стадии — от первых жадных восторгов до этого конца, когда из всего, что нас связывало, остались только хладные узы закона, долга и привычки. Сыграны уже все сцены домашней трагедии — прежние легкие размолвки постепенно участились, слезы перестали трогать, примирения утратили сладость, и родились отчужденность и холодное неодобрение и все растущая уверенность, что всему виною не я, а она, предмет моей любви. Я различил в ее голосе неискренние ноты и теперь ловил их в каждой фразе; увидел у нее пустой, подозрительный взгляд непонимания и эгоистические, жесткие складки в углах ее рта. Я изучил ее, как изучают женщину, с которой живут одним домом, день за днем, в продолжении трех с половиной лет, и я знал все ее неряшливые привычки, все искусственные, затверженные приемы ее очарования, ее зависть и корысть и манеру нервно потирать пальцы, говоря ложь. Лишенная обаяния, она теперь предстала передо мной как чужой и чуждый мне человек, с которым я нерасторжимо связал себя в минуту неразумия.
И потому в то утро, когда нам предстояло сняться с лагеря, меня нисколько не интересовало место нашего назначения. Я продолжал делать свое дело, но теперь не вкладывал в него ничего, кроме покорности. Приказ был в 09:15 погрузиться в поезд на близлежащей железнодорожной ветке и иметь с собою в вещмешках неиспользованную часть суточного довольствия; и больше мне ни до чего не было дела. Мой помкомроты с передовым отрядом уже выехал на место. Ротное имущество было упаковано накануне. Хупера я назначил произвести осмотр строя. В 07:30 роте было предписано построиться на плацу, сложив вещмешки у входа в казарму. Нас уже много раз перебрасывали с места на место после того случая, когда в одно прекрасное многообещающее утро 1940 года мы почему-то возомнили, будто нас отправляют на оборону Кале. С тех пор мы по меньшей мере трижды в году меняли свое местоположение; на этот раз наш новый полковник поднял необычайную шумиху насчет «военной тайны» и даже настоял на том, чтобы с наших машин и обмундирования были сняты все опознавательные значки. «Это будет прекрасной проверкой готовности к боевым действиям, — сказал батальонный. — Если я по прибытии к месту назначения обнаружу там кого-нибудь из гражданских лиц женского пола, обретающихся здесь при лагере, я буду знать, что произошла утечка секретной информации».
Дым от полковых кухонь разошелся вместе с туманом, обнажив всю территорию лагеря в виде лабиринта дорожек и тропинок, проложенных напрямик поверх контуров бывшей здесь когда-то усадьбы. Похоже было, что этот лагерь раскопали через столетия трудолюбивые археологи.
«Находки Поллока дают нам ценное звено, связывающее рабовладельческо-гражданские общества двадцатого столетия со сменившей их племенной анархией. Здесь перед нами народ — обладатель развитой культуры, знавший сложные дренажные системы и долговечные дороги, завоеванный расой самого примитивного типа».
Так, быть может, напишут мудрецы будущего, подумал я и, отвернувшись, обратился к старшине:
— Мистера Хупера не было здесь?
— Пока не показывался, сэр.
Мы с ним вошли в пустое помещение ротной канцелярии и я обнаружил свежеразбитое окно, которое не значилось в описи поврежденного барачного имущества, составление накануне.
— Сильный ветер ночью, сэр, — скороговоркой поясни старшина. (Все разбитые окна проходили по этой статье или же по статье «Саперное учение, сэр».)
Появился Хупер; это был молодой человек с нездоровым цветом лица, прямыми, зачесанными со лба назад волосам и провинциальным выговором. В нашей роте он служил третий месяц.
Солдаты не любили Хупера за то, что он плохо знал своё дело, и за то, что во время перекуров он всех без разбора называл «Джонами»; но я испытывал к нему чувство почти любовное из-за одной истории, случившейся с ним в нашей офицерской столовой в день его прибытия в часть.
Новый командир батальона тогда только с неделю как у нас появился, и мы еще не знали, что он собой представляет. В тот вечер он успел поставить офицерам по рюмке-другой джина и сам был слегка на взводе, когда взгляд его упал на Хупера.
— Вон тот молодой офицер — это ваш, Райдер? — обратился он ко мне. — Ему надо постричься.
— Да, сэр, — ответил я. Он был прав. — Я прослежу, чтоб это было сделано.
Полковник выпил еще и, не в силах отвести от Хупера глаз, стал бормотать вполголоса, но вполне отчетливо: — Бог мой, ну и офицеров теперь присылают!
Образ Хупера, по-видимому, преследовал его весь вечер. После ужина он вдруг громко произнес, ни к кому не обращаясь:
— В моем прежнем батальоне, если бы молодой офицер позволил себе появиться в таком виде, остальные младшие офицеры обкорнали бы его сами, будьте уверены.
Никто не выказал интереса к такому развлечению, и подобная неотзывчивость воспламенила командира батальона.
— Вы! — рявкнул он, обращаясь к одному нашему товарищу из первой роты. — Подите принесите ножницы и обстригите этого офицера.
— Это приказ, сэр?
— Это желание вашего командира, и какой вам еще приказ нужен, я не знаю.
— Очень хорошо, сэр.
Среди всеобщего хмурого смущения Хупера усадили в кресло и два-три раза щелкнули ножницами у него на затылке. Я вышел из буфетной до начала экзекуции и позднее извинился перед Хупером за оказанный ему прием.
— Не думайте, пожалуйста, что у нас в батальоне такие развлечения в порядке вещей, — заверил я его.
— Да я не обиделся, — ответил Хупер. — Разве я шуток не понимаю?
У Хупера не было иллюзий касательно армии — вернее, не было на этот счет отдельных ошибочных понятий, выделяющихся из общего тумана, сквозь который он воспринимал вселенную. Он попал в армию против воли, по принуждению, употребив все свои тщедушные усилия на то, чтобы получить отсрочку. Для него армия была неизбежным злом — «как корь», по его собственному выражению. Хупер не был романтиком. Он не скакал мальчиком с конницей принца Руперта и не сидел у лагерных костров на берегу Ксанфа; в том возрасте, когда глаза мои оставались сухи ко всему, кроме поэзии— во время краткой стоической предзимней интерлюдии, которую вводят наши школы, отделяя легкие детские слезы от мужских, — Хупер много плакал, но не над речью Генриха в день святого Криспина и не над Фермопильской эпитафией. В истории, которой его обучали, было мало битв, зато изобиловали подробности о демократических законах и новейшем промышленном прогрессе. Галлиполи, Балаклава, Квебек, Лепанто, Бан-нокберн, Ронсеваль и Марафон, а также битва на холмах Запада, где пал Артур, и еще сотня таких же трубных имен, которые и ныне, в мои преклонные неправедные лета, звучали мне через всю прошедшую жизнь властным, чистым голосом отрочества, для Хупера оставались немы.
Он редко жаловался. Сам такой человек, которому опасно доверить простейшую работу, он питал безграничное уважение к хорошей организации дела и, оглядываясь на свой скромный коммерческий опыт; часто говорил про армейские порядки в снабжении, выплате жалованья и в использовании рабочей силы: «Не-ет, в бизнесе бы им такое с рук не сошло». Он крепко спал, когда я лежал без сна. За то недолгое время, что мы провели вместе, Хупер стал для меня воплощением Молодой Англии, так что, встречая в газетах рассуждения о том, чего ждет Молодежь от Будущего и в чем долг человечества перед Молодежью, я всегда проверял эти общие положения, подставляя на место «Молодежи» «Хупера» и наблюдая, не утратили ли они от этого убедительность. Так, в темные часы перед побудкой я размышлял о «Прогрессивном движении Хупера» и об «Общежитиях для Хупера», о «Солидарности Хуперов во всем мире» и о «Хупере и религии». Он был кислотной пробой для всех этих сплавов.
Если он в чем и изменился со дня выхода из офицерской школы, то разве только стал за эти месяцы еще меньше похож на бравого вояку. В то утро, сгибаясь под полной выкладкой, он показался мне вообще утратившим облик человеческий. По-танцорски шаркнув подошвой, он замер в стойке «смирно» и растопырил у лба пятерню в шерстяной перчатке.
— Старшина, мне нужно поговорить с мистером Хупером… Ну, где вас черти носят? Я же приказал вам провести осмотр личного состава.
— А что, я опоздал? Извините. Укладывался как проклятый.
— Для этого у вас есть денщик.
— Так-то оно так, строго говоря. Да ведь знаете, как получается. Ему свои вещи надо было укладывать. Если с этими людьми раз не поладишь, они потом в чем-нибудь да на тебе отыграются.
— Ну хорошо, ступайте теперь и проведите осмотр.
— Есть. Железно.
— И бога ради не говорите «железно».
Извините. Я все стараюсь не забывать. Да из головы выскакивает.
Хупер отошел, и возвратился старшина.
— Батальонный идет сюда, сэр, — сообщил он мне.
Я зашагал навстречу.
На рыжей свиной щетине его усиков осели капельки тумана.
— Как у вас здесь? Все в порядке?
— Думаю, что в порядке, сэр.
— Думаете? Должны знать.
Его взгляд упал на разбитое окно.
— Внесено в опись поврежденного имущества?
— Нет еще, сэр.
— Нет еще? Интересно, когда бы вы собрались его внести, не попадись оно мне на глаза.
Он чувствовал себя со мной неловко и шумел главным образом из робости, но мне от этого он приятнее не стал.
Он повел меня на зады, где проволочное заграждение отделяло мою территорию от владений пулеметного взвода, лихо перепрыгнул через проволоку и направился к полузасыпанной канаве, некогда служившей на ферме межой. Здесь он принялся копаться офицерской тростью в земле, точно боров на огороде, и вскоре издал торжествующий возглас: ему удалось обнаружить свалку, столь милую аккуратной солдатской душе. В бурьяне валялись коробки из-под сигарет, старые консервные банки, швабра без палки, печная вьюшка, проржавленное ведро, носок, буханка хлеба.
— Вот взгляните-ка, — сказал командир батальона. — Хорошенькое впечатление это произведет на тех, кто разместится здесь после нас.
— Да, ужасное, — ответил я.
— Позор. Распорядитесь, чтобы все было сожжено, прежде чем покинете лагерь.
— Слушаюсь, сэр. Старшина, пошлите солдата к пулеметчикам, пусть передаст капитану Брауну, что командир батальона приказал очистить эту канаву.
Как примет полковник мою отповедь, мне было неясно; ему самому, очевидно, тоже. С минуту он постоял в нерешительности, ковыряя тросточкой отбросы в канаве, затем повернулся на каблуках и ушел.
— Напрасно вы это, сэр, — сказал старшина, мой наставник и хранитель с первого дня, как я прибыл в роту. — Ей-богу, напрасно.
— Это не наша свалка.
— Так-то оно так, сэр, да ведь знаете, как получается. Если со старшим офицером раз не поладишь, он потом в чем-нибудь да на тебе отыграется.
Когда мы проходили маршем мимо сумасшедшего дома, три старика стояли за решеткой забора и бормотали что-то доброжелательное.
— Эгей, приятель, до скорой встречи!
— Ждите нас!
— Не скучайте, ребята, скоро увидимся! — кричали им солдаты.
Я шагал вместе с Хупером впереди головного взвода.
— Имеете представление, куда нас?
— Ни малейшего.
— Может, наконец, туда?
— Нет.
— Опять, значит, ложная тревога?
— Да.
— А все говорят, туда едем. Сам не знаю, что и подумать.
Глупо вроде как-то, вся эта муштра и волынка, если мы так никогда и не повоюем.
— Не волнуйтесь, время придет, на каждого с лихвой хватит.
— Да мне особенно-то много и не надо. Чтоб только можно было сказать, что был в деле.
На запасных путях нас дожидался состав из допотопных пассажирских вагонов; погрузкой распоряжался какой-то железнодорожный начальник; рабочая команда сносила последние вещмешки из грузовиков в багажные вагоны. Через полчаса мы были готовы и через час тронулись.
Трое моих взводных и я заняли отдельное купе. Они ели бутерброды и шоколад, курили, спали. Книги не нашлось ни у одного. Первые три или четыре часа они прочитывали названия городов, через которые мы проезжали, и высовывались из окна, когда поезд — что случалось довольно часто — останавливался в чистом поле. Потом и этот интерес у них пропал. В полдень и второй раз, когда стемнело, давали чуть теплое какао, его разливали из бидонов нам в кружки большим черпаком. Эшелон медленно тащился южной магистралью по плоской, унылой местности.
Основным событием дня была «оперативка» у батальонного командира. Приглашение мы получили через вестового и собрались у полковника в купе, где застали его самого и его адъютанта в касках и полной амуниции. Первыми его словами были:
— Здесь у нас оперативное совещание, и каждый обязан быть одет по всей форме. То обстоятельство, что в данный момент мы в поезде, значения не имеет. — Я подумал, что нас выгонят, но он обвел всех свирепым взглядом и заключил: — Прошу сесть.
— Лагерь оставлен в позорном состоянии. Повсюду, куда я ни заглядывал, обнаруживались доказательства дурного исполнения офицерами своего долга. Состояние, в каком оставляется лагерь, — это лучшая проверка деятельности ротных офицеров. Именно от этого зависит добрая слава батальона и его командира. И я, — действительно ли он сказал это или я просто передаю словами то возмущение, которое выражали его голос и взгляд, наверное, он все-таки этого не сказал, — я не допущу, чтобы моя профессиональная репутация пострадала из-за расхлябанности отдельных временно служащих офицеров.
Мы держали на коленях блокноты, дожидаясь, когда надо будет записывать распоряжения. Более чуткий человек понял бы, что не сумел произвести желаемый эффект; а может быть, он это и понял, потому что заключил тоном обиженного учителя:
— Я прошу всего только добросовестного отношения. Затем, развернув свои заметки, стал читать:
— «Приказ.
Обстановка. В настоящее время батальон перебрасывается из пункта А в пункт В. Переброска производится по крупной железнодорожной магистрали, представляющей опасность в отношении воздушных бомбардировок и химических атак со стороны противника.
Задача. Моя задача — прибыть в пункт В.
Средства. Эшелон прибывает к месту назначения около 23 часов 15 минут».
И так далее.
Самое неприятное содержалось в конце под рубрикой «Предписания». Третьей роте предписывалось по прибытии эшелона на место приступить двумя взводами к выгрузке батальонного имущества и переброске его на трех грузовиках, имеющих ожидать в пункте прибытия, в район нового расположения части; работу производить до завершения; третьему взводу обеспечить охрану временного полевого склада, а также выставить часовых по периметру нового лагеря.
— Вопросы есть?
— Можно будет получить дополнительно какао для рабочей команды?
— Нет. Еще вопросы?
Когда я рассказал о полученных распоряжениях своему старшине, он вздохнул;
— Бедная третья рота, опять нам досталось.
И я услышал в этих словах укор за то, что настроил против себя батальонного командира.
Я сообщил новость взводным. Н-да, — растерялся Хупер. — Перед ребятами неловко. Они жутко разозлятся. Что это он, где грязная работа, так обязательно нас назначает?
— Вы пойдете в охрану.
— Так-то оно так. Да как я найду в темноте периметр? Наступил час затемнения, и вскоре нас опять побеспокоил вестовой, уныло пробиравшийся вдоль вагонов с трещоткой в руке. «Deuxieme service!»[22], — сострил кто-то из сержантов пообтесаннее.
— Нас обрызгивают жидким горчичным газом, — объявил я. — Немедленно закрыть все окна.
Затем я сел и написал аккуратненький рапорт о том, что жертв нет и ничего из ротного имущества не заражено и что мною выделены люди для проведения перед выгрузкой из эшелона наружной дегазации вагона. Как видно, батальонного это удовлетворило, потому что больше он нас не дергал. Когда совсем стемнело, мы уснули.
Наконец, с большим опозданием, мы прибыли на наш разъезд. Ради соблюдения военной тайны и в целях лучшей боевой подготовки нам надлежало сторониться платформ и вокзалов. Прыжки в темноте с подножки вагона на шлаковую насыпь повлекли за собой неизбежные беспорядки и увечья.
— Построиться на дороге под откосом! Капитан Райдер, третья рота, как всегда, не торопится.
— Да, сэр, у нас там кое-какие сложности с известью.
— С известью?
— Для наружной дегазации вагонов, сэр.
— О, какая добросовестность. Можете этим ограничиться и приступайте к делу.
Мои хмурые полусонные солдаты, бренча снаряжением, строились на дороге. Скоро взвод Хупера ушел, маршируя, во тьму; я разыскал трехтонки, расставил солдат цепочкой по крутому откосу, чтобы передавать грузы из рук в руки; и вот уже, занятые какой-то осмысленной деятельностью, все приободрились. Первые полчаса я работал вместе с ними, потом вышел из цепочки, потому что появился мой помкомроты, выехавший к нам навстречу с первым разгруженным грузовиком.
— Лагерь недурен, — доложил он. — Большой барский дом, и даже пруды есть. Еще постреляем уток, если повезет. Рядом деревня с одним питейным заведением и почтой. Никаких городов на много миль вокруг. Я занял на нас двоих отдельный домик.
К четырем часам утра работа была кончена. Я ехал последним грузовиком по извилистой проселочной дороге, и свисающие ветви деревьев хлестали по ветровому стеклу; в каком-то месте мы свернули с дороги и поехали по подъездной аллее; потом в каком-то месте выехали на открытое пространство, где сходились две аллеи; здесь, в кольце зажженных керосиновых фонарей, грудой лежало наше снаряжение. Мы разгрузили последний грузовик и наконец-то под низким черным небом, из которого начал сеяться мелкий дождь, пошли за провожатыми на свои квартиры.
Я спал, пока денщик не разбудил меня, а тогда устало поднялся, молча побрился и, только уходя, обернулся с порога и спросил своего помкомроты;
— А как эта местность называется?
Он ответил; и в ту же секунду словно кто-то выключил радио и голос, бубнивший у меня над ухом беспрестанно, бессмысленно день за днем, вдруг пресекся; наступила великая тишина, сначала пустая, но постепенно, по мере того как возвращались ко мне потрясенные чувства, наполнившаяся сладостными, простыми, давно забытыми звуками, ибо он назвал имя, которое было мне хорошо знакомо, волшебное имя такой древней силы, что при одном только его звуке призраки всех этих последних тощих лет чредой понеслись прочь.
Я вышел и в смятении и трепете остановился за порогом. Дождь кончился, облака низко и тяжело висели над головой. Было тихое утро, дым лагерной кухни столбом поднимался к свинцовому небу. По склону холма, скрываясь из глаз за поворотом, тянулась дорога, некогда засыпанная щебнем, затем заросшая травой, теперь же раскатанная и разбитая в жидкую грязь, а по обе стороны от нее стояло и лежало железо, и оттуда доносился, стук, и шум, и свист, и крики — все звуки зверинца, какие издает батальон, начиная новый день. А дальше вокруг нас еще более знакомый расстилался изумительный искусственный ландшафт. Мы находились в замкнутой, отгороженной от мира неширокой долине. Наш лагерь был разбит на одном ее отлогом склоне; еще не тронутый противоположный склон поднимался прямо перед нами к близкому дружественному горизонту, а между нами протекала речка — она называлась Брайд и брала начало всего в каких-нибудь двух милях отсюда, возле живописной фермы, носившей название Брайдспринг, куда мы нередко ходили пешком после обеда; ниже, перед тем как слиться с Эвоном, она становилась внушительной рекой, а здесь, перегороженная плотинами, разливалась, образуя три пруда, один — как мокрая сланцевая плитка в камышах, зато два других широко и свободно вмещали в себя отражения облаков и могучих прибрежных буков. В лесу росли одни дубы и буки: дубы — черные, голые, буки — чуть припорошенные зеленью лопнувших почек; купы деревьев живописно и просто обступали то маленькую зеленую прогалину, то широкую зеленую поляну — паслись ли еще на них пятнистые олени? — а у воды, чтобы взгляд не блуждал бесцельно, был построен дорический храм и последний водослив венчала увитая плющом арка. Все это было распланировано, выстроено и посажено полтора столетия тому назад, чтобы примерно к нашему времени достигнуть расцвета.
С того места, где я стоял, дом был не виден за зеленым бугром, но я и без того знал, где и как он расположен, укрытый кронами лип, точно спящая лань папоротниками.
Подошел откуда-то взявшийся Хупер и откозырял мне на свой неподражаемый — хотя подражать пытались многие, — особый лад. Лицо его было серо после ночного бдения, и побриться он еще не успел.
— Нас сменила вторая рота. Я послал ребят привести себя в порядок.
— Хорошо.
— Дом вон там, за поворотом.
— Да, — ответил я.
— На будущей неделе в нем разместится штаб бригады. Ничего квартира. Просторная. Я только оттуда — осматривал, Очень живописно, я бы сказал. Интересно, там пристроена вроде католическая часовня, так в ней, когда я заглянул, по-моему, шла служба — один только падре и еще какой-то старикан. А я влез как дурак. Мне это ни с какого боку, скорее по вашей части.
Вероятно, ему показалось, что я не слушаю. И в последней попытке возбудить мой интерес он добавил:
— И еще там здоровенный фонтанище перед главным входом, — камни, камни и разное зверье высечено. Вы такого в жизни не видели.
— Видел, Хупер. Я бывал здесь раньше.
Эти слова отдались у меня в ушах, повторенные громким эхом в подземельях моей темницы.
— Ну, тогда вы сами все здесь знаете. Я пошел, надо привести себя в порядок.
Я бывал здесь раньше, я сам все здесь знал.
Книга первая ET IN ARCADIA EGO [23]
Глава первая
Я бывал здесь раньше, сказал я; и я действительно уже бывал здесь; первый раз — с Себастьяном, больше двадцати лет назад, в безоблачный июньский день, когда канавы пенились цветущей таволгой и медуницей, а воздух был густо напоен ароматами лета; то был один из редких у нас роскошных летних дней, и, хотя после этого я приезжал сюда еще множество раз при самых различных обстоятельствах, о том, первом дне вспомнил я теперь, в мой последний приезд.
В тот день я тоже не подозревал, куда еду. Была Гребная неделя. Оксфорд — теперь похороненный в памяти и утраченный невозвратимо, как земля Лион, ибо с такой бедственной быстротой нахлынули перемены, — Оксфорд был еще в те времена городом старой гравюры. По его широким тихим улицам люди ходили, беседуя, как при Джоне Ньюмене; осенние туманы, серые весны и редкая прелесть ясных летних дней — подобных этому дню, когда каштаны в цвету и колокола звонко и чисто вызванивают над шпилями и куполами, — все мирно дышало там столетиями юности. Здесь, в этой монастырской тиши, особенно звонко раздавался наш веселый смех и далеко разносился над гудением жизни. И вот сюда, в строгий монашеский Оксфорд, на гребную неделю хлынула толпа представительниц женского пола числом в несколько сот человек, они щебетали и семенили по булыжнику мостовых и по ступеням старинных лестниц, осматривали красоты архитектуры и требовали развлечений, пили крюшон, ели сандвичи с огурцом, катались на лодках и стайками шли с берега на факультетские баржи и вызывали в «Изиде» и Студенческом союзе взрывы неумеренного и неуместного опереточного веселья, а под церковными сводами — непривычное высокоголосое эхо. Эхо вторжения проникало во все закоулки, в моем же колледже было не эхо, а самый источник неприличия: мы давали бал. На внутреннем дворике, куда выходили мои окна, натянули тент и сколотили дощатый настил, вокруг привратницкой расставили горшки с пальмами и азалиями, да еще в довершение всего один преподаватель на втором этаже, мышеподобный человек, имевший отношение к естественному факультету, уступил свои комнаты под женскую гардеробную, о чем саженными буквами провозглашало возмутительное объявление, прибитое в нескольких дюймах от моего порога. Больше всех негодовал по этому поводу мой университетский служитель.
— Джентльмены без дам в течение ближайших нескольких дней приглашаются по возможности принимать пищу на стороне, — сокрушенно объявил он. — Будете обедать дома?
— Нет, Лант.
— Это, они говорят, нужно, чтобы разгрузить служителей. И впрямь до зарезу необходимо. Мне, например, поручено купить подушечку для булавок в дамскую гардеробную. С чего это они затеяли танцы? Никак в толк не возьму. Раньше на Гребную неделю никогда не было никаких танцев. На Память основателей — другое дело, потому на каникулы приходится, но на Гребную — никогда. Как будто мало им чая и катания на реке. Если спросите меня, сэр, так это все из-за войны. Ничего бы такого не случилось, когда б не война. — Был 1923 год, и для Ланта, как и для тысяч других, после четырнадцатого года все безнадежно изменилось к худшему. — Ежели примерно вино к ужину, — продолжал он, по своей всегдашней привычке то появляясь в дверях, то вновь выходя из комнаты, — или там два-три джентльмена в гости к обеду, это уж как положено. Но не танцы. Это все завелось, как джентльмены вернулись с войны. Возраст их уже вышел, а они не разбираются, что да как, и учиться не хотят. Истинная правда. Есть такие, что ходят на танцы с городскими в Масонский дом, ну, до этих прокторы скоро доберутся, помяните мое слово… А вот и лорд Себастьян, сэр. Ну, мне недосуг тут стоять и разговаривать, надо идти за подушечками для булавок.
Вошел Себастьян — серебристо-серая фланель, белый крепдешин, яркий галстук — мой, между прочим, — с узором из почтовых марок.
— Чарльз, что это, скажите на милость, происходит у вас в колледже? Цирк? Я видел все, кроме слонов. Признаюсь, весь Оксфорд вдруг весьма неприятно преобразился. Вчера вечером он кишмя кишел Женщинами. Идемте немедленно, я должен вас спасти. У меня есть автомобиль, корзинка земляники и бутылка «Шато-Перигей», которого вы никогда не пробовали, потому не притворяйтесь. С земляникой оно восхитительно.
— Куда мы едем?
— Навестить одного человека.
— По имени?
— Хокинс. Захватите денег, на случай если нам вздумается что-нибудь купить. Автомобиль принадлежит некоему лицу по фамилии Хардкасл. Вернете ему обломки, если я разобьюсь и погибну — я не очень-то умею водить машины.
За оранжереей, в которую обращена была наша привратницкая, по выходе из ворот нас ждал открытый двухместный «моррис-каули». За рулем сидел Себастьянов плюшевый медведь. Мы посадили его посередине: «Позаботьтесь, чтобы его не укачало», — и тронулись в путь. Колокола Святой Марии вызванивали девять; мы удачно избегли столкновения со священником при черной шляпе и белой бороде, задумчиво катившим на велосипеде прямо нам навстречу по правой стороне улицы, пересекли Карфакс, миновали вокзал и вскоре уже ехали по дороге на Ботли среди полей и лугов; в те дни поля и луга начинались совсем близко.
— Не правда ли, как еще рано! — сказал Себастьян. — Женщины еще заняты тем, что там они с собой делают, прежде чем спуститься к завтраку. Лень их сгубила. Мы успели удрать. Да здравствует Хардкасл!
— Кто бы он ни был.
— Он думал, что едет с нами. Лень и его сгубила. Я ему ясно сказал: в десять. Это один очень мрачный человек из нашего колледжа. Он живет двойной жизнью. По крайней мере так я предполагаю. Нельзя же всегда, днем и ночью, оставаться Хардкаслом, верно? Он бы давно умер. Он говорит, что знает моего отца, а этого не может быть.
— Почему?
— Папу никто не знает. Он отверженный. Разве вы не слышали?
— Как жаль, что ни вы, ни я не умеем петь, — сказал я. В Суиндоне мы свернули с шоссе и некоторое время ехали между коттеджами из тесаного камня, стоявшими за низкими оградами из светлого песчаника. Солнце поднималось все выше. Часов в одиннадцать Себастьян неожиданно съехал с дороги на какую-то тропу и затормозил. Уже припекало настолько, что самое время было укрыться в тени. На ощипанном овцами пригорке под сенью раскидистых вязов мы съели землянику и выпили вино — которое, как и сулил Себастьян, с земляникой оказалось восхитительным, — раскурили толстые турецкие сигареты и лежали навзничь — Себастьян глядя вверх в густую листву, а я вбок, на его профиль, между тем как голубовато-серый дым подымался над нами, не колеблемый ни единым дуновением, и терялся в голубовато-зеленой тени древесной кроны и сладкий аромат табака смешивался ароматами лета, а пары душистого золотого вина словно приподнимали нас на палец над землей, и мы парили в воздухе, не касаясь травы.
— Самое подходящее место, чтобы зарыть горшок золотых монет, — сказал Себастьян. — Хорошо бы всюду, где был счастлив, зарывать в землю что-нибудь ценное, а потом в старости, когда станешь безобразным и жалким, возвращаться, откапывать и вспоминать.
Я был студентом уже третий семестр, но свою жизнь в Оксфорде я датирую со времени моего знакомства с Себастьяном, происшедшего случайно в середине предыдущего семестра. Мы числились в разных колледжах и были выпускниками разных школ. Я вполне мог провести в университете все три или четыре года и никогда с ним не встретиться, если бы не случайное стечение обстоятельств: однажды вечером он сильно напился в моем колледже, а я жил на первом этаже, и мои окна выходили на внутренний дворик.
Об опасностях этого жилища меня специально предупреждал мой кузен Джаспер; когда я обосновался в Оксфорде, он один — из всех наших родственников счел меня достойным объектом для своего руководства. Отец никаких советов мне не давал. Он, как всегда, уклонился от серьезного разговора. Единственный раз он завел речь на эту тему, когда до моего отъезда в университет оставалось каких-нибудь две недели, заметив как бы вскользь и не без ехидства;
— Я говорил о тебе. Встретил в «Атенеуме» твоего будущего ректора. Мне хотелось говорить об идее бессмертия у этрусков, а ему — о популярных лекциях для рабочих, вот мы и пошли на компромисс и разговаривали о тебе. Я спросил его, какое содержание тебе назначить. Он ответил: «Три сотни в год, и ни в коем случае не давайте ему ничего сверх этого. Столько получает большинство». Но я подумал, что его совет едва ли хорош. Я в свое время получал больше, чем многие, и, насколько помню, нигде и никогда эта разница в несколько сотен фунтов не имела такого значения для популярности и веса в обществе. У меня была сначала мысль определить тебе шестьсот фунтов, — сказал мой отец, слегка посапывая, как он делал всегда, когда что-то казалось ему забавным, — но я подумал, что, если ректор случайно об этом узнает, он может усмотреть здесь нарочитую невежливость. Поэтому даю тебе пятьсот пятьдесят.
Я поблагодарил его.
— Да-да, конечно, я тебя слишком балую, но это все деньги из капитала, так что… А теперь я, видимо, должен дать тебе наставления. Мне самому никто наставлений не давал, не считая твоего дяди Элфрида. Вообрази себе, летом перед моим поступлением в университет твой дядя Элфрид специально приехал в Боутон, чтобы дать мне совет. И знаешь, что это был за совет? «Нед, — сказал он мне, — об одном я тебя настоятельно прошу. Всегда носи по воскресеньям цилиндр. Именно по цилиндру судят о человеке». И ты знаешь, — продолжал мой отец, все явственнее сопя носом, — я так и делал. Одни носили цилиндры, другие нет. И я никогда не замечал, чтобы между теми и этими существовала разница. Но сам я всегда носил по воскресеньям цилиндр. Это показывает, какую пользу может принести разумный совет, умело и вовремя преподанный. Хотелось бы и мне дать тебе столь же полезный совет, но мне тебе нечего посоветовать.
Зато кузен Джаспер восполнил этот пробел с лихвой; он был сыном старшего брата моего отца, которого отец нередко называл — наполовину в шутку, наполовину всерьез — «главой рода»; Джаспер учился в Оксфорде четвертый год и в прошлом семестре едва не сподобился быть включенным в университетскую восьмерку. Он был секретарем клуба «Кеннинг» и председателем ораторского кружка — фигура в колледже довольно значительная. В первую же неделю моего пребывания в Оксфорде он нанес мне официальный визит и остался к чаю. Воздав должное медовым плюшкам, гренкам с анчоусами и щедро отведав орехового торта от Фуллера, он закурил трубку и, откинувшись в соломенном кресле, стал излагать правила поведения, кажется, на все случаи жизни; я и сегодня могу повторить слово в слово едва ли не все его наставления.
— …Ты на историческом? Вполне солидный факультет. Самый трудный экзамен — английская литература, за ней идет современная филология. Сдавать надо на высший балл или на низший. Все, что в промежутке, не стоит труда. Время, потраченное на получение заслуженной двойки, потрачено впустую. Ходить надо на самые лучшие лекции, например на аркрайтовский курс по Демосфену, независимо от того, на каком факультете они читаются… Теперь платье. Одевайся, как в загородном доме. Никогда не носи твидовый пиджак с фланелевыми брюками, а только костюмы. И шей у лондонского портного — там и крой лучше, и кредит долгосрочнее… Клубы. Поступить теперь в «Карлтон», а в начале второго курса — в «Грид». Если захочешь выдвинуть свою кандидатуру в Союз — затея вовсе не бессмысленная, — составь себе сначала репутацию в «Чэтеме» или, скажем, в «Кеннинге» и начни с выступлений по поводу газеты… Кабаний холм[24] обходи стороной… — Небо над крутоверхими крышами напротив моих окон зарделось, потом погасло; я подсыпал угля в камин, зажег лампу, осветив во всей красе его безупречные брюки гольф от лондонского портного и леандровский галстук… — Не обращайся с ассистентами, как с учителями, держись с ними, как дома с приходским священником… На втором курсе тебе придется употребить львиную долю своего времени на то, чтобы избавиться от нежелательных знакомств, которые приобрел на первом… Остерегайся англокатоликов, они все содомиты и говорят с неприятным акцентом. Вообще держись в стороне от всяких религиозных групп: от них один вред.
В заключение, уже прощаясь, он сказал:
— И последнее. Смени комнаты. — Это были просторные комнаты с глубокими нишами окон и крашеными деревянными панелями XVIII века; редко кому из первокурсников доставались такие. — Мне известно немало случаев, когда человек погибал оттого, что занимал комнаты в нижнем этаже окнами на внутренний дворик, — продолжал мой кузен в тоне сурового предостережения. — Сюда станут заходить люди. Оставлять свои мантии, потом брать их по дороге в столовую; ты начнешь угощать их хересом. И так, не успеешь оглянуться, а у тебя уже не квартира, а бесплатный бар для всех нежелательных лиц из твоего колледжа.
Ни одному из этих советов я, по-моему, не последовал. Комнаты я, во всяком случае, не сменил; там под окнами цвели белые левкои, даря мне летними ночами свой восхитительный аромат.
Задним числом несложно приписать себе в юности разум не по годам и неиспорченность вкусов, которой не было; несложно подтасовать даты, прослеживая свой рост по отметкам на дверном косяке. Мне приятно думать — и я иногда в самом деле думаю, — будто я украсил тогда свои комнаты гравюрами Морриса и слепками из Арунделевской коллекции и будто книжные полки у меня были уставлены фолиантами XVII века и французскими романами времен Второй империи, в переплетах из сафьяна и муарового шелка. Но это было не так. В первый же день я гордо повесил над камином репродукцию ван-гоговских «Подсолнечников» и поставил экран с провансальским пейзажем Роджера Фрая, который я купил по дешевке на распродаже в мастерских «Омеги». Еще у меня висела афиша работы Мак-Найта Кауффера и гравированные листы со стихами из книжного магазина «Поэзия», но хуже всего была фарфоровая статуэтка Полли Пичем, стоявшая на камине между двумя черными подсвечниками. Книги мои были немногочисленны и неоригинальны: «Вид и план» Роджера Фрая, иллюстрированное издание «Шропширского парня», «Выдающиеся викторианцы», несколько томиков «Поэзии георгианской эпохи», «Унылая улица» и «Южный ветер»; и мои первые знакомые вполне соответствовали такой обстановке. Это были: Коллинз, выпускник Винчестера и будущий университетский преподаватель, обладавший изрядной начитанностью и младенческим чувством юмора; и небольшой кружок факультетских интеллектуалов, державшихся среднего курса между ослепительными «эстетами» и усердными «пролетариями», которые самозабвенно и кропотливо овладевали фактами, засев у себя в меблированных комнатах на Иффли-роуд и Веллингтон-сквер. В этот кружок был я принят с первых дней, и здесь нашел ту же компанию, к какой привык в школе, к какой школа меня заранее подготовила; но уже в первые дни, когда самая жизнь в Оксфорде и собственная квартира и собственная чековая книжка были источником радости, я в глубине души чувствовал, что это еще не все, что этим не исчерпываются прелести оксфордской жизни.
При появлении Себастьяна серые фигуры моих университетских знакомых отошли на задний план и затерялись в окружающем ландшафте, словно овцы в туманном вереске взгорий. Коллинз опровергал передо мной положения новой эстетики:
— Идею «значимой формы» следует либо принять, либо отвергнуть in toto[25]. Если признать третье измерение на двухмерном полотне Сезанна, тогда приходится признать и преданный блеск в глазу лэндсировского спаниеля…
Но истина открылась мне только в тот день, когда Себастьян, листая от нечего делать «Искусство» Клайва Белла, прочел вслух: «Разве кто-нибудь испытывает при виде цветка или бабочки те же чувства, что и при виде собора или картины?» — и сам ответил: «Разумеется. Я испытываю».
Я знал Себастьяна в лицо задолго до того, как мы познакомились. Это было неизбежно, так как с первого дня он сделался самым заметным студентом на курсе благодаря своей красоте, которая привлекала внимание, и своим чудачествам, которые, казалось, не знали границ. Впервые я увидел его, столкнувшись с ним на пороге парикмахерской Джермера, и был потрясен не столько его внешностью, сколько тем обстоятельством, что он держал в руках большого плюшевого медведя.
— Это был лорд Себастьян Флайт, — объяснил мне брадобрей, когда я уселся в кресло. — Весьма занятный молодой джентльмен.
— Несомненно, — холодно согласился я.
— Второй сын маркиза Марчмейна. Его брат, граф Брайдсхед, окончил курс в прошлом семестре. Вот он был совсем другой, на редкость тихий, уравновешенный джентльмен, просто как старичок. Знаете, зачем лорд Себастьян приходил? Ему нужна была щетка для его плюшевого мишки, непременно с очень жесткой щетиной, но, сказал лорд Себастьян, не для того, чтобы его причесывать, а чтобы грозить ему, когда он раскапризничается. Он купил очень хорошую щетку из слоновой кости и отдал выгравировать на ней «Алоизиус» — так зовут медведя.
Этот человек, которому за столько лет вполне могли бы уже прискучить студенческие фантазии, был явно пленен. Я, однако, отнесся к молодому лорду неодобрительно и в дальнейшем, видя его мельком на извозчике или за столиком у «Джорджа», обедающим в накладных бакенбардах, не изменил своего отношения, хотя Коллинз, штудировавший в это время Фрейда, объяснил мне все в самых научных терминах.
Да и обстоятельства нашего знакомства, когда оно наконец состоялось, были не слишком благоприятны. Дело было в начале марта, незадолго до полуночи; я угощал у себя факультетских интеллектуалов разогретым вином с пряностями; комната была жарко натоплена, в воздухе густо стоял табачный дым и запах специй, и голова моя шла кругом от умных разговоров. Я распахнул окно, и с университетского дворика ко мне донесся довольно обычный здесь пьяный смех и нетвердый звук шагов.
— Постойте-ка, — проговорил один голос. Другой буркнул: — Ладно, идемте.
— Полно времени… — не очень внятно возразил третий. — Пока Том не пробьет последний раз…[26]
И тут еще один голос, более звонкий и чистый, чем остальные, произнес:
— Знаете, я ощущаю совершенно непонятную дурноту. Простите, принужден покинуть вас на минуту.
Через мгновенье в моем окне появилось лицо, в котором я узнал лицо Себастьяна, но не такое, каким я видел его раньше, оживленное и светлое; он мгновение смотрел на меня невидящими глазами, затем перегнулся через подоконник поглубже в комнату, и его стошнило.
Подобные завершения дружеских ужинов не были у нас в диковину; на такие случаи существовал даже определенный тариф вознаграждения служителей; мы все методом проб и ошибок учились пить и знать меру. И была какая-то трогательная чистоплотность наизнанку в том, как Себастьян в своей крайности поспешил к открытому окну. Но все-таки, что там ни говори, знакомство было не из приятных.
Товарищи выволокли его из ворот, и через несколько минут студент, задававший пирушку, приветливый итонец с моего курса, вернулся, чтобы принести извинения. Он тоже был сильно пьян, и речи его носили характер повторяющийся, а под конец еще и слезливый.
— Беда в том, что вина были слишком разные, — объяснял он — ни количество, ни качество тут ни при чем. Все дело в смеси. Уразумейте это, и вы постигнете корень зла. Понять — значит простить.
— Да-да, — ответил я, однако на следующее утро, выслушивая упреки Ланта, все еще испытывал досаду.
— Кувшин-другой подогретого вина на пятерых, — ворчал Лант, — и вот, пожалуйста. Не успели даже до окна добежать. Кто не умеет пить, пусть не берется, я так считаю.
— Это не мы, Лант. Это один человек не из нашего колледжа.
— Мне от этого не легче вывозить всю эту мерзость.
— Там для вас пять шиллингов на буфете.
— Видел и благодарю, но по мне лучше уж не надо денег и чтоб не было этого безобразия.
Я надел университетскую мантию и оставил его в одиночестве делать свое дело. В те дни я еще посещал лекции и домой вернулся незадолго до полудня. Моя гостиная была завалена цветами, во всех углах, на всех столах, полках и подоконниках, во всех мыслимых сосудах стояло столько цветов, что казалось — и в действительности так и было, — сюда перекочевало содержимое целого цветочного магазина. Когда я вошел, Лант как раз заворачивал в бумагу последний букет, который собирался унести с собой.
— Что это все означает, Лант?
— Вчерашний джентльмен, сэр. Он оставил вам записку. Записка была написана цветным карандашом поперек целого листа моего лучшего ватмана: «Я жестоко раскаиваюсь. Алоизиус не хочет со мной разговаривать, пока не убедится, что я прощен, поэтому, пожалуйста, приходите ко мне сегодня обедать. Себастьян Флайт». Как это на него похоже, подумал я, считать, что я знаю, где он живет; впрочем, я и в самом деле знал.
— Занятный молодой джентльмен, и убирать за ним одно удовольствие. Я так понимаю, вас сегодня к обеду дома не будет, сэр? Я предупредил мистера Коллинза и мистера Партриджа — они хотели прийти сегодня к нам обедать.
— Да, Лант, сегодня я к обеду не буду.
Этот званый обед — ибо там оказалось еще несколько гостей — знаменовал начало новой эры в моей жизни. Но подробности его стерлись в моей памяти, на него наслоились воспоминания о многих ему подобных, которые следовали друг за другом весь этот и следующий семестры, точно хоровод купидончиков на ренессансном фризе.
Я шел туда не без колебания, ибо то была чужая территория, и какой-то вздорный внутренний голос предостерегающе нашептывал мне на ухо с характерной интонацией Коллинза, что достойней было бы воздержаться. Но я в ту пору искал любви, и я пошел, охваченный любопытством и смутным, неосознанным предчувствием, что здесь наконец я найду ту низенькую дверь в стене, которую, как я знал, и до меня уже находили другие и которая вела в таинственный, очарованный сад, куда не выходят ничьи окна, хоть он и расположен в самом сердце этого серого города.
Себастьян жил в колледже Христовой церкви, на верхнем этаже Медоу-Билдингс. Я застал его одного, он стоял и обколупывал бекасиное яйцо, которое вынул из большого, выложенного мохом гнезда, украшавшего середину стола.
— Я их пересчитал, — объяснил он, — и вышло по пять на каждого и два лишние. Эти два я взял себе. Умираю с голоду. Я безоговорочно отдался в руки господ Долбера и Гудолла и теперь чувствую себя так упоительно, словно все вчерашнее было лишь сном. Умоляю, не будите меня.
Он был волшебно красив той бесполой красотой, которая в ранней юности, словно звонкая песня, зовет к себе любовь, но вянет при первом же дыхании холодного ветра.
В его гостиной были собраны самые неуместные предметы — фисгармония в готическом ящике, корзина для бумаг в виде слоновьей ноги, груда восковых плодов, две несуразно огромные севрские вазы, рисунки Домье в рамках, — и все это выглядело особенно странно рядом с простой университетской мебелью и большим обеденным столом. На камине толстым слоем лежали пригласительные карточки от хозяек лондонских салонов.
— Этот злодей Хобсон запер Алоизиуса в спальне, — сказал он. — Впрочем, наверное, и к лучшему, потому что бекасиных яиц на него не хватит. Знаете, Хобсон питает вражду к Алоизиусу. Я вам завидую — у вас прекрасный служитель. Сегодня утром он был со мною очень добр, когда другие могли бы выказать строгость.
Собрались гости. Это были три итонских выпускника, ныне первокурсники, элегантные, слегка рассеянные, томные юноши; накануне они все вместе побывали на каком-то балу в Лондоне и сегодня говорили о нем, словно о похоронах близкого, но нелюбимого родственника. Каждый, входя, прежде всего бросался к бекасиным яйцам, потом замечал Себастьяна и наконец меня — со светским отсутствием какого-либо интереса, словно говоря: «У нас и в мыслях нет оскорбить вас хотя бы намеком на то, что вы с нами незнакомы».
— Первые в этом году, — говорили они. — Где вы их достаете?
— Мама присылает из Брайдсхеда. Они для нее всегда рано несутся.
Когда с яйцами было покончено и мы приступили к ракам под ньюбургским соусом, появился последний гость.
— Мой милый, — протянул он. — Я не мог вырваться раньше. Я обедал со своим н-н-немыслимым н-н-наста-вником. Он нашел весьма странным, что я ухожу. Я сказал, что должен переодеться перед ф-ф-футболом.
Он был высок, тонок, довольно смугл, с огромными влажными глазами. Мы все носили грубошерстные костюмы и башмаки на толстой подошве. На нем был облегающий шоколадный в яркую белую полоску пиджак, замшевые туфли, большой галстук-бабочка, и, входя, он стягивал ярко-желтые замшевые перчатки; полугалл, полуянки, еще, быть может, полуеврей; личность полностью экзотическая.
Это был — мне не нужно было его представлять — Антони Бланш, главный оксфордский эстет, притча во языцех от Чаруэлла до Сомервилла. Мне много раз на улице показывали его, когда он вышагивал своей павлиньей поступью; мне приходилось слышать у «Джорджа» его голос, бросающий вызов условностям, и теперь, встретив его в очарованном кругу Себастьяна, я с жадностью поглощал его, точно вкусное, изысканное блюдо.
После обеда он вышел на балкон и над толпой студентов в свитерах и теплых кашне, спешащих мимо на реку, в рупор, странным образом оказавшийся среди безделушек Себастьяна, завывающим голосом декламировал отрывки из «Бесплодной земли»[27].
— А я, Тиресий, знаю наперед, — рыдал он над ними из-под сводов венецианской галереи, —
Все, что бывает при таком визите, Я у фиванских восседал ворот И брел среди отверженных в Аиде.И тут же, возвратясь в комнату, весело:
— Как я их удивил! Для меня каждый гребец — это еще одна доблестная Грейс Дарлинг[28].
Мы еще долго сидели за столом, попивая восхитительный куантро, и самый, томный и рассеянный из итонцев распевал:
«И павшего воина к ней принесли…», аккомпанируя себе на фисгармонии.
Разошлись мы в пятом часу.
Первым поднялся Антони Бланш. Он галантно и сердечно простился с каждым по очереди. Себастьяну он сказал:
— М-мой милый, я хотел бы утыкать вас стрелами, как подушечку для булавок. А меня заверил:
— Это просто изумительно, что Себастьян вас откопал. Где вы таитесь? Вот я доберусь до вашей норы и выкурю вас оттуда, как с-с-старого г-г-горностая.
Вскоре после него ушли и остальные. Я хотел было раскланяться вместе с ними, но Себастьян сказал:
— Выпьем еще немного куантро. — И я остался. Позже он объявил:
— Я должен идти в Ботанический сад.
— Зачем?
— Посмотреть плющ.
Дело показалось мне достаточно важным, и я пошел вместе с ним. Под стенами Мертона он взял меня под руку.
— Я ни разу не был в Ботаническом саду, — признался я.
— О, Чарльз, сколько вам еще предстоит увидеть! Там красивая арка и так много разных сортов плюща, я даже не подозревал, что их столько существует. Не знаю, что бы я делал без Ботанического сада.
Когда я в конце концов очутился опять у себя и нашел свою квартиру точно такой же, какой оставил ее утром, я ощутил в ней странную безжизненность, которой не замечал прежде. В чем дело? Все, кроме желтых нарциссов, казалось ненастоящим. Может быть, причина в экране? Я повернул его к стене. Стало немного лучше.
Это был конец экрана. Лант всегда его недолюбливал и через день или два отнес в какую-то таинственную каморку под лестницей, где у него хранились тряпки и ведра.
Тот день положил начало моей дружбе с Себастьяном — вот как получилось, что роскошным июньским утром я лежал рядом с ним в тени высоких вязов и провожал взглядом облачко дыма, срывающееся с его губ и тающее вверху среди ветвей.
Потом мы поехали дальше и через час проголодались. Мы остановились в деревенской гостинице, которая была также фермерским домом, и позавтракали яичницей с ветчиной, солеными орехами и сыром и выпили пива в затененной комнате, где в полумраке тикали старинные часы, а в нерастопленном очаге спала кошка.
Поев, мы продолжили путь и задолго до вечера прибыли к месту нашего назначения: витая чугунная решетка ворот на краю деревенской улицы, две классически одинаковые башенки, аллея, еще одни ворота, просторный парк, поворот на подъездную аллею — и вдруг перед нами развернулся совершенно новый, скрытый от посторонних взглядов ландшафт. Отсюда начиналась восхитительная зеленая долина, и в глубине ее, в полумиле от нас, залитые предвечерним солнцем, серо-золотые в зеленой сени, сияли колонны и купола старинного загородного дома.
— Ну? — спросил Себастьян, остановив автомобиль. Еще дальше, позади дома, виднелись нисходящие ступени водной глади, и со всех сторон, охраняя и пряча, его обступали плавные холмы. — Ну как?
— Вот бы где жить! — вырвалось у меня.
— Вам надо посмотреть цветники у фасада и фонтан. — Он наклонился и включил скорость. — Здесь живет наша семья.
Даже тогда, захваченный чудесным зрелищем, я ощутил на мгновение, словно ветер шелохнул тяжелые занавеси, зловещий холодок от этих его слов: не «это мой дом», а «здесь живет наша семья».
— Не беспокойтесь, — продолжал он, — их никого нет. Вам не придется с ними знакомиться.
— Но мне бы этого хотелось.
— Ну, как бы то ни было, их все равно нет. Они в Лондоне. — Мы объехали дом и очутились в боковом дворике. — Все заперто, войдем отсюда. — Мы поднялись по каменным ступеням заднего крыльца и прошли под крепостными сводами коридоров людской части дома. — Я хочу познакомить вас с няней Хокинс. Мы для этого и приехали. — И мы пошли вверх по тщательно вымытой деревянной лестнице, потом по каким-то коридорам, вдоль которых строго посредине тянулась узкая шерстяная дорожка, и по другим коридорам, застланным линолеумом, минуя несколько лестничных клеток поменьше и ряды желто-красных пожарных ведер, поднялись еще по одной лестнице, запирающейся вверху решетчатыми створками, и очутились наконец в детской, расположенной под самой крышей, в центре главного здания.
Няня Себастьяна сидела у раскрытого окна; перед нею был фонтан, пруды, беседка и, перечеркнув дальний склон, сверкал обелиск; разжатые руки ее покоились на коленях, между ладонями лежали четки; она спала. Утомительная работа в молодости, непререкаемый авторитет в зрелые годы, покой и довольство в старости — все запечатлелось на ее морщинистом безмятежном лице.
— Вот так сюрприз, — сказала она, просыпаясь. Себастьян поцеловал ее.
— А это кто? — спросила она, глядя на меня. — Что-то я его не помню.
Себастьян представил нас друг другу.
— Вот кстати приехали. Как раз Джулия здесь. В городе у них столько хлопот! А без них здесь скучно. Одна только миссис Чэндлер да две девушки и старый Берт. А потом они уезжают на курорт, да еще в августе здесь котел менять будут, вы собираетесь в Италию к его светлости, остальные по гостям, глядишь, раньше октября здесь никого и не жди. Да ведь должна же и Джулия получить все удовольствия, что и остальные барышни, хотя зачем это придумали уезжать в Лондон в самую летнюю пору, когда сады в цвету, никогда не могла понять. Прошлый вторник был здесь отец Фиппс, я так ему прямо и сказала, — заключила она, словно тем самым ее суждение оказалось освящено его авторитетом.
— Ты говоришь, Джулия здесь?
— Да, голубчик, вы, верно, с ней разминулись. Она у Консервативных женщин. Должна была с ними заняться ее светлость, но ей что-то неможется. Джулия долго там не пробудет, только произнесет приветствие и уедет, еще до чая.
— Боюсь, мы с ней опять разминемся.
— А вы покуда еще не уезжайте, голубчик, то-то она удивится, когда вас увидит, хотя к чаю ей все-таки лучше бы остаться, я ей так и сказала, ведь Консервативные женщины ради этого и собираются. Ну а какие у вас новости? Прилежно ли вы занимаетесь?
— Боюсь, что не очень, няня.
— Ну конечно, целые дни играете в крикет, как ваш брат. Но он все же выбирал и для занятий время. С самого Рождества его здесь не было, теперь, надо полагать, скоро приедет на аграрную выставку. Видели вы, что в газетах про Джулию напечатано? Это она сама мне привезла. Конечно, она-то и не того еще заслуживает, но написано очень даже хорошо: «Прелестная дочь, которую леди Марчмейн вывозит в этом сезоне… столь же остроумна, сколь и хороша собой… пользуется самым большим успехом». Ну что ж, все это чистая правда, хотя ужасно жаль, что она отрезала волосы; такие были чудесные волосы, совсем как у ее светлости. Я сказала отцу Фиппсу, что, по-моему, это противоестественно. А он говорит «Монахини стригутся». А я говорю: «Надеюсь, вы не хотите сделать монахиню из нашей леди Джулии? Подумать только!»
Они с Себастьяном продолжали разговор. Уютная комната имела необычную форму, отвечающую изгибам центрального купола. Узор на обоях состоял из лент и роз. В углу дремала лошадка-качалка, над камином висела олеография Иисусова сердца, пустой очаг скрывали связки сухого камыша, а на комоде была аккуратно разложена целая коллекция подарков, привезенных няне в разное время ее детьми: раковины и куски лавы, тисненая кожа, крашеное дерево, фарфор, мореный дуб, кованое серебро, синий флюорит, алебастр, кораллы — сувениры многочисленных каникулярных поездок.
Спустя какое-то время няня сказала:
— Позвоните, голубчик, мы выпьем вместе чаю. Обычно я спускаюсь к миссис Чэндлер, но сегодня мы будем пить чай здесь. Моя прежняя девушка уехала в Лондон вместе со всеми. А новая только что из деревни. Ничего не знала и не умела поначалу, но делает успехи. Позвоните.
Но Себастьян сказал, что нам пора уезжать.
— А как же мисс Джулия? Она, когда узнает, ужасно расстроится. Вот бы для нее был сюрприз!
— Бедная няня, — сказал Себастьян, когда мы вышли. — Ей очень скучно живется. Я всерьез подумываю взять ее жить к себе в Оксфорд, только она все время будет требовать, чтобы я ходил в церковь. Нам надо торопиться, пока не возвратилась моя сестра.
— Кого вы стыдитесь, ее или меня?
— Самого себя, — серьезно ответил Себастьян. — Я не хочу, чтобы вы знакомились с моими родными. Они все такие немыслимо обаятельные. Всю мою жизнь они у меня все отбирали. Из-за этого их обаяния. Стоит только вам попасть к ним в лапы, и они сделают вас своим другом, а не моим. А я этого не хочу.
— Ну хорошо, — сказал я. — Я удовлетворен. Но может быть, мне будет позволено осмотреть дом?
— Я же сказал, все заперто. Мы приехали навестить няню. В тезоименитство королевы Александры доступ открыт, цена один шиллинг. Ну ладно, пойдемте, если вам так хочется.
Через обитую сукном дверь он провел меня по темному коридору с лепным сводчатым потолком и золотым карнизом, почти неразличимым во мраке; затем, распахнув тяжелые резные двери красного дерева, ввел меня в высокий полутемный зал. Свет просачивался только сквозь щели ставен. Одну из них Себастьян, подняв щеколду, отодвинул, и мягкий предвечерний свет хлынул внутрь, заливая голый пол, два одинаковых мраморных скульптурных камина, высокий купол потолка, покрытый фресками, изображающими античных богов и героев, зеркала в золотых фигурных рамах, пилястры из искусственного мрамора и островки зачехленной мебели. Это был не более как мимолетный взгляд, какой удается иногда бросить из проезжающего автобуса в окно освещенного бального зала, — в следующее мгновение Себастьян закрыл ставню.
— Ну вот, — сказал он. — В таком роде.
У него заметно испортилось настроение с тех пор, как мы пили вино под нашими вязами, а потом резко свернули по аллее, и он спросил: «Ну как?»
— Сами видите, смотреть совершенно нечего. Когда-нибудь я покажу вам две-три хорошенькие вещички. Но только не сейчас. Впрочем, есть еще часовня — надо вам на нее взглянуть. Она в стиле модерн.
Последний архитектор, приложивший руку к Брайдсхеду, построил колоннаду и два боковых флигеля. Один из них и был часовней. Мы вошли в нее через публичный притвор, другая дверь вела прямо в дом; Себастьян окунул концы пальцев в чашу со святой водой, перекрестился и встал на колени; я последовал его примеру.
— Зачем вы это сделали? — раздраженно спросил он:
— Из вежливости.
— Если ради меня, то совершенно напрасно. Вы хотели смотреть, вот и смотрите.
Весь старый интерьер был распотрошен и наново декорирован в духе последнего десятилетия девятнадцатого века. Ангелы в длинных цветастых мантиях, вьющиеся розы, усеянные цветами луга, резвящиеся ягнята, библейские тексты, выведенные кельтской вязью, святые в рыцарских латах покрывали стены замысловатыми узорами ярких холодных тонов. У стены стоял резной триптих из светлого дуба, которому нарочно был придан вид лепнины. Светильник в алтаре и все металлические детали были из бронзы, покрытой ручной чеканкой так густо, что ее поверхность напоминала старую сморщенную кожу; на ступенях алтаря лежал ковер цвета луговой травы с белыми и золотыми ромашками.
— Ух ты! — сказал я.
— Это папин свадебный подарок маме. А теперь, если вы насмотрелись, идемте.
По аллее навстречу нам проехал закрытый «роллс-ройс», за рулем сидел шофер в ливрее, а сзади мелькнула девическая фигурка, и кто-то посмотрел через окно автомобиля нам вслед.
— Джулия, — сказал Себастьян. — Чуть было не попались.
Потом мы остановились поболтать с каким-то велосипедистом («Это старина Бэт», — объяснил Себастьян), а затем выехали из ворот, обогнули башенку и пустились по шоссе в обратный путь к Оксфорду.
— Простите меня, — сказал Себастьян через некоторое время. — Боюсь, я был нелюбезен с вами сегодня. Брайдсхед часто оказывает на меня такое действие. Но я должен был познакомить вас с няней.
«Зачем?» — подумал я, но ничего не сказал. Жизнь Себастьяна была подчинена целому кодексу подобных необходимостей:
«Мне непременно нужна оранжевая пижама», «Я не могу встать с кровати, пока солнце не дойдет до моего окна», «Я обязательно должен сегодня выпить шампанского!»
— А на меня он оказал действие прямо противоположное, — только заметил я.
Себастьян довольно долго хранил молчание, потом обиженно сказал:
— Я же не расспрашиваю о вашей семье.
— И я не расспрашиваю.
— Но у вас вид заинтригованный.
— Естественно. Вы так загадочно молчите о ней.
— Я думал, что обо всем молчу загадочно.
— Пожалуй, меня действительно занимают чужие семьи — видите ли, сам я плохо знаю, что такое семья. Мы только двое с отцом. Какое-то время за мной приглядывала тетка, но отец прогнал ее за границу. А мама погибла на войне.
— О… как необыкновенно.
— Она была в Сербии с Красным Крестом. Отец с тех пор не совсем в себе. Живет в Лондоне один как сыч и коллекционирует какую-то дребедень.
Себастьян сказал:
— Вы и не подозреваете, от чего вы избавлены. А нас уйма. Можете посмотреть в Дебретте.
Он снова повеселел. Чем дальше отъезжали мы от Брайдсхеда, тем полнее освобождался он от своей подавленности — от какой-то тайной нервозности и раздражительности, которые им там владели. Солнце светило на шоссе прямо нам в спину, мы ехали, словно догоняя собственную тень.
— Сейчас половина шестого. К обеду мы как раз доберемся до Годстоу, потом завернем и выпьем в «Форели», оставим Хардкаслу его машину и вернемся пешком по берегу. Ведь верно, так будет лучше всего?
Вот мой подробнейший отчет о первом кратком посещении Брайдсхеда; мог ли я знать тогда, что память о нем вызовет слезы на глазах пожилого пехотного капитана?
Глава вторая
На исходе летнего семестра кузен Джаспер удостоил меня последним визитом и великой ремонстрацией. Накануне я сдал последнюю экзаменационную работу по новейшей истории и был свободен от занятий; темный костюм Джаспера в сочетании с белым галстуком красноречиво свидетельствовал о том, что у моего кузена, напротив, сейчас самые жаркие денечки, и на лице у него было усталое, но не умиротворенное выражение человека, сомневающегося в том, что он сумел показать себя наилучшим образом в вопросе о дифирамбике Пиндара. Долг и только долг привел его в тот день ко мне, хотя лично ему это было крайне неудобно — и мне, надо сказать, тоже, ибо он застал меня в дверях, я торопился сделать последние распоряжения в связи со званым ужином, который давал в тот вечер. Это должен был быть ужин из серии мероприятий, предназначенных умилостивить Хардкасла, чей автомобиль мы с Себастьяном оставили на улице и тем навлекли на него серьезные неприятности с прокторами.
Джаспер отказался сесть: он пришел не для дружеской беседы; он встал спиной к камину и начал говорить со мной, по его собственному выражению, «как дядя с племянником».
— За последнюю неделю или две я несколько раз пытался с тобой увидеться. Признаться, у меня даже возникло ощущение, что ты меня избегаешь. И если это так, Чарльз, то ничего удивительного я в этом не нахожу.
Ты, вероятно, считаешь, что я лезу не в свое дело, но я в каком-то смысле за тебя отвечаю. Ты не хуже моего знаешь, что после… после войны твой отец несколько утратил связь с жизнью и живет как бы в собственном мире. Не могу же я сидеть сложа руки и смотреть, как ты совершаешь ошибки, от которых тебя могло бы оградить вовремя сказанное слово предостережения.
На первом курсе все делают ошибки. Это неизбежно. Я сам чуть было не связался с совершенно невозможными людьми из Миссионерской лиги, они в летние каникулы организовали миссию для сборщиков хмеля, но ты, мой дорогой Чарльз, сознательно или по неведению, не знаю, угодил со всеми потрохами в самое дурное общество, какое есть в университете. Ты, может быть, думаешь, что, живя на частной квартире, я не вижу, что делается в колледже, зато я слышу. И слышу, пожалуй, даже слишком много. В «Обеденном клубе» я по твоей вине вдруг сделался предметом насмешек. К примеру, этот тип, Себастьян Флайт, с которым ты так неразлучен. Может быть, он и неплох, не знаю. Его брат Брайдсхед был человек положительный. Хотя этот твой приятель, на мой взгляд, держится престранно, и он вызывает толки. Правда, у них вся семья странная. Ведь Марчмейны с начала войны живут врозь. Это всех страшно поразило, их считали такой любящей четой, но он вдруг в один прекрасный день уехал со своим полком во Францию и так с тех пор и не вернулся. Словно погиб на войне. А она католичка, поэтому не может получить развода, вернее, не хочет, я так понимаю. В Риме за деньги можно получить что угодно, а они феноменально богаты. Флайт, может быть, и неплох, допускаю, но Антони Бланш — для этого человека нет и не может быть абсолютно никаких оправданий.
— Мне и самому он не особенно нравится, — сказал я.
— Но он постоянно вертится здесь, и в колледже этого не одобряют. Его здесь терпеть не могут. Вчера его опять окунали. Ни один из твоих теперешних приятелей не пользуется у себя в колледже ни малейшим весом, а это самый верный показатель. Они воображают, что, раз они могут сорить деньгами, значит, им все дозволено.
Кстати, и об этом. Мне не известно, какое содержание назначил тебе дядюшка, но держу пари, ты расходуешь в два раза больше. Вот это все, — он обвел рукой обступившие его признаки расточительности. Он был прав: моя комната сбросила свое строгое зимнее одеяние и, пренебрегая постепенностью, сменила его на более пышные одежды. — Оплачено ли это? (Сотня португальских сигар в богатой коробке на столике.) Или вот это? (Кипа новых книг легкого содержания.) Или это? (Хрустальный графин с бокалами.) Или этот вопиющий предмет? (Человеческий череп, приобретенный совсем недавно на медицинском факультете, а теперь лежащий в широкой вазе с позами и являющийся в настоящее время главным украшением моего стола; на лобной кости был выписан девиз: «Et in Arcadia ego»).
— О да, — сказал я, радуясь возможности отвести хоть одно обвинение. — За череп потребовали наличными.
— Науками ты, конечно, не занимаешься. Это, правда, не так уж и важно, особенно если ты предпринимаешь в интересах своей карьеры что-то другое, но предпринимаешь ли ты что-нибудь? Выступал ли ты хоть раз в Студенческом союзе или в каком-нибудь клубе? Связан ли с каким-нибудь журналом? Приобрел ли по крайней мере положение в Университетском театральном обществе? А твоя одежда! — продолжал мой кузен. — Когда ты приехал, я, помнится, посоветовал тебе одеваться, как в загородном доме. Сейчас на тебе такой костюм, словно ты собрался то ли в театр смотреть утренний спектакль, то ли за город выступать в самодеятельном хоре.
И потом вино. Никто не скажет худого слова, если студент слегка напьется раз или два в семестр. Более того, в некоторых случаях это необходимо. Но тебя, как я слышал, постоянно встречают пьяным среди бела дня.
Он выполнил свой тяжкий долг и перевел дух. Предэкзаменационные заботы сразу же снова легли ему на сердце.
— Мне очень жаль, Джаспер, — сказал я. — Я понимаю, что тебе это может причинять затруднения, но мне, к несчастью, нравится мое дурное общество. И мне нравится напиваться среди бела дня, и хотя я еще не истратил денег вдвойне против моего содержания, до конца семестра, безусловно, истрачу. А в это время дня я обычно выпиваю бокал шампанского. Не составишь ли мне компанию?
Кузен Джаспер признал себя побежденным и, как я узнал впоследствии, написал о моих излишествах своему отцу, который в свою очередь написал моему отцу, а он не придал этому значения и не предпринял никаких мер, отчасти потому, что уже без малого шестьдесят лет питал к брату неприязнь, а отчасти потому, что, как сказал Джаспер, после смерти моей матери жил теперь как бы в собственном мире.
Так Джаспер описал в общих чертах мое житье в первый год студенчества. К этому можно прибавить еще кое-какие подробности в том же духе.
Я еще раньше сговорился провести пасхальные каникулы с Коллинзом, и хотя без колебаний нарушил бы слово при первом же знаке Себастьяна, однако от него знака не последовало, и, соответственно, мы с Коллинзом провели две недели в Равенне — поездка, весьма полезная в познавательном отношении и отнюдь не обременительная для кармана. Пронизывающий ветер с Адриатики гулял среди величественных гробниц. В номере гостиницы, рассчитанном на более теплую погоду, я писал длинные письма Себастьяну и ежедневно заходил на почту за ответами. Он прислал мне два, с разными обратными адресами и без каких-либо определенных сведений о себе, поскольку писал в стиле остраненно-фантастическом («…У мамы и двух пажей-поэтов три насморка, поэтому я приехал сюда. Завтра праздник святого Никодима Тиатирского, который принял мученическую смерть от гвоздей, каковыми ему прибили к темени кусок овчины, и потому почитается патроном плешивцев. Скажите это Коллинзу, который, я уверен, облысеет раньше нас. Здесь чересчур много людей, но у одного — хвала небу — в ухе слуховая трубка, и от этого у меня хорошее настроение. А теперь бегу — я должен поймать рыбу. Слать ее вам слишком далеко, потому я сохраню хребет…»), и от этих писем я только еще больше мрачнел. Зато Коллинз делал заметки для своей будущей работы о преимуществах фотографических снимков со знаменитых мозаик над оригиналами. Здесь было посеяно семя будущего урожая всей его жизни. Много лет спустя, когда вышел в свет первый увесистый том его по сей день не завершенного труда о византийском искусстве, я с умилением прочел в списке лиц, коим приносилась авторская признательность, свою фамилию «…Чарльзу Райдеру, чье всевидящее око помогло мне впервые увидеть мавзолей Галлы Плацидии и Сан-Витале».
Я часто думаю, что, если бы не Себастьян, я, возможно, пошел бы по той же дороге, что и Коллинз, и тоже крутил бы всю жизнь водяное колесо истории. Отец мой в юности держал экзамен в колледж Всех Усопших и в те годы жаркой конкуренции провалился; позже к нему пришли другие успехи и почести, но та первая неудача наложила печать на его душу, а через него и на мою, так что я поступил в университет с твердым ошибочным убеждением, что именно в этом естественная цель всякого разумного существования. Я бы, без сомнения, тоже провалился, но, провалившись здесь, возможно, проник бы в какие-нибудь менее высокие академические круги. Возможно, и все же, думается мне, маловероятно, ибо горячий ключ анархии, зарождаясь в глубинах, где не было ничего твердого, вырывался на солнце, играя всеми цветами радуги, и силе его порыва не могли противостоять даже скалы.
Как бы там ни было, но те пасхальные каникулы составили недлинный ровный участок на моем головокружительном пути под откос, о котором говорил мой кузен Джаспер. Впрочем, вел ли этот путь вниз или, может быть, вверх? Мне кажется, что с каждым днем, с каждой приобретенной взрослой привычкой я становился моложе. Я провел одинокое детство, обобранное войной и затененное утратой; к холоду сугубо мужского английского отрочества, к преждевременной солидности, насаждаемой школами, я добавил собственную хмурую печаль. И вот теперь, в тот летний семестр с Себастьяном, я словно получил в подарок малую толику того, чего никогда не знал: счастливого детства. И хотя игрушками этого детства были шелковые сорочки, ликеры, сигары, а его шалости значились на видном месте в реестрах серьезных прегрешений, во всем, что мы делали, была какая-то младенческая свежесть, радость невинных душ. В конце семестра я сдал курсовые экзамены — это было необходимо, если я хотел остаться в Оксфорде, и я их сдал, на неделю запершись от Себастьяна в своих комнатах, где допоздна просиживал за столом с чашкой холодного черного кофе и тарелкой ржаного печенья, набивая себе голову так долго остававшимися в небрежении текстами. Я не помню из них сегодня ни единого слова, но другие, более древние познания, которые я в ту пору приобрел, останутся со мною в том или ином виде до моего смертного часа.
«Мне нравится это дурное общество и нравится напиваться среди бела дня» — тогда этого было довольно. Нужно ли прибавлять что-нибудь сейчас?
Когда теперь, через двадцать лет, я оглядываюсь назад, я не нахожу ничего, что мне хотелось бы изменить или отменить совсем. Против петушиной взрослости кузена Джаспера я мог выставить бойца не хуже. Я мог бы объяснить ему, что наши проказы подобны спирту, который смешивают с чистым соком винограда, — этому крепкому, таинственному составному веществу, которое одновременно придает вкус и задерживает созревание вина, делая его на какое-то время непригодным для питья, так что оно должно выдерживаться в темноте еще долгие годы, покуда наконец не придет его срок быть извлеченным на свет и поданным к столу.
Я мог бы объяснить ему также, что знать и любить другого человека — в этом и есть корень всякой мудрости. Но меня нисколько не тянуло вступать с ним в препирательство, я просто сидел и смотрел, как он, прервав свою битву с Пиндаром, облаченный в темный костюм, белый галстук и студенческую мантию, произносит передо мною грозные речи, меж тем как я потихоньку наслаждаюсь запахом левкоев, цветущих у меня подокном. У меня была тайная и надежная защита, талисман, который носят на груди и, нащупывая, крепко сжимают в минуту опасности. Вот я и сказал ему то, что было, между прочим, совершенной неправдой — будто в этот час я обычно выпиваю бокал шампанского, — и пригласил его составить мне компанию.
На следующий день после великой ремонстрации Джаспера я получил еще одну — в совсем других выражениях и из совершенно неожиданного источника.
В течение всего семестра я виделся с Антони Бланшем несколько чаще, чем это вызывалось моим к нему расположением. Я жил среди его знакомых, но наши встречи с ним происходили по его инициативе, а не по моей, ибо я относился к нему с некоторым испугом.
Он был едва ли старше меня годами, но казался умудренным опытом, как Вечный Жид. К тому же он был кочевник, человек без национальности. В детстве, правда, из него попытались было сделать англичанина, и он провел два года в Итоне, но затем, в разгар войны, презрев вражеские подводные лодки, уехал к матери в Аргентину; и к свите, состоящей из лакея, горничной, двух шоферов, болонки и второго мужа, прибавился умненький, нахальный мальчик. С ними он изъездил вдоль и поперек весь мир, день ото дня совершенствуясь в пороках, точно Хогартов паж. Когда война кончилась, они вернулись в Европу — в гостиницы и меблированные виллы, на воды, в казино и на пляжи. В возрасте пятнадцати лет он на пари переоделся девушкой и играл за большим столом в Жокейском клубе Буэнос-Айреса; он обедал с Прустом и Жидом, был в близких отношениях с Кокто и Дягилевым; Фербэнк дарил ему свои романы с пламенными посвящениями; он послужил причиной трех непримиримыx фамильных ссор на Капри; занимался черной магией в Чефалу; лечился от наркомании в Калифорнии и от эдипова комплекса в Вене. Мы часто казались детьми в сравнении с Антони — часто, но не всегда, ибо он был хвастуном и задирой, — а эти свойства мы успели изжить в наши праздные отроческие годы на стадионе и в классе; его пороки рождались не столько погоней за удовольствиями, сколько желанием поражать, и при виде его изысканных безобразий мне нередко вспоминался уличный мальчишка в Неаполе, с откровенно непристойными ужимками прыгавший перед изумленными английскими туристами; когда он повествовал о вечере, проведенном в тот раз за игорным столом, можно было представить себе, как он украдкой косился на убывавшую груду фишек с той стороны, где сидел его отчим; в то время как мы катались в грязи на футбольном поле или объедались свежими плюшками, Антони на субтропических пляжах натирал ореховым маслом спины увядающих красавиц и потягивал аперитив в фешенебельных барах, и потому дикарство, уже усмиренное в нас, еще бушевало в его груди. И он был жесток мелочной, мучительной жестокостью маленьких детей и бесстрашен, точно первоклассник, который бросается, сжав кулачки и пригнув голову, на великовозрастного верзилу. Он пригласил меня на ужин, и я с некоторым смущением обнаружил, что ужинать мы будем вдвоем, он и я.
— Мы поедем в Тем, — объявил он мне. — Там есть восхитительный ресторанчик, по счастью, не во вкусе «Буллинг-дона». Будем п-пить рейнвейн и воображать с-с-себя… где? Во всяком случае, не среди этих р-р-резвящихся п-п-приказчи-ков. Но сначала выпьем аперитив.
У «Джорджа» в баре он заказал четыре коктейля «Александр». И, выставив в ряд перед собою стаканы, так громко причмокивал, что привлек к себе негодующие взоры всех присутствующих.
— Вы, мой любезный Чарльз, вероятно, предпочли бы херес, но, увы, хереса вы не получите. Восхитительное зелье, не правда ли? Вам не нравится? Тогда я выпью и ваши. Раз, два, три-с, по дорожке вниз. Ах, как эти студенты на нас оглядываются!
И он повел меня туда, где ждал нанятый автомобиль.
— Надеюсь, там студентов не будет. У меня с ними в настоящее время отношения несколько натянутые. Вы не слышали, как они обошлись со мною в прошлый вторник? Очень невежливо. К счастью, на мне была моя самая старая пижама и вечер был удушающе жаркий, не то бы я всерьез рассердился.
У Антони была привычка, разговаривая, придвигать лицо к собеседнику, на меня дохнуло молочно-сладким запахом коктейля, и я поскорее отодвинулся.
— Вообразите меня, мой милый, одиноко сидящим за книгой. Накануне я купил одну довольно отталкивающую книгу под названием «Шутовской хоровод», и мне необходимо было прочитать ее к воскресенью, потому что я собирался к Гарсингтону и знал, что там обязательно все будут говорить о ней, а отвечать, что ты не читал последнего модного романа, когда ты его в самом деле не читал, — это банально. Можно было бы, видимо, просто не ездить к Гарсингтону, но такой выход пришел мне в голову только сейчас. А потому, мой милый, я поужинал омлетом, персиком и бутылкой минеральной воды, облачился в пижаму и приступил к чтению. Должен признаться, что мысли мои блуждали, но я продолжал переворачивать страницы и любовался угасанием дня, а это у нас на Пекуотерском дворике, право же, зрелище впечатляющее: с приближением темноты кажется, что камни положительно рассыпаются прямо у вас на глазах. Это напомнило мне облупленные фасады старого порта в Марселе. И вдруг меня потревожили вопли и улюлюканье небывалой оглушительности, и я увидел внизу, на нашем дворике, человек двадцать ужасных юнцов. Как бы вы думали, что они кричали? «Антони Бланша! Антони Бланша!» Такое громкое общественное признание. Ну, я понял, что на сегодня с мистером Хаксли покончено, и должен сказать, что я как раз достиг той степени скуки, когда любое отвлечение — благо. Их завывания меня слегка взволновали, но, знаете ли, чем громче они кричали, тем больше робели. Слышны были возгласы:
«Где Бой?», «Бой Мулкастер с ним знаком!», «Пусть Бой его приведет!» Вы, конечно, знаете этого бодрого юношу Боя Мулкастера? Он постоянно вертится возле милейшего Себастьяна. Это типичный английский лорд, каким его представляем себе мы, латиняне. Сплошная импозантность. Кумир всех лондонских девиц. Говорят, он с ними так высокомерен. Со страху, мой милый, просто со страху. Дубина стоеросовая этот Мулкастер, и к тому же еще хам. Он приезжал на пасху в Ле-Туке, и каким-то необъяснимым образом вышло так, что я пригласил его погостить. Представьте, он проиграл в карты мизерную сумму и считал, что за это я обязан всюду за него платить; так вот, Мулкастер находился в этой толпе, я видел сверху его нескладную фигуру и слышал, как он говорил: «Пустое дело. Его нет дома. Может, пойдем лучше выпьем?» Тогда я высунул голову в окно и позвал: «Добрый вечер, Мулкастер, пиявка и приживальщик! Что же вы прячетесь среди этих юнцов? Вы, наверное, пришли отдать мне триста франков, которые я одолжил вам на ту жалкую шлюху, что вы подцепили в Казино? Это была нищенская плата за ее труды, Мулкастер, и какие труды! Подымитесь же сюда и возвратите мне долг, жалкий хулиган!»
Это, мой милый, немного их расшевелило, и они, топоча, ринулись вверх по лестнице. Человек шесть ворвалось ко мне в комнату, остальные топтались и пускали слюни за дверью. Мой милый, что у них был за вид! Они явились прямо со своего идиотского клубного ужина и все были в цветных фраках — наподобие ливреи. «Мои милые, — сказал я им, — вы похожи на ватагу очень уж разгулявшихся лакеев». Тогда один из них, довольно аппетитный юноша, обвинил меня в противоестественном грехе. «Мой милый, — ответил я, — я, может быть, и извращен, но не ненасытен. Возвращайтесь, когда будете один». Тогда они стали крайне неприятно ругаться, и я вдруг тоже разозлился. Право, я подумал, после всего, что было, когда герцог де Венсанн (старик Арман, разумеется, а не Филип) вызвал меня в семнадцать лет на дуэль из-за сердечного дела (и гораздо больше, чем просто сердечного, могу вас уверить) с герцогиней (Стефани, разумеется, а не старушкой Поппи), — терпеть теперь подобную наглость от этих прыщавых пьяненьких девственников… Я оставил легкий, шутливый тон и позволил себе сказать им несколько обидных слов. Тогда они начали повторять: «Хватай его. Тащи его к Меркурию!» А у меня, как вы знаете, есть две скульптуры Бранкузи и несколько хорошеньких вещичек, которые я ценю, и я не мог допустить, чтобы они буянили, поэтому я миролюбиво сказал: «Мои очаровательные недоумки, если бы вы хоть самую малость смыслили в сексуальной психологии, вы бы понимали, что мне будет более чем приятно очутиться у вас в руках, толстомясые вы юнцы. Это доставит мне наслаждение самого предосудительного свойства. Поэтому того, кто из вас готов быть моим партнером в удовольствии, прошу меня схватить. С другой стороны, если вами самими движет менее изученная и не столь распространенная сексуальная потребность видеть меня купающимся, сделайте милость, любезные олухи, тихо и мирно последуйте за мной к фонтану».
И знаете, у них был довольно идиотский вид, когда я им это сказал. Я спустился с ними во дворик, но ни один из них ко мне даже не приблизился. Я забрался в фонтан, купание, поверьте, меня приятным образом освежило, я плескался и принимал разные позы, пока наконец они с унылым видом не побрели прочь, и я слышал, как Бой Мулкастер сказал: «Все-таки мы его окунули под Меркурия!» И знаете, Чарльз, именно это они будут говорить и через тридцать лет. Когда у них у всех будут костлявые курицы-жены и кретины сыновья, такие же скоты, как их папаши, они, напившись все в том же клубе на том же ежегодном ужине, облаченные все в те же цветные фраки, будут все так же говорить, лишь только кто-нибудь упомянет мое имя: «Да-да, мы один раз окунули его под Меркурия», а их скотницы-дочери будут хихикать и думать, что, мол, вот ведь какой баловник были папаша когда-то, жаль, он теперь такой неинтересный. О, la fatigue du Nord![29]
Насколько мне было известно, Антони уже приходилось и прежде принимать подобные ванны, но последний эпизод, как видно, произвел на него сильное впечатление, потому что за ужином он снова к нему вернулся.
— А вот вы не можете себе представить, чтобы подобная неприятность произошла с Себастьяном, верно?
— Верно, — сказал я. Представить себе этого я не мог.
— Да, у Себастьяна обаяние. — Он поднял к свету бокал с рейнвейном и повторил— Бездна обаяния. Знаете, назавтра я зашел к Себастьяну. Думал позабавить его повестью о моих злоключениях. И что бы вы думали, я там нашел, помимо его столь забавного игрушечного медведя? Боя Мулкастера и еще двоих его вчерашних дружков. Вид у них был совершенно идиотский, а С-с-себастьян, невозмутимый, как миссис Понсоби де Томкинс из «Панча», говорит: «Вы, конечно, знакомы с лордом Мулкастером», и эти кретины поспешили объяснить: «Ах, мы только зашли на минутку узнать, как поживает Алоизиус», потому что они находят игрушечного медведя таким же забавным, как и мы, или, скажем честно, самую чуточку более забавным, чем мы. Словом, они убрались. А я сказал: «С-с-се-бастьян, разве вы не знаете, что эти с-с-скользкие с-сикофанты нанесли мне вчера вечером оскорбление и, если бы не благоприятная погода, могли бы п-п-причинить мне сильную п-п-про-студу?» На что он мне ответил: «Бедняги. Вероятно, они были пьяны». Да, он найдет для каждого доброе слово. У него ведь такое обаяние.
Я вижу, вас, мой милый Чарльз, он покорил совершенно. Ну что ж, это не удивительно. Конечно, вы знакомы с ним не так давно, как я. Я вместе с ним учился в школе. Вы не поверите, но тогда говорили, что он просто маленькая дрянь. Не все, понятно, а только некоторые злые мальчишки, которые его хорошо знали. В Итонском клубе, разумеется, он пользовался всеобщей любовью, и учителя его тоже обожали. Я думаю, все дело просто в зависти. Он всегда выходил сухим из воды. Всех остальных постоянно по самым незначительным поводам самым жестоким образом били. Себастьяна — никогда. Он был единственным мальчиком в моем корпусе, которого вообще ни разу не били. Помню как сейчас, каким он был в пятнадцать лет. Ни единого пятнышка на коже, когда все остальные, естественно, страдали прыщами. Бой Мулкастер ходил положительно весь в золотухе. А Себастьян — нет. Или был у него один-единственный упрямый нарывчик на шее сзади? Да, пожалуй, один был. Нарцисс с единственным прыщиком. Мы с ним оба были католики и вместе ходили к мессе. Он столько времени проводил в исповедальне, что я диву давался, ведь он никогда не делал ничего дурного, ничего определенно дурного, во всяком случае, не получал наказаний. Возможно, он просто источал обаяние сквозь решетку исповедальни. Я оставил школу при обстоятельствах, бросавших на меня тень, как принято говорить, хотя, откуда пошло такое выражение, непонятно, по-моему, это весьма яркий и нежелательный свет, и процедура, предшествовавшая моему отъезду, включала несколько доверительных бесед с моим наставником. Я был весьма смущен, обнаружив, как хорошо осведомлен этот добрый старец. Ему были известны обо мне такие вещи, которых не знал никто — кроме разве Себастьяна. Это послужило мне уроком никогда не доверять добрым старцам — или, может быть, обаятельным школярам?
Возьмем еще одну бутылочку этого вина? Или чего-нибудь другого? Чего-нибудь другого, да? Скажем, старого доброго бургундского? Вот видите, Чарльз, мне известны ваши вкусы в любой области. Вам надо поехать со мной во Францию, мой милый, и попить тамошних вин. Мы поедем к сбору винограда. Я отвезу вас погостить к Венсаннам. Мы уже давно с ними в мире, а у герцога лучший винный погреб во Франции — у него и у князя де Портайона, к нему я вас тоже отвезу Мне кажется, они вас позабавят, а от вас они, безусловно, будут без ума. Я хочу познакомить вас со всеми моими друзьями. Я рассказывал о вас Кокто, он горит нетерпением. Понимаете ли, мой милый Чарльз, вы представляете собою весьма редкое явление, которому имя — Художник. Да-да, не принимайте скромного вида. Под этой холодной, флегматичной английской наружностью вы — Художник. Я видел ваши рисунки, которые вы прячете у себя в спальне. Они изысканны. А вот вы, милый Чарльз, как бы это выразиться, вы не изысканны, отнюдь. Художникам как людям не свойственна изысканность. Изыскан я, Себастьян по своему тоже, но Художник — это земной тип, волевой, целеустремленный, зоркий и в глубине души с-с-страст-ный, верно, Чарльз?
Но у кого пользуетесь вы признанием? На днях я разговаривал о вас с Себастьяном. «Чарльз — художник, — сказал я ему. — Он рисует, как молодой Энгр». И вы знаете, что ответил Себастьян? «Да да, Алоизиус тоже очень недурно рисует, но, конечно, он гораздо современнее». Так обаятельно, так забавно.
Конечно, те, у кого есть обаяние, в мозгах не нуждаются. Стефани де Венсанн четыре года назад покорила меня совершенно. Мой милый, я даже красил ногти на ногах тем же лаком, что и она. Я говорил ее словами, прикуривал сигарету, как она, и разговаривал по телефону совершенно ее голосом, так что герцог вел со мною длинные интимные беседы, принимая меня за нее. Это, главным образом, и натолкнуло его на столь старомодные мысли о пистолетах и шпагах. Мой отчим считал, что мне это послужит превосходным уроком. Он надеялся, что таким путем я изживу мои, как он выражался, «английские привычки». Бедняга, у него такие латиноамериканские взгляды. Так вот, я ни от кого ни разу не слышал о Стефани худого слова, исключая герцога, понятно; а ведь она, мой милый, женщина положительно безмозглая.
Увлеченный рассказом о старой любви, Антони забыл про свое заикание. Вспомнил он о нем в тот же миг, как был подан кофе с ликером.
— Настоящий з-з-зеленый шартрез, созданный еще до изгнания монахов. Стекая по языку, он пять раз меняет вкус. Словно глотаешь п-призрак. Вам хотелось бы, чтобы Себастьян был сейчас с нами? Ну, разумеется, хотелось бы. А мне? П-право, не знаю. Как, однако, наши мысли настойчиво возвращаются к этой бутоньерке очарования. Вы, наверное, гипнотизируете меня, Чарльз. Я привожу вас сюда — удовольствие, мой милый, которое влетит мне в копеечку, — с единственной целью поговорить о самом себе и не говорю ни о чем, кроме Себастьяна. А это странно, потому что, в сущности, в нем нет ничего загадочного, загадочно только одно: как он умудрился родиться в такой зловещей семье.
Не помню, вы знакомы с их семейством? Едва ли он вас когда-нибудь допустит до знакомства с ними. Он слишком хорошо все понимает. Это люди, безусловно, страшные. Вам никогда не казалось, что в Себастьяне есть что-то чуточку страшное? Нет? Может быть, это мое воображение; просто временами он бывает с виду так похож на своих родных.
Во-первых, Брайдсхед. Существо архаическое, прямо из пещеры, замурованной тысячу лет. У него такое лицо, словно ацтекский скульптор попытался высечь портрет Себастьяна. Это ученый изувер, церемонный варвар, лама, отрезанный от мира ледниками, — можете считать как угодно Потом Джулия. Вы знаете, какова она собой. Не знать этого невозможно. Ее фотографии появляются в иллюстрированных газетах с постоянством рекламы «Пилюль Бичема». Безупречно прекрасное лицо женщины флорентийского Кватроченто; с такой внешностью любая пошла бы на сцену, любая, но не леди Джулия; она — великосветская красавица такого же толка, как… ну, скажем, как Стефани. И ни на йоту богемы. Всегда корректная, жизнерадостная, непринужденная. Собаки и дети ее обожают, другие женщины тоже; мой милый, она душегубка, хладнокровная, корыстная, хитрая и беспощадная. Может быть, в помыслах и кровосмесительница, не знаю. Вряд ли. Все, что ей нужно, — это власть. Следовало бы устроить специальный суд святой инквизиции и сжечь ее. Там есть, если не ошибаюсь, еще одна сестрица, ребенок. О ней пока ничего не известно, за исключением того, что недавно ее гувернантка потеряла рассудок и утопилась. По-видимому, прелестное дитя. Так что, сами понимаете, бедному Себастьяну, в сущности, ничего и не остается, как быть милым и обаятельным.
Но настоящая бездна отверзается, когда доходишь до родителей Это такая чета, мой милый! «Как леди Марчмейн это удается?» — таков один из кардинальных вопросов века. Вы ее не видели. Очень, очень красивая женщина, никаких ухищрений, элегантные серебряные пряди в волосах, естественный очень бледный цвет лица, огромные глаза — просто диву даешься, какими большими они кажутся и как удачно просвечивают голубые жилки на веках, где всякой другой понадобилось бы наложить тени; жемчуга и несколько крупных, как звезды, бриллиантов — фамильные драгоценности в старинной оправе; и голос, мягкий, как молитва, и такой же властный. И — лорд Марчмейн, слегка, быть может, располневший, но о-очень импозантный, magnifico[30], сластолюбец, скучающий байронический тип, заразительно праздный, совсем не из тех, кто дает себя в обиду. И эта рейнхардовская монашенка, мой милый, просто изничтожила его — да-да, совершенно. Он нигде не решается показаться. Это последний в истории достоверный случай, когда человека в буквальном смысле изгнали из общества. Брайдсхед не хочет с ним видеться, барышням с ним видеться не дозволено, Себастьян, правда, к нему открыто ездит ввиду своей обаятельности. Но больше с ним никто знаться не желает. Да вот, не далее как в сентябре леди Марчмейн гостила в Венеции в палаццо Фольере. Сказать вам по правде, она была там самую чуточку смешна. К «Лидо» она, естественно, даже близко не подходила, а целыми днями разъезжала в гондоле по каналам с сэром Адрианом Порсоном — и такие позы, мой милый, просто мадам Рекамье; я как-то однажды ехал навстречу и переглянулся с гондольером из палаццо, который мне, естественно, знаком, — мой милый, как он мне подмигнул! Где бы она ни бывала, она всюду появлялась в эдаком полупрозрачном коконе, словно персонаж из кельтского фольклора или героиня Метерлинка, и каждый день ходила в церковь. А как вы знаете, Венеция — единственный город в Италии, где в церковь ходить абсолютно не принято. Словом, она вызывала улыбки. И вдруг кто бы, вы думали, прибыл в город на яхте Молтонов? Несчастный лорд Марчмейн. Он заранее снял небольшой палаццо, но, вы думаете, его туда впустили? Лорд Молтон, не дав ему дух перевести, погрузил его вдвоем с лакеем в утлую лодчонку и в два счета отвез на пристань и посадил на триестский пароход. А он был даже без своей любовницы. В это время года она как раз уезжает отдыхать. Откуда им стало известно, что в городе леди Марчмейн, никто не знает. И все-таки лорд Молтон целую неделю ходил тише воды ниже травы, словно впал в высочайшую немилость. Да так оно и было. Принчипесса Фольере давала бал, и лорд Молтон не получил приглашения, ни он сам и никто из его гостей, даже де Паньозы. Как леди Марчмейн это удется? Она убедила свет, что лорд Марчмейн — чудовище. А что было на самом деле? Они прожили в браке лет пятнадцать, а потом лорд Марчмейн уехал на войну и не вернулся, вступив в связь с одной очень талантливой балериной. Таких случаев тысячи. Она отказалась дать ему развод, так как она, видите ли, очень набожна. И такие случаи бывали. Обычно сочувствие оказывалось на стороне неверного мужа, но лорду Марчмейну не было сочувствия. Можно подумать, что старый распутник избивал свою несчастную жену, обездолил ее и вышвырнул за дверь, что он потрошил, жарил и пожирал своих детей и наконец ударился в пляс, увитый гирляндами всех цветов Содома и Гоморры. А в действительности? Он родил с ней четырех прекрасных детей, отдал ей Брайдсхед и Марчмейн-хаус на Сент-Джемской площади и денег сколько ее душеньке угодно, а сам сидит в белоснежной крахмальной манишке за столиком у Ларю с немолодой почтенной дамой — и все в самом что ни на есть респектабельном эдвардианском стиле. А она, между прочим, содержит при себе маленькую свиту бесправных, изможденных рабов, которыми пользуется исключительно для собственного удовольствия. Она сосет из них кровь. У Адриана Порсона плечи испещрены следами ее зубов — это всем видно, когда он купается. А он, мой милый, был некогда величайшим, можно сказать единственным, поэтом нашего времени. Она выпила из него все соки, ничего не осталось. У нее есть еще человек пять или шесть, разного возраста и пола, которые как тени следуют за ней по пятам. Стоит ей однажды впиться в человека зубами, и он уже от нее не уйдет. Это ведьмовство, мой милый, другого объяснения нет.
Так что мы не должны винить Себастьяна, если временами он бывает немножко придурковат, ну, да ведь вы его и не вините, правда, Чарльз? При таком мрачном антураже что же ему еще оставалось, как не простота и обаяние? Тем более что на чердаке у него не очень-то богато. Этого мы не станем отрицать, как бы мы его ни любили, верно?
Признайтесь откровенно, слышали ли вы хоть раз, чтобы Себастьян сказал что-нибудь, что остается в памяти хотя бы на пять минут? Знаете, его речь чем-то напоминает мне эту довольно отвратительную картину под названием «Мыльные пузыри». Разговор, как я его понимаю, подобен жонглированию. Взлетают шары, мячики, тарелки — вверх и вниз, туда и назад, колесом, кувырком, — обыкновенные, весомые вещи, которые искрятся в огнях рампы и падают с громким стуком, если их не подхватить. Но когда разговаривает наш дорогой Себастьян, кажется, будто это маленькие мыльные пузыри отрываются от старой глиняной трубки, летят куда попало, переливаясь радугой, и через секунду — пшик! — исчезают, и не остается ничего, ровным счетом ничего.
Потом Антони говорил о жизненном опыте, который полезен для художника, о понимании, критике и поддержке, которых он вправе ждать от друзей, о риске, на который он может идти ради богатства эмоций, и еще о чем-то в таком же духе, но я, охваченный внезапной сонливостью, перестал прислушиваться к его рассуждениям. Наконец мы поехали домой, и на Магда-линином мосту он снова вернулся напоследок к лейтмотиву нашего ужина:
— Ну-с, мой милый, я нисколько не сомневаюсь, что завтра, едва открыв глаза, вы побежите к Себастьяну и перескажете ему все, что я о нем говорил. В связи с чем я хочу сказать вам две вещи: это нисколько не повлияет на его отношение ко мне, а во-вторых, мой милый, — помяните мои слова, хотя я и так уже заговорил вас до обморока, — он сразу же переведет разговор на этого своего забавного игрушечного медведя. Покойной ночи. Желаю вам спать праведным сном.
Но я спал плохо. Сонный, я сразу бухнулся в постель, однако уже через час проснулся и больше не мог уснуть — меня мучила жажда и непонятное волнение попеременно окатывало меня то холодом, то жаром. Я много выпил за ужином, но ни александровский коктейль, ни шартрез, ни «Шалость Мавродафны», ни даже то, что я просидел весь вечер в неподвижности и почти полном безмолвии, вместо того чтобы, как обычно, «спускать пары» в ребяческих развлечениях, не могли бы послужить причиной глубокой тоски, охватившей меня в ту мучительную ночь. Мне не снились кошмары, представляющие в зловещем искажении образы минувшего вечера. Я лежал с широко открытыми глазами и совершенно ясной головой. И только беззвучно повторял про себя слова Антони с его интонацией, с его паузами и распевом, видя перед собой в темноте его бледное, освещенное свечами лицо, как оно маячило против меня за ресторанным столиком. Один раз в эти ночные часы я встал и принес рисунки, хранившиеся у меня в гостиной, и долго сидел с ними у раскрытого окна. В университетском дворике было темно и тихо-тихо, только часы на башнях, пробуждаясь, вызванивали четверти над крутоверхими крышами колледжей. Я пил содовую воду, курил и томился, пока не стало светать и поднявшийся предутренний ветерок не загнал меня обратно в постель.
Когда я проснулся, в открытых дверях стоял Лант.
— Я дал вам отоспаться, — сказал он. — Я так решил, что вы не пойдете к общему причастию.
— И правильно решили.
— Первокурсники пошли чуть ли не все, и со второго и третьего курса тоже кое-кто пошел. И все из-за нового священника. Раньше ни о каком общем причастии не слыхали — просто святое причастие для желающих и службы — обедня и вечерня.
Было последнее воскресенье в семестре, последнее воскресенье в году. Проходя в ванную, я видел, как университетский двор заполняют выходящие из церкви студенты в мантиях и белых стихарях церковного хора. Когда я возвращался, они стояли группками, курили; среди прочих был и кузен Джаспер, прикативший из своей квартиры на велосипеде, чтобы не остаться в стороне.
Я шел по безлюдной Брод-стрит в маленькую чайную напротив Баллиоля, где обычно завтракал по воскресеньям. На всех колокольнях звонили, воздух был полон гуденьем колоколов, и солнце, перекидывая на открытых местах длинные узкие тени, легко развеяло страхи минувшей ночи. В чайной было тихо, как в библиотеке; несколько студентов-одиночек из Баллиоля и, Святой Троицы — они были прямо в комнатных туфлях — подняли головы, когда я входил, но тут же снова зарылись в воскресные газеты. Я съел неизменную яичницу и порцию джема с жадностью, которая в юные годы неизменно следует за бессонной ночью. Потом закурил сигарету и сидел, глядя; как студенты из Святой Троицы и Баллиола один за другим расплачивались и уходили, шаркая туфлями, через улицу к себе в колледж. Когда я вышел из чайной, было без малого одиннадцать, перезвон над городом вдруг смолк, и вместо него зазвучал стройный благовест, оповещающий жителей о начале службы.
На улицах не осталось никого, кроме идущих на молитву — студенты, преподаватели, жены, торговцы шли тем особым, чисто английским шагом, каким ходят только в церковь, с одинаковым успехом избегая торопливости и праздной медлительности; шли, неся в руках переплетенные в черную кожу или обернутые в белый пергамент молитвенники десятка враждующих между собою сект: шли к святому Барнабасу и к святой Колумбе, к святому Алоизию и к святой Марии, в Пьюзи-хаус, в Блэкфрайерс и бог знает куда еще— к памятникам реставрированной норманнской архитектуры и возрожденной готики, к строениям в ложновенецианском и псевдоафинском стиле, шли в этот летний солнечный день, каждый в храм своего племени. Только четыре гордых язычника открыто провозглашали свою независимость: четыре индуса вышли из ворот Баллиоля в свежих фланелевых брюках, выутюженных спортивных куртках и в белоснежных тюрбанах, неся в пухлых коричневых руках разноцветные подушки, корзинки для пикника и «Неприятные пьесы» Бернарда Шоу, и зашагали по направлению к реке.
На Корнмаркет-стрит на ступенях «Кларендон-отеля» я увидел группу туристов, с помощью дорожной карты втолковывавших что-то своему шоферу, а напротив, из-под старинной арки «Золотого креста», выходило, несколько моих знакомых студентов, которые завтракали там и задержались, чтобы выкурить по трубке на увитом плющом дворике. Вприпрыжку, забыв о строе, промчался на молитву отряд бойскаутов с пестрыми ленточками и значками на груди, а на Карфаксе мне навстречу попалась направляющаяся к проповеди в городскую церковь процессия членов муниципалитета с мэром во главе — все в алых мантиях, с золотыми цепями, предшествуемые жезлоносцами и провожаемые невозмутимыми взорами. На Сент-Олдейтс-стрит мимо меня прополз крокодил попарно семенящих мальчиков-певчих в крахмальных воротниках и забавных круглых шапочках, они шли в кафедральный собор у Томгейт. Так, через целый мир благочестия, шел я к Себастьяну. Его не оказалось дома. Я прочитал письма, которыми был завален его письменный стол, но они ничего мне не говорили, пересмотрел пригласительные карточки на каминной полке — там не было ни одной новой. Тогда я сел и читал «Лисьи чары» до тех пор, пока он не пришел.
— Я был на мессе в Старом Дворце, — сказал он. — Я не ходил целый семестр, и на прошлой неделе монсеньер Белл два раза приглашал меня на обед, а это уж я знаю, что значит. Ему писала мама. Вот я и пошел, сел в передний ряд, на самом виду у него, и положительно орал «Богородица, дево, радуйся», когда кончилась служба; так что теперь с этим покончено. Ну, как вы поужинали с Антуаном? О чем разговаривали?
— Разговаривал главным образом он. Скажите мне, вы были с ним знакомы в Итоне?
— Его исключили через полгода после моего поступления. Я помню его. Он всегда был заметной фигурой.
— Он ходил с вами к мессе?
— Не помню, по-моему, нет. А что?
— А с вашей семьей он знаком?
— Чарльз, какой вы нынче странный, право. Нет. Насколько мне известно, не знаком.
— И с вашей матерью в Венеции не встречался?
— По-моему, она что-то такое рассказывала. Только не помню что. Кажется, она гостила у наших итальянских родственников Фольере, а Антони со своей мамашей приехал и остановился в гостинице, и был какой-то вечер у Фольере, куда их не пригласили. Мама мне что-то об этом рассказывала, когда я сказал, что знаком с ним. Не знаю, зачем ему непременно хотелось быть на вечере у Фольере, княгиня так гордится тем, что в ее жилах течет английская кровь, она ни о чем другом говорить не может. Да против Антуана никто ничего не имел, по крайней мере всерьез, как я понял. Затруднения были связаны с его мамашей.
— А кто такая герцогиня де Венсанн?
— Поппи?
— Стефани.
— Об этом вам лучше расспросить Антуана. Он утверждает, что имел с ней интрижку.
— Правда имел?
— Вероятно. В Каннах это, по-моему, обязательно для всех. Почему это вас интересует?
— Просто я хочу знать, много ли правды в том, что Антони говорил мне вчера вечером.
— Ни слова, я думаю. В этом его обаяние.
— Вы, может быть, считаете, что это очень мило, а по-моему, это настоящая чертовщина. Да вы знаете ли, что он весь вчерашний вечер пытался настроить меня против вас и это ему почти удалось?
— Вот как? Ну и глупо. Алоизиус бы этого никак не одобрил, верно я говорю, старый чванливый медведь? И тут пришел Бой Мулкастер.
Глава третья
На долгие каникулы я приехал домой — без определенных планов и совершенно без денег. Для покрытия послеэкзаменационных расходов я продал Коллинзу за десять фунтов Фрайевский экран, и из них у меня теперь оставалось четыре; мой последний чек с перебором в несколько шиллингов исчерпал мой счет в банке, и я получил предупреждение, что больше без подписи отца выписывать счетов не должен. Новая сумма причиталась мне только в октябре, так что перспективы мои были достаточно мрачны, и, обдумывая положение, я испытывал нечто отдаленно напоминающее раскаяние в собственной недавней расточительности.
Когда начинался семестр, все взносы за учение и содержание в университете у меня были уплачены и больше ста фунтов оставалось на руках. И все это ушло, да еще там, где можно было пользоваться кредитом, мною не было выплачено ни пенса. Особых причин для этих трат не было, не было погони за какими-то необыкновенными удовольствиями, которых иначе как за деньги не добудешь; деньги транжирились просто так, ни на что. Себастьян часто смеялся надо мною: «Вы швыряетесь деньгами, как букмекер», — но все, что я тратил, было потрачено на него или вместе с ним. Его собственные финансы были постоянно в неопределенно-расстроенном состоянии. «Деньги проходят через руки юристов, — беспомощно жаловался он. — И вероятно, они кое-что присваивают. Во всяком случае, мне достается немного. Мама, разумеется, всегда даст мне, сколько я ни попрошу».
— Почему бы вам тогда не попросить ее увеличить ваше содержание?
— Нет, она любит делать подарки. У нее такое доброе сердце, — пояснил Себастьян, добавляя еще один штрих к портрету, который складывался в моем воображении.
И вот теперь Себастьян удалился в этот свой особый мир, куда меня не приглашали, и я остался один во власти скуки и раскаяния.
Как несправедливо редко в зрелые годы вспоминаем мы добродетельные часы нашей юности, ее дни видятся на расстоянии непрерывной чередой легкомысленных солнечных беспутств. История молодой жизни не будет правдивой, если в ней не найдут отражения тоска по детским понятиям о добре и зле, угрызения совести и решимость исправиться, черные часы, которые, как зеро на рулетке, выпадают с грубо предсказуемой регулярностью.
Так и я провел первый день в отчем доме, бродя по комнатам, выглядывая из окон то в сад, то на улицу, в состоянии черного недовольства собой.
Отец, как мне было известно, находился дома, но вход к нему в библиотеку был заповедан, и только перед самым ужином он вышел, и мы поздоровались. В то время ему не было и шестидесяти, но у него была странная страсть прикидываться стариком; на вид ему можно было дать лет семьдесят, а голос, которым он говорил, звучал как у восьмидесятилетнего. Он вышел мне навстречу нарочито шаркающей походкой китайского мандарина, со слабой улыбкой привета на губах. В те дни, когда он ужинал дома — то есть практически каждый вечер, — он садился за стол в бархатной куртке, отделанной шнуром, какие были модны за много лет до этого и должны были впоследствии опять войти в моду, но в то время представляли собой подчеркнутый анахронизм.
— Мой дорогой мальчик, мне никто не сообщил, что ты уже приехал. Наверное, устал с дороги? Тебе тут дали чаю? Как же ты поживаешь? Надеюсь, хорошо? А я недавно сделал одно довольно смелое приобретение — купил у Зонершайнов терракотового быка пятого века. И вот рассматривал его в библиотеке и забыл о твоем приезде. Тесно было в вагоне? Удалось ли тебе занять место в углу? (Он сам так редко ездил, что путешествия других вызывали у него глубокое сочувствие.) Хейтер принес тебе вечернюю газету? Новостей, конечно, никаких — все один вздор.
Объявили, что ужин подан. По старой привычке отец взял с собой к столу книгу, но, вспомнив о моем присутствии, украдкой уронил ее под стул.
— Что ты пьешь? Хейтер, что мы можем предложить мистеру Чарльзу?
— Есть немного виски, сэр.
— Есть немного виски. Или ты предпочел бы что-нибудь другое? Что еще у нас есть?
— Больше в доме ничего нет, сэр.
— Больше ничего нет. Скажи Хейтеру, чего бы тебе хотелось, и он распорядится завезти. Я теперь не держу в доме вина. Мне его пить запрещено, а гости у меня не бывают. Но на то время, пока ты здесь, нужно, чтобы у тебя было все по вкусу. Ты надолго?
— Пока еще не знаю, папа.
— Эти каникулы очень-очень длинные, — сказал он с тоской. — В мое время мы отправлялись компанией куда-нибудь в горы. Считалось, что читать книги. Почему? Почему, — повторил он ворчливо, — альпийский пейзаж должен побуждать человека к занятиям?
— Я думал позаниматься на каких-нибудь курсах живописи — по живой натуре.
— Дорогой мой, все курсы сейчас закрыты. Желающие обучаться едут в Барбизон и тому подобные места и пишут на открытом воздухе. В мое время было такое учреждение, которое называлось «Клуб рисунка», — мужчины и женщины вместе (сопение), велосипеды (снова сопение), брюки гольф в мелкую клетку, полотняные зонты и, по всеобщему мнению, свободная любовь (сильное сопение) — все один вздор. Я думаю, они и теперь существуют. Поинтересуйся.
— Главная проблема каникул — это деньги, папа.
— О, на твоем месте я бы не стал беспокоиться смолоду о таких вещах.
— Видишь ли, я несколько поиздержался.
— Вот как, — отозвался отец без всякого интереса в голосе.
— По правде сказать, я не очень-то представляю себе, как прожить эти два месяца.
— Ну, я в таких вопросах наихудший советчик. Мне никогда не случалось «поиздержаться», как ты весьма жалобно это называешь. А с другой стороны, как иначе можно выразиться? Быть в затруднительном положении? В стесненных обстоятельствах? Без гроша в кармане? (Сопение.) Или сидеть на мели? Или, может быть, в калоше? Скажем, что ты сидишь в калоше, и на том остановимся. Твой дедушка говорил мне: «Живи по своим средствам, но если окажешься в затруднении, приди ко мне, не ходи к евреям». Все один вздор. Ты попробуй. Сходи на Джермин-стрит к этим господам, которые дают ссуды под собственноручную расписку клиента. Мой дорогой мальчик, они не дадут тебе ни соверена.
— Что же ты тогда советуешь мне делать?
— Твой кузен Мельхиор был неосторожен с капиталовложениями и оказался в очень глубокой калоше. Так он уехал в Австралию.
Я не помнил отца таким довольным с тех пор, как он когда-то нашел две страницы папируса второго века между листами Ломбардского часослова.
— Хейтер, я уронил книгу.
Книга была поднята с пола, раскрыта и прислонена к графину. Остальное время обеда он провел в молчании, иногда нарушаемом веселым сопением, которого, как мне казалось, не мог вызвать штудируемый им трактат.
Потом мы покинули столовую и расположились в зимнем саду, и здесь он непритворно забыл о моем существовании; мысли его, я знал, витали далеко, в тех давних столетиях, где он чувствовал себя непринужденно, где время измерялось веками и у всех фигур были стертые лица и имена, которые на самом деле оказывались искаженными словами с совершенно другим значением. Он сидел в позе, которая для всякого, кроме него, была бы вопиюще неудобной — боком в своем высоком кресле, держа у самого лица повернутую к свету книгу. Время от времени он брался за карандаш в золотом футлярчике, висевший у него на цепочке от часов, и делал заметки на полях. За распахнутыми окнами сгущались летние сумерки; тиканье часов, отдаленный шум уличного движения на Бейсуотер-стрит и шелест переворачиваемых отцом страниц были единственными звуками. Поначалу объявив себя банкротом, я счел разумным воздержаться от курения сигары, но теперь, отчаявшись, сходил в свою комнату и принес одну гавану. Отец даже не взглянул в мою сторону. Я обрезал ее, закурил и, подкрепив свою храбрость, сказал:
— Папа, ты ведь не хочешь, чтобы я прожил у тебя все каникулы?
— А? Что?
— Разве тебе не осточертеет за столько времени мое общество?
— Надеюсь, я никогда не обнаружил бы подобных чувств, даже если бы их испытывал, — кротко ответил отец и вновь погрузился в чтение.
Вечер прошел. Из всех углов часы разнообразных систем мелодично пробили одиннадцать. Отец закрыл книгу и снял очки.
— Здесь тебе всегда очень рады, мой мальчик, — сказал он. — Живи сколько хочешь.
В дверях он замедлил шаги и обернулся.
— Твой кузен Мельхиор заработал себе проезд в Австралию «на баке» (сопение). Что это за бак, интересно было бы знать?
В течение последовавшей знойной недели отношения мои с отцом резко ухудшились. Днем я почти не видел его; он часами отсиживался у себя в библиотеке, только изредка делая вылазки, и тогда я слышал, как он кричит с лестницы: «Хейтер, вызовите мне кэб!» Уезжал он иногда на полчаса и даже меньше, иногда на весь день; что у него были за дела, не объяснял. Случалось, я видел, как ему в библиотеку относили на подносе убогие детские лакомства: сухарики, стакан молока, бананы. Если мы сталкивались в коридоре или на лестнице, он рассеянно смотрел на меня и бормотал: «Да-да», или «Очень жарко», или «Чудесно, чудесно». Но вечером, спускаясь в зимний сад в своей бархатной куртке, он весьма вежливо со мною здоровался.
Обеденный стол был полем нашего сражения.
Во второй вечер я взял с собой к столу книгу. Его рассеянный, кроткий взгляд остановился на ней с внезапным интересом, и по пути в столовую он украдкой оставил свою на столике в прихожей. Когда мы сели за стол, он жалобно сказал:
— Право, Чарльз, ты мог бы и поговорить со мной. У меня был очень трудный день, и я надеялся отдохнуть за приятной застольной беседой.
— Конечно, папа, пожалуйста. О чем мы будем разговаривать?
— Ободри меня. Развлеки, — с обидой в голосе, — расскажи о новых спектаклях.
— Но ведь я не был ни на одном.
— И напрасно, вот что я тебе скажу, нужно ходить. Это неестественно, когда молодой человек все вечера проводит дома.
— Но, папа, я же объяснял тебе, что у меня нет денег на театры.
— Мой дорогой, не следует так подчиняться денежным соображениям. Подумай только, твой кузен Мельхиор в этом возрасте принимал участие в финансировании целого музыкального спектакля. Это было одно из его немногих удачных предприятий. Посещение театра тебе следует рассматривать как составную часть образования. Если ты посмотришь жизнеописания выдающихся людей, окажется, что не меньше половины из них впервые познакомились с драмой, стоя на галерее. Мне говорили, что это ни с чем не сравнимое удовольствие. Именно там встречаются настоящие ценители и критики. Это так и называется: «в эмпиреях с богами». Расходы пустячные, а развлечения начинаются еще на улице, при входе, когда ты оказываешься в толпе истинных театралов. Как-нибудь мы с тобой вместе проведем вечер «в эмпиреях с богами». Как ты находишь стряпню миссис Эйбл?
— Без перемен.
— Она вдохновлена твоей теткой Филиппой. Твоя тетка составила десять вариантов меню, которые и выполняются неукоснительно. Когда я один, я не замечаю, что ем, но теперь, когда здесь ты, необходимо внести разнообразие. Чего бы тебе хотелось? На какие деликатесы сейчас сезон? Раков ты любишь? Хейтер, скажите миссис Эйбл, чтобы она приготовила нам завтра вечером раков.
В тот вечер обед состоял из белого безвкусного супа, пережаренного рыбного филе под розовым соусом, бараньих котлет, уложенных вокруг горки картофельного пюре, и желе с персиками на каком-то губчатом пироге.
— Я обедаю так основательно только из уважения к твоей тетке Филиппе. Она постановила, что обед из трех блюд — это мещанство. «Стоит только дать слугам волю, — говорила она, — и сам не заметишь, как будешь есть на обед одну баранью котлету». На мой вкус, ничего не может быть лучше. Я, собственно, так и поступаю, когда миссис Эйбл выходная и я обедаю в клубе… Но твоя тетка распорядилась, чтобы дома мне на обед подавался суп и еще три блюда; иногда это рыба, мясо и острая закуска, в других случаях — мясо, закуска, десерт; предусмотрен целый ряд допустимых перестановок. Замечательно, как некоторые люди умеют излагать свои мнения в лапидарной форме. У твоей тетки как раз был такой дар. Трудно себе представить, что когда-то она и я каждый вечер вместе обедали за этим столом — как мы сейчас с тобой, мой мальчик. Вот она так неустанно старалась развлечь меня. Рассказывала мне о книгах, которые читала. Забрала себе в голову, что этот дом должен стать ее домом, видите ли. Считала, что у меня появятся странности, если я останусь один. Возможно, что они у меня и появились, как ты находишь? Но у нее ничего не вышло. В конце концов я ее выдворил.
В последних его словах явно слышалась угроза. Я оказался непрошеным гостем в родном доме, и во многом это произошло из-за тети Филиппы. После гибели моей матери она переселилась к нам с несомненным намерением сделать, как сказал отец, этот дом своим домом. Тогда я ничего не знал о ежевечерних терзаниях за обеденным столом. Тетя проводила время со мною, и я принимал это как должное. Так продолжалось год. Первым признаком перемены было то, что она открыла свой дом в Суррее, хотя раньше собиралась его продать, и стала жить в нем, пока я находился в школе, приезжая в Лондон только на несколько дней за покупками и по светским делам. Летом мы с нею вместе жили где-нибудь на побережье. Потом, когда я уже был в последнем классе, она уехала за границу. «Я ее выдворил», — сказал он с насмешкой и торжеством про эту добрую женщину, зная, что я услышу в его словах вызов самому себе.
Когда мы выходили из столовой, отец сказал:
— Хейтер, вы уже передали миссис Эйбл относительно раков, которые я заказал на завтра?
— Нет, сэр.
— И не передавайте.
— Очень хорошо, сэр.
Мы расположились в креслах в зимнем саду, и тогда он заметил:
— Интересно, собирался ли Хейтер вообще говорить миссис Эйбл про раков? Знаешь, я думаю, нет. Он, по-моему, решил, что я шучу.
На следующий день мне в руки неожиданно попало оружие. Я встретил старого школьного товарища и сверстника по фамилии Джоркинс. Я никогда не питал к нему особой симпатии. Однажды, еще во времена тети Филиппы, он был у нас к чаю, и она вынесла над ним приговор, найдя, что в душе он, быть может, и хороший человек, но внешне непривлекателен. Теперь я искренне ему обрадовался и пригласил к нам ужинать. Он пришел. Он нисколько не переменился. Отца, по-видимому, предупредили, что у нас к ужину гость, потому что вместо обычной бархатной куртки он явился во фраке; фрак и черный жилет вместе с очень высоким воротничком и очень узким белым галстуком составили его вечерний костюм; он носил его с меланхолическим видом, словно придворный траур, надетый в молодости, пришедшийся по вкусу и с тех пор неснимаемый. Смокингов у него вообще не водилось.
— Добрый вечер, добрый вечер. Очень любезно с вашей стороны, что ради нас вы проделали такой путь.
— О, мне ведь недалеко, — ответил Джоркинс, который жил на Сассекс-сквер.
— Наука сокращает расстояния, — загадочно заметил отец. — Вы здесь по делам?
— Ну, я вообще-то занимаюсь делами, если вы об этом.
— У меня был кузен, тоже делец — вы его знать не могли, это было еще до вас. Я только на днях рассказывал о нем Чарльзу. В последнее время он у меня не выходит из головы. Так вот он, — отец сделал паузу перед непривычным выражением, — сел в лужу.
Джоркинс нервно хихикнул. Отец устремил на него укоризненный взгляд.
— Вы находите в его несчастье повод для смеха? Или, быть может, я употребил непонятное для вас выражение? Вы, я полагаю, сказали бы просто «прогорел».
Отец оказался полным хозяином положения. Он сочинил для себя, что Джоркинс — американец, и весь вечер вел с ним тонкую одностороннюю игру, объясняя ему всякий чисто английский термин, который встречался в разговоре, переводя фунты в доллары и любезно адресуясь к нему с фразами вроде:
«Разумеется, по вашим меркам…», «Мистеру Джоркинсу это, без сомнения, покажется весьма провинциальным…», «На огромных пространствах, к которым привыкли у вас…», — а мой гость явно чувствовал, что его принимают за кого-то другого, но никак не мог устранить недоразумение. В течение всего ужина он искательно заглядывал отцу в глаза, надеясь найти в них простое подтверждение того, что это всего только изощренная шутка, но встречал взгляд, исполненный столь безмятежного добросердечия, что оставался сидеть совершенно обескураженный.
Один раз мне показалось, что отец зашел уж слишком далеко. Он сказал Джоркинсу:
— Боюсь, что, живя в Лондоне, вы очень скучаете без вашей национальной игры.
— Без моей национальной игры? — переспросил Джоркинс, сначала ничего не поняв, но потом сообразив, что ему открывается наконец возможность поставить все на свои места.
Отец перевел с него на меня взгляд, ставший на мгновение из доброго злобным, потом обратил его, опять подобревший, на Джоркинса. Это был взгляд игрока, открывающего против фуля покер.
— Без вашей национальной игры, — любезно подтвердил он. — Я имею в виду крикет. — И безудержно засопел носом, весь трясясь и утирая глаза салфеткой. — Работа в Сити, вероятно, почти не оставляет вам времени на крикет?
На пороге столовой он с нами простился.
— Всего доброго, мистер Джоркинс, — сказал он. — Надеюсь, вы опять посетите нас, когда в следующий раз будете в нашем полушарии.
— Послушай, что это твой папаша тут наговорил? Ей-богу, он, кажется, считает меня американцем.
— У него бывают странности.
— Зачем он мне советовал сходить в Вестминстерское аббатство? Чудно как-то.
— Да. Я сам не всегда его понимаю.
— Ей-богу, мне показалось, что он меня разыгрывает, — озадаченно признался Джоркинс.
Контратака отца последовала через несколько дней. Он разыскал меня и спросил:
— Мистер Джоркинс все еще здесь?
— Нет, папа, конечно, нет. Он был у нас только к ужину.
— Жаль, жаль. Я думал, что он у нас гостит. Такой разносторонний молодой человек. Но ты, я надеюсь, ужинаешь дома?
— Да.
— Я пригласил сегодня гостей, чтобы внести немного разнообразия в твое унылое домоседство. Как ты думаешь, миссис Эйбл справится? Нет, конечно. Но гости будут не очень придирчивы. Ядро, если можно так выразиться, составят сэр Катберт и леди Орм-Херрик. После ужина будут, надеюсь, музицировать. Я включил для тебя в число приглашенных кое-кого из молодежи.
Реальность превзошла опасения. По мере того как гости собирались в гостиной, которую мой отец, не боясь показаться смешным, именовал галереей, я убеждался, что их подбирали со специальной целью досадить мне. «Молодежью» оказались мисс Глория Орм-Херрик, обучающаяся игре на виолончели, ее жених, лысый молодой человек из Британского музея, и мюнхенский издатель-моноглот. Я видел, как отец, сопя, поглядывал на меня из-за стеклянного шкафа с керамикой. В тот вечер он носил на груди, точно рыцарский боевой значок, маленькую алую бутоньерку.
Ужин был длинный и явно рассчитанный, как и состав гостей, служить тонким издевательством. Меню не было произведением тети Филиппы, но восходило к гораздо более ранним временам, когда отец еще обедал в детской. Блюда отличались орнаментальностью и были попеременно одни красными, другие белыми. На вкус они и поданное к столу вино оказались одинаково пресны. После ужина отец подвел немца-издателя к роялю, а сам, пока тот музицировал, удалился с сэром Катбертом Орм-Херриком в галерею смотреть этрусского быка.
Это был вечер кошмаров, и, когда наконец гости разъехались, я с удивлением обнаружил, что еще только самое начало двенадцатого. Отец налил себе стакан ячменного отвара и заметил:
— Какие у меня, однако, скучные знакомые! Знаешь, если бы меня не побуждало твое присутствие, я едва ли раскачался бы пригласить их. В последнее время я вообще пренебрегал светскими обязанностями. Теперь, когда ты находишься здесь с таким долгим визитом, я буду часто устраивать подобные приемы. Понравилась ли тебе мисс Орм-Херрик?
— Нет.
— Нет? Что же в ней вызвало твое неодобрение: маленькие усики или очень большие ноги? По-твоему, она приятно провела у нас время?
— Нет.
— Мне тоже так показалось. Боюсь, что никто из наших гостей не отнесет сегодняшний вечер к числу счастливейших в своей жизни. Этот молодой иностранец, по-моему, играл из рук вон плохо. Где я мог с ним познакомиться? С ним и с мисс Констанцией Сметуик? Ума не приложу. Но законы гостеприимства следует соблюдать. Пока ты здесь, ты у меня скучать не будешь.
В последующие две недели между нами развернулась война не на жизнь, а на смерть, и я нес в ней более тяжелые потери, потому что у отца было больше резервов и шире пространство для маневрирования, я же был заперт на узком плацдарме между горами и морем. Он не объявлял целей своих военных действий, и я до сего дня не знаю, были ли они чисто карательными — имелись ли у него геополитические соображения насчет того, чтобы выдворить меня за границу, как в свое время были выдворены тетя Филиппа в Бордигеру и кузен Мельхиор в Порт-Дарвин, — или же, что более вероятно, он воевал просто из любви к сражениям, в которых он, надо признаться, блистал.
От Себастьяна я получил одно письмо — большой, бросающийся в глаза конверт; его подали мне при отце, когда мы сидели за завтраком, я заметил его любопытный взгляд и унес письмо с собою, чтобы прочесть в одиночестве. Оно было написано на листе плотной траурной почтовой бумаги времен королевы Виктории, с черными коронами и черным обрезом, и вложено в такой же конверт. Я с жадностью приступил к чтению.
«Замок Брайдсхед, Уилтшир не знаю, какого числа.
Дорогой Чарльз!
Я нашел целую пачку этой бумаги в глубине одного ящика и непременно должен написать Вам, так как я оплакиваю мою погибшую невинность. С самого начала видно было, что она не жилец на этом свете. Врачи давно отчаялись.
Я скоро уезжаю в Венецию и буду гостить у папы в его дворце зла. Жаль, что Вас не будет там со мною. Жаль, что Вас нет со мною сейчас.
Здесь я ни минуты не бываю один. Члены моего семейства постоянно приезжают, берут сундуки и чемоданы и снова уезжают, но белая малина уже поспела.
Я, пожалуй, не возьму Алоизиуса в Венецию. Не хочу, чтобы он якшался с невоспитанными итальянскими медведями и перенимал у них дурные манеры.
С приветом или чем угодно
С.»Мне были знакомы его письма: я получал их еще в Равенне и теперь не должен был бы испытывать досады. Но в то утро, бросая в корзину разорванный надвое кусок плотной бумаги и печально глядя в окно на задымленные дворы и разномастные задние фасады Бейсуотера с их лабиринтом водосточных труб и пожарных лестниц, я видел перед своим мысленным взором лицо Антони Бланша, белеющее в листве деревьев, как оно белело в свете свечей Томского ресторана, и слышал в приглушенном шуме уличного движения его отчетливую речь: «…мы не должны винить Себастьяна, если временами он бывает придурковат… Его речь чем-то напоминает мне эту довольно отвратительную картину под названием „Мыльные пузыри“».
Много дней после этого я считал, что ненавижу Себастьяна; потом, в одно прекрасное воскресенье, от него пришла телеграмма, разогнавшая эти тени, но взамен отбросившая тень еще мрачнее прежних.
Отец как раз отлучился из дому и, вернувшись, застал меня в состоянии лихорадочного возбуждения. Он остановился в холле, не сняв даже панамы с головы, и улыбался мне самым благожелательным образом.
— Вот уж не догадаешься, где я провел сегодня день. В зоопарке! Весьма приятное времяпрепровождение. Звери так радуются солнцу.
— Папа, я должен немедленно уехать.
— Вот как?
— Мой большой друг… с ним случилось ужасное несчастье. Я должен срочно ехать к нему. Хейтер уже пакует мои вещи. Через полчаса поезд.
И я показал ему телеграмму, в которой стояло: «Искалечен срочно приезжайте Себастьян».
— Н-да, — сказал мой отец. — Сожалею, что ты так расстроен. По этой телеграмме я бы не сказал, что несчастье столь уж велико, как оно тебе представляется, — в противном случае она едва ли была бы подписана самим пострадавшим. Но конечно, вполне возможно, что он в сознании и при этом слеп или лежит с переломанным позвоночником. А почему, собственно, твое присутствие так необходимо? Ты не обладаешь медицинскими познаниями, не носишь духовного сана. Ты что, имеешь виды на наследство?
— Я же сказал, что это мой большой друг.
— Ну, Орм-Херрик тоже мой большой друг, но я бы не ринулся сломя голову к его смертному одру в такой солнечный воскресный день. Едва ли леди Орм-Херрик была бы мне особенно рада. Однако ты, как я вижу, не испытываешь сомнений. Мне будет недоставать тебя, мой дорогой мальчик, но из-за меня, пожалуйста, не торопись обратно.
Паддингтонский вокзал в этот августовский воскресный вечер, залитый косыми лучами солнца, пробивающимися сквозь запыленную стеклянную крышу, с запертыми газетными киосками и редкими пассажирами, не спеша шагающими в сопровождении носильщиков, непременно успокоил бы душу менее взволнованную, чем моя. Поезд отошел почти пустой. Я велел поставить чемодан в угол в третьем классе, а сам отправился в вагон-ресторан.
— Первая очередь ужинов после Ридинга, сэр, в начале восьмого. Что прикажете вам пока подать?
Я заказал джин с вермутом; мне подали, и в это время поезд тронулся; ножи и вилки затеяли свой обычный перезвон; солнечный пейзаж поплыл, разворачиваясь, за окном. Но душа моя была невосприимчива к этим приятным впечатлениям; страх бродил в ней, подобно дрожжевой закваске, и наверх, пузырясь, выскакивали картины несчастья. То это было заряженное ружье, неосторожно оставленное у живой изгороди; то лошадь, взвившаяся на дыбы и опрокинувшаяся на спину; то полузатопленная коряга в тенистом пруду; то внезапно обломившийся сук старого вяза или автомобиль, врезавшийся в стену, — целый каталог опасностей цивилизованного мира неотступно вставал передо мною; я даже рисовал себе маниакального убийцу, в темноте замахнувшегося обрезом свинцовой трубы. Нивы и леса проносились за окном, залитые медвяным вечерним солнцем, а у меня в ушах перестук колес настойчиво твердил одно:
«Ты поздно приехал! Ты поздно приехал! Его уже нет! Уже нет! Нет!»
Я поужинал, пересел на уилтширскую ветку и в сумерках прибыл на станцию моего назначения — Мелстед Карбери.
— В Брайдсхед, сэр? Пожалуйте туда. Леди Джулия ждет вас на вокзальной площади.
Она сидела за рулем открытой машины. Я узнал ее с первого взгляда, ошибиться было невозможно.
— Вы мистер Райдер? Садитесь! Ее голос был голосом Себастьяна, и манера речи была тоже его.
— Как он?
— Себастьян? Прекрасно. Вы ужинали? Ну, все равно, наверное, что-нибудь несъедобное. Мы с Себастьяном одни, поэтому решили с ужином подождать вас.
— Что с ним случилось?
— А разве он не написал? Наверное, побоялся, что вы не приедете, если будете знать. Он сломал какую-то косточку в лодыжке, такую малюсенькую, что у нее даже нет названия. Но вчера ему сделали просвечивание и велели целый месяц держать ногу кверху. Ему это ужасно досадно, полетели все его планы. Он просто вне себя от огорчения… Все разъехались. Он хотел, чтобы я с ним осталась. Вы ведь знаете, как он умеет разжалобить. Я уже было согласилась, но в последнюю минуту мне пришло в голову: «Неужели ты никого не можешь к себе выписать?» Он сказал, что все заняты или уехали и вообще нет никого подходящего. В конце концов он согласился попытать счастья с вами, а я обещала, что останусь, если и это не получится, так что можете себе представить, как я рада вашему прибытию. Должна признать, это очень благородно с вашей стороны — приехать так издалека по первому зову.
Но когда она произносила эти слова, я услышал — или вообразил, будто слышу, — в ее голосе еле различимую нотку презрения за то, что я проявил такую безотказную готовность к услугам.
— Как это с ним случилось?
— Представьте, во время игры в крокет. Он разозлился и в сердцах споткнулся о дужку. Не бог весть какое почетное увечье.
Она была так похожа на Себастьяна, что рядом с нею в сгущающихся сумерках меня смущала двойная иллюзия — знакомого и незнакомого. Так, глядя в сильный бинокль на человека, находящегося на большом расстоянии, видишь до мельчайших подробностей его лицо и одежду, и кажется, протяни руку, и ты его достанешь, и странно, почему он не слышит тебя и не оглядывается, а потом, посмотрев на него невооруженным глазом, вдруг спохватываешься, что ты для него лишь едва различимая точка, неизвестно даже, человек или нет. Я знал ее, а она меня не знала. Ее темные волосы были не длиннее, чем у Себастьяна, и ветер так же раздувал их со лба; ее глаза, устремленные на сумеречную дорогу, были его глазами, только больше, а накрашенный рот не так приветливо улыбался миру. На запястье у нее был браслет с брелоками, в ушах — золотые колечки. Из-под светлого пальто выглядывал цветастый шелковый подол, юбки тогда носили короткие, и ее вытянутые ноги на педалях автомобиля были длинными и тонкими, что тоже предписывалось модой. Ее пол воплощал для меня всю разницу между знакомым и незнакомым в ней, и потому я ощущал ее особенно женственной, как никогда еще не ощущал ни одну женщину.
— Ужасно боюсь водить машину вечером, — сказала она. — Но дома, кажется, не осталось никого, кто бы умел водить автомобиль. Мы с Себастьяном просто как на зимовке. Надеюсь, вы не ожидали застать здесь веселое общество?
Она потянулась к ящику на переднем щитке за пачкой сигарет.
— Нет, спасибо.
— Прикурите для меня, если не трудно.
Ко мне впервые в жизни обратились с подобной просьбой, и вынимая из своего рта курящуюся сигарету и вкладывая ей в губы, я услышал тонкий, как писк летучей мыши, голос плоти, различимый только для меня одного.
— Спасибо. Вы здесь уже были. Няня рассказала. Мы обе нашли очень странным, что вы не остались выпить со мной чаю.
— Это Себастьян.
— Вы, кажется, слишком уж позволяете ему командовать собой. И напрасно. Ему это вредно.
Мы уже свернули на подъездную аллею; свет померк в небе и на лесистых склонах, и дом темнел, словно рисованный тушью, только в середине светился золотой квадрат раскрытой двери. Навстречу вышел человек и взял мой багаж.
— Вот и приехали.
Она поднялась со мной по ступеням, вошла в холл, швырнула пальто на мраморный столик и наклонилась погладить выбежавшую к ней собаку.
— С Себастьяна станется, что он уже сел ужинать. В этот момент в дальнем конце холла между двух колонн появился Себастьян в инвалидном кресле. Он был в пижаме и халате, и одна нога у него была забинтована.
— Ну вот, дорогой, привезла тебе твоего дружка, — сказала Джулия опять с едва слышной ноткой презрения в голосе.
— Я думал, вы при смерти, — проговорил я, ощущая в эту минуту, как и все время, с тех пор как приехал, не облегчение, а главным образом досаду, что не состоялась великая трагедия, к которой я мысленно подготовился.
— Я и сам так думал. Боль была невыносимая. Джулия, как по-твоему, если ты попросишь, может быть, Уилкокс даст нам сегодня шампанского?
— Терпеть не могу шампанское, да и мистер Райдер уже ужинал.
— Мистер Райдер? Мистер Райдер пьет шампанское в любое время дня и ночи. Понимаешь, когда я смотрю на свою огромную запеленутую ногу, мне все время представляется, будто у меня подагра, и поэтому очень хочется шампанского.
Мы ужинали в комнате, которую они называли «Расписная гостиная». Это был просторный восьмиугольник более поздней отделки, чем остальной дом, его восемь стен украшали венки и медальоны, а по высокому своду потолка пасторальными группами располагались условные фигуры помпейских фресок. Эти фрески, и мебель атласного дерева с бронзой, и ковер, и золоченые висячие канделябры, и зеркала, и светильники — все вместе составляло единую композицию, законченное произведение великолепного мастера.
— Мы обычно ужинаем здесь, когда никого нет, — сказал Себастьян. — Здесь так уютно.
Они ужинали, а я съел персик и рассказал им о войне, которую вел с отцом.
— По-моему, он душка, — сказала Джулия. — А теперь, мальчики, я вас покину.
— Куда это ты?
— В детскую. Я обещала няне последнюю партию в «уголки».
Она поцеловала Себастьяна в макушку. Я распахнул перед нею двери.
— Покойной ночи, мистер Райдер, и до свидания. Завтра мы, наверно, не увидимся. Я уезжаю рано утром. Не могу передать, как я вам признательна, что вы сменили меня у постели больного.
— Моя сестра сегодня что-то уж очень напыщенно выражается, — заметил Себастьян, когда она исчезла.
— Мне кажется, я ей не нравлюсь, — сказал я.
— Ей никто особенно не нравится. Я ее люблю. Она ужасно на меня похожа.
— Правда?
— Внешне, разумеется, и манерой говорить. Я бы не мог любить человека, который похож на меня характером.
Мы допили портвейн, и я прошел рядом с креслом Себастьяна через холл с колоннами в библиотеку, где мы просидели весь тот вечер и почти все вечера последовавшего месяца. Она была расположена в дальнем конце дома, обращенном к прудам; все окна здесь были распахнуты звездам, и ночным ароматам, и сине-серебристому лунному свету, заливающему дали, и плеску падающей воды в фонтане.
— Мы чудесно будем жить здесь одни, — сказал Себастьян, и, когда на следующее утро я, бреясь, выглянул в окно своей ванной и увидел, как Джулия в автомобиле с багажом на запятках выехала со двора и вскоре скрылась за холмом, не бросив назад ни единого прощального взгляда, меня посетило чувство освобождения и покоя, подобное тому, что мне предстояло испытать много лет спустя, когда после тревожной ночи сирены выли «отбой».
Глава четвертая
Блаженная лень молодости! Как неповторима она и как важна. И как быстро, как невозвратимо проходит! Увлечения, благородные порывы, иллюзии, разочарования — эти признанные атрибуты юности остаются с нами в течение всей жизни. Из них составляется самая жизнь; но блаженное ничегонеделание — отдохновение еще не натруженных жил, огражденного, внутрь себя обращенного ума — принадлежит только юности и умирает вместе с ней. Быть может, в чертогах чистилища души героев одаряются им взамен райского блаженства; в котором им отказано, быть может, самое райское блаженство имеет нечто общее с этим земным состоянием; я, во всяком случае, ощущал себя почти на небесах все те блаженные дни в Брайдсхеде.
— Почему этот дом зовется «Замок»?
— Он и был замком, пока его не перенесли.
— То есть как это?
— Да так. У нас был замок, он стоял в миле отсюда, рядом с деревней. Потом нам приглянулась эта долина, мы разобрали замок, перевезли сюда камни и здесь построили новый дом. Я этому рад. А вы?
— Если бы он был мой, я не жил бы больше нигде.
— Но, Чарльз, он ведь не мой. Сейчас, правда, он принадлежит мне, но обычно в нем кишат алчные звери. Вот если бы так могло быть всегда — всегда лето, всегда ни живой души, и фрукты созрели, и Алоизиус в хорошем настроении…
Вот так мне нравится вспоминать его — в инвалидном кресле, среди летнего великолепия обследующим вместе со мною заколдованный замок, нравится вспоминать, как он катит свое кресло по садовым дорожкам между двумя рядами вечнозеленого кустарника, разыскивая поспевшую клубнику и срывая теплые фиги, как протискивается из теплицы в теплицу, из аромата в аромат, из климата в климат, чтобы срезать гроздь мускатного винограда и выбрать орхидеи для наших бутоньерок, как он с притворным трудом ковыляет вверх по лестнице в бывшую детскую и сидит там рядом со мной на вытертом цветастом ковре, разложив вокруг по полу все содержимое старого ящика для игрушек, а няня Хокинс мирно штопает в углу и негромко говорит: «Хороши, что один, что другой! Малые дети, право. Этому, что ли, вас в колледже учат?» Или как он лежит навзничь на разогретой каменной ступени колоннады, а я сижу рядом на стуле и пытаюсь зарисовать фонтан.
— А купол тоже Иниго Джонса? По виду он более поздний.
— Ах, Чарльз, не будьте таким туристом. Не все ли равно, когда он построен? Важно, что он красивый.
— Меня такие вещи интересуют.
— О боже, я думал, мне удалось отучить вас от всего этого, непобедимый мистер Коллинз.
Жить в этих стенах, бродить по комнатам, переходить из Соуновской библиотеки в китайскую гостиную, где голова шла кругом от золоченых пагод и кивающих мандаринов, живописных свитков и чиппендейльской резьбы, из помпейского салона в большой, увешанный гобеленами зал, который простоял таким, каким был создан, вот уже два с половиной столетия, просиживать долгие часы на затененной террасе — все это служило само по себе бесценным эстетическим уроком.
Эта терраса была венцом, завершением всего здания, она выходила на пруды и покоилась на мощных каменных опорах, так что с порога казалось, будто она нависла прямо над водой и можно, стоя у балюстрады, ронять камешки в пруд у себя под ногами. Справа и слева ее охватывали два крыла колоннады, завершающиеся павильонами, от которых липовые рощи уводили к лесистым склонам. Пол террасы местами был замощен плитами, в других местах были разбиты клумбы и причудливо расставлены ящики с карликовым буксом; букс повыше рос в виде живой изгороди широким овалом с углублениями, в которых стояли статуи, а посредине, главенствуя над всем, высился фонтан — фонтан, который должен был бы стоять где-нибудь на пьяцце южноитальянского города, фонтан, который и был столетие назад замечен в каком-то южноитальянском городе одним из предков Себастьяна, замечен, куплен, привезен и вновь установлен в чужом, но гостеприимном краю.
Мысль нарисовать его подал мне Себастьян. Задача не из легких для любителя — овальный бассейн с островком стилизованных скал посредине, на скалах росли каменные тропические растения и естественные веера дикого английского папоротника; меж ними лились несчетные струи ручьев, среди них резвились фантастические африканские звери, верблюды, жирафы, свирепый лев, и каждый изрыгал потоки воды; а сверху, на скалах высотой почти до крыши дома, высился египетский обелиск из красного песчаника, — но по какому-то странному случаю, хоть это и было выше моих возможностей, рисунок удался, правда, я принужден был опускать некоторые детали и кое-где пойти на небольшие хитрости, но получилось в конце концов вполне приличное подражание Пиранези.
— Подарить вашей матери? — спросил я.
— Зачем? Вы же с ней не знакомы.
— Из вежливости. Я гощу в ее доме.
— Подарите лучше няне, — сказал Себастьян.
Я так и сделал, и она присоединила рисунок к своей коллекции на комоде, заметив при этом, что фонтан получился совсем как настоящий, хотя, в чем его красота, которой все так восторгаются, она лично, хоть убей, никогда не понимала.
Для меня его красота была открытием.
Со школьных лет, когда я разъезжал на велосипеде по окрестным приходам, разбирая надписи на древних надгробьях и фотографируя старинные купели, я питал любовь к архитектуре, но, хотя умом я давно сделал характерный для моего поколения скачок от пуританизма Джона Рескина к пуританизму Роджера Фрая, однако в душе мои пристрастия оставались чисто английскими и средневековыми.
И вот теперь совершилось мое обращение в барокко. Здесь, под этим высоким и дерзким куполом, под этими ячеистыми потолками, здесь, гуляя под этими карнизами и арками, проходя по этой тенистой колоннаде и часами сидя перед этим фонтаном, ощупывая взглядом его затененные извилины, следуя мысленно за линиями его неумолчного эха и радуясь этим собранным воедино прихотливым дерзаниям и свершениям, я чувствовал, как во мне рождается новая способность восприятия, словно вода, бьющая и катящаяся среди его камней, была воистину живой водой.
Как-то в одном из шкафов мы нашли большую черную лакированную жестянку с масляными красками, еще вполне пригодными к употреблению.
— Это мама купила года два назад. Кто-то ей сказал, будто по-настоящему оценить красоту мира можно, только пытаясь изобразить ее. Мы над мамой тогда ужасно смеялись; Она совершенно не умеет рисовать, а краски, даже самые яркие, к тому времени, как она кончала их смешивать, превращались в однородную массу цвета хаки. — Несколько высохших грязно-серых пятен на палитре подтверждали это. — Корделии поручалось мытье кистей. В конце концов мы все восстали и убедили маму бросить это занятие.
Краски подсказали нам мысль расписать «контору». Так называлась небольшая комната, выходившая на колоннаду; когда-то она использовалась для ведения дел поместья, но теперь была в запустении, там стояли лишь ящики с садовыми играми да кадка с высохшим кустом алоэ; как видно, задумана она была для целей более высоких — для вечерних чаепитий или уединенных штудий, ибо оштукатуренные стены были украшены изящными медальонами в стиле рококо, а потолок красиво уходил вверх крестовым сводом. На стене этой комнаты в одном из небольших овалов я набросал романтический пейзажик и в последующие дни занялся его расцвечиванием. Работа эта по воле случая и настроения мне удалась. Кисть словно сама делала все, что от нее требовалось. Это был летний пейзаж без фигур, композиция из белых облаков и синих далей, с увитыми плющом руинами на переднем плане, скалами и водопадом и уходящими к горизонту купами деревьев. Я совсем не умел писать маслом и обучался этому ремеслу, по мере того как работал. Когда по прошествии недели картинка была закончена, Себастьян стал настаивать, чтобы я поскорее взялся за медальон побольше. Я сделал несколько набросков. Ему хотелось, чтобы это был fete champetre[31] с качелями в лентах, и пажом-негритенком, и пастушком, играющим на свирели, но картина не выходила. Я хорошо сознавал, что с пейзажиком мне просто повезло и что такая сложная стилизация мне никак не по плечу.
В другой раз мы вместе с Уилкоксом спустились в винный подвал и видели пустые ниши, в которых некогда хранились огромные запасы вина. Теперь был заполнен только один трансепт, там в ларях покоились бутылки с вином, иные урожаев пятидесятилетней давности.
— Новых поступлений у нас не было со времени отъезда его светлости, — сказал Уилкокс. — Многие старые вина пора уже выпить. Нам следовало бы заложить восемнадцатый и двадцатый год. Я получил об этом несколько писем от виноторговцев, но ее светлость отсылает меня к лорду Брайдсхеду, а он отсылает к его светлости, а его светлость велит обращаться к адвокатам. Вот мы и дошли до такого состояния. По теперешнему расходу здесь хватит на десять лет, но что с нами будет потом?
Наш интерес Уилкокс приветствовал; были принесены бутылки из каждого ларя, и в эти безмятежные дни, проведенные в обществе Себастьяна, состоялось мое первое серьезное знакомство с вином и были посеяны семена той богатой жатвы, которой предстояло служить мне поддержкой и опорой в течение долгих бесплодных лет. Мы усаживались с ним в «Расписной гостиной», перед нами на столе стояли три раскупоренные бутылки и по три бокала против каждого. Себастьян разыскал где то книгу о дегустации вин, и мы неукоснительно следовали всем ее наставлениям. Бокал слегка разогревали над пламенем свечи, на треть наполняли вином, вращая, взбалтывали, грели в ладонях, смотрели на свет, вдыхали аромат, осторожно потягивая, набирали в рот, перекатывали на языке, и вино звенело о небо, словно монета о прилавок, потом запрокидывали головы и ждали, пока оно стечет тонкой струйкой по горлу. А потом мы говорили о нем, заедая печеньем, и переходили к следующему вину; затем от него возвращались к первому, затем к третьему, и вот уже все три оказывались в обращении, и мы путали бокалы и спорили, который из-под какого вина, и передавали их друг другу, и вот уже в обращении оказывалось шесть бокалов, иные из них содержали смесь, так как мы наполнили их по ошибке не из той бутылки, и в конце концов мы принуждены были начинать сначала, взяв опять по три чистых бокала, и бутылки пустели, а наши высказывания о их содержимом становились вдохновенней и прихотливей. …Это вино робкое и нежное, как газель…
— Как малютка эльф. …вся в белых яблоках на гобеленовом лугу. — Как флейта над тихой рекой.
— …А это старое мудрое вино.
— Пророк в пещере.
— …А это жемчужное ожерелье на белой шее.
— Как лебедь.
— Как последний единорог.
Мы покидали золотой свет свечей нашей столовой ради света звезд на террасе и сидели на краю фонтана, остужая ладони в воде и пьяно слушая ее плеск и журчанье среди искусственных скал.
— По-вашему, обязательно нам каждый вечер напиваться? — спросил меня как-то утром Себастьян.
— По моему, обязательно.
— И по моему, тоже.
Мы почти ни с кем не виделись. Несколько раз на нашем пути встречался управляющий, тощий дряблокожий джентльмен в чине полковника. Один раз он даже был к чаю. Но обычно нам удавалось прятаться от него. По воскресеньям из близлежащего монастыря приезжал монах, служил мессу и оставался с нами завтракать. Это был первый мой знакомый католический священник; я заметил, как сильно он отличается от пастора, но Брайдсхед был полон для меня такого очарования, само собой разумелось, что все здесь должно быть необыкновенным и ни на что не похожим; отец Фиппс оказался, в сущности, простым и добродушным человечком, питавшим живейший интерес к местному крикету и упрямо полагавшим, несмотря на разуверения, что мы его разделяем.
— А ведь знаете, отец, мы с Чарльзом не имеем о крикете ни малейшего представления.
— Хотелось бы мне посмотреть, как Теннисон в прошлый четверг выбил пятьдесят восемь. Вот это, верно, был удар! В «Таймсе» был прекрасный репортаж. Вы видели его в матче против южноафриканцев?
— Нет, я его вообще никогда не видел.
— Я тоже. Уже много лет не видел хорошего матча, последний раз отец Грейвз повел меня, когда мы возвращались через Лидс из Эмплфорта, где присутствовали при рукоположении нового настоятеля. А в Лидсе в тот день играли с Ланкаширом, и отец Грейвз высмотрел такой поезд, что в нашем распоряжении оставалось добрых три часа до пересадки. Вот это была игра! Я помню каждую подачу. А с тех пор все только слежу по газетам. Вы часто бываете на крикете?
— Никогда не бываю, — ответил я, и он посмотрел на меня с тем детским недоумением, которое я впоследствии не раз встречал на лицах религиозных людей: мол, вот человек подвергает себя опасностям мирской жизни, а так мало пользуется ее многообразными радостями.
Себастьян всегда ходил к мессе, хотя больше там почти никто не присутствовал. Брайдсхед не был старинным католическим центром. Леди Марчмейн привезла с собой нескольких слуг-католиков, но большинство домочадцев и все арендаторы, если вообще молились, то в серой деревенской протестантской церквушке, среди могильных плит Флайтов.
В те времена вера Себастьяна была для меня тайной, но разгадывать ее меня не тянуло. Сам я был чужд религии. В раннем детстве меня водили в церковь по воскресеньям, в школе я каждый день присутствовал на молебнах, но зато, когда я приезжал на каникулы домой, мне разрешалось не ходить в церковь по воскресеньям. Учителя, преподававшие закон божий, внушали мне, что библейские тексты крайне недостоверны. Никто никогда не предлагал мне молиться. Отец в церковь не ходил, если не считать дней особых семейных событий, но даже и тогда не скрывал своего издевательского отношения к обрядам. Мать, как я понимаю, была набожной. Мне в свое время казалось странным, что она сочла долгом оставить отца и меня и поехать на санитарной машине в Сербию, чтобы там погибнуть от истощения в снегах Боснии. Но позже я открыл нечто подобное и в своем характере. Позже я также пришел к признанию того, о чем тогда, в 1923 году, не считал нужным даже задуматься, и принял сверхъестественное как реальность. Но в то лето в Брайдсхеде эти потребности были мне неведомы.
Часто, едва ли не каждый день с начала нашего знакомства какое-нибудь случайное слово в разговоре напоминало мне, что Себастьян — католик, но я относился к этому, как к чудачеству вроде его плюшевого мишки. Мы не говорили о религии, но однажды в Брайдсхеде, на второй неделе моего там пребывания, когда мы сидели на террасе после ухода отца Фиппса и просматривали воскресные газеты, Себастьян вдруг удивил меня, со вздохом сказав:
— О господи, как трудно быть католиком.
— Разве это для вас имеет значение?
— Конечно. Постоянно.
— Вот не замечал. Вы что же, боретесь с соблазнами? По-моему, вы не добродетельнее меня.
— Я гораздо, гораздо порочнее вас, — с негодованием возразил Себастьян.
— В чем же тогда дело?
— Кто так молился: «Боже, сделай меня добродетельным, но не сегодня»? Не помните?
— Нет. Вы, наверное.
— Я-то конечно. Каждый вечер. Но не в этом дело. — Он снова вернулся к разглядыванию страниц «Всемирных новостей». — Опять скандал с вожатым бойскаутов.
— Вас, наверно, заставляют верить во всякую чепуху.
— А точно ли это все чепуха? Мне иногда она кажется до жути разумной.
— Но дорогой Себастьян, не можете же вы всерьез верить во все это?
— Во что?
— Ну, вот в Рождество, и звезду, и волхвов, и быка с ослом.
— Нет, отчего же, я верю. По-моему, это красиво.
— Но нельзя же верить во что-то просто потому, что это красиво.
— Но я именно так и верю.
— И в молитвы верите? Что можно стать на колени перед статуей и произнести несколько слов — не обязательно даже вслух, а просто в уме — и этим изменить погоду? Или что одни святые более влиятельны, чем другие, и нужно правильно выбрать святого для каждого дела?
— Да, конечно. Помните, в прошлом семестре я брал с собою Алоизиуса и оставил неизвестно где? Я все утро молился как сумасшедший святому Антонию Падуанскому, и сразу же после обеда я сталкиваюсь в Кентерберийских воротах с мистером Николсом, и у него в руках Алоизиус, и он говорит, что, оказывается, я забыл его у него в пролетке.
— Ну хорошо, — сказал я, — если вы способны верить во все это и не стремитесь быть добродетельным, в чем же тогда трудность быть католиком?
— Раз вы не понимаете, то, значит, и не поймете.
— Нет, но все-таки?
— Ах, Чарльз, не будьте таким нудным. Я хочу прочитать про женщину из Гулля, которая употребляла инструмент.
— Вы сами начали разговор. Я только успел заинтересоваться.
— Больше не обмолвлюсь ни словом… При рассмотрении дела было принято в соображение тридцать восемь аналогичных случаев, и приговор — шесть месяцев. Вот это да!
Но он обмолвился еще раз — дней через десять, когда мы лежали на крыше, принимали солнечные ванны и смотрели в телескоп на аграрную выставку, устроенную внизу под нами, в парке. Это была скромная двухдневная выставка для жителей соседних приходов, давно утратившая значение как центр серьезной конкуренции и сохранившаяся лишь в качестве ярмарки и местного праздника. Был выгорожен флагами широкий круг и по краю разбиты палатки разных размеров; здесь же установили судейскую трибуну и сколотили несколько загонов для скота; под самым большим навесом был устроен буфет, и там собирались местные фермеры. Подготовительные работы шли целую неделю. «Придется нам спрятаться, — сказал Себастьян, когда подошел назначенный день. — Завтра приедет мой брат. Он здесь самый главный». И мы залегли на крыше за балюстрадой.
Брайдсхед приехал с утренним поездом и позавтракал с полковником-управляющим. Мы вышли к нему поздороваться. Описание Антони Бланша оказалось удивительно точным: у него действительно было лицо Флайтов, высеченное скульптором-ацтеком. Теперь, в телескоп, нам видно было, как он неловко ходит среди арендаторов, останавливается, здоровается с членами жюри на трибуне, перегнувшись через загородку, разглядывает скот в загоне.
— Странная личность мой брат, — сказал Себастьян.
— Кажется вполне нормальным человеком.
— Да, но это только кажется. В сущности, он самый безумный из нас всех, просто по нему не заметно. А внутри он весь перекручен. Вы знаете, что он хотел стать священником?
— Откуда мне знать? Я думаю, у него это и теперь не прошло. Он чуть не стал иезуитом, когда только вышел из Стонихерста. Для мамы это был страшный удар.
Отговаривать его она, понятно, не могла но это был ей просто нож острый. Что сказали бы люди — старший сын, и вдруг… Другое дело, если бы это был я. А бедному отцу каково? Он и без того настрадался от церкви. Ужасные это были дни — монахи и монсеньеры рыскали по комнатам, точно мыши, а Брайдсхед сидел хмурый и твердил про божью волю. Понимаете, он тяжелее всех нас переживал переезд отца за границу, по правде сказать, гораздо тяжелее, чем мама. В конце концов его уговорили поступить в Оксфорд и за три года все хорошенько обдумать. И теперь он в нерешительности. То говорит, что поступит в гвардию, то хочет в палату общин, то собирается жениться. Сам не знает, что ему нужно. Я, вероятно, был бы таким же, если бы учился в Стонихерсте. Я и должен был учиться там, только папа к этому времени уже уехал за границу, и первое его требование было, чтобы меня послали в Итон.
— А ваш отец отказался от религии?
— Ну, это, в общем-то, само собой получилось. Он ведь принял католичество, только когда женился на маме. А когда уехал, то оставил его, как и всех нас. Вам надо с ним познакомиться. Он очень приятный человек.
Никогда до этого Себастьян не говорил серьезно о своем отце.
Я сказал:
— Вы, наверное, все тяжело пережили уход отца?
— Кроме Корделии. Она была совсем маленькая. Меня это потрясло совершенно. Мама попыталась нам, троим старшим, что-то объяснить, чтобы мы не возненавидели папу. Не возненавидел только я один. Мне кажется, ей это неприятно. Я был его любимцем. Я должен был бы теперь гостить у него, если бы не эта проклятая нога. Я только один к нему и езжу. Почему бы и вам не поехать со мною? Он бы вам понравился.
Внизу человек с рупором объявил результаты очередного соревнования; голос его слабо доносился до нас.
— Так что, как видите, у нас семья религиозно не однородная. Брайдсхед и Корделия — оба истые католики; он несчастен, она весела как птица; мы с Джулией полуязычники; я счастлив, Джулия, по-моему, нет; мама считается в обществе святой, папа отлучен от церкви, были ли он или она когда-либо счастливы, бог знает. И вообще, как ни посмотри, к счастью все это имеет весьма отдаленное касательство, а мне только его и нужно… К сожалению, католики мне не особенно нравятся.
— По-моему, такие же люди, как все.
— Мой дорогой Чарльз, вот именно, что нет, совсем не такие, как все, особенно в этой стране, где их так мало. И дело не в том, что они составляют особую группу — в сущности говоря, их по меньшей мере четыре группы, занятые почти исключительно тем, чтобы порочить одна другую, — но у них совершенно особое отношение к жизни, и они придают значение совсем не тому, чему остальные. Они стараются по мере сил скрывать это, но секрет то и дело выходит наружу. Конечно, им ничего другого и не остается. Но полуязычникам вроде меня и Джулии приходится нелегко.
В этом месте наш необычно серьезный разговор был прерван громким детским голосом, раздавшимся где-то поблизости, за трубами:
— Себастьян! Себастья-ан!
— Боже милосердный! — пробормотал Себастьян, хватаясь за одеяло. — Кажется, это моя сестра Корделия. Скорее прикройтесь.
— Где вы?
Из-за труб появилась толстая румяная девочка лет десяти или одиннадцати; она имела те же фамильные черты, но в иной, менее выигрышной комбинации — откровенная дурнушка со вздернутым носом и двумя тугими старомодными косами за спиной.
— Уходи, Корделия. Мы не одеты.
— Отчего? У вас вполне приличный вид. Я так и догадалась, что вы здесь. А ты не знал, что я приехала, да? Я приехала вместе с Брайди и зашла проведать Фрэнсиса Ксавье. — Мне: — Это моя свинья. Потом мы завтракали с полковником Фендером, а потом было открытие выставки. Фрэнсис Ксавье был особо упомянут. А первую премию получил этот противный Рэндел со своей беспородной хрюшкой. Голубчик Себастьян, я так рада тебя видеть! Как твоя бедная нога?
— Поздоровайся сначала с мистером Райдером.
— Ой, простите. Здравствуйте, мистер Райдер. — В ее улыбке было все семейное обаяние. — Они там внизу все напились, вот я и ушла. Послушай, а кто это разрисовал контору? Я зашла за складным табуретом и увидела.
— Осторожней выражайся. Работа мистера Райдера.
— Но по-моему, это прелестно! Неужели правда вы? Вот здорово. Послушайте, ну почему бы вам обоим не одеться и не спуститься вниз? Никого нет.
— Брайди непременно приведет членов жюри.
— Да нет же. Я слышала, он не собирается. Он сегодня ужасно не в духе. Не хотел, чтобы я ужинала вместе с вами, мы едва договорились. Ну, пошли. Когда примете пристойный вид, я буду в детской.
В тот вечер за столом собралась небольшая и сумрачная компания. Одна Корделия веселилась от души, радуясь вкусной еде, разрешению позже лечь спать, обществу братьев. Брайдсхед был тремя годами старше нас с Себастьяном, но казался человеком другого поколения. В его наружности были все те же семейные черты, и его улыбка в тех редких случаях, когда она появлялась, была так же обаятельна, как и у остальных; голос его был их голосом, но речь отличалась такой серьезностью и церемонностью, что, будь это мой кузен Джаспер, производила бы впечатление напыщенной и фальшивой, у него же, очевидно, была естественной и ненарочитой.
— Сожалею, что только теперь могу уделить вам внимание как нашему гостю, — сказал он мне. — За вами здесь хороший уход? Надеюсь, Себастьян заботится о вине. Уилкокс, если дать ему волю, довольно прижимист.
— Он обошелся с нами очень щедро.
— Рад это слышать. Вы любите вино?
— Очень.
— А я, к сожалению, нет. Оно так сближает людей. В колледже Магдалины я неоднократно пытался напиться, но ни разу не испытал от этого удовольствия. А пиво и виски привлекают меня и того менее. Вследствие этого такие дни, как был сегодняшний, для меня мучительны.
— Я люблю вино, — сказала Корделия.
— Согласно последнему отзыву святых сестер, моя сестра Корделия не только наихудшая из теперешних учениц школы, но также наихудшая изо всех учениц на памяти старейшей из монахинь.
— Потому что я не захотела стать enfant de Marie[32]. Преподобная матушка сказала, что меня нельзя будет принять, если я не стану держать свою комнату в порядке, вот я и ответила, что я и не хочу даже и не верю, чтобы пресвятой деве было хоть сколечко интересно, ставлю я гимнастические туфли слева от бальных или наоборот. Преподобная чуть не лопнула от злости.
— Пресвятой деве интересно, послушна ли ты.
— Не увлекайся богословием, Брайди, — сказал Себастьян. — Среди нас есть атеист.
— Агностик, — поправил я.
— В самом деле? У вас в колледже много таких? У нас в Магдалине их было изрядно.
— А у нас не знаю. Я стал тем, что есть, задолго до поступления в Оксфорд.
— Сейчас это всюду, — сказал Брайдсхед.
В тот день разговор все время возвращался к религии. Мы поговорили немного про выставку. Потом Брайдсхед сказал:
— Я видел на прошлой неделе в Лондоне епископа. Знаете, он хочет закрыть нашу часовню.
— Ой, что ты! — воскликнула Корделия.
— По-моему, мама ему не позволит, — заметил Себастьян.
— Наша часовня слишком отдаленная, — пояснил Брайдсхед. — Под Мелстедом живет десяток семейств, которым сюда не добраться. Он хочет открыть там центр богослужения.
— Но как же мы? — сказал Себастьян. — Неужели нам куда-то ездить зимой по утрам?
— У нас должны быть святые дары здесь, — заявила Корделия. — Я люблю заглядывать в часовню в разное время дня. И мама любит.
— И я люблю, — сказал Брайдсхед. — Но нас очень мало. Другое дело, если бы мы были старый католический род и все в поместье ходили бы к обедне. Рано или поздно ее все равно придется закрыть, может быть, уже после мамы. Но вопрос в том, не лучше ли, чтобы это произошло теперь. Вот вы художник, Райдер, что вы думаете о ней с точки зрения эстетической?
— Я думаю, что она очень красивая! — со слезами на глазах воскликнула Корделия.
— По-вашему, это произведение искусства?
— Не вполне понимаю, какой смысл вы в это вкладываете, — насторожился я. — Я считаю ее замечательным образцом искусства своего времени. Очень возможно, что через восемь — десять лет ею будут восторгаться.
— Но не может же так быть, чтобы двадцать лет назад она была хороша и через восемьдесят лет будет хороша, а сейчас плоха?
Она, может быть, и сейчас хороша. Просто сегодня няне она не особенно нравится.
— Но разве, если вы считаете вещь хорошей, это не значит, что она вам нравится?
— Брайди, не будь иезуитом, — вмешался Себастьян, но я успел почувствовать, что наше разногласие не только словесное, что между нами лежит глубокая, непреодолимая пропасть, мы не понимаем друг друга и никогда не сможем понять.
— Но ведь и вы, говоря о вине, допустили такое различие.
— Нет. Мне нравится и представляется хорошей цель, которой вино иногда служит: укрепление взаимных симпатий между людьми. Но в моем случае эта цель не достигается, поэтому вино мне не нравится и я не считаю его хорошим.
— Брайди, пожалуйста, перестань.
— Прошу прощения, — сказал он. — Мне эта тема показалась небезынтересной.
Слава богу, что я учился в Итоне.
После обеда Брайдсхед сказал:
— Боюсь, что мне придется увести Себастьяна на полчаса. Завтра я весь день буду занят и сразу после закрытия выставки должен уехать. А у меня накопилась гора бумаг, которые надо передать отцу на подпись. Себастьян должен будет их захватить и объяснить ему все на словах. Тебе пора спать, Корделия.
— Мне нужно сначала переварить ужин, — отозвалась она. — Я не привыкла так объедаться на ночь. Побеседую немного с Чарльзом.
— С Чарльзом? — одернул ее Себастьян. — Он для тебя не Чарльз, а мистер Райдер, дитя.
— Идемте же, Чарльз.
Когда мы остались одни, она спросила:
— Вы в самом деле агностик?
— А у вас в семье всегда целыми днями говорят о религии?
— Ну, не целыми днями. Но говорить об этом так естественно. Разве нет?
— Естественно? Для меня это вовсе не естественно.
— Ну, тогда вы, должно быть, и в самом деле агностик. Я буду молиться за вас.
— Вы очень добры.
— Все молитвы я за вас, к сожалению, прочесть не смогу Прочту только десяток. У меня такой длинный список людей, я их поминаю по очереди, и на каждого приходится десяток в неделю.
— Это, безусловно, гораздо больше, чем я заслуживаю.
— О, у меня есть и более безнадежные случаи. Ллойд Джордж, и кайзер, и Олив Банке.
— А это кто?
— Ее исключили из монастыря в прошлом семестре. За что, я точно не знаю. Что-то она такое писала, преподобная матушка у нее нашла. А знаете, если бы вы не были агностиком, я бы попросила у вас пять шиллингов заплатить за черную крестную дочь.
— В вашей религии меня теперь ничем не удивишь.
— О, это один миссионер-священник в прошлом году придумал. Вы посылаете каким-то монахиням в Африку пять шиллингов, и они крестят черненького ребеночка и дают ему ваше имя. У меня уже есть шесть черных Корделий. Мило, правда?
Когда Брайдсхед с Себастьяном освободились, Корделию отправили спать. Брайдсхед вернулся к нашему разговору.
— Вы, конечно, правы, я понимаю, — сказал он. — Вы относитесь к искусству как к средству, а не как к цели. Это строго теологический подход, но для агностика необычный.
— Корделия обещала молиться за меня, — сказал я.
— Она девять дней молилась за свою свинью, — заметил Себастьян.
— Для меня все это крайне непривычно, — признался я.
— Кажется, мы ведем себя неподобающим образом, — заключил Брайдсхед.
В тот вечер я впервые осознал, как мало я, в сущности, знаком с Себастьяном и почему он все время старался не допускать меня в свою другую жизнь. Он был словно друг, с которым сошлись на пароходе в открытом море; и вот теперь мы прибыли в его родной порт.
Брайдсхед и Корделия уехали; в парке убрали палатки и флаги; вытоптанная трава снова постепенно зазеленела; месяц, начавшийся в блаженной лени, теперь стремительно приближался к концу. Себастьян уже ходил без палочки и забыл о своем увечье.
— Я считаю, что вы должны поехать со мною в Венецию, — сказал он.
— Денег нет.
— Это я уже обдумал. Там мы будем жить на папин счет. Дорогу мне оплачивают адвокаты — спальный вагон первого класса. На эти деньги мы оба можем доехать третьим.
И мы поехали; сначала медленным дешевым пароходом до Дюнкерка, сидя всю ночь под безоблачным небом на палубе и следя, как серый рассвет занимается над песчаными дюнами; затем, трясясь на деревянных скамьях, в Париж, где поспешили к «Лотти», приняли ванну и побрились, пообедали у «Фойо», где было жарко и наполовину пусто, сонно побродили по магазинам и еще долго должны были сидеть в каком-то кафе, пока не настанет время отправления нашего поезда; потом пыльным теплым вечером шли на Лионский вокзал к отходу почтового на юг; и опять деревянные скамьи, вагон, в котором полно бедняков, едущих в гости к родственникам и снарядившихся в дорогу так, как принято у бедняков в Северной Европе: с бесчисленными узелками и с выражением покорности начальству на лицах, и матросов, возвращающихся из отпуска. Мы спали урывками, под толчки и остановки, среди ночи сделали пересадку, потом снова спали и проснулись в пустом вагоне, а в окнах мелькали сосновые леса, и вдали маячили горные вершины. Новые мундиры на границе, кофе и хлеб в станционном буфете, вокруг нас люди, по-южному живые и грациозные, и опять путь по широкой равнине, а в окнах вместо хвойных лесов — виноградники и оливковые рощи, пересадка в Милане, чесночная колбаса, хлеб и бутылка «Орвието», купленные с лотка (мы потратили почти все наши деньги в Париже); солнце в зените и земля, затопленная зноем, вагон, наполненный крестьянами, приливающими и отливающими на каждой станции, и тошнотворный запах чеснока в жарком вагоне. Наконец вечером мы приехали в Венецию.
На вокзале нас ожидала сумрачная фигура.
— Папин слуга Плендер.
— Я встречал экспресс, — сказал Плендер. — Его светлость думал, что вы по ошибке сообщили не тот номер поезда. Этот поезд значится только от Милана.
— Мы приехали третьим классом. Плендер вежливо поцокал языком.
— Вас дожидается гондола. Я с багажом приеду сразу же вслед на vaporetto[33]. Его светлость отправился в «Лидо». Он не был уверен, что вернется к вашему приезду, то есть когда мы еще предполагали, что вы приедете экспрессом. Теперь он уже должен быть дома.
Он подвел нас к дожидавшейся лодке. Гондольеры были в бело-зеленых ливреях с серебряными бляхами на груди. Они улыбнулись и поклонились.
— Palazzo. Pronto[34].
— Si, signore Plender[35]. И мы отплыли.
— Вы здесь бывали?
— Никогда.
— Я один раз уже был — приезжал морем. Но надо приезжать только так.
— Ессо ci siamo, signori[36].
Дворец был не столь грандиозен, как можно было ожидать, с узким ложноантичным фасадом, замшелыми ступенями и темной аркой из рустованного камня. Один из гондольеров спрыгнул на берег, привязал чалку к столбу и позвонил у дверей. Двери распахнулись; слуга в довольно безвкусной полосатой летней ливрее повел нас вверх по лестнице из полумрака на свет; стены piano nobile[37] в ярких солнечных лучах полыхали фресками школы Тинторетто.
Наши комнаты находились на втором этаже, куда вела крутая мраморная лестница; окна были загорожены ставнями, и сквозь щели пробивался горячий солнечный свет; дворецкий распахнул ставни, и открылся вид на Большой канал. Кровати были завешены москитными сетками.
— Mostica[38] сейчас нет.
В обеих комнатах стояло по маленькому пузатому комоду с тусклым зеркалом в золоченой раме, и больше никакой мебели не было. Полы — голые мраморные плиты.
— Мрачновато, да? — сказал Себастьян.
— Мрачновато? Да вы только поглядите! Я подвел его к окну и к несравненному виду, открывавшемуся перед нами и вокруг нас.
— Нет, о мраке тут говорить не приходится… Ужасный взрыв заставил нас броситься в соседнее помещение. Там оказалась ванная, оборудованная, по-видимому, в бывшем камине. В ней не было потолка, а стены проходили насквозь через третий этаж и открывались прямо в небо. Облако пара почти скрыло дворецкого у старинной колонки. Сильно пахло газом, а из крана бежала тонкая струйка холодной воды.
— Плохи дела.
— Si, si, subito, signori![39]
Дворецкий выбежал на лестницу и стал что-то громко кричать вниз, ему отозвался женский голос, гораздо более пронзительный. Мы с Себастьяном вернулись к созерцанию вида из наших окон. Между тем переговоры подошли к концу, появились женщина и мальчик, они улыбнулись нам, бросили свирепый взгляд на дворецкого и поставили на комод к Себастьяну серебряный таз и такой же кувшин с крутым кипятком. Дворецкий тем временем распаковывал и складывал наши вещи и, перейдя на итальянский, толковал нам о непризнанных достоинствах старинной колонки. Вдруг он насторожился, склонил голову набок, промолвил: «Il marchese» — и бросился вниз.
— Надо принять благопристойный вид для встречи с папой, — сказал Себастьян. — Смокинги не потребуются. Насколько я понимаю, он сейчас один.
Мне не терпелось поскорее увидеть лорда Марчмейна. Когда же я его наконец увидел, меня прежде всего поразила его обыкновенность, впрочем, как я убедился позже, нарочитая. Он, видимо, сознавал, что имеет байронический ореол, считал это дурным тоном и старался по возможности его скрыть. Он стоял на балконе, и, когда повернулся к нам, лицо его скрыла густая тень. Я видел только высокую, статную фигуру.
— Голубчик папа, — сказал Себастьян, — как ты молодо выглядишь!
Он поцеловал лорда Марчмейна в щеку, а я, который не целовал своего отца с тех пор, как вышел из детской, смущенно стоял сзади.
— А это Чарльз. Ведь верно, папа очень красив, Чарльз? Лорд Марчмейн пожал мне руку.
— Тот, кто смотрел для вас расписание поездов, сделал ошибку, — сказал он, и голос его был голосом Себастьяна. — Такого поезда нет.
— Но мы на нем приехали.
— Быть не может. В это время есть только почтовый из Милана. А я был в «Лидо». Я теперь по вечерам играю там в теннис с инструктором. Единственное время, когда не слишком жарко. Надеюсь, молодые люди, вам будет удобно наверху. Этот дом, кажется, выстроен в расчете на удобство только для одного человека, и человек этот — я. У меня комната размерами с этот зал и очень приличная гардеробная. Вторую просторную комнату взяла себе Кара.
Я был очарован простотой и свободой, с какими он говорит о своей любовнице; позднее я заподозрил, что это делалось нарочно, чтобы произвести на меня впечатление.
— Как она поживает?
— Кара? Прекрасно, надеюсь. Завтра утром она будет с нами. Поехала погостить к знакомым американцам, которые снимают виллу на Бренте. Где мы сегодня обедаем? Можно поехать в «Луна-отель», но туда теперь с каждым днем набивается все больше англичан. Вам будет очень скучно, если мы останемся дома? Завтра Кара непременно захочет повезти вас куда-нибудь, а здешний повар, право же, превосходен.
Он отошел от балконной двери и теперь стоял в ярком вечернем свете, четко рисуясь на фоне алых штофных стен. У него было благородное, ухоженное лицо, именно такое, подумал я, каким он предназначил ему быть: слегка усталое, слегка сардоническое, слегка чувственное. Видно было, что человек в расцвете жизни. Мне было странно представить себе, что он всего лишь несколькими годами моложе моего отца.
Мы сели обедать за мраморный стол между окнами, в этом доме все было либо мраморное, либо бархатное, либо тусклое, золоченое.
Лорд Марчмейн спросил:
— А как вы намерены провести здесь время? За купанием или осматриванием достопримечательностей?
— Кое-какие достопримечательности, надеюсь, мы осмотрим, — ответил я.
— Каре это будет по душе. Она, как вам, несомненно, уже объяснил Себастьян, хозяйка этого дома. Совместить и то и другое вам, поверьте, не удастся. Стоит один раз попасть в «Лидо», и кончено — садитесь за трик-трак, застреваете в баре, тупеете от зноя. Советую держаться церквей.
— Чарльз большой любитель живописи.
— Да? — Я услышал в его голосе отзвук глубочайшей скуки, которую так хорошо знал по своему отцу. — И у вас есть кто-то из венецианцев специально на примете?
— Беллини, — ответил я более или менее наобум.
— Да? Который же?
— Боюсь, я и не подозревал, что их двое.
— Трое, если уж быть точным. Вы убедитесь, что в великие эпохи живопись была делом преимущественно семейным. Ну, а как там Англия?
— Была прелестна, когда мы ее оставили, — ответил Себастьян.
— В самом деле? Моя трагедия в том, что я терпеть не могу английскую природу… Вероятно, это позор — владеть по наследству землей и не испытывать к ней восторженных чувств. Я именно таков, каким изображают нас социалисты, и моей партии от меня только неприятности. Ну, да мой старший сын, без сомнения, все это исправит, если, разумеется, ему будет что наследовать… Не понимаю, почему это считается, что итальянские сладости так хороши. При дедушке в Брайдсхеде всегда был кондитер-итальянец. Только отец завел австрийца, и никакого сравнения. Ну а теперь, как я понимаю, там английская матрона с мясистыми локтями.
После обеда мы вышли на улицу и пошли лабиринтом мостов, площадей и переулков к «Флориану» пить кофе. Взад и вперед у подножия колокольни неторопливо и важно двигались гуляющие толпы.
— Венецианская толпа — единственная в своем роде, — заметил лорд Марчмейн. — Город кишит анархистами, но на днях одна американская дама вздумала появиться здесь в туалете с большим декольте, и они ее прогнали одними взглядами, не издав ни звука; они отходили и возвращались, словно кружащиеся чайки, пока не вынудили ее встать и уйти. Наши соотечественники отнюдь не так величественно выражают моральное осуждение.
В эту минуту со стороны канала вошла компания англичан, направилась было к соседнему с нами столику, но вдруг повернула и села в другом конце зала. Там они стали о чем-то беседовать, сблизив головы и с любопытством поглядывая в нашу сторону.
— Этого господина и его жену я близко знал, когда занимался политикой. Видный член твоей церкви, Себастьян. Когда мы в тот вечер уходили спать, Себастьян сказал:
— Он душка, верно?
На следующий день приехала любовница лорда Марчмейна. Я был тогда девятнадцатилетним юношей, не имевшим совершенно никакого понятия о женщинах. Я не отличил бы даже проститутку на панели. Поэтому оказаться под одной крышей с четой прелюбодеев было для меня небезразлично. Но я был достаточно взрослым, чтобы не показывать своего интереса. И любовница лорда Марчмейна застала меня исполненным множества разноречивых ожиданий касательно ее особы, ни одно из которых с ее появлением не оправдалось. Она не была ни сладострастной одалиской по Тулуз-Лотреку; ни «пухленькой малюткой»; она была немолодой, хорошо сохранившейся, хорошо одетой дамой с прекрасными манерами; я много раз встречал таких в обществе, а с некоторыми был даже знаком. И клейма общественного остракизма на ней тоже как будто бы не было. В день ее приезда мы обедали в «Лидо», и с ней здоровались из-за каждого столика.
— Виттория Коромбона приглашает нас всех в субботу к себе на бал.
— Очень любезно с ее стороны. Ты знаешь, что я не танцую, — ответил лорд Марчмейн.
— Но ради мальчиков! Это надо посмотреть — дворец Коромбона, освещенный для бала. Кто знает, много ли еще будет таких балов.
— Мальчики пусть поступают, как им угодно. А мы должны отклонить приглашение.
— И еще я позвала к завтраку миссис Хэкинг Бруннер. У нее очаровательная дочь. Она наверняка понравится Себастьяну и его другу.
— Себастьяна и его друга больше интересует Беллини, чем богатые наследницы.
— Но это как раз то, о чем я мечтала! — воскликнула Кара, сразу же изменив направление атаки. — Я была здесь несчетное количество раз, и Алекс не позволил мне даже заглянуть внутрь Святого Марка. Мы станем туристами, да?
И мы стали туристами; в качестве гида Кара привлекла какого-то знатного карлика-венецианца, перед которым были открыты все двери, и в его сопровождении, с путеводителем в руке она пустилась в странствие вместе с нами, изнемогая порой, но не отступаясь, — скромная, прозаическая фигура на фоне грандиозного венецианского великолепия.
Две недели в Венеции промелькнули быстро, как сладкий сон — быть может, слишком сладкий; я тонул в меду, забыв о жале. Жизнь то двигалась вместе с гондолой, на которой мы покачивались, плывя по узким каналам под мелодичные птичьи окрики гондольера, то, ныряя, неслась с катером через лагуну, оставляя позади радужный пенный след; от нее остались воспоминания разогретого солнцем песка, и прохладных мраморных покоев, и воды, воды повсюду, плещущей о гладкие камни и отбрасывающей ярких зайчиков на расписные потолки; и ночного бала во дворце Коромбона, какие, быть может, посещал Байрон; и другой байронической ночи — когда ездили ловить scampi[40] на отмелях Chioggia и за пароходиком тянулся по воде фосфоресцирующий след, на корме раскачивался фонарь и невод поднимался на борт, полный водорослей, песка, бьющейся рыбы; и дыни с prosciutto[41] на балконе прохладными утрами; и горячих гренков с сыром и коктейлей с шампанским в баре у «Хэрри».
Помню, как Себастьян сказал, взглянув на статую Коллеони:
— Грустно думать, что, как бы там ни сложились обстоятельства, нам с вами не придется участвовать в войне.
Но всего отчетливее я помню один разговор, состоявшийся незадолго до нашего отъезда.
Себастьян поехал с отцом играть в теннис, а Кара наконец призналась, что устала до изнеможения. И вот после обеда мы сидели с ней у окон, выходящих на Большой канал, она на диванчике с каким-то рукоделием, я в кресле, праздный. Впервые мы остались с глазу на глаз.
— Мне кажется, вы очень привязаны к Себастьяну, — сказала она.
— Разумеется.
— Я знаю эту романтическую дружбу у англичан и немцев. В латинских странах это не принято. По-моему, такие отношения превосходны, если только они не слишком затягиваются.
Она говорила так спокойно и рассудительно, что невозможно было обидеться; я не нашелся, как ей ответить. Она, видно, и не ждала ответа, а продолжала работать иглой, иногда останавливаясь и подбирая оттенки шелка, который доставала из рабочей корзинки.
— Любовь, которая приходит к детям, еще не понимающим ее значения. В Англии это бывает, когда вы уже почти взрослые мужчины; мне это даже нравится. По-моему, лучше, если такое чувство испытывают к мальчику, а не к девочке. Алекс вот испытывал его к девочке, к своей жене. Как вы думаете, он любит меня?
— Право, Кара, вы задаете совершенно невозможные вопросы. Ну откуда мне знать? Очевидно… — Нет, не любит. Ну нисколечко. А почему он остается со мной? Я скажу вам: потому, что я ограждаю его от леди Марчмейн. Ее он ненавидит, вы даже представить себе не можете, как он ее ненавидит. Кажется, такой спокойный, сдержанный английский милорд, слегка скучающий, с угасшими страстями, сохранивший одно желание — жить в комфорте вдали от всяких тревог, ездящий зимой на юг, а летом на север, и при нем — я, чтобы позаботиться о том, чего сам для себя никто сделать не может. Мой друг, ничего подобного. Это вулкан ненависти. Он не может дышать одним воздухом с ней. Не желает ступить на английскую землю, потому что там живет она; ему и с Себастьяном трудно, потому что он — ее сын. Но Себастьян тоже ее ненавидит.
— Уверяю вас, здесь вы ошибаетесь.
— Возможно, он не признается в этом вам. Может быть, не признается даже самому себе, но они полны ненависти к своей семье. Алекс и его семья… Почему, вы думаете, он отказывается бывать в обществе?
— Я всегда полагал, что общество его отвергло…
— Мой дорогой мальчик, вы еще очень молоды. Чтобы общество отвергло такого красивого, образованного, богатого мужчину, как Алекс? Да никогда в жизни! Он сам всех распугал. Даже и теперь люди продолжают появляться у нас и неизменно встречают оскорбления и издевательства. А все из-за леди Марчмейн. Он не пожмет руки, которая касалась, быть может, ее руки. Когда у нас бывают гости, я так и вижу, как он думает: «Уж не прямо ли из Брайдсхеда они сюда? Не по пути ли в Марчмейн-хаус? Не вздумают ли рассказывать про меня моей жене? Не звено ли это, связующее меня с той, кого я ненавижу?» Нет, серьезно, клянусь, именно так он и думает. Он безумец. И чем же она заслужила такую ненависть? Ничем, если не считать того, что была любима мужчиной, который еще не стал взрослым. Я не знакома с леди Марчмейн, я видела ее только один раз; но, когда живешь с человеком, узнаешь и ту, другую, женщину, которую он когда-то любил. Я знаю леди Марчмейн очень хорошо. Это простая и хорошая женщина, которую неправильно любили. Когда так страстно ненавидят, это значит, что ненавидят что-то в себе самих. Алекс ненавидит все иллюзии своего отрочества — невинность, бога, спасение души. Бедная леди Марчмейн должна за все это расплачиваться. У женщины не бывает столько разных любовей… Ну а ко мне Алекс очень привязан, я ведь ограждаю его от его собственной невинности. Нам хорошо вдвоем.
А Себастьян влюблен в собственное детство. Это принесет ему страдания. Его плюшевый мишка, его няня… И ведь ему девятнадцать лет… — Она приподнялась на диване, пересела так, чтобы в окно видны были проплывающие лодки, и сказала с насмешливым удовольствием: — До чего же хорошо сидеть в холодке и толковать про любовь, — и тут же добавила, опустившись с высот на землю: — Себастьян слишком много пьет.
— Мы оба этим грешим.
— Вы — другое дело. Я наблюдала за вами обоими. У Себастьяна все иначе. Он запьет горькую; если никто не вмешается. Я видела много таких на своем веку. Алекс тоже был почти горьким пьяницей, когда мы познакомились, это у них в крови. Видно по тому, как Себастьян пьет. Вы — совсем другое дело.
Мы приехали в Лондон за день до начала семестра. По пути от Черинг-Кросса я высадил Себастьяна во дворе материнского дома.
— Вот и Марчерс, — вздохнул он, и это означало сожаление об окончившихся каникулах. — Я вас не приглашаю, дом, наверное, полон моими родными. Увидимся в Оксфорде.
И я поехал через парк к себе домой.
Отец встретил меня, как обычно, с терпеливым сожалением на лице.
— Сегодня здравствуй, завтра прощай, — сказал он. — Я почти не вижу тебя. Ну, да наверно, тебе здесь скучно. Иначе и быть не может. Хорошо ли ты провел время?
— Очень. Я ездил в Венецию.
— Да-да. Конечно. И погода была хорошая? Когда после целого вечера безмолвствия мы пошли спать, отец остановился на лестнице и спросил:
— А этот твой друг, о котором ты так беспокоился, он умер?
— Нет.
— Слава богу. Я очень рад. Напрасно ты не написал мне об этом. Я так о нем волновался.
Глава пятая
— Как это по-оксфордски, — сказал я, — начинать новый год с осени.
Повсюду, в садах, на булыжниках, на гравии, на газонах лежали опавшие листья, и дым костров смешивался с влажным речным туманом, переползающим невысокие серые стены; каменные плиты под ногами лоснились, и золотые огни, один за другим загоравшиеся в окнах нашего двора, казались расплывчатыми и далекими; новые фигуры в новеньких мантиях бродили в сумерках под темными сводами, и знакомые колокола вызванивали память прошедшего года.
Осеннее настроение овладело нами обоими, словно буйное июньское веселье умерло вместе с левкоями у меня под окном, чей аромат теперь заменили запахи прелых листьев, тлеющих в куче в углу двора.
Было первое воскресенье нового семестра.
— Я чувствую, что мне ровно сто лет, — сказал Себастьян. Он приехал накануне, на день раньше, чем я, и это была наша первая встреча, с тех пор как мы расстались в такси.
— Сегодня со мной беседовал монсеньер Белл. Это уже четвертая беседа после возвращения — с наставником, с заместителем декана, с мистером Самграссом из Всех Усопших и вот теперь с монсеньером Беллом.
— А кто такой мистер Самграсс из Всех Усопших?
— Один человек, состоит при маме. Они все говорят, что в прошлом году я очень плохо начал, что на меня обращено внимание и что, если я не исправлю своего поведения, меня исключат. Как это, интересно, исправляют свое поведение? Надо, наверно, вступить в Союз Лиги наций, каждую неделю читать «Изиду», пить по утрам кофий в кафе «Кадена» и курить большую трубку, играть в хоккей, таскаться пить чай на Кабаний холм и на лекции в Кибл, разъезжать на велосипеде с кипой тетрадей на багажнике, а вечерами пить какао и научно обсуждать вопросы пола. Ох, Чарльз, что произошло за время каникул? Я чувствую себя таким старым.
— Я чувствую себя пожилым. Это неизмеримо хуже. Кажется, мы уже получили здесь все, на что можно было рассчитывать.
Мы посидели молча при свете камина. Быстро стемнело.
— Антони Бланш ушел из университета.
— Почему?
— Пишет, что снял квартиру в Мюнхене. Он завязал там роман с полицейским.
— Мне будет недоставать его.
— Мне, я думаю, в каком-то смысле тоже.
Мы снова замолчали и так тихо сидели, не зажигая ламп, что человек, зашедший ко мне по какому-то делу, постоял минуту на пороге и ушел, подумав, что в комнате никого нет.
— Так нельзя начинать новый год, — сказал Себастьян; но тот мрачный октябрьский вечер овеял своим холодным влажным дыханием последующие дни и недели. Весь семестр и весь год мы с Себастьяном жили под тенью сгущающихся туч, и, словно фетиш, вначале спрятанный от глаз миссионера, а затем забытый, плюшевый медведь Алоизиус пылился на комоде в Себастьяновой спальне.
Мы оба переменились. Оба утратили чувство новизны, лежавшее в основе нашей прошлогодней анархии. Я начал остепеняться.
Мне, как ни странно, очень не хватало кузена Джаспера, который успешно сдал выпускные экзамены и теперь хлопотливо устраивался в Лондоне на смутьянское житье; без него мне некого было шокировать; сам колледж, казалось, утратил без него свою солидность и теперь уже не вызывал на скандальные выходки, как минувшим летом. К тому же я возвратился пресытившийся и покаянный, твердо решившись умерить свой размах. Я не собирался больше давать пищу юмору отца; его эксцентричные преследования лучше любого выговора убедили меня в неразумности жизни не по средствам. Бесед со мной в этом семестре никто не проводил, успех на предварительном экзамене по истории, а также бетта с минусом за один из ре-фератов обеспечили мне хорошие отношения с моим наставником, которые я без лишних усилий и поддерживал.
Я сохранял связь с историческим факультетом, писал для них по два реферата в неделю, посещал иногда какую-нибудь лекцию. Кроме того, с начала второго курса я записался на Рескинский факультет искусств, мы собирались по утрам два или три раза в неделю (нас было человек двенадцать, из них по меньшей мере половина — дочери северного Оксфорда) среди слепков античных памятников Ашмолейского музея; дважды в неделю мы рисовали обнаженную натуру в маленькой комнате над чайной; были приняты меры, чтобы исключить на этих сеансах непристойные помыслы, молодая женщина, позировавшая нам, приезжала из Лондона на один день и не имела права ночевать в университетском городе; помню, что бок, обращенный к железной печке, был розовый, а другой — в пятнах и пупырышках, словно ощипанный. Здесь, в чаду керосиновой лампы, мы сидели верхом на скамейках и делали беспомощные попытки вызвать призрак Трильби. Мои рисунки никуда не годились; дома я писал хитроумные миниатюры-стилизации, иные из которых, сбереженные моими тогдашними знакомыми, теперь иногда вдруг всплывают на свет, повергая меня в смущение.
Учил нас человек моего возраста, обращавшийся с нами с оборонительной враждебностью, он носил темно-синие рубахи, лимонно-желтый галстук и очки в роговой оправе, и, видя перед глазами такое предостережение, я стал постепенно изменять собственный стиль одежды, приблизившись наконец к тому, что кузен Джаспер счел бы подходящим для человека, гостящего в загородном доме. Так, найдя себе занятия по душе и костюм к месту, я сделался респектабельным членом своего колледжа.
У Себастьяна все складывалось иначе. У него прошлогодняя анархия отвечала глубокой внутренней потребности бегства от реальности, и теперь, ощущая себя запертым со всех сторон, запертым и там, где он прежде пользовался свободой, он делался равнодушен и угрюм даже со мной.
В тот семестр мы почти все время проводили вдвоем, настолько оба поглощенные друг другом, что не испытывали нужды в других знакомствах. Кузен Джаспер предупреждал, что на втором курсе почти все время уделяют тому, чтобы отделаться от знакомых, приобретенных на первом, и именно так у нас и получилось. У меня почти все знакомые были общие с Себастьяном; и теперь мы вместе избавлялись от них, а новых не заводили. До ссор и разрывов не доходило. Поначалу мы встречались с ними так же часто, как и прошлый год, ходили к ним, когда нас приглашали, но сами устраивали пирушки все реже и реже. У меня не было желания красоваться перед новыми первокурсниками, которые дебютировали в свете, подобно своим лондонским сестрам; новые лица были теперь всюду, куда ни пойдешь, и я, еще полгода назад такой жадный до новых знакомств, чувствовал пресыщение; и даже наш узкий кружок близких друзей, недавно искрившийся весельем в летнем свете солнца, как-то потускнел и притих в мглистом, ползущем с реки тумане, затянувшем для меня в тот год весь мир. Антони Бланш унес с собою что-то важное; запер на замок какую-то дверь и ключ повесил к себе на цепочку; теперь все его знакомцы, среди которых он всегда оставался чужим, больно ощущали его отсутствие.
Вот и кончился любительский спектакль; режиссер застегнул барашковый полушубок и получил гонорар, и безутешные дамы остались без своего руководителя. Лишенные его руководства, они не вовремя подают реплики и перевирают слова; он нужен им, чтобы позвонить к поднятию занавеса, чтобы верно направить огни рампы; им необходим его шепот в кулисах, его властный взгляд, брошенный на дирижера; без него не стало фотографов из иллюстрированных еженедельников, не стало организованного доброжелательства и благосклонного ожидания публики. Все, что их соединяло, было общее служение искусству; и вот золотые кружева и бархат уложены и возвращены костюмеру, и серая униформа буден пришла им на смену. Несколько счастливых часов репетиций, несколько экстатических мгновений спектакля они исполняли блестящие роли, они были своими собственными великими предками со знаменитых портретов, на которых, как предполагалось, отдаленно походили, и вот теперь все позади, и в хмуром свете осеннего дня они должны вернуться к себе домой: к мужу, который слишком часто приезжает в Лондон; к любовнику, который проигрывается в карты; к ребенку, который слишком быстро растет.
Кружок Антони Бланша распался — вместо него осталась просто дюжина скучных английских подростков. Когда-нибудь, в позднейшие годы, им суждено будет спрашивать друг у друга: «А помните того чудака, с которым мы знались в Оксфорде, — Антони Бланша? Интересно, что с ним теперь?» Они снова лениво пристали к стаду, из которого их по непонятным признакам отобрали, и день ото дня все больше утрачивали индивидуальные отличия. Эта перемена им самим была не так ясно видна, как нам; от случая к случаю они все еще собирались у нас в комнатах, но мы перестали искать их общества. Зато мы полюбили компании попроще и частенько проводили вечера в маленьких Хогартовских кабачках Сент-Эбба и Сент-Климента или, улиц между старым рынком и каналом, где мы еще могли веселиться и где нам, смею верить, бывали рады. У «Садовника», и в «Лошажьей голове», и в «Голове друида», что по соседству с театром, и «На адском ипподроме» мы были признанными завсегдатаями; впрочем, в последнем можно было встретить и других студентов — главным образом весельчаков из Брейзенноуз-колледжа, а Себастьяном постепенно овладела своего рода фобия, какую испытывают те, кто носит форму, к собратьям по профессии, и не один вечер оказывался для нас погублен появлением коллег студентов, из-за которых он оставлял недопитым стакан и хмуро возвращался в свой колледж.
Так застала нас леди Марчмейн, когда в начале Михайлова семестра приехала на неделю в Оксфорд. Она нашла Себастьяна притихшим, а вместо всей его оравы друзей рядом с ним был один я. Она приняла меня как друга Себастьяна, и попыталась сделать также и своим другом. При этом она, того не ведая, нанесла удар по самому основанию нашей дружбы. Таков единственный упрек, который я могу противопоставить всей ее безграничной доброте ко мне.
В Оксфорде у нее было дело к мистеру Самграссу из Всех Усопших, который постепенно начал играть в нашей жизни все более и более значительную роль. Леди Марчмейн была занята изданием для узкого круга друзей книги в память о своем брате Неде, старшем из троих легендарных героев, павших между Монсом и Пассендейлом; после него осталось много бумаг: стихов, писем, выступлений, статей; подготовка их к публикации, даже самым маленьким тиражом, требовала такта и принятия многих решений, для которых суд обожающей сестры был недостаточно надежным основанием. Признав это, она стала искать помощи со стороны и нашла себе в советчики мистера Самграсса.
Это был молодой преподаватель истории, низенький пухлый человечек с жидкими, прилизанными на большом черепе волосами, аккуратными ручками, маленькими ножками, всегда одетый с иголочки и как бы слишком чисто вымытый. У него были вкрадчивые манеры и своеобразная речь. Нам выпало познакомиться с ним довольно близко.
У мистера Самграсса был особый дар помогать людям в их работе, но он и сам был автором нескольких изящных книжиц. Он имел пристрастие к старинным грамотам и тонкое чутье к живописным эффектам. Себастьян отнюдь не грешил против истины, когда назвал его «одним человеком, состоящим при маме». Он становился человеком при каждом, кто мог его чем-то привлечь.
Мистер Самграсс был знаток генеалогий и прав наследования; он обожал свергнутые королевские фамилии и отлично разбирался в правах претендентов на троны; сам человек не религиозный, он был осведомлен о делах католической церкви лучше, чем многие католики; у него были знакомства в Ватикане, и он мог часами толковать о церковных делах и назначениях, о том, кто из духовных лиц сейчас в фаворе, а кто нет, и каковы последние теологические гипотезы, и как тот или иной иезуит или доминиканец в великопостной проповеди вступил на опасную стезю или взял сомнительную ноту; ему не хватало разве только веры, и позднее, в Брайдсхеде, он любил в часовне подходить под благословение и смотреть, как дамы в черных кружевных мантильях грациозно изгибают шеи в молитве; он любил забытые великосветские сплетни и был специалистом по внебрачным детям, он любил прошлое, так он всегда говорил, но у меня было такое чувство, что свое великолепное окружение и в прошлом и в настоящем он втайне считает несерьезным, реальностью для него был один только мистер Самграсс, все прочее — не более чем маскарадная процессия. Он был туристом викторианской эпохи, самодовольным и снисходительным, и вся эта экзотика служила ему для развлечения. К тому же его перо казалось мне немного слишком бойким, я бы не удивился, окажись у него в квартире запрятанный диктофон.
Я встретил его впервые в обществе леди Марчмейн и тогда же подумал, что она не могла бы найти для себя более разительного контраста, чем этот промышляющий интеллигент, и более выгодного фона для своего очарования. Не в ее обычае было демонстративно вторгаться в чужую жизнь, но на исходе той недели Себастьян хмуро заметил: «Вас с мамой теперь водой не разольешь», — и тогда я осознал, что меня быстро и незаметно втянули в отношения душевной близости, потому что других отношений между людьми леди Марчмейн просто не признавала. Перед тем как она уехала, я успел дать обещание, что проведу в Брайдсхеде все предстоящие каникулы, кроме рождественских дней.
Недели через две после этого, утром в понедельник, я сидел у Себастьяна и дожидался, когда он вернется с занятий, как вдруг вошла Джулия в сопровождении крупного мужчины, которого она представила мистером Моттремом, а называла Рексом. Они возвращались в автомобиле от своих знакомых, у которых гостили субботу и воскресенье. Рекс Моттрем в просторном клетчатом пальто с поясом был разгорячен и самоуверен, Джулия в мехах казалась замерзшей и робкой; она прошла прямо к камину и присела на корточки перед огнем.
— Мы мечтали, что Себастьян накормит нас обедом, — сказала она. — Конечно, если его не будет, мы всегда можем податься к Бою Мулкастеру, но лучше было бы все-таки с Себастьяном. Только мы ужасно голодны. Нас два дня просто морили голодом у Чазмов.
— Они с Себастьяном оба обедают у меня. Приходите и вы. Приглашение мое было тут же принято, и вскоре все собрались у меня в комнатах на одну из наших последних оксфордских пирушек. Рекс Моттрем очень старался произвести впечатление. Это был красивый мужчина с густой темной шевелюрой, низким лбом и лохматыми черными бровями. Говорил он с приятным канадским акцентом. Мы сразу же узнали о нем все, что он хотел, чтобы о нем знали: что он удачлив по части денег, что он член парламента, что он игрок и добрый малый, что он играет в гольф с принцем Уэльским и водит дружбу с «Maкcoм», и «Эф. И.», и Герти Лоуренсом, и Огастесом Джоном, и Карпантье — со всяким, кажется, о ком ни заходил разговор. Про университет он сказал:
— Нет, я здесь не учился. Тут просто на три года отстаешь в жизни от других.
Свою жизнь, насколько он ее обнародовал, он начал на войне, которую и окончил с отличной аттестацией, служа в канадских частях и дослужившись до адъютанта при одном из прославленных генералов.
Ему было никак не больше тридцати, но тогда, в Оксфорде, он казался нам глубоким стариком. Джулия обращалась с ним, как она обращалась со всеми на свете, надменно-снисходительно, но как со своей собственностью. Один раз она послала его от стола в машину за сигаретами и раз или два, когда он слишком уж расхвастался, извинилась за него, заметив: «Он ведь из колоний, не забывайте», — на что в ответ он разражался шумным хохотом.
Когда они уехали, я спросил, кто он.
— Один человек, состоит при Джулии, — ответил Себастьян.
Мы удивились, когда неделю спустя получили от него телеграмму с приглашением нам и Бою Мулкастеру в Лондон на обед «по случаю какого-то вечера, который устраивает Джулия».
— Он, наверно, не знаком ни с кем из молодых, — сказал Себастьян. — Все его знакомые — старые толстокожие акулы из Сити и палаты общин. Поедем?
Мы посовещались и решили, что, поскольку жизнь наша в Оксфорде протекает довольно уныло, надо поехать.
— Зачем ему понадобился Бой?
— Мы с Джулией знакомы с ним всю жизнь. Наверно, увидев его у вас за обедом, он решил, что мы дружим.
Мы не очень-то любили Мулкастера, но у всех троих нас было превосходное настроение, когда, получив до утра отпуск в своих колледжах, мы в автомобиле Хардкасла покатили в Лондон.
Ночевать мы должны были в Марчмейн-хаусе. Мы заехали туда переодеться и, пока одевались, успели распить бутылку шампанского, то и дело забегая друг к другу в комнаты, которые были расположены рядом на третьем этаже и выглядели довольно убого в сравнении с роскошными апартаментами внизу. Спускаясь, мы встретили на лестнице Джулию еще в дневном туалете.
— Я опоздаю, — сказала она. — Вы, мальчики, лучше ступайте сами к Рексу. Изумительно, что вы приехали.
— А но какому случаю званый вечер?
— Да просто благотворительный бал, который я помогаю устраивать. Рекс настоял, чтобы мы дали обед по этому поводу. Увидимся у него.
До Рекса Моттрема от Марчмейн-хауса было рукой подать.
— Джулия опоздает, — объявили мы. — Она только поднялась к себе одеваться.
— Это означает еще час. Надо пока выпить вина. Дама, которую нам отрекомендовали как миссис Чэмпион, возразила:
— Ах, я знаю, Рекс, она хотела бы, чтобы мы начали без нее.
— Ну, все равно, сначала выпьем вина.
— Зачем такая бутыль, Рекс? — раздраженно спросила дама. — Вы все делаете чересчур.
— В самый раз для нас будет, — ответил Рекс, взяв бутыль в руки и вытаскивая пробку.
Среди гостей были две девушки, ровесницы Джулии; они все имели какое-то отношений к устройству благотворительного бала. Мулкастер знал их издавна, и они, как мне показалось, без всякого удовольствия узнали Мулкастера. Миссис Чэмпион разговаривала с Рексом. И мы с Себастьяном оказались, как всегда, вдвоем над стаканом вина.
Наконец появилась Джулия, спокойная, восхитительная, нисколько не смущенная.
— Напрасно вы позволили ему ждать, — сказала она. — Это все его канадская галантность.
Рекс Моттрем оказался щедрым хозяином, и к исходу обеда мы, трое оксфордцев, были пьяны. Когда мы стояли в холле, поджидая девушек, а Рекс и миссис Чэмпион в стороне вполголоса обменивались колкостями, Мулкастер сказал:
— Послушайте, давайте-ка улизнем с этого гнусного бала и подадимся к мамаше Мейфилд.
— Кто это мамаша Мейфилд?
— Да вы знаете мамашу Мейфилд. Все знают мамашу Мейфилд из «Старой сотни». У меня там постоянная приятельница — прелестная малютка Эффи. Ух, что будет, если Эффи узнает, чго я был в Лондоне, а к ней не зашел. Поехали к мамаше Мейфилд, я вас познакомлю с Эффи.
— Ладно, — сказал Себастьян, — поехали к мамаше Мейфилд знакомиться с Эффи.
— Прихватим у доброго дяди Моттрема бутылочку шипучего, а потом удерем с этого поганого бала и подадимся в «Сотню». Идет?
Удрать с бала оказалось делом нетрудным. У девушек, которых пригласил Рекс, было там много знакомых, и после двух-трех танцев кавалеров за нашим столиком стало прибавляться; Рекс Моттрем заказывал еще и еще вина; и вот мы трое очутились на улице.
— А ты знаешь, где это заведение?
— Конечно. Помой-стрит, номер сто.
— Где это?
— В районе Лестер-сквер. Лучше взять машину.
— Зачем?
— Всегда полезно в таких случаях иметь свой автомобиль. Мы не стали спорить, и в этом заключалась наша роковая ошибка. Машина стояла во дворе Марчмейн-хауса, в ста шагах от отеля, где происходил бал. Мулкастер сел за руль и, немного поплутав, благополучно доставил нас на Помой-стрит. Швейцар по одну сторону от темного подъезда и немолодой господин в смокинге по другую — стоя лицом к стене, он пытался остудить о кирпичи лоб — свидетельствовали о том, что мы добрались до места.
— Не ходите туда, вас отравят, — предостерег немолодой господин.
— Члены? — спросил швейцар.
— Моя фамилия Мулкастер. Виконт Мулкастер.
— Не знаю, спросите внизу, — сказал швейцар.
— Вас ограбят, отравят, заразят и ограбят, — повторял немолодой господин.
В глубине темного подъезда оказалось ярко освещенное окошко.
— Члены? — спросила толстая женщина в вечернем платье.
— Вот это мне нравится, — сказал— Мулкастер. — Пора бы знать меня.
— Да, миленький, — ответила женщина безо всякого интереса. — Десять шиллингов с каждого.
— Послушайте, я никогда раньше не платил.
— Верю, миленький. Сегодня у нас полно, так что платите десять шиллингов. Кто придет после вас, с того по фунту. Ваше счастье.
— Позовите мне миссис Мейфилд.
— Я миссис Мейфилд. Десять шиллингов с каждого. — Вот тебе раз, мамаша, я и не узнал вас в этом параде. Вы ведь знаете меня, верно? Бой Мулкастер.
— Да, душка. Десять шиллингов с каждого. Мы заплатили, и мужчина, стоявший между нами и внутренней дверью, шагнул в сторону. Внутри было жарко и людно, ибо «Старая сотня» была в ту пору на вершине успеха. Мы нашли столик и заказали бутылку; официант взял с нас деньги, прежде чем откупорить ее.
— А где сегодня Эффи? — осведомился Мулкастер.
— Которая Эффи?
— Ну Эффи, здешняя девушка. Хорошенькая такая, брюнетка.
— Здесь работает много девушек. Одни блондинки, другие брюнетки. Кое-кто, может, и хорошенькие. Мне недосуг запоминать их по именам.
— Пойду поищу ее, — сказал Мулкастер. Пока он отсутствовал, к нашему столику подошли две девицы. Они смотрели на нас с любопытством.
— Пошли, — сказала одна другой. — Пустая трата времени. Это гомики.
Вернулся торжествующий Мулкастер с Эффи, которой официант, не дожидаясь заказа, сразу же принес тарелку яичницы с беконом.
— Весь вечер во рту куска не было, — пробормотала она, набрасываясь на еду. — Тут только на одних завтраках и держимся, а за день-то как проголодаешься.
— Еще шесть шиллингов, — объявил официант. Насытившись, Эффи подкрасила губы и посмотрела на нас.
— Я тебя не первый раз здесь вижу, верно? — сказала она мне.
— Боюсь, что первый.
— Но тебя-то я видела? — Мулкастеру.
— Еще бы! Ты ведь не забыла тот сентябрьский вечерок?
— Конечно, нет, дорогой. Ты тот самый гвардеец, что порезал себе палец на ноге, угадала?
— Ну, Эффи, зачем ты меня дразнишь?
— Нет, то было в другой раз. Знаю, ты был с Банти в ту ночь, когда полиция устроила облаву и мы все попрятались там, где стоят мусорные ведра.
Эффи любит меня разыгрывать, правда, Эффи? Она обижена за то, что я так долго не приходил, да?
— Что хотите говорите, но я точно знаю, что где-то тебя уже видела.
— Не надо меня дразнить.
— Я вовсе даже и не дразнюсь. Честное слово, у меня и в мыслях не было. Хочешь, потанцуем?
— Сейчас не хочется.
— Слава богу. У меня сегодня туфли жмут, страсть как. Вскоре они с Мулкастером уже вели сердечную беседу. Себастьян откинулся на спинку стула и сказал мне:
— Сейчас я приглашу к нам ту парочку.
Две свободные девицы, раньше обратившие на нас внимание, снова кружили по соседству. Себастьян с улыбкой встал им навстречу, и скоро они обе тоже с жадностью ели за нашим столиком. У одной лицо было похоже на череп, другая казалась болезненным ребенком. Мертвая Голова досталась на мою долю.
— А не устроить ли нам вшестером вечеринку у меня на квартире? — предложила она.
— Чудесно, — сказал Себастьян.
— Когда вы вошли, мы думали, вы гомики.
— Это все наша юная невинность. Мертвая Голова захихикала.
— Ты парень что надо, — сказала она.
— Вы все очень-очень милые, — сказало Больное Дитя. — Пойду предупрежу миссис Мейфилд, что мы уходим.
Было еще сравнительно рано, чуть за полночь, когда мы снова очутились на улице. Швейцар попытался уговорить нас взять такси.
— Я пригляжу за вашим автомобилем, сэр, только на вашем месте я не сел бы за руль, нет, не сел бы.
Но Себастьян решительно уселся на водительское место, девицы устроились по обе стороны от него, чтобы показывать дорогу, Эффи, Мулкастер и я расположились сзади, и мы поехали. Кажется, отъезжая, мы немножко погорланили.
Далеко мы не уехали. Только свернули на Шафтсбери-авеню в сторону Пикадилли, как тут же чуть было не столкнулись с ехавшим навстречу такси.
— Ради бога смотри, куда едешь, — сказала Эффи. — Ты же нас всех угробишь.
— Неосторожный малый этот водитель, — сказал Себастьян.
— А ты тоже, ишь какой лихач нашелся, — сказала Мертвая Голова. — И потом, мы должны ехать по другой стороне.
— По другой так по другой, — согласился Себастьян, резко поворачивая поперек улицы.
— Вот что, останови машину. Я лучше пешком пойду.
— Остановить? Извольте.
Он дал тормоз, и мы остановились боком поперек улицы. Два полисмена, ускорив шаги, подошли к нам.
— Мое дело сторона, — бросила через плечо Эффи, выскочила из машины и обратилась в бегство. Остальные были пойманы на месте.
— Сожалею, если я препятствую движению, сержант, — старательно выговорил Себастьян, — но леди пожелала, чтобы я остановил машину и дал ей выйти. Она попросила об этом самым настоятельным образом. Как вы могли заметить, ей было очень некогда. Все нервы, знаете ли.
— Дай-ка я с ним поговорю, — сказала Мертвая Голова. — Будь другом, красавчик, не куксись. Никто ничего не видел, мальчики никому не хотят дурного, я посажу их в такси и тихо-мирно отвезу домой.
Полицейские оглядели нас с головы до ног, составляя собственное мнение. Даже и тогда все еще могло бы сойти благополучно, если бы не ввязался Мулкастер.
— Послушайте, приятель, — сказал он. — Вам совершенно незачем вмешиваться. Мы возвращаемся от мамаши Мейфилд. Я уверен, она выплачивает вам приличный гонорар за то, чтобы вы кое на что смотрели сквозь пальцы. Так вот, можете и на нас смотреть сквозь пальцы и в убытке не останетесь.
Этим были рассеяны последние сомнения, если у полицейских таковые имелись. В кратчайший срок мы очутились за решеткой.
Поездку туда и самое водворение я практически не помню. Мулкастер, кажется, энергично протестовал и, когда нас заставили вывернуть карманы, обвинил тюремщиков в грабеже. Потом нас заперли, и первое мое отчетливое воспоминание — это кафельные стены, лампа высоко под потолком за толстым стеклом, койка и дверь без ручки. Где-то слева от меня бушевали Мулкастер и Себастьян. По дороге в участок Себастьян твердо держался на ногах и был вполне сдержан, но теперь, когда его заперли, пришел в исступление, колотил в дверь и брал: «Говорю вам, я не пьян, слышите? Провалитесь вы все, я требую доктора! Я не пьян!» — в то время как Мулкастер из следующей камеры кричал: «Ну погодите, вы еще, клянусь богом, за это заплатите! Имейте в виду, вы делаете большую ошибку. Позвоните министру внутренних дел! Пришлите моих адвокатов! Я требую неприкосновенности личности!»
Из соседних камер неслись негодующие стоны бродяг и карманных воришек, которым не давали спать: «Эй, там! Утихомирьтесь!», «Дайте людям вздремнуть!», «Что здесь, каталажка или сумасшедший дом?» А сержант ходил от двери к двери и увещевал их через зарешеченные окошки: «Вы у меня всю ночь тут просидите, пока не протрезвеете!»
Я в унынии уселся на койку и задремал. Через некоторое время шум стих и раздался голос Себастьяна:
— Чарльз! Чарльз! Вы здесь?
— Здесь.
— Ну и в историю мы попали.
— Может, как-нибудь под залог выбраться? Мулкастер, как видно, спал.
— Я вам скажу, к кому надо обратиться — к Рексу Моттрему. Это по его части.
Мы не без труда связались с Рексом; я целых полчаса ждал, пока дежурный полисмен отзовется на мой звонок. Наконец он недоверчиво согласился позвонить в отель, где все еще продолжался бал. Последовало опять ожидание, и вот двери нашей темницы распахнулись.
В гнилой воздух полицейского участка, в кислую вонь грязи и дезинфекции просочился сладкий аромат гаванской сигары — вернее, двух гаванских сигар, ибо дежурный сержант тоже курил.
В канцелярии как воплощение влиятельности и богатства — и даже как пародия на них — возвышался Рекс Моттрем. На нем была шуба на меху с широкими каракулевыми лацканами и шелковый цилиндр. Полицейские чины держались почтительно и услужливо.
— Мы выполняли свой долг, — объяснили они. — Взяли молодых джентльменов под стражу ради их же собственного блага.
Мулкастер, мрачный с похмелья, завел было сбивчивую речь об ущемлении своих гражданских прав, но Рекс тихо сказал: «Лучше предоставьте все разговоры мне».
У меня была совершенно ясная голова, и я с восхищением наблюдал, как Рекс улаживает наше дело. Он ознакомился с протоколами ареста, приветливо поговорил с задержавшими нас полисменами, едва уловимым намеком приоткрыл вопрос о взятке и сразу же закрыл его, выяснив, что дело уже слишком далеко зашло и слишком многие в него посвящены; он дал подписку, что мы предстанем завтра в десять перед мировым судьей и увел нас с собою. Его автомобиль дожидался у подъезда.
— Отложим все обсуждения до утра. Где вы ночуете? — В Марчерсе, — ответил Себастьян. — Лучше поедем ко мне. Я вас устрою на ночь. И все хлопоты предоставьте мне.
Чувствовалось, что он упивается собственной деловитостью. Наутро впечатление это еще усилилось. Я проснулся со смешанным чувством недоумения и испуга в незнакомой комнате и в первые же сознательные секунды ко мне возвратилась память о минувшем вечере, сначала как о кошмаре, потом как о действительности. Камердинер Рекса распаковывал какой-то чемодан. Заметив, что я пошевелился, он подошел к умывальнику и налил что-то в стакан из бутылки.
— По-моему, я все привез из Марчмейн-хауса, — проговорил он. — А за этим мистер Моттрем специально посылал к «Хеппелю».
Я сделал глоток и почувствовал себя лучше. Человек от «Трампера» дожидался, чтобы побрить нас. За завтраком к нам присоединился Рекс.
— Важно произвести хорошее впечатление в суде, — сказал он нам. — По счастью, на ваших лицах не видно ни малейших следов вчерашнего кутежа.
После завтрака приезжал адвокат, и Рекс кратко описал нам положение дел.
— Сложнее всего с Себастьяном. Ему полагается до шести месяцев тюрьмы за вождение автомобиля в нетрезвом виде. К сожалению, судить будет Григг. Он придерживается довольно суровой точки зрения на такие дела. Сегодня мы будем только добиваться для Себастьяна отсрочки, чтобы подготовить защиту. Вы двое признаете себя виновными, выразите сожаление и заплатите по пяти шиллингов. Я посмотрю, что можно будет сделать с вечерними газетами. «Стар» может оказаться несговорчивой.
Запомните, самое главное — совершенно не допускать упоминаний о «Старой сотне». По счастью, девицы были трезвы и соответчиками не являются, но они записаны как свидетели. Если мы попробуем оспорить показания полиции, их тут же призовут. Этого следует избегать любой ценой, поэтому мы примем, не оспаривая, версию полиции и будем взывать к доброте судьи и просить, чтобы он не губил молодого человека из-за одной юношеской оплошности. Все пройдет как по нотам. Понадобится университетский преподаватель, чтобы дать ему хорошую характеристику. Джулия говорит, у вас есть один ручной по фамилии Самграсс. Как раз что надо. Вы же должны просто рассказать, что приехали из Оксфорда, на этот весьма респектабельный бал, не привыкли к вину, выпили лишнего и на пути домой заехали не помните куда. Позже надо будет утрясти это дело с вашим университетским начальством.
— Я им велел пригласить моих адвокатов, — сказал Мулкастер, — и они отказались. Это беззаконие, и я не понимаю, почему надо им это спускать.
— Бога ради не заводите пререканий. Признайте себя виновным и заплатите штраф. Вы поняли?
Мулкастер, ворча, подчинился.
В суде все произошло точно так, как предсказывал Рекс. В половине одиннадцатого мы уже стояли на улице, мы с Мулкастером — свободные люди, Себастьян — под обязательством явиться в суд через неделю. Мулкастер промолчал о своих юридических претензиях; нас с ним пожурили и заставили заплатить каждого по пять шиллингов штрафа и пятнадцать шиллингов судебных издержек. Общество Мулкастера начинало всерьез тяготить нас, и мы с облегчением вздохнули, когда он, сославшись на какие-то дела в городе, наконец нас покинул. Адвокат тоже куда-то спешил, и мы с Себастьяном остались у подъезда в одиночестве и унынии.
— Придется, наверное, сказать все маме, — жалобно проговорил он. — Проклятье! Холодно. Я домой пойду. Мне некуда идти. Давайте уедем тихонько в Оксфорд и подождем, пока, мы им понадобимся.
Жалкие завсегдатаи полицейских участков проходили мимо нас вверх и вниз по ступеням; мы стояли на ветру и не могли принять решения.
— Почему бы не посоветоваться с Джулией?
— Может, мне уехать за границу?
— Мой дорогой Себастьян, вам только сделают внушение и предпишут заплатить несколько фунтов штрафа.
— Да, но вся эта морока — мама, и Брайди, и родственники. и преподаватели. Лучше уж в тюрьму. Если я тихонько улизну за границу, они ведь не смогут меня оттуда выволочь, верно? Так всегда поступают люди, которых преследует полиция. Я знаю, мама повернет дело так, будто вся тяжесть удара досталась ей. — Давайте позвоним Джулии и условимся с ней где-нибудь встретиться.
Мы встретились у «Гантера» на Беркли-сквер. Джулия по моде того времени была в зеленой шляпе, низко надвинутой на лоб и приколотой бриллиантовой стрелкой; под мышкой она держала крохотную собачку, на три четверти упрятанную в меха. Она выказала к нам гораздо больше интереса, чем обычно.
— Ну, вы и хорошенькая парочка; надо сказать, вид у вас на удивление цветущий. Единственный раз, когда я напилась, я на следующий день не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Неужели вы не могли меня взять с собою? Бал был просто тоска зеленая, а мне всегда так хотелось побывать в «Старой сотне». И никто меня не берет. Как там было, восхитительно?
— Значит, ты тоже все уже знаешь?
— Рекс позвонил мне сегодня утром и все рассказал. А какие вам достались барышни?
— Не будь неприличной.
— Моя была похожа, на череп. — А моя на чахоточную.
— Ну и ну!
Нас явно возвысило в глазах Джулии то, что мы ездили к женщинам; для нее весь интерес был именно в этом.
— А мама знает?
— Про ваши черепа и чахоточных — нет. Она знает, что вы были в кутузке. Я ей сказала. Конечно, она отнеслась к этому по-ангельски. Ты ведь знаешь, все, что делал дядя Нед, прекрасно, а он однажды угодил за решетку за то, что привел на митинг, где выступал Ллойд Джордж, живого медведя; поэтому она держится вполне по-человечески. Она ждет вас обоих сегодня к обеду.
— О боже!
— Единственная беда — это газеты и родные. У вас тоже ужасная родня, Чарльз?
— У меня один отец. Он ни о чем не узнает.
— А у нас ужасная. Бедной маме предстоит вытерпеть от них бог знает что. Они будут слать письма, наносить сочувственные визиты, и все время половина из них в глубине души будет думать: «Вот к чему привело католическое воспитание», а другая половина будет думать: «Вот к чему привело обучение в Итоне, а не в Стонихерсте». Бедная мама никак на них не угодит.
Обедали мы у леди Марчмейн. Все случившееся она приняла с веселым смирением. И сделала только один упрек:
— Не понимаю, зачем вам понадобилось ночевать у мистера Моттрема. Разве вы не могли приехать ко мне и все мне рассказать?
— Что мне сказать нашим родным? — вздыхала она. — Они будут шокированы, когда поймут, что огорчены больше моего. Вы знаете мою золовку Фанни Роскоммон? Она всегда считала, что я плохо воспитала детей. Теперь я начинаю думать, что, может быть, она права.
Когда мы вышли, я сказал:
— Она была само доброжелательство. Чего вы боялись?
— Не могу вам объяснить, — уныло ответил Себастьян.
Неделю спустя состоялся суд, и Себастьяна оштрафовали на десять фунтов. Газеты уделили делу неприятно много внимания, одна даже дала ироническую шапку: «Сын маркиза не привык к вину». Судья заявил, что лишь благодаря своевременным действиям полиции ему не пришлось предстать перед судом по более тяжкому обвинению. «Чистая случайность, что вы не оказались в ответе за серьезное несчастье…» Мистер Самграсс засвидетельствовал, что Себастьян пользуется безупречной репутацией и что под угрозой находится блестящая университетская карьера. Эту тему тоже подхватили газеты:
«Будущее образцового студента поставлено на карту». Судья заявил, что, если бы не свидетельство мистера Самграсса, он бы склонился к тому, чтобы вынести по делу воспитательный приговор; закон ведь один и для оксфордского студента, и для любого юного правонарушителя; даже более того, чем благополучнее дом, тем позорнее проступок…
Мистер Самграсс оказался неоценим не только на Бау-стрит. В Оксфорде он выказал столько же рвения и находчивости, сколько Рекс Моттрем в Лондоне. Он беседовал с начальством, с инспекторами, с помощником ректора; убедил монсеньера Белла съездить к декану Себастьянова колледжа; устроил для леди Марчмейн прием у самого ректора; и в результате нас троих посадили до конца семестра «под вечерний замок». Хардкаслу, опять неизвестно по каким мотивам, запретили пользоваться автомобилем, и на том все дело и кончилось. Самой долгой карой была близость с Рексом Моттремом и мистером Самграссом, но так как жизнь Рекса протекала в Лондоне, в мире политики, а мистер Самграсс был в Оксфорде, рядом с нами, от него мы страдали больше.
Он преследовал нас до конца семестра. Оказавшись «под вечерним замком», мы не могли проводить вечера вместе и с девяти часов находились в одиночестве, на милости мистера Самграсса. Не проходило вечера, чтобы он не заглянул к одному из нас. Он говорил о «нашей маленькой эскападе» так, словно он тоже посидел за решеткой и это объединяло нас. Один раз я перелез через стену, и мистер Самграсс застал меня у Себастьяна после закрытия ворот и из этого тоже сделал общий секрет, объединяющий его с нами. Поэтому я нисколько не удивился, когда приехал после Рождества в Брайдсхед и нашел там мистера Самграсса, который словно поджидал меня, сидя один у камина в комнате, которую они называли Гобеленовым залом.
— Вы застаете меня здесь единственным владельцем, — сказал он мне, и когда он встал мне навстречу и гостеприимно протянул руку, действительно казалось, будто он владеет этим залом и темными сценами охоты, развешанными по его стенам, владеет кариатидами по обе стороны камина, владеет мною самим. — Нынче утром, — продолжал он, — здесь был смотр марчмейнской своры, восхитительно архаическое зрелище, и сейчас все наши юные друзья уехали на лисью охоту, включая даже Себастьяна, который, как вы сами понимаете, был на редкость элегантен в своем розовом казакине. Брайдсхед выглядел скорее солидно, чем элегантно; он исполняет роль главы местных охотников на пару с неким сэром Уолтером Стриклэнд-Винеблсом, здешней комической достопримечательностью. Жаль, что их изображения нельзя поместить на эти весьма посредственные гобелены — они внесли бы в них немного фантазии.
Наша хозяйка осталась дома; не поехал также монах-доминиканец на поправке, читавший слишком много Маритена и слишком мало Гегеля, и, разумеется, Адриан Порсон, а также два довольно суровых венгерских кузена — я испытал их по-немецки и по-французски, и ни на том, ни на другом языке они нисколько не занимательны. Все эти лица отбыли сейчас с визитом к соседям. А я коротал вечерок у огня за чтением несравненного Карлуса. Ваше прибытие придало мне отваги, и я сейчас позвоню, чтобы подали чай. Как мне подготовить вас к встрече со здешним обществом? Увы, завтра все будет кончено: леди Джулия уезжает куда-то встречать Новый год и увозит с собою весь beau-monde[42]. Мне будет недоставать этих прелестных созданий — в особенности одной из них, по имени Селия; она приходится родной сестрой нашему давнему товарищу по несчастью Бою Мулкастеру и имеет с ним на диво мало сходства. Она беседует, как птичка, по крупинке расклевывая предмет разговора в самой пленительной манере, и носит туалеты а la школьница, что я лично нахожу весьма пикантным. Мне будет недоставать ее, говорю я, потому что я завтра не уезжаю. Завтра я всерьез приступаю к работе над книгой хозяйки дома — рукописи, кстати сказать, представляют собою кладезь сокровищ своей эпохи, подлинный и неподдельный 1914 год.
Подали чай, и вскоре вслед за тем вернулся Себастьян. Он объяснил, что давно отбился от охоты и потихоньку потрусил к дому; за ним появились остальные охотники — их под вечер подобрал автомобиль; не видно было только Брайдсхеда, у него были еще дела в собачнике, и вместе с ним туда отправилась Корделия. Гости и домочадцы собрались в зале, и вскоре все уже утоляли голод яичницей и сдобными булочками; мистер Самграсс, который раньше спокойно пообедал и подремал у камина, тоже ел вместе со всеми яичницу и булочки. Потом приехала и леди Марчмейн со своим сопровождением, и, когда мы расходились по комнатам переодеваться к ужину, она сказала: «Кто со мною в часовню?» Себастьян и Джулия ответили, что должны немедленно принять ванну, и тогда вместе с нею и монахом-доминиканцем пошел мистер Самграсс.
— Я бы хотел, чтобы мистер Самграсс уехал, — сказал Себастьян, сидя в ванне. — Мне осточертело все время быть ему благодарным.
В продолжение следующих двух недель нелюбовь к мистеру Самграссу стала секретом, который делили между собою все домочадцы: в его присутствии прекрасные старые глаза сэра Адриана Порсона обращались к какому-то дальнему горизонту, а его губы складывались в гримасу классического пессимизма. Одни только венгерские кузены, неправильно оценив социальное положение университетского наставника и принимая его за кого-то из слуг, никак не реагировали на его присутствие.
Все разъехались, и остались только мистер Самграсс, сэр Адриан Порсон, венгры, монах, Брайдсхед, Себастьян и Корделия.
В доме властвовала религия — не только в часовне, в ежедневных мессах и молитвах, утренних и вечерних, но и во всех разговорах.
— Мы должны сделать из Чарльза католика, — заявила леди Марчмейн, и за то время, что я у них гостил, она нередко заводила со мною душевные разговоры, осторожно направляя их в божественную сторону. После первого такого разговора Себастьян спросил:
— Что, мама вела с вами свой знаменитый «разговор по душам»? Она без этого не может. Проклятье.
На эти разговоры по душам никогда не приглашали и специально их не подстраивали; просто как-то само собой выходило, что если ей хотелось поговорить, то ты оказывался с нею наедине — летом где-нибудь в тенистой аллее над прудом или в прохладном уголке розового питомника, а зимой в ее комнате на втором этаже.
Эта комната была ее собственным созданием; она выбрала ее для себя и переделала настолько, что, переступая порог, ты словно попадал в другой дом. Потолки были опущены и сложный карниз, в том или ином виде украшавший каждую комнату, оказался недоступен взгляду, стены, некогда обтянутые парчой, были оголены, выкрашены голубой клеевой краской, по которой шли вразброс миниатюрные акварельные пейзажики; в воздухе стоял сладкий аромат цветов и высушенных пахучих трав. Собственная библиотека леди Марчмейн — много раз читанные томики стихов и религиозных сочинений в мягких кожаных переплетах — заполняла небольшой шкаф из розового дерева; каминная доска была заставлена дорогими ей вещицами — здесь была статуэтка мадонны из слоновой кости, гипсовый святой Иосиф, здесь же стояли последние фотографии ее трех героев братьев. Когда мы с Себастьяном жили в то ослепительное лето в Брайдсхеде одни, в комнату его матери мы не заходили.
Вместе с комнатой вспоминаются обрывки разговоров. Помню, как она говорила:
— Когда я была девушкой, наша семья была сравнительно бедной, но все-таки много богаче, чем большинство людей, а когда я вышла замуж, то стала очень богатой. Раньше меня это мучило, и я думала, что дурно иметь так много красивых вещей, когда у других нет ничего. Теперь же я поняла, что богатому легко согрешить завистью к бедным. Бедные всегда были любимыми детьми у бога и святых, но я полагаю, что можно и должно достигнуть такой благодати, чтобы принимать жизнь целиком, включая богатство. В языческом Риме богатство непременно означало нечто жестокое, но теперь это вовсе не обязательно.
Я сказал что-то про верблюда и игольное ушко, и она радостно подхватила эту тему.
— Но конечно же, — сказала она, — очень мало вероятно, чтобы верблюд прошел через игольное ушко. Но ведь писание — это просто каталог маловероятных вещей. Разве вероятно, чтобы бык и осел поклонялись младенцу? Вообще животные в житиях святых совершают удивительнейшие поступки. Это и есть поэтическая, сказочная сторона религии.
Но я не поддался ее религии, как не поддался и ее обаянию, вернее, поддался тому и другому в равной мере. Мне тогда ни до чего не было дела, кроме Себастьяна, и я уже чувствовал нависшую над ним угрозу, хотя и не подозревал еще, как она страшна. Он неотступно и отчаянно молил только об одном: чтобы его оставили в покое. У голубых вод своей души, под шелестящими пальмами он был счастлив и миролюбив, как полинезиец; только когда за коралловым рифом бросил якорь большой корабль, и к песчаному берегу лагуны пристала шлюпка, и вверх по склону, не знавшему отпечатка сапога, устремилось грозное вторжение торговца, правителя, миссионера и туриста — только тогда настало время выкопать из земли допотопное племенное оружие и бить в барабаны в горах или же, еще того проще, уйти с солнечного порога в темную глубину хижины и на земляном полу у стены, по которой шествуют упраздненные рисованные боги, лежать дни и ночи, надрываясь от кашля, в окружении бутылок из-под рома.
А так как для Себастьяна среди нарушителей его покоя были и его собственная совесть, и все человеческие привязанности, дни его в Аркадии были сочтены. Ибо в то для меня столь безмятежное время Себастьян учуял опасность. Мне было знакомо это его тревожное, подозрительное настроение, когда он, словно олень, вдруг поднимал голову при первом отдаленном звуке охоты; я видел и раньше, как он весь настораживался, когда речь заходила о его семье или его религии; теперь же я обнаружил, что тоже нахожусь под подозрением. Любовь его не стала холодней, но стала безрадостной, ибо я не делил с ним больше его одиночества. Чем больше я сближался с членами его семьи, тем неотвратимее становился частью того внешнего мира, от которого он пытался спастись; я делался еще одной цепью, приковывавшей его к чуждому миру. Именно эту роль старалась мне навязать его мать своими задушевными беседами. Но прямо ничего не говорилось. Я только смутно чувствовал, и то далеко не всегда, что происходит вокруг.
Внешне единственным врагом был мистер Самграсс. Мы с Себастьяном прожили в Брайдсхеде две недели, предоставленные главным образом самим себе. Брат его был занят спортом и делами имения; мистер Самграсс сидел в библиотеке и работал над книгой леди Марчмейн; сэр Адриан Порсон занимал почти все ее время. Мы встречались с остальными только по вечерам; под этой просторной крышей хватало места для нескольких независимых друг от друга жизней.
По прошествии двух недель Себастьян сказал:
— Не могу больше выносить мистера Самграсса. Поедемте в Лондон.
Мы уехали, и он остановился у нас и с тех пор стал отдавать предпочтение моему дому перед «Марчерсом». Отцу он понравился.
— Я нахожу твоего друга забавным, — сказал он мне. — Почаще приглашай его.
Позже, опять в Оксфорде, мы вернулись к прежней жизни, но она словно уходила у нас из-под ног. Грусть, охватывавшая Себастьяна и в прошлый семестр, теперь превратилась в постоянную хмурость, даже по отношению ко мне. Где-то на сердце у него лежала боль, но природы ее я не знал и только сострадал ему, понимая, что бессилен помочь.
Если он бывал весел теперь, это означало, что он пьян, а пьяный он бывал одержим идеей «извести мистера Самграсса». Он сочинил куплеты с припевом «Самграсс — свиней пас!» на мотив боя курантов Святой Марии и не реже чем раз в неделю устраивал у него под окнами серенады. Мистер Самграсс удостоился чести первым среди преподавателей получить домашний телефон. Подвыпивший Себастьян звонил ему по этому телефону и напевал в трубку свое немудреное сочинение. И все это мистер Самграсс принимал, как говорится, с доброй душой, при встрече улыбался заискивающе, но раз от разу все увереннее, словно каждое полученное оскорбление каким-то образом укрепляло его власть над Себастьяном.
В том семестре я начал понимать, что Себастьян — пьяница совсем в другом смысле, чем я. Я напивался часто, но от избытка жизненных сил, радуясь мгновению и стремясь продлить, испить его до дна; Себастьян пил, чтобы спрятаться от жизни. Чем старше и серьезнее мы оба становились, тем меньше пил я и тем больше он. Я узнал, что нередко после моего ухода он допоздна засиживался один, накачиваясь вином. Несчастья обрушились на него в такой быстрой последовательности и с такой жестокой силой, что даже трудно сказать, когда я впервые понял, что мой друг в беде. На пасхальные каникулы я уже это ясно видел.
Джулия любила говорить: «Бедняжка Себастьян. Это в нем что-то химическое». Так было модно выражаться в те годы, отдавая дань популярным фантастическим представлениям о науке. «Между ними что-то химическое», — говорилось о двух людях, испытывающих друг к другу непреодолимую ненависть или любовь. То была старинная концепция детерминизма, только в новой форме. Я не считаю, что в моем друге было что-то химическое.
Пасхальные каникулы в Брайдсхеде прошли печально и завершились меленьким, но незабываемо грустным происшествием. Себастьян страшно напился перед ужином в материнском доме и тем ознаменовал начало нового периода своей плачевной жизни, сделав еще один шаг в бегстве от семьи, приведшей его к гибели.
Это произошло на исходе того дня, когда из Брайдсхеда разъехалась пасхальные гости. В сущности, пасхальные гости собрались только во вторник на пасхальной неделе, потому что время со страстного четверга до пасхи все Флайты проводили в молитвенном уединении на подворье какого-нибудь монастыря. В этом году Себастьян сказал сначала, что не поедет, но в последний момент уступил и вернулся домой в состоянии глубокой подавленности, из которой я оказался бессилен его вывести.
Он пил уже целую неделю — только я один знал, как много, — пил нервно, тайком, совсем не так, как когда-то. Пока в доме гостил народ, в библиотеке всегда стоял винный поднос, и Себастьян завел привычку заглядывать туда в разное время дня, не сказавшись даже мне. Днем в доме часто никого не было. Я трудился в маленькой садовой комнате, разрисовывая еще одну панель. Себастьян, сославшись на простуду, оставался дома и все это время почти не бывал трезвым; внимания он избегал, по целым дням не произнося ни слова. Время от времени я замечал бросаемые на него удивленные взгляды, но никто из гостей не знал его настолько близко, чтобы заметить перемену, а родные все были поглощены каждый своими гостями.
Когда я заговорил с ним об этом, он сказал:
— Не могу выносить всю эту публику.
Но только когда «вся эта публика» уехала и он остался лицом к лицу со своими домашними, произошел срыв.
По заведенному порядку поднос для коктейлей ставили в гостиной ровно в шесть; каждый наливал себе что хотел, а когда мы уходили одеваться к ужину, поднос уносили; позднее, уже перед самым ужином, коктейли появлялись снова, теперь уже разносимые лакеями.
После чая Себастьян исчез; свет померк, и я провел следующий час, играя в ма-джонг с Корделией. В шесть часов я сидел в гостиной один, как вдруг он вошел с хмурой гримасой, которую я слишком хорошо знал, и в голосе его, когда он заговорил, была знакомая мне пьяная хрипота.
— Что, коктейли еще не принесли? — Он неуклюже дернул сонетку. Я спросил:
— Где вы были?
— Наверху у няни.
— Не верю. Вы пили где-то.
— Я сидел у себя в комнате и читал. У меня насморк. Сегодня хуже.
Когда появился поднос, он плеснул себе в стакан джина и вермута и унес. Я пошел за ним, но наверху он захлопнул у меня перед носом дверь своей комнаты и повернул ключ.
Я вернулся в гостиную, полный тоски и дурных предчувствий.
Собралась семья. Леди Марчмейн спросила:
— Куда запропастился Себастьян?
— Он пошел к себе и лег. У него разыгралась простуда.
— Ах господи, надеюсь, это не инфлуэнца. Последние дни я замечала, что его как будто бы лихорадит. Ему ничего не нужно?
— Нет. Он просил, чтобы его ни в коем случае не беспокоили.
У меня мелькнула мысль поговорить с Брайдсхедом, но его суровая, гранитная маска исключала всякую откровенность. С горя я сказал перед ужином Джулии:
— Себастьян пьет.
— Что вы! Он даже не спускался за коктейлем.
— Он пьет у себя в комнате с самого обеда.
— Вот скука. Какое странное занятие. Он сможет выйти к ужину?
— Нет.
— Ну, придется вам о нем позаботиться. Это не мое дело. Часто он этим занимается?
— В последнее время часто.
— Как это скучно.
Я попробовал толкнуть дверь Себастьяна, убедился, что она заперта, и от души понадеялся, что он спит, но, вернувшись к себе в комнату из ванной, застал его сидящим у моего камина. Он был совсем одет к ужину, не считая ботинок, но галстук его был повязан криво, а волосы торчали дыбом; лицо его пылало, глаза чуть заметно косили. Речь его звучала невнятно.
— Чарльз, вы были правы. Не у няни. Пил виски здесь. В библиотеке теперь нет, раз гости уехали. Все уехали, одна мама. Я, кажется, сильно пьян. Думаю, пусть мне лучше принесут чего-нибудь сюда поесть. Чем ужинать с мамой.
— Ложитесь в постель, — сказал я ему. — Я объясню, что вы чувствуете себя хуже.
— Гораздо хуже.
Я отвел его к нему в комнату, которая была рядом с моей, и попытался уложить в постель, но он остался сидеть перед туалетным столиком, разглядывая свое отражение и стараясь перевязать галстук. На письменном столе у камина стоял графин, до половины наполненный виски. Я взял его, думая, что Себастьян не увидит, но он рывком обернулся от зеркала и сказал:
— Поставьте на место.
— Не будьте ослом, Себастьян. Вы уже достаточно выпили.
— А вам-то какое дело? Вы здесь только гость, мой гость. И я пью что хочу в моем собственном доме. Он готов был полезть в драку.
— Ну хорошо, — сказал я, ставя графин на место, — только бога ради не показывайтесь никому на глаза.
— Не ваша забота. Вы приехали сюда как мой друг, а теперь шпионите за мною по маминому поручению, я знаю. Так вот, можете убираться и передайте ей от меня, что впредь я сам буду выбирать себе друзей, а она пусть сама выбирает себе шпионов, мне они не нужны.
Так я его оставил и спустился к ужину.
— Я был у Себастьяна, — объявил я. — Его простуда разыгралась не на шутку. Он лег в постель и сказал, что ему ничего не нужно.
— Бедняжка Себастьян, — сказала леди Марчмейн. — Надо ему выпить стакан горячего виски. Я схожу погляжу, как он.
— Не ходи, мама, я пойду, — сказала Джулия, поднимаясь.
— Пойду я, — сказала Корделия, которая ужинала сегодня со взрослыми по случаю отъезда гостей. И прежде чем кто-либо мог ее остановить, она уже была на пороге и скрылась за дверью.
Джулия встретилась со мною взглядом и чуть заметно печально пожала плечами.
Через несколько минут Корделия вернулась, и лицо ее было очень серьезно.
— Нет, ему ничего не надо, — сказала она.
— Ну а как он?
— Не знаю, конечно, но по-моему, он очень пьян, — ответила она.
— Корделия!
И тут девочку разобрал смех.
— «Сын маркиза не привык к вину», — бормотала она, хихикая. — «Карьера образцового студента под угрозой».
— Чарльз, это правда?
— Да.
Тут объявили, что ужинать подано, и все пошли в столовую; там эта тема не затрагивалась.
Когда мы с Брайдсхедом остались одни, он спросил:
— Вы, кажется, сказали, что Себастьян пьян?
— Да.
— Какое неподходящее время он выбрал. Вы не могли его удержать от этого?
— Нет.
— Да, — согласился Брайдсхед, — вероятно, это было невозможно. Я однажды видел пьяным отца в этой самой комнате. Мне тогда было не больше десяти. Невозможно удержать человека, если он хочет напиться. Наша мать не могла удержать отца.
Он говорил в своей всегдашней странно-безличной манере. Чем ближе я знакомился с этой семьей, тем непостижимее они мне казались.
— Сегодня вечером я попрошу маму почитать нам вслух.
В доме был обычай, как я узнал позднее, слушать чтение леди Марчмейн, всякий раз как в семье оказывалось что-нибудь неблагополучно. У нее был красивый голос и большая живость выражения. В тот вечер она читала «Мудрость патера Брауна». Джулия разложила перед собой на табуреточке маникюрные принадлежности и старательно перекрывала лаком ногти; Корделия гладила ее болонку; Брайдсхед раскладывал пасьянс; я сидел без дела, рассматривая живописную группу, которую они составляли, и сокрушаясь по своем отсутствующем друге.
Но ужасы этого дня еще не кончились.
Леди Марчмейн имела обыкновение, когда в доме были только свои, заходить перед сном в часовню. Она как раз закрыла книгу и предложила пойти туда, когда распахнулась дверь и вошел Себастьян. Он был одет точно так, как при нашем последнем разговоре, только вместо румянца его лицо заливала смертельная бледность.
— Пришел извиниться, — пробормотал он.
— Себастьян, дорогой, будь добр, вернись к себе в комнату, — сказала леди Марчмейн. — Мы успеем поговорить утром.
— Не перед вами. Пришел извиниться перед Чарльзом. Я по-свински с ним обошелся, а он мой гость. Мой гость и мой единственный друг, а я обошелся с ним по-свински.
Холодок пробежал по столовой. Я отвел Себастьяна в его комнату; его родные пошли к молитве. Наверху я заметил, что графин уже пуст.
— Вам пора лечь спать, — сказал я. Тогда Себастьян заплакал.
— Почему, почему вы принимаете их сторону против меня? Я знал, что так будет, если я вас познакомлю. Почему вы шпионите за мной?
Он говорил еще много такого, что мне мучительно вспоминать даже теперь, через двадцать лет. Наконец мне удалось его уложить, он уснул, и я печально отправился к себе.
На следующее утро он вошел ко мне чуть свет, когда весь дом еще спал; он раздернул шторы, и, проснувшись от этого звука, я увидел его — он стоял ко мне спиной, одетый, курил и глядел в окно туда, где длинные рассветные тени лежали на росе и первые птицы пробовали голоса среди распускающейся листвы. Я заговорил, он обернулся, и на лице его я не нашел ни малейших следов вчерашнего опустошения — это было свежее, хмурое лицо обиженного ребенка.
— Ну, — сказал я, — как вы себя чувствуете?
— Довольно странно. Наверно, я еще немного пьян. Я сейчас ходил на конюшню, думал взять автомобиль, но там все заперто. Мы уезжаем.
Он выпил воды из графина у моего изголовья, выбросил в окно сигарету и закурил новую; руки его дрожали, как у старика.
— Куда же вы собираетесь?
— Не знаю. Видимо, в Лондон. Можно мне поехать к вам?
— Разумеется.
— Ну хорошо. Одевайтесь. Вещи пусть пришлют поездом.
— Мы не можем так уехать.
— Мы не можем здесь оставаться. Он сидел на подоконнике и, отвернувшись, смотрел в окно. Потом вдруг сказал:
— Вон из труб кое-где идет дым. Наверно, уже отперли конюшни. Пойдем.
— Я не могу так уехать, — сказал я. — Я должен попрощаться с вашей матерью.
— Верный пудель.
— Просто я не люблю удирать.
— А мне нет дела. И я все равно удеру как можно дальше и как можно скорее. Можете сговариваться с моей матерью о чем хотите, я не вернусь.
— Так вы говорили вчера.
— Знаю. Простите, Чарльз. Я же сказал, что еще немного пьян. Если для вас это хоть какое-то утешение, могу вам сказать, что я омерзителен самому себе.
— Для меня это совсем не утешение.
— Немного все-таки должно вас утешить, по-моему. Ну хорошо, если вы не едете, передайте от меня привет няне.
— Вы в самом деле уезжаете?
— Конечно.
— Мы увидимся в Лондоне?
— Да, я остановлюсь у вас.
Он ушел, но я больше заснуть не смог. Часа через два пришел слуга, принес чай, хлеб и масло и приготовил мою одежду для нового дня.
Позже я пошел к леди Марчмейн; на дворе поднялся сильный ветер, и мы остались дома; я сидел у камина в ее комнате, она склонилась над рукоделием, и побег плюща с распустившимися почками бился о стекло.
— Если б только я не видела его, — говорила она. — Это было жестоко. Мне не так страшно думать о том, что он был пьян. Это случается со всеми мужчинами, когда они молоды. Я знаю и привыкла, что так бывает. Мои братья в его возрасте были настоящие буяны. Мне было больно вчера, потому что я видела, что ему плохо.
— Я понимаю, — сказал я. — Я еще никогда не видел его таким.
— И как раз вчера… когда все разъехались и остались только свои — видите, Чарльз, я отношусь к вам совершенно как к родному, Себастьян вас любит, — когда ему не было нужды изображать веселье. И он не был весел. Я почти не спала сегодня, и все время меня терзала одна мысль: ему плохо.
Мне невозможно было ей объяснить то, что я сам понимал еще только наполовину, но уже тогда у меня мелькала мысль:
«Она скоро сама узнает. А может быть, знает и теперь».
— Да, это было ужасно, — сказал я. — Но пожалуйста, не думайте, что он всегда такой.
— Мистер Самграсс говорит, что в минувшем семестре он слишком много пил.
— Да, но не так, как вчера. Так еще не было никогда.
— Но почему же тогда вчера? Здесь? С нами? Я всю ночь думала, и молилась, и ломала голову, как мне с ним говорить, а утром оказалось, что он уехал. Это было жестоко — уехать, не сказав ни слова. Не хочу, чтобы он стыдился; из-за того, что ему стыдно, и получается все так нехорошо.
— Он стыдится, что ему плохо, — сказал я.
— Мистер Самграсс говорит, что он очень оживлен и шумлив. Насколько я понимаю, — добавила она, и легкий отсвет улыбки мелькнул среди туч, — насколько я понимаю, вы и он занимаетесь тем, что дразните мистера Самграсса. Это дурно. Я очень ценю мистера Самграсса. И вы тоже должны его ценить после всего, что он для вас сделал. Впрочем, может быть бы мне было столько лет, сколько вам, и я была юношей, мне бы и самой хотелось иногда подразнить мистера Самграсса. Нет, такие шалости меня не пугают, но вчерашний вечер и сегодняшнее утро — это уже совсем другое. Видите ли, все это уже было.
— Могу только сказать, что часто видел его пьяным и сам часто пил вместе с ним, но то, что было вчера, для меня совершенно внове.
— О, я имею в виду не Себастьяна. Это было много лет назад. Я один раз уже прошла через это с человеком, который был мне дорог. Ну, да вы должны знать, о ком идет речь — это был его отец. Он напивался вот таким же образом. Мне говорили, что теперь он переменился. Молю бога, чтобы это было правдой, и, если это действительно так, благодарю его от всего сердца. Но нынешнее бегство — тот ведь тоже убежал, вы знаете. Он, как вы верно сказали, стыдился того, что ему плохо. Обоим им плохо, обоим стыдно — и оба обращаются в бегство. Какая прискорбная слабость. Мужчины, с которыми я росла — ее большие глаза оторвались от вышивания и устремились к трем миниатюрным портретам в складной кожаной рамке, — были не такими. Я просто не понимаю этого. А вы, Чарльз?
— Тоже не очень.
— А ведь Себастьян привязан к вам больше, чем к кому-либо из нас. Вы должны ему помочь. Я бессильна.
Я сжал до нескольких фраз то, что было высказано в многих фразах. Леди Марчмейн не была многоречива, но она обращалась с предметом разговора по-женски жеманно, кружа поблизости, подступая и вновь отступая и прикидываясь незаинтересованной; она порхала над ним, точно бабочка; играла в «тише едешь — дальше будешь», украдкой от собеседника подвигаясь к цели и останавливаясь как вкопанная под наблюдающим взглядом. Им плохо, и они обращаются в бегство — вот что было ее горем, и это все, что я понял из ее слов. Чтобы выговориться, ей понадобился целый час. В заключение, когда я уже встал, чтобы раскланяться, она сказала, словно только что вспомнила:
— Кстати, вы видели книгу моего брата? Она только что вышла.
Я сказал, что пролистал ее у Себастьяна в комнате.
— Мне хотелось бы, чтобы она у вас была. Можно, я подарю вам? Они все трое были блестящие мужчины. Нед был из них лучшим. Его убили последним, и, когда пришла телеграмма — а я знала, что она придет, — я подумала: «Теперь черед моего сына осуществить то, что никогда уже не сделает Нед». Я была в те дни одна. Себастьян только что уехал в Итон. Если вы прочтете книгу Неда, вы поймете.
Экземпляр книги лежал наготове у нее на бюро. И мне подумалось: «Такое прощание у нее было запланировано еще до того, как я вошел. Может быть, она весь разговор отрепетировала заранее? А если бы все пошло иначе, она, наверное, положила бы книжку обратно в стол?»
Она написала на форзаце мое и свое имя, число и место.
— Сегодня ночью я молилась и за вас, — сказала она. Я закрыл за собой дверь, оставив позади bondieuserie[43], и низкие потолки, и ситцевую обивку в цветочек, и кожаные переплеты, и виды Флоренции, и вазы с гиацинтами, и чаши с цветочными лепестками, и petit-point[44] — укромный женский современный мир — и очутился снова под сводчатыми ячеистыми потолками, среди колонн и карнизов главного холла в возвышенной мужской атмосфере лучшего века. Я не был дураком, и я был достаточно взрослым, чтобы понимать, что меня пытались подкупить, но я был настолько еще молод, что испытал от этого чувство удовлетворения, Джулию я в то утро так и не видел, но, когда я уже отъезжал к дверце машины подбежала Корделия и сказала:
— Вы увидите Себастьяна? Передайте ему от меня самый сердечный привет. Не забудете? Самый сердечный.
В лондонском поезде я читал подаренную леди Марчмейн книгу. На фронтисписе была помещена фотография молодого человека в гренадерской форме, и я отчетливо увидел, откуда происходит та каменная маска, которая у Брайдсхеда легла на тонкие и живые черты его отца; то был обитатель лесов и пещер, охотник, старейшина племенного совета, хранитель суровых преданий народа, ведущего постоянную войну со своей средой. В книге были и другие иллюстрации — снимки трех братьев на отдыхе, и в каждом лице я различил те же первобытные черты; вспоминая леди Марчмейн, нежную и томную, я не находил в ней сходства с этими сумрачными мужчинами.
Она почти не фигурировала в книге; она была девятью годами старше старшего из братьев и вышла замуж и покинула дом, когда они еще учились в школе; между нею и братьями шли еще две сестры; после рождения третьей дочери были совершены паломничества и акты благотворительности с целью вымолить рождение сына, ибо семья имела обширные владения и старинное имя; наследники мужского пола появились поздно, но зато в избытке, который тогда казался гарантией продолжения рода, столь внезапно и трагически на них оборвавшегося.
История их семьи была типична для католической земельной аристократии в Англии; со времен Елизаветы и до конца царствования Виктории они вели замкнутую жизнь в окружении родичей и арендаторов, сыновей отсылали учиться за границу, откуда они нередко привозили себе жен, а если нет, тогда роднились браками с еще несколькими семействами в таком же положении, как они, и жили, лишенные возможностей карьеры, усваивая уже в тех потерянных поколениях уроки, содержащиеся и в жизни трех последних мужчин в роду.
Умелый редактор, мистер Самграсс собрал удивительно однородный томик — стихи, письма, отрывки из дневников, несколько неопубликованных эссе, и все это дышало суровыми вдохновенным подвижничеством и рыцарственностью не от мира сего; были там и письма кое-кого из сверстников, написанные после смерти ее братьев, и каждое, ясней или глуше, излагало все ту же повесть о замечательных мужчинах, которые в пору великолепного духовного и физического расцвета, пользуясь всеобщей любовью и столь много обещая в будущем, стояли в каком-то смысле особняком среди товарищей, были мучениками в венцах, предназначенными к жертвоприношению. Этим людям было суждено умереть и очистить мир для грядущего Хупера; это были аборигены, жалкая нечисть в глазах закона, которую следовало перестрелять, чтобы мог, ничего не опасаясь, появиться коммивояжер в квадратном пенсне, с его потным рукопожатием и обнаженными в улыбке вставными челюстями. И под стук колес поезда, увозившего меня все дальше от леди Марчмейн, я думал, что, может быть, на ней тоже лежит этот гибельный отсвет, помечая ее самое и присных ее на уничтожение средствами иными, чем война. Кто знает, может быть, в красном пламени уютного камина ее глаза различали зловещий знак, а слух улавливал в шелесте плюща по стеклу неумолимый шепот рока?
Потом был Паддингтонский вокзал, а когда я добрался домой, меня ждал Себастьян, и ощущение трагедии тут же исчезло, потому что он был весел и беззаботен, как в дни нашего первого знакомства.
— Корделия просила передать вам самый сердечный привет.
— У вас был «разговор по душам» с мамой?
— Да.
— И как, вы перешли на ее сторону? Накануне я ответил бы: «Никакой ее стороны не существует». Теперь я сказал:
— Нет. Я с вами, Себастьян, «contra mundum»[45]. И больше мы ни тогда, ни потом не обмолвились об этом ни словом.
Но тени вокруг Себастьяна все сгущались. Мы возвратились в Оксфорд, и под моими окнами опять цвели левкои, каштановые свечи освещали улицы, роняя на теплый булыжник белые хлопья; но все было не так, как прежде; в сердце Себастьяна царила зима. Проходили недели; мы решили подыскать квартиру на будущий семестр и нашли на Мертон-стрит, в уединенном богатом доме поблизости от теннисного корта.
Встретившись с мистером Самграссом, которого мы последнее время видели уже не так часто, я рассказал ему о нашем выборе. Он стоял над прилавком у Блэквелла, где были разложены недавно полученные немецкие книги, и откладывал в стопку те, что собирался приобрести.
— Вы снимаете квартиру вместе с Себастьяном? — спросил он. — Значит, он будет в Оксфорде следующий семестр?
— Надеюсь. Почему бы ему не быть?
— Не знаю. Просто я так подумал. Но я в таких делах постоянно ошибаюсь. Мертон-стрит мне нравится.
Он показал мне купленные книги, которые ввиду моего незнания немецкого языка не представляли для меня интереса. Когда мы прощались, он сказал:
— Извините, если я вмешиваюсь не в свое дело, но я бы повременил окончательно договариваться на Мертон-стрит впредь до полной ясности.
Я передал этот разговор Себастьяну, и он сказал:
— Да, у них там заговор. Мама хочет, чтобы я жил у монсеньера Белла.
— Почему вы не рассказали мне об этом?
— Потому что я не буду жить у монсеньера Белла.
— Все равно вы могли бы сказать мне. Когда это началось?
— О, давно уже. Мама, знаете ли, очень проницательна. Она поняла, что потерпела с вами неудачу. Вероятнее всего, по письму, которое вы ей прислали, прочитав книгу дяди Неда.
— Но я ничего там не написал.
— Вот именно. Если бы вы готовы были ей помочь, вы написали бы много всего. Понимаете, дядя Нед — это проверка.
Но она, видимо, еще не вполне потеряла надежду, потому что через несколько дней я получил от нее такую записку:
«Буду в Оксфорде проездом во вторник и надеюсь видеть вас и Себастьяна. Мне хотелось бы поговорить с вами несколько минут наедине, до того как я встречусь с ним. Это не слишком большое одолжение? Заеду к вам около двенадцати».
Она заехала, выразила восхищение моим жилищем.
— … Мои братья Саймон и Нед учились здесь. У Неда окна выходили в сад. Я хотела, чтобы Себастьян тоже поступил сюда, но мой муж учился в колледже Христовой церкви, а как вы знаете, образованием Себастьяна распоряжался он. — Она похвалила мои рисунки: — Всем очень нравятся ваши росписи в садовой комнате. Мы никогда не простим вам, если вы не завершите их.
Наконец она подошла к тому, ради чего приехала. — Вы, наверное, и сами уже догадались, о чем я хочу вас спросить. В этом семестре Себастьян много пил? Я уже догадался и ответил:
— Если бы это было так, я бы не дал вам никакого ответа, но я могу сказать: нет.
Она сказала: — Верю вам. Слава богу! — И мы пошли вместе обедать в колледж Христовой церкви.
Вечером того же дня с Себастьяном в третий раз случилась беда; он был задержан около часа ночи помощником декана, когда, пьяный до ослепления, тыкался из угла в угол на университетском дворике.
Я простился с ним незадолго до полуночи; он был мрачен, но абсолютно трезв. За час, прошедший после моего ухода, он один выпил полбутылки виски. В памяти у него мало что удержалось, когда он пришел ко мне наутро и рассказал об этом.
— И часто вы так поступали, — спросил я, — напивались в одиночку после моего ухода?
— Раза два. Нет, кажется, четыре раза. Это только когда они начинают меня преследовать. Оставили бы меня в покое, и все было бы в порядке.
— Теперь не оставят, — сказал я.
— Знаю.
Мы оба знали, что это кризис. В то утро у меня не было слов сочувствия для Себастьяна; он нуждался в них, но мне нечем было его успокоить.
— Ну, знаете ли, — сказал только я, — если вы будете запивать горькую всякий раз, как увидите кого-нибудь из членов вашей семьи, это совершенно безнадежно.
— О да, — ответил Себастьян с великой печалью. — Я знаю. Это безнадежно.
Но гордость моя была уязвлена из-за того, что я оказался в положении лжеца, и я не смог откликнуться на его нужду.
— Ну и что же вы собираетесь делать?
— Я ничего не собираюсь. Они сами все сделают. И он ушел от меня, не получив утешения. Вновь была пущена в ход громадная машина, и у меня на глазах повторилось все, как было в декабре: мистер Самграсс и монсеньер Белл посетили декана; приехал на один вечер Брайдсхед; тронулись большие колеса, завертелись малые. Все от души жалели леди Марчмейн — ведь имена ее братьев золотыми буквами высечены на монументе героям войны, а память о них еще жива во многих сердцах.
Она еще раз приехала ко мне, и я опять должен свести до нескольких слов наш разговор, длившийся всю дорогу от Холивелла через Месопотамию до Парков, а потом до Северного Оксфорда, где она остановилась на ночь у каких-то монахинь, которым оказывала покровительство.
— Вы должны мне поверить, — сказал я, — что, когда я говорил, что Себастьян не пьет, я говорил правду, какой она была мне в то время известна.
— Я знаю, что вы хотите быть ему хорошим другом.
— Дело не в этом. Я сказал вам то, что считал правдой. Я и сейчас в каком-то смысле считаю это правдой. Я думаю, что он напивался раз или два, но не больше.
— Бесполезно, Чарльз, — перебила она. — Вы можете только сказать, что не знаете его так, как я думала, и не имеете на него влияния. Все наши попытки поверить ему ни к чему не приведут. Я видела пьяниц и раньше. Худшее в них — это лживость. Любовь к правде утрачивается прежде всего остального. И это после нашего чудесного обеда. Когда вы ушли, он был со мною так ласков, совсем как когда-то маленьким мальчиком. И я согласилась на все, чего он хотел. Правду сказать, я сомневалась относительно его намерения поселиться вместе с вами. Я верю, вы поймете меня. Вы ведь знаете, что мы все любим вас, и не только как друга Себастьяна. И всем нам будет вас не хватать, если вы когда-нибудь перестанете приезжать к нам в гости. Но я хочу, чтобы у Себастьяна были разные друзья, а не только один. Монсеньер Белл говорит, что он совершенно не общается с другими католиками, не бывает в Ньюменском клубе, даже к мессе почти не ходит. Упаси бог, чтобы он знался с одними католиками, но должны же у него и среди них быть знакомые. Только очень крепкая вера способна выстоять в одиночку, а у Себастьяна она не крепка.
Но во вторник после того обеда я была так довольна, что отказалась от всех моих возражений; я пошла с ним и посмотрела выбранную вами квартиру. Прелестная квартира. Мы обсудили с ним, какую еще мебель привезти из Лондона, чтобы она стала еще уютнее. И потом, в тот же самый вечер!.. Нет, Чарльз, все это не по логике вещей.
Я подумал, что «логику вещей» она подобрала у кого-то из своих интеллектуальных почитателей.
— И вы знаете средство помочь ему? — спросил я.
— В колледже все удивительно добры. Они сказали, что не исключат его при условии, что он поселится с монсеньером Беллом. Я бы никогда не попросила об этом сама, но монсеньер Белл был настолько добр… Он особо просил передать вам, что вам у него всегда будут рады. Правда, комнаты для вас в Старом Дворце не найдется, но, вероятно, вы и сами бы не захотели там поселиться.
— Леди Марчмейн, если вы намерены сделать из Себастьяна пьяницу, это вернейший способ. Неужели вы не понимаете, что всякий намек на слежку будет для него губителен?
— Ах, боже мой, ну как вам объяснить? Протестанты всегда думают, что католические священники — шпионы.
— Дело не в этом. — Я попытался выразить свою мысль, но безнадежно запутался. — Он должен чувствовать себя свободным.
— Но ведь он и был всегда свободным до сих пор. И вот к чему это привело.
Мы дошли до парома; мы зашли в тупик. Почти молча я проводил ее до монастыря, сел на автобус и вернулся на Карфакс.
Себастьян сидел у меня.
— Я пошлю телеграмму папе, — сказал он. — Он не допустит, чтобы они заперли меня у этого священника.
— Но если они ставят это условием вашего дальнейшего пребывания в университете?
— Значит, я не вернусь в университет. Вообразите меня там — как я прислуживаю дважды в неделю на мессе, помогаю угощать чаем робких первокурсников-католиков, присутствую в Ньюменском клубе на обеде в честь приезжего лектора, выпиваю при гостях стакан портвейна, а монсеньер Белл не сводит с меня бдительного ока и, когда я выхожу, объясняет, что, мол, это один университетский алкоголик, пришлось его взять, у него такая обаятельная матушка.
— Я ей сказал, что это невозможно.
— Напьемся сегодня ото всей души?
— Да, сегодня от этого, во всяком случае, вреда не будет, — согласился я.
— Contra mundum?
— Contra mundum.
— Благослови вас бог, Чарльз. Нам не много вечеров осталось провести вместе.
В ту ночь мы впервые за много недель напились вдвоем до полного умопомрачения. Я проводил его до ворот, когда все колокола уже отбивали полночь, и еле добрел обратно один под звездами небесными, которые предательски покачивались между шпилями, и, придя, повалился спать, не раздеваясь, чего не случалось уже больше года.
На следующий день леди Марчмейн уехала из Оксфорда, взяв с собой Себастьяна. Мы с Брайдсхедом побывали в его комнатах и разобрали вещи — что оставить, а что отослать вдогонку.
Брайдсхед был серьезен и бесстрастен, как всегда.
— Жаль, что Себастьян не успел ближе познакомиться с монсеньером Беллом, — сказал он. — Он убедился бы, что это очень милый человек и жить у него только приятно. Я жил там весь последний курс. Моя мать считает, что Себастьян запойный пьяница. Это правда?
— Это ему всерьез угрожает.
— Я верю, что бог оказывает пьяницам предпочтение перед многими добропорядочными людьми.
— Бога ради, — сказал я, потому что в то утро я был близок к тому, чтобы заплакать, — зачем во все вмешивать бога?
— Простите. Я забыл. А знаете, это очень смешной вопрос.
— Вы находите?
— Для меня, конечно. Не для вас.
— Нет, не для меня. По-моему, без вашей религии Себастьян мог бы жить нормально и счастливо.
— Это спорный вопрос. Как вы думаете, ему еще понадобится эта слоновья нога?
В тот вечер я пошел к Коллинзу, жившему по другую сторону университетского дворика. Он сидел один со своими книгами, работал у окна при свете меркнущего дня.
— А, это вы, — сказал он. — Заходите. Не видел вас целый семестр. Боюсь, мне нечего вам предложить. Почему вы покинули блестящее общество?
— Я самый одинокий человек в Оксфорде, — ответил я. — Себастьяна Флайта исключили.
Потом я спросил его, что он думает делать в долгие каникулы. Он рассказал что-то непереносимо скучное. Потом я спросил, подыскал ли он квартиру на будущий год. Да, ответил он, правда далековато, но очень удобная квартира. На пару с Тингейтом, старостой кружка эссеистов.
— Одна комната там еще не занята. В ней собирался поселиться Баркер. Но он выставил свою кандидатуру в президенты Союза и думает, что теперь ему удобнее поселиться поближе.
У нас обоих возникла мысль, что в этой комнате мог бы поселиться я.
— А вы куда едете?
— Я собирался жить на Мертон-стрит вместе с Себастьяном Флайтом. Это теперь пошло прахом.
Однако предложение так и не было произнесено, и момент прошел. На прощанье он сказал: «Желаю вам найти себе кого-нибудь в компанию на Мертон-стрит». А я сказал: «Желаю вам найти себе кого-нибудь в компанию на Иффли-роуд», — и больше никогда не говорил с ним.
До конца семестра оставалось десять дней; я кое-как прожил их и приехал в Лондон, не имея, как и год назад, при совсем других обстоятельствах, никаких определенных планов.
— А этот твой удивительно красивый приятель, — спросил отец, — он не приехал с тобой?
— Нет.
— Я уж было думал, что он решил совсем к нам перебраться. Жаль, он мне нравился.
— Отец, ты непременно хочешь, чтобы я получил диплом?
— Я хочу? Господи помилуй, почему бы я мог хотеть этого? Мне он совершенно ни к чему. Дай тебе, насколько могу судить, тоже.
— Вот и я думаю точно так же. Мне кажется, снова возвращаться в Оксфорд будет напрасной тратой времени.
До этой минуты отец только вполуха слушал, что я говорю; теперь он положил книгу, снял очки и внимательно посмотрел на меня.
— Тебя исключили, — сказал он. — Брат предупреждал меня.
— Нет. Никто меня не исключал.
— Ну так о чем же тогда весь этот разговор? — неодобрительно спросил он, надевая очки и разыскивая место в книге. — Все проводят в Оксфорде по меньшей мере три года. Я знал одного человека, которому потребовалось семь лет, чтобы получить диплом богослова.
— Просто я думал, что, раз я не собираюсь заниматься ни одной из профессий, где нужен диплом, наверно, лучше будет сейчас же приняться за то дело, которое я для себя избрал. Я намерен стать художником.
Но на это отец мне тогда ничего не ответил. Однако мысль, как видно, запала ему в душу; когда мы в следующий раз заговорили на эту тему, она уже твердо в не укоренилась.
— Если ты будешь художником, — сказал он в воскресение за завтраком, — тебе понадобится студия.
— Да.
— Ну а здесь нет студии. Нет даже комнаты, которую удобно было бы использовать под студию. Не могу же я допустить тебя заниматься живописью в галерее.
— Конечно. Я и не предполагал.
— И я не могу допустить, чтобы в дом набивались обнаженные натурщицы и художественные критики с их ужасным жаргоном. И потом, мне не нравится запах скипидара Я полагаю, ты намерен браться за дело всерьез и писать масляным красками.
Мой отец принадлежал к тому поколению, которое делило художников на серьезных и несерьезных в зависимости от того, пишут ли они маслом или акварелью.
— Едва ли я буду писать первый год. И потом, я вообще, вероятно, поступлю в какую-нибудь художественную школу.
За границей? — с надеждой спросил отец — Говорят, за границей есть превосходные школы.
Дело продвигалось гораздо быстрее, чем я предполагал.
— За границей или здесь. Мне надо сначала оглядеться.
— И оглядись за границей, — сказал он.
— Так ты согласен, чтобы я оставил Оксфорд?
— Coглaceн? Мой дорогой мальчик, тебе уже двадцать два года.
— Двадцать, — поправил я. — Двадцать один в октябре.
— Только то? Мне представлялось, что это тянется yже так давно.
Завершает этот эпизод письмо от леди Марчмейн:
«Дорогой Чарльз, — писала она, — сегодня утром Себастьян уехал от меня за границу к своему отцу. Перед его отъездом я спросила, написал ли он вам, и он ответил, что нет, так что это должна сделать я, хотя не знаю, как я смогу выразить в письме то, что не сумела выразить во время нашей последней прогулки. Однако нельзя, чтобы вы оставались в неведении. Себастьяна исключили из колледжа только на один семестр и согласны взять назад при условии, что он поселится у монсеньера Белла. Пусть он решает сам. Между тем мистер Самграсс любезно согласился взять его пока под свое покровительство. Как только он вернется от отца, мистер Самграсс берет его с собой в поездку по Ближнему Востоку, где мистер Самграсс давно уже хотел обследовать местные православные монастыри. Он надеется, что это может стать новым интересом для Себастьяна.
На рождество, когда они возвратятся, я знаю, Себастьян непременно захочет увидеть вас, и мы все тоже. Надеюсь, ваши планы на будущий семестр не очень сильно расстроились и все у вас пойдет хорошо.
Искренне Ваша
Тереза Марчмейн.»«Нынче утром я пришла в садовую комнату и мне было так грустно».
Книга вторая БРАЙДСХЕД ПОКИНУТЫЙ
Глава первая
— И как раз когда мы поднялись на перевал, — рассказывал мистер Самграсс, — сзади раздался стук копыт и два солдата проскакали в голову каравана и повернули нас обратно. Их послал за нами генерал, но еще немного, и они бы опоздали. Наступал такой час, когда путешествовать в горах было небезопасно.
Он сделал паузу. Слушатели молчали, понимая, что он хочет произвести впечатление, но не зная, как выразить ему свой интерес?
— Час банд? — рискнула Джулия. — Ну и ну! Чувствовалось однако, что этого ему недостаточно. Наконец молчание нарушила леди Марчмейн:
— Но джаз-банды в тех местах, я думаю, не представляют интереса.
— Дорогая леди Марчмейн, бог с вами. Банды разбойников, бандиты. — Рядом со мной на диване Корделия давилась беззвучным смехом. — Горы кишат ими. Отставшие солдаты армии Кемаля, греки, оказавшиеся отрезанными при отступлении. Народ отчаянный, можете мне поверить.
— Умоляю, ущипните меня, — шепнула Корделия. Я ущипнул ее, и стоны в пружинах дивана смолкли.
— Благодарю, — сказала она, вытирая глаза рукой.
— И вы так и не добрались до этого места — как оно там называется? — сочувственно сказала Джулия. — То-то, наверно, ты был раздосадован, Себастьян?
— Я? — Голос Себастьяна прозвучал из темноты за пределами света, падавшего от лампы, и тепла от горячих поленьев, за пределами семейного круга, в стороне от фотографий, разложенных для показа на ломберном столике. — Я? По-моему, меня в тот день с ними не было, верно, Сами?
— Да, вы были нездоровы.
— Я был нездоров, — как эхо, повторил он, — поэтому я бы все равно не побывал в этом месте, как оно там называется, верно, Сами?
— А вот это, леди Марчмейн, это караван на заезжем дворе в Алеппо. Это наш повар армянин Бегедбян; а это я верхом на лошади; вот свернутая палатка; а вот один малоприятный курд, который пристал к нам и повсюду упорно за нами следовал… Вот я в Понте, в Эфесе, в Трапезунде, в Крак-де-Шевалье, в Самофракии, в Батуми— разумеется, они у меня еще не разложены в хронологическом порядке.
— Проводники, руины, мулы, — сказала Корделия. — А где же Себастьян?
— Он, — поспешил ответить мистер Самграсс с торжеством словно ожидая этого вопроса и заранее к нему приготовясь, — держал фотоаппарат. Он сделался завзятым фотографом, как только обучился не заслонять рукой объектив, верно, Себастьян?
Голос из темноты промолчал.
Мистер Самграсс выудил из кожаного планшета еще одну фотографию.
— Вот группа на террасе отеля «Святой Георгий», снятая в Бейруте уличным фотографом. Вон Себастьян.
— Позвольте, да ведь это Антони Бланш! — воскликнул я.
— Да, мы много времени проводили вместе, случайно встретились в Константинополе. Очень приятный человек. Непонятно, как я с ним раньше не познакомился. Он доехал с нами до самого Бейрута.
Чайный сервиз убрали и задернули шторы на окнах. Был третий день рождества и мой первый вечер в Брайдсхеде; Себастьян с мистером Самграссом тоже приехали только сегодня, я, к моему удивлению, встретил их на перроне.
За три недели до того леди Марчмейн прислала письмо:
«Я только что получила весточку от мистера Самграсса, он пишет, что они с Себастьяном, как мы и надеялись, к Рождеству будут дома. От них так давно не было известий, что я уже боялась, не потерялись ли они, и не хотела заранее ни о чем уславливаться. Себастьян непременно захочет видеть вас. Приезжайте к нам на рождество, если сможете, или как только освободитесь после Рождества».
Я должен был провести рождество у дяди и не мог нарушить слова, поэтому я ехал издалека и пересел на полпути в местную ветку, полагая, что Себастьян уже давно дома; но оказалось, что он приехал в соседнем вагоне со мной, а когда; я спросил, где он был все это время, мистер Самграсс очень гладко и многословно объяснил мне, что у них затерялся багаж и что контора Кука была закрыта на праздники, и я сразу же почувствовал, что существует другое объяснение, которое от меня скрывают.
Мистеру Самграссу было явно не по себе; внешне он держался с прежней самоуверенностью, но дух нечистой совести, точно застарелый табачный запах, ощутимо шел от него, и леди Марчмейн встретила его с чуть заметной настороженностью. Он оживленно рассказывал о своей поездке все время, пока пили чай, но потом леди Марчмейн увела его наверх для «разговора по душам». Я посмотрел ему вслед с чувством, близким состраданию; любому игроку в покер было ясно, что карта у мистера Самграсса никудышная, а за чаем я начал подозревать, что он не только блефует, но и передергивает. Было у него что-то на душе, что следовало, но очень не хотелось и отчего-то трудно было сказать леди Марчмейн о прошедшем Рождестве, но еще, я догадывался, он обязан был, но отнюдь не собирался рассказывать правду обо всем левантийском путешествии.
— Пошли проведаем няню, — сказал Себастьян.
— Можно, я тоже с вами? — попросилась Корделия.
— Идем.
Мы поднялись под купол в детскую. На лестнице Корделия спросила:
— Неужели ты совсем не рад, что вернулся?
— Конечно, рад.
— Мог бы как-нибудь и показать это. А я так ждала. Няню не нужно было особенно занимать разговором. Она любила, чтобы те, кто приходит к ней, не обращали на нее внимания, предоставляя ей вязать чулок, и разглядывать их лица, и думать о том, какие они были маленькие; все их теперешние дела ничего не значили рядом с младенческими болезнями и проступками, хранимыми в ее памяти.
— Да, — сказала она Себастьяну, — вы заметно осунулись. Все, я думаю, эта их заграничная пища. Нужно вам теперь немного поправиться. И ложились, видно, за полночь, посмотреть на вас — все, поди, балы эти. (У нянюшки Хокинс было твердое убеждение, что в высшем свете люди проводят вечера главным образом на балах.) Рубашку вон надо подштопать. Принесите мне, перед тем как отдавать прачке.
Себастьян и в самом деле выглядел нездоровым. Пять месяцев изменили его, как несколько лет; он стал бледнее, исхудал, под глазами появились мешки, углы рта опустились, и на подбородке сбоку был заметен шрам от фурункула; голос его сделался глуше, движения вялы или, наоборот, очень резки; одежда его была потрепана, и волосы, которые прежде вились в счастливом беспорядке, теперь казались нечесаными; но что хуже всего, во взгляде его я встретил ту самую настороженность, которую уловил еще на пасху и которая сделалась для него, как видно, привычной.
Обезоруженный этой настороженностью, я не стал его ни о чем расспрашивать, а вместо этого рассказал о себе, о прожитых осени и зиме, о квартире на Иль-де-Сен-Луи, и о классе живописи, и о том, как хороши старые учителя и как плохи их ученики.
— Они близко не подходят к Лувру, — рассказывал я, — а если когда и подойдут, то только потому, что какой-нибудь из их дурацких журналов вдруг «открыл» художника, отвечающего модной в этом месяце эстетической теории. Половина из них жаждет наделать шуму и приобрести популярность в духе Пикабиа[46]; другая половина стремится только зарабатывать деньги, рисуя картинки для журнала мод или интерьеры ночных клубов. А их учителя по-прежнему хотят научить их писать, как Делакруа.
— Чарльз, — вмешалась Корделия, — ведь верно же, что модерн — это чепуха?
— Совершенная чепуха.
— О, я так рада! Мы поспорили с одной нашей монахиней, она говорила, что не следует критиковать то, чего мы не понимаем. Вот я теперь скажу ей, что слышала это от настоящего художника, будет тогда знать!
Вскоре наступило время Корделии идти к себе ужинать, а нам с Себастьяном спуститься в гостиную, где подавали коктейли. Там в одиночестве сидел Брайдсхед, но следом за нами вошел Уилкокс и объявил:
— Миледи желала бы побеседовать с вами у себя наверху, милорд.
— Что-то не похоже на маму — приглашать к себе. Обычно она сама заманивает того, кто ей нужен.
Подноса с коктейлями в гостиной не было. Мы подождали несколько минут, потом Себастьян позвонил. Появившийся на звонок лакей сказал:
— Мистер Уилкокс наверху у ее светлости.
— Неважно, принесите коктейли.
— Ключи у мистера Уилкокса, милорд.
— М-м… ну ладно, пришлите его с ними сюда, когда он освободится.
Мы немного поговорили об Антони Бланше: — Он отпустил бороду в Стамбуле, я потом уговорил его побриться, — но минут через десять Себастьян сказал: — Ладно, не хочу никакого коктейля, пойду приму ванну, — и ушел.
Была половина восьмого; я уже думал, что все ушли наверх одеваться, и как раз собрался последовать их примеру, когда на пороге комнаты столкнулся с вернувшимся Брайдсхедом.
— Одну минуту, Чарльз, я должен вам кое-что объяснить. Наша мать распорядилась, чтобы ни в одной из комнат не оставляли спиртное. Почему — вам понятно. Если вам чего-нибудь захочется, позвоните и велите Уилкоксу принести. Только лучше подождите, пока будете один. Мне очень жаль, но… вот так.
— Это необходимо?
— Насколько я понимаю, совершенно необходимо. Не знаю, известно вам или нет, но у Себастьяна был еще один срыв, как только они возвратились в Англию. Он исчез на рождество. И мистер Самграсс отыскал его только вчера вечером.
— Я догадывался, что произошло нечто в этом роде. Вы уверены, что такой способ наилучший?
— Это способ, избранный нашей матерью. Не выпьете ли теперь коктейля, пока он наверху?
— Он стал бы у меня в горле.
Мне всегда отводили ту же комнату, что и в первый мой приезд, — рядом с Себастьяном, отделенную от него бывшей гардеробной, двадцать лет назад превращенной в ванную посредством замены кровати на глубокую медную ванну, вправленную в красное дерево, которая наполнялась нажатием на массивный бронзовый рычаг, напоминавший какое-то корабельное приспособление; прочая обстановка гардеробной осталась нетронутой; зимой в камине всегда горел огонь.
Я часто вспоминаю эту комнату — застекленные акварели запотели от пара, на спинке старинного кресла согревается большое банное полотенце — и сравниваю ее со стандартными, клиническими ванными помещеньицами, сплошь зеркальными и никелированными, которые сходят за роскошь в современном мире.
Я полежал в ванне, потом медленно вытирался перед камином, не переставая думать о печальном возвращении моего друга под родной кров. Надев халат, я вошел к Себастьяну, отворив дверь, как всегда, без стука. Он сидел полуодетый у камина и раздраженно обернулся к двери, поспешно поставив на столик стакан для чистки зубов.
— А, это вы. Я уж испугался.
— Так вы все-таки раздобыли выпивку, — сказал я.
— Не понимаю, о чем вы.
— Бога ради, — сказал я, — уж со мной-то вам незачем притворяться. Лучше бы угостили.
— Просто у меня было с собой немного во фляжке. А больше не осталось ни капли.
— Что происходит?
— Ничего. Многое. Потом расскажу. Я оделся, зашел за Себастьяном, но он сидел, как я его оставил — полуодетый в кресле у камина. В гостиной я застал одну Джулию.
— Ну, — сказал я, — что тут происходит?
— Да ничего, очередной семейный potin[47]. Себастьян снова напился, и мы все должны за ним приглядывать. Ужасная скука.
— Ему это тоже не слишком весело.
— Сам виноват. Почему он не может вести себя, как все? Кстати, насчет приглядывания, что вы скажете о мистере Самграссе? Чарльз, вы ничего подозрительного в нем не замечаете?
— Еще бы не замечать! Как вы думаете, ваша мать это видит?
— Мама видит только то, что ей удобно. Не может же она держать под наблюдением весь дом. Я, например, если слыхали, тоже причиняю семье беспокойство.
Я ничего не слыхал — ответил я и сокрушенно и пояснил: — Я ведь только что из Парижа, — чтобы не создалось впечатление, будто кому-то может быть что-то о ней неизвестно.
Тот вечер был на редкость унылым. Ужинали в Расписной гостиной. Себастьян опоздал к столу, и нервы у всех были так натянуты, что, мне кажется, каждый в глубине души был готов увидеть, как он войдет, по-шутовски качаясь и громко икая; он же, разумеется, держался безупречно; извинился, сел на свободный стул и предоставил мистеру Самграссу довести до конца свой монолог, который никто больше не прерывал и, кажется, никто не слушал. Друзья, патриархи, иконы, клопы, романские руины, экзотические блюда из козьих и овечьих глаз, французские и турецкие чиновники — весь каталог ближневосточных реалий был представлен для нашего развлечения.
Я наблюдал, как обносили шампанским. Когда очередь дошла до Себастьяна, он сказал: «Мне, пожалуйста, виски», — и я видел, как Уилкокс поверх его головы взглянул на леди Марчмейн, а она чуть заметно кивнула. В Брайдсхеде каждому желающему подавали отдельный наполненный графинчик, куда помещалось с четверть бутылки; графин, который Уилкокс поставил перед Себастьяном, был наполовину пуст. Себастьян демонстративно поднял его на свет, поболтал, потом молча вылил в стакан, который заполнился не более чем на два пальца. Все сразу вдруг заговорили, все, за исключением Себастьяна, и мистер Самграсс на какое-то мгновенье остался без слушателей, толкуя о маронитах одному подсвечнику; но тут же все снова умолкли, и он безраздельно владел столом до самой той минуты, когда леди Марчмейн с Джулией вышли из комнаты.
— Не засиживайтесь долго, Брайди, — сказала она на пороге, как говорила всегда, и в тот вечер у нас не было ни малейшего желания засиживаться. Стаканы наши были наполнены портвейном, после чего графин немедленно исчез со стола. Мы быстро осушили стаканы и перешли в гостиную, где Брайдсхед попросил мать почитать вслух, и она до десяти часов с большим одушевлением читала «Дневник Никого», а в десять закрыла книгу и объявила, что почему-то ужасно устала, настолько, что даже не зайдет перед сном в часовню.
— Кто едет завтра на охоту? — спросила она.
— Корделия, — ответил Брайдсхед. — Я беру молодую кобылку Джулии, пусть познакомится с собаками. Часа на два, не больше.
— Рекс приезжает завтра неизвестно когда, — сказала Джулия. — Мне лучше остаться, чтобы его встретить.
— Где назначен сбор? — неожиданно спросил Себастьян.
— Здесь. Флайт Сент-Мери.
— Тогда я тоже хотел бы поехать, если найдется для меня лошадь.
— Разумеется. Это просто чудесно. Я бы сам позвал тебя, только ты раньше всегда был так недоволен, когда приходилось ехать. Можешь взять Колокольчика. Он отлично ходит в этом сезоне.
Все вдруг ужасно обрадовались, что Себастьян хочет ехать на охоту; сумрак вечера немного рассеялся. Брайдсхед позвонил, чтобы принесли виски.
— Может быть, еще кому-нибудь?
— Мне принесите, пожалуйста, тоже, — сказал Себастьян, и на этот раз не Уилкокс, а лакей так же посмотрел на леди Марчмейн и получил в ответ еле заметный кивок. Все в доме были предупреждены. Виски принесли уже разлитое в два стакана, словно заказанное у стойки, и все наши глаза следовали по комнате за подносом, как глаза собак в столовой, провожающие блюдо с дичью.
Однако благодушие, порожденное желанием Себастьяна участвовать в завтрашней охоте, сохранилось; Брайдсхед написал записку для конюха, и мы в радужном настроении разошлись по комнатам.
Себастьян сразу лег; я сидел у его камина и курил трубку.
— Может быть, мне поехать завтра вместе с вами? — сказал я.
— Ничего интересного вы не увидите, — ответил он. — Могу вам точно сказать, что я намерен сделать. Отстану от Брайди у первой же норы, потрушу легонько в ближний кабак и проведу там весь день, упиваясь на свободе. Раз они обращаются со мной, как с алкоголиком, пусть тогда и получают алкоголика на здоровье. Да и потом, я все равно ненавижу охоту.
— Ну, что же. Помешать я вам не могу.
— Между прочим, можете — если не дадите мне денег. Они закрыли этим летом мой лицевой счет. Отсюда проистекли мои главные трудности. Часы и портсигар я уже заложил, чтобы обеспечить себе счастливое рождество, так что завтра мне придется за деньгами обратиться к вам.
— Я не могу. Вы отлично знаете, что это невозможно.
— Невозможно, Чарльз? Ну что-ж. Как-нибудь устроюсь сам. Я теперь стал ужасно ловкий по этой части — как устраиваться самому. Пришлось, ничего не поделаешь.
— Себастьян, что у вас там было с мистером Самграссом?
— Он же вам рассказывал за обедом про руины, мулов и местные достопримечательности — это все было у Сами. Просто мы решили, что каждый пойдет своим путем, вот и все. Бедняга Сами, в сущности, до последнего времени вел себя довольно сносно. Я надеялся, что он и дальше не подкачает, но, боюсь, он проявил крайнюю неосмотрительность, рассказав о моем счастливом рождестве. Наверное, думал, что если изобразит меня в слишком хорошем свете, то, пожалуй, еще потеряет место телохранителя.
Понимаете, ему оно очень выгодно. Я не хочу сказать, что он ворует, нет. По-своему он довольно честен в денежных делах. Во всяком случае, он ведет такую неприятную книжицу, куда вносит все суммы, которые получает по аккредитивам, и все расходы, и в любой момент может предъявить ее маме и адвокатам. Но ему очень хотелось проехаться по всем этим местам, и благодаря мне он смог проделать путешествие с комфортом, а не ютиться бог знает где, как обычные университетские преподаватели. Единственной неприятной стороной было мое общество, но мы очень скоро это уладили.
Начали мы, как вы понимаете, с размахом, в стиле большого турне, у нас были письма к разным видным людям во всех местах, и мы останавливались на Родосе у военного губернатора и у посланника в Константинополе. Это-то и послужило для Сами главной приманкой. Конечно, у него были свои заботы — приходилось постоянно держать меня под присмотром, но он всякий раз спешил предупредить людей, что я ненормален.
— Себастьян!
— Не совсем нормален — ну а так как у меня не было денег, разойтись мне особенно не было возможности. Он даже на чай давал за меня, сунет человеку ассигнацию и тут же запишет к себе в книжицу. Но в Константинополе мне привалила удача. В один прекрасный вечер Сами за мной недосмотрел, и я умудрился выиграть немного денег в карты и назавтра, улизнув от него, засел в баре Токатляпа, где и проводил время в свое удовольствие, как вдруг кто бы, вы думали, там появился? Антони Бланш с бородой и новым дружком, евреем. Антони успел одолжить мне десятку, прежде чем туда ворвался, запыхавшись, бедняга Сами и вновь завладел мною. После этого меня ни на секунду не оставляли одного; сотрудники посольства посадили нас на пароход, идущий в Пирей, и не уходили с пристани, пока мы не отчалили. Но в Афинах все оказалось просто. После обеда я преспокойно вышел из здания посольства, обменял у Кука мою десятку, расспросил там, чтобы сбить Сами со следа, о пароходе до Александрии, а сам сел в автобус, приехал в порт, нашел там одного матроса, который говорил по-американски, спрятался у него, пока не отошел пароход, и без труда очутился снова в Константинополе.
Антони со своим еврейским дружком жили в чудесном полуразвалившемся домишке рядом с базаром. Я у них и сидел там, пока не похолодало, потом мы с Антони пустились в путь к югу и в конце концов, как было условлено, три недели назад соединились в Сирии с Сами.
— И Сами не возражал?
— О, мне кажется, он получил большое удовольствие на свой чудовищный лад. Правда, в высшем свете ему, конечно, не пришлось больше вращаться. Сначала он, наверное, немного — беспокоился. Но я не хотел, чтобы он выслал на поиски весь средиземноморский флот, поэтому телеграфировал ему из Константинополя, что со мной ничего не случилось и пусть переводит деньги на Оттоманский банк. Получив телеграмму, он тут же прискакал в Константинополь. Конечно, у него было трудное положение, потому что я совершеннолетний и пока еще свидетельства о психической неполноценности на меня не выправили, так что арестовать он меня не мог. И не мог меня бросить умирать с голоду, а сам пока жить на мои деньги, и не мог сообщить маме, чтобы не оказаться в полных дураках. Куда ни кинь, он был у меня в руках, бедняга Сами. У меня была сначала мысль расстаться с ним совсем, и дело с концом, но Антони мне тут очень помог, он сказал, что гораздо лучше будет все уладить по-дружески, и все замечательно уладил. И вот я здесь.
— После рождества.
— Да. Я твердо решил устроить себе веселое Рождество.
— Ну и как? Устроили?
— Вероятно. Я мало что помню, а это хороший признак, верно ведь?
На следующее утро за завтраком Брайдсхед был в алом. Корделия, высоко вздернув подбородок над белым шарфом своей нарядной амазонки, запричитала, увидев Себастьяна в твидовом пиджаке:
— Ой, Себастьян, ну разве так можно! Ну пожалуйста, ступай переоденься. Тебе так к лицу охотничий костюм!
— Его засунули куда-то. Гиббс не мог найти.
— Это басни. Я сама помогала все достать до того, как тебя разбудили.
— Там половина принадлежностей потеряна.
— И это так скверно повлияет на местные нравы. Если б ты только знал, до чего опустились в этом сезоне Стриклэнд-Винеблсы. Они даже сняли цилиндры с грумов!
Было уже без четверти одиннадцать, когда лошадей наконец подвели к крыльцу, но больше никто из обитателей дома до сих пор не показывался внизу; они словно затаились все, выжидая, пока не замолкнет в отдалении стук копыт Себастьяновой лошади.
Перед самым выездом, когда остальные уже сидели в седле, Себастьян поманил меня в холл. На столе рядом с его шляпой, перчатками, хлыстом и бутербродницей лежала фляга, которую он передал, чтобы ее наполнили. Он поднял ее и поболтал— она была пуста.
— Видите, — сказал он, — я даже настолько не заслуживаю доверия. Сумасшедший не я, а они. Теперь вы не можете отказать мне в деньгах.
Я дал ему фунтовую бумажку.
— Еще.
Я дал ему вторую и, стоя на крыльце, смотрел, как он сел на лошадь и тронул рысью за братом и сестрой.
И тотчас же, словно по знаку режиссера, подле меня очутился мистер Самграсс, взял меня под локоть и привел назад, к горящему камину. Он погрел над огнем свои аккуратные ручки, потом повернулся и стал греть спину.
— Итак, Себастьян отправился в погоню за лисицей, — проговорил он, — и мы можем отложить нашу маленькую заботу на час-другой.
Я не намерен был терпеть от мистера Самграсса этот тон.
— Мне известно все о вашем «большом турне», — сказал я.
— А-а, я так и думал, — отозвался мистер Самграсс без всякого смущения, скорее, облегченно, словно рад был посвященному собеседнику. — Я предпочел не терзать всем этим нашу хозяйку. В конце концов, дело обернулось гораздо благополучнее, чем можно было ожидать. Однако я счел долгом дать кое-какие объяснения о том, как Себастьян отпраздновал Рождество. Вы вероятно, заметили вчера вечером, что были приняты некоторые меры предосторожности.
— Заметил.
— И нашли их преувеличенными? Совершенно с вами согласен, тем более что они угрожают нашему собственному безмятежному пребыванию в этом доме. И я повидал сегодня утром леди Марчмейн. Не думайте, что я только с постели. Я имел разговор с нашей хозяйкой. И, по-моему, мы можем рассчитывать сегодня на некоторое послабление. Вчерашний вечер вряд ли кому-нибудь захотелось бы пережить вторично. Я, мне кажется, не получил той благодарности, которую заслужил, стараясь развлечь компанию.
Мне было противно говорить о Себастьяне с мистером Самграссом, но я принужден был сказать:
— Не уверен, что сегодняшний вечер — подходящий момент для послаблений.
— Да что вы! Сегодня, после долгого дня в поле под бдительным оком Брайдсхеда? Можно ли найти момент более подходящий?
— Ну, не знаю. В конце концов, это не мое дело.
— И не мое, строго говоря, раз уж он благополучно водворен под родительский кров. Леди Марчмейн просто оказала мне честь, попросив моего совета. Я же в глубине души не столько забочусь сейчас о Себастьяне, сколько о нас самих. Я нуждаюсь в третьем стакане портвейна, мне не хватает в библиотеке гостеприимного подноса с коктейлями. И, однако, вы определенно высказались против сегодняшнего вечера. Интересно почему? С Себастьяном сегодня ничего дурного произойти не может. Прежде всего, у него нет денег. Мне это доподлинно известно. Я сам об этом позаботился. Даже его часы и портсигар лежат у меня наверху. Можно совершенно ничего не опасаться… если, конечно, не нашлось дурного человека, который бы снабдил его какой-то суммой. А, леди Джулия, доброе утро, доброе утро. Как настроение болонки среди всеобщего охотничьего азарта?
— Болонка в порядке, благодарю. Послушайте, сегодня приезжает Рекс Моттрем, и я просто не могу допустить второго такого вечера, как вчера. Кто-то должен поговорить с мамой.
— Кто-то уже поговорил. Я был у нее. Думаю, что сегодня все будет в порядке.
— Слава богу. Вы сегодня рисуете, Чарльз? Создалась традиция, что я в каждый свой приезд расписываю один медальон на стене садовой комнаты. Мне это было очень удобно, так как давало приличный повод уединяться от всех остальных, и, когда дом был полон гостей, моя садовая комната соперничала с детской как убежище, куда время от времени забредал кто-нибудь, чтобы пожаловаться на других; так, не прилагая ни малейших усилий, я постоянно был в курсе всех разговоров и событий дня. К этому времени три медальона были уже готовы, каждый по-своему довольно красив, но, к сожалению, каждый в другой манере, так как за полтора года, протекшие с начала работы, вкусы мои менялись и умение возрастало. Как единый декоративный замысел они совсем не удались. В то утро я, как обычно, искал убежища в садовой комнате. Я поспешил туда и скоро погрузился в работу. Джулия пошла вместе со мною посидеть и посмотреть, как пойдет дело, и говорили мы, естественно, о Себастьяне.
— Неужели вам никогда не надоедает эта тема? — спросила она. — Почему мы все должны так с ним носиться?
— Просто потому, что мы его любим.
— Ну и что ж. Я тоже, мне кажется, по-своему его люблю, только мне непонятно, почему бы ему не вести себя, как все люди. Понимаете, я выросла в семье, где уже есть одна тайна — папа. Такая, о которой нельзя говорить при слугах, нельзя было говорить при детях, пока мы были маленькие. Если мама собирается сделать из Себастьяна еще одну, это, по-моему слишком. Раз он обязательно хочет всегда быть пьяным, почему бы ему не поехать куда-нибудь в Кению, где это неважно?
— Почему быть несчастливым в Кении не так важно, как быть несчастливым где-то еще?
— Не прикидывайтесь глупым, Чарльз. Вы отлично понимаете.
— То есть это было бы не так неловко для вас? Ну, так вот, я хочу только сказать, что сегодня вечером, если Себастьяну не помешать, может получиться большая неловкость. Он в дурном расположении духа.
— Пустяки, денек на охоте придаст ему бодрости. Трогательно было видеть, как они все верили в благотворное воздействие охоты. Леди Марчмейн, которая тоже заглянула ко мне в те утренние часы, сама насмешливо отметила это с той тонкой иронией, которой она славилась;
— Я всегда терпеть не могла охоту, — сказала она. — По-моему, она порождает даже в превосходных людях самое безобразное, грубое хамство. Не знаю, в чем тут дело, но стоит надеть охотничий костюм и сесть на лошадь, и люди превращаются в каких-то пруссаков. А как они хвастают после охоты! Сколько раз я сидела за ужином и молча ужасалась тому, что мои хорошие знакомые, мужчины и женщины, вдруг превратились в очумелых самодовольных хамов!.. И, однако, вот теперь — право, это, должно быть, нечто унаследованное от прежних веков — на сердце у меня так легко, когда я думаю о том, что Себастьян поехал с ними. «Ничего страшного не произошло, — говорю я себе, — ведь он поехал на охоту». Словно на небе услышана моя молитва.
Она расспросила меня о моей жизни в Париже. Я описал свою квартиру с видом на реку и на башни Парижской богоматери.
— Я надеюсь, что Себастьян поедет со мной погостить, когда я соберусь обратно.
— Да, чудесно было бы, — ответила леди Марчмейн, вздыхая, словно о чем-то несбыточном.
— И надеюсь, он приедет к нам в Лондон.
— Чарльз, вы знаете, что это невозможно. Лондон самое неподходящее место. Там даже мистер Самграсс не мог удержать его под контролем. У нас в доме нет секретов — видите ли, он пропадал все рождество. И мистеру Самграссу удалось обнаружить его только потому, что ему нечем было оплатить счет и оттуда позвонили к нам домой. Это слишком страшно. Нет-нет, Лондон совершенно исключается, если уж он не может владеть собой здесь, с нами… Мы должны подержать его немного тут, позаботиться, чтобы ему было хорошо, чтобы он поправился, поездил на охоту, а потом надо опять отправить его за границу с мистером Самграссом… Видите ли, я уже пережила все это один раз.
Ответ на это и непроизнесенный был отлично известен нам обоим: «Его вы не могли удержать, он сбежал от вас. И Себастьян сбежит. Потому что они оба вас ненавидят».
Внизу, в долине, прозвучал охотничий рог.
— Ну вот, едут. Они уже в наших лесах. Надеюсь, ему было весело.
Так, разговаривая с Джулией и с леди Марчмейн, я и в том и в другом случае очутился в тупике, и не потому, что мы не понимали друг друга, а потому, что понимали слишком хорошо. А с Брайдсхедом, когда он вернулся к обеду и мы заговорили с ним на эту же тему — ибо тема эта была в доме повсюду, точно пожар в трюме большого парохода, глубоко внизу, под ватерлинией, черно-красный в кромешной тьме и вырывающийся наружу лишь ядовитыми струйками дыма сквозь щели люков, а потом вдруг начинающий валить густыми клубами из вентиляционной системы, — с Брайдсхедом я чувствовал себя в каком-то незнакомом мне мире, в мире, мертвом для меня, среди лунного пейзажа голой лавы, на обременительной для легких высоте. Он сказал:
— Я надеюсь, что он болен алкоголизмом. Тогда это просто большое горе, и мы все должны помогать ему его снести. Раньше я боялся, что он напивается нарочно, когда хочет и потому что хочет.
— Так оно и было — мы оба напивались именно так. И сейчас он со мной пьет, когда хочет и сколько хочет. Я могу удержать его на этом, если бы только ваша мать мне доверилась. А если вы будете преследовать его лечениями и наблюдениями, он за несколько лет превратится в развалину.
— Видите ли, превратиться в развалину — это не грех. Никто не обязан перед богом непременно стать министром почт и сообщений, или лейб-егерем королевского двора, или в восемьдесят лет ходить пешком по десять миль.
— Не грех, — повторил я. — Не обязан, перед богом. Вы снова о религии?
— А я никогда и не оставлял этой темы, — ответил Брайдсхед.
— Знаете, Брайди, если бы я когда-нибудь испытал желание стать католиком, достаточно бы мне было пять минут побеседовать с вами, и это бы как рукой сняло. У вас удивительная способность сводить, казалось бы, вполне разумные посылки к полной бессмыслице.
— Странно, что вы это говорите. Я уже слышал такое же мнение и от других людей. Поэтому-то я, в частности, и думаю, что из меня не выйдет хороший священник. Видно, так уж у меня устроена голова.
За обедом Джулия была занята только ожидающимся приездом своего гостя. Она взяла машину и поехала встречать его на станцию, и к чаю он был уже в Брайдсхеде.
— Мама, ты только погляди на рождественский подарок Рекса!
Рождественским подарком была живая черепашка с инкрустированным бриллиантами по панцирю вензелем Джулии; и это чуточку непристойное живое существо, то беспомощно оскользающееся на паркете, то поднятое для всеобщего осмотрения на ломберный столик или ползущее по ковру, прячась при малейшем прикосновении и тут же снова вытягивая морщинистую шейку и раскачивая серой допотопной головой, стало для меня образом всего того вечера, тем крючком на сети воспоминаний, который зацепляет внимание, хотя нечто гораздо большее совершается у нас на глазах.
— Господи, — сказала леди Марчмейн. — И неужели она ест все то же самое, что и обыкновенная черепаха?
— А что вы сделаете, когда она подохнет? — спросил мистер Самграсс. — Нельзя ли будет вставить в этот панцирь новую черепаху?
Рекса предупредили о Себастьяне — иначе он едва ли выдержал бы мрачную атмосферу Брайдсхеда, — и он немедленно предложил готовый выход. Он бодро и открыто рассуждал об этом за чаем, и после целого дня шепотов слышать его громкий голос было большим облегчением.
— Надо послать его в Цюрих к Баретусу. Баретус — как раз тот человек, который здесь нужен. Он у себя в санатории каждый день творит настоящие чудеса. Знаете, как пил Чарли Килкартни?
— Нет, — ответила леди Марчмейн со своей милой иронией. — Боюсь, что мы не знаем, как пил Чарли Килкартни.
Джулия, отвернувшись к черепахе нахмурила брови, услышав насмешку над своим поклонником, но Рекс Моттрем был нечувствителен к таким уколам.
— Две жены махнули на него рукой, — рассказывал он. — А когда он обручился с Сильвией, она поставила условием, что он поедет лечиться в Цюрих. И ему помогло. Через три месяца вернулся другим человеком. И с тех пор капли в рот не взял, даже несмотря на то, что Сильвия от него ушла.
— Почему же?
— Ну, бедняга Чарли, когда бросил пить, стал довольно большим занудой. Но это уже к делу не относится.
— Да-да, разумеется. Эта история, как я понимаю, предназначена обнадеживать.
Джулия снова сердито посмотрела на черепаху.
— Он и половыми отклонениями, знаете, тоже занимается.
— Ох, какие удивительные знакомства ждут бедного Себастьяна в Цюрихе!
— Конечно, у него все места заняты на много месяцев вперед, но я думаю, они там потеснятся, если я его попрошу. Я могу позвонить ему сегодня же прямо отсюда.
(Рекс, охваченный стремлением помочь ближнему, был склонен действовать с устрашающей напористостью, словно навязывал упирающейся домохозяйке ненужный ей пылесос.)
— Мы подумаем об этом.
И мы думали об этом, когда с охоты вернулась Корделия.
— Джулия, какой ужас! Что это?
— Рождественский подарок Рекса.
— Ой, простите. Вечно я ляпаю невпопад. Но как жестоко! Ей, должно быть, было ужасно больно.
— Они не чувствуют.
— Ну да. Откуда ты знаешь? Могу спорить, чувствуют. Она поцеловала мать, с которой еще не виделась сегодня, пожала руку Рексу и позвонила, чтобы ей принесли яичницу.
— Я пила чай у миссис Барни, ведь я вызвала машину по ее телефону, но все равно голодна ужасно. День был — чудо! Джин Стриклэнд-Винеблс шлепнулась прямо в лужу. Мы проскакали без остановки от Бенджерса до Аппер-Истри. Миль, наверно, пять, да, Брайди?
— Три.
— Ну, не по прямой же гнали… — Набивая рот яичницей, она урывками рассказывала нам об охоте… — Посмотрели бы вы на Джин, когда она вылезла из лужи.
— А где Себастьян?
— Себастьян опозорен навеки. — Эти слова, сказанные ее детским голоском, прозвучали как звон заупокойного колокола. Но она продолжала: — Отправиться на охоту в этом ужасном простолюдинском сюртучке и с галстучком, как ученик верховой школы капитана Морвина! Я лично его не узнала на сборе и надеюсь, что никто не узнал. Разве он не вернулся? Заблудился, наверно.
Когда Уилкокс пришел после чая убрать со стола, леди Марчмейн спросила!
— Лорд Себастьян не давал о себе знать?
— Нет, ваша светлость.
— Видно, заехал к кому-то выпить чаю. Как это на него не похоже.
Полчаса спустя, появившись с подносом коктейлей, Уилкокс объявил:
— Лорд Себастьян только что звонил из Саут-Твайнинга, чтобы за ним прислали машину.
— Из Саут-Твайнинга? Кто там живет?
— Он говорил из гостиницы, ваша светлость.
— Саут-Твайнинг! — повторила Корделия. — Совсем с дороги сбился!
Когда он приехал, щеки его были красны, глаза лихорадочно блестели; я сразу увидел, что он на две трети пьян.
— Мой дорогой мальчик, — сказала леди Марчмейн. — Как приятно, что ты опять так хорошо выглядишь. День на воздухе пошел тебе на пользу. Коктейли на столе. Выпей, если хочешь.
Не было ничего примечательного в ее словах, кроме того, что она их произнесла. Полгода назад они бы не были сказаны. — Спасибо, — ответил Себастьян. — Я выпью.
Удар, которого заранее ждешь, который пришелся по уже наболевшему месту и принес с собой не потрясение, но лишь тупую, мучительную боль да мельком мысль о том, что еще один будет уже не по силам, — вот что я чувствовал, сидя за ужином против Себастьяна и видя его помутившийся взгляд и неверные движения, слыша его осипший голос, вдруг брякающий что-то невпопад после продолжительного, невежливого молчания. Когда наконец леди Марчмейн с Джулией и слуги ушли, Брайдсхед сказал:
— Тебе бы лучше пойти лечь спать, Себастьян.
— Сначала портвейну выпью.
— Да, выпей портвейну, если тебе хочется. Но не появляйся в гостиной.
— Угу, перебрал, — Себастьян кивнул. — Как в добрые старые времена. Джентльмены здорово надирались в добрые старые времена, не могли выйти к дамам. («Надо сказать, что совсем не как в старые времена, — заметил чуть позже мистер Самграсс, пытаясь завязать со мною дружескую беседу. — В чем разница, трудно определить. То ли веселья недостает, то ли духа товарищества. И знаете, у меня полное впечатление, что он пил еще днем, в одиночку. Откуда же он взял деньги?»)
— Себастьян пошел спать, — сказал Брайдсхед, когда мы пришли в гостиную.
— Да? Почитать вам?
Джулия и Рекс сели играть в безик; черепаха от наскоков болонки спряталась в панцирь; леди Марчмейн читала вслух «Дневник Никого», но очень скоро, хотя было еще рано, закрыла книгу и сказала, что пора спать.
— Я останусь еще немного, можно, мама? Еще три роббера.
— Хорошо, дорогая. Зайди ко мне, перед тем как лечь. Я не буду спать.
Нам с мистером Самграссом было очевидно, что Джулия и Рекс хотят остаться одни, поэтому мы тоже раскланялись; Брайдсхеду это не было очевидно, и он уселся в кресло читать «Таймс», который сегодня не успел просмотреть раньше. Вот тогда-то, по пути на нашу половину дома, мистер Самграсс и сказал: «Совсем не как в старые времена».
Утром я спросил у Себастьяна:
— Скажите мне честно, вам нужно, чтобы я здесь оставался?
— Да нет, Чарльз. Не нужно.
— От меня вам никакой помощи?
— Никакой.
И я отправился объявить о своем отъезде и принести извинения его матери.
— Мне нужно вас кое о чем спросить, Чарльз. Вы дали вчера Себастьяну денег?
— Да.
— Зная, как он их употребит?
— Да.
— Не понимаю, — сказала она. — Просто не понимаю, как можно быть таким злым и бессердечным.
Она помолчала, но ответа, по-моему, не ждала; мне нечего было ей ответить, разве только завести сначала знакомый, бесконечный спор.
— Я не собираюсь вас упрекать, — сказала она. — Видит бог, не мне упрекать кого-либо. Всякая слабость моих детей — это моя слабость. Но я не понимаю. Не понимаю, как можно быть таким милым во многих отношениях и потом вдруг сделать такой бессмысленно жестокий поступок. Не понимаю, как мы все могли вас любить. Вы с самого начала нас ненавидели? Не понимаю, чем мы это заслужили.
Я остался невозмутим; ее горе не нашло отзыва ни в одном уголке моего сердца. Когда-то я именно так представлял себе сцену моего исключения из школы. Я почти готов был услышать от нее слова: «Мы уже поставили в известность вашего несчастного отца». Но, отъезжая в автомобиле и обернувшись, чтобы бросить, как я полагал, последний, прощальный взгляд на Брайдсхед, я ощутил, что оставляю там частицу самого себя, и, куда ни отправлюсь теперь, мне всюду будет чего-то не хватать, и я буду пускаться в безнадежные поиски, подобно привидениям, которые бродят в тех местах, где некогда зарыли свои земные богатства, и теперь не могут оплатить себе дорогу в подземный мир.
«Я никогда сюда не вернусь», — сказал я себе.
За мною захлопнулась дверь, низенькая дверца в стене, которую я отыскал и открыл в Оксфорде; распахни я ее теперь, и там не окажется никакого волшебного сада.
Я вынырнул на поверхность, на свет прозаического дня и на свежий морской воздух, после долгого плена в темных стенах коралловых дворцов и в колышущихся джунглях океанского дна.
Позади осталось-что? Юность? Отрочество? Романтика? Некое свойственное им волшебство, «Учебник юного мага», маленький лакированный ящичек, где рядом с обманными биллиардными шарами лежит черная волшебная палочка, монетка, складывающаяся пополам, и цветы из перьев, которые можно протянуть через полую свечу.
— Я расстался с иллюзией, — говорил я себе. — Отныне я буду жить в мире трех измерений и руководствоваться моими пятью чувствами.
С тех пор я успел убедиться, что такого мира нет, но тогда, бросая прощальный взгляд на скрывающийся за поворотом аллеи дом, я думал, что мир этот не надо даже искать, что он обступит меня со всех сторон, стоит лишь выехать на шоссе.
Так я возвратился в Париж, к друзьям, которых успел там завести, и к новым привычкам. Я думал, что больше никогда не услышу о Брайдсхеде, но в жизни редки такие внезапные и окончательные разлуки. Не прошло и трех недель, как я получил письмо, написанное офранцуженным монастырским почерком Корделии.
«Голубчик Чарльз, — писала она, — мне было так ужасно грустно, когда вы уехали. Могли бы зайти попрощаться.
Мне все известно о вашем позоре, и я пишу вам, чтобы сообщить, что я тоже опозорилась: утащила у Уилкокса ключи и достала Себастьяну виски и была застигнута на месте преступления. Ему было очень нужно. По этому поводу был (и еще не кончился) грандиозный скандал.
Мистер Самграсс уехал (хорошо!), и, по-моему, тоже с позором, хотя за что, непонятно.
Мистер Моттрем пользуется благосклонностью Джулии (плохо!) и собирается увезти Себастьяна (очень, очень плохо!) к какому-то немецкому доктору.
Черепаха Джулии пропала. Мы думаем, что она зарылась в землю — они ведь зарываются? — так что прощай изрядный куш (выражение мистера Моттрема).
Я чувствую себя превосходно.
С приветом
Корделия».Примерно через неделю после получения этого письма я как-то вернулся с этюдов домой и застал у себя в квартире Рекса.
Было около четырех часов, помнится, свет в студии в это время года уже начинал меркнуть. Когда консьержка объявила, что меня дожидается один господин, я по выражению ее лица сразу понял, что наверху моему взору откроется нечто внушительное; у нее был особый дар выражать всевозможные градации возраста и привлекательности посетителя; на этот раз речь, как видно, шла о весьма важной персоне, и действительно, Рекс, стоявший у окна в своей тяжелой дорожной шубе, выглядел в высшей степени барственно.
— Вот так так, — сказал я. — Здравствуйте.
— Я приходил сегодня утром. Мне объяснили, где вы обычно обедаете, но там вас не было. Он у вас?
Мне не было нужды спрашивать, о ком идет речь.
— Значит, он от вас тоже улизнул?
— Мы приехали вчера вечером и должны были сегодня сесть в поезд на Цюрих. После ужина я оставил его у «Лотти», потому что он пожаловался на усталость, а сам зашел в Клуб путешественников перекинуться в картишки.
Я заметил, что даже в разговоре со мной он старается оправдаться, словно репетирует некое еще предстоящее ему объяснение. «Пожаловался на усталость!» Я не представлял себе, чтобы Рекс позволил полупьяному юнцу помешать ему провести вечер за картами.
— А когда вернулись, его не оказалось?
— Напротив. Уж лучше бы так. Когда я пришел, он еще не ложился, сидел в номере! В клубе мне подряд несколько раз крупно подвезло, и я отхватил изрядный куш. И пока я спал, Себастьян увел его целиком. Оставил только два билета первого класса до Цюриха, засунул за раму зеркала. Без малого три сотни, черт бы его подрал!
— И теперь находится неизвестно где?
— Вот именно. Вы его случайно не прячете?
— Нет. Мои дела с этим семейством кончены.
— А мои, сдается мне, только начинаются, — вздохнул Рекс. — Послушайте, мне надо о многом переговорить с вами, а я обещал одному типу в клубе дать отыграться. Вы не поужинаете со мной?
— Хорошо. Где?
— Я обычно езжу к «Чиро».
— Почему не к «Пейяру»?
— Не слыхал о таком. Плачу я, имейте в виду.
— Имею. А я буду заказывать.
— Сговорились. Как, вы говорите, это место называется? — Я написал ему название ресторана. — Там можно наблюдать туземные нравы?
— Да, в каком-то смысле.
— Ну что ж. Это интересно. Закажите что-нибудь посмачнее.
— Я так и собираюсь.
Я приехал на двадцать минут раньше Рекса. Если уж мне предстояло провести вечер в его обществе, я намерен был по крайней мере провести его на свой вкус. Хорошо помню тот ужин — суп из oseille[48], морской язык, отваренный в белом винном соусе, caneton a la presse[49], лимонное суфле. В последнюю минуту, боясь как бы все это не показалось Рексу слишком простым, я прибавил caviar aux blinis[50]. Что до вина, то я дал ему возможность угостить меня бутылочкой «монтраше» 1906 года, тогда в самой поре, а к утке — «Кло де Бэз» 1904 года.
В те годы жизнь во Франции была легкой; обменный курс оставался таким, что моего содержания хватало выше головы, и существование, которое я вел, было отнюдь не полуголодным. Но такие ужины, как тот, я едал нечасто и потому чувствовал к Рексу дружеское расположение, когда он наконец появился в ресторане и отдал при входе пальто и шляпу с таким видом, будто расставался с ними навсегда. Он оглядывал полутемный маленький зал так подозрительно, словно ожидал встретить здесь бандитов или компанию загулявших студентов. Но увидел всего только четырех сенаторов, которые сидели и ели в абсолютном молчании, засунув под бороды салфетки. Я представил себе, как он потом будет рассказывать своим дружкам-коммерсантам: «…один мой знакомый, занятный парень, изучает живопись в Париже. Повел меня в такой чудной ресторанчик — знаете, мимо пройдешь и не взглянешь, — и лучше, чем там, меня в жизни не кормили. За столиками рядом сидело с полдюжины сенаторов, а уж это верный знак, что мы попали куда следует. Удовольствие, надо сказать, не из дешевых».
— От Себастьяна ни слуху ни духу? — спросил он.
— И не будет, пока ему не понадобятся деньги, — ответил я.
— Не слишком любезно с его стороны так вдруг исчезнуть. Я, надо сказать, имел надежду, что, если все с ним устрою, это мне кое-где зачтется.
Он явно хотел поговорить о себе; но я считал, что с этим можно подождать, пока не наступит время благодушия и пресыщения, время коньяка; повременить, пока внимание не притупится и можно будет слушать его лишь вполуха; теперь же, в самый животрепещущий момент, когда maitre d'hоtel переворачивает на сковородке блины, а двое подручных на заднем плане готовят утку, теперь мы лучше поговорим обо мне.
— Вы еще долго пробыли в Брайдсхеде? Упоминалось ли там мое имя после того, как я уехал?
— Упоминалось ли? Да оно у меня в ушах навязло, старина. У маркизы из-за вас была, как она говорила, «неспокойная совесть». Видно, она сказала вам пару ласковых на прощанье?
— «Злой и бессердечный», «бессмысленно жестокий».
— Серьезные обвинения.
— Назови хоть пирогом с голубятиной, только в рот не клади…
— Как вы сказали?
— Пословица такая.
— А-а.
Горячее масло и сметана смешались и полились, отделяя каждую серо-зеленую икринку и окружая ее золотисто-белым ореолом.
— Я люблю подсыпать накрошенного луку, — сказал Рекс. — Один знающий тип говорил, что это придает вкус.
— Вы сначала попробуйте без лука, — ответил я. — И расскажите, какие еще есть новости обо мне.
— Ну, во-первых, понятное дело, Грамграсс или как его там — этот учителишка, который все задирает нос, — сел в лужу, чем всех и порадовал. Дня два после вашего отъезда он ходил в любимчиках и героях. Не удивлюсь, если это он надоумил старушку вас выставить. Его на каждом шагу тыкали нам в нос, так что под конец Джулия не вытерпела и выдала его с головой.
— Джулия?
— Понимаете, он стал совать нос даже в наши дела. Ну, Джулия пронюхала, что он мошенник, и как-то, когда Себастьян был в подпитии — а он почти все время пил, — она вытянула у него всю историю с их большим турне. Тут мистеру Самграссу и конец. Вот тогда маркиза и стала баспокоиться, что, может быть, была с вами чересчур сурова.
— А скандал с Корделией?
— О, она затмила всех. Малышка просто чудо природы, она целую недеяю доставала ему виски у нас под носом. Мы сообразить не могли, откуда он его берет. Ну, после этого маркиза и пошла на попятный.
Суп после блинов был превосходен — горячий, негустой, с горчинкой, чуть пенистый.
— Скажу, вам одну вещь, Чарльз, которую мамаша Марчмейн держит от всех в секрете. Она очень больна. Может отдать концы в любую минуту. Джордж Анструтер смотрел ее осенью и дал сроку не больше двух лет.
— Каким образом это могло стать вам известно?
— Такие сведения до меня доходят. При том, что сейчас творится у них в семье, я ей года не дам. Но я знаю одного доктора в Вене, который мог бы привести ее в порядок. Он поставил на ноги Соню Бэмшир, когда все, включая Анструтера, махнули на нее рукой. Но мамаша Марчмейн не желает ничего делать. Я так понимаю, это ее заумная религия не велит заботиться о теле.
Морской язык был так прост и ненавязчив, что Рекс его не заметил. Мы ели под музыку пресса — хруст костей, шипенье капель крови и костного мозга, стук длинной ложки, обливающей соком нежную грудку. Здесь последовала пятнадцатиминутная пауза, когда я выпил первый стакан «Кло де Бэз», а Рекс закурил первую сигарету. Он откинулся назад, выпустил над столом струю дыма и сказал:
— А знаете, здесь недурно кормят. Надо бы, чтоб кто-нибудь занялся этим ресторанчиком и пустил дело на широкую ногу.
Потом он снова заговорил о Марчмейнах.
— Скажу вам еще одну вещь — им предстоит большая финансовая встряска, и очень скоро, если они не остерегутся.
— Я думал, они феноменально богаты.
— Ну, они действительно богаты для людей, не пускающих в оборот своего капитала. Но вся эта публика теперь беднее, чем до четырнадцатого года, а Флайты, видимо, этого не понимают. Я так полагаю, их поверенным, которые у них там управляют делами, эдак удобнее — выдавать им, сколько они ни потребуют, и чтобы никаких вопросов. Вы посмотрите, как они живут-Брайдсхед и Марчмейн-хаус, и там и тут на широкую ногу, содержат гончую охоту, арендную плату никто не взимает, никто никого не увольняет, старые слуги делают что хотят, молодые слуги им прислуживают, а сверх всего этого еще папаша живет отдельным домом и тоже себе ни в чем не отказывает. Знаете, какой у них дефицит?
— Разумеется, не знаю.
— Без малого сто тысяч только в Лондоне. Сколько у них долга в других местах, мне неизвестно. Ну а это изрядный куш для людей, которые не пускают в оборот своих денег. Девяносто восемь тысяч на ноябрь месяц. Такие сведения до меня доходят.
Такие сведения до него доходят, подумал я, сведения о смертельных болезнях и долгах.
Я наслаждался бургундским. Оно пришло как напоминание о том, что мир старше и лучше, чем тот, какой знаком Рексу, что человечество за долгие века своих страстей познало иную мудрость, чем мудрость Рекса. Случай свел меня с этим вином еще раз, когда я обедал со своим виноторговцем на Сент-Джеймс-стрит осенью в первый год войны; оно утратило остроту и блеск за эти годы, но все тем же неподдельным, чистым голосом своей лучшей поры говорило все те же слова надежды.
— Я не хочу сказать, что им угрожает нищета; на тридцать тысяч с хвостиком в год они всегда потянут; но им предстоит основательная встряска, а эти высшие классы имеют склонность чуть что не так, прежде всего урезывать дочерей. И я хочу успеть до этого обделать одно дельце с приданым.
Мы еще отнюдь не добрались до коньяка, но разговор о Рексе Моттреме тем не менее начался. Через двадцать минут я был бы полностью к его услугам, готовый слушать все, что он хотел мне сказать. Теперь же я просто отключился как смог и предался дымящимся передо мною блюдам, но блаженство мое нарушали отдельные фразы, прорываясь ко мне из грубого, алчного мира, где обитал Рекс. Ему нужна была женщина; он намерен был получить лучший товар, какой предлагал ему рынок, и на условиях, которые назначит он сам. Именно к этому все и сводилось.
— …Мамаше Марчмейн я не нравлюсь. Ну да мне горя мало. Я не на ней собираюсь жениться. У нее не хватает пороху сказать открыто: «Вы не джентльмен. Вы авантюрист из колоний». Она говорит, что мы живем в разных атмосферах. Хорошо, согласен. Но Джулии, представьте, моя атмосфера по вкусу… Потом этот вопрос с религией. Я ничего не имею против их церкви; у нас в Канаде католики не пользуются особым уважением, но тут дело иное; в Европе есть католики из самой что ни на есть высшей знати. Хорошо, пусть Джулия ходит в эту свою церковь, когда ей вздумается. Мешать ей я не буду. Она, кстати сказать, плевать на это все хотела, но я люблю, чтобы у женщины была религия. Мало того, пусть воспитывает детей в католичестве. Готов подписать какие они там хотят гарантии, обещания… И наконец, мое прошлое. «Мы так мало о вас знаем». Слишком много она обо мне знает, черт бы ее побрал. Вам, может быть, известно, что у меня тут пару лет была кое с кем связь?
Мне это было известно; всякому, кто хоть немного знал Рекса, было известно о его недавней связи с Брендой Чэмпион; было известно также, что из этой связи он вынес все, чем теперь выделялся среди заурядных биржевых махинаторов, — и гольф с принцем Уэльским, и членство в клубе «Брэтта», и даже знакомства и связи по кулуарам палаты общин, ибо, когда он там впервые появился, влиятельные члены его партии не говорили о нем: «Вон идет многообещающий молодой депутат от Грайдли, который так удачно выступил по вопросу об ограничении квартирной платы»; говорили другое: «Вот идет последнее увлечение Бренды Чэмпион», и это очень помогало ему во взаимоотношениях с мужчинами; благосклонность женщин он обычно завоевывал сам.
— Ну так вот, с этим давно покончено. Мамаша Марчмейн из деликатности не назвала вещи своими именами; она просто сказала, что я «пользуюсь известностью». А какого бы зятя ей хотелось — недопеченного монаха вроде Брайдсхеда? Джулия про ту историю все знает; и если ее это не смущает, кому, скажите, пожалуйста, какое дело?
После утки появился кресс-салат с цикорием, чуть-чуть присыпанный прозрачными кружочками лука. Я всеми силами старался думать только о салате. Потом мне какое-то время удавалось думать только о суфле. А затем наконец наступил срок коньяку, а с ним законное время для всех этих излияний.
— … Джулии только-только пошел двадцатый год. Я не хочу ждать до ее совершеннолетия. И мне нужно, чтобы все было обставлено как надо, иначе я не согласен… Никаких там тайных браков и венчаний втихомолку… И я не намерен допустить, чтобы ее надули с приданым. Ну, а раз маркиза не хочет вести игру по правилам, я еду к папаше, попробую сговориться с ним. Он, как я понимаю, готов дать согласие на все, что может доставить ей неудовольствие. Он сейчас в Монте-Карло. Я думал отправиться туда, забросив Себастьяна в Цюрих. Вот почему особенно некстати, черт бы это все побрал, что он вдруг сквозь землю провалился.
Коньяк был не в Рексовом вкусе. Он был прозрачный и бледный и был подан в бутылке, не покрытой грязью и наполеоновскими медалями. Он был всего лишь на год или на два старше Рекса и лишь совсем недавнего разлива. Нам подали его в узких, как цветы, рюмках очень тонкого стекла и небольших размеров.
— Бренди — единственная вещь, в которой я знаю толк сказал Рекс. — У этого никудышный цвет. И кроме того, я не как его не распробую в эдаком наперстке.
Ему принесли стеклянный шар величиною с голову. Он распорядился, чтобы шар разогрели на спиртовке, поболтал в нем великолепный напиток, погрузил лицо в его пары и провозгласил, что у себя на родине пьет такой с содой.
Тогда, стыдливо зардевшись, ему выкатили из соответствующего тайника огромную заплесневелую бутылку, какие специально держат для людей такого сорта, как Рекс.
— Вот это другое дело! — сказал он, болтая в стакане густое, как патока, зелье, оставлявшее на стекле черные ободки. — Они всегда прячут бутылку-другую про запас, надо только поднять шум. Дайте-ка я вам плесну.
— Я вполне доволен этим.
— Ну, не знаю, конечно, кому что нравится. Он закурил сигару и откинулся на спинку стула, пребывая в мире с окружающей действительностью; я тоже вкушал мир и покой, но уже совсем в другой действительности. И оба мы были счастливы. Он говорил о Джулии, а я слышал его голос, не разбирая слов на таком большом расстоянии, точно отдаленный собачий лай в тихую-тихую ночь.
Помолвка была объявлена в начале мая. Я увидел заметку в «Континентал дейли мейл» и заключил, что Рекс «сговорился с папашей». Однако оказалось вовсе не так, как я ожидал. Следующее известие о них я получил в середине июня, прочитав в газете, что они были скромно повенчаны в Савой-Чейпел. Члены королевской семьи на свадьбе не присутствовали, премьер-министр тоже. Все это было очень похоже на «венчанье втихомолку», но только через несколько лет я узнал, что там в действительности произошло.
Глава вторая
Подошло время поговорить о Джулии, которая до этой минуты играла лишь эпизодическую и довольно загадочную роль в драме Себастьяна. Так виделась она в ту пору мне, а я — ей. Мы следовали каждый своим путем, которые, правда, сводили нас довольно близко, но мы оставались чужими друг другу. Она рассказывала мне позднее, что взяла меня на заметку: так, разыскивая на полке нужную книгу, замечаешь вдруг другую, берешь в руки, открываешь и говоришь себе: «Эту мне тоже надо будет как-нибудь прочесть», — но пока что ставишь на место и продолжаешь поиски. С моей стороны интерес был живее, потому что внешнее сходство между братом и сестрой, то и дело проявлявшееся в новом ракурсе, при новом освещении, всякий раз заново поражало меня, и, по мере того как Себастьян в своем быстром, катастрофическом упадке день ото дня отодвигался и мерк, образ Джулии выступал все ярче и определеннее.
Она была худенькой в то время, плоскогрудой и голенастой — одни ноги, руки и шея, бестелесная, словно кузнечик, в этом, как и во всем остальном, она следовала моде; но ни короткая стрижка и большие шляпы того времени, ни особый, вытаращенный взгляд того времени, ни клоунские пятна румян на скулах не могли подвести ее под общий шаблон.
Когда я впервые познакомился с нею, когда она в автомобиле встретила меня на станции в то жаркое лето 1923 года и в сгущающихся сумерках везла в свой дом, у нее за плечами было восемнадцать лет и только что окончившийся первый лондонский сезон.
По мнению некоторых, это был самый блестящий сезон после войны, когда все начало снова приходить в норму. Джулия была его центром. Тогда в Лондоне оставалось, вероятно, пять или шесть «исторических домов», Марчмейн-хаус на Сент-Джеймс-сквер в их числе, и бал, данный там для Джулии, несмотря на смехотворные костюмы того времени, был зрелищем во всех отношениях великолепным. Себастьян ездил на этот бал из Оксфорда и звал меня, хотя и не слишком настойчиво; я отказался и впоследствии пожалел о своем отказе, ибо то был у них последний бал в подобном роде, последнее из великолепных празднеств.
Но разве я знал? В те дни казалось, что будет еще довольно времени на все, что можно не торопясь обследовать распахнутый перед тобою мир. А я был так полон Оксфордом в то лето и решил, что Лондон может подождать.
Остальные исторические дома принадлежали родственникам или старинным знакомым; кроме того, были еще многочисленные роскошные особняки Мэйфэра и Белгрейвии, один за другим наполнявшиеся по вечерам праздничным светом и блестящей толпой. Иностранцы, возвращающиеся на прежние посты в Лондон из своих опустошенных стран, писали домой, что наблюдают здесь признаки пробуждения той жизни, которую считали невозвратно утраченной среди грязи и колючей проволоки; и все эти безоблачные недели Джулия порхала, блистая — то лучом солнца в листве деревьев, то огоньком свечи в радужном сиянии зеркал, — и пожилым господам и дамам, сидящим в углу со своими воспоминаниями, виделась в ней синяя птица счастья. «Старшая дочка Брайди Марчмейна, — говорили они. — Какая жалость, что он не видит ее сегодня!»
Вечер за вечером, бал за балом, где бы она ни появлялась в тесном кружке своих приближенных, она приносила с собой мгновение радости, какая пронизывает все твое существо на берегу реки, когда лазурнокрылый зимородок вдруг вспорхнет над водою.
Вот каким было существо, везшее меня однажды в автомобиле сквозь летние сумерки, — ни женщина, ни дитя — девочка, еще не потревоженная любовью, вдруг смущенно открывшая силу своей красоты, стоящая в нерешительности на зеленом берегу жизни; человек, увидевший у себя в руке неведомо откуда взявшееся смертельное оружие; героиня детской сказки, держащая в горсти волшебное колечко — стоит только потереть его кончиками пальцев и шепнуть волшебное слово, и земля разверзнется у ее ног и изрыгнет покорного исполина, который распластается перед нею и будет исполнять все ее желания, но что он ей ни принесет, еще окажется не то, не такое, не так.
В тот вечер я не интересовал ее; невызванный джинн так и остался под землею, глухо рокоча у нас под ногами; она жила в своем особом крохотном мирке, внутри другого крохотного мирка, в самом центре целой системы концентрических сфер, подобных шарикам из слоновой кости, которые так искусно вырезают мастера Китая; и только одно незначительное сомнение — совсем незначительное по ее отвлеченным меркам — тревожило ее душу. Она затруднялась решить — но без душевного волнения, издалека и с высоты, — за кого ей выйти замуж. Так стратеги склоняются в нерешительности над картой, над горсткой натыканных булавок и узором цветных меловых линий обдумывая некоторые перемещения этих булавок и линий, дюйма на два — на три, не более, но где-то вне стен военного совета, куда не достает взгляд усердных штабистов, эти дюймы означают жизнь или гибель всего прошлого, настоящего и будущего. Для самой себя она была лишь символом, не наполненным реальностью ни детства, ни девичества; победа и поражение были только перемещением булавок и линий; суровая правда войны была ей неведома.
«Жаль, что мы не живем за границей, — думала она, — где такие вещи решаются родителями и юристами».
Выйти замуж, и притом как можно скорее и удачнее, было целью всех ее подруг. Если она и заглядывала дальше свадьбы, то лишь видя в ней начало отдельного бытия, первое сражение, чтобы заслужить шпоры, а уж потом выехать на подвиги настоящей жизни.
Она заведомо превосходила красотой всех ровесниц, но знала, что в том маленьком мирке внутри мирка, где она обитает, за нею числятся и кое-какие серьезные недочеты. На диванах вдоль стен, где старики подсчитывали шансы, обсуждались и обстоятельства не в ее пользу. Например, скандал с ее отцом, это небольшое унаследованное пятнышко ни ее ослепительности, быть может чуть отчетливее проступающее из-за каких-то черточек в ее собственном поведении — капризном, своевольном и менее упорядоченном, чем у других; когда б не это, кто знает?..
Один вопрос затмевал для пожилых дам у стены своей важностью все остальные: на ком должны жениться молодые принцы? Более чистой родословной и более очаровательной внешности, чем у Джулии, им не найти; однако на ней лежит эта легкая тень, делающая ее не вполне достойной столь высокой чести. К тому же еще ее религия.
Ничто не могло быть дальше от честолюбивых стремлений Джулии, чем брак с членом королевской фамилии. Она знала — или думала, что знает, — чего хочет, и ее прельщало совсем не это. Но в какую бы сторону она ни обратилась, между нею и ее целью всегда оказывалась ее религия.
Дело представлялось ей совершенно безнадежным. Если теперь, взращенная святой церковью, она совершит отступничество, ее ждет ад, тогда как ее знакомым девушкам-протестанткам, воспитанным в счастливом неведении, ничто не мешает выйти замуж за старших сыновей, жить в мире со всем светом и раньше нее попасть на небеса. Для нее не могло быть и речи о старших сыновьях, а с младшими сыновьями тоже дело обстояло непросто, и рассчитывать на них особенно не приходилось. Младшие сыновья хоть и были на вторых ролях, но это не давало им никаких преимуществ; долг велел им держаться в тени, на случай если какое-нибудь несчастье возвысит кого-то на место старшего брата, и, раз именно к этому сводилась их роль, желательно было, чтобы они всегда оставались пригодны для восшествия. Пожалуй, только в семьях, где имелось три или четыре сына, католичка могла бы получить самого младшего, не встречая особого противодействия. Оставались, конечно, еще сами католики, но их было мало в том ограниченном мирке, который окружал Джулию; это были главным образом родственники ее матери, и они казались ей сумрачными и непонятными. К тому же в богатых и знатных католических семьях, которых всего насчитывалось разве с десяток, в это время не было наследников подходящего возраста. Иностранцы — а их было немало среди ее материнской родни — всегда усложняли денежные отношения, отличались странными манерами, и вообще для английской девушки выйти замуж за иностранца означало признать свою полную несостоятельность. Что же оставалось?
Вот чем была озабочена Джулия после своего лондонского триумфа. Она знала, что трудность эта разрешима. Наверняка существует немало людей за пределами ее кружка, которые вполне достойны быть включены в него, стыдно было, что она должна искать их. Не для нее жестокая, утонченная роскошь выбора, приятная домашняя игра в кошки-мышки. Не для нее роль Пенелопы; ей предстояло отправиться на промысел.
Она глупейшим образом даже составила себе заранее портрет подходящего мужчины: это должен был быть английский дипломат с красивой, но не слишком мужественной наружностью, который в настоящее время находится на службе за границей, и загородный дом, которым он владеет, должен быть поменьше, чем Брайдсхед, и поближе к Лондону; человек он старый, уже за тридцать, недавно трагически овдовевший.
Джулия считала, что некоторая подавленность недавним горем ему не повредит; перед ним открывалась блестящая карьера, но в своем одиночестве он уже начал утрачивать вкус к жизни; быть может даже, ему угрожала опасность попасть в руки беззастенчивой иностранной авантюристки, и он нуждался в инъекции молодых, свежих сил, чтобы благополучно достичь посольства в Париже. Сам умеренный агностик, он ценил в людях религиозность и ничего не имел против католического воспитания своих детей; при этом он был, однако, сторонник разумного ограничения семьи двумя мальчиками и одной девочкой на протяжении такого удобного срока, как, скажем, двенадцать лет, а вовсе не стал бы требовать, чтобы жена беременела каждый год, как можно было ожидать от мужа-католика. Он имел двенадцать тысяч в год сверх того, что получал по службе, и ни одного мало-мальски близкого родственника. Кто-нибудь в таком духе, пожалуй, был бы как раз то, что надо, думала Джулия, и она решительно приступила к поискам, когда мы с нею познакомились на железнодорожной станции. Я для нее интереса не представлял. Она недвусмысленно дала мне это понять, когда приняла сигарету из моих губ.
Все это я узнал о Джулии постепенно, по кусочкам, как узнают о прежней — или, как тогда кажется, предварительной — жизни той, которую любишь, тем самым как бы по-своему участвуя в ней и замысловатыми путями направляя ее в свою сторону.
Джулия покинула нас с Себастьяном в Брайдсхеде и поехала гостить к их тетке, леди Роскоммон, в ее вилле на Кап-Ферра. По дороге она продолжала обдумывать свое положение. Теперь у ее вдовца-дипломата появилось имя: Юстас, и с этого мгновения он стал для нее фигурой комической, забавной шуткой, которой ни с кем нельзя было поделиться, так что когда наконец такой человек действительно встретился у нее на пути — правда, не дипломат, а мечтательный майор лейб-гвардеец, — влюбился и положил к ее ногам все те дары, которые она сама для себя выбрала, ему пришлось еще более грустному и мечтательному, чем раньше, удалиться ни с чем, потому что к этому времени она познакомилась с Рексом Моттремом.
Возраст Рекса давал ему большие преимущества, ибо среди подруг Джулии процветал своего рода геронтофильский снобизм; юноши были провозглашены неотесанными и прыщавыми; считалось куда более шикарным пообедать в «Ритце» одной (что вообще в те дни очень мало кому из барышень ее круга разрешалось и не одобрялось старушками, которые вели всему пристальный счет, уютно беседуя на балах у стены), сидя за столиком слева от входа, в обществе накрахмаленного и сморщенного старого ловеласа, насчет которого получала предостережения в девичестве еще ваша мать, чем проводить время в компании румяных юных фатов. Рекс, естественно, не был ни накрахмален, ни сморщен; люди постарше считали его весьма напористым и нахальным юнцом, но Джулия различила в нем неоспоримый шик общения накоротке со всякими «Максами» и «Эф. И.», шик знакомства с принцем Уэльским, высоких ставок в Спортивном клубе, второй бутылки и четвертой сигары, шофера, часами ждущего внизу, — всего того, чему, безусловно, позавидовали бы ее подруги. Его положение в свете было не таким, как у всех, его окружал ореол таинственности, быть может, даже преступности; говорили, что Рекс всегда вооружен. В среде друзей Джулии был моден наигранный ужас перед аристократическим мещанством Понт-стрит; они коллекционировали «понт-стритовские» выражения, убийственные в их глазах для тех, кто ими пользуется, и между собой — а часто, ко всеобщему смущению, и на людях — говорили на «понт-стритовском» языке. Были «понт-стритовские» манеры — носить перстень с печаткой, угощать в театре шоколадными конфетами, говорить своей даме на балу: «Разрешите мне промыслить для вас какого-нибудь фуража». Каков бы ни был Рекс Моттрем, во всяком случае, он был не с Понт-стрит. Он явился прямо со «дна» и сразу же шагнул в мир Бренды Чэмпион, которая тоже была внутренним шариком в своей системе костяных концентрических сфер. Быть может, Джулия угадывала в Бренде Чэмпион карикатуру на самое себя через двенадцать лет, иначе трудно объяснить враждебность, с какой они относились друг к другу. Несомненно, что как собственность Бренды Чэмпион, Рекс обладал для Джулии добавочной привлекательностью.
В то лето Рекс и Бренда жили в Кап-Ферра на соседней вилле, которую арендовал один газетный магнат, оказывавший гостеприимство разным политическим деятелям. В обычной жизни они бы никогда не попали в поле зрения леди Роскоммон, но, живя бок о бок, поневоле завязали знакомство, и Рекс сразу же, хотя и с оглядкой, приступил к ухаживанию.
Все это лето он чувствовал себя неспокойно. С миссис Чэмпион он оказался в тупике; поначалу все было весьма занимательно, однако теперь их связь начала его тяготить. Он убедился, что миссис Чэмпион живет, как это принято у англичан, в маленьком, тесном мирке. Рексу же нужны были широкие горизонты. Ему пришло время ссыпать в одну груду свою добычу, опустить на мачте черный флаг, выйти на берег, повесить над камином пиратский топорик и приступить к пожинанию плодов. Ему надо было жениться. Он тоже искал своего Юстаса, но при его образе жизни у него почти не было знакомых барышень. О Джулии он слышал; она была признанная звезда среди светских дебютанток — во всех отношениях соблазнительная добыча.
Под бдительным, холодным взором миссис Чэмпион, устремленным из-за темных солнечных очков, Рекс мало что мог сделать в Кап-Ферра сверх установления простого знакомства, которое можно было бы углубить в дальнейшем. Он практически никогда не бывал с Джулией наедине, однако умел устроить так, чтобы без нее не обходилось ни одно их летнее предприятие; он учил ее играть в «железку», следил за тем, чтобы она всегда оказывалась в его машине, когда они ездили в Монте-Карло или Ниццу, словом, делал достаточно, чтобы леди Роскоммон написала письмо леди Марчмейн, а миссис Чэмпион поспешила увезти его раньше предполагавшегося срока из Кап-Ферра на Антиб.
Джулия поехала к матери в Зальцбург.
— Тетя Фанни пишет мне, — сказала ей мать, — что ты там очень подружилась с мистером Моттремом. По-моему, его нельзя считать светским человеком.
— По-моему, тоже, — ответила Джулия. — Но я не уверена, что мне нравятся светские люди.
Есть пословица, что у каждого новоявленного богача имеется тайна: как он раздобыл первые десять тысяч; так вот, качества проявленные им тогда, в ту раннюю пору, когда он еще не был «величиной» и каждого, с кем он сталкивался, надо было как-то расположить в свою пользу, когда его поддерживала только надежда на лучшее будущее и мир давал ему только то, что он мог выманить у него личным обаянием, — именно эти качества в последующей жизни, если он переживет свой триумф, обеспечивают новому богачу успех у женщин. В Лондоне, оказавшись более или менее на свободе, Рекс превратился в покорного раба Джулии; он проводил свои дни в полной зависимости от того, какие планы были у нее, ездил туда, где мог встретиться с нею, искал расположения тех, кто мог замолвить за него доброе слово; он заседал в нескольких благотворительных комитетах для того только, чтобы оказаться рядом с леди Марчмейн; он предложил услуги Брайдсхеду на случай, если тот вздумает выставить свою кандидатуру в парламент (и получил резкий отпор); он стал выказывать горячий интерес к католической церкви, пока не обнаружил, что это не путь к сердцу Джулии. Он всегда готов был доставить ее в своем «испано», куда ей было угодно; возил ее и компанию ее друзей на кулачные бои и потом знакомил с чемпионами; и все это время ни разу не заикнулся о любви. Он добился того, что стал ей приятен, а еще через некоторое время и необходим; она сначала гордилась им, потом стала немного стыдиться, но к этому времени, между рождеством и пасхой, она уже не могла без него обойтись. А потом совершенно неожиданно для самой себя вдруг обнаружила, что влюблена.
Это тревожное и непрошеное открытие произошло однажды майским вечером, когда Рекс сказал ей, что будет занят в парламенте, а она, случайно проезжая по Чарльз-стрит, увидела его выходящим из дома, где, как она знала, живет Бренда Чэмпион. Она была так оскорблена и возмущена, что едва высидела за ужином, при первой же возможности уехала домой и горько проплакала целых десять минут; потом ощутила голод, пожалела, что так мало ела за ужином, велела принести себе молоко и хлеба и легла спать, распорядившись, чтобы завтра, когда позвонит мистер Моттрем, все равно в котором часу, ему сказали, что она не велела себя беспокоить.
Назавтра она, как обычно, позавтракала в постели, почитала газеты, поговорила по телефону. Наконец спросила:
— Мистер Моттрем случайно не звонил?
— О да, ваша светлость, четыре раза. Соединить его с вами, когда он позвонит опять?
— Да. Нет. Скажите, что меня нет дома.
Когда она спустилась, в холле на столе лежала записка: «Мистер Моттрем ожидает леди Джулию в „Ритце“ в половине второго».
— Я сегодня обедаю дома, — объявила она. После обеда она ездила с матерью за покупками; они пили чай у тетки и вернулись в шесть.
— Вас ожидает мистер Моттрем, ваша светлость. Я пригласил его в библиотеку.
— Ой, мамочка, я не могу его видеть. Скажи, чтобы он ушел.
— Но это было бы нелюбезно, Джулия. Я всегда говорила, что из твоих друзей мистер Моттрем не пользуется моими особыми симпатиями, но я привыкла к нему, почти привязалась. И право же, нельзя быть такой непостоянной в отношениях с людьми — особенно с такими людьми, как мистер Моттрем.
— Мамочка, я не должна с ним видеться. Если я выйду к нему, произойдет крупное объяснение.
— Глупости, Джулия, ты вертишь им, бедняжкой, совершенно как хочешь.
Так Джулия отправилась в библиотеку и через час вышла оттуда сговоренной невестой.
— Ах, мамочка, я же предупреждала тебя, что это случится, если я туда пойду.
— Ничего похожего. Ты просто сказала, что произойдет крупное объяснение. Но я никак не предполагала, что это будет такое объяснение.
— Ну, все равно, ты ведь к нему привязалась, верно? Ты сама сказала.
— Да, он был во многом очень любезен. Но я нахожу его абсолютно неподходящим для того, чтобы быть твоим мужем. Тебе это подтвердят все.
— Ах, к черту, к черту всех!
— Мы о нем ничего не знаем. Может быть, у него даже черная кровь в жилах — если на то пошло, он и в самом деле подозрительно смугл. Дорогое дитя, вся эта затея совершенно немыслима. Не представляю себе, как ты можешь быть настолько неразумна.
— Ну а иначе какое я имею право злиться на него, когда он ходит к этой ужасной старухе? Вот говорят о спасении падших женщин. А я, наоборот, спасаю падшего мужчину. Я вызволяю Рекса из трясины смертного греха.
— Не говори вздора, Джулия.
— Но разве не смертный грех — спать с Брендой Чэмпион?
— И не говори непристойностей.
— Он обещал никогда больше с ней не видеться. Не могла же я от него этого требовать, не признав, что люблю его, верно?
— Нравственность миссис Чэмпион, слава богу, не входит в круг моих забот. А твое счастье входит. Если хочешь знать, я считаю мистера Моттрема внимательным и полезным знакомым, но доверяться ему не стала бы ни в чем и уверена, что у него будут очень неприятные дети. Такие признаки всегда возвращаются в потомках. Не сомневаюсь, что через несколько дней ты сама же во всем раскаешься. А пока не следует ничего предпринимать. Никто ничего не должен знать и даже подозревать. Ты не будешь больше ездить с ним обедать. Здесь, конечно, можете видеться, но на публике показываться не нужно. Пришли его ко мне, я поговорю с ним по душам.
Так начался для Джулии год тайной помолвки — трудное время, потому что в тот вечер Рекс впервые обнял и поцеловал ее; не так, как ей случалось два-три раза до этого целоваться с сентиментальными, нерешительными мальчиками, а с настоящей страстью, которая и в ней открыла нечто себе подобное. Эта страстность в них обоих пугала ее, и однажды она пришла с исповеди с решением положить этому конец.
— Иначе я должна буду перестать с вами видеться, — сказала она.
Рекс немедленно изъявил полную покорность, как раньше, еще зимой, когда он день за днем безропотно поджидал ее на морозе в своем большом автомобиле.
— Если бы мы только могли пожениться прямо сейчас, — вздохнула она.
Полтора месяца они держались друг от друга на расстоянии вытянутой руки, целовались наскоро при встрече и прощании, а в остальном проводили время, сидя врозь и обсуждая, что они будут делать, где будут жить и много ли шансов у Рекса получить место помощника министра. Джулия была счастлива и влюблена и всем существом жила в завтрашнем дне. Потом, перед самым концом парламентской сессии, она вдруг узнала, что Рекс провел субботу и воскресенье у одного биржевика в Саннингдейле, тогда как ей было сказано, будто он едет к своим избирателям, и что там была также миссис Чэмпион.
В тот же вечер, когда ей стало это известно, после прихода Рекса между ними повторилась та же сцена, что и два месяца назад.
— Чего вы хотите? — сказал он. — Какое право вы имеете требовать так много, когда сами даете так мало?
Она не знала, как ей быть, и обратилась со своим недоумением на Фарм-стрит, где изложила его в общих чертах, без подробностей, не в исповедальне, а в маленькой полутемной комнатке, специально для этих целей предназначенной.
— Разве не правильнее было бы, святой отец, самой совершить маленький грех и тем уберечь его от большого греха?
Но старый кроткий иезуит был непреклонен. Она почти не слушала его; ей отказывали в том, чего ей хотелось, больше ее ничего не интересовало.
Кончив свои объяснения, он сказал:
— А теперь вам лучше исповедаться, дитя мое.
— Нет, спасибо, — ответила она, словно ей предложили ненужный товар с прилавка. — Сегодня не хочу. — И сердито пошла домой.
С этого дня она закрыла свою душу для веры. И леди Марчмейн видела это, и еще одно страданье прибавилось к ее недавнему страданью по Себастьяну, и к ее старому страданью по мужу, и к смертельному недугу в ее теле; эти муки свои приносила она каждый день с собою в церковь, и казалось, сердце ее пронзено ими, точно клинками, живое сердце — двойник раскрашенного гипсового; какое утешение выносила она оттуда, бог весть.
А годовой срок истекал, и тайна помолвки распространилась от доверенных подруг Джулии через доверенных подруг этих подруг, пока наконец, точно круги по воде, добежавшие до топких берегов, не появились кое-какие намеки в печати, и леди Роскоммон в качестве камер-фрейлины принуждена была ответить на ряд затруднительных вопросов. Что-то надо было предпринимать. Поэтому, когда Джулия отказалась от рождественского причастия, когда леди Марчмейн поняла, что ее предали — сначала я, потом мистер Самграсс и, наконец, Корделия, — в сером свете первых дней нового, 1925 года, она приняла решение действовать. Всякие разговоры о помолвке были запрещены; Джулии и Рексу не разрешалось больше видеться, Марчмейн-хаус предполагалось на полгода закрыть, и сама леди Марчмейн с Джулией должны были отправиться в заграничное путешествие, посетить иностранных родственников. Однако по дремучей, средневековой прямолинейности, которая сочеталась у нее с душевной тонкостью, она даже теперь сочла возможным отправить Себастьяна к доктору Боретусу под надзором Рекса, и Рекс, также обманув ее доверие, уехал в Монте-Карло, откуда и нанес ей последний, сокрушительный удар. Лорд Марчмейн не стал вдаваться в подробности его характера — это, по его мнению, было делом Джулии. Рекс показался ему здоровым, процветающим мужчиной, к тому же имя его было маркизу уже знакомо из чтения политических отчетов; он был игрок, играл по крупной, хотя и сохранял осмотрительность; он знался с уважаемыми людьми; перед ним было блестящее будущее; и его не любила леди Марчмейн. Лорд Марчмейн в целом одобрил выбор Джулии и дал согласие на немедленное вступление в брак.
Рекс с головой погрузился в хлопоты по подготовке к свадьбе. Он купил ей кольцо, и не с прилавка у Картьера, как она ожидала, а в задней комнате в Хэттон-гарден, у одного человека, который вынимал из сейфа маленькие мешочки с камнями и рассыпал перед нею на письменном столе; потом в другом заднем помещении другой человек огрызком карандаша на клочке бумаги делал наброски оправы; и результат вызвал зависть всех ее знакомых.
— Откуда вы обо всем это знаете, Рекс? — удивлялась она.
Каждый день она удивлялась тому, что он знает и чего не знает. Тогда и то и другое придавало ему привлекательность в ее глазах.
Его дом на Хартфорд-стрит вполне мог вместить их обоих, к тому же он был недавно заново обставлен и отделан самой дорогой лондонской фирмой. Загородный дом, по мнению Джулии, им был пока не нужен, они всегда могли себе что-нибудь снять, если бы захотели выехать из Лондона.
Затруднения произошли с брачным контрактом. Рекс решительно отказывался положить на имя жены в банк необходимую сумму. Адвокаты были в смятении. Джулия не желала входить в эти частности.
— На черта мне нужно, чтобы деньги лежали у nоверенного? — возмущался Рекс.
— Не знаю, дорогой.
— Я заставляю деньги работать на меня. И они дают мне пятнадцать двадцать процентов годовых. Замораживать их на трех с половиной — это чистый убыток.
— Не сомневаюсь, дорогой.
— Эти типы разговаривают со мною так, будто я хочу вас ограбить. На самом деле это они занимаются грабежом Они вознамерились лишить вас на две трети того дохода, который обеспечил бы я.
— Это так важно, Рекс? Ведь у нас куча денег, верно? Рекс надеялся получить на руки все приданое Джулии пустить его в оборот Адвокаты настояли на том, чтобы эти деньги были положены на ее имя в банк, но добиться того, чтобы и он положил такую же сумму на имя жены, им не удавалось. Наконец, с большим трудом он дал согласие застраховать свою жизнь, предварительно объяснив адвокатам, что вся эта их страховка — просто-напросто способ положить часть его законных доходов в карман другому, впрочем, у него оказались связи в одной страховой компании, и с их помощью ему удалось свести до минимума неприятные стороны этой финансовой операции, присвоив комиссионные, на которые рассчитывали сами адвокаты.
Последним по порядку, но отнюдь не по значению встал вопрос о вероисповедании Рекса. Когда-то в Мадриде он присутствовал на королевской свадьбе и теперь задумал устроить, нечто в этом роде и для себя.
— Чего у вашей церкви не отнимешь, — признал он, — так это роскошного вида. Кардиналы, я вам скажу, — это такое зрелище. Сколько их имеется в Англии?
— Только один, дорогой.
— Один? А из за границы наложенным платежом нельзя выписать еще парочку?
Тогда ему объяснили, что заключение смешанных браков совершается без особой торжественности.
— То есть как это смешанных? Я ведь не негр какой-нибудь.
— Нет, дорогой, между католиками и протестантами.
— О, только-то? Тогда этот брак скоро перестанет быть смешанным. Я приму католичество. Что нужно для этого сделать?
Леди Марчмейн была подавлена и озадачена этим новым оборотом дела; напрасно она говорила себе, что из милосердия должна отнестись к его намерению серьезно, — ей вспоминалась другая свадьба и другое обращение в католичество.
— Рекс, — сказала она, — боюсь, что вы плохо представляете себе, какой важный шаг в деле веры задумали совершить. Великий грех был бы пойти на это, не уверовав искренне.
Но он уже научился разговаривать с нею:
— Я не прикидываюсь таким уж набожным, — ответил он ей, — и не корчу из себя богослова, но мое мнение, что две религии в семье — это плохо. Вера человеку нужна. И если ваша церковь хороша для Джулии, значит, она и для меня хороша.
— Ну что ж, — сказала она — Я позабочусь, чтобы вы получили наставление в вере.
— Послушайте, леди Марчмейн, у меня нет времени. Наставление это с меня как с гуся вода. Пусть мне просто дадут бумаги, я поставлю, где надо, подпись, и дело с концом.
— На это обычно уходят месяцы, иногда вся жизнь.
— А я схватываю на лету. Испытайте меня. И Рекс был отправлен на Фарм-стрит к отцу Моубрею — духовному лицу, прославленному триумфами над твердолобейшими из обращаемых в католическую веру. После третьей беседы отец Моубрей был приглашен к леди Марчмейн на чашку чая.
— Ну, как вы находите моего будущего зятя?
— Более трудного прозелита я не встречал за всю мою жизнь.
— Неужели? Я думала, он будет во всем так послушен.
— Вот именно. К нему совершенно не подступишься. Кажется, у него нет ни намека на собственную духовную любознательность и естественное богопочитание. В первый день я захотел узнать, какова была его прежняя религиозная жизнь, и спросил, как он понимает молитву. Он ответил «Я никак не понимаю. Вы сами мне скажите». Я попытался что-то выразить в двух словах, а он сказал «Ну, хорошо это — про молитву. Дальше что идет?» Я дал ему с собою катехизис. А вчера спросил его, одно ли есть у Господа нашего естество. Он ответил «Сколько вы скажете, мой отец, столько и есть». Потом я спросил у него. «Если папа Римский поглядит на небо, увидит тучу и предскажет дождь, обязательно ли будет дождь или нет?» — «О да, отец мой, обязательно». — «Ну, а если все таки дождь не пойдет?» Он подумал минуту и говорит: «Я так понимаю, что он пойдет, но вроде как духовный дождь, а мы из-за грехов наших его не увидим». Леди Марчмейн, он не соответствует ни одной разновидности язычества, известной миссионерам.
— Джулия, — сказала леди Марчмейн дочери, когда отец Моубрей ушел. — Ты уверена, что Рекс делает это не только с той целью, чтобы доставить нам удовольствие?
— Едва ли ему могло прийти такое в голову, — ответила Джулия.
— Значит, он искренен в своем обращении?
— Мамочка, он твердо и бесповоротно решил принять католичество. — А про себя Джулия добавила: «За свою долгую историю святая церковь перевидела немало странных прозелитов. Едва ли армия Хлодвига состояла только из убежденных католиков. Одним больше, одним меньше — не велика беда».
Через неделю иезуит снова пришел к чаю. Начались пасхальные каникулы, и Корделия была дома.
— Леди Марчмейн, — сказал их гость, — вам следовало бы избрать для этой роли кого-нибудь из молодых отцов. К тому времени, когда Рекс станет католиком, меня давно уже не будет в живых.
— Неужели? А я думала, все идет хорошо.
— Все и шло в определенном смысле неплохо. Он выказывал исключительное рвение — принимал на веру все, что я говорю, запоминал целые куски, не задавал никаких вопросов. Не нравилось мне все это. Он словно лишен чувства реальности. Но я знал, что он попадет в сферу стойкого католического влияния, и был готов принять его. Временами приходится идти на риск — со слабоумными, например. Никогда не скажешь с уверенностью, что они поняли, чего не поняли, но если имеется кто-нибудь, кто будет за ними присматривать, мы в таких случаях готовы идти на риск.
— Ах, как жаль, что Рекс этого не слышит! — вздохнула Корделия.
— Но вчера я все понял. Беда современного образования в том, что оно маскирует истинные размеры человеческого невежества. С людьми старше пятидесяти мы точно знаем, чему их учили, а чему нет. Но молодые люди снаружи все такие образованные, такие знающие, и, только когда эта тонкая корка знания прорывается, видишь под нею глубокие провалы, о существовании которых даже не подозревал. Возьмите вчерашний случай. Все, казалось, шло прекрасно. Он помнил наизусть большие куски из катехизиса, выучил «Отче наш» и «Богородица дево радуйся». Потом я, как водится, спросил, не мучают ли его какие-нибудь сомнения. Он поглядел на меня заговорщицки и сказал. «Послушайте, святой отец, по-моему, вы со мной хитрите. Я решил принять вашу веру и приму, но вы уж очень много недоговариваете». Я поинтересовался, что он имеет в виду, и он ответил: «У меня был долгий разговор с одним лицом католического вероисповедания — очень набожным и образованным человеком, и я от него кое-что узнал. Например, что спать нужно ложиться ногами на Восток, потому что в этом направлении находится рай и если умрешь ночью, то прямо туда и зашагаешь. Я, разумеется, готов спать ногами в любом направлении, как захочет Джулия, но неужели вы думаете, что взрослый человек может поверить насчет шагания на небо? А как насчет того, что римский папа назначил свою лошадь кардиналом? Или насчет этой коробки на паперти, куда надо положить фунтовую бумажку с чьим-нибудь именем и этот человек попадет в ад? Я ничего не говорю, может, во всем этом и есть какой-то смысл, — сказал мне он, — но вам следовало самому мне рассказать, чтобы я не узнавал от кого-то еще».
— Бедняга, что все это может означать? — изумилась леди Марчмейн.
— Вы сами видите теперь, как еще ему далеко до церкви.
— Да, но кто ему это наговорил? Уж не во сне ли ему все приснилось? Корделия, в чем дело?
— Какой болван! Мамочка, какой потрясающий болван!
— Корделия, это ты?
— Ох, мамочка, ну кто бы мог подумать, что он на это клюнет? Я ему и не то еще нарассказала. Про священных мартышек в Ватикане — все в таком роде.
— Ну что ж, мне вы работы прибавили немало, — заметил отец Моубрей.
— Бедный Рекс, — сказала леди Марчмейн. — Знаете, это даже внушает к нему симпатию. Вы должны обращаться с ним, как с умственно отсталым ребенком, отец Моубрей.
Так наставления в вере были продолжены, и отец Моубрей дал наконец согласие принять его в лоно святой церкви за неделю до свадьбы.
— Казалось бы, они должны были из кожи вон лезть, чтобы меня заполучить, — жаловался Рекс. — Я могу им во многих отношениях быть очень полезен. А они жмутся, как те типы, что раздают членские карточки в казино. И кроме того, — добавил он, — Корделия совсем заморочила мне голову, я и не знаю, что написано в катехизисе, а что она придумала.
В таком положении были дела за три недели до свадьбы; приглашения были разосланы, подарки прибывали каждый день; подружки невесты были в восхищении от сшитых для них туалетов. Вот тут и взорвалась, как назвала это Джулия, «бомба Брайди».
Со свойственной ему беспощадностью он безо всякого предупреждения обрушил свой запас взрывчатки прямо на мирное семейное сборище. Под свадебные подарки была отведена в Марчмейн-хаусе просторная библиотека; там сошлись леди Марчмейн, Джулия, Корделия и Рекс, занятые развертыванием и разборкой подношений. Вошел Брайдсхед и некоторое время молча наблюдал за их работой.
— Китайские вазы, все в трещинках, от тети Бетти, — говорила Корделия. — Старые-престарые. Я помню, они стояли на лестнице в Бакборне.
— Что здесь происходит?
— От мистера, миссис, а также мисс Пендл-Картуэйт — один утренний чайный сервиз. Куплено у Гуда за тридцать шиллингов. Старые скряги.
— Можете запаковать все это снова.
— Брайди, что ты такое говоришь?
— Только то, что свадьбы не будет.
— Брайди!
— Я решил навести кое-какие справки о моем сговоренном зяте, поскольку больше никто не интересовался, — сказал Брайдсхед. — Окончательный ответ мною получен только сегодня. В девятьсот пятнадцатом году в Монреале он вступил в брак с некой мисс Сарой Эвангелиной Катлер, каковая проживает там и в настоящее время.
— Рекс, это правда?
Рекс стоял, держа в руке и придирчиво рассматривая нефритового дракона; он аккуратно поставил его на подставку из черного дерева и открыто и доверчиво всем улыбнулся.
— Ну да, — подтвердил он. — Что ж с того? Чего вы все так разволновались? Она для меня никто и ничто. Да я и был-то желторотый юнец. Такие ошибки со всяким случаются. Я еще в девятнадцатом году получил развод. И даже не знал, где она, пока вот Брайди мне не сказал. К чему такой переполох?
— Могли бы мне рассказать, — проговорила Джулия.
— Но вы же не спрашивали. Честное слово, я давно забыл о ее существовании.
Его искренность была так очевидна, что им пришлось сесть и все спокойно ему объяснить.
— Неужели вы не понимаете, несчастное чудовище, что, будучи католиком, вы не можете жениться при живой жене? — недоуменно спросила Джулия.
— Но у меня нет никакой жены. Я ведь сказал вам только что, я развелся с ней шесть лет назад.
— Но вы не можете разведись, раз вы католик.
— Я тогда не был католиком и прекрасно развелся. У меня и бумаги где-то лежат.
— Разве отец Моубрей не объяснял вам насчет брака?
— Он говорил, что я не смогу развестись с вами. Я и не собираюсь. Мало ли что он мне объяснял — священные мартышки, полное отпущение грехов, — да если бы я запоминал все его объяснения, у меня бы не хватило времени ни на что другое. А между прочим, как насчет вашей итальянской кузины Франчески? Она ведь была замужем дважды?
— Она получила аннуляцию.
— Хорошо, пожалуйста. Я тоже получу аннуляцию. Сколько они стоят? Где их берут? У отца Моубрея можно раздобыть? Я хочу сделать, чтобы все было как надо. Ведь мне никто не сказал.
Понадобилось много времени, чтобы внушить Рексу, что к его свадьбе имеются серьезные препятствия. Обсуждение длилось до ужина, затаилось у стола в присутствии слуг, снова разгорелось, как только они остались одни, и продолжалось за полночь. Вверх, вниз, вокруг вился разговор, точно чайка, то вдруг взмывающая ввысь, к облакам, и парящая невидимо среди посторонних соображений и многократно повторенных истин, то камнем устремляющаяся из поднебесья на волну, где покачиваются лакомые отбросы.
— Что я должен сделать? — не переставал спрашивать Рекс. — К кому мне надо обратиться? Не говорите мне, пожалуйста, что нет такого человека, который может все уладить.
— Вы ничего не можете сделать, Рекс, — ответил ему Брайдсхед. — Это просто означает, что вашей свадьбе не бывать. С точки зрения всех заинтересованных, очень жаль, что это выяснилось так неожиданно. Вам следовало самому нам все рассказать.
— Послушайте, — сказал Рекс. — Может быть, то, что вы говорите, так и есть; может быть, строго по закону мне нельзя венчаться в вашем соборе. Но ведь собор уже заарендован; там никто не будет задавать вопросов; кардиналу ничего не известно; отцу Моубрею тоже. Никто, кроме нас самих, ничего не знает. Так зачем же затевать всю эту катавасию? Мы — молчок, и пусть все совершится законным порядком, словно ничего и не было. Кому от этого хуже? Ну, допустим, я рискую угодить в ад. Хорошо, я согласен, иду на риск. Ну а еще-то кому, что до этого?
— В самом деле, — сказала Джулия. — Я не верю, что святым отцам все известно. И не верю, что за такие вещи попадают в ад. И уж не знаю, верю ли, что он вообще существует. И, во всяком случае, это наша забота. Никто вас не просит рисковать своим вечным спасением. Только не лезьте, и все.
— Джулия, я тебя ненавижу! — выпалила Корделия и хлопнула дверью.
— Мы все устали, — сказала леди Марчмейн. — Если не все еще сказано, предлагаю вернуться к обсуждению завтра утром.
— Но тут нечего обсуждать, — возразил Брайдсхед, — разве только, как наиболее тактично поставить точку в этой истории. Мы с мамой решим все сами. Вероятно, надо будет поместить объявление в «Тайм» и в «Морнинг пост»; подарки придется разослать обратно. Мне не известно, как в таких случаях следует поступать с туалетами подружек невесты.
— Одну минутку, — сказал Рекс. — Одну минутку. У вас, может быть, есть возможность воспрепятствовать нашей свадьбе в вашем соборе. Ну и хорошо, к черту, тогда мы обвенчаемся в протестантской церкви.
— Я могу воспрепятствовать этому тоже, — сказала леди Марчмейн.
— Да, мамочка, но ты этого не сделаешь, — возразила Джулия. — Видите ли, я уже давно любовница Рекса и останусь ею, венчанная или невенчанная.
— Рекс, это правда?
— Нет, черт подери! И очень жаль.
— Я вижу, нам все равно придется вернуться завтра утром к этому обсуждению, — слабым голосом проговорила леди Марчмейн. — Сейчас я продолжать не в силах.
И ей пришлось, подымаясь в спальню, опереться на руку сына.
— Что могло побудить тебя брякнуть такое матери? — спросил я, когда спустя многие годы Джулия описала мне эту сцену.
— Рекс тоже задал мне этот вопрос. Я думаю, наверно, я считала, что это правда. Не в буквальном смысле — хотя не забывай, мне было только двадцать лет, а «реалии жизни» нельзя усвоить с чужих слов, — но я, конечно, не имела в виду, что это была правда в буквальном смысле. Просто я не знала, как иначе выразиться. Я чувствовала, что слишком глубоко связана с Рексом, чтобы просто сказать: «Назначенное бракосочетание отменяется» — и на том покончить. Я хотела быть порядочной женщиной. Я, если на то пошло, этого и потом все время хотела.
— А дальше?
— А дальше разговоры все продолжались и продолжались. В них приняли участие святые отцы, в них приняли участие тетки. Было выдвинуто много разных предложений: чтобы Рекс поехал в Канаду; чтобы отец Моубрей поехал в Рим и выяснил, нельзя ли как-нибудь подать на аннуляцию; чтобы я поехала на год за границу. В самый разгар всего этого Рекс просто взял и телеграфировал папе: «Джулия и я предпочитаем свадьбу по протестантским канонам. Будут ли возражения?» Папа ответил:
«Весьма рад», — и это положило конец маминому законному праву вмешательства. Потом было еще много всяких уговоров — меня возили для бесед со святыми отцами, с монахинями, с тетками. А Рекс спокойно — или почти спокойно — вел свою линию.
О Чарльз, что это была за жалкая свадьба! Тогда разведенных венчали в Савой-Чейпел — убогой, жалкой церквушке, совсем не такой, как мечталось Рексу. Я была за то, чтобы просто зайти в одно прекрасное утро в бюро регистрации и покончить с этим делом, пригласив двух прохожих в свидетели, но Рексу во что бы то ни стало нужны были подружки, и флердоранж, и «Свадебный марш». Это было кошмарно.
Бедная мама держалась, как святая мученица, и настояла, чтобы я, несмотря ни на что, взяла ее кружева. Правда, она не могла бы, в общем-то, поступить иначе — свадебное платье было задумано вокруг них. На свадьбу пришли, конечно, мои друзья и всякие Рексовы сообщники, которых он именовал друзьями; остальные гости подобрались очень странно. Из маминых родных не было, разумеется, никого; из папиных — двое или трое. Важная публика не пришла — все эти Энкореджи, Чазмы, Ванбруги, — и я про себя думала: «Ну и слава богу, что не пришли, они и без того всегда смотрели на меня свысока», но Рекс был в ярости, потому что ему-то как раз они и были нужны.
Сначала я надеялась, что гостей вообще не будет. Мама сказала, что в Марчерс мы не можем приглашать, а Рекс хотел телеграфировать папе и набить полный дом всевозможными лакеями, официантами и горничными во главе с адвокатом нашей семьи. В конце концов было решено устроить дома накануне свадьбы вечер с демонстрацией подарков — видимо, отец Моубрей считал, что это допустимо. Ну а никто не в силах устоять от соблазна полюбоваться своим собственным подарком, так что вечер вполне удался; но вот прием, который на следующий день устроил Рекс в «Савое» для присутствовавших на свадьбе, был одно убожество.
Неизвестно, что было делать с арендаторами. В конце концов Брайди поехал и задал им обед с большим костром в парке, хотя они ожидали гораздо большего за свою серебряную суповую миску.
Тяжелее всех переживала все бедняжка Корделия. Она так мечтала, что будет подружкой у меня на свадьбе, — мы с ней любили разговаривать об этом еще задолго до того, как я начала выезжать, — и потом, конечно, она очень набожная девочка. Сначала она перестала со мной разговаривать. Потом, утром в день свадьбы — я накануне вечером переехала к тете Фанни Роскоммон, было сочтено, что так будет удобнее, — она ворвалась ко мне, уже побывав на Фарм-стрит, кинулась ко мне вся в слезах, когда я еще лежала в постели, и стала умолять, чтобы я не венчалась, потом обняла, подарила чудную брошечку, которую сама купила, и сказала, что молится за меня, чтобы я была счастлива всю жизнь. Всю жизнь счастлива, Чарльз!
Словом, это была совсем не модная свадьба. Знакомые приняли мамину сторону, как и всегда, и, как всегда, ей от этого было не легче. Всю свою жизнь мама пользовалась сочувствием всех людей, но только не тех, кого любила. В обществе говорили, что я поступила с нею безобразно. И вышло так, что бедный Рекс оказался женат на изгойке, а это было как раз обратное тому, чего он добивался.
Так что, как видишь, обстоятельства с самого начала приняли неблагоприятный оборот. Над нами тяготело заклятье. Но я все равно была без памяти влюблена в Рекса.
— Странно себе это представить.
— Понимаешь, отец Моубрей с первого взгляда разгадал о нем правду, на постижение которой у меня ушел год супружеской жизни. Он просто умственно неполноценный. Не человек, а только какая-то неестественно разросшаяся часть человека, культивированная в пробирке, что ли. Я думала, что он нечто вроде первобытного дикаря, но он не первобытный, а, наоборот, очень современный, самое последнее измышление нашего ужасного века. Небольшая часть человека, прикидывающаяся цельным человеческим существом. Слава богу, теперь все позади.
Она сказала мне это десять лет спустя, во время шторма в Атлантике.
Глава третья
Я вернулся в Лондон весной 1926 года во время Всеобщей забастовки.
В Париже только и разговоров было, что об этом. Французы, как всегда радующиеся бедам своих бывших союзников и переводящие на точный язык своих понятий наши более туманные островные представления, предсказывали революцию и гражданскую войну. Каждый вечер газетные киоски торговали пророчествами о гибели, а в кафе знакомые полунасмешливо говорили: «Ага, мой друг, здесь-то вам поспокойнее, чем дома, а?»— пока, в конце концов, я и еще несколько человек, оказавшихся в таких же обстоятельствах, не уверовали, что наша родина в опасности и долг призывает нас туда. Перед отъездом к нам присоединился бельгиец-футурист, живший под вымышленным, как я полагаю, именем Жана де Бриссака де ла Мотта, который считал своим правом сражаться с оружием в руках во всякой битве на земном шаре, ведущейся против низших классов.
Наша мужская компания в едином порыве одушевления переехала через Па-де-Кале, ожидая застать в Дувре картину, столь часто и со столь малыми изменениями повторявшуюся в последние годы во всех концах Европы, что у меня по крайней мере уже сложилось яркое зрительное представление о том, что такое революция — красный флаг на почтамте, перевернутый трамвайный вагон, пьяные сержанты, открытые ворота тюрьмы и шайки выпущенных на свободу преступников, шныряющие по улицам, и вокзал, на который так и не прибыл по расписанию поезд из столицы. Об этом мы, что ни день читали в газетах, смотрели кинофильмы, слушали рассказы за ресторанными столиками вот уже шесть или семь лет подряд, и это стало частью нашего жизненного опыта из вторых рук, подобно грязи на полях Фландрии или мухам Месопотамии.
Но вот мы пристали к берегу, и нас встретила привычная таможенная рутина, и точный, как часы, поезд, и носильщики на перроне вокзала Виктории, выстроившиеся двумя рядами перед вагонами первого класса, и длинная очередь свободных такси.
— Разъедемся, — решили мы, — и посмотрим, где что происходит. А за ужином встретимся и поделимся впечатлениями, — но в глубине души мы уже знали, что ничего не происходит; ничего такого, во всяком случае, что требовало бы нашего присутствия.
— А-а, здравствуй, здравствуй, — сказал отец, столкнувшись со мною на лестнице. — Очень рад, что ты вернулся так скоро. (Я пробыл за границей почти полтора года.) Между прочим, ты приехал в неудобное время. У нас тут послезавтра опять устраивают забастовку — все один вздор, — и трудно сказать, когда ты теперь сможешь уехать.
Я подумал о том, чем мне пришлось пожертвовать, — о вечерних фонарях, загорающихся сейчас вдоль набережных Сены, о приятном обществе, которое у меня там было (я в то время завел близкое знакомство с двумя эмансипированными молоденькими американками, снимавшими на двоих холостяцкую квартирку в Атейле), и пожалел, что приехал.
Мы ужинали в тот вечер в «Кафе-Ройяль». Там все же попахивало порохом, потому что столики были заняты студентами, съехавшимися в Лондон «на защиту отечества». Одна группа из Кембриджа только что записалась в полном составе связными Транспорт-хауса[51], а позади них сидела другая группа — из добровольного полицейского отряда. Время от времени то те, то другие выкрикивали через плечо что-нибудь обидное и вызывающее, но трудно затеять серьезную стычку, находясь спиной к спине с врагом, и кончилось все тем, что они заказали друг для друга высокие кружки пива.
— Были б вы в Будапеште, когда в город входил на марше Хорти, — вздохнул Жан. — Вот это политика!
В одном доме у Риджент-парка был вечер в честь «Черных птиц», недавно прибывших на гастроли. Кто-то из нас получил приглашение, и мы отправились туда всей компанией.
Для нас, завсегдатаев «Бриктопа» и «Баль-Нэгра» на Рю Бломэ, это было вполне заурядное зрелище. Но едва я переступил порог, до меня донесся единственный в своем роде голос — эхо прошлого, которое казалось мне уже таким далеким.
— Нет, — произнес этот голос, — это не звери в зоологическом саду, мой любезный Мулкастер, и нечего на них глазеть. Это артисты, мой милый, великие артисты, которых надо почитать.
За столиком, уставленным винными бутылками сидели Антони Бланш и Бой Мулкастер.
— Слава богу, хоть кто-то знакомый нашелся, — сказал Мулкастер, когда я к ним подошел. — Одна барышня меня сюда затащила. И не знаю, куда делась.
— Она сбежала от вас, мой милый, и знаете почему? Потому что вам здесь абсолютно не место, Мулкастер. Этот вечер не для таких, как вы, и вам здесь нечего делать. Вы должны убраться отсюда вон, мой милый, и пойти в «Старую сотню» или на какой-нибудь погребальный бал на Белгрейв-сквер.
— Я и так сюда прямо с бала, — ответил Мулкастер. — А в «Сотню» еще рано. Посижу немного. Может, потом веселее станет.
— Я плюю на вас, — сказал Антони. — Пойдемте поговорим, Чарльз.
Мы взяли бутылку и наши рюмки и отыскали свободный угол в другом зале. У наших ног на полу пятеро оркестрантов — «черных птиц», сидя на корточках, бросали кости.
— Вон тот негр, — сказал Антони, — вон тот, довольно светлый, на днях кокнул миссис Арнольд Фрикхаймер молочной бутылкой по голове, мой милый.
И почти сразу же мы с ним неизбежно заговорили о Себастьяне.
— Мой милый, он так пьет. Он приехал и поселился у меня в Марселе в прошлом году, когда вы с ним разошлись, и, право, это было выше моих сил. Целый день прикладывается к бутылке, точно вдовствующая герцогиня. И столько хитрости. У меня все время что-нибудь пропадало, какие-то вещицы, которыми я дорожил, один раз исчезли два костюма, только что прибывшие от «Лесли и Робертса». Разумеется, я не мог подумать на Себастьяна — у меня в квартире постоянно появлялись и исчезали разные темные личности; уж кто-кто, а вы, мой милый, знаете мое пристрастие к темным личностям. Но, в конце концов, мой милый, мы обнаружили ломбард, где Себастьян все это з-з-закладывал, и тогда выяснилось, что у него нет квитанций — их, оказывается, тоже можно реализовать в бистро.
Вижу это неодобрительное пуританское выражение вашего лица, мой любезный Чарльз, словно вы считаете, что это я его толкал по стезе порока. Это одно из наименее приятных свойств Себастьяна — он всегда производил впечатление толкаемого по стезе порока. Но уверяю вас, я делал все, что мог. Я много раз говорил ему: «Зачем пить? Если вы ищете забытья, есть много других, гораздо более соблазнительных способов.» И я повел его к самому надежному человеку — ну, вы знаете его не хуже меня, Нада Алопов, и Жан Люксмор, и все знакомые уже много лет его клиенты, его всегда можно найти в «Регина баре»; и потом у нас из-за этого вышли серьезные осложнения, потому-что Себастьян дал ему негодный чек — п-п-поддельный, представьте себе, мой милый, — и к нам на квартиру явилась целая банда, опаснейшие головорезы, мой милый, а Себастьян в это время был в совершенном беспамятстве, и все это получилось крайне неприятно.
К нам подошел Бой Мулкастер и без приглашения уселся рядом со мною за наш столик.
— Там пить больше нечего, — пояснил он, опоражнивая в свой стакан нашу бутылку. — Ни одной знакомой физиономии, все только какие-то чернокожие.
Антони не удостоил его вниманием, он продолжал свой рассказ.
— Ну и тогда мы уехали из Марселя и поселились в Танжере, и вот там то, мой милый, Себастьян и завел себе этого нового дружка. Как вам его описать. Он похож на швейцара из «Теней» — такой здоровенный немец, служил в Иностранном легионе. Выдрался оттуда, отстрелив себе большой палец на ноге. Нога у него до сих пор не зажила. Когда Себастьян с ним познакомился, он был зазывалой при одном из заведений Касбы и умирал с голоду. Себастьян привез и поселил его у нас. И это было смертоубийственно. Ну и тогда я подался обратно, в старую добрую Англию. В старую добрую Англию, — повторил он, обводя широким жестом негров, играющих в кости у наших ног, Мулкастера, уставившегося перед собой бессмысленным взглядом, и хозяйку дома в пижаме, которая подошла к нам познакомиться.
— Никогда вас раньше не встречала, — сказала она — И не приглашала. И вообще, откуда взялось все это белое отребье? Может быть, я попала в чужой дом?
— Родина в опасности. — сказал Мулкастер. — Мало ли что может случиться.
— Ну как вечер? Удался? — поинтересовалась хозяйка. — Как вы думаете, Флоренс Миллз согласится спеть? Мы с вами встречались, — добавила она, обращаясь к Антони.
— Много раз, дорогая, но сегодня вы меня не пригласили.
— Неужели? Наверно, вы мне не нравитесь. Я думала, мне все люди нравятся.
— Как, по-вашему, — спросил Мулкастер, когда хозяйка дома покинула нас, — остроумно будет, если дать пожарную тревогу?
— О да, Бой, ступайте и позвоните.
— Может, взбодрит всех немного, а?
— Вот именно.
И Мулкастер ушел в поисках телефона.
— Если не ошибаюсь, Себастьян со своим хромоножкой отправились во Французское Марокко, — продолжал Антони. — Когда я уезжал, у них были неприятности с танжерской полицией. Маркиза со дня моего приезда положительно не дает мне ни минуты покоя. Хочет, чтобы я как-нибудь с ними связался. Ах, как ей сейчас, бедняжке, худо приходится. Чем доказывается, что справедливость на земле все-таки существует.
В это время запела мисс Миллз, и все, кроме игроков в кости, устремились в соседнюю комнату.
— Вон моя девушка, — показал Мулкастер. — Вон стоит с тем чернокожим типом. Барышня, которая меня сюда привела.
— По-моему, она про вас и думать забыла.
— По-моему, тоже. Напрасно я приехал. Давайте закатимся куда-нибудь, а?
К подъезду, когда мы выходили, подъехали две пожарные машины, и люди в блестящих касках смешались с толпой гостей.
— Этот тип Бланш, — сказал Мулкастер, — плохой человек. Я его один раз окунал под Меркурия.
Мы заходили в разные ночные клубы. За прошедшие два года Мулкастер сумел достичь того, к чему так простодушно стремился, — в заведениях этого рода он пользовался известностью и любовью. В последнем из них нас с ним обуял пламенный патриотизм.
— Вы и я, — сказал Мулкастер, — слишком поздно родились и не могли воевать в эту войну. Воевали другие ребята и полегли миллионами. А мы нет. Мы им покажем. Покажем павшим героям, что тоже можем воевать.
— Я для того и приехал, — сказал я. — Примчался из-за моря, чтобы сплотиться вокруг родины в тяжелый час испытаний.
— Как австралийцы.
— Да, как бедные павшие герои австралийцы.
— Вы куда записались?
— Пока никуда. Еще войны-то нет.
— Записываться надо только к Биллу Медоузу — в Оборонный корпус. Все свои ребята. Все состоят у «Брэтта».
— Запишусь.
— Ребят брэттовских помните?
— Нет. Туда тоже вступлю.
— Дело. Все свои, ребята что надо, как те герои. И я записался к Биллу Медоузу, который командовал летучим отрядом по охране поставок провизии в беднейших кварталах Лондона. Сначала мое имя было внесено в списки Оборонного корпуса; потом с меня взяли присягу в верности и выдали шлем и дубинку; потом меня выдвинули в члены клуба «Брэтт» и провели вместе с другими новобранцами на специально для того созванном заседании комитета. Потом мы неделю просидели в боевой готовности у «Брэтта», трижды в сутки выезжая в грузовике на сопровождение молочных фургонов. В спину нам улюлюкали, иногда швыряли отбросы, но лишь один раз нам довелось участвовать в военных действиях.
Мы сидели после завтрака и томились, когда в салон, поговорив по телефону, вернулся Билл Медоуз в самом приподнятом настроении.
— Поехали, — распорядился он. — На Коммершиал-роуд идет сражение — что надо!
Мы укатили на большой скорости и прибыли на место. От фонаря к фонарю через улицу был натянут стальной трос, на мостовой лежал перевернутый грузовик, а рядом с ним — одинокий полисмен, на которого наседала с кулаками и пинками группка каких-то юнцов. По обе стороны от этого центра беспорядков, на довольно почтительном расстоянии, начали собираться враждующие силы. Неподалеку от того места, где мы выгрузились, на тротуаре сидел второй полисмен, пострадавший, он держался руками за голову, и из-под пальцев текла кровь; его окружало несколько сочувствующих; по ту сторону троса враждебно сгрудились молодые докеры. Мы жизнерадостно ринулись в атаку, освободили из окружения полисмена и устремились на главные силы противника, но вместо этого столкнулись с делегацией местных священников и деятелей муниципалитета, прибывших одновременно с нами с другой стороны, дабы воздействовать уговорами. Они были нашими единственными жертвами, ибо едва только мы успели сбить их с ног, как раздался крик «Спасайся! Полиция!» — и у нас за спиной, скрежеща тормозами, остановился грузовик с полицейскими.
Толпу сразу точно ветром сдуло. Мы подобрали повергнутых миротворцев (из которых только один пострадал серьезно), потом некоторое время патрулировали окрестные переулки, откровенно — хотя и тщетно — нарываясь на неприятности, и наконец возвратились к «Брэтту». Назавтра Всеобщая забастовка кончилась, и повсюду в стране, кроме районов угледобычи, жизнь вошла в свою колею. Словно страшный зверь, о чьей свирепости ходили давние слухи, вышел на час из своего логова, учуял опасность и убрался восвояси. Ради этого не стоило приезжать из Парижа.
Жан, записавшийся в другой отряд, на неделю попал в госпиталь — в Кемдентауне престарелая вдовица уронила ему на голову цветочный горшок.
О том, что я в Англии, Джулия узнала через соратников Билла Медоуза. Она позвонила и передала, что ее мать очень просит меня к ним заехать.
— Вы увидите, она ужасно больна, — сказала Джулия. Я отправился в Марчмейн-хаус в первое же утро мира. В прихожей я едва не столкнулся с уходившим сэром Адрианом Порсоном; он закрывал лицо носовым платком, ощупью ища трость и шляпу; он был в слезах.
Меня проводили в библиотеку, и через минуту ко мне туда вышла Джулия. Она пожала мне руку с сердечностью и удрученностью, которые были для меня в ней непривычны; в сумраке дома она казалась привидением.
— Вы очень добры, что пришли. Мама много раз о вас спрашивала, но не знаю, сможет ли она теперь, после всего, вас видеть. Она только что попрощалась с Адрианом Порсоном, и это ее утомило.
— Попрощалась?
— Да. Она умирает. Может прожить еще неделю или две, а может покинуть нас в любую минуту. Она так слаба. Пойду спрошу сиделку.
Безмолвие смерти уже успело воцариться в доме. В Марчмейн-хаусе в библиотеке никогда не проводили время — это была единственная некрасивая комната на оба дома. В викторианских дубовых шкафах стояли тома Хэнсарда и устаревшие энциклопедии, которые десятки лет никто не открывал; непокрытый стол красного дерева был словно предназначен для каких-то заседаний; вся комната казалась нежилой, как общественное помещение; за окном был виден газон, ограда, тихий переулок.
Вернулась Джулия.
— Нет, к сожалению, к ней нельзя. Она уснула. Она может так дремать часами. Я сама вам передам все, что она хотела. Только пойдемте куда-нибудь отсюда. Терпеть не могу эту комнату.
Она перешла со мною через коридор в малую гостиную, где раньше часто накрывали к обеду, и мы сели в кресла по oбe стороны камина. Пурпур и золото стен бросили свои отсветы на Джулию, и она уже не казалась такой призрачно-бледной.
— Прежде всего, я знаю, мама хотела вам сказать, что очень сожалеет о своей резкости в последнем разговоре с вами. Она, часто об этом говорит. Теперь она знает, что это была ее ошибка. Я не сомневаюсь, что вы все тогда поняли и не придали значения, но мама подобные вещи себе не прощает — она редко делала такие ошибки.
— Пожалуйста, скажите ей, что я все отлично понял.
— Другое, вы, конечно, догадались, — это Себастьян. Она хочет его видеть. Не знаю, осуществимо ли это. Как вы считаете?
— Я слышал, он в очень плохом состоянии.
— Да, мы тоже слышали. Мы телеграфировали по последнему адресу, который у нас был, но не получили ответа. Он, может быть, еще успел бы повидать ее. Я сразу подумала о вас как о единственной надежде, когда узнала, что вы в Англии. Вы поищете его? Это беззастенчивая просьба, но я думаю, Себастьян бы тоже этого хотел, если бы узнал.
— Я попытаюсь.
— Нам больше некого просить. Рекс так занят.
— Да, я слышал немало рассказов о его деятельности на газовом заводе.
— О да, — сказала Джулия с отзвуком прежней сухости в голосе, — он создал себе капитал на забастовке.
Потом мы несколько минут говорили о Брэттском отряде. Она рассказала, что Брайдсхед отказался от какого-либо участия в общественном движении, так как не убежден в его справедливости; Корделия в Лондоне, она сейчас спит, потому что дежурила у матери всю ночь. Я рассказал, что занимаюсь архитектурной живописью и мне очень нравится. Весь этот разговор был пустой; мы уже все сказали друг другу в первые несколько минут; я остался к чаю, а после чая тут же уехал.
Компания «Эйр Франс» простирала свои услуги до Касабланки; оттуда до Феса я добирался на автобусе, выехав на заре и к вечеру прибыв в новый город. Из гостиницы я позвонил британскому консулу и в тот вечер ужинал у него, в его гостеприимном доме под стенами старого города.
— Очень рад, что кто-то наконец приехал за молодым Флайтом, — сказал консул. — Он все-таки был у нас бельмом на глазу. Неподходящее здесь место для человека, существующего на иностранные переводы. Французы не в состоянии его понять. Всякого, кто не занимается коммерцией, они считают шпионом. Да и живет он совсем не как лорд. У нас здесь обстановка отнюдь не простая. Не далее как в тридцати милях отсюда идет война, хоть и не скажешь, здесь сидя. Только неделю назад у нас тут появились какие-то молодые идиоты на велосипедах, желающие вступить добровольцами в армию Абдул Керима. И мавры, надо сказать, публика сложная; они не признают вина, а ваш друг, как вам, наверно, известно, пьет почти круглые сутки. Зачем ему понадобилось сюда приезжать, не понимаю. Мало, что ли, места в Рабате или Танжере, где специализируются на туристах? И знаете, он снял дом в старом городе. Я сделал попытку его отговорить, но дом ему достался после одного француза из департамента искусств. Он ничего дурного не делает, я не говорю, но беспокойства от него много. При нем живет один ужасный человек — немец из Иностранного легиона. Темная во всех отношениях личность. Это добром не кончится. Поймите, Флайт мне симпатичен. Я не часто с ним вижусь. Раньше он приходил сюда принимать ванну, до того как поселился в том доме. И всегда был обаятелен. Моя жена от души привязалась к нему. Какое-то занятие, вот что ему нужно.
Я объяснил цель своего приезда.
— Вы, вероятно, застанете его сейчас дома. Видит бог, в старом городе не очень-то есть куда ходить по вечерам. Если угодно, я дам вам в провожатые швейцара.
И вот после ужина я в сопровождении консульского швейцара с фонарем отправился в путь. Я никогда прежде не был в Марокко. Днем из окна автобуса, катившего по ровному стратегическому шоссе мимо виноградников, военных постов, новых белых сеттльментов, необъятных полей, где уже колосились высокие хлеба, и рекламных щитов французских экспортных компаний — «Дюбоннэ», «Мишлена», «Магазен дю Лувр», — эта страна показалась мне очень европеизированной и современной; теперь, под синими звездами, в обнесенном стенами старом городе, где улицы были не улицы, а отлогие запыленные лестницы и по обе стороны поднимались темные безглазые стены, смыкаясь и снова раздаваясь над головой навстречу звездному свету; где между стертыми булыжниками мостовых толстым слоем прилегла пыль и какие-то фигуры в белом безмолвно проходили мимо, неслышно ступая мягкими подошвами восточных туфель или твердыми босыми ступнями; где воздух пропах пряностями, воскурениями и дымом очагов, — теперь я понимал, что привлекло сюда Себастьяна и так долго его здесь держит.
Швейцар консульства надменно шагал впереди меня, раскачивая фонарем и звонко ударяя по камням своей длинной швейцарской булавой; кое-где в раскрытых дверях мелькали безмолвные группы, сидящие вокруг жаровен в золотистом свете ламп.
— Очень грязные народы, — презрительно бросал он мне через плечо. — Необразованные. Французы их такими оставили. Не то что британские народы. Мои народы, — сказал он, — всегда очень британские народы.
Ибо он был из суданской полиции и рассматривал этот древний центр своей культуры, как новозеландец мог бы рассматривать сегодняшний Рим.
Наконец мы остановились у последней из длинного ряда усеянных медными заклепками дверей, и швейцар постучал в нее своей булавой.
— Британского милорда дом, — пояснил он. За решетчатым оконцем появился свет и смуглое лицо. Консульский швейцар произнес что-то не допускающее возражений, засовы были отодвинуты, и мы вошли во внутренний дворик с бассейном посередине, под густым виноградным сводом.
— Я подожду тут, — сказал швейцар. — А вы идите за этим туземцем.
Я вошел, спустился на одну ступеньку и оказался в комнате, где были патефон, горящая керосинка и молодой человек между ними. Потом, когда я огляделся, там обнаружились и другие, более приятные предметы — коврики на полу, вышитые шелковые сюзане на стенах, резные раскрашенные потолочные балки, тяжелая, изрешеченная отверстиями лампа на цепях, бросавшая по комнате мягкие прихотливые тени. Но в первое мгновение только эти три объекта — патефон своим шумом (он играл французскую джазовую музыку), керосинка своей вонью и молодой человек своим волчьим видом — задержали мое внимание. Молодой человек, развалясь, сидел в плетеном кресле, выставив вперед и положив на какой-то ящик забинтованную ногу, он был одет в костюм из дешевого центрально-европейского твида и открытую теннисную рубашку; на здоровой ноге у него был коричневый парусиновый туфель. Рядом с его креслом стоял медный поднос на деревянных козелках, а на нем две пивные бутылки, грязная тарелка и блюдце, полное окурков; стакан пива он держал в руке, а на нижней губе у него приклеилась сигарета, не падавшая, даже когда он разговаривал. Его длинные светлые волосы были гладко, без пробора, зачесаны назад, а лицо бороздили складки, неестественно глубокие при его очевидной молодости; у него не хватало переднего зуба, из-за этого шипящие получались у него шепеляво, а иногда и с присвистом, отчего он сам всякий раз смущенно хмыкал; остальные зубы были желтые от табака и редкие.
Это явно была «темная во всех отношениях личность» из описаний консула, «кинолакей» Антони Бланша.
— Я разыскиваю Себастьяна Флайта. Это ведь его дом, если не ошибаюсь?
Я говорил во весь голос, чтобы перекричать музыку, но он ответил негромко, с определенной свободой во владении английским языком, которая свидетельствовала о том, что этот язык стал для него привычным.
— Да. Но его шейчаш нет. Никого нет, кроме меня.
— Я приехал из Англии, чтобы повидать его по важному делу. Вы не можете мне сказать, где его найти?
Пластинка кончилась. Немец перевернул ее, завел патефон и опять пустил пластинку и только потом ответил на мой вопрос.
— Шебаштьян болен. Братья увежли его в лажарет. Может быть, они вас к нему пуштят. А может быть, нет. Я шам должен буду на днях туда попашть, на перевяжку. Могу тогда у них ужнать. Может быть, когда ему штанет лучше, они вам ражрешат к нему пройти.
В комнате был еще один стул, я придвинул его и сел. Видя, что я не ухожу, немец предложил мне пива.
— Вы не брат Шебаштьяна? — спросил он. — Может быть, кужен, нет? Может быть, вы женаты на его шештре?
— Всего только друг. Университетский товарищ.
— Я тоже имел универшитетшкого товарища. Мы ижучали ишторию. Мой товарищ был умнее меня, такой маленький, хилый — я, когда бывал шердит, подымал его прямо жа бока и тряш, — но он был ошшень, ошшень умный. Один день он вдруг шкажал: «Какого черта? В Германии вше равно нет работы. Германия выброшена на швалку», — и мы проштились с нашими профешорами, и они тоже шкажали: «Да-да, Германия выброшена на швалку, штудентам тут нечего делать». И мы ушли. Мы шли, шли, шли и наконец пришли шюда. Мы шкажали: «В Германии теперь нет армии, но мы должны шра-жаться». И поступили в легион. Мой товарищ, он прошлый год умер от дижентерии во время Атласской кампании. И тогда я шкажал: «Какого черта?» — и штрелял шебе ногу. Теперь она вшя в гное, хотя прошел уже целый год.
— Да, — прервал его я. — Это очень занимательно. Но меня сейчас интересует главным образом Себастьян. Вы не могли бы рассказать мне о нем?
— Отличный парень, Шебаштьян. Мне подходит. Танжер — вонючая дыра. А он привеж меня шюда — хороший дом, хорошая еда, хороший шлуга. Здесь мне подходит, я шчитаю. Годится вполне.
— Его мать очень больна, — сказал я. — Я приехал сообщить ему об этом.
— Богатая?
— Да.
— Пошему бы ей не дать ему больше денег? Может быть, мы бы тогда пошелилишь в Кашабланке, в хорошей квартире. Вы ее знаете хорошо? Можете шкажать, чтобы она давала больше денег?
— Что с ним?
— Не жнаю. Я шчитаю, может быть, пьет шлишком много. Братья пришмотрят за ним. Ему там подходит вполне. Братья хорошие парни. И ошень дешево.
Он хлопнул в ладоши и распорядился принести еще пива.
— Видите? Хороший шлуга, ешть кому ходить жа мной. Годится вполне.
Добившись от него названия лазарета, я поспешил с ним проститься.
— Передайте Шебаштьяну, что я еще тут и у меня вше в порядке. Я шчитаю, он, может быть, бешпокоится обо мне.
Лазарет, куда я отправился на следующее утро, представлял собою скопление домиков на полпути между старым и новым городом. Его содержали францисканцы. Я пробрался сквозь толпу больных мавров и вошел в кабинет доктора. Он был мирянин — обыкновенный гладко выбритый человек в белом накрахмаленном халате. Говорили мы по-французски. Он сказал, что Себастьян вне опасности, но ехать в настоящее время никуда не может. У него был грипп с небольшим поражением одного легкого, и он очень слаб, низкая сопротивляемость — ну, да чего же тут можно ждать? Он ведь алкоголик. Доктор говорил бесстрастно, почти грубо, с удовольствием, которое люди науки подчас испытывают от того, что могут ограничиться лишь голыми фактами и свести свой предмет к полнейшей стерильности. Рассказ босого бородатого брата, которому доктор меня препоручил, человека, лишенного научных претензий, исполнявшего в палате грязную работу, звучал иначе:
— Он так терпелив. Не подумаешь даже, что он молод. Лежит и молчит и никогда не пожалуется, а жаловаться у нас есть на что. Тут нет удобств. Правительство отдает нам только то, что может уделить от солдат. И он так добр. Тут приходит один бедный немец с незаживающей ногой и вторичным сифилисом. Лорд Флайт подобрал его умирающего с голоду в Танжере, взял к себе и дал ему кров. Настоящий добрый самаритянин.
«Бедный простак, — подумал я, — бедный олух царя небесного. Да простит мне бог!»
Себастьян находился во флигеле для европейцев, где между койками были невысокие перегородки, создававшие какое-то уединение. Он лежал, сложив руки поверх стеганого одеяла и глядя в стену, на которой висела одинокая олеография религиозного содержания.
— Ваш знакомый, — сказал брат. Он медленно повернул голову.
— Я думал, это Курт. А вы что здесь делаете, Чарльз? Он был худ, как никогда: вино, от которого другие жиреют и краснеют лицом, иссушило Себастьяна. Брат ушел, и я сел у его постели. Мы поговорили о его болезни.
— Я был дня два в забытьи, — сказал он. — Мне все мерещилось, что я снова в Оксфорде. Вы заходили ко мне домой? Понравился ли вам дом? Курт там еще? Я не спрашиваю, понравился ли вам Курт, он никому не нравится. Забавно. А ведь я бы без него не мог.
Потом я рассказал ему о матери. Некоторое время он молчал, разглядывая олеографию «Семь скорбей». Потом вздохнул:
— Бедная мама. Вот уж воистину femme fatale[52], верно? Убивала с одного прикосновения. Я телеграфировал Джулии, что Себастьян приехать не в состоянии, и прожил в Фесе неделю, навещая его в лазарете каждый день, покуда он не окреп настолько, что мог передвигаться. Первый признак его возвращающегося здоровья состоял в том, что он попросил коньяка. На третий день у него уже была бутылка, и он прятал ее у себя под одеялом.
Доктор сказал:
— Ваш друг снова пьет. Это здесь запрещено. Я ничего не могу сделать. Здесь не исправительный дом. У нас нет надзирателей в палатах. Я здесь для того, чтобы лечить людей, а не бороться с их же собственными вредными привычками или обучать их владеть собой. Коньяк не причинит ему теперь вреда. Он просто ослабит его к следующему разу, когда он заболеет, и в один прекрасный день — ф-фу! — его унесет какое-нибудь совсем легкое недомогание. Здесь не больница для лечения алкоголиков. Я вынужден буду выписать его в конце недели.
Брат милосердия сказал другое.
— Ваш друг сегодня чувствует себя гораздо лучше. Он совсем преобразился.
«Бедный простак, — подумал я. — Бедный олух царя небесного», — но он добавил:
— А знаете почему? У него бутылка коньяка в постели. Это я у него уже вторую нахожу. Только я одну унесу, у него заводится другая. Такой непослушный. Слуги-арабы ему достают. Но сердце радуется видеть его снова веселым, он столько дней лежал в печали.
В последний вечер я спросил:
— Себастьян, теперь, когда ваша мать умерла (ибо мы получили в то утро печальное известие), вы не думаете вернуться в Англию?
— Да, это было бы в некоторых отношениях совсем неплохо, — отвечал он. — Но вы думаете, Курту там понравится?
— Бога ради, — сказал я, — вы что, собираетесь всю жизнь провести с Куртом?
— Не знаю. Мне кажется, он ничего не имеет против. Ему подходит, я шчитаю, может быть, — сказал Себастьян, подражая немцу, а потом добавил то, что могло бы дать мне ключ, обрати я на его слова больше внимания; я же тогда только услышал и запомнил, но не придал им значения. — Знаете, Чарльз, — сказал он мне, — это приятная перемена, когда всю жизнь кто-то смотрит за тобой и вдруг появляется человек за кем тебе самому нужно смотреть. Только, разумеется, это должен быть совсем уж пропащий человек, если он нуждается в моем присмотре.
Перед отъездом я имел возможность несколько упорядочить его денежные дела. Все это время он существовал, залезая в долги и потом испрашивая телеграфно у лондонских поверенных какие-то случайные суммы. Я повидал управляющего местным отделением банка и условился, что он будет получать поступающее Себастьяну из Лондона месячное содержание и выплачивать ему еженедельно определенную сумму на карманные расходы, оставляя какой-то резерв на непредвиденные случаи. Эти резервные деньги могли быть вручены только лично Себастьяну и только когда управляющий банком удостоверится, что им назначено разумное применение. Себастьян с готовностью на это согласился.
— Иначе, когда я напьюсь, Курт даст мне подписать чек на всю сумму и удерет и непременно попадет в беду, — сказал Себастьян.
Я проводил его из лазарета домой. Сидя в своем плетеном кресле, он казался слабее и беспомощнее, чем на больничной койке. Они сидели друг против друга, два больных человека и патефон посредине.
— Давно пора было вернуться, — сказал Курт. — Ты мне нужен.
— Неужели, Курт?
— Я шчитаю, да. Не так-то приятно шидеть тут больному в одиночку. Этот бой очень ленив, то и дело куда-то пропадает, когда он мне нужен. Один раж вообще ночевать не пришел, и некому было подать мне утром кофе. Не так-то приятно, когда у тебя вшя нога в гное. Иногда я даже шплю плохо. В другой раз вожьму вот и удеру куда-нибудь, где жа мною будут лучше шмотреть. — Он хлопнул в ладоши, но слуга не появился. — Вот видишь? — сказал он.
— Что тебе надо?
— Шигареты. У меня в рюкзаке под кроватью. Себастьян стал с трудом подниматься с кресла.
— Я достану, — сказал я. — Которая его кровать?
— Нет, это моя обязанность, — ответил Себастьян.
— Да, — сказал Курт, — я шчитаю, это Шебаштьяна обяжанность.
Так я оставил его вместе с его другом в маленьком домике за глинобитной стеной в дальнем конце извилистого переулка. Больше я для Себастьяна ничего не мог сделать.
Я предполагал вернуться прямо в Париж, но теперь устройство денежных дел Себастьяна потребовало, чтобы я поехали в Лондон и повидался с Брайдсхедом. Я решил ехать морем, сел в Танжере на пароход и в начале июня был дома.
— Полагаете ли вы, что отношения моего брата с этим немцем носят порочный характер? — спросил меня Брайдсхед.
— Ни в коем случае. Просто двое бездомных под одной крышей.
— Вы говорите, он преступник?
— Я сказал «преступный тип». Содержался в военной тюрьме и с позором уволен с военной службы.
— И, по мнению доктора, Себастьян убивает себя тем, что пьет?
— Ослабляет свой организм. У него нет ни белой горячки, ни цирроза.
— И он в здравом уме?
— Безусловно. Он нашел себе товарища, с которым ему нравится жить, ему приятно о нем заботиться. И место жительства нашел по своему вкусу.
— В таком случае, он должен получать причитающиеся ему деньги, как вы предлагаете. У меня это не вызывает сомнений.
В каком-то смысле с Брайдсхедом было очень просто разговаривать. Ему всегда все было до безумия ясно, и решения его принимались быстро и легко.
— Вам не интересно было бы написать этот дом? — вдруг спросил он. — Один вид с фасада, другой — со стороны парка, потом еще вид главной лестницы и интерьер парадной гостиной? Четыре небольшие картины маслом. Наш отец хочет иметь их в Брайдсхеде на память об этом доме. Я не знаю ни одного живописца. А Джулия сказала, что вы специализируетесь на архитектурной живописи.
— Да, — сказал я. — Мне это было бы, конечно, очень интересно.
— Вы ведь знаете, его сносят? Наш отец продает его. Здесь собираются построить доходный дом. Название они намерены сохранить — как выяснилось, мы не вправе помешать этому.
— Как грустно.
— Разумеется, я тоже очень сожалею. Вы находите его ценным архитектурным произведением?
— Это один из красивейших особняков, какие я видел. Это несомненно.
— А я этого не чувствую. Мне он всегда представлялся довольно безобразным. Возможно, ваши картины покажут мне его с другой стороны.
Это был мой первый заказ; я должен был работать наперегонки со временем, так как подрядчики дожидались только подписания последних бумаг, чтобы приступить к сносу. Несмотря на это — или, быть может, именно поэтому, ибо мой главный порок в том, что я слишком долго не могу поставить точку и оторваться от уже законченного полотна, — эти четыре картины принадлежат к числу моих самых любимых, и их успех как у публики, так и у меня самого положил начало всей моей дальнейшей карьере.
Я начал с парадной гостиной, так как им не терпелось вывезти мебель, стоявшую там со дня постройки дома. Это была длинная симметричная комната в изысканном адамовском стиле с двумя великолепными окнами в нишах, выходящими на Грин-парк. В тот час, когда я приступил к работе, заливавший комнату свет заходящего солнца был пронизан нежно-зелеными отблесками свежей листвы за окном.
Я в карандаше разметил перспективу и аккуратно нанес все детали. Я медлил приниматься за краски, как медлит ныряльщик у самой воды: но вот я погрузился в божественную стихию, ушел с головой и испытал восторг и восхитительную легкость. Обычно я писал маслом медленно и тщательно — в тот день, и весь следующий день, и день, следующий за этим, я работал очень быстро. Действия мои были безошибочны. По окончании каждого куска я останавливался, трепеща, не решаясь начать следующий, точно игрок из страха, как бы удача вдруг не изменила и весь выигрыш не исчез без следа. Пятно за пятном, минута за минутой вещь оживала. Я не испытывал трудностей; прихотливая многоплановость света и цвета обернулась гармоническим единством; нужный оттенок отыскивался на моей палитре именно там, куда я за ним тянулся; каждый завершенный мазок кисти, казалось, был на этом месте от века.
— Можно мне побыть тут и посмотреть? Я обернулся и увидел Корделию.
— Можно, — ответил я, — только не разговаривайте. — И сразу забыл о ней, не прерывая больше работы, покуда померкший свет солнца не принудил меня положить кисти.
— Замечательно, должно быть, уметь такое.
А я не помнил, что она здесь.
— Да.
Я все еще не мог оторваться от полотна, хотя солнце село монохромные сумерки заливали комнату. Я снял картина с мольберта, поднес к окну, потом снова поставил и подсветил какую-то тень. И вдруг, ощутив бесконечную усталость в мозгу, в глазах, в спине и в руке, все отложил и повернулся к Корделии.
Ей было уже пятнадцать лет, и она очень вытянулась за эти полтора года. Она не обещала стать, как Джулия, красавицей Кватроченто, в ее лице уже теперь проглядывали брайдсхедовские черты — чуть длинноватый нос, чуть выступающие скулы. Она была в трауре по матери.
— Уф-ф, устал, — сказал я.
— Еще бы. Она готова?
— Практически. Завтра утром еще раз по ней npoйдусь.
— А вы знаете, что уже давно время ужинать? В доме нет никого, кто бы мог хоть что-нибудь приготовить. Я только сегодня приехала и не предполагала, что здесь уже все в таком запустении. Вам очень не хочется повести меня куда-нибудь поужинать?
Мы вышли с заднего подъезда и в сумерках пошли через парк к «Ритцу».
— Вы виделись с Себастьяном? Он и теперь не хочет вернуться домой?
Я и не предполагал, что она так много понимает, и сказал ей об этом.
— Видите ли, я люблю его больше всех, — ответила она. — Грустно как с Марчерсом, правда? А вы знаете, что на его месте хотят построить доходный дом и Рекс собирался снять, как он выражался, «особняк» на крыше? Правда, на него похоже? Бедная Джулия. Это было для нее уж слишком. Он ничего не понял, он думал, ей будет приятно сохранить связь со своим старым домом. Быстро все как-то кончилось, правда? Оказывается, папа давно в страшных долгах. Продажа Марчерса дала ему возможность уладить свои дела, и, кроме того, это еще принесет бог знает сколько экономии на ренте. Но все-таки, по-моему, жаль его сносить. А Джулия говорит, пусть лучше сносят, чем там поселится кто-нибудь чужой.
— А что будет с вами?
— Да, действительно это вопрос. Имеется множество различных предложений. Тетя Фанни Роскоммон хочет, чтобы я жила у нее. Потом Рекс и Джулия поговаривают о том, чтобы занять половину Брайдсхеда и жить там. Папа назад не вернется. Мы думали, может быть, он захочет, но нет. А часовню в Брайдсхеде епископ и Брайди закрыли; реквием по маме был там последней службой. Когда ее похоронили, священник вернулся — я была там одна, он, я думаю, меня не заметил, — снял алтарную плиту и положил к себе в сумку; потом сжег куски ваты со святым мирром и выбросил пепел за порог, вылил святую воду из чаши, задул светильник в алтаре и оставил дарохранительницу распахнутой настежь и пустую, словно теперь всегда будет страстная пятница. Для вас это все, наверное, одни слова, бедный агностик Чарльз?
Я подождала там, покуда он уйдет, и тогда вдруг оказалось, что никакой часовни больше нет, а есть просто очень странно убранная комната. Не могу передать, как это было. Вы никогда не были на Tenebrae?[53]
— Нет.
— Жаль. Если б были, вы бы поняли, что чувствовали евреи, когда разрушили их храм. «Quomodo seclet sola civitas…»[54]. Красивый распев. Надо бы вам сходить хоть один раз послушать.
— Все еще пытаетесь обратить меня, Корделия?
— Нет-нет. С этим тоже покончено. А знаете, что папа сказал, когда стал католиком? Мама мне рассказывала. Он ей сказал: «Вы возвратили мой род к вере наших предков». Слишком выспренне, правда? Каждому свое. Ну да все равно наша семья не выказала особого постоянства, ведь верно? Он сам отошел от веры, и Себастьян отошел, и Джулия. Только, знаете, бог не даст им уйти совсем. Помните рассказ, который читала нам мама в тот вечер, когда Себастьян впервые напился, — и в тот, другой, страшный вечер? Патер Браун сказал примерно так: «Я изловил его — вора — с помощью скрытого крючка и невидимой лесы, которая достаточно длинна, чтобы он мог зайти на край света, но все равно притянет его назад, стоит только дернуть за веревочку».
Мы почти не упоминали о ее матери. Все время, пока шел этот разговор, Корделия с аппетитом ела. Потом она спросила:
— Вы видели в «Таймсе» стихотворение сэра Адриана Порсона? Удивительно, он знал ее лучше всех — ведь он всю жизнь ее любил — и, однако же, кажется, будто это вовсе и не о ней написано. Из нас всех у меня были с нею самые хорошие отношения, но и я, наверное, никогда не любила ее по настоящему. Так, как она хотела и как заслуживала. И это странно, потому что по натуре я очень любящая.
— Я никуда не был близко знаком с вашей матерью.
— Вы ее не любили. Мне иногда кажется, что, когда хотят ненавидеть бога, ненавидят нашу маму.
— Я вас не понял, Корделия.
— Ну, видите ли, она была мученица, но не святая. Святую ведь нельзя ненавидеть, верно? Тем более бога. Вот и выходит, когда хотят ненавидеть бога и его святых праведников, ищут кого-нибудь похожего на самих себя, представляют себе, будто это бог, и ненавидят. Вы, наверно, думаете, что все это чушь?
— Я уже один раз слышал нечто подобное от совсем другого человека.
— О, я говорю вполне серьезно. Я об этом долго думала. По моему, это многое объясняет в судьбе бедной мамы.
И это странное дитя с утроенной энергией вновь набросилось на свой ужин.
— Первый раз ужинаю в ресторане одна со знакомым, — сказала она. И позднее:
— Когда Джулия узнала, что Марчерс продают, она сказала «Бедняжка Корделия. Значит, все-таки не будет ей там первого бала». Это у нас с ней была любимая тема — мой первый бал в Марчерсе. И еще — как я буду подружкой у нее на свадьбе. Из этого тоже ничего не получилось. Когда давали бал для Джулии, мне разрешили побыть внизу один час, я сидела в уголке с тетей Фанни, и она мне сказала: «Через шесть лет все это достанется и тебе…» Я надеюсь, что у меня окажется призвание.
— Что это значит?
— Это значит, я смогу быть монахиней. Если вы не призваны, ничего все равно не получится, как бы вы ни хотели этого, а если призваны, вам никуда не деться, хотите или нет. Брайди думает, что призван, но ошибается. Раньше я думала, что Себастьян призван, но не хочет, а теперь не знаю. Все вдруг так резко переменилось.
Но я не мог слышать этих монастырских разговоров. В тот день я держал в руке вдруг ожившую кисть — я вкусил от великого, сочного пирога творчества. Я был в тот вечер человеком Ренессанса — Ренессанса по Роберту Браунингу. Я бродил по улицам Рима в генуэзском бархате и видел звезды сквозь трубу Галилея, — и я с презрением отвергал нищенствующих братьев, их пыльные фолианты и запавшие, завистливые глаза, их заумные схоластические речи.
— Вы полюбите, — сказал я.
— Упаси меня бог. Как вы думаете, можно мне съесть еще одну такую чудную меренгу?
Книга третья СТОИТ ТОЛЬКО ДЕРНУТЬ ЗА ВЕРЕВОЧКУ
Глава первая
Моя тема — память, этот крылатый призрак, взлетевший надо мною однажды пасмурным военным утром.
Эти воспоминания, которые и есть моя жизнь — ибо ничто в сущности, не принадлежит нам, кроме прошлого, — были со мной всегда. Подобно голубям на площади Святого Марка, они были повсюду, под ногами, в одиночку, парочками, воркующими стайками, кивая, расхаживая, мигая, топорща шелковые перья на шее, опускаясь, когда я стоял совсем тихо прямо мне на плечо и даже склевывая раскрошенное печенье у меня с губ, покуда гулкий пушечный выстрел вдруг не возвестил полдень, и вот уже в трепете и блеске крыл мостовая опустела, а небо над головой закрыла темная крикливая птичья туча. Так было и в то военное утро.
Целых десять мертвых лет после того вечера с Корделией меня влекло вперед по дороге, внешне изобилующей событиями и переменами, но за весь этот срок я ни разу — кроме, пожалуй, отдельных мгновений за мольбертом, да и те случались все реже по мере того, как проходило время, — ни разу не ожил до конца, как я был жив, когда дружил с Себастьяном. Я полагал, что это юность, а не сама жизнь уходит от меня. Меня поддерживала работа, ибо я избрал то, что мне хорошо удавалось, в чем я постоянно совершенствовался и от чего получал удовлетворение; к тому же как-то так вышло, что этим видом деятельности, кроме меня, в те годы никто не занимался. Я стал архитектурным живописцем.
Больше даже, чем произведения великих архитекторов, нравились здания, которые безмолвно разрастались от столетия к столетию, улавливая и сохраняя все лучшее в каждом поколении и предоставляя времени обуздывать гордыню художника и вульгарность обывателя и подправлять корявости тупого ремесленника. Англия изобиловала такими зданиями, последнее десятилетие своего величия англичане словно очнулись и осознали то, что раньше воспринималось ими как нечто само собой разумеющееся, и отдали дань собственным достижениям уже на пороге их гибели. Отсюда мое процветание, значительно превзошедшее мои заслуги; в моих работах не было особых достоинств, кроме постоянно совершенствующейся техники, любви к предмету и независимости от ходячих мнений.
Финансовый кризис тех лет, обрекший на бездеятельность многих живописцев, только способствовал моему успеху, что само по себе было признаком заката. Когда водные источники пересыхают, жаждущие гоняются за миражами. После первой выставки меня стали приглашать во все концы страны, для того чтобы писать портреты с домов, которым предстояло быть покинутыми и обесцененными, самый мой приезд нередко всего на несколько шагов опережал появление аукционера, служа как бы первым вестником смертного приговора.
Я опубликовал три роскошных альбома — «Загородные усадьбы», «Английские дома» и «Деревенская и провинциальная архитектура», — и каждый разошелся в тысяче экземпляров по цене пять гиней. Заказчики мои почти всегда оставались довольны, так как между нами не было расхождений во взглядах; и они и я стремились к одному и тому же. Но с годами я начал с горечью ощущать утрату того, что когда-то познал в парадной гостиной Марчмейн-хауса и потом еще два или три раза, — некоего напряжения чувств, полной отрешенности и веры в то, что не рукою единой вершится дело, — иначе говоря, утрату вдохновенья.
В поисках этого меркнущего света я, как в классической древности, нагруженный параферналиями своего ремесла, отправился на два года за границу, дабы освежиться среди чужого искусства. Поехал я не в Европу, ее сокровища были в надежной сохранности, в слишком надежной сохранности, запеленутые и перепеленутые заботами знатоков, сокрытые от взглядов привычным благоговением. Европа могла подождать. Для Европы еще будет время, думал я, ведь не за горами те дни, когда я буду нуждаться в человеке, который бы устанавливал мой мольберт и носил за мною краски; когда я не рискну удалиться больше чем на час ходьбы от комфортабельного отеля; когда я буду нуждаться в прохладном ветерке и мягком солнечном свете; и вот тогда я обращу мои старые глаза к Италии и Германии. Теперь же, пока у меня есть силы, я отправлюсь в дикие страны, где человек покинул свой пост и джунгли подбираются обратно к своим былым твердыням.
И вот я выехал в путь и два года путешествовал по Мексике и Центральной Америке — в мире, который располагал всем, в чем я нуждался, и должен был, после холлов и парков, послужить для меня живительной переменой и исцелить мой душевный разлад. Я искал утраченное вдохновение среди разграбленных дворцов, и заросших бурьяном монастырей, и заброшенных храмов, где спящие вампиры свисали под куполами наподобие диковинных стручков и только одни муравьи неустанно трудились, подтачивая резные скамьи; среди городов, к которым не вели никакие дороги, и гробниц, под чьими сводами пряталось от дождей одинокое, истерзанное малярией индейское семейство. Там, с большими трудами преодолевая болезни, а порой и опасности, я сделал первые рисунки для «Латинской Америки». Каждые несколько недель я выбирался на отдых в зону коммерции и туризма, отдыхал, устраивал студию, переносил на полотна свои зарисовки, аккуратно их запаковывал и отправлял нью-йоркскому агенту, а сам со своей малочисленной свитой снова удалялся в пустыню.
Я не очень заботился о поддержании связи с Англией. Куда мне лучше поехать, я узнавал на месте и определенного, заранее составленного маршрута не имел, так что часть адресованных мне писем вообще меня не достигла, а остальные скапливались где-нибудь, покуда их не оказывалось больше, чем можно было прочесть в один присест. Я прятал пачку писем в мешок и потом читал на досуге, когда вздумается, при этом обычно в обстановке, настолько им не соответствующей — раскачиваясь в гамаке под сеткой при свете «летучей мыши»; спускаясь в лодке вниз по реке, пока слуги на корме лениво поводят веслом, не давая лодке уткнуться носом в берег, а темные воды катятся вперед вместе с нами под зеленой сенью огромных деревьев и обезьяны верещат, освещенные солнцем среди цветов на крыше джунглей; или на веранде гостеприимного ранчо, под бряканье кусочков льда в стакане и игральных костей на столе, любуясь, как цепной оцелот резвится у своей конуры перед домом, — что они казались голосами, почти бессмысленными в своей отдаленности; их содержание проходило через меня, не сбавляя следов, подобно откровенностям случайных попутчиков, от которых никуда не денешься в американских железнодорожных вагонах.
Но несмотря на такую изоляцию и на это продолжительное пребывание в чужих краях, ничто не изменилось, по-прежнему это был не весь я, а только одна сторона моей личности. Через два года я расстался с экзотическим существованием, снял тропический наряд и, как было предусмотрено, вернулся в Нью-Йорк. Улов мой был немал — одиннадцать полотен и больше пятидесяти зарисовок, — и когда я в конце концов выставил их в Лондоне, художественные критики, многие из которых прежде отзывались о моем успехе не без снисходительности, признали теперь в моей работе новые, более глубокие ноты. «Мистер Райдер, — писал самый уважаемый среди них, — взыграл, словно молодая форель, приняв подкожную инъекцию иной культуры, и раскрыл нам новые могучие грани в перспективе своих возможностей… Нацелив откровенно-традиционную батарею своей элегантности и эрудиции на мальстрем варварства, мистер Райдер наконец нашел себя как художник».
Лестные слова, но как далеки они были от истины! Моя жена, приехавшая в Нью-Йорк для встречи со мною, увидев плоды двух лет нашей раздельной жизни, развешанные в конторе моего агента, выразила их сущность удачнее. «Конечно, — сказала она, — я понимаю, это совершенно блестящие работы и, право, даже красивые на свой зловещий лад, но как-то чувствуется, что это не совсем ты».
В Европе мою жену нередко принимали за американку из-за ее броской и элегантной манеры одеваться и своеобразно гигиенического характера ее красоты; в Америке она обрела чисто английскую кротость и сдержанность. Она приехала в Нью-Йорк на два дня раньше меня и была на пристани, когда наш пароход бросил якорь.
— Ах, как долго тебя не было, — нежно сказала она, когда мы обнялись.
Она не принимала участия в моей экспедиции; знакомым она объясняла, что там неподходящий климат и что дома у нее сын. А теперь еще и дочь, заметила она скромно, и мне вспомнилось, что действительно об этом шла речь перед моим отъездом как о дополнительном соображении, почему ей не следует ехать. Было об этом что-то и в ее письмах.
— По-моему, ты не читал моих писем, — мягко сказала она поздно вечером, когда после шумного ужина в ресторане и нескольких часов в кабаре мы наконец остались одни у себя в номере.
— Много писем не дошло. Я отлично помню, как ты писала, что нарциссы в саду — просто мечта, что новая няня — сокровище, а кровать с пологом начала прошлого века — находка. Но положительно не помню, чтобы ты мне писала, что назвала своего младенца Каролиной. В честь чего это?
— В честь Чарльза, разумеется.
— А-а.
— Я выбрала в крестные матери Берту Ван Холт. По-моему, в крестные матери она очень подходит. Как ты думаешь, что она подарила?
— Берта Ван Холт известная скупердяйка. Что же?
— Сувенир за пятнадцать шиллингов в виде книжечки. Теперь, когда Джонджон уже не один…
— Кто?
— Твой сын, милый. Или ты его тоже забыл?
— Какого черта, — спросил я, — ты его так называешь?
— Это он сам придумал себе такое имя. Разве не мило? Теперь, когда Джонджон уже не один, я думаю, нам пока больше не надо, как ты считаешь?
— Как тебе будет угодно.
— Джонджон так часто о тебе говорит. Он каждый вечер молится о твоем благополучном возвращении.
Она говорила все это и раздевалась, стараясь казаться непринужденной; потом, повернувшись ко мне голой спиной, села за туалетный столик, расчесала гребнем волосы и, глядя на свое отражение в зеркале, спросила:
— Сделать мне лицо бай-бай?
Это ее выражение я не любил. Оно означало, следует ли ей снять с лица всю косметику, обмазаться жиром и надеть на волосы сетку.
— Нет, — сказал я. — Пока не надо.
Она сразу поняла, что от нее требовалось. Для этого у нее была тоже своя аккуратная, гигиеническая манера; но в улыбке, с какой она меня встретила, было и облегчение и торжество. Потом мы лежали врозь на своих кроватях и курили; между нами было расстояние в два шага. Я посмотрел на часы — шел пятый час ночи, ни ее, ни меня даже не клонило в сон, ибо в воздухе этого города присутствовал невроз, который тамошние жители принимают за энергию.
— Чарльз, по-моему, ты нисколько не переменился.
— Да, к сожалению.
— Ты хотел бы перемениться?
— Только в этом и проявляется жизнь.
— Но ведь ты мог бы так перемениться, что разлюбил бы меня.
— Да, мог бы.
— Чарльз, ты не разлюбил меня?
— Ты ведь сама сказала, что я не переменился.
— Теперь мне начинает казаться, что я ошиблась. Я вот не переменилась.
— Да, — сказал я, — вижу.
— Тебе страшно было сегодня, когда мы встретились?
— Нисколько.
— Ты не думал, а вдруг я теперь влюблена в кого-нибудь другого?
— Нет, не думал. Ты влюблена в другого?
— Ты же знаешь, что нет. А ты?
— Нет. Я не влюблен.
Мою жену удовлетворил этот ответ. Она вышла за меня замуж шесть лет назад, когда состоялась моя первая выставка, и с тех пор немало сделала в наших общих интересах. Люди говорили, что она создала меня, но сама она признавала за собой только ту заслугу, что обеспечила мне благоприятную обстановку; она твердо верила в мой талант и «артистический темперамент», а также в ту истину, что сделанное тайно как бы не сделано вовсе.
Немного погодя она спросила:
— Тебе очень не терпится попасть домой? (Отец подарил мне к свадьбе деньги на покупку дома, и я купил старый дом священника в тех местах, где жили родители моей жены.) Я приготовила тебе сюрприз.
— Да?
— Переделала старый амбар в студию, чтобы тебе не мешали дети или если кто к нам приедет погостить. Пригласила Эмдена для этой работы. Все считают, что получилось очень удачно. Была даже статья в «Сельской жизни», я привезла тебе посмотреть.
Она показала мне статью: «…удачный образец хороших манер в архитектуре… Сэр Джозеф Эмден тактично приспособил традиционный материал к новым требованиям…» Текст сопровождался фотографиями. Земляной пол теперь покрывали широкие дубовые доски, в северной стене было пробито высокое окно в каменном переплете, с нишей, а высокий балочный потолок, который раньше терялся в полусумраке, был залит ярким светом, и пространства между балками заштукатурены и выкрашены белоснежной краской; стало похоже на деревенский танцзал. Мне припомнился прежний запах амбара, теперь, должно быть, исчезнувший.
— Мне нравился этот амбар, — вздохнул я.
— Но зато ты сможешь здесь работать, верно?
— Я работал на корточках в облаке гнуса, — ответил я, — под солнечными лучами, от которых обугливалась бумага, и теперь могу работать хоть на крыше омнибуса. Я думаю, священник будет рад арендовать это помещение для виста.
— Тебя ждет уйма работы. Я обещала леди Энкоредж, что ты напишешь их дом, как только вернешься. Его ведь тоже будут сносить — построят внизу магазины, а сверху двухкомнатные квартирки. Как ты думаешь, Чарльз, эта твоя экзотика не отобьет у тебя охоту к таким вещам?
— Что за вздор!
— Видишь ли, то, что ты делал теперь, совсем не такое. Не сердись.
— Просто и этот дом должны поглотить джунгли, только и всего.
— Да, я знаю, милый, как ты к этому относишься. Георгианское общество подняло страшный шум, но ничего нельзя было сделать… Ты получил мое письмо про Боя?
— Не помню. О чем оно? (Бой Мулкастер был ее брат).
— О его помолвке. Теперь это неважно, потому что все отменилось, но папа с мамой были ужасно расстроены. Такая кошмарная девица. В конце концов пришлось дать ей денег.
— Нет, я ничего не знал про Боя.
— Они с Джонджоном теперь страшные друзья. Так трогательно наблюдать их вдвоем. Когда бы он ни приехал, он первым делом бежит к нам. Входит в дом, ни на кого даже не смотрит и кричит во всю глотку: «Где тут мой приятель Джонджон?» — а Джонджон кубарем скатывается по лестнице, и они уходят в рощу и там играют часами. Можно подумать, что это ровесники. И знаешь, это Джонджон его первый образумил насчет той девицы, нет, правда, он такой умненький. Видно, он слышал, как мы с мамой разговаривали, и вот, когда Бой приехал, он вдруг говорит: «Дядя Бой не женится на плохой тете и не оставит Джонджона», — и в тот же день как раз сговорились на двух тысячах фунтов без суда. Джонджон так восхищается Боем и подражает ему совершенно во всем. Это страшно полезно и для того и для другого.
Я отошел к окну и попробовал — в который раз, и все тщетно, — перекрыть отопление; потом выпил воды со льдом и распахнул окно, но вместе с морозным ночным воздухом в комнату ворвалась музыка из соседнего номера — там был включен радиоприемник. Я закрыл окно и пошел к жене.
Потом она снова заговорила, но уже сквозь сон: «…Сад чудо как разросся… Буксовые кусты — помнишь, ты посадил? — за прошлый год поднялись на пять дюймов… Я пригласила людей из Лондона привести в порядок теннисный корт… У нас первоклассный повар…»
К тому времени, когда город внизу под нами начал пробуждаться, мы наконец уснули, но ненадолго: раздался телефонный звонок, и гермафродически-веселый голос в трубке произнес: «Отель „Савой-Карлтон“. Доброе утро. Семь часов сорок пять минут».
— Я, знаете ли, не просил, чтобы меня будили.
— Как вы сказали?
— Ладно. Все равно.
— Пожалуйста, пожалуйста.
Когда я брился, моя жена, сидя в ванне, сказала:
— Совсем как в прежние времена. Я теперь совершенно успокоилась, Чарльз.
— Прекрасно.
— Я ужасно боялась, что за два года все переменится. А теперь вижу, мы можем опять начать с того, на чем остановились.
— Когда? — спросил я. — На чем? Когда мы на чем остановились?
— На том, что ты уехал, разумеется.
— А может быть, на чем-то еще? Немного раньше?
— Ах, Чарльз, это древняя история. Все это было пустое. Одни пустяки. Давно кончено и забыто.
— Я просто хотел уточнить, — сказал я. — У нас все, как было в день моего отъезда, так я понял?
И мы начали новый день в точности с того, на чем кончили два года назад: моя жена была в слезах.
Английская сдержанность и кротость моей жены, ее ослепительно-белые ровные зубки, отточенные розовые ногти и облик школьницы, склонной к невинным шалостям, и туалеты школьницы с драгоценностями в современном вкусе, которые изготовляются за огромные деньги с таким расчетом, чтобы издалека казаться обыкновенным ширпотребом, и всех награждающая улыбка, и почтительное отношение ко мне, и горячая забота о моих интересах, и ее любящее материнское сердце, побуждающее ее каждый день слать домой телеграммы, — словом, все ее своеобразное очарование создало ей в Америке множество друзей, и наша каюта в день отплытия была забита подарками в целлофановых пакетах — цветами, фруктами, книгами, игрушками для наших детей — от людей, с которыми она была знакома не более недели. Стюарды, как и медицинские сестры в больницах, судят о важности своих пассажиров по количеству и ценности подобных подношений, и потому мы начали плаванье, окруженные глубочайшим почтением.
Первая мысль моей жены по прибытии на борт была о списке пассажиров.
— Сколько знакомых! — сказала она. — Нам предстоит чудесное плаванье. Давай сегодня вечером пригласим гостей. Сходни еще не убрали, когда она засела за телефон.
— Джулия? Это Селия — Селия Райдер. Чудесно, что ты оказалась на этом же пароходе. Что ты поделываешь? Приходи к нам сегодня вечером на коктейль и все расскажешь.
— Какая это Джулия?
— Моттрем. Не видела ее тысячу лет.
Я тоже; последний раз мы встретились у меня на свадьбе, а поговорить у нас не было случая со времени вернисажа моей первой выставки, на которой повешенные в ряд четыре полотна с изображением Марчмейн-хауса, одолженные Брайдсхедом, привлекали всеобщее внимание. Эти картины были моей последней связью с Флайтами; наши жизни, в течение почти двух лет такие близкие, разошлись. Себастьян, я знал, по-прежнему находился за границей; Рекс и Джулия, как я слышал, были несчастливы друг с другом. Рекс вовсе не сделал такой блистательной карьеры, как ему предсказывали; он оставался на периферии правящего круга фигурой видной, но чуточку подозрительной. Живя среди одиозно богатых, он в своих выступлениях выражал ультрарадикальные взгляды. Имя Моттремов иногда звучало в разговорах; их лица нередко мелькали со страниц «Тэтлера», когда, поджидая кого-нибудь, я рассеянно перелистывал журнал, но мы с ними больше не пересекались; как это бывает в Англии и только в Англии, мы оказались в двух различных мирах, в двух разных планетарных системах личных знакомств; для этого явления можно найти, насколько я понимаю, прекрасную метафору из области физики, в том, как частицы энергии группируются и перегруппировываются в отдельные магнетические системы; метафора эта сама просится на бумагу, если только вы можете со знанием дела трактовать о соответствующих явлениях; я же способен сказать только, что в Англии имеется бесчисленное множество подобных тесных кружков, и можно жить, как жили мы с Джулией, на соседних улицах, видеть по временам в отдалении один загородный горизонт; можно симпатизировать друг другу, вчуже интересоваться даже, как сложились наши жизни, и сожалеть, что судьба нас развела, отлично зная, что стоит только в одно прекрасное утро снять трубку телефона, и твой голос прозвучит у изголовья другого, как бы распахнув двери и войдя вместе с солнцем и апельсиновым соком, и, однако же, так никогда и не сделать этого шага, покоряясь центростремительной силе наших отдельных мирков и холоду космического пространства между ними.
Моя жена, поджав ноги, сидела на валике дивана среди целлофановых оберток и шелковых лент и энергично названивала по телефону, подбираясь к концу пассажирского списка.«…Да, да, конечно, приведите его, я слышала, Ты прелесть… Да, представьте, и Чарльз тоже, он наконец возвратился ко мне из джунглей, вот чудесно, да?.. Я так рада была увидеть ваше имя в списке пассажиров! Теперь наше плаванье… дорогая, мы тоже жили в „Савой-Карлтоне“, как мы могли не встретиться?..» Время от времени она оборачивалась ко мне и говорила:
— Я должна убедиться, что ты действительно здесь. Никак не привыкну.
Я вышел на палубу и остановился в одной из тех больших стеклянных коробок, откуда пассажиры смотрели на медленно уходящий берег. «Столько знакомых», — сказала моя жена. Для меня это были совершенно чуждые люди; волнение разлуки еще не улеглось; некоторые из пассажиров, до последней минуты пившие с теми, кто пришел их провожать, были в приподнятых чувствах; другие уже прикидывали, где бы расположиться на палубе со своим шезлонгом; вовсю играл никому не слышный оркестр — люди суетились, как муравьи.
Я ушел и стал бродить по пароходным салонам, которые были велики, но отнюдь не великолепны, напоминая до абсурда увеличенные коридоры железнодорожных вагонов. Я прошел в высокие бронзовые двери, на которых резвились двухмерные ассирийские чудовища, под ногами у меня расстилался ковер цвета промокательной бумаги; расписанные стенные панели тоже напоминали промокательную бумагу — «детские» рисунки в грязных, плоских тонах; а между стен лежали ярды и ярды светлого паркета, которого не касался инструмент паркетчика, — лесины, незаметно стыкованные одна с другой, гнутые под углом, обработанные паром и давлением и безукоризненно отполированные; здесь и там поверх ковра, похожего на промокательную бумагу, стояли кресла со столиками, сделанные словно по чертежам сантехников, — большие мягкие кубы с квадратными углублениями вместо сидений, обитые все той же промокательной бумагой; рассеянное освещение исходило из множества разбросанных отверстий — ровный свет без тени; и все гудело от вращения бесчисленных вентиляторов и вибрировало от работы мощных машин под полом.
«Ну, вот я и вернулся, — думал я, — из своих джунглей, от своих руин. Вернулся сюда, где богатство успело лишиться великолепия и сила — достоинства. Quomodo sedet sola civitas (я уже слышал этот великий плач, о котором когда-то в парадной гостиной Марчмейн-хауса говорила мне Корделия, слышал примерно год назад в Гватемале в исполнении негритянской капеллы)».
Подошел стюард.
— Не угодно ли чего-нибудь, сэр?
— Виски с содовой без льда.
— Прошу прощения, сэр, у нас вся содовая вода со льдом.
— А простая вода тоже?
— О да, сэр, тоже.
— Ну ладно, неважно.
Озадаченный, он засеменил, прочь, неслышно ступая в неумолчном гуле.
— Чарльз.
Я оглянулся.
В одном из мягких кубов, обтянутых промокательной бумагой, сидела Джулия, тихо сложив на коленях руки, — я прошел мимо, даже не заметив ее.
— Я знала, что вы здесь. Мне звонила Селия. Как хорошо.
— Что вы тут делаете?
Она скупым красноречивым жестом развела на коленях ладони.
— Жду. Моя горничная распаковывает вещи. Она постоянно чем-нибудь недовольна с тех пор, как мы выехали из Англии. Сейчас ей не нравится моя каюта. Почему, сама не знаю. Мне кажется, там очень мило.
Вернулся стюард с виски и двумя кувшинчиками — в одном была вода со льдом, в другом кипяток; я смешал их до нужной температуры. Он посмотрел, как я это делаю, и сказал:
— Теперь буду знать, как вы любите, сэр.
У большинства пассажиров были какие-нибудь причуды; ему платили жалованье за то, чтобы он им угождал. Джулия заказала чашку горячего шоколада. Я сел в соседний куб.
— Я теперь совсем не вижу вас, — сказала она. — Я, кажется, не вижу никого из тех, кого люблю. Почему, сама не знаю.
Но говорила она так, как будто со времени нашей последней встречи прошли недели, а не годы; как будто к тому же перед тем нас с ней связывала близкая дружба. Это было прямо противоположно тому, что происходит обычно при подобных встречах — когда оказывается, что время успело возвести собственную оборонительную линию, замаскировало уязвимые места и заминировало все промежуточное пространство, кроме двух-трех самых проторенных проходов, так что, как правило, мы только и можем что делать друг другу знаки через ряды проволочного заграждения. А тут мы с ней, никогда прежде не бывшие друзьями, встретились так, как будто между нами не прерывалась многолетняя дружба.
— Что вы делали в Америке?
Она медленно подняла на меня от чашки с шоколадом свои прекрасные серьезные глаза и ответила:
— А вы не знаете? Я вам расскажу когда-нибудь. Понимаете, я оказалась в дураках. Вообразила, что люблю одного человека, а вышло все совсем не так.
Память моя перелетела на десять лет назад, в тот вечер в Брайдсхеде, когда это прелестное тонконогое девятнадцатилетнее существо, словно получившее разрешение на час спуститься из детской и оскорбленное недостатком внимания взрослых, сказало с вызовом: «Я, например, тоже причиняю семье беспокойство»; и я тогда еще подумал, хотя и сам, как мне теперь казалось, едва вылез из коротеньких штанишек: «До чего эти молоденькие девушки важничают своими романами».
Теперь все было иначе; в том, как она это сказала, было только смирение и дружеская откровенность.
Мне захотелось ответить ей доверием на доверие, показать, что я принимаю ее дружбу, но в моей ровной, многотрудной жизни последних лет не было ничего, чем бы я мог с нею поделиться. Вместо этого я стал рассказывать о том, как жил в джунглях, о забавных типах, которые мне встречались, и о местах, которые я посетил, но в этой новой атмосфере старой дружбы рассказ мой прозвучал неуместно, быстро иссяк и оборвался.
— Я очень хочу увидеть картины, — сказала она.
— Селия предложила, чтобы я распаковал несколько и развесил по стенам каюты к приходу гостей. Я не мог.
— Ну да… а Селия по-прежнему очаровательна? Я всегда считала ее самой хорошенькой из всех наших сверстниц.
— Она не изменилась.
— Зато вы изменились, Чарльз. Такой тощий и хмурый; совсем не похож на того милого мальчика, которого Себастьян привез с собой когда-то в Брайдсхед. И как-то тверже стали.
— А вы мягче.
— Да, наверно… И я теперь стала терпеливее.
Ей не было еще и тридцати, она только приближалась к зениту своей прелести, с лихвой исполнив все, что обещала когда-то ее расцветающая красота. Модная тонконогость отошла в прошлое; голова, которую я привык относить к итальянскому Кватроченто, казавшаяся раньше словно чужой на ее угловатых плечах, стала теперь органичной частью ее облика, утратив свое флорентийское своеобразие и связь с живописью и искусством, так что бесполезно было бы пытаться расчленить и перечислить по пунктам особенности ее красоты, которая была ее сущностью и поддавалась познанию только в ней самой, с ее согласия, через любовь, которую я должен был вскоре к ней ощутить.
Время произвело в ней и еще одну перемену — не для нее была теперь самодовольная, лукавая улыбка Джоконды, годы, несшие не только «звон лютни и кифары», придали ее чертам выражение грусти. Она словно говорила: «Взгляните на меня. Я сделала что могла. Я красива необыкновенной, особенной красотой. Я создана для восторгов. Но что причитается мне самой? Что будет моей наградой?»
Этого в ней не было десять лет назад, и это, в сущности, и было ее наградой — магическая, неизбывная грусть, говорящая прямо сердцу и рождающая в нем немоту, венец ее красоты.
— И грустнее, — сказал я.
— О да, гораздо грустнее.
Когда спустя два часа я вернулся в каюту, моя жена была охвачена кипучей деятельностью.
— Пришлось обо всем позаботиться самой. Как, по-твоему, неплохо?
Нам дали, без приплаты, большой номер-люкс, который из-за его грандиозных размеров почти никогда никто не брал, кроме директоров пароходной компании, так что помощник капитана каждый рейс мог селить там кого-нибудь по своему усмотрению, кого желал особо почтить. (Моя жена обладала специальным талантом завоевывать такие почести: сначала ошеломляла бедные души своим шиком и моей известностью, а потом, утвердившись на недосягаемой высоте, сразу же переходила на почти заискивающее дружелюбие.) В знак благодарности помощник капитана был включен в число приглашенных, а он в знак благодарности со своей стороны прислал ей ледяного лебедя в натуральную величину, изнутри заполненного черной икрой. Этот роскошный хладный дар возвышался теперь на столе посреди комнаты и медленно таял, роняя с клюва каплю за каплей на серебряное блюдо. Поднесенные ей утром букеты по возможности скрывали стенные панели (ибо эта каюта была точь-в-точь недавно покинутый мною безобразный салон в миниатюре).
— Скорее иди переодеваться. Где ты был все это время?
— Разговаривал с Джулией Моттрем. — Ты с ней знаком? Ах, да, вы ведь дружили с ее алкоголиком-братом.
Боже, как она была ослепительна!
— Она тоже очень высокого мнения о твоей внешности.
— У нее был роман с Боем.
— Не может быть.
— Он так говорил.
— А ты подумала, — спросил я, — как твои гости будут грызть эту икру?
— Знаю. Ледяная, как камень. Но ведь есть все остальное — она открыла блюда со всевозможными глазированными лакомствами. — И потом, гости обычно как-то умудряются все съесть. Помнишь, мы один раз ели креветок ножом для разрезания бумаги?
— Разве?
— Милый, это было в тот вечер, когда ты поставил вопрос ребром.
— Мне помнится, что вопрос ребром поставила ты.
— Ну хорошо, в тот вечер, когда мы обручились. Ты не сказал, как тебе нравятся мои приготовления.
Приготовления, помимо лебедя и цветов, состояли из одного стюарда, уже задвинутого в угол импровизированной винной стойкой, и другого стюарда, с подносом, пользовавшего относительной свободой передвижения.
— Мечта киногероя, — сказал я.
— Кстати о киногероях, — отозвалась моя жена, — именно об этом мне нужно с тобой поговорить.
Она прошла вслед за мной в мою каюту и говорила со мной, пока я переодевался. Ей пришло в голову, что при моем интересе к архитектуре мое истинное призвание — создавать декорации для фильмов, и она пригласила сегодня двух голливудских магнатов, дабы расположить их в мою пользу.
Мы вернулись в гостиную.
— И, пожалуйста, милый, я вижу, ты невзлюбил моего лебедя, но только не говори ничего при помощнике капитана. С его стороны это было очень любезно. И потом, знаешь, если бы ты прочел об этом в описании пира в Венеции шестнадцатого века, ты наверняка сказал бы: вот когда надо было родиться.
— В шестнадцатом веке в Венеции он был бы совсем другой.
— А вот и наш Санта Клаус! А мы как раз стоим и восхищаемся вашим лебедем.
Помощник капитана вошел в каюту и обменялся со мною мощным рукопожатием.
— Дорогая леди Селия, — сказал он, — если вы завтра утром оденетесь во все, что у вас есть с собой самого теплого, и отправитесь вместе со мной на экскурсию по пароходному рефрижератору, я покажу вам целый ноев ковчег таких тварей. Тосты сейчас прибудут. Их пока не подали, чтобы они не остыли.
— Тосты! — повторила моя жена, словно это превосходило самые утонченные чревоугоднические мечты. — Ты слышишь, Чарльз? Тосты!
Вскоре начали собираться гости; благо им ничто не мешало появиться вовремя.
— Селия, — говорили они, — какая огромная каюта, и какой восхитительный лебедь!
В короткое время наш номер-люкс, хоть и был самым просторным на корабле, оказался тесно набит людьми; и вот уже в лужице, натекшей с ледяного лебедя, стали гасить сигареты.
Помощник капитана произвел сенсацию, как любят моряки, объявив, что ожидается шторм.
— Ну можно ли быть таким жестоким! — льстиво взмолилась моя жена, намекая тем самым, что не только каюта-люкс и черная икра, но и океанские волны зависели от его распоряжений. — Ведь все равно на такие пароходы шторм не влияет, верно?
— Может нас на денек-другой задержать.
— Но укачивать не будет, правда?
— Это уж кого как. Меня, например, всегда укачивает во время шторма, с детских лет.
— Не верю. Он просто хочет нас попугать. Идите все сюда, я вам кое-что покажу.
На столике стояла последняя фотография ее детей.
— Представьте, Чарльз еще не видел Каролину. Вот радость его ожидает!
Моих знакомых среди гостей не было, но примерно треть я знал по фамилии и мог вполне пристойно поддерживать разговор. Одна пожилая дама мне сказала:
— Так вы и есть Чарльз? Мне кажется, я решительно все о вас знаю. Селия столько о вас рассказывала.
«Решительно все? — подумал я. — Решительно все — это довольно много, мадам. Видите ли вы что-нибудь в тех темных закоулках моей души, где тщетно блуждает даже мой собственный взор? Можете ли вы объяснить мне, глубокоуважаемая миссис Стьювесант Оглендер — так, если не ошибаюсь, назвала вас моя жена, — почему в эту самую минуту, разговаривая с вами о моей предстоящей выставке, я все время думаю только о том, когда же придет Джулия? Почему я могу так беседовать с вами, а с ней не могу? Почему я уже выделил ее из всего человечества и себя вместе с нею? Что там свершается в далеких тайниках моей души, о которых вы даже не подозреваете? Что такое творится, миссис Оглендер?»
Но Джулия все не приходила, и голоса двадцати человек в этой тесной комнатке, которая была так велика, что ее никто не брал, звучали, как слитный говор толпы.
И тут я увидел забавную картину. Рыжий господин, которого почему-то никто не знал, одетый отнюдь не так изысканно, как принято в кругу друзей моей жены, вот уже двадцать минут стоял у икры и быстро-быстро, как кролик, ел ложку за ложкой. Наконец он остановился, вытер рот носовым платком и вдруг протянул руку и отер своим платком большую каплю, которая скопилась на носу у ледяного лебедя и вот-вот должна была оторваться и упасть. Проделав это, он оглянулся, чтобы удостовериться, что никто ничего не видел, встретился взглядом со мной и смущенно хихикнул.
— Так и подмывало утереть ему нос, вот не удержался, — пояснил он. — Пари, вы не знаете, сколько выходит капель в минуту. Я знаю. Сосчитал.
— Понятия не имею.
— Отгадайте. Шесть пенсов, если ошибетесь, доллар, если угадаете. Без обмана.
— Три, — сказал я.
— Ишь ты хитрый какой! Тоже небось сосчитали, — ухмыльнулся он, однако платить не стал. — А вот еще угадайте. Я в Англии рожден и вырос, а первый раз плыву через Атлантику.
— Туда, наверно, летели?
— Нет, и не летел.
— Тогда, значит, вы едете вокруг света и плыли через Тихий океан.
— Ну, вы и хитрый же, скажу я вам. А я, между прочим, на этой загадке немало заработал.
— Через какие же города вы ехали? — вежливо осведомился я.
— А, это секрет фирмы. Ну, мне пора. Всего! Ко мне подошла моя жена.
— Чарльз, — сказала она, — познакомься: мистер Крамм из «Интерастрал филмз».
— Так вы и есть мистер Чарльз Райдер, — сказал мистер Крамм.
— Да.
— Ну-ну. — Он помолчал. Я ждал. — Вот помощник капитана говорит, что нас ждет ухудшение погоды. Ну, что вы на это скажете!
— Гораздо меньше, чем уже сказал помощник капитана.
— Прошу прощения, мистер Райдер, я вас не совсем понял.
— Я только сказал, что помощник капитана разбирается в этом лучше меня.
— Вот как? Гм-гм. Ну-ну, я получил большое удовольствие от нашей беседы. Надеюсь, она будет не последняя. Какая-то английская дама говорила:
— Ох, этот лебедь! Полтора месяца в Америке привили мне настоящую фобию ко льду. Расскажите мне, что вы испытали, снова встретившись с Селией? Я знаю, я бы чувствовала себя неприлично новобрачной. Но Селия и без того еще не сняла флердоранжа, верно?
Другая дама говорила:
— Разве это не чудесно? Вот сейчас мы распрощаемся, но через полчаса увидимся снова и еще много-много дней будем видеться каждые полчаса.
Гости расходились, и каждый перед уходом сообщал мне о том, что мне сулят в ближайшем будущем заботы моей жены; популярной темой было также наше предстоящее тесное общение. Наконец был вывезен и ледяной лебедь, и я сказал моей жене:
— Джулия так и не пришла.
— Да, она звонила. Я не расслышала, что она говорила, тут был такой шум, что-то насчет платья. И к лучшему, надо признаться, тут и так негде было яблоку упасть. Было очень мило, верно? Тебе очень не понравилось? Ты держался чудесно и очень импозантно выглядел. А кто этот твой рыжий приятель?
— Первый раз его видел.
— Как странно! Ты сказал что-нибудь мистеру Крамму насчет работы в Голливуде?
— Конечно, нет.
— Ох, Чарльз, сколько мне с тобой хлопот! Мало просто стоять с видом гения и мученика искусства. Ну, пошли обедать. Мы сидим за капитанским столом. Едва ли он сегодня выйдет к обеду, но вежливость требует пунктуальности.
К тому времени, когда мы добрались до кают-компании, места за столом уже были распределены. По обе стороны от пустого капитанского стула сидели Джулия и миссис Оглендер, еще там были английский дипломат с женой, сенатор Стьюве-сант Оглендер и — в блестящей изоляции — американский священник между двумя парами пустых стульев. Позднее он отрекомендовался довольно тавтологическим титулом епископального епископа. Жены и мужья сидели здесь вместе. Моя жена, приняв молниеносное решение, отклонила вмешательство стюарда и села подле сенатора, предоставив епископа мне. Джулия потерянно кивнула нам через стол.
— Я страшно огорчена, что не смогла прийти, — сказала она. — Моя злодейка-горничная бесследно исчезла со всеми моими туалетами и появилась только полчаса назад. Ходила играть в пинг-понг.
— Я сейчас рассказывала сенатору, как много он потерял, что не был у вас, — обратилась ко мне миссис Стьювесант Оглендер. — Где Селия, там всегда увидишь значительных людей.
— Справа от меня сидят значительные люди, супружеская чета, — сказал епископ. — Они едят у себя в каюте и будут выходить к общему столу, только когда их заранее уведомят, что ожидается присутствие капитана.
Компания за столом подобралась довольно безотрадная; даже светский энтузиазм моей жены не выдерживал такого испытания. По временам до меня доносились обрывки ее разговора с сенатором.
— … презабавный рыжий человечек. Капитан Буремглой собственной персоной.
— Простите, леди Селия, но я вас так понял, что вы с ним не были знакомы?
— Я хочу сказать, что это был кто-то, очень на него похожий.
— Кажется, я начинаю понимать. Он принял облик вашего знакомого капитана с целью попасть в число ваших гостей?
— Нет-нет. Капитан Буремглой — это такой комический персонаж.
— Мне кажется, что в господине, о котором идет речь, ничего комического не было. А ваш знакомый — комик?
— Да нет. Капитан Буремглой — это вымышленный персонаж из английской газеты. Вроде вашего Лупоглаза. Сенатор отложил нож и вилку.
— Я резюмирую. К вам в гости явился некий непрошеный господин, и вы приняли его, ибо усмотрели в нем сходство с карикатурным персонажем?
— Да, пожалуй, в общем и целом так.
Сенатор поглядел на жену, как бы говоря: «Ничего себе значительные люди!»
Мне слышно было, как на другом конце стола Джулия любезно разъясняла английскому дипломату сложные брачно-родственные связи своих венгерских и итальянских кузенов. На пальцах и в волосах у нее вспыхивали огоньки бриллиантов, но руки ее нервно катали хлебные катышки, а лучистая голова печально никла.
Епископ рассказывал мне о миссии доброй воли, с которой он направлялся в Барселону: «… была проделана очень важная предварительная работа, мистер Райдер. И теперь настало время возводить новое здание на более широком фундаменте. Я поставил себе целью примирить между собою так называемых анархистов и так называемых коммунистов, и с этой целью я и мой комитет изучили всю имеющуюся документацию по данному вопросу. И мы пришли, мистер Райдер, к единодушному заключению, что между названными идеологиями нет принципиальной разницы. Все упирается в личностей, мистер Райдер, а что личности разъединили, личности могут и соединить…»
По другую сторону от меня слышалось:
— Позвольте поинтересоваться, какие же организации финансировали экспедицию вашего супруга?
Жена дипломата смело атаковала епископа, преодолев разделяющую, их пропасть:
— А на каком языке вы собираетесь изъясняться в Барселоне?
— На языке Разума и Братства, сударыня. — И, снова обратись ко мне: — Язык будущего — это язык мыслей, а не слов. Вы согласны со мной, мистер Райдер?
— Да, — ответил я. — О да.
— Ну что слова? — вопросил епископ.
— Действительно, что слова?
— Не более чем условные символы, мистер Райдер, а наш век питает заслуженное недоверие к условным символам.
Голова моя шла кругом; после душного птичника в салоне моей жены и моих неисследованных душевных глубин, после всех многотрудных нью-йоркских удовольствий и месяцев одиночества в душном зеленом сумраке джунглей — это уж было слишком. Я ощущал себя Лиром в ночной степи, герцогиней Мальфи в окружении бесноватых. Я призывал на свою голову ураганы и хляби небесные, и желание мое, словно по волшебству, вдруг исполнилось.
Уже некоторое время я чувствовал — хотя тогда мне казалось, что у меня просто шалят нервы — какое-то повторяющееся, с постоянно увеличивающимся размахом движение: просторная кают-компания вздымалась и содрогалась, словно грудь спящего. Сейчас моя жена ко мне обернулась и сказала:
— Либо я пьяна, либо начинается качка. — И в ту самую минуту, когда она это произносила, мы все вдруг завалились набок, у буфета раздался звон падающих ножей и вилок, а на столе все рюмки опрокинулись и покатились, каждый ухватился за свой прибор, и на лицах, обращенных к соседям, отразилась целая гамма чувств — от ужаса у жены дипломата, до облегчения во взгляде Джулии.
Шторм, который вот уже час подбирался к нам, неслышный, невидимый, неощущаемый в нашем замкнутом, изолированном мирке, теперь обошел нас и со всей силой обрушился на нос корабля.
За грохотом последовала тишина, затем высокий нервный сбивчивый смех. Стюарды закрывали салфетками винные пятна на скатерти. Мы попытались возобновить беседу, но каждый ждал, подобно тому рыжему господину, следившему за набухающей на носу у лебедя каплей, следующего удара; и следующий удар приходил и был всякий раз сильнее предыдущего.
— Ну, я должна со всеми проститься, — сказала, вставая, жена дипломата.
Муж увел ее. Кают-компания быстро пустела. Скоро за столом остались только Джулия, моя жена и я, и по какой-то телепатии Джулия сказала;
— Как в «Короле Лире».
— Только каждый из нас — это все трое.
— Кто трое? — не поняла моя жена.
— Лир, Кент, Шут.
— О господи, сейчас у нас снова все начнется, как в сегодняшнем разговоре про капитана Буремглоя. Ради бога, ничего не объясняй.
— Да я и не смог бы, вероятно, — ответил я. Снова взлет вверх и падение в глубокую пропасть. Стюарды хлопотали, закрепляя, пристегивая, убирая лишнее.
— Ну, — сказала моя жена, — мы пообедали и показали пример британской невозмутимости. Теперь пойдем посмотрим, что происходит.
Один раз на пути в салон нас швырнуло об стену, и мы втроем уцепились за какую-то колонну; в большом зале было пусто; оркестр, правда, играл, но танцующих не было; столы были расставлены для лотереи, но никто не покупал билеты, и судовой офицер, специализировавшийся на выкликании номеров со всеми прибаутками нижней палубы: «Шестнадцать-шестнадцать, рано целоваться!», «Срок родин — двадцать один!» — стоял в стороне и болтал с сослуживцами; человек десять-пятнадцать сидели по углам с книгой, кое-где за столиком играли в бридж, в курительной пили коньяк, но из наших недавних гостей не было видно никого.
Мы посидели втроем перед пустым помостом для танцев; моя жена строила планы, как, соблюдая вежливость, перебраться за какой-нибудь другой стол в капитанской столовой.
— Неужели нам ходить в ресторан, — говорила она, — и платить лишние деньги за совершенно такой же обед? И вообще там обедают одни киношники. Там нам делать нечего.
Немного спустя она сказала:
— Все-таки голова у меня разболелась. И вообще я устала. Пойду спать.
Джулия ушла вместе с ней. Я побродил по закрытым палубам, где слышно было завывание ветра и коричнево-белая пена взмывала из темноты, расползаясь клочьями по стеклу; у выходов дежурили матросы, не пускавшие пассажиров на открытые палубы. Наконец и я тоже ушел вниз.
В моей каюте все бьющиеся предметы были убраны, дверь в соседнее помещение открыта и защелкнута, и моя жена жалобно окликнула меня оттуда:
— Я чувствую себя ужасно. Никогда не думала, что эти огромные пароходы может так болтать, — сказала она, и глаза ее были полны страха и обиды, как у женщины, которая наконец убедилась, когда подошел ее срок, что самый роскошный родильный дом и самые дорогие доктора не избавят ее от предстоящего испытания; и действительно, взлеты и падения корабля следовали друг за другом через равные промежутки времени, подобно родовым схваткам.
Я спал у себя, вернее, лежал в полузабытьи, между сном и бодрствованием. На узкой жесткой койке, быть может, еще удалось бы обрести отдых, но здесь были широкие пружинистые ложа; я собрал какие-то валики и диванные подушки и попытался заклинить себя ими, но все равно меня швыряло при каждом наклоне — к килевой качке прибавилась теперь бортовая, — и голова гудела от скрежетов и гулов.
В какой-то момент, наверное за час до рассвета, в раскрытой двери, подобно привидению, возникла фигура моей жены, она обеими руками держалась за косяк и жалобно говорила:
— Ты спишь? Неужели ничего нельзя сделать? Может быть, лекарство какое-нибудь?
Я позвонил ночному стюарду, у него наготове было какое-то питье, от которого ей немного полегчало.
И всю ночь между сном и бодрствованием я думал о Джулии; в моих обрывочных сновидениях она принимала сотни фантастических, жутких и непристойных обличий, но, когда я пробуждался, возвращалась ко мне такой, какой я видел ее за обедом: печально поникнув лучистой головой.
С первым светом я заснул и, проспав часа два, проснулся свежим, с радостным предвкушением чего-то важного.
Ветер, как сообщил мне стюард, немного утих, но все еще дул очень сильно, и на море по-прежнему была крупная зыбь, а для удовольствия пассажиров, как он мне объяснил, ничего нет хуже крупной зыби. «Нынче с утра вот почти никто не заказывал завтрак».
Я заглянул к жене. Она спала. Я закрыл дверь между нашими каютами, позавтракал лососиной с рисом и холодным брейденхемским окороком и вызвал по телефону парикмахера, чтобы он меня побрил.
— В гостиной много пакетов для мадам, — сказал мне стюард. — Оставить их пока там?
Я пошел посмотреть. Прибыла вторая порция целлофановых пакетов — заказанных по радио нью-йоркскими знакомыми, которых секретари не успели вовремя оповестить о дне и часе нашего отъезда, и присланных в знак благодарности вчерашними гостями. Для цветочных ваз сейчас было неподходящее время; я велел стюарду оставить все как есть, а потом, озаренный внезапной идеей, поднял с пола букет роз, вынул из него карточку мистера Крамма и отправил с моими наилучшими пожеланиями Джулии.
Она позвонила, когда меня брили.
— Чарльз, что за неудачная мысль! Так не похоже на вас.
— Они вам не нравятся?
— Ну что можно делать с розами в такую погоду?
— Нюхать.
Раздался шорох разворачиваемого целлофана.
— Они совершенно не пахнут. — Что вы ели на завтрак?
— Черный виноград и дыню.
— Когда я вас увижу?
— Перед вторым завтраком. До этого я занята с массажисткой.
— С массажисткой?
— Да, удивительно, верно? Я никогда раньше не делала массажа, только один раз, когда повредила плечо на охоте. Есть что-то такое в пароходной жизни, располагающее всех к праздности и роскошеству, верно?
— Кроме меня.
— А эти неуместные розы?
Парикмахер делал свое дело, являя чудеса ловкости и устойчивости — подобно балетному фехтовальщику, он то балансировал на носке одной ноги, то перепрыгивал на другую, стряхивая с лезвия клочья мыльной пены и низвергаясь с высоты на мой подбородок, как только судно вновь принимало ровное положение; сам бы я не отважился поднести к лицу безопасную бритву.
Снова зазвонил телефон.
Это была моя жена:
— Как ты себя чувствуешь, Чарльз?
— Устал немного.
— Ты ко мне не зайдешь?
— Я уже заходил. Буду чуть погодя.
Я захватил и принес ей цветы из гостиной; они довершили впечатление родильной палаты, которое моя жена успела создать в своей каюте: у ее постели, словно акушерка, стояла стюардесса — накрахмаленный столп уверенности и спокойствия. Моя жена повернула ко мне голову на подушке и слабо улыбнулась; она протянула обнаженную руку и погладила кончиками пальцев ленты и хрусткий целлофан самого большого букета.
— Все так добры, — чуть слышно проговорила она, словно шторм был ее личной бедой, в которой любящее человечество ей соболезновало.
— Ты, как я понимаю, не встанешь?
— Ах, нет, миссис Кларк так ко мне внимательна. — Она всегда умела запоминать фамилии прислуги. — Ты не беспокойся. Заходи ко мне время от времени и рассказывай, что происходит.
— Нет-нет, деточка, — вмешалась стюардесса, — чем меньше нас сегодня будут беспокоить, тем лучше.
Даже из морской болезни моя жена умудрилась сделать некое общеженское таинство. Каюта Джулии, я знал, находилась где-то под нашей. Я подождал ее у лифта, ведущего на главную палубу; когда она пришла, мы поднялись и сделали один круг по палубе; я держался за перила, а она взяла меня под руку. Прогулка была не из легких; сквозь струящееся стекло был виден перекошенный мир серого неба и черной воды. Когда судно давало резкий крен, я поворачивался, чтобы она могла тоже ухватиться свободной рукой за перила; ветер выл уже не так оглушительно, но пароход стонал и скрипел от напряжения. Сделав один круг, Джулия сказала:
— Бог с ним. Эта женщина выколотила из меня все печенки, у меня больше ноги не ходят. Пойдем посидим.
Массивные бронзовые двери салона сорвались с защелок и свободно ходили туда-сюда, послушные пароходной качке; с равномерностью маятника, готовые все смести на своем пути, они по очереди, то одна, то другая половинка, распахивались и запахивались снова; завершив каждый полукруг, задерживались секунду и снова начинали движение, сначала медленно, а под конец быстро, захлопываясь с оглушительным стуком. Серьезной опасности для проходящих они не представляли — разве только сильно замешкаешься и тебя стукнет на обратном, быстром махе; вполне можно было успеть пройти, даже не прибавляя шагу; однако грозный вид этих вырвавшихся на свободу металлических плит легко мог бы человека робкого устрашить и побудить к торопливости; и я с радостью ощутил, что рука Джулии не дрогнула у меня на локте и что она идет рядом со мною, сохраняя совершенную невозмутимость.
— Браво, — сказал какой-то сидевший поблизости человек. — Честно признаюсь, я пошел через другой вход. Не по душе мне что-то пришлись эти двери. С ними тут с утра бьются, никак не закрепят.
В тот день в салонах и на палубе было немного народу, и эти немногие были, казалось, объединены между собой некоей общностью взаимного уважения; никто ничего не делал, только сидели с торжественным видом в креслах, иногда пили что-нибудь и похваливали друг друга за неподверженность морской болезни.
— Вы первая женщина, которую я сегодня вижу, — продолжал этот человек.
— Да, мне повезло.
— Это нам повезло, — возразил он, сделав движение вперед, которое он начал как поклон, но завершил падением на колени, когда промокательная бумага у нас под ногами вдруг круто пошла одним краем вверх. Нас отшвырнуло от него, и мы, цепляясь друг за друга, но все еще на ногах поспешили сесть там, куда завела нас эта фигура нашего танца, — в дальнем конце салона, в стороне от всех; по салону во всех направлениях были протянуты леера, и мы оказались за канатами, точно боксеры на ринге.
Подошел стюард.
— Вам как обычно, сэр? Виски с теплой водой, если я не ошибаюсь? А что для дамы? Могу ли я предложить глоток шампанского?
— Это ужасно, но я действительно с огромным удовольствием выпила бы шампанского, — сказала Джулия. — Что за роскошная жизнь: розы, полчаса с женщиной-боксером и теперь шампанское!
— Напрасно вы так меня шпыняете за эти розы. Это и вообще-то была не моя идея. Их кто-то прислал Селии.
— О, тогда совсем другое дело. Это с вас полностью снимает вину. И делает мою массажистку еще непростительнее.
— А меня брили в постели.
— Я рада насчет роз, — сказала Джулия. — Признаюсь, они меня неприятно поразили. Показалось, что день начинается нехорошо.
Я понял, что она хотела сказать, и в эту минуту ощутил себя так, словно стряхнул с себя пыль и песок минувших десяти лет; в тот день, как и всегда, каким бы способом она ни объяснялась со мной — недомолвками, отдельными словами, избитыми фразами современного жаргона, едва заметными движениями глаз, губ или рук, — как бы невыразима ни была ее мысль, как ни далеко успевала отскочить рикошетом от обсуждаемого предмета, как ни глубоко уйти с поверхности внутрь вещей, я понимал; даже в тот день, когда я еще стоял на пороге любви, я понимал, что она хотела сказать.
Мы выпили, и скоро, держась за канат, к нам добрел наш новый знакомец.
— Ничего, если я присоединюсь к вам? Скверная погодка, как ничто, сближает людей. Десятый раз переплываю Атлантику и никогда не переживал ничего подобного. Молодая леди, я вижу, бывалый мореход.
— Вовсе нет. Я никогда раньше не плавала, только вот в Нью-Йорк и теперь обратно, ну и через Канал, конечно. Меня не укачивает, слава богу, но я устала. Сначала я думала, что это после массажа, но теперь склоняюсь к мысли, что виновата качка.
— Моя жена чувствует себя убийственно, а она плавала тысячу раз. Это кое-что да значит, верно?
Он сел вместе с нами обедать. Его присутствие мне не мешало; он явно испытывал нежность к Джулии и при этом считал нас мужем и женой; это его заблуждение и трогательная галантность только сближали нас.
Видел вас вчера вечером за капитанским столом, — сказал он. — Со всеми важными птицами.
— Очень скучные это птицы.
— Если хотите знать, важные птицы всегда скучные. Но в настоящий шторм, вроде этого, сразу видно, кто чего стоит.
— У вас пристрастие к тем, кто не страдает морской болезнью?
— Ну, не то чтобы пристрастие, нет, пожалуй, но я просто хочу сказать, что шторм объединяет людей.
— Да.
— Возьмите нас, например. Если бы не это, мы бы и не познакомились. В свое время у меня было несколько очень романтических встреч на море. Если леди мне позволит, я хотел бы рассказать об одном небольшом приключении, которое произошло со мною в Лионском заливе в бытность мою молодым человеком.
Мы чувствовали усталость; недостаток сна, непрекращающийся грохот и напряжение, которого требовал каждый шаг, вконец нас измотали. После обеда мы разошлись спать по каютам. Когда я проснулся, качка была все такой же сильной, чернильные облака проносились над кораблем и стекла все так же струились водой, но во сне я как-то приспособился к шторму, зажил его ритмом, слился с ним воедино и встал с постели сильным и уверенным в себе. Джулия уже тоже была на ногах и в таком же настроении.
— Знаете ли вы, — сказала она, — что наш знакомый устраивает нынче вечером для всех, кто хорошо переносит качку, «маленькую суарею» в курительной комнате? Я звана вместе с мужем.
— Ну и как, мы идем?
— Конечно… Я, наверно, должна себя чувствовать, как та дама, с которой он познакомился по пути в Барселону. Но я вовсе так себя не чувствую, Чарльз.
В курительной собралось восемнадцать человек; между нами не было ничего общего, за исключением неподверженности морской болезни. Мы пили шампанское, потом пригласивший нас всех господин объявил:
— Вот что я вам скажу: у меня с собой есть рулетка. Беда только в том, что ко мне в каюту нельзя, супруга нездорова, а в общественном месте не позволяется.
И мы в полном составе перебрались в мою гостиную и там играли по-маленькой до глубокой ночи, потом Джулия ушла, но наш любезный хозяин успел слишком много выпить и уже не мог обратить внимание на то, что мы с нею обитаем врозь. Когда все, кроме него, разошлись, он уснул, сидя в кресле, и я его там и оставил. Больше увидеть мне его не пришлось, так как назавтра — мне рассказал об этом стюард, относивший к нему в каюту рулетку, — он упал, идя по коридору, сломал бедро и был помещен в судовой стационар.
Весь следующий день мы провели с Джулией вместе, и никто нам не мешал. Мы разговаривали, почти не вставая с кресел, удерживаемые на месте накатом волн. После обеда разошлись по каютам последние герои, и мы остались одни, словно помещение специально очистили для нас, словно тактичная стихия отправила всех на цыпочках вон, предоставив нас друг другу.
Бронзовые двери салона удалось наконец закрепить — правда, сначала двое матросов получили серьезные увечья. Были испробованы разные способы — их обвязали канатами, а потом, когда канаты не выдержали, стальными тросами, но тросы закрепить было не к чему. В конце концов загнали под двери деревянные клинья, улучив мгновенье, когда они замирали в распахнутом положении, и эти клинья теперь держали их надежно.
Когда перед ужином Джулия спустилась ненадолго к себе в каюту (никто не переодевался в те дни) и я вошел вместе с нею без приглашения, без спора, будто так и надо, и, закрыв дверь, обнял и поцеловал ее, ничего не изменилось. Позднее, когда я перебирал все в памяти, то взлетая вместе со своим ложем, то проваливаясь по воле разгулявшихся волн, мне припомнились мои ухаживания за минувшие десять мертвых лет — как перед выходом, вывязывая галстук и вставляя гардению в петлицу, я заранее обдумывал предстоящий вечер, назначая себе сроки и условия для перехода через рубежи и начала наступательных действий; «… этот этап кампании слишком затянулся, размышлял я, пора сделать шаг, который решит ее исход». С Джулией не было этапов, не было рубежей и вообще никакой тактики.
Но позже, когда она пошла спать и я последовал за нею к дверям ее каюты, она остановила меня.
— Нет, Чарльз, нет еще. Может быть, никогда. Не знаю. Не знаю, способна ли я на любовь.
Что-то, какой-то призрак, сохранившийся от тех десяти мертвых лет — ибо невозможно умереть, хотя бы и ненадолго, и не утратить при этом частицы самого себя, — побудил меня возразить:
— А при чем тут любовь? Я не любви прошу.
— Любви, Чарльз, — ответила она, протянула руку и провела ладонью по моему лицу; потом тихо закрыла за собою дверь.
Меня отшвырнуло сначала к одной, потом к другой стене длинного, мягко освещенного пустого коридора, ибо шторм, по-видимому, имел форму кольца; весь день мы плыли через его относительно спокойный центр и теперь вновь очутились на периферии, где свирепствовал ураган, и ночь обещала быть много беспокойнее предыдущей.
Десять часов разговоров; что у нас было такого, чем мы должны были поделиться друг с другом? Главным образом факты, события наших жизней, так долго проходивших врозь и теперь сплетшихся в одну. Всю следующую штормовую ночь я возвращался мысленно к тому, что она рассказывала; она не являлась мне больше то демоном соблазна, то лучистым видением — все ее прошлое было теперь передано на хранение мне. Она рассказывала мне, как я уже изложил, об ухаживании Рекса и своем замужестве; рассказывала, словно любовно листая страницы старой книжки с картинками, о своем детстве, и я вместе с нею проводил долгие солнечные дни на полянке под надзором няни Хокинс, восседающей на складном стуле рядом с коляской, в которой мирно спит Корделия, и засыпал тихими вечерами в детской под куполом, а религиозные картинки над кроватью тускнели в свете чуть теплющегося ночника и меркнущей золы в очаге. Она рассказывала мне о своей жизни с Рексом и о мучительной, порочной тайной эскападе, занесшей ее в Нью-Йорк. У нее тоже были свои мертвые годы. Она рассказала мне о долгой борьбе с Рексом из-за ребенка: сначала она хотела ребенка, потом через год узнала, что ей, для того чтобы родить, потребуется операция; к этому времени они с Рексом уже не любили друг друга, но наследник ему был по-прежнему нужен; и вот, когда она наконец согласилась, ребенок родился мертвый.
— Рекс никогда не обижал меня намеренно, — говорила она. — Просто он не весь человек, а только некоторые свойства человека, развитые до самостоятельных размеров, а остального в нем нет, и все. Он никак не мог взять в толк, почему мне было больно узнать спустя два месяца после нашего возвращения из свадебного путешествия, что он поддерживает прежние отношения с Брендой Чэмпион.
— А я был рад, когда узнал, что Селия неверна, — сказал я. — Это оправдывало мою к ней неприязнь.
— Она тоже? И ты тоже? Я рада. Она и мне всегда была неприятна. Зачем ты на ней женился?
— Физическое влечение. Тщеславие. Все считают, что она — идеальная жена для художника. Одиночество, тоска по Себастьяну.
— Ты любил его, правда?
— Любил. Он был предтечей. Джулия поняла.
Пароход скрипел и сотрясался, взлетал и падал. Из соседней комнаты меня окликнула моя жена:
— Чарльз, ты там?
— Да.
— Я так долго спала. Который час?
— Половина четвертого.
— Качка не меньше, правда?
— Больше.
— Но я чувствую себя чуть получше. Как ты думаешь, если я позвоню, мне не принесут чаю или что-нибудь? Я раздобыл ей чаю с печеньем у дежурного стюарда.
— Весело ты провел вечер?
— Все лежат и мучаются морской болезнью.
— Бедненький Чарльз. И ведь все предвещало такое приятное плавание. Ну, может быть, завтра будет лучше.
Я выключил свет и закрыл между нами дверь. Во сне и наяву, под скрежет, стон и взлеты парохода, лежа плашмя на спине и пружиня раскинутые руки и ноги, чтобы не вывалиться из постели, и широко раскрытыми глазами глядя в темноту, я думал о Джулии.
«… Мы надеялись, что, может быть, папа вернется в Англию после маминой смерти и даже, может быть, женится, но он ни в чем не изменил свой образ жизни. Мы с Рексом теперь часто ездим к нему. Я его полюбила… Себастьян где-то окончательно затерялся… Корделия в Испании с санитарной машиной… Брайди живет своей удивительной жизнью. Он хотел после маминой смерти заколотить Брайдсхед, но папа почему-то не дал согласия, и теперь там живем мы с Рексом, а у Брайди две комнаты под куполом рядом с няней Хокинс, из прежних детских. Он похож на какой-то чеховский персонаж. Иногда вдруг сталкиваешься с ним, он выходит из библиотеки или поднимается по лестнице, когда даже и не думаешь, что он дома, а время от времени он вдруг появляется неожиданно для всех за обеденным столом, точно привидение.
… О, эти Рексовы званые вечера! Политика и деньги. Никто пальцем не может шевельнуть иначе как за деньги; если они прогуливаются вокруг пруда, то обязательно заключают пари о том, сколько лебедей на нем увидят… Сидишь до двух часов ночи, занимаешь Рексовых дамочек, слушаешь их сплетни и бесконечное бряканье костей по доске для трик-трака, а мужчины играют в карты и курят сигары. О, этот сигарный дым. Я чувствую, просыпаясь по утрам, как им пропахли мои волосы, а вечером, когда я одеваюсь, его запах идет от моих туалетов. Сейчас от меня тоже пахнет дымом? Может быть, массажистка ощущала, как его запах идет прямо от моей кожи.
… Первое время я ездила вместе с Рексом и гостила в домах у его знакомых. Теперь они больше на этом не настаивает. Ему стыдно, что я оказалась вовсе не та персона, какая ему нужна, стыдно, что он дал такого маху. Он получил на руки совсем не тот товар. Он не находит во мне ничего, и это его смущает, но только он окончательно уверится, что во мне и вправду ничего нет, как вдруг кто-нибудь из его знакомых, мужчина или даже женщина, которых он уважает, проникается ко мне симпатией, и он неожиданно для себя убеждается в существовании целого мира, который ему недоступен, а зато доступен нам… Он был расстроен, когда я уехала. И будет в восторге, что я вернулась. Я была ему верна до этой последней истории. Нет ничего надежнее хорошего воспитания. Знаешь, в прошлом году, когда я надеялась, что у меня будет ребенок, я ведь решила воспитать его католиком. До этого я мало задумывалась о религии, и потом тоже, но тогда, ожидая рождения ребенка, я думала так: „Это единственное, чем я могу ее одарить. Мне от этого было не много пользы, но теперь я передам это моей дочери“. Странная мысль — подарить то, что тобою утрачено. Но, в конце концов, вышло так, что я ничего не смогла подарить — я не смогла даже подарить ей жизнь. Я так и не видела ее: сначала я была слишком больна и ничего не сознавала, а потом очень долго, до сегодняшнего дня, не хотела говорить о ней — она была дочерью, поэтому Рекс не особенно огорчался, что она умерла.
Я понесла кару за то, что вышла за Рекса. Видишь, эти вещи все-таки не идут у меня из головы — смерть, суд божий, рай, ад, няня Хокинс, катехизис. Они входят в плоть и кровь, если тебя кормят такой пищей с младенческих лет. И однако, я хотела передать это своему ребенку… теперь, наверное, меня ждет кара за новый проступок. Наверное, потому-то мы и оказались здесь с тобой вот так, вместе… это предопределено».
Таковы были ее последние слова — «это предопределено», — перед тем как мы пошли с нею вниз и я оставил ее у дверей ее каюты.
На следующий день ветер опять немного утих, и нас опять болтало на мертвой зыби. Разговоры теперь были больше не о морской болезни, а об ушибах и переломах; кого-то ночью выбросило из постели, и несколько серьезных несчастных случаев произошло на кафельном полу ванн.
В тот день, вероятно, потому, что так много было рассказано накануне, и потому, что для остального нам не нужны были слова, мы почти все время молчали. У нас были книги; Джулия нашла какую-то игру себе по вкусу. Но когда после долгого молчания мы обменивались фразой, оказывалось, что наши мысли движутся параллельно, не отставая друг от друга.
Один раз я сказал:
— Ты стоишь в почетном карауле над своей печалью.
— Это все, что я заработала в жизни. Ты сам вчера говорил. Моя награда.
— Вексель от жизни. Обязательство заплатить по первому требованию.
В полдень прекратился дождь; к вечеру тучи разошлись и солнце, садившееся у нас за кормой, вдруг осветило салон, затмив и выжелтив зажженные лампы.
— Закат, — сказала Джулия. — Конец нашего дня. Она поднялась и, хотя корабль по-прежнему швыряло и вскидывало на волнах, повела меня на верхнюю палубу. Она продела руку под мою и в кармане моего пальто вложила ладонь в мою ладонь. Открытая палуба была пуста и суха, только ветер прокатывался от борта к борту. Медленно, с трудом пробирались мы с кормы на нос, подальше от хлопьев сажи, летевшей из дымовой трубы, и нас то бросало друг к другу, то начинало растаскивать в разные стороны, и руки наши напрягались, пальцы переплетались, и мы останавливались, я — крепко держась за поручни, она — за меня; и снова толкало друг на друга, и снова тянуло врозь; и вдруг, когда пароход особенно круто завалился на борт, меня швырнуло прямо на нее, я прижал ее к борту, схватившись за поручни руками, и она оказалась заперта с обеих сторон; и так мы стояли с ней, пока судно, замерев на какие-то мгновенья, как бы набирало силы для обратного броска, стояли, обнявшись, под открытым небом, щека к щеке, и волосы ее бились на ветру и хлестали меня по глазам; темный горизонт клокочущей воды, здесь и там подсвеченный золотом, остановился где-то высоко над нами, потом пошел, понесся вниз, и прямо перед собой сквозь волосы Джулии я увидел широко распахнутое золотое закатное небо, а ее прижало к моему сердцу, и мы повисли у борта на моих неразжатых руках, все так же щека к щеке.
И в эту минуту, когда я чувствовал ее губы у своего уха, а на лице ее теплое дыхание в соленом холодном дыхании ветра, она сказала, хотя я не произнес ни слова: «Да, сейчас», — и, когда пароход выровнялся и качка на какое-то время утихла, Джулия увела меня вниз.
Сейчас было не время для упоений, им еще наступит свой черед, как ласточкам и липовому цвету. А теперь, на разбушевавшемся океане, надлежало выполнить некую формальность, не более. Я вступал во владение ее узкими чреслами и скреплял мое право печатью, дабы потом, на досуге, блюсти и лелеять свое достояние.
В тот вечер мы ужинали высоко в пароходном ресторане и сквозь полукруглое окно видели, как загорались звезды и покачивались на небосклоне, подобно тому, как некогда, вспомнилось мне, они покачивались между башнями и островерхими крышами Оксфорда. Стюарды обещали на завтрашний вечер снова оркестр и полный ресторан народу и советовали, если мы хотим удобно разместиться, заказать столик загодя.
— О господи, — сказала Джулия, — где же нам, сиротам шторма, прятаться в хорошую погоду?
Я не мог оставить ее в ту ночь, но на рассвете следующего утра, опять пробираясь длинными коридорами к себе в каюту, я вдруг заметил, что могу идти, не держась за стены; пароход быстро скользил вперед по успокоившемуся морю, и я понял, что нашему уединению пришел конец.
Моя жена радостно окликнула меня из своей каюты:
— Чарльз, Чарльз, я так хорошо себя чувствую! Угадай, что я ем на завтрак?
Я зашел к ней. Она ела бифштекс.
— Я созвонилась с парикмахерской — представляешь, они не могли записать меня раньше чем на четыре часа, столько у них вдруг оказалось клиентов. Так что до вечера я сегодня нигде не покажусь, но к нам сюда собирается с визитами уйма народа, и я пригласила Дженет с Майлсом позавтракать у нас в гостиной. Боюсь, я была тебе эти двое суток никудышней женой. Чем ты тут занимался?
— Один вечер, — ответил я, — мы до двух часов играли здесь, у тебя за дверью, в рулетку, и господин, который затеял игру, в конце концов утратил дар речи.
— Бог мой. Какое малопочтенное занятие. А ты хорошо себя вел, Чарльз? Не крутил романов с сиренами?
— Не с кем было. Я почти все время проводил с Джулией.
— О, чудесно. Я давно хотела, чтобы вы подружились. Она единственная из моих подруг, которая непременно должна была тебе понравиться. Для нее, я думаю, ты был настоящей находкой. Ей довольно невесело жилось последнее время. Вряд ли она тебе рассказывала, но… — И моя жена поспешила изложить мне ходячую версию о поездке Джулии в Нью-Йорк, — Позову ее сегодня на коктейль, — заключила она.
Джулия пришла вместе с другими, и теперь просто находиться рядом с нею было великим счастьем.
— Я слышала, ты тут без меня любезно опекала моего супруга? — сказала моя жена.
— Да, мы были с ним неразлучны. Он, я и еще один неизвестный господин.
— Мистер Крамм, что с вашей рукой?
— Это все пол в ванной, — ответил мистер Крамм, приступая к детальному описанию происшедшего с ним несчастного случая.
В тот вечер капитан ужинал в кают-компании, и круг избранных у него за столом замкнулся, так как оба стула по правую руку от епископа оказались тоже заняты четой пожилых японцев, которые выслушивали его прожекты установления всемирного братства человечества с глубоким, вежливым интересом. Капитан галантно подтрунивал над Джулией, предлагал, раз она так стойко перенесла шторм, зачислить ее в команду; за годы плаваний у него накопился запас шуточек на любой случай. Моя жена, только что из косметического кабинета, без каких-либо следов трехсуточной морской болезни на лице, затмевала в глазах многих Джулию, в чьем облике исчезла живописная печаль, уступив место тайной радости и тишине души; тайной для всех, кроме меня; разделенные толпой, мы были с нею одни, и близость наша была нерасторжима, как накануне ночью, когда мы лежали в объятиях друг друга.
В тот вечер на корабле царило праздничное настроение. И хоть завтра предстояло подняться на заре, чтобы успеть упаковаться к началу высадки, в эту ночь каждый стремился наверстать упущенные из-за шторма удовольствия. Уединения искать было негде. Все самые укромные уголки кишели людьми; танцевальная музыка, громкий, возбужденный разговор; взад-вперед снующие стюарды с подносами, резкий голос офицера, правящего лотереей: «Птичка-единичка! Костыли — одиннадцать! А теперь встряхнем мешок!», — миссис Оглендер в бумажном колпаке, мистер Крамм с забинтованной рукой, чета пожилых японцев, церемонно бросающих серпантин и шипящих по-гусиному.
Я не говорил с Джулией с глазу на глаз весь вечер.
На следующий день мы сошлись на минуту у правого борта, когда все пассажиры столпились с противоположной стороны — наблюдали прибытие портовых чиновников и разглядывали зеленый девонский берег.
— Куда ты теперь?
— Немного побуду в Лондоне, — ответила она.
— Селия собирается прямо домой. Хочет видеть детей.
— И ты?
— Нет.
— Значит, в Лондоне.
— Чарльз, этот рыжий человек — ну, помнишь, капитан Буремглой? — сказала моя жена. — Его сняли двое полицейских в штатском.
— Не видел. С той стороны было слишком много народу.
— Я посмотрела поезд и послала телеграмму. Мы будем дома к ужину. Дети уже лягут спать. Не знаю, может быть, поднять Джонджона в виде исключения?
— Ты поезжай, — сказал я. — Я должен задержаться в Лондоне.
— Чарльз, это невозможно! Ты ведь не видел Каролину!
— Разве она так уж изменится за одну-две недели?
— Милый, она меняется каждый день.
— Ну а тогда зачем на нее смотреть теперь? Мне очень жаль, дорогая, но я должен распаковать полотна и посмотреть, как они перенесли перевозку. И мне нужно теперь же договориться насчет выставки.
— Ты думаешь? — с сомнением сказала моя жена, но я знал, что ее противодействие прекратилось, как только я сослался на секреты моего ремесла. — Ужасно обидно. И потом, я даже не уверена, что Эндрю и Синтия уже съехали с квартиры. Они ведь снимали до конца месяца.
— Поеду в гостиницу.
— Но это так грустно. Я не могу допустить, чтобы первую ночь на родине ты провел один-одинешенек. Я останусь с тобой.
— Дети будут огорчены.
— Да-да. Это верно. — Ее дети, моя живопись — два секрета двух ремесел.
— А в конце недели ты приедешь?
— Если смогу.
— Все с британскими паспортами, пожалуйте в курительную комнату, — объявил стюард.
— Я уговорилась с этим милым человеком из Форин-офис, который сидел с нами за столом, он увезет нас с собою без очереди, — сказала моя жена.
Глава вторая
Мысль назначить вернисаж на пятницу принадлежала моей жене.
— На этот раз мы должны добиться внимания критиков, — заявила она. — Пора им понять, что к тебе надо относиться серьезно. Вот мы и предоставим им такую возможность. Если открытие перенести на понедельник, они почти все только-только вернутся в город и успеют набросать всего по нескольку строк перед ужином — меня сейчас интересуют только еженедельники, конечно. А вот если они смогут не спеша, по-воскресному все обдумать за два дня на лоне природы, отношение у них будет совсем другое. Они усядутся за письменный стол после доброго деревенского обеда, поддернут манжеты и накатают на досуге солидные, пространные эссе, которые потом перепечатают в томиках своих избранных статей. На этот раз меньшим мы довольствоваться не можем.
За этот месяц подготовки она несколько раз приезжала из нашего загородного дома в город, составляла списки приглашенных, помогала развешивать картины.
В пятницу утром я позвонил Джулии.
— Мне уже осточертели эти картины, — сказал я, — я рад бы их больше никогда не видеть, но, боюсь, мне еще придется сегодня там появиться.
— Ты хочешь, чтобы я пришла?
— Предпочел бы тебя там не видеть.
— Селия прислала приглашение, и на карточке зелеными чернилами написано: «Приводите всех». Когда мы встречаемся?
— В поезде. Ты можешь заехать и прихватить мои вещи?
— Если они у тебя уже упакованы. Я могу и тебя самого прихватить и довезти до галереи. У меня в двенадцать примерка там по соседству.
Когда я вошел в галерею, моя жена стояла у окна и смотрела на улицу. За спиной у нее какие-то незнакомые любители живописи переходили от полотна к полотну с каталогами в руках; это были лица, некогда приобретшие в галерее какую-нибудь гравюру и поэтому числившиеся в списке почетных гостей.
— Никто еще не приходил, — сказала моя жена. — Я здесь с десяти часов. Скука ужасная. Чья это была машина, в которой ты приехал?
— Джулии.
— Джулии? Почему же ты ее не привел сюда? Как это ни странно, я сейчас только говорила о Брайдсхеде с одним забавным маленьким господином, который, как выяснилось, отлично всех знает. Он из пожилых мальчиков-подручных лорда Постамента в редакции «Дейли свин». Я попробовала подсказать ему кое-какие мысли и формулировки, но, по-моему, он знает о тебе больше, чем я. Он утверждает, что встречал меня когда-то в Брайдсхеде. Жаль, что Джулия не зашла; мы могли бы спросить ее о нем.
— Я хорошо его помню. Он мошенник.
— Да, это видно на расстоянии. Он рассказывал тут о «брайдсхедовской клике», как он выразился. Оказывается, Рекс Моттрем превратил Брайдсхед в штаб-квартиру партийной смуты. Ты это знал? Господи, что бы сказала бедная Тереза Марчмейн?
— Я еду туда сегодня вечером.
— О, Чарльз, только не сегодня; сегодня ты не можешь никуда уехать. Тебя ждут, наконец, дома. Ты обещал приехать, как только выставка будет устроена. Джонджон с няней написали большой транспарант: «Добро пожаловать!» И ты еще не видел Каролину.
— Мне очень жаль, но это решено.
— Кроме того, папа сочтет все это очень странным. И Бой приедет домой на воскресенье. И ты еще не видел новой студии. Нет, сегодня ты не должен уезжать. А меня они приглашали?
— Разумеется. Но я знал, что ты не сможешь поехать.
— Действительно, сейчас это невозможно. Другое дело, если бы ты предупредил меня заранее. Я бы с удовольствием полюбовалась «брайдсхедовской кликой» в домашней обстановке. По-моему, ты поступил отвратительно, но сейчас не время для семейных перебранок. Кларенсы обещали приехать до обеда; они могут быть с минуты на минуту.
Наш разговор был прерван, однако не членами королевской фамилии, а женщиной-репортером одной из центральных газет, ее подвел к нам в эту минуту распорядитель выставки. Ей нужны были не картины, а «человеческий материал» об ужасах и опасностях моей экспедиции. Я поручил ее моей жене и назавтра прочел в газете следующее: «Известный по „Старинным домам“ Чарльз Райдер — добровольный изгнанник. Мэйфэр не может предложить ничего равного змеям и вампирам тропических джунглей — таково мнение великосветского художника Райдера, оставившего особняки великих мира сего ради руин в дебрях Экваториальной Африки…»
Залы стали наполняться, и скоро я уже был по горло занят своими обязанностями любезного хозяина. Моя жена была повсюду — встречала входящих, знакомила незнакомых, искусно преобразуя случайное сборище в общество друзей. Я видел, как она подводила одного за другим к столику, где лежал подписной лист на новую книгу «Латинская Америка Райдера», и слышал, как она говорила: «Нет, дорогой мой, нисколько. Неужели вы думали, что меня могло это удивить? Чарльз живет только одним — Красотой. Я думаю, что ему прискучило получать ее в готовом виде у нас в Англии, у него возникла потребность уехать и самому создать ее. Он хотел завоевывать новые миры. Ведь об английских усадьбах он уже сказал последнее слово, вы согласны? Я не хочу сказать, что он оставил их окончательно. Уверена, что для друзей он всегда готов будет сделать один-два вида».
Фотограф свел нас вместе, полыхнул лампой в лицо и отпустил в разные стороны.
Внезапно стало довольно тихо, публика расступилась — всеобщее замешательство знаменовало собой прибытие членов королевской фамилии. Я увидел, как моя жена присела в реверансе, и услышал ее слова: «О сэр, вы так добры!» — затем я был вытолкнут на свободное от людей пространство, и герцог Кларенс сказал, обращаясь ко мне:
— Там, должно быть, жара стоит несусветная?
— Да, сэр.
— Удивительно, как вам удалось передать это ощущение жары. Мне сделалось просто не по себе в моем теплом пальто.
— Ха-ха.
Когда они уехали, моя жена всполошилась:
— Боже, мы опаздываем к обеду. Марго дает обед в твою честь. — А в такси она сказала: — Знаешь, мне сейчас пришла в голову одна мысль. Почему бы тебе не написать герцогине Кларенс и не попросить позволения посвятить ей «Латинскую Америку»?
— С какой стати?
— Ей это было бы приятно.
— Я никому не собирался ее посвящать.
— Ну, вот опять. Как это на тебя похоже, Чарльз. Разве трудно доставить человеку удовольствие?
За обедом собралось человек двенадцать, и, хотя хозяйке и моей жене нравилось думать будто виновником торжества являюсь я, было очевидно, что больше половины из них и не слыхали о моей выставке и приехали просто потому, что были званы и не имели в это время других дел. Весь обед прошел у них в разговорах о миссис Симпсон, однако почти все вернулись вместе с нами в галерею.
Послеобеденные часы были самыми оживленными. Появились представители Тэйтовской галереи и Национального художественного фонда, они посулили вскоре возвратиться со своими коллегами и просили пока оставить за ними для окончательного решения некоторые картины. Самый влиятельный критик, который когда-то разделался со мною двумя-тремя убийственными покровительственными фразами, заглянул мне в глаза из-под опущенных полей своей мягкой шляпы, кутая подбородок в толстый шарф, и, сдавив мне локоть, буркнул:
«Я знал, что в вас это есть. Сразу чувствовалось. Этого я и ждал».
Слова похвалы доносились до меня равно из простых и изощренных уст. «Если бы вчера меня спросили, — слышал я в одном конце, — мне бы в голову не пришло назвать имя Райдера. Столько мужества, столько страсти».
Им всем казалось, что они видят что-то новое. Иначе было на моей предыдущей выставке, происходившей в этих же самых залах незадолго до моего отъезда. Тогда на всем лежала заметная тень усталости. И разговоры больше касались не меня, а домов, их владельцев, разных связанных с ними историй. Та же дама, припомнилось мне вдруг, которая сейчас восхищалась моей страстностью и мужественностью, остановилась тогда неподалеку от меня перед полотном, на которое я употребил столько мучительного труда, и бросила: «Все так просто, так легко».
Предыдущая выставка была мне памятна еще по одной причине: как раз в те дни я обнаружил, что моя жена мне неверна. Тогда, как и теперь, она была вездесущей, неутомимой хозяйкой, и я слышал, как она говорила: «Стоит мне увидеть теперь что-нибудь красивое — дом или пейзаж, — и я говорю себе: это — для Чарльза. Я на все смотрю его глазами. Он для меня — вся Англия».
Я слышал, как она это говорила; подобные изречения вошли у нее в привычку. В течение всей нашей супружеской жизни меня неизменно мутило от отвращения, когда я слышал, что она говорит. Но в тот день в этой же самой галерее я выслушал ее совершенно равнодушно, вдруг осознав, что отныне она бессильна причинить мне боль; я был свободен, она сама выпустила меня на волю своей минутной подлой оплошностью; ветвистое. украшение у меня на лбу превратило меня в одинокого и гордого царя лесов.
Незадолго перед закрытием моя жена сказала:
— Милый, я должна ехать. Успех был потрясающий, правда? Я придумаю какое-нибудь объяснение для моих домашних, но, право же, мне жаль, что все получилось именно так.
«Значит, знает, — подумал я. — В проницательности ей не откажешь. Вынюхивает с самого обеда и, конечно, напала на след».
Я подождал, пока она уйдет, и уже собрался последовать за нею — залы к этому времени почти опустели, — как вдруг у входа раздался голос, который я не слышал много лет, незабываемый, с легким нарочитым заиканием, с утрированной негодующей интонацией.
— Нет. Я не п-п-принес пригласительного билета. Не знаю даже, получал ли я пригласительный билет. Я п-пришел не со светским визитом; не хочу втереться в знакомые к леди Селии; и мне не нужно, чтобы в «Тэтлер» попала моя фотография; я пришел не себя выставлять, а смотреть на картины. Вам, по всей видимости, неизвестно, что здесь выставлены картины. Я, п-п-представьте, имею личный интерес к их автору, к художнику — если это слово вам что-нибудь говорит.
— Антуан — сказал я, — входите.
— Мой милый, там сидит г-горгона, она решила, что я незваный гость. Я только вчера приехал в Лондон и нынче за обедом случайно узнаю, что вы устроили новую выставку, ну и, естественно, бросаюсь со всех ног в сей храм искусства, дабы принести свою дань благоговения. Я очень изменился? Вы бы узнали меня? Где картины? Дайте-ка я вам их растолкую.
Антони Бланш нисколько не изменился с тех пор, как я его видел последний раз, и даже с тех пор, как я увидел, его впервые. Он быстрыми шагами устремился через зал к самому крупному полотну — зелено-черному пейзажу джунглей, — постоял перед ним, склонив голову набок, точно умный терьер, и спросил:
— Мой любезный Чарльз, откуда эта столь пышная растительность? Что сие, уголок оранжереи в Т-тренте или Т-трин-ге? Какой щедрый ростовщик взрастил, вам на радость, эти кроны?
Затем он обошел оба зала, не произнося больше ни слова и только испустив попутно два-три глубоких вздоха. Завершив осмотр, он опять вздохнул, еще глубже, чем прежде, и сказал:
— Зато я слышал, мой милый, вы счастливы в любви. А это все, не правда ли? Или почти все.
— Неужели так плохо?
Антони понизил голос до пронзительного шепота:
— Мой милый, не будем разоблачать ваше маленькое надувательство перед этими добрыми, простодушными людьми, — он заговорщицки повел глазами в сторону последних посетителей, — не будем портить им их невинное удовольствие. Мы с вами знаем, что все это п-полнейшая чеп-пуха. П-пойдемте же отсюда, дабы не оскорблять слуха знатоков. Я знаю здесь поблизости одно очень сомнительное питейное заведение. Отправимся туда и поговорим о ваших п-прочих п-п-обедах.
Понадобился этот голос из прошлого, чтобы вернуть меня на землю. Потоки похвал без разбора, изливавшиеся на мою голову в течение всего этого шумного дня, подействовали на меня, как рекламные щиты, возникающие между тополей вдоль длинной дороги через каждый километр и назойливо повторяющие название гостиницы, в которой тебе почему-то надлежит остановиться, так что в конце пути, пропыленный и изнемогший, ты неизбежно сворачиваешь под вывеску с тем названием, которое тебе сначала примелькалось, потом стало действовать на нервы и наконец вошло неотъемлемой частью в самый состав твоей усталости.
Антони повел меня по какому-то переулку, и между сомнительного вида книжной лавкой и подозрительной аптекой мы остановились перед дверью, на которой синей краской было выведено: «Голубой Грот. Вход только для членов клуба».
— Не совсем ваша стихия, мой милый, зато, можете не сомневаться, моя. Но ведь вы пробыли сегодня в своей стихии целый день.
И, войдя в подъезд, где сильно пахло кошками, мы спустились куда-то вниз, откуда уже шел запах джина и окурков и доносились звуки радио.
— Мне дал этот адрес один грязный старикашка в Беф-сюр-ля-Туа. И я ему очень благодарен. Я так давно не был в Англии, а симпатичные местечки вроде этого ужасно недолговечны. Я только вчера вечером здесь отрекомендовался и уже чувствую себя совершенно как дома. Добрый вечер, Сирил.
— А, Тони, вернулся? — приветствовал нас юнец за стойкой.
— Наполним наши стаканы и сядем где-нибудь в углу. Вы должны п-помнить, мой милый, что здесь вы такая же белая ворона, такое же, я бы сказал, ненормальное явление, каким я был бы у «Брэтта».
Бар был выкрашен кубовой краской; на полу лежал синий линолеум. На стенах и потолке были беспорядочно наклеены рыбы, вырезанные из серебряной и золотой бумаги. Несколько молодых людей пили у стойки или играли у монетных автоматов под наблюдением человека постарше с вылощенным, пропитым лицом. Возле автомата с жевательной резинкой послышались смешки; затем один из молодых людей подошел к нашему столику.
— Твой друг не хочет потанцевать со мной? — спросил он.
— Нет, Том, не хочет, и коньяка я тебе тоже не куплю, во всяком случае пока. Это очень нахальный юноша, настоящий вымогатель, мой милый.
— Ну, — сказал я с притворной непринужденностью, которой вовсе не испытывал в их вертепе, — что вы поделывали все эти годы?
— Мой милый, мы здесь для того, чтобы поговорить о том, что поделывали вы. Я следил за вами, мой милый. Я верен старой дружбе, и все эти годы я вами интересовался. — Он говорил, и синий бар вместе с барменом, синие плетеные кресла, и монетные автоматы, и граммофон, и парочка молодых людей, танцующих румбу на синем линолеуме, и хихикающие юнцы возле автоматов, и сизолицый лощеный господин со стаканом, сидящий в углу напротив, весь этот жалкий подпольный притон словно растаял, и я очутился снова в Оксфорде, у стрельчатого рескинского окна, за которым лежал зеленый двор колледжа Христовой церкви. — Я был на вашей первой выставке, — продолжал Антони, — и нашел, что она обаятельна. Там был один интерьер Марчмейн-хауса, очень английский, очень добропорядочный, но совершенно восхитительный. «Чарльз кое-что сделал, — сказал я себе, — не все, что ему предназначено, не все, на что он способен, но кое-что».
Правда, уже тогда, мой милый, у меня возникло маленькое сомненьице. Мне показалось, что в вашей живописи есть что-то джентльменское. Вы должны помнить, что я не англичанин, мне чуждо ваше страстное поклонение хорошим манерам. Английский снобизм для меня — это нечто еще более зловещее, чем английская мораль. Но как бы то ни было, я сказал себе:
«Чарльз создал произведение восхитительное. Посмотрим, что он создаст дальше».
Дальше мне в руки попал ваш очень красивый альбом — «Сельская и провинциальная архитектура», так, кажется, он называется? Довольно толстый том, мой милый, и что же я в нем нахожу? Опять обаяние. «Это не совсем в моем вкусе, — подумал я, — это искусство чересчур английское». Я, как вы знаете, отдаю предпочтение вещам более пикантным. Сень старого вяза, сандвич с огурцом, серебряный сливочник, английская барышня, одетая во что они там одеваются для игры в теннис— нет-нет, Джейн Остин, м-мисс М-митфорд — это все не для меня. И тогда, дорогой Чарльз, я, признаюсь честно, в вас отчаялся. «Я старый выродившийся латинянин, — сказал я себе, — а Чарльз (я имел в виду только ваше искусство, мой милый) — это деревенская барышня в цветастом муслиновом платье».
Вообразите же теперь мое возбуждение, когда сегодня за обедом я вдруг услышал, что все вокруг только о вас и говорят. Я обедал у одной старой приятельницы моей матери, некой миссис Стьювесант Оглендер, оказалось, что она и ваша приятельница, мой милый. Это вульгарная, грубая баба, никак не подумал бы, что вы можете водить с ней компанию. Все присутствующие, как оказалось, успели побывать на вашей выставке, но, впрочем, разговаривали они не о ней, а о вас — о том, как вы вырвались на свободу, мой милый, уехали в тропики и заделались этаким Гогеном, этаким Рембо. Можете себе представить, как заколотилось мое старое сердце.
«Бедняжка Селия, — говорили они. — А ведь она столько для него сделала», «Он всем обязан ей. Это ужасно», «И с Джулией, подумайте, — говорили они. — После всего, что у нее было в Америке», «Как раз когда она уже возвращалась к Рексу».
«Ну а картины? — спрашивал я. — Расскажите мне о картинах».
«Ах да, картины, — они отвечали. — Картины престранные», «Совсем не в его обычной манере», «Какая сила», «Какое варварство», «Я считаю их просто нездоровыми», — объявила миссис Оглендер.
Мой милый, у меня едва достало сил усидеть на стуле. Мне хотелось выбежать вон из дома, вскочить в такси и крикнуть:
«Отвезите меня туда, где висят нездоровые картины Чарльза!» И я действительно приехал, но после обеда в галерее набилось столько глупых женщин в этих ужасных шляпах, поэтому я ушел и отдохнул немного здесь с Сирилом и Томом и с этими толстомясенькими. Я вернулся в немодное время — в пять часов, охваченный страшным волнением; и что же я вижу? Я увидел, мой милый, что меня очень талантливо и очень рискованно разыгрывают. Это напомнило мне дорогого Себастьяна, который любил забавы ради наклеивать себе бороду. Передо мной было все то же обаяние, мой милый, простое, сливочное английское обаяние, рядящееся в тигровую шкуру.
— Вы совершенно правы, — сказал я.
— Мой милый, разумеется, я прав. Я был прав еще много лет назад — хотя о том, как давно это было, к счастью, не скажешь ни по вашей, ни по моей внешности, — когда, помните, предостерегал вас. Я пригласил вас со мной поужинать и за столом предостерег вас от обаяния. Особо мои предостережения касались семьи Флайтов. Обаяние — это английское национальное бедствие. Болезнь, которая распространена только на этих серых островах. Обаяние пятнает и губит все, к чему прикасается. Оно убивает любовь, убивает искусство; боюсь, мой милый, что оно убило и вас…
К нашему столику снова подошел молодой человек, по кличке Том.
— Не будь злюкой, Тони, — сказал он. — Купи мне коньяку.
Я вспомнил про поезд и оставил Антони в приятном обществе.
Когда я стоял на платформе возле вагона-ресторана, мимо меня проехали мои чемоданы и чемоданы Джулии, а за плечом носильщика маячила знакомая кислая физиономия горничной. Двери вагона уже закрывались, когда вошла Джулия и безмятежно уселась против меня. Я занял столик на двоих. Это был очень удобный поезд; он выезжал за полчаса до ужина и через полчаса после ужина прибывал на нашу станцию, а там мы садились не в поезд местной линии, как было во времена леди Марчмейн, а прямо в поджидающий автомобиль.
Мы отъехали от Паддингтонского вокзала уже затемно, и ровное свечение города скоро уступило место разбросанным огням пригородов, а затем и непроглядной тьме полей.
— Мне кажется, мы не виделись много дней, — сказал я.
— Шесть часов, и вчера были вместе все время. У тебя усталый вид.
— День был кошмарный: толпы посетителей, критики, Кларенсы, обед у Марго и под занавес полчаса справедливого разноса в баре гомосексуалистов… Мне кажется, Селия знает про нас.
— Ну что ж. Должна же она была когда-нибудь узнать.
— По-моему, знает весь Лондон. Приятель, пригласивший меня в этот бар, только сутки как вернулся из-за границы и уже слышал.
— Пусть все провалятся.
— А Рекс?
— А Рекса просто нет, — ответила Джулия. — Он не существует.
Поезд нес и нес нас сквозь тьму; на столах побрякивали ножи и вилки; темные круги джина и вермута в стаканах вытягивались в овалы и снова сокращались в круги, послушные покачиванию вагона, касались губ и отступали опять, не выплескиваясь через край; весь трудный день остался позади. Джулия сняла шляпу, забросила ее в сетку у себя над головой и встряхнула черными, ночными волосами, издав легкий вздох облегчения — то был вздох, предназначенный для подушки, для меркнущей золы в камине и для окна в спальной, распахнутого к звездам и к шороху обнаженных деревьев.
— Замечательно, что вы опять с нами, Чарльз. Совсем как в прежние времена.
«Как в прежние времена?» — подумал я.
Рекс, которому было уже сорок лет, погрузнел, приобрел апоплексический румянец и утратил канадский акцент, зато говорил теперь, как все его друзья, громким сиплым голосом; им словно приходилось постоянно напрягать связки, чтобы перекричать остальных; казалось, расставшись с молодостью, они не могли больше тратить время на то, чтобы говорить по очереди, слушать, отвечать; времени хватало разве только на смех — на гортанный безрадостный смешок, мелкую разменную монету доброй воли.
С полдюжины этих его друзей собралось теперь в Гобеленовом зале: политики, «молодые консерваторы», перевалившие за сорок, с залысинами и склонностью к гипертонии, один социалист из шахтеров, уже перенявший интеллигентный выговор, но сигары крошились у него на губах, а рука, державшая стакан, нехорошо дрожала; финансист, старше чем остальные, и, судя по тому, как они с ним обращались, богаче; влюбленный фельетонист из газеты, единственный среди всех хранивший молчание и мрачно пожиравший глазами единственную среди них женщину; и сама эта женщина, отзывающаяся на имя Гризель, осведомленная и продувная особа, которую они все в глубине души, кажется, побаивались.
Побаивались они и Джулию, всем обществом, включая Гризель. Джулия поздоровалась и извинилась за то, что не была дома и не могла их встретить, и тон ее был таким, что они ненадолго притихли. После этого она увела меня, и мы сели у камина, а буря разговоров разразилась с новой силой и долго еще бушевала над нашими головами.
— Да он может хоть завтра на ней жениться и сделать ее королевой!
— В октябре у нас была такая возможность. Почему, объясните, мы не пустили итальянский флот на дно Средиземного моря? Почему не стерли Силезию с лица земли? Почему не высадились на Пантеллерии?
— Франко — это просто немецкий агент. Они вздумали поставить его у власти, чтобы обеспечить себя воздушными базами для бомбардировки Франции. Ну, как бы то ни было, этот номер у них не прошел.
— Монархия стала бы только крепче, чем когда-либо со времен Тюдоров. Народ его поддерживает.
— Пресса его поддерживает.
— Я его поддерживаю.
— И вообще кто сейчас обращает внимание на разводы? Старые девы, которым они в любом случае не угрожают?
— Если только он надумает вывести их шайку на чистую воду, они просто разбегутся и исчезнут, как… как…
— Почему мы не закрыли Канал? Почему не бомбили Рим?
— И не понадобилось бы. Одна решительная нота…
— Одно решительное выступление в парламенте…
— Одна маленькая демонстрация силы…
— Все равно, Франко не сегодня-завтра уберется обратно в Марокко. Мне говорил один человек, только что из Барселоны…
— … Один человек, только что из Форта Бельведер…
— … Один человек, только что из Палаццо ди Венециа…
— Нам только нужно показать им.
— Показать Болдуину…
— Показать Гитлеру…
— Показать их шайке…
— … не доживу до того, чтобы увидеть мою страну, родину Клайва и Нельсона…
— … мою страну, родину Хоукинса и Дрейка.
— … родину Пальмерстона…
— Будьте любезны, перестаньте, — сказала Гризель фельетонисту, который в порыве чувств пытался вывихнуть ей запястье. — Мне это не доставляет удовольствия.
— Не знаю, что отвратительнее, — сказал я, — искусство и мода Селии или политика и деньги Рекса.
— Что нам до них?
— О, моя любимая, почему любовь заставляет меня ненавидеть весь мир? Ведь она должна действовать как раз наоборот. У меня такое чувство, будто все люди и бог тоже в сговоре против нас с тобой.
— Так оно и есть.
— Но мы все равно счастливы, им назло. Здесь, сейчас, мы счастливы вдвоем, и они ничего не могут нам сделать, правда?
— Сегодня ночью, сейчас не могут.
Сегодня и сколько еще ночей?
Глава третья
— Помнишь ли, — спросила Джулия тихим летним вечером, напоенным запахами цветущих лип, — помнишь ли тот шторм?
— Болтающиеся бронзовые двери.
— Розы в целлофане.
— Господина, который пригласил всех на «суарею», а потом исчез.
— Помнишь, как вдруг выглянуло из-за туч заходящее солнце и осветило наш последний вечер? Совершенно так же, как сегодня.
Весь день низкие тучи висели над самой землей, летний дождь с порывами ветра то и дело стучался в окна, и я несколько раз откладывал кисти, пробуждая Джулию от легкого транса, в котором она позировала мне уже бессчетное множество раз; мне никогда не надоедало писать ее, находить в ее облике все новое великолепие и новую нежность; в конце концов мы рано поднялись наверх, и, когда, переодевшись к ужину, спустились в гостиную, мир предстал перед нами преображенным — тучи рассеялись, светило вечернее солнце, ветер улегся и только чуть веял, колыша ветви цветущих лип, чей свежий после дождя аромат смешивался со сладким запахом буксовых кустов и высыхающего камня. Тень обелиска перечеркивала террасу.
Я принес из галереи две садовые подушки и положил на бортик фонтана. И здесь сидела Джулия в узкой золотой тунике с белой накидкой, опустив руку в воду и безмятежно играя изумрудным перстнем, ловя зелеными гранями отблеск заката; фантастические каменные изваяния высились над темной ее головой, словно гора зеленого мха, сверкающего камня и густой тени, а вода вокруг струилась и бурлила, вспыхивая сотней маленьких пожаров.
— … можно вспоминать, вспоминать, — говорила она. — Сколько было после этого дней, когда мы не виделись? Сто наберется, как ты думаешь?
— Меньше.
— Два рождества…
Эти унылые ежегодные экскурсии в благопристойность. Баутон, наше родовое имение, дом моего кузена Джаспера… С какими тяжелыми воспоминаниями детства я возвращался в его кедровые коридоры, его дышащие сыростью стены! С каким сердечным раздражением я и мой отец, сидя бок о бок в машине моего дяди, сворачивали в аллею веллингтоний, зная, что в конце пути нас встретят дядя, тетя, тетушка Филипа, кузен Джаспер, в последние годы еще жена и дети Джаспера; а кроме них, быть может, уже прибывшие или ожидаемые с минуты на минуту моя жена и мои дети. Это ежегодное рождественское жертвоприношение соединяло нас; здесь на Рождество с его гирляндами остролиста и омелы, с елкой, ритуальными рождественскими играми и угощениями, с деревенским хором на старинных кедровых антресолях, с пакетами из тисненой оберточной бумаги, перевязанными золотым шпагатом, здесь вопреки любым слухам, ходившим о нас в течение года, мы с ней считались мужем и женой. «Мы должны сохранять это положение любой ценой во имя наших детей», — говорила моя жена…
— Да, два рождества… И три дня хорошего тона, прежде чем я последовал за тобой на Капри.
— В наше первое лето.
— Помнишь, как я остался в Неаполе, потом приехал, как мы сговорились встретиться на горной тропе и все это оказалось зря?
— Я вернулась на виллу и говорю: «Папа, угадай, кто приехал в гостиницу?» А он отвечает: «Чарльз Райдер, я полагаю». Я спрашиваю: «Как ты догадался?», а папа говорит: «Кара вернулась из Парижа с известием, что вы с ним неразлучны. У него, как видно, особая склонность к моим детям. Что ж, привези его сюда. По-моему, здесь хватит места».
— Еще как-то у тебя была желтуха и ты не позволяла мне тебя видеть.
— А в другой раз у меня была инфлюэнца, и ты боялся приходить.
— И бессчетные поездки к избирателям Рекса.
— И коронационная неделя, когда ты сбежал из Лондона. И твоя миссия доброй воли к тестю. И еще тот раз, когда ты ездил в Оксфорд писать картину, которая им не понравилась. Да, дней сто, не меньше.
— Сто дней, потерянных из двух с небольшим лет… и ни одного дня холода, недоверия или разочарования.
— Ни одного.
Мы замолчали; только птицы в липовых кронах щебетали на множество чистых, еле слышных голосов; только вода журчала среди резных камней.
Джулия взяла платок из моего нагрудного кармана и вытерла руку; потом закурила сигарету. Я боялся пресечь чреду воспоминаний, но оказалось, что мысли наши на этот раз бежали в разных направлениях, потому что, когда Джулия наконец заговорила, слова ее были печальны:
— А дальше что? Еще сто дней?
— Вся жизнь.
— Я хочу стать твоей женой, Чарльз.
— Конечно. Что вдруг сейчас?
— Война, — сказала Джулия. — Ввечеру, поутру, не сегодня-завтра. Я хочу прожить с тобою хоть несколько дней по-настоящему спокойно.
— А это неужели не покой?
Солнце клонилось к лесу на дальних холмах; обращенные к нам склоны покрыла вечерняя тень, только пруды внизу полыхали закатным огнем; свет перед смертью разгорался все пышнее, прочертив через луг длинные тени, вступив на широкие каменные пространства террасы, воспламенив окна, осветив карнизы, колонны, купол, разложив все пестрые ароматные товары земли, листву, камень и окружив сиянием голову и золотые плечи сидящей рядом со мною женщины.
— Что же тогда покой, если не это?
— Еще очень многое. — И холодным, деловитым тоном она продолжала: — Брак не совершается по первому побуждению. Сначала должен быть развод, два развода. Нужно выработать план.
— План, развод, война — и это в такой вечер!
— Иногда я чувствую, — сказала Джулия, — словно прошлое и будущее так теснят нас с обеих сторон, что для настоящего совершенно не остается места.
Тут по ступеням навстречу закату сошел Уилкокс и объявил, что ужинать подано.
В Расписной гостиной ставни были закрыты, шторы задернуты и ярко горели свечи.
— О, три персоны?
— Да, ваша светлость, лорд Брайдсхед приехал полчаса назад. Он просил передать, чтобы вы приступали к ужину, не дожидаясь его, так как он может слегка запоздать.
— Он бог знает как давно не был, — сказала Джулия. — Не понимаю, чем он там занимается в Лондоне.
Мы часто гадали об этом, теряясь в самых фантастических предположениях, ибо Брайди был личность таинственная, некое скрытное, подпольное существо, тупорылый зверь, который роет подземные ходы, прячется от солнечного света и долгие месяцы проводит в спячке. Всю свою взрослую жизнь он пребывал в полнейшем бездействии, разговоры о том, чтобы ему вступить в армию, стать, членом парламента, уйти в монастырь, так и остались разговорами. Наверняка о нем было известно только одно — да и то потому, что как-то в пору газетного голода это послужило темой большой заметки под заглавием «Редкое хобби пэра», а именно что он собирает коллекцию спичечных коробков. Он наклеивал их на доски, завел на них картотеку и занимал под них с каждым годом все больше и больше места в своем маленьком вестминстерском доме. Сначала газетная известность смущала его, однако вскоре он нашел в ней большое удовлетворение, так как получил благодаря ей возможность установить контакты с коллекционерами во всех частях света и теперь переписывался с ними и обменивался дубликатами. Ни о каких других его интересах сведений не было. Он по-прежнему возглавлял марчмейнских охотников и неукоснительно, бывая дома, выезжал с ними раз в неделю; но никогда не ездил с соседями, у которых были лучшие угодья. Настоящего спортивного азарта он не испытывал и в тот сезон был на охоте считанное число раз; дружбу он ни с кем не водил, исправно навещал своих теток и присутствовал на официальных обедах, которые устраивались католическими кругами. В Брайдсхеде он исполнял все необходимые общественные обязанности, внося с собой на трибуну, на банкет и на заседания всевозможных комитетов туман прямолинейности и отчуждения.
— На той неделе в Уондсворте был найден труп девушки, задушенной куском колючей проволоки, — заметил я, возобновляя старую игру.
— Не иначе как дело рук Брайди. Он такой. — Мы просидели за столом с четверть часа, когда он наконец к нам присоединился, торжественно войдя в комнату в своем бутылочно-зеленом бархатном смокинге, который он всегда держал в Брайдсхеде и надевал, выходя к столу. В тридцать восемь лет он сильно облысел и обрюзг и вполне мог сойти за сорокапятилетнего.
— Гм, — сказал он, — гм. Только вы двое. Я надеялся застать также и Рекса.
Я часто пытался представить себе, что он думает обо мне и о моем постоянном присутствии; мне казалось, он с полным равнодушием принимает меня как члена семьи. Дважды за два прошедших года он удивил меня поступками, которые можно было понять как знаки дружеского расположения: на прошлое Рождество он прислал мне свою фотографию в одеянии мальтийского рыцаря, а вскоре после этого пригласил меня на обед в своем клубе. И тому и другому имелось объяснение: он заказал слишком много отпечатков своего портрета и не знал, куда их девать; и он гордился своим клубом. Это было удивительнейшее объединение людей, занимавших весьма видное положение в своих областях, они встречались раз в месяц и проводили вечер за церемонным дуракавалянием; каждый имел прозвище — Брайди звался Братец Гранд — и носил соответствующий, изготовленный по специальному рисунку бриллиантовый знак наподобие ордена; еще у них были особые клубные пуговицы на жилетах и очень сложный ритуал представления гостей; по окончании обеда зачитывался доклад и произносились шуточные спичи. Члены клуба щеголяли друг перед другом своими знаменитыми гостями, а так как у Брайди друзей не было, а я был довольно известен, он и пригласил меня. Даже там, за клубным столом, я чувствовал, что от Брайдсхеда исходят магнетические волны светской неловкости, образуя вокруг него словно маленькое море всеобщего замешательства, в котором он плавал невозмутимо, как бревно.
Брайди сел против меня и склонил над тарелкой розовую лысину.
— Ну, Брайди, какие новости?
— У меня действительно есть некоторые новости, — ответил он. — Однако дело терпит.
— Скажи сейчас.
Он сделал гримасу— в том смысле, что, мол, нельзя же при слугах, — и тут же спросил:
— Как продвигается картина, Чарльз?
— Какая картина?
— Ну, та, что там сейчас у вас на стапелях.
— Я начал набрасывать портрет Джулии, но сегодня свет очень переменчив.
— Портрет Джулии? Мне казалось, вы ее уже писали. Я полагаю, это совсем не то, что архитектура. И видимо, гораздо труднее.
Его беседа всегда изобиловала долгими паузами, во время которых сознание его казалось застывшим, но в конце концов он, изумляя отвлекшегося собеседника, неизменно возвращался к тому, на чем остановился. Вот и теперь, по прошествии не менее чем минуты, он произнес:
— Мир полон самых различных предметов.
— Несомненно, Брайди.
— Если бы я был художником, — продолжал он, — я бы всякий раз избирал совершенно новый предмет. Но обязательно что-нибудь динамичное, как… — И снова пауза. Что сейчас последует, — гадал я. — Летучий Голландец? Кавалерийская атака? Хенлейская регата? — …как Макбет, неожиданно докончил он. — Было что-то нелепое в мысли о Брайди как о художнике-жанристе или баталисте. В нем вообще было немало абсурдного, и одновременно в его позиции стороннего лица, человека без возраста было какое-то достоинство; он был еще полудитя и уже почти старец, сегодняшняя жизнь даже и не теплилась в нем; он был прямолинеен и непробиваем и совершенно равнодушен к миру, и это внушало даже уважение. Мы много смеялись над ним, но он никогда не был до конца смешон; временами он оказывался грозен.
Мы сидели и обсуждали положение в Центральной Европе, как вдруг, пресекая эту бесплодную тему, Брайди спросил:
— Где мамины драгоценности?
— Вот это было мамино, — ответила Джулия. — И вот это. Мы с Корделией получили все ее собственные вещи. А фамильные драгоценности лежат в банке.
— Я давно их не видел — по-моему, всех мне не показывали никогда. Что там есть? Помнится, мне говорили, что там какие-то знаменитые рубины?
— Да, ожерелье. Мама его часто носила, неужели ты не помнишь? И жемчуга, они всегда были у нее. А многие вещи оставались в банке из года в год. Там, я помню, есть какие-то ужасные бриллиантовые подвески и викторианское бриллиантовое колье, которое сейчас никто не наденет. А что?
— Мне бы хотелось как-нибудь посмотреть на них.
— Послушай, папа не собирается их закладывать? Неужели он опять в долгах?
— Нет-нет, ничего похожего.
Брайди ел много и не торопясь. Мы с Джулией смотрели на него при свете свечей. Наконец он проговорил:
— Будь я Рекс, — он был полон подобных допущений:
«Будь я епископ Вестминстерский», «Будь я главой железнодорожной компании „Большая Западная“», «Будь я актрисой», словно он лишь по совершенной случайности не является ни тем, ни другим, ни третьим и может еще в одно прекрасное утро проснуться в своем истинном обличье, — будь я Рекс, я бы жил среди своих избирателей.
Рекс говорит, что, живя вдали отсюда, экономит себе четыре рабочих дня в неделю.
Жаль, что его сегодня здесь нет. Я должен сделать одно сообщение. Я…
— Брайди, не будь таким таинственным. Скорей скажи, в чем дело.
Он снова сделал гримасу «не при слугах». Позже, когда на столе появился портвейн и мы остались втроем, Джулия сказала:
— Я и не подумаю уйти, пока не услышу твоего сообщения!
— Ну хорошо, — проговорил Брайди, откинувшись на спинку стула и пристально разглядывая свой стакан с вином. — «Не далее как в понедельник вы бы все равно прочли об этом черным по белому в газетах. Я собираюсь жениться. Надеюсь, тебя это радует».
— Брайди! Как… как чудесно! На ком же?
— Ты не знаешь.
— Она хорошенькая?
— Я думаю, хорошенькой ее едва ли можно назвать. Приятная — вот, пожалуй, подходящее слово. Она крупная женщина.
— Толстая?
— Нет, крупная. Фамилия ее Маспрэтт, миссис Маспрэтт, зовут Берил. Я знаком с нею долгое время, но до прошлого года у нее был муж; теперь она овдовела. Что тут смешного?
— Прости, Брайди. Совершенно ничего. Просто все так неожиданно. Она… она твоих лет?
— Да, я думаю, примерно моих. У нее трое детей, старший мальчик в этом году поступил в Эмплфорт. Они живут в довольно стесненных обстоятельствах.
— Но, Брайди, где ты ее нашел?
— Ее покойный муж, адмирал Маспрэтт, собирал спичечные коробки, — с бесподобной серьезностью ответил он.
Джулия затрепетала от еле сдерживаемого смеха, потом, овладев собой, спросила:
— Но ты женишься не ради ее спичечных коробков?
— Нет-нет, вся коллекция передана в собственность Фалмутской городской библиотеки. Я испытываю к этой женщине самое сердечное расположение. Несмотря на все жизненные трудности, она неизменно сохраняет бодрость духа, любит театр. Она связана с Католической гильдией актеров-любителей.
— А папа знает?
— Я получил от него сегодня письмо, где он выражает свое одобрение. Он давно склонял меня к женитьбе.
В эту минуту нам с Джулией одновременно пришло в голову, что мы напрасно дали волю удивлению и любопытству; и мы оба стали поздравлять его с сердечностью, в которой почти отсутствовала шутливость.
— Благодарю, — ответил он. — Благодарю вас. Я считаю себя счастливцем.
— Но когда мы с ней познакомимся? Право, ты мог бы привезти ее с собой.
Брайди не ответил; он сидел, попивая портвейн и мечтательно глядя перед собою.
— Брайди, — сказала Джулия, — хитрый старый крот, ну почему ты ее не привез, скажи на милость?
— О, это никак нельзя, знаете ли.
— Да почему же? Я умираю от нетерпения скорее с ней познакомиться. Давай позвоним ей сейчас и пригласим приехать. Она сочтет нас очень странными людьми, если мы в такое время оставим ее одну.
— У нее дети, — сказал Брайдсхед. — К тому же вы ведь и есть странные люди, верно?
— О чем это ты?
Брайдсхед поднял голову и, важно глядя прямо в глаза своей сестре, спокойно продолжал, словно речь шла все о том же, что и раньше:
— Я не могу пригласить ее сюда при данных обстоятельствах. Это неприлично. В конце концов, я здесь только жилец. В настоящее время это, если угодно, дом Рекса. И то, что здесь происходит, его дело. Но привезти сюда Берил я не могу.
— Я не понимаю тебя, — довольно резко сказала Джулия. Я поглядел на нее: от ее веселой шутливости не осталось и следа; она казалась встревоженной, почти испуганной. — Само собой разумеется, что Рекс и я хотим ее здесь видеть.
— Да-да, конечно, я не сомневаюсь. Затруднение совсем в другом. — Он допил вино, снова наполнил свой стакан и пододвинул графин ко мне. — Видишь ли, Берил — женщина строгих католических правил, которые у нее подкрепляются еще предрассудками, свойственными среднему классу. Я не могу привезти ее сюда. Для меня не имеет значения, что ты считаешь для себя предпочтительным — жить в грехе с Рексом, или Чарльзом, или с обоими. Я никогда не вдавался в подробности вашего menage, но Берил ни при каких обстоятельствах не согласится быть твоей гостьей.
Джулия встала.
— Ты, надутый осел… — начала она, замолчала и бросилась к двери.
Сначала я подумал, что ее душит смех, но, открывая перед ней дверь, вдруг с ужасом увидел в глазах у нее слезы. Как я должен был поступить? Она выскользнула из комнаты, даже не взглянув в мою сторону.
— На основании моих слов может создаться впечатление, — как ни в чем не бывало продолжил Брайдсхед, — будто это брак по расчету. Не могу говорить за Берил; моя материальная обеспеченность, несомненно, оказала на нее некоторое влияние. Она сама мне в этом призналась. Однако с моей стороны, я хочу подчеркнуть, наличествует самая страстная привязанность.
— Брайди, как вы могли так оскорбить Джулию?
— Я не сказал ничего такого, против чего она могла бы возразить. Я просто констатировал хорошо известный ей факт.
В библиотеке ее не было; я поднялся к ней в комнату, но и там было пусто. Я подождал у ее заставленного туалетного стола, думая, что, может быть, она сейчас войдет. И вдруг в открытом окне в полосе света, тянувшейся через террасу и дальше в сумерки, к фонтану, который во всех случаях жизни притягивал нас, даря прохладу и успокоение, мелькнуло на сером камне белое платье. Было уже почти темно. Я нашел ее в самом затененном углу, на деревянной скамье, обнесенной буксовой стеной, вплотную подступавшей к бассейну. Я обнял ее, и она прижалась лицом к моему сердцу.
— Тебе не холодно здесь?
Она не ответила, только прильнула плотнее; плечи ее вздрагивали.
— Родная, ну что ты? Почему ты так приняла это к сердцу? Разве важно, что говорит этот олух царя небесного?
— Я не приняла, это не важно. Просто от неожиданности. Не смейся надо мною.
За два с лишним года нашей любви, которые казались целой жизнью, я впервые видел ее такой расстроенной и впервые был бессилен ее утешить.
— Как он посмел так говорить с тобой? — сказал я. — Бездушный болван… — Но это были не те слова.
— Нет, — отозвалась она. — Дело не в этом. Он прав. Они все знают, Брайди и его вдова, для них все написано черным по белому, можно купить за один пенс на любой церковной паперти. Там за пенни можно получить что угодно, написанное черным по белому, и никто даже не будет следить, заплатили вы или нет, только старуха со шваброй, которая копошится у исповедальни, и девушка, ставящая свечку перед Семью скорбями. Бросьте пенни в ящик, а то и не бросайте, и берите трактат. В нем про все написано, черным по белому.
Называется одним коротким словом, одним плоским, убийственным словечком, которое покрывает целую жизнь.
«Жить в грехе» — это не просто поступить дурно, как в тот раз, когда я уехала в Америку: поступить дурно, знать, что это дурно, перестать поступать дурно, забыть об этом. Нет, речь о другом. Не за это пенсы плачены. Там ведь все написано черным по белому.
«Жить в грехе», всегда со своим грехом, постоянным, неизменным, как тщательно ухоженный, огражденный от мира идиот-ребенок. «Бедняжка Джулия, — говорят они, — она никуда не выезжает. Ей нужно нянчить свой грех. Жаль, что он не умер при рождении, — говорят они, — у него такое крепкое здоровье. Эти дети всегда очень крепкие. А Джулия так за ним ухаживает, за своим маленьким слабоумным грехом».
А я думал: «Час назад она сидела в лучах заката, играла перстнем в воде и считала дни счастья; и вот теперь, под первыми звездами, при последнем сером вздохе дня, вдруг этот таинственный всплеск горя! Что случилось с нами в Расписной гостиной? Какая мрачная тень упала на нас при зажженных свечах? Две грубые фразы и одно избитое выражение».
Она была вне себя; ее голос, то приглушенный у меня на груди, то звонкий, исполненный муки, доносил до меня отдельные слова и обрывки фраз:
— Прошлое и будущее; годы, когда я старалась быть хорошей женой в сигарном дыме, под стук костяшек на доске триктрака, пока господин, который был «выходящим» за столом у мужчин, разливал вино по бокалам; когда вынашивала его нерожденное дитя, сама раздираемая на части тем, что уже умерло; потом вычеркнула его, забыла, нашла тебя, прошедшие два года с тобой, все будущее с тобой, все будущее с тобой или без тебя, и надвигающаяся война, и конец света — грех.
Слово из далекого-далекого прошлого, где няня Хокинс сидит и что-то шьет у камина, а перед Пресвятым Сердцем горит ночничок. Мы с Корделией у мамы в комнате за катехизисом — это по воскресеньям перед обедом. Мама. Мама, которая несет в церковь мой грех, сгибается под ним и под черной кружевной вуалью; выходит с ним на лондонские улицы рано-рано, когда еще не дымят трубы; спешит с ним по безлюдным тротуарам, на которых стоят передними копытами лошади молочников; мама, которая принимает смерть за мой грех, пожиравший ее безжалостнее ее собственной смертельной болезни.
Мама, принявшая за него смерть; Христос, принявший за него смерть, прибитый за руки и за ноги гвоздями; Христос, висящий в детской над моей кроватью; висящий долгие годы в темной комнатке на Фарм-стрит, где был такой навощенный линолеум; висящий в темной церкви, где одна только старушка поднимает шваброй пыль и одна только свеча проливает слабый свет; висящий в жаркий полдень высоко над толпой и над солдатами; не дождавшийся ничего, кроме губки с уксусом и слов сочувствия от разбойника; висящий вечность; не прохлада гроба и могильные пелены на каменной плите, не умащения и благовония в темной пещере — а только полуденное солнце и стук жребья, бросаемого о хитоне его, тканом сверху.
И нет пути назад; ворота на запоре; вдоль стен — все ангелы и святые. Вышвырнутая, выскребленная, брошенная гнить; старик с волчанкой на лице и с раздвоенной палкой, выползающий ночью порыться в отбросах в надежде найти и засунуть в мешок что-нибудь, что может ему пригодиться, и тот отворачивается с омерзением.
— Мертвая и безымянная, как дитя, которое завернули и унесли, и я ее так и не видела…
Она плакала и говорила, говорила и плакала и, выговорившись, замолчала. Я ничем не мог ей помочь; я был далеко; ладони мои на сребротканой ее тунике застыли от холода, глаза были сухи; она прильнула в темноте к моей груди, а моя душа была так же далеко от нее, как много лет назад, когда я раскуривал ей сигарету по пути со станции, или потом, когда, из сердца вон, она была где-то, а я жил долгие пустые годы в бывшем доме священника и в американских джунглях.
Слезы зарождаются от слов; замолчав, она через некоторое время перестала и плакать. Она отстранилась от меня, выпрямилась, взяла мой носовой платок, поежилась и встала.
— Да, — сказала она почти совсем обычным голосом. — Брайди, конечно, мастер преподносить сюрпризы.
Я вернулся с нею в дом и поднялся в ее комнату; она села перед зеркалом.
— Не так скверно, учитывая, что я только что закатила истерику, — сказала она. Глаза ее неестественно блестели и казались огромными, лицо было очень бледным, и только на скулах, где в юности она накладывала румяна, рдели два ярких пятна. — Обычно у истеричек вид как во время сильного насморка. А тебе надо переменить рубашку, перед тем как идти вниз, эта вся проплаканная и в губной помаде.
— А мы пойдем вниз?
— Обязательно. Не можем же мы оставить бедного Брайди одного в вечер его помолвки.
Когда я к ней возвратился, она сказала:
— Извини меня за эту ужасную сцену, Чарльз. Я не могу тебе объяснить, что со мной было.
Брайдсхед оказался в библиотеке. Он курил сигару и мирно читал детективный роман.
— Хорошо в саду? — спросил он. — Если б я знал, что вы собираетесь погулять, я бы тоже пошел.
— Довольно холодно.
— Я надеюсь, что не причиняю особых затруднений тем, что выживаю отсюда Рекса. Понимаете, на Бартон-стрит нам будет слишком тесно с тремя детьми. К тому же Берил любит жить за городом. Папа в своем письме предлагает теперь же перевести все имение на мое имя.
Мне вспомнилось, как Рекс говорил мне в день моего первого приезда в Брайдсхед в качестве гостя Джулии:
— Меня такое положение вполне устраивает. — Это были едва ли не первые его слова при встрече. — Старый маркиз держит дом, Брайди — местный лорд-феодал, а живу я, и мне это ни гроша не стоит. Оплачиваю только продовольствие и домашних слуг. Можно бы удобнее, да некуда, а?
— Вероятно, ему будет жаль отсюда перебираться, — сказал я.
— Не беспокойся, он найдет что-нибудь другое на таких же выгодных условиях, — возразила Джулия.
— У Берил есть кое-какая мебель, которой она дорожит. Не совсем уверен, что она подойдет сюда. Знаете, всякие там дубовые комоды, стулья с прямыми спинками, все в таком роде. Я думаю, она сможет поставить ее в бывшей маминой комнате.
— Да, пожалуй, это самое подходящее место. И брат с сестрой просидели до ночи, обсуждая предстоящее переустройство дома. «Час назад, — думал я, — в темном углу среди буксовых кустов она горестно оплакивала, надрываясь, смерть своего бога, а теперь толкует о том, какую комнату лучше отвести детям Берил, старую курительную или бывшую классную». Это было выше моего разумения.
— Джулия, — сказал я позже, когда Брайдсхед ушел к себе, — ты видела когда-нибудь картину Холмена Ханта под названием «Пробужденная совесть»?
— Нет.
Несколько дней назад я наткнулся в библиотеке на «Прерафаэлитов» Рескина; я сходил за ними и прочел ей, что там говорится об этой картине. Она весело смеялась.
— Ты совершенно прав. Именно это я и чувствовала.
— Но я не могу поверить, родная, что такой поток слез был вызван несколькими бестактными словами Брайди. Ты, наверно, думала об этом и раньше?
— Почти никогда; редко-редко; в последнее время чаще, в ожидании трубы архангела.
— Разумеется, у психологов есть этому объяснение: формирующие впечатления детства, комплекс вины из-за чепухи, которую тебе вбивали в голову. В глубине души ты ведь понимаешь, что это чепуха, верно?
— Если бы это было так!
— Когда-то Себастьян сказал мне почти то же самое.
— Себастьян возвратился в лоно церкви, ты знаешь? Конечно, он никогда так решительно не порывал с нею, как я. Я зашла слишком далеко, для меня пути назад нет. Это я понимаю, если ты это имел в виду, когда говорил о чепухе. Единственное, на что мне осталось надеяться, — это что мне удастся привести свою жизнь в относительный земной порядок, покуда весь земной порядок не прекратился. Поэтому я хочу выйти за тебя замуж. Хочу родить ребенка. Это я еще могу… Пойдем снова выйдем. Луна, наверно, уже взошла.
Полная луна сияла высоко в небе. Мы обошли вокруг дома. Под липами Джулия задержалась, обломила цветущую ветку, прошлогодний побег, которыми топорщились остриженные низкие кроны, и на ходу ободрала ее до хлыстика, какие делают из липовых побегов дети; но движения ее были нервными, недетскими; она оборвала цветы, листья, сминая их пальцами, царапая ногтями, начала счищать кору. И вот мы опять стояли у фонтана.
— Как в классической комедии, — сказал я. — Декорации — барочный фонтан в саду знатного вельможи; акт первый — на закате, акт второй — в сумерки, акт третий — при луне. Действующие лица каждый раз сходятся у фонтана безо всякой к тому причины.
— Комедии?
— Ну, драме. Трагедии. Фарсе. Как тебе будет угодно. Идет сцена примирения.
— А разве была ссора?
— Было отчуждение и взаимное непонимание во втором акте.
— Почему такой безобразный, подлый тон? Неужели тебе обязательно все воспринимать со стороны? Ну почему то, что происходит, для тебя спектакль? Почему моя совесть — прерафаэлитская картина?
— Так мне представляется.
— Это отвратительно!
Ее вспышка ярости была так же внезапна, как и все, что происходило в этот вечер головокружительных виражей. Неожиданно она хлестнула меня липовым прутиком по лицу, хлестнула со злобой, больно, изо всей своей силы.
— Отвратительно! Почувствовал теперь? Она ударила еще раз.
— Ну? — сказал я. — Бей еще.
Она уже занесла руку, но осеклась, и полуободранная палочка полетела в фонтан и закачалась на воде, черно-белая в лунном свете.
— Больно?
— Да.
— Я?.. Тебя?..
Ярость ее улетучилась; ее слезы, хлынув с новой силой, увлажнили мне щеку. Я отстранил ее, положив ей руку на плечо, и она, склонив голову, по-кошачьи потерлась об мою руку щекой, совсем не по-кошачьи уронив на нее слезу.
— Эх ты, кошка на крыше, — сказал я.
— Бессердечный!
Она прикусила мою руку, но я не пошевелился, когда ее зубы притронулись к моей коже, и она, не укусив, коснулась губами и, не поцеловав, лизнула ее.
— Кошка под луной.
Такое настроение ее было мне знакомо. Мы пошли к дому. В освещенной прихожей она тронула пальцами горящие рубцы на моем лице.
— Бедные щеки. Будут завтра следы?
— Очевидно.
— Чарльз, я с ума сошла? Что случилось сегодня? Я так устала.
Она зевнула; на нее напала непреодолимая зевота. Она сидела у себя за туалетным столом, опустив голову, уронив волосы на лицо, и безудержно, беспомощно зевала, и, когда она выпрямилась на минуту, из-за ее плеча я увидел в зеркале лицо, оцепеневшее от усталости, как у солдата в отступлении, а выше — мое собственное, перечеркнутое двумя пунцовыми полосами.
— Так устала, — повторила она, снимая свое золотое платье и оставляя его на полу, — устала, и с ума сошла, и ни на что не гожусь.
Я уложил ее спать; голубые веки сомкнулись; бледные губы зашевелились, касаясь подушки, но было ли то пожелание спокойной ночи или же молитва — детская присказка, которая пришла ей на язык в это сумеречное мгновенье между сном и страданием, древний религиозный стих, который дошел к няне Хокинс через века, через все перемены языков и наречий из тех времен, когда развьючивали по вечерам лошадей на долгом Пути Странника — этого я не знал.
На следующий вечер приехал Рекс со своими политическими дружками.
— Они не будут воевать.
— Они не могут воевать. У них нет денег… у них нет нефти.
— У них нет молибдена… у них не хватит людей.
— У них не хватит наглости.
— Они побоятся.
— Они боятся французов… боятся чехов… боятся словаков… боятся нас.
— Это блеф.
— Конечно, блеф. Где у них вольфрам? Где у них марганец?
— Где у них хром?
— Я расскажу вам одну историю…
— Вот, вот, послушайте, это интересно, Рекс расскажет одну историю.
— …один мой приятель путешествовал на машине по Шварцвальду, только на днях вернулся, и вот он рассказывал мне вчера, пока мы с ним играли в гольф. Едет он, представьте, проселочной дорогой, дорога поворачивает, и он с ходу выезжает на шоссе. А на шоссе — что бы вы думали? Танковая колонна. Тормозить поздно, он вылетает на асфальт и на всем ходу врезается прямо в танк. Ну, думает, крышка… Слушайте, слушайте, сейчас будет самое смешное.
— Сейчас будет самое смешное.
— Он проехал танк насквозь и даже краску с кузова не содрал. Что б вы думали? Танк-то был брезентовый — разрисованный брезент на бамбуковой раме.
— У них нет стали.
— У них нет станков. Нет рабочей силы. Они голодают.
— У них нет жиров. Их дети болеют рахитом.
— Их женщины страдают бесплодием.
— Их мужчины страдают бессилием.
— У них нет докторов.
— Доктора были евреи.
— Теперь у них туберкулез.
— Теперь у них сифилис.
— Одному моему приятелю говорил Геринг…
— Одному моему приятелю говорил Геббельс.
— Мне говорил Риббентроп, что армия поддерживает Гитлера у власти, пока ему все достается на дармовщину. Стоит ему где-нибудь наткнуться на сопротивление, и все будет кончено. Военные расстреляют его.
— Либералы повесят его.
— Коммунисты разорвут его на куски.
— Он бы уже погубил себя, если бы не Чемберлен.
— Если бы не Галифакс.
— Если бы не сэр Сэмюель Хоур.
— И Комитет 1922 года.
— Мирные обещания.
— Министерство иностранных дел.
— Нью-йоркские банки.
— Все, что нужно, — это твердая разумная политика.
— Сформулированная Рексом.
— И мною.
— Мы дадим Европе твердую разумную политику. Европа ждет, чтобы Рекс выступил с речью.
— И чтобы я выступил с речью.
— И я. Объединим все миролюбивые народы земли. Германия поднимется, Австрия поднимется. Чехи и словаки не могут не подняться.
— За речь, с которой выступит Рекс, и за речь, с которой выступлю я.
— А как насчет роббера-другого? Виски? Кто хочет толстую сигару, друзья? А вы, парочка, уходите?
— Да, Рекс, — ответила Джулия. — Мы с Чарльзом идем любоваться луной.
Мы закрыли за собою двери на террасу, и голоса заглохли. Лунное сияние лежало на террасе, подобно густому инею, и пение фонтана достигло нашего слуха; каменная балюстрада террасы была как троянские стены, а безмолвный парк лежал внизу, точно лагерь греков, в шатрах которых находилась в ту ночь прекрасная Крессйда.
— Несколько дней, несколько месяцев.
— У нас нет времени.
— У нас есть целая жизнь от восхода луны до захода. А потом тьма.
Глава четвертая
— И, разумеется, попечение над детьми останется за Селией.
— Разумеется.
— А как насчет Дома священника? Вы ведь едва ли захотите поселиться с Джулией у нас под самым носом. И дети, знаете ли, считают Дом священника своим домом. Робину поселить семью негде, покуда не помрет его дядюшка. А новой мастерской вы ведь, в конце концов, так и не пользовались? Робин только на днях говорил, что там получится замечательный гимнастический зал — хватит места даже для бадминтона.
— Пусть Робин берет Дом священника себе.
— Теперь что касается денег. Селии и Робину, естественно, для себя ничего не нужно, однако имеется еще такая сторона, как обучение детей.
— С этим все будет в порядке. Я поговорю с моими поверенными.
— Ну, по-моему, все, — сказал Мулкастер. — Знаете, видел я в своей жизни разводы, но не помню, чтобы хоть раз все устраивалось так удачно для всех заинтересованных сторон. Всегда, как бы по-дружески люди сначала ни держались, чуть доходит до дела, и выплывают всякие там обиды и счеты. Имейте в виду, я все равно считаю, что последние два года вы иногда обходились с Селией, так сказать, не слишком. Конечно, о родной сестре трудно судить, но, на мой взгляд, она девица что надо, для всякого лакомый кусок — да еще с артистическими интересами, как раз по вашей части. Должен, впрочем, сказать, у вас губа не дура. Я сам всегда был неравнодушен к Джулии. Ну, теперь все обернулось ко всеобщему счастью. Робин уже больше года без ума от Селии. Вы его знаете?
— Смутно. Помнится, такой прыщавый зеленый юнец.
— Ну нет, я бы не сказал. Конечно, он довольно молод, но, самое главное, Джонджон и Каролина от него без ума. У вас двое превосходных детей, Чарльз. Так передайте мой поклон Джулии, да скажите ей, что в память о прошлом я желаю ей счастья.
— Я слышал, ты разводишься, — сказал мой отец. — Неужели это так обязательно после всех лет, что вы были счастливы вместе?
— Дело в том, что мы не были особенно счастливы.
— Не были? Вот как? Я отчетливо помню, что видел вас вместе на Рождество и еще удивился вашему определенно счастливому виду. Ломать свой жизненный уклад— это очень хлопотно, уверяю тебя. Сколько тебе сейчас — тридцать четыре? В таком возрасте поздно начинать жизнь сначала, время окончательно остепениться. Каковы твои дальнейшие намерения?
— Собираюсь жениться вторично, как только будет оформлен развод.
— Ну, знаешь ли, это я считаю полнейшим вздором. Могу понять человека, который сожалеет, что вступил в брак, и желает из него выпутаться — хотя сам я ничего подобного не испытывал, — но избавиться от одной жены, чтобы тут же связать себя с другой — это, извини меня, просто нелепо. Селия всегда была со мной в высшей степени любезна. Я находил ее на свой лад вполне приятной особой. Если ты не сумел быть счастливым с ней, какие у тебя основания рассчитывать на счастье с какой-либо другой женщиной? Послушай совета, мой мальчик, и откажись от всей этой затеи.
— Но при чем тут мы с Джулией? — сказал Рекс. — Если Селия хочет снова выйти замуж, на здоровье, пусть выходит. Это дело ее и ваше. Но, по-моему, мы с Джулией вполне счастливы, как есть. Вы не можете сказать, чтобы я чинил какие-то затруднения. Многие на моем месте наломали бы дров. Но я человек светский. И потом, у меня есть свои интересы. Однако развод — это совсем другое, от развода еще никогда ни одному человеку не было проку.
— Это дело ваше и Джулии.
— О, Джулии подавай развод во что бы то ни стало. Я надеялся, может, вы бы ее отговорили. Не знаю, кажется, я никому не мешал, старался, во всяком случае. Если я мешал, если приезжал слишком часто, прошу мне сказать. Сейчас так много всяких дел, Брайди вот хочет, чтобы я выселился из дома, ей-богу, у меня и без того забот полон рот.
Политическая карьера Рекса приближалась к решающему повороту. Она сложилась не так благополучно, как он рассчитывал. Я ничего не понимал в финансах, но и мне приходилось слышать разговоры о том, что на его финансовую деятельность в ортодоксальных консерваторских кругах смотрят довольно косо. Даже его достоинства — его общительность и энергия — сослужили ему дурную службу, ибо о его брайдсхедских сборищах начинали поговаривать. Вообще о нем слишком часто писали в газетах, он пользовался неизменной любовью властителей Прессы и их грустнооких, бодро улыбающихся клевретов; в своих речах он говорил такие вещи, которые были хлебом насущным для Флит-стрит, а это сильно подрывало доброе отношение к нему его партийного руководства; только война могла произвести решающий толчок и вынести Рекса на вершины власти. Развод не должен был причинить ему особого вреда; просто, я думаю, он так был занят важными делами, что не хотел отвлекаться на мелочи.
— Что ж, если Джулия непременно хочет развода, придется ей дать развод, — сказал он. — Но ей-богу, она выбрала неподходящее время. Чарльз, скажите ей, чтобы подождала хоть самую малость, будьте другом.
— Вдовушка Брайди сказала: «Я слышала, вы разводитесь с одним разведенным мужчиной и выходите за другого? Звучит очень сложно, милочка. — Она назвала меня „милочкой“ не меньше двадцати раз. — Я заметила, что в каждом католическом доме есть один отпавший от церкви член семьи, и очень часто это ее гордость и украшение».
Джулия только что приехала с обеда, который давала леди Роскоммон в ознаменование помолвки Брайдсхеда.
— Какова она собой?
— Пышная и величественная; вульгарная, конечно; гнусавый голос, большой рот, глазки-точечки, крашеная блондинка — и вот что я тебе скажу: она обманула Брайди насчет своего возраста. Ей добрых сорок пять лет. И, по-моему, она неспособна обеспечить продолжение рода. Брайди на нее не надышится. Он так и ел ее глазами весь вечер самым неприличным образом.
— Держалась дружески?
— О да, очень. Дружески-снисходительно. Понимаешь, она, вероятно, привыкла быть первой дамой в морских кругах, где всякие флаг-адъютанты и прочие юные карьеристы ходили вокруг нее на цыпочках и смотрели ей в рот. Ну, естественно, у тети Фани на роль первой дамы ей не очень-то приходилось рассчитывать, поэтому она была рада иметь подле себя заблудшую овцу, которая нуждается в наставлении на путь истинный. Она сосредоточила на мне все свое внимание, спрашивала моего совета насчет магазинов и покупок, сказала, довольно подчеркнуто, что надеется часто видеть меня в Лондоне. По-моему, ей зазорно только спать под одной крышей со мною. А у модистки, или в парикмахерской, или за завтраком в «Ритце» я не могу причинить ей особого вреда. И в любом случае это Брайди такой щепетильный, а не его вдовушка; у нее просто мертвая хватка.
— А она им заметно помыкает?
— Пока не очень. Он пребывает в любовном оцепенении, бедняга, ничего не видит и не слышит. А она просто добрая женщина, которая хочет обеспечить дом для своих детей и не потерпит никаких препятствий у себя на пути. Сейчас она разыгрывает карту набожности. Но, по-моему, потом, устроившись, она не будет так уж держаться всяких строгостей.
Среди наших знакомых о предстоящих разводах говорили много; в то лето общей тревоги еще сохранились укромные уголки, где частным делам уделялось преимущественное внимание. Моя жена, как всегда, сумела представить события в свете, выгодном для нее и неблагоприятном для меня; всем было ясно, что она держалась замечательно и что только одна она способна выказать такое терпение. «Робин на семь лет ее моложе, он и для своего возраста немного недозрелый, — шептались в укромных уголках, — но зато он всем существом предан бедняжке Селии, и, право же, она этого заслуживает после всего, что ей пришлось пережить». А что до Джулии и меня, то ведь это не новость. «Выражаясь грубо, — пояснил мой кузен Джаспер, как будто он когда-либо выражался иначе, — непонятно, почему вдруг тебе пришла охота жениться».
Кончилось лето; ликующие толпы встречали Невиля Чемберлена из Мюнхена; Рекс произнес в Палате общин «бешеную» речь, которая раз навсегда решила его судьбу, хотя как именно должно еще было показать будущее. Адвокаты Джулии, в чьей конторе черные жестяные коробки с надписью «Маркиз Марчмейн» занимали чуть не целую комнату, начали кропотливую, медлительную процедуру ее развода; мои адвокаты, представители более оперативной фирмы, опережали их на несколько недель. Было необходимо, чтобы Рекс и Джулия официально разъехались, поэтому Джулия впредь до новых перемен осталась у себя в Брайдсхеде, а Рекс перевез свои чемоданы и своего камердинера в их лондонский дом. Протокол против меня и Джулии был составлен у меня на квартире. Свадьба Брайдсхеда была назначена на рождественские каникулы, чтобы его будущие пасынки могли принять в ней участие.
Однажды в ноябрьские сумерки мы с Джулией стояли у окна в гостиной и смотрели, как ветер хозяйничает в парке и оголяет ветви лип, срывая желтые листья, как гонит их, то взметая вверх, то кружа и раскидывая по цветникам и террасам, по светлым лужам и темной траве, то тут, то там прижимая к стене или оконному стеклу одинокий трепещущий лист и оставляя их наконец у стены наметанными в большие мокрые груды.
— Весной мы их уже не увидим, — сказала Джулия. — А может, и вообще больше никогда…
— Один раз, давно, уезжая отсюда, я уже думал, что больше не вернусь.
— Может быть, через много лет, да только что останется от нас и что останется от всего этого?..
Позади нас в сумраке комнаты открылась и закрылась дверь. Уилкокс прошел в красном свете камина и почтительно остановился у окон в сером отблеске угасшего дня.
— Телефонный звонок, ваша светлость, от леди Корделии.
— От леди Корделии! Откуда она звонила?
— Из Лондона, ваша светлость.
— Уилкокс, как чудесно! Она едет домой?
— Леди Корделия звонила уже по пути на вокзал и предполагает быть здесь после ужина.
— Я не видел ее двенадцать лет, — сказал я; я действительно последний раз виделся с нею в тот вечер, когда мы ездили вместе ужинать и она обмолвилась о своем желании стать монахиней; в тот вечер, когда я писал парадный интерьер Марчмейн-хауса. — Она была обаятельная девочка.
— Она живет странной жизнью. Сначала этот монастырь; потом, когда там ничего не вышло, война в Испании. Я не видела ее с тех пор. Другие девушки, которые отправлялись с санитарным транспортом, после окончания войны вернулись, но она осталась, помогала людям добираться домой, работала в лагерях для военнопленных. Странная девушка. И знаешь, она выросла совсем некрасивой.
— Ей известно про нас?
— Да, она прислала мне чудесное письмо. Больно было думать о том, что Корделия выросла «совсем некрасивой», что весь этот горячий запас любви тратится на инъекции и порошок против вшей. Когда она приехала, усталая с дороги, довольно дурно одетая, с поступью женщины, которая не заботится о производимом ею впечатлении, я нашел ее действительно некрасивой. Странно, думал я, как одни и те же составные части в разных сочетаниях образуют и Брайдсхеда, и Себастьяна, и Джулию, и ее. Что она их сестра, не вызывало сомнений, но в ней не было грации Себастьяна и Джулии, как не было серьезности Брайди. Она производила впечатление деловой и энергичной женщины, привыкшей к обстановке лагерей и перевязочных пунктов, насмотревшейся на простые и великие страдания и потому утратившей способность к более тонким удовольствиям. На вид ей было много больше ее двадцати шести лет; трудная жизнь огрубила ее; постоянная необходимость изъясняться на чужых языках привела к утрате нюансов родной речи; она сидела у огня, слегка расставив ноги, и, когда она сказала: «Хорошо дома», это прозвучало для меня как урчание собаки, укладывающейся вечером на свою подстилку.
Таковы были впечатления первого получаса, обостренные контрастом с белой кожей и шелковистыми мерцающими волосами Джулии и с моими воспоминаниями о ней самой — девочке.
— Моя работа в Испании кончена, — сказала она. — Власти были отменно любезны, выразили благодарность за все, что я сделала, даже дали медаль и выставили меня вон. Но кажется, здесь тоже скоро будет сколько угодно такой же работы. — Потом она спросила: — Еще не поздно подняться к няне?
— Нет, она просиживает до глубокой ночи у своего приемника.
Втроем мы поднялись в бывшую детскую. Мы с Джулией бывали у няни Хокинс каждый день. Она и мой отец оказались единственными людьми, не подверженными никаким переменам, за все время, что я их помнил, ни тот, ни другая не постарели и на час. Теперь небольшой радиоприемник прибавился к собранию ее простых удовольствий — к молитвеннику, «Книге пэров», аккуратно обернутой в серую бумагу для лучшей сохранности красного с золотым тиснением переплета, фотографиям и каникулярным сувенирам, разложенным на комоде. Когда мы сообщили ей, что собираемся с Джулией пожениться, она сказала: «Ну что ж, милочка, надеюсь, это все к лучшему», — ибо ее религия не позволяла ей сомневаться в правоте поступков Джулии.
Брайдсхед не был ее любимцем. Услышав весть о его помолвке, она заметила: «Долго же он собирался», — а когда ее поиски сведений о родне миссис Маспрэтт по страницам Дебретта оказались бесплодными, заключила: «Ну конечно, поймала она его».
Мы застали ее, как всегда по вечерам, у камина с чашкой чаю на столике и с рукоделием на коленях.
— Я знала, что вы придете, — сказала она. — Мистер Уилкокс послал предупредить меня.
— Я привезла тебе кружев, няня.
— Да, милочка, это очень красивые кружева. Совсем как покойница ее светлость нашивала в церковь. Хотя зачем их делают черными, не могу понять, ведь от природы-то кружева белого цвета. Большое спасибо, деточка, очень мило с вашей стороны.
— Можно, я выключу радио, няня?
— Ну конечно. Я на радостях и не заметила, что оно играет. Что это вы сделали со своими волосами?
— Да, ужасно, я знаю. Теперь, когда я вернулась, надо будет всем этим заняться. Няня, голубушка моя.
Теперь, когда мы сидели и разговаривали и любящие глаза Корделии покоились на всех нас, я начал различать, что и у нее тоже есть своя, особенная красота.
— Я видела Себастьяна месяц тому назад.
— Сколько уж, как он уехал! Здоров ли?
— Да не совсем. Я потому к нему и ездила. Ведь от Испании до Туниса рукой подать. Он там у монахов.
— Надеюсь, они там хорошо за ним смотрят. Тоже, наверно, хлебнули с ним горя. Мне он каждое рождество присылает поздравления, да ведь это совсем другое дело, когда бы он сам приехал. Зачем вам всем непременно за границу надо, не могу понять. Ну в точности как его светлость. Когда пошли тут эти разговоры насчет войны с Мюнхеном-то, я так себе и сказала: «Ну вот, а Корделия, Себастьян и его светлость — все трое за границей, какое для них неудобство».
— Я хотела, чтобы он поехал со мною домой, но он не согласился. Знаешь, у него теперь борода, и он очень набожен.
— Ну, этому я никогда не поверю, даже если увижу своими глазами. Он всегда был настоящий маленький язычник. Брайдсхед, тот был церковная душа, а Себастьян — нет. И борода, подумать только. Когда у человека такая чистая, хорошая кожа. Он всегда казался умытым, хоть бы целый день близко к воде не подходил, а вот Брайдсхеда как ни мой, все равно, бывало, не отмоешь.
— Страшно подумать, — сказала однажды Джулия, — как ты совершенно забыл Себастьяна.
— Он был предтечей.
— Так ты сказал тогда, во время шторма. Но мне иногда кажется, что, может быть, я тоже только предтеча.
«Может быть, — думал я, ощутив, как ее слова повисли между нами в воздухе, точно клок табачного дыма, чтобы потом растаять как дым и не оставить в душе следа, — может быть, всякая наша любовь — это лишь знак, лишь символ, лишь случайные слова, начертанные мимоходом на заборах и тротуарах вдоль длинного, утомительного пути, уже пройденного до нас многими; может быть, ты и я — лишь некие образы, и грусть, посещающая нас порою, рождается разочарованием, которое мы испытываем в своих поисках, тщась уловить в другом то, что мелькает тенью впереди и скрывается за поворотом, так и не подпустив к себе».
Я не забыл Себастьяна. Он каждый день был со мною в Джулии, вернее, в нем любил я Джулию в далекие аркадийские дни.
— Звучит не слишком-то утешительно, — сказала Джулия, когда я попытался ей это объяснить. — Откуда мне знать, что в один прекрасный день я не окажусь кем-то еще? По-моему, это удобный предлог бросить бедную девушку.
Я не забыл Себастьяна; каждый камень в том доме был для меня памятью о нем, и теперь, при словах Корделии, расставшейся с ним не далее как месяц назад, он наполнил все мои мысли. Когда мы вышли из детской, я сказал:
— Расскажите мне о Себастьяне.
— Завтра. Это длинная история. И вот назавтра, прогуливаясь по дорожкам осеннего парка, она мне рассказала:
— До меня дошли сведения, что он умирает. От одного бургосского журналиста, недавно побывавшего в Северной Африке. Речь шла о совершенно опустившемся человеке по фамилии Флайт, о котором говорили, будто он английский лорд; святые отцы из одного монастыря близ Карфагена подобрали его умирающим с голоду и взяли к себе. Вот что я услышала. Я знала, что это не может быть абсолютной правдой — как ни мало мы сделали для Себастьяна, по крайней мере его деньги ему пересылаются, — но выехала, как только смогла.
Все оказалось очень просто. Я, прежде всего, пошла в консульство, и там о нем было известно; он находился в лазарете при одной из миссий. По сведениям консула, в Тунис он приехал в один прекрасный день в автобусе из Алжира и хотел поступить в миссию медицинским братом. Отцы-миссионеры только посмотрели да него и принять отказались. И тогда он начал пить. Он жил в маленькой гостинице на краю арабского квартала. Я потом там была; это небольшой бар, а наверху несколько номеров. Хозяин там грек. Во всем доме пахнет горячим маслом, и чесноком, и перекисшим вином, и старой одеждой, и там собираются мелкие торговцы-греки, играют в шашки и слушают радио. Там он прожил больше месяца, пил греческую полынную водку, иногда уходил куда-то, они не знали куда, потом возвращался и снова пил. Они боялись, как бы с ним чего не случилось, и иногда незаметно ходили за ним следом, но он бывал только в соборе или же нанимал автомобиль и ездил в монастырь за городом. Его там любили. Его, как видите, по-прежнему любят, где бы и в каком бы состоянии он ни находился. Это его свойство, оно всегда останется при нем. Слышали бы вы, как о нем говорил хозяин гостиницы и все его домочадцы, говорили со слезами на глазах; они, несомненно, грабили его, как только могли, но при этом ухаживали за ним и старались, чтобы он обязательно что-нибудь ел. Их это страшно пугало — что он отказывался есть, что при таких деньгах он был худ как щепка. Кое-кто из тамошних завсегдатаев забрел в гостиницу, пока мы вели этот разговор на своеобразной разновидности французского языка, и все повторяли на всевозможные лады одно и то же — такой хороший господин, говорили они, больно было видеть, как он бедствует. Они очень дурно отзывались о его родных, которые допустили его до подобного состояния; у них, греков, такого не могло бы случиться, говорили они, и, вероятно, были правы.
Впрочем, все это было уже потом. Из консульства я отправилась прямо в монастырь и разговаривала с отцом игуменом. Это суровый старый голландец, пятьдесят лет проживший в Центральной Африке. Он рассказал мне то, что было известно ему: как Себастьян в один прекрасный день появился в монастыре, действительно с бородой и с чемоданом, и просился к ним в санитары. «Намерение его было совершенно серьезно, — подчеркнул игумен (Корделия изобразила его гортанный выговор; у нее еще в детстве, как я вспомнил, был дар подражания). — На этот счет, пожалуйста, не питайте ни малейших сомнений: он полностью в здравом уме, и намерения его совершенно серьезны». Он хотел, чтобы его отправили в джунгли, куда-нибудь как можно дальше, к первобытным племенам, к каннибалам. «У нас нет каннибалов», — сказал отец игумен. Тогда он сказал, хотя бы к пигмеям, или просто в какую-нибудь дикарскую деревню над рекой, или к прокаженным — к прокаженным лучше всего. Игумен ответил: «Прокаженных у нас много, но они живут в наших лепрозориях под наблюдением докторов и святых сестер. И там все благоустроено». Он помолчал, подумал и сказал, что, пожалуй, прокаженные — это не совсем то, что ему нужно, а нет ли у них где-нибудь небольшой церкви над рекой — ему непременно хотелось, чтобы была река, — где он мог бы присматривать за порядком в отсутствие священника. Игумен ответил: «Да, такие церкви у нас есть. Теперь расскажите мне о себе». — «О, я ничего собой не представляю», — сказал он. «Нам случается видеть людей со странностями, — Корделия снова обратилась к подражанию, — он, безусловно, человек со странностями, но намерение его было вполне серьезно». Отец игумен завел речь о послушничестве и учении и заметил: «Вы не молоды. И не кажетесь сильным». Он ответил: «Да. Я не хочу идти в учение. Не хочу делать ничего такого, что связано с учением». И отец игумен сказал: «Мой друг, вам самому нужен миссионер», — а он ответил: «Да, это верно». И он велел ему уйти.
Назавтра он пришел опять. Накануне он весь вечер пил. Он объяснил, что решил стать послушником и поступить в учение. «Но к несчастью, — сказал отец игумен, — есть такие вещи, которые для человека, работающего в джунглях, недопустимы. Одна из таких вещей — пьянство. Это не худший из пороков и, однако же, совершенно губительный, перечеркивающий все усилия. И я отослал его». Тогда он стал приходить по два три раза в неделю, неизменно пьяный, так что в конце концов игумен распорядился, чтобы привратник больше не впускал его. Я сказала: «Боюсь, он причинил вам очень много беспокойства», — но таких вещей они там, конечно, не понимают. Отец игумен просто ответил: «Я не видел, чем я могу ему помочь, кроме молитвы». Он очень святой старец и различает это в других.
— Что — это? Святость?
— О да, Чарльз, это вам надо понять в Себастьяне. Ну вот, потом в один прекрасный день они нашли Себастьяна у главных ворот без сознания. Он пришел из города пешком — обычно он нанимал автомобиль, — упал и пролежал там всю ночь. Сначала они подумали, что он просто опять пьян, но потом убедились, что он очень болен, и положили его в лазарет, и он все это время был там.
Я пробыла с ним две недели, пока не миновал кризис. Он выглядел ужасно, старик с лысиной и с растрепанной бородой, но такой же милый, как раньше. Его положили в отдельную комнату едва ли больше монашеской кельи, с распятием на выбеленной стене и с железной кроватью. Сначала он почти не мог говорить и нисколько не удивлялся моему появлению; потом удивился, но тогда уже не хотел говорить; и только уже перед самым моим отъездом рассказал мне обо всем, что с ним было. Почти все это касалось Курта, его немецкого друга. Вы его видели и все знаете сами. Наверно, отвратительная личность, но Себастьяну, из за того что он мог за ним ухаживать, было с ним хорошо. Он рассказывал, что одно время даже совсем уже было перестал пить, пока они жили вместе с Куртом. Курт болел, и у него была незаживающая рана. Себастьян выходил его. Потом, когда Курт поправился, они поехали в Грецию. Знаете, как в немцах иногда пробуждается чувство порядочности, когда они оказываются в классической стране. Казалось, на Курта это подействовало. Себастьян говорит, что в Афинах он почти приобрел облик человеческий. Но потом он попал в тюрьму — за что, я так толком и не поняла, как будто бы особой вины его в этом не было — произошла какая-то драка с каким-то официальным лицом. Как только он был интернирован, он попал в поле зрения германских властей. В это время они как раз свозили немецких подданных со всего света, чтобы сделать из них нацистов. Курт не хотел уезжать из Греции, но грекам он был не нужен, и потому вместе с другими искателями приключений он прямо из тюрьмы был под конвоем препровожден на пароход и отправлен на родину.
Себастьян поехал за ним и целый год не мог напасть на след. Но потом он его все же нашел в каком-то провинциальном городке, облаченного в форму штурмовика. Сначала он отказывался иметь с Себастьяном дело, изрыгал весь набор официальных словес о возрождении фатерланда, о сыновнем долге перед родиной, об обретении своего «я» в судьбах нации. Но это не пустило в нем глубоких корней. Шесть лет с Себастьяном обучили его большему, чем один год с Гитлером; в конце концов он от всего отказался, признал, что ненавидит Германию и что хочет выбраться оттуда. Не знаю, насколько это была просто тяга к легкой жизни, к праздности за Себастьянов счет, к теплым средиземноморским купаниям, прибрежным кафе, вычищенной обуви по утрам. Себастьян говорит, что этим все не исчерпывалось, что в Афинах Курт уже начал становиться человеком. Может быть, он и прав. Как бы то ни было, он решил сделать попытку вырваться. Но у него ничего не вышло. У него всегда, по словам Себастьяна, все кончалось плохо, что бы он ни затеял. Его поймали и посадили в концентрационный лагерь. Себастьяну не удалось поехать за ним, он не получал от него никаких известий и не мог даже узнать, в каком лагере он находится; так он провел в Германии еще почти год, опять много пил и однажды, будучи сильно пьян, услышал от собутыльника, который, как оказалось, только что приехал из того же лагеря, куда заключили Курта, что Курт в первую же неделю повесился в своем бараке.
На этом Европа для Себастьяна кончилась. Он возвратился в Марокко, где счастливо жил прежде, и понемногу перебирался по побережью из города в город, покуда однажды, в период протрезвления — запои у него бывают теперь почти через равные промежутки времени, — ему не пришла мысль податься к дикарям. И вот он обратился в монастырь.
Я не звала его домой, я понимала, что он не поедет, а он был еще слишком слаб, чтобы вступать в пререкания. Когда я уезжала, он был настроен вполне счастливо. Ему, разумеется, никогда не удастся поехать в джунгли или вступить в орден, но отец игумен возьмет его под свое покровительство. У них возникла мысль сделать его, так сказать, помощником привратника; в божьих домах всегда есть разные странные служители, люди, не сумевшие приспособиться ни к монастырской, ни к светской жизни. Я и сама, вероятно, отношусь к их числу. Но так как я не пью, меня легче использовать.
Мы достигли наиболее удаленной точки нашего пути — каменного мостика над плотиной в конце последнего и самого маленького пруда; внизу под нами высоко стоящие воды с шумом низвергались в реку. Дальше дорожка делала поворот и вела обратно к дому Мы остановились у парапета, глядя на темную воду.
— У меня была гувернантка, которая в один прекрасный день спрыгнула с этого моста и утонула.
— Да, я знаю.
— Откуда?
— Это было первое, что я о вас услышал, — еще до того, как мы познакомились.
— Как странно.
— Вы рассказали про Себастьяна Джулии?
— Только в основных чертах; не так подробно, как вам. Она ведь никогда не любила его так, как любим мы.
«Любим». Это прозвучало мне упреком; для Корделии у глагола «любить» не было прошедшего времени.
— Бедный Себастьян! — сказал я. — Как это грустно. Какой его ждет конец?
— Мне кажется, я могу вам точно сказать, Чарльз. Я знала и других таких, как он, и верю, что они очень близки и милы богу. Он так и будет жить, наполовину среди братии, наполовину сам по себе, со своей неизменной метлой и связкой ключей. Старшие из святых отцов будут его любить, молодые послушники будут над ним подсмеиваться. И все будут знать о его запоях — примерно раз в месяц он будет куда-то пропадать на два-три дня, и они будут кивать и говорить с улыбкой:
«Старина Себастьян снова закутил», — а вернувшись, встрепанный и понурый от стыда, будет несколько дней особенно горячо молиться. У него, наверно, появятся тайники в монастырском саду, где он будет держать бутылку и потихоньку к ней прикладываться. Всякий раз, когда понадобится сопровождать посетителей, говорящих по-английски, это будет поручаться ему, и гости будут им очарованы и станут расспрашивать о нем и, вероятно, услышат в ответ, что он из очень знатной у себя на родине семьи. Если он проживет долго, то станет для нескольких поколений миссионеров во всех концах земли незабываемым старым чудаком, связанным в их памяти со светлыми годами их ученья, и они будут поминать его в своих молитвах. У него разовьются свои маленькие ритуалы, свои привычки в общении с богом; его можно будет увидеть в храме в самое неожиданное время и не застать там, когда собираются все. Потом в одно прекрасное утро его подберут у ворот умирающим и во время соборования только по глазам увидят, что он еще в сознании. И поверьте, это не самый скверный способ прожить жизнь.
Я вспомнил юношу с плюшевым мишкой под сенью цветущих каштанов и сказал:
— Да. Но это трудно было предвидеть. Я надеюсь, он не страдает?
— Думаю, что страдает. Кто может себе представить, какие страдания испытывает человек с таким увечьем, как у него, — лишенный собственного достоинства, лишенный воли? Невозможно быть святым, не страдая. У него это приняло такую форму… Я видела столько страданий за последние годы; и столько еще предстоит всем нам в самом близком будущем. Это — родник любви… — И, снисходя к моему язычеству, она добавила: — Там очень красиво, где он сейчас живет, — белые аркады у моря, колокольня, зеленые грядки с овощами и монах, поливающий их на закате. Я засмеялся:
— Вы знали, что я не смогу понять?
— Вы и Джулия… — отозвалась она. А потом, уже по дороге к дому, вдруг спросила: — Скажите, когда вы вчера меня увидели, подумали вы: «Бедняжка Корделия, была такое милое дитя, а выросла некрасивая и набожная старая дева, посвятившая себя благотворительности»? Подумали вы: «Загубленная жизнь»?
Было не время кривить душой, и я ответил:
— Да. Подумал. Но сейчас я уже в этом не так уверен.
— Забавно, — сказала она. — Именно это слово пришло мне в голову при виде вас и Джулии. Когда мы вчера сидели с няней в детской, я подумала: «Загубленная страсть».
Она говорила с мягкой, еле уловимой насмешкой, унаследованной от матери, но в тот же вечер мне с болезненной явственностью вспомнились эти ее слова.
В тот вечер на Джулии был расшитый китайский халат, в котором она часто выходила в Брайдсхеде к столу, когда мы ужинали одни; тяжелые жесткие складки китайской ткани подчеркивали ее покойную грацию; стройная шея красиво поднималась из гладкого золотого круга, охватывающего ворот, ладони неподвижно покоились среди драконов у нее на коленях. Сколько вечеров я так любовался ею, не в силах отвести глаз, но сегодня, когда она сидела в двойном тусклом свете, между камином и затененной лампой, а у меня перехватывало дыхание от её красоты, мне вдруг подумалось: «Когда я уже видел ее вот такой же? Какое видение она мне сейчас напоминает?» И я вспомнил, что так она сидела тогда на пароходе перед штормом и казалась такой же, как сейчас, потому что сейчас к ней вернулось то, что я считал в ней утраченным безвозвратно, — магическая печаль, которая привлекла меня к ней, потерянный, погубленный вид, как бы говорящий: «Ну разве для этого я создана?»
Ночью, в темноте, я проснулся и долго лежал, перебирая в памяти разговор с Корделией. Мне вспомнилось, как я сказал: «Вы знали, что я не смогу понять». Сколько раз в жизни, думалось мне, я вот так останавливался вдруг на полном скаку, словно лошадь, испугавшаяся препятствия, и пятился, не слушаясь шпор, не решаясь даже вытянуть шею и обнюхать то, что встретилось на пути.
И еще другой образ представился мне — арктическое жилище и в нем одинокий зимовщик-охотник среди своих мехов при керосиновой лампе и горящем очаге; в хижине у него сухо и тепло и все убрано и чисто, а за стенами свирепствует последняя зимняя пурга и наметает сугроб к самой двери. Огромный белый груз в полном безмолвии налегает на бревна, засов дрожит в скобе; с каждой минутой все выше растет наметаемый в темноте сугроб, а когда, наконец, ветер стихнет и лучи проглянувшего солнца упадут на обледенелый склон и начнется медленное таяние, где-то высоко вверху сдвинется снежный пласт, заскользит, обрушится, набирая силу, и вот уже весь склон понесется вниз, и тогда маленькая, освещенная лампой хижина распахнется, расколется и покатится вниз, скрываясь из глаз, низвергаясь с лавиной в глубокое ущелье.
Глава пятая
Мой бракоразводный процесс — вернее, не мой, а моей жены — был назначен примерно в одно время со свадьбой Брайдсхеда. Дело о разводе Джулии должно было слушаться только на следующей сессии, а пока всеобщая чехарда — мои вещи перевозились из Дома священника ко мне на квартиру, вещи моей жены — из моей квартиры в Дом священника, вещи Джулии — из лондонского дома Рекса и из Брайдсхеда ко мне на квартиру, а Рекса — из Брайдсхеда в его лондонский дом и вещи миссис Маспрэтт — из Фалмута в Брайдсхед — была в полном разгаре, и все мы так или иначе чувствовали себя бездомными, как вдруг все приостановилось, и лорд Марчмейн с тем же вкусом к неуместным драматическим эффектам, каким отличался и его старший сын, объявил о своем намерении ввиду осложнившегося международного положения возвратиться в Англию и провести свои преклонные лета в отчем доме.
Единственным членом семьи, которому эта неожиданная перемена могла оказаться во благо, была Корделия, всеми заброшенная в недавней суматохе. Правда, Брайдсхед обратился к ней с формальным приглашением считать его дом своим, сколько ей будет желательно, но, когда стало известно, что ее невестка собирается сразу же после свадьбы поселить там на каникулы детей под надзором своей сестры и сестриной подруги, Корделия тоже решила переехать и собиралась поселиться в Лондоне на холостяцкой квартире. Теперь же она за одну ночь превратилась, подобно Золушке, во владычицу замка, а ее брат с женой, которые со дня на день должны были стать там полноправными хозяевами, оказались без крыши над головой; документы о передаче недвижимого имущества, переписанные набело и подготовленные на подпись, были свернуты в трубку, перевязаны веревочкой и спрятаны в одну из черных жестяных коробок, хранящихся в Линкольн-Инне. Миссис Маспрэтт чувствовала себя уязвленной; она вовсе не была честолюбивой женщиной, ее бы вполне удовлетворило что-нибудь гораздо менее роскошное, чем Брайдсхед, но ей так хотелось, чтобы у ее детей было на рождественские каникулы уютное пристанище. Дом в Фалмуте стоял пустой и объявленный к продаже; более того, миссис Маспрэтт, расставаясь со своим прежним обиталищем, естественно, не воздержалась от кое-каких гордых высказываний о своем будущем доме, так что о возврате в Фалмут вообще не могло быть речи. Она вынуждена была спешно вынести свою мебель из бывшей комнаты леди Марчмейн в старый каретный сарай и снять меблированную виллу в Торквее. Она не была, как я уже говорил, честолюбивой женщиной, но, когда тебе внушают такие надежды, а потом вдруг они лопаются как мыльный пузырь, это неприятно. Люди в деревне, занятые приготовлениями к встрече молодоженов, срочно заменяли на транспарантах букву «Б» на букву «М» и на остриях гербовых коронок помещали шарики и добавляли земляничные листья. Все готовились к возвращению лорда Марчмейна.
Известие о его предстоящем приезде прежде всего прибыло его поверенным, потом Корделии, потом Джулии и мне — это были быстро следовавшие одна за другой телеграммы самого противоречивого содержания. Лорд Марчмейн приедет ко дню свадьбы; он приедет после свадьбы, повидавшись с лордом и леди Брайдсхед по пути в Париж; он будет ждать их в Риме; он вообще не может никуда ехать ввиду нездоровья; он уже выезжает; у него неприятные воспоминания о зиме в Брайдсхеде, поэтому он приедет только к исходу весны, когда установится погода и будет отремонтировано отопление; он приезжает один; он берет с собой своих итальянских слуг; он желает, чтобы о его приезде нигде не сообщалось, и будет вести самую замкнутую жизнь; он собирается дать бал. Наконец была назначена дата в январе, которая и оказалась верной.
Несколькими днями раньше прибыл Плендер. В деле этом были свои сложности. Плендер не принадлежал к Брайдсхедскому дому; он был денщиком лорда Марчмейна в ополчении и с Уилкоксом виделся только однажды по деликатному делу вывоза вещей своего хозяина, когда было решено не возвращаться с войны домой. После этого Плендер считался камердинером и официально сохранял этот статус поныне, однако в последние годы он привлек к делу своего рода вице-камердинера, слугу-швейцарца, на которого возлагалась забота о гардеробе, а также, когда необходимо, помощь по хозяйству, сам же превратился в некоего мажордома среди непостоянного, летучего штата слуг; по телефону он даже рекомендовался иногда секретарем. И теперь им с Уилкоксом предстояла трудная задача найти общий язык.
Однако, по счастью, они понравились друг другу, и все трудности были урегулированы в серии трехсторонних переговоров с Корделией. Плендер и Уилкокс получили оба звание камер-лакеев с одинаковыми полномочиями, наподобие конногвардейцев и лейб-гвардейцев, причем областью деятельности Плендера оставались личные покои его светлости, а Уилкоксу предоставлялись парадные апартаменты; старший ливрейный лакей получал черную ливрею и производился в дворецкие, а швейцарец по приезде должен был остаться в партикулярном платье и становился полным лакеем; кроме того, предусматривалось всеобщее повышение жалованья в соответствии с новыми титулами, и все были удовлетворены.
Мы с Джулией, уже простившись месяц назад с Брайдсхедом, как мы думали, навсегда, возвратились, чтобы встретить лорда Марчмейна. В день прибытия Корделия поехала на вокзал, мы же остались и должны были приветствовать его дома. День был хмурый, дул порывистый ветер. Дома в деревне и павильоны в парке были украшены; сначала предполагалось, что вечером разведут костер, а на террасе будет играть деревенский духовой оркестр, но от этих планов отказались, и только флаг, который не поднимали двадцать пять лет, развевался над куполом и хлопал на ветру в низком свинцовом небе. Пусть хриплые голоса беды надсадно кричали в микрофоны Европы и станки военных заводов гудели от напряжения — здесь приезд лорда Марчмейна в родные края все еще оставался событием первостепенного значения.
Поезд прибывал в три часа. Мы с Джулией ждали в гостиной, и вот Уилкокс, державший на проводе начальника железнодорожной станции, объявил: «Поезд показался!» — и еще через минуту: «Поезд у перрона! Его светлость на пути домой». Мы вышли на крыльцо и стали ждать в окружении старших слуг. Вскоре из-за поворота аллеи показался «роллс-ройс», за ним на почтительном расстоянии следовали два фургона. Кортеж подъехал и остановился; первой вышла Корделия, за ней Кара; потом произошла заминка, шоферу был передан плед; подоспевшему лакею — трость; и вот из машины медленно высунулась нога. У дверцы в это время уже стоял Плендер; другой слуга — камердинер-швейцарец — выскочил из фургона; вдвоем они вынули лорда Марчмейна из машины и поставили на ноги; он протянул руку за тростью, схватил ее и несколько мгновений постоял, набираясь сил для восхождения по плоским ступеням парадного крыльца.
Джулия тихо ахнула и коснулась моей руки. Мы видели его девять месяцев назад в Монте-Карло, и тогда он был прямой и величественный господин, почти не изменившийся с тех пор, как я познакомился с ним в Венеции. Теперь это был старик. Плендер говорил нам, что его хозяин в последнее время недомогает; к этому он нас не подготовил.
Лорд Марчмейн стоял, высохший и согбенный под тяжестью шубы, белый шарф выбился у него из-под воротника, лоб закрывал низко надвинутый суконный картуз, под ним белело морщинистое, старое лицо с покрасневшим от холода носом; глаза слезились, но не от избытка чувств, а от восточного ветра; он тяжело дышал. Кара заправила ему под воротник концы шарфа и что-то шепнула на ухо. Тогда он поднял руку в детской серой вязаной варежке и устало помахал собравшимся на крыльце; потом очень медленно, глядя себе под ноги, поднялся по ступеням и вошел в дом.
С него сняли шубу, картуз, и шарф, и меховую жилетку, которая на нем была под шубой; лишенный этих оболочек, он казался совсем усохшим, но зато более элегантным; неприглядность полного изнеможения оставила его. Кара поправила ему галстук; он вытер глаза большим клетчатым платком и, опираясь на трость, прошел к камину.
У стены рядом с камином стоял высокий геральдический стул из тех, что были расставлены в прихожей, наверное только ради замысловатых гербов на прямых спинках, — неудобные, с плоскими сиденьями, на которых никто, даже усталый лакей в передней, ни разу не присаживался со дня их появления в доме; здесь и уселся лорд Марчмейн и еще раз утер глаза.
— Холодно, — проговорил он. — Я забыл, как в Англии холодно. С непривычки совсем расклеился.
— Не угодно ли чего-нибудь, ваша светлость?
— Нет, благодарю. Кара, где эти проклятые пилюли?
— Алекс, ведь доктор сказал, не больше трех в день.
— К черту доктора. Я совсем расклеился.
Кара вынула из сумочки синий пузырек, и лорд Марчмейн принял таблетку. Это, казалось, его оживило. Он остался сидеть на стуле, все так же вытянув перед собою длинные ноги и положив подбородок на костяную рукоятку трости, стоящей между колен, но теперь он начал замечать нас, здороваться и отдавать распоряжения.
— Боюсь, я сегодня не совсем в форме; переезд меня вымотал. Надо было переночевать в Дувре. Уилкокс, какие комнаты для меня приготовлены?
— Ваши прежние, милорд.
— Не подойдут. Покуда я не встану на ноги. Слишком много ступеней. Нужно на первом этаже. Плендер, приготовьте мне постель на первом этаже.
Плендер и Уилкокс обменялись тревожными взглядами.
— Очень хорошо, милорд. Какую же комнату вы желаете? Лорд Марчмейн задумался на мгновение.
— Китайскую гостиную. И, Уилкокс, «королевино ложе».
— Китайскую гостиную, милорд? «Королевино ложе»?
— Да, да. Возможно, мне придется провести там некоторое время, ближайшие две-три недели.
Китайской гостиной на моей памяти никогда не пользовались; в нее и войти-то по-настоящему было нельзя дальше тесного выгороженного веревками пятачка сразу за дверью, где толпились посетители в те дни, когда в дом открывался доступ для публики; это был нежилой роскошный зал-музей чиппендельской резьбы, фарфора, лака и разрисованных драпировок; «королевино ложе» тоже было музейным экспонатом под огромным бархатным балдахином, как в соборе святого Петра. Неужели, подумал я, лорд Марчмейн еще в солнечной Италии задумал для себя этот пышный смертный одр? Или мысль эта пришла ему в голову под холодным, косым дождем во время нескончаемого, мучительного путешествия? А может быть, она появилась только сию минуту, как некое внезапно пробудившееся воспоминание детства, как давняя мечта — «Вот стану взрослым, буду спать на „королевином ложе“ в Китайской гостиной», — как апофеоз взрослого великолепия?
Едва ли что-либо могло произвести в доме такой же переполох. День, который должен был стать торжественным, оказался наполнен самой утомительной суетой; горничные растапливали камин, снимали чехлы, приносили простыни; мужчины в фартуках, никогда прежде не появлявшиеся в доме, двигали мебель; были приглашены столяры из деревни, чтобы внести и поставить «королевино ложе». Его спускали частями по парадной лестнице, и это продолжалось с перерывами до самого вечера: тяжелые спинки, изрезанные завитками в стиле рококо; обтянутые бархатом карнизы; крученые, с позолотой и бархатной обивкой колонны, служащие подпорками для балдахина; перекладины неполированного дерева, не предназначенные для глаза и выполняющие невидимые конструктивные функции под прикрытием драпировок; плюмажи из раскрашенных перьев, торчащие из вызолоченных страусовых яиц, которые осеняли сверху балдахин; и, наконец, матрацы, каждый из которых, надрываясь, тащило по четыре человека. Лорду Марчмейну словно придавала силы вся эта сумятица, порожденная его капризом; он сидел у огня, наблюдая за происходящим, а мы стояли перед ним полукругом — Кара, Корделия, Джулия и я — и беседовали с ним.
Краска снова появилась у него на лице, и в глазах опять загорелся свет.
— Брайдсхед и его жена обедали со мной в Риме, — рассказывал он. — Поскольку мы здесь в узком семейном кругу, — и его взгляд иронически скользнул с Кары на меня, — я могу говорить без обиняков. Я нахожу все это достойным сожаления. Ее прежний супруг был, насколько мне известно, моряком и, видимо, в связи с этим не отличался взыскательностью, но как мог мой сын в зрелом возрасте тридцати восьми лет, имея к своим услугам, если только положение в Англии не изменилось самым коренным образом, весьма широкий выбор, остановить его на… э-э-э… видимо, я должен называть ее так, э-э-э… Берил… — И он красноречиво оборвал фразу.
Лорд Марчмейн не выказывал намерения куда-либо перебираться из холла, поэтому немного погодя мы придвинули стулья — те самые геральдические стулья с прямыми спинками, поскольку вся прочая обстановка здесь была чересчур массивной, — и расселись вокруг.
— Я едва ли по-настоящему встану на ноги до наступления лета, — сказал он. — И полагаюсь на вас четверых — вы будете меня развлекать.
В ту минуту мы были бессильны развеять воцарившееся уныние, наоборот, он держался среди нас бодрее всех.
— Расскажите, — предложил он, — как Брайдсхед познакомился со своей будущей супругой. Мы рассказали что знали.
— Спичечные коробки, — сказал он, — Спички. По-моему, она уже не способна родить.
Нам подали чай прямо к камину.
— В Италии, — рассказывал лорд Марчмейн, — никто не верит, что будет война. Считается, что все «устроится». Джулия, ты, как я полагаю, больше не имеешь доступа к политическим новостям? Кара вот у нас, по счастью, британская подданная. Это обстоятельство она, как правило, не склонна афишировать, но оно еще, может быть, окажется кстати. Официально она именуется миссис Хикс, не правда ли, дорогая? О Хиксе мы знать ничего не знаем, но будем ему очень обязаны, если дело дойдет до войны. А вы, — перенес он огонь на меня, — вы, я не сомневаюсь, станете штатным рисовальщиком?
— Нет. Я как раз сейчас веду переговоры о месте офицера Специального запаса.
— О, напрасно, напрасно. Вам непременно надо быть рисовальщиком. В прошлую войну у меня был один при эскадроне, несколько недель — пока мы не вышли на передовую.
Эта язвительность в нем была новостью. Я всегда ощущал под пластом его учтивых манер каменный костяк недоброжелательства, теперь же он проступил, как нос, лоб, подбородок и скулы на его обтянутом кожей лице.
«Королевино ложе» было готово только с наступлением темноты, и мы отправились посмотреть на него, возглавляемые лордом Марчмейном, который теперь вполне бодро шагал через анфиладу комнат.
— Поздравляю. Все выглядит великолепно. Уилкокс, помнится, я видел когда-то серебряный кувшин с тазом — они, по-моему, стояли в комнате, которую мы зовем Кардинальской гардеробной; что, если поставить их вот на этой консоли? Теперь можете прислать ко мне Плендера и Гастона, а багаж подождет до завтра, достаточно только дорожного несессера и моих ночных вещей. Плендер знает. Если вы теперь оставите меня с Плендером и Гастоном, я лягу. Увидимся позднее; вы будете ужинать здесь со мною и заботиться о том, чтобы я не скучал.
Мы направились к двери, но он окликнул меня.
— Живописное ложе, правда?
— Да, очень.
— Не хотите нарисовать? И озаглавить: «На смертном одре»?
— Да, — подтвердила Кара, — он вернулся домой умирать.
— Но ведь днем, когда вы только приехали, он так уверенно говорил, что к весне поправится.
— Это потому, что ему было очень худо. В полном рассудке он сознает, что умирает, и мирится с этим. Его болезнь идет со спадами и подъемами; один день, иногда даже несколько дней подряд он бодр и оживлен, и тогда он готов к смерти, потом ему становится худо, и тогда он боится. Не знаю, как получится дальше, когда ему будет становиться все хуже и хуже. Это покажет время. Римские доктора не дают ему и года. Завтра, по-моему, должен приехать кто-то из Лондона, от него мы узнаем больше.
— Но что с ним?
— Сердце. Какое-то ученое слово у него на сердце. Он умирает от ученого слова.
Вечером лорд Марчмейн был в отличном расположении духа; комната приобрела хогартовский вид — у гротескного «китайского» камина стоял стол, накрытый на четыре персоны, а на кровати, утопая в подушках, полулежал хозяин, попивая шампанское, отведывая, расхваливая и отставляя многочисленные кушанья, приготовленные по случаю его возвращения домой. В честь такого события Уилкокс выставил на стол золотой сервиз, который на моей памяти никогда не употреблялся; и это золото, и зеркала в золоченых рамах, и резьба по дереву, и пышные драпировки огромной кровати, и богдыханский халат Джулии вместе создавали впечатление рождественской пантомимы, какой-то пещеры Аладдина.
Только под самый конец, когда мы уже собрались уходить, бодрость оставила его.
— Я не усну, — ворчливо сказал он. — Кто будет сидеть со мной? Кара, carissima, ты совсем без сил. Ты, Корделия, не останешься ли пободрствовать часок в этой Гефсимании?
Наутро я справился у нее, как прошла ночь.
— Он заснул почти сразу же. В два я зашла к нему развести огонь; свет горел, но он опять спал. Очевидно, он просыпался и зажег лампу; для этого ему надо было встать с постели. Я думаю, что он боится темноты.
Естественно получилось, что Корделия с ее лазаретным опытом взяла на себя уход за отцом. Доктора, осматривавшие в тот день лорда Марчмейна, по собственному почину обращались со своими указаниями к ней.
— Пока ему не станет хуже, — объявила она, — я и камердинер управимся сами. Без нужды не будем приглашать в дом сиделок.
На этой стадии болезни докторам нечего было рекомендовать, кроме покоя и болеутоляющих на случай приступа.
— Сколько это продлится?
— Леди Корделия, я знаю людей, благополучно доживших до весьма преклонного возраста, которым доктора тридцать лет назад отводили не больше недели. Медицина научила меня одному: никогда не пророчествовать.
Чтобы сказать ей это, оба эскулапа проделали долгий путь из Лондона в Брайдсхед; здесь их ждал местный врач, получивший те же указания, но в терминах сугубо профессиональных.
Вечером лорд Марчмейн вернулся к разговору о своей новой невестке; собственно, он держал ее в уме весь день, нет-нет да и роняя какой-нибудь язвительный намек; но теперь, откинувшись на подушки, он разговорился о ней прямо.
— Я не был прежде особенно заражен домашним идолопоклонством, — рассуждал он, — однако признаюсь, мысль, что место, некогда принадлежавшее в этом доме моей матери, должна занять… э-э-э… Берил, вызывает у меня содрогание. Почему эта гротескная чета должна доживать здесь свой век в бездетности, на погибель роду и дому? Не скрою от вас, Берил мне решительно антипатична.
Может быть, причина в том, что наше знакомство состоялось именно в Риме. Кто знает, не было бы все иначе в каком-нибудь другом месте? Хотя не представляю себе, где бы я мог с ней встретиться и не испытать неприязни? Мы обедали у Раньери — это тихий, маленький ресторанчик, где я бываю уже много лет, — вы, без сомнения, знаете его. Берил заняла собою всю залу. Угощал, разумеется, я, хотя послушать, как Берил пичкала моего сына, и можно было подумать как раз наоборот. Брайдсхед с детства страдает склонностью к обжорству; жена, которая заботится о его благе, должна была бы ограничивать его. Впрочем, это неважно.
Она, без сомнении, слышала обо мне как о человеке, ведущем беспутную жизнь. Ее обращение со мною я не могу назвать иначе, как игривым. Старый греховодник — вот кем я был в ее глазах. Вероятно, ей приходилось иметь дело со старыми гуляками-адмиралами, и она знает, как с ними ладить… Никогда бы не смог воспроизвести ее манеру разговора. Приведу только один пример.
Утром они были на аудиенции в Ватикане, получали благословение своему браку — я не очень-то прислушивался, нечто в этом духе, как я понял, уже когда-то происходило — с предыдущим супругом, при предыдущем папе. Она довольно живо описала, как в тот раз она была допущена вместе с целой процессией молодоженов, главным образом итальянцев, самых разных сословий, кое-кто из совсем простых девушек был прямо в подвенечных платьях, и как все разглядывали друг друга, молодые мужья сравнивали достоинства своих жен и так далее. И в конце она сказала: «На этот раз мы, естественно, были одни, и знаете ли, лорд Марчмейн, какое у меня было чувство? Будто это я привела под благословение свою невесту».
Это прозвучало неприлично. Я еще не вполне понял, что именно она хотела сказать. Не было ли здесь намека на несомненную девственность моего сына, как вы думаете? По-моему, это вполне правдоподобно. И вот в любезностях подобного рода мы и провели вечер.
По-моему, здесь она будет не на месте, как вам кажется? Кому же мне оставить Брайдсхед? Ведь ограничения на порядок наследования кончились на мне. Себастьян, увы, исключается. Кто хочет этот дом? Quis? Может быть, ты, Кара? Да нет, что я, конечно, нет. Корделия? По-моему, лучше всего будет, если я оставлю его Джулии и Чарльзу.
— Что ты, папа? Он принадлежит Брайди.
— И… Берил? В ближайший день приглашу Грегсона, и мы посмотрим, как обстоят дела. Давно пора подновить мое завещание — в нем уйма несообразностей и анахронизмов… Право, мне нравится мысль поселить здесь Джулию; ты так красива сегодня, моя дорогая, так красива всегда; гораздо, гораздо уместнее.
Вскоре после этого он действительно послал в город за своим поверенным, но в день его приезда лорд Марчмейн лежал в припадке и видеть его не смог. «Времени еще много, — произнес больной, мучительно ловя ртом воздух. — Как-нибудь в другой раз. Когда я буду чувствовать себя лучше». Но мысль о выборе наследника не покидала его, и он часто заговаривал о том времени, когда мы с Джулией будем мужем и женой и станем владельцами Брайдсхеда.
— Как ты думаешь, он в самом деле хочет оставить его нам? — спросил я Джулию.
— Думаю, что да.
— Но это было бы чудовищно по отношению к Брайди.
— Ты так считаешь? А по-моему, он не очень дорожит этим домом. Я вот дорожу, как ты знаешь. Им с Берил было бы гораздо уютнее в каком-нибудь доме поменьше.
— Значит, ты собираешься согласиться?
— Конечно. Папино право завещать Брайдсхед кому он захочет. Мне кажется, нам с тобою было бы здесь очень хорошо.
Это открывало неожиданные виды — подобно тому как когда-то, в мой первый приезд с Себастьяном, поворот аллеи вдруг открыл вид на уединенную долину с цепочкой прудов, уходящих вниз и вдаль, а на переднем плане высился старинный дом, и весь остальной мир был отринут и забыт; здесь был свой мир — мир тишины, любви и очарования, греза воина на дальнем бивуаке; так, наверное, вдруг открываются в пустыне высокие колокольни храма после многих дней голода и ночей шакальего лая. Должен ли я был упрекать себя, если это видение порою захватывало меня?
Недели недуга тянулись своим чередом, и вся жизнь в доме зависела от колеблющегося состояния больного. Были дни, когда лорд Марчмейн, одетый, стоял у окна или, тяжело опираясь на руку слуги, бродил от камина к камину по комнатам нижнего этажа; когда приходили и уходили посетители, соседи, и служащие в имении, и какие-то люди с делами из Лондона; когда вскрывались бандероли с новыми книгами и о них велись оживленные разговоры; когда в Китайскую гостиную вкатывали рояль; однажды на исходе февраля, в неожиданно солнечный, единственный погожий день, он даже распорядился подать машину, вышел в холл, был облачен в шубу и уже дошел до входной двери. Но потом вдруг раздумал, как-то обмяк, пробормотал: «Не сегодня. Позже. Как-нибудь летом», оперся на руку слуги и был препровожден к своему креслу. В другой раз ему вдруг вздумалось совсем перебраться из Китайской гостиной, потому-де, что chinoiserie[55] мешает ему спать — он по ночам не гасил света, — успел отдать подробные распоряжения о переносе всего, что ему может быть нужно, в Расписную гостиную, однако снова в последнюю минуту пал духом, все распоряжения отменил и остался на прежнем месте.
Но были дни, когда весь дом, притихнув, слушал, как лорд Марчмейн, сидя высоко в подушках, с трудом, мучительно дышит. Правда, и тогда он хотел, чтобы мы непременно были рядом; одиночество и днем и ночью было ему невыносимо; когда он не мог говорить, его взгляд следовал за нами по комнате, и, если кто-нибудь выходил, вид его выражал беспокойство, и Кара, часами сидевшая с ним об руку прямо на кровати, успокаивала его, говоря: «Ничего, ничего, Алекс, она сейчас придет».
Возвратился из свадебного путешествия Брайдсхед с женой и провел с нами несколько дней; лорду Марчмейну в это время опять сделалось хуже, и он отказался допустить их к себе. Берил была здесь впервые, и никого не могло удивить, что она выказывала естественный интерес к тому, что чуть было уже не стало, а теперь вновь обещало вскоре стать ее домом. Берил этого естественного интереса не скрывала, за время пребывания в Брайдсхеде осмотрела все довольно тщательно. Среди беспорядка, воцарившегося вокруг в связи с болезнью лорда Марчмейна, ей, очевидно, многое представилось запущенным и требующим хозяйского вмешательства, и она несколько раз ссылалась в разговоре на то, как ведутся столь же обширные хозяйства в других местах, где ей случалось бывать. Днем Брайдсхед возил ее с визитами к арендаторам, по вечерам же она бодрым и самоуверенным тоном толковала со мною о живописи, с Корделией о госпиталях и с Джулией о туалетах. Тень предательства, угроза краха их справедливых ожиданий — все это ощущалось мною, но не ими. Я испытывал смущение в их обществе, но для Брайдсхеда это было не ново; в маленьком поле неловкости, всегда образовывавшемся вокруг него, моя виноватость осталась незамеченной.
Постепенно становилось очевидно, что лорд Марчмейн их видеть не намерен. Брайдсхед без супруги был допущен для краткого прощания, после чего они отбыли. «От нашего пребывания здесь нет никакой пользы, — пояснил Брайдсхед. — И оно болезненно для Берил. Если станет хуже, мы приедем».
Приступы делались длительнее и наступали все чаще; была приглашена сиделка. «В жизни не видела такой комнаты, — возмутилась она. — Ни в одном доме нет ничего подобного. Подумать только, никаких удобств». Она сделала попытку переместить больного наверх, где в кранах — как она привыкла — была вода, где можно было оборудовать комнатку и для нее самой и где стояли «нормальные» кровати, которые можно обойти и дотянуться до пациента; но лорд Марчмейн не пожелал об этом и слышать. Еще через некоторое время, когда ночи и дни стали для него неразличимы, появилась и вторая сиделка; из Лондона опять приехали специалисты; был прописан еще один сильнодействующий препарат, но, видно, тело больного уже устало от лекарств и никак не отзывалось на новое лечение. А вскоре хороших полос вообще больше не стало, а были только короткие колебания в скорости, с какой шло ухудшение.
Вызвали Брайдсхеда. Были пасхальные каникулы, и Берил осталась со своими детьми. Он приехал один и, молча постояв несколько минут перед отцом, который молча сидел и смотрел на него, вышел из комнаты и, возвратясь в библиотеку, где мы все сидели, сказал: «Папе нужен священник».
Тема эта затрагивалась не впервые. Еще раньше, вскоре по приезде лорда Марчмейна домой, ему нанес визит священник местного прихода (после того, как закрыли Брайдсхедскую часовню, в Мелстеде появилась новая приходская церковь). Тогда Корделия выпроводила его с вежливыми извинениями, но после его ухода сказала: «Еще не время. Он еще папе не нужен».
При этом присутствовали Джулия, Кара и я; каждому из нас было что сказать по этому поводу; каждый из нас начал было что-то говорить, потом раздумал, и сказано ничего не было. В разговорах вчетвером к этой теме больше не возвращались, но с глазу на глаз со мной Джулия сказала:
— Чарльз, я предвижу серьезные церковные затруднения.
— Неужели они не дадут ему умереть спокойно?
— Для них «спокойно» — это нечто совсем другое.
— Это было бы надругательством. Никто не мог бы яснее доказать всей своей жизнью собственного отношения к религии. И вот теперь, когда ум его слабеет и сил бороться становится все меньше, они сбегутся и объявят, что он раскаялся на одре смерти. Раньше я все же питал какое-то уважение к их церкви. Но если они это сделают, я буду знать: все, что говорят о них глупые, тупые люди, правда! Это действительно сплошное суеверие и мошенничество. — Джулия молчала. — Ты не согласна? — Джулия все так же хранила молчание. — Ты разве не согласна?
— Не знаю, Чарльз. Просто не знаю.
С тех пор, хотя вслух ничего не произносилось, я чувствовал, что эта проблема постоянно присутствует и растет с каждой неделей болезни лорда Марчмейна, я сознавал это, когда Корделия уезжала по утрам к ранней обедне, и потом, когда вместе с ней стала ездить Кара: я видел маленькое облачко, не более человеческой ладони величиной, которое должно было разрастись и разразиться штормом.
И вот теперь Брайдсхед на свой неуклюжий, беспощадный лад высказал все прямо.
— Ах, Брайди, ты думаешь, он согласится? — вздохнула Корделия.
— Об этом я позабочусь, — ответил Брайдсхед. — Завтра же приведу к нему отца Маккея.
Облака сгущались, но гроза еще не разразилась: никто из нас не сказал ни слова. Кара и Корделия вернулись к больному; Брайдсхед поискал себе книгу, нашел и оставил нас.
— Джулия, — сказал я, — как нам остановить этот балаган?
Она сначала не ответила, потом, помолчав, спросила:
— Зачем?
— Ты знаешь не хуже меня. Это… это просто недостойная затея.
— Кто я такая, чтобы возражать против недостойных затей? — грустно сказала она. — Да и какой вред от этого может быть? Давай спросим доктора.
Мы спросили доктора, он ответил:
— Трудно сказать. Конечно, это может его встревожить; с другой стороны, я знал случаи, когда это оказывало на больного удивительно успокаивающее действие, а в одном случае даже имело несомненный стимулирующий эффект. И, как правило, это служит большим утешением для близких. Так что, мне кажется, решение здесь за лордом Брайдсхедом. Имейте в виду, что оснований торопиться нет никаких. Сегодня лорд Марчмейн очень слаб; завтра он может опять почувствовать себя вполне сносно. Разве в таких случаях не принято немного повременить?
— От него не очень-то много помощи, — сказал я Джулии, когда мы ушли.
— Помощи? Право, я не вполне понимаю, почему ты так хлопочешь о том, чтобы мой отец не получил последнего причастия.
— Потому что это сплошное шаманство и лицемерие.
— Да? Во всяком случае, оно существует уже две тысячи лет. И непонятно, какой смысл вдруг теперь негодовать по этому поводу. — Голос ее зазвенел; последние месяцы она легко приходила в ярость. — Бога ради, напиши в «Тайме», выйди и произнеси речь в Гайд-парке, устрой уличные беспорядки под лозунгом «Долой папизм!». Только меня, пожалуйста, оставь в покое. Какое дело тебе или мне — повидается ли мой отец со священником здешнего прихода?
Мне были знакомы эти приступы озлобления у Джулии, как тогда, при луне у фонтана, и я смутно различал даже их истоки; я знал, что слова тут бессильны. Да я и не мог произнести никаких слов, ибо ответ на ее вопрос еще не созрел, еще покоился в моей душе туманным предчувствием, что здесь решается судьба не одной души, что на высоких склонах уже пришли в движение пласты снега.
На следующее утро к завтраку спустились Брайдсхед и я; с нами завтракала ночная сиделка, только что освободившаяся с дежурства.
— Он сегодня гораздо бодрее, — сообщила она. — Прекрасно спал почти три часа. Когда пришел Гастон с бритвенным прибором, он был очень разговорчив.
— Превосходно, — сказал Брайдсхед. — Корделия поехала к обедне. Она привезет отца Маккея еще к завтраку.
С отцом Маккеем я встречался несколько раз; это был немолодой коренастый и добродушный ирландец из Шотландии, и он имел обыкновение каждый раз, когда мы встречались, задавать мне такие вопросы: «Как вы находите, мистер Райдер, художник Тициан более артистичен, чем художник Рафаэль, или нет?»; более того, он запоминал мои ответы, приводя меня этим в еще большее смущение: «Если вернуться, мистер Райдер, к тому, что вы сказали в прошлый раз, когда я имел удовольствие вас видеть, и беседовать с вами, правильно ли будет заключить, что художник Тициан…» И под конец обычно делал замечание наподобие нижеследующего: «Да, это великое благо для человека — иметь такие таланты, как у вас, мистер Райдер, и время, чтобы развивать их». Корделия прекрасно ему подражала.
В это утро он плотно позавтракал, проглядел заголовки в газете и наконец профессионально бодрым голосом произнес:
— А теперь, лорд Брайдсхед, наш страдалец уже, наверное, готов повидаться со мной, как вы думаете?
Брайдсхед повел его к больному; Корделия пошла следом, и я остался за столом один. Не прошло и минуты, как за дверью опять послышались голоса всех троих:
— …могу только извиниться.
— …бедный страдалец. Поверьте мне, все потому, что он увидел новое лицо, в этом все дело — в неожиданности. Это так понятно.
— …отец, простите… привезти вас так издалека, и вот…
— Не думайте об этом, леди Корделия. Да в меня бутылки швыряли. Дайте ему время. Я знаю случаи, когда и хуже бывало, а как прекрасно умирали. Молитесь за него… Я приеду еще… а теперь, если позволите, я нанесу краткий визит миссис Хокинс. Да, конечно, я прекрасно знаю к ней дорогу.
Корделия и Брайдсхед вошли в столовую.
— Как я понимаю, визит к больному не увенчался успехом?
— Не увенчался. Корделия, ты отвезешь отца Маккея домой, когда он спустится от няни? Я должен позвонить Берил и узнать, когда я ей буду нужен.
— Брайди, это было ужасно. Что нам теперь делать?
— Мы сделали все возможное на сегодняшний день. — И Брайдсхед вышел из комнаты.
Лицо Корделии было серьезно; она взяла с тарелки кусочек ветчины, обмакнула в горчицу и съела.
— Все Брайди, — сказала она. — Я знала, что ничего не выйдет.
— Что произошло?
— Хотите знать? Мы вошли к нему гуськом, Кара читала папе газету. Брайди сказал: «Я привел к тебе отца Маккея», а папа сказал: «Отец Маккей, боюсь, вас привели сюда по недоразумению. Я не при смерти, и я уже двадцать пять лет не являюсь практикующим членом вашей церкви. Брайдсхед, покажи отцу Маккею, как отсюда выйти». И тогда мы трое сделали поворот кругом и вышли, и я слышала, как Кара возобновила чтение газеты, вот, дорогой Чарльз, и все.
Я принес это известие Джулии, которая еще лежала в постели; здесь же стоял поднос из-под завтрака и валялись газеты и конверты.
— Камлание не состоялось, — сказал я. — Шаман отбыл восвояси.
— Бедный папа.
— Брайди остался с носом.
Я был очень доволен. Я оказался прав, а все остальные неправы; истина восторжествовала; опасность, которая нависла над Джулией и мною с того самого вечера у фонтана, теперь была устранена и, может быть, развеяна навеки; и вдобавок ко всему — теперь я могу признаться — я тайно праздновал еще одну невысказанную, невыразимую, нечестную маленькую победу. Можно было предположить, что события этого утра воздвигли между лордом Брайдсхедом и его законным наследием новые преграды.
И в этом я не ошибся; было послано за представителем лондонской адвокатской конторы; дня через два он действительно явился, и в доме стало известно, что лорд Марчмейн сделал новое завещание. Но я глубоко заблуждался, когда думал, что религиозным разногласиям положен конец; накануне отъезда Брайдсхеда после ужина они вспыхнули с новой силой.
— …папины точные слова были: «Я не при смерти, я уже двадцать пять лет не являюсь практикующим членом церкви».
— Не «церкви», а «вашей церкви».
— Не вижу разницы.
— Разница огромная.
— Брайди, ведь ясно, что он хотел сказать.
— По-моему, он хотел сказать то, что сказал. Что он не имеет обыкновения причащаться регулярно и, поскольку в данный момент еще не умирает, не видит причины изменять своим привычкам — пока что.
— Это крючкотворство.
— Почему люди считают стремление к точности крючкотворством? Он ясно выразился, что не согласен видеть священника именно в тот день, но согласится, когда будет при смерти.
— Пусть бы мне кто-нибудь объяснил, — сказал я, — в чем, собственно, смысл этого, таинства? Значит ли оно, что, если человек умрет в одиночестве, он попадет в ад, а если священник помажет его маслом…
— О, дело не в масле, — возразила Корделия. — Масло — для исцеления.
— Еще того страннее — ну, не важно, что бы ни делал священник, для того чтобы он попал на небо. В это вы верите?
Здесь вмешалась Кара:
— Помнится, мне говорила няня или кто-то говорил, во всяком случае, что, если священник войдет, пока тело еще не остыло, тогда все в порядке. Это так, ведь правда?
Ее слова встретили дружный отпор.
— Нет, Кара, неправда.
— Разумеется, нет.
— Кара, вы что-то спутали.
— А я помню, когда умирал Альфонс де Грене, мадам де Грене спрятала священника прямо за дверью — Альфонс не переносил их вида, — а потом впустила его, когда тело еще не остыло, она сама мне рассказывала, и по нем отслужили полную панихиду, я на ней была.
— Панихида вовсе не означает, что вы обязательно попадете в рай.
— Мадам де Грене считала, что означает.
— Она ошибалась.
— Знает ли кто-нибудь из вас, католиков, зачем нужен священник? — спросил я. — Хотите ли вы просто, чтобы ваш отец мог быть похоронен по христианскому обряду? Или вы хотите, чтобы он не попал в ад? Я прошу объяснения.
Брайдсхед стал давать мне подробные объяснения, но, когда он кончил, Кара нарушила единство католического фронта, простодушно заметив:
— Вот, а я и не знала ничего этого.
— Давайте посмотрим, — сказал я. — Человек должен проявить свободную волю, должен раскаяться и желать примирения с богом. Так? Но только бог может знать, что у него в душе, священник этого знать не может; если же священника при этом нет и он примиряется с богом в душе своей, это так же ценно, как и в присутствии священника. Вполне возможно даже, что воля действует, когда человек уже совсем слаб, не в силах внешне это ничем выразить. Так? Он может лежать неподвижно, как мертвый, и при этом активно желать примирения с богом, и бог это будет знать. Так?
— Приблизительно так, — ответил Брайдсхед.
— Тогда для чего же нужен священник?
Последовала пауза, во время которой Джулия тяжело вздохнула, а Брайдсхед набрал в грудь воздуха, словно готов был снова приступить к расчленению посылок. И пока остальные молчали, Кара произнесла:
— Я только знаю, что сама непременно позабочусь о том, чтобы у меня был священник.
— Благослови вас бог, Кара, — сказала Корделия. — Вот, по-моему, самый лучший ответ.
И на этом мы прекратили спор, хотя каждый про себя считал его исход неудовлетворительным.
Позже, вечером, Джулия мне сказала;
— Ты не мог бы не заводить богословских споров?
— Не я их завел.
— Ведь ты никого ни в чем не убедил и даже не убедил самого себя.
— Мне просто хочется знать, во что эти люди верят. Ведь они говорят, что у них все на логической основе.
— Если бы ты дал Брайди договорить, у него бы и получилось все очень логично.
— Вас там было четверо, — настаивал— я, — Кара понятия ни о чем этом не имела и то ли верит, то ли нет, неизвестно; ты знаешь кое-что и не веришь ни одному слову; Корделия знает не больше твоего и страстно верит; один только бедняга Брайди знает и верит по-настоящему, и, однако, когда дошло до объяснения, он оказался, на мой взгляд, совершенно беспомощен. А еще говорят: «По крайней мере католики знают, во что верят». Сегодня мы видели как на ладони…
— Ох, Чарльз, к чему эти разглагольствования? Я могу подумать, что ты и сам начал испытывать сомнения.
Проходили недели, а лорд Марчмейн все еще был жив. В июне вступил в силу мой развод, и моя бывшая жена заключила второй брак. Джулия должна была стать свободна в сентябре. Чем ближе была наша свадьба, тем тоскливее, как я заметил, говорила о ней Джулия. Война тоже приближалась — это не вызывало у нас сомнений, — но грустное, отрешенное, даже порой отчаянное нетерпение Джулии шло не от той неопределенности, что была вне ее, а время от времени оно вдруг сгущалось в мгновенные приступы озлобления, и она бросалась на сдерживающую преграду своей любви ко мне, точно зверь на железные прутья клетки.
Меня вызвали в военное министерство, опросили и внесли в список на случай национальной опасности; Корделию тоже внесли в какой-то список; списки снова вошли в нашу жизнь, как когда-то в школьные годы. Все лихорадочно подготавливалось к ожидающейся национальной опасности. В этом темном министерстве слово «война» не произносилось, на нем лежало табу; нас должны были призвать, если возникнет «национальная опасность» — не военная смута, которая есть акт человеческой воли, не такие ясные и простые вещи, как гнев и расплата, нет, национальная опасность — нечто являющееся из глубин вод, чудовище с безглазым ликом и хлещущим хвостом, которое всплывает со дна морского.
Лорд Марчмейн выказывал мало интереса к тому, что происходило вне стен его комнаты; каждый день мы приносили ему газеты и пытались читать их, но он поворачивал голову, разглядывая окружавшие его замысловатые узоры. «Читать, дальше?» — «Да, пожалуйста, если вас это не утомляет». Но он не слушал; изредка, при упоминании знакомого имени, он бормотал: «Ирвин… Знал его. Посредственность»; изредка делал какие-нибудь не идущие к делу замечания: «…чехи — превосходные кучера, и только»; но мысли его были далеки от дел земных, они были здесь, в этой комнате, обращены на него самого; у него не было сил на другие войны, кроме его собственной войны, которую он вел в одиночку за то, чтобы не умереть.
Я сказал доктору, посещавшему нас теперь каждый день:
— У него великая воля к жизни, правда?
— Вы это так определяете? Я бы сказал — великий страх смерти.
— А разве есть разница?
— О да, конечно. Ведь страх не придает ему сил. Он его истощает.
Кроме смерти, быть может, из-за сходства с нею он больше всего боялся темноты и одиночества. Ему нравилось, когда мы все собирались у него в комнате и всю ночь в ней среди золоченых фигурок горел свет; ему не нужно было от нас речей, он разговаривал сам, но так тихо, что мы часто не могли расслышать его слов; он говорил сам, потому, мне кажется, что собственный голос был для него единственным надежным доказательством его продолжающейся жизни; речи его предназначались не для нас, не для чьих бы то ни было ушей, а только для него самого.
— Сегодня лучше. Сегодня лучше. Уже различаю там в углу мандарина с золотым колокольчиком и под ним кривое деревце в цвету, а вчера все расплывалось и пагоду я принимал за второго человека. Скоро увижу мостик, и трех аистов, и то место, где тропинка уходит за холм.
А завтра будет еще лучше. У нас в семье живут долго и женятся поздно. Семьдесят три еще не старость. Тетя Джулия, тетка моего отца, дожила до восьмидесяти восьми, в этом доме она родилась и в нем же умерла, замуж так и не вышла, помнила, как горел огонь на Маячном мысу во время Трафальгарской битвы; этот дом у нее назывался «новый дом»— так его именовали в детской и в деревне, когда у неграмотных людей была долгая память. Где старый дом стоял, и сейчас видно— за деревенской церковью. Это место называется Замковый холм, на Хорликовом поле, там земля такая неровная, половина под пустырем, крапива да колючки, вся в ямах, не вспашешь. Выкапывали фундамент, брали камень на строительство нового дома. Новый, а ему уже сто лет было, когда тетя Джулия на свет родилась. Вот где наши корни — на изрытом пустыре под названием Замковый холм, в зарослях колючек и крапивы, среди надгробий в старой церкви и в часовне, где давно не слышно голоса причетника.
Тете Джулии были известны все надгробия — рыцарь со скрещенными ногами, граф в пышной кирасе, маркиз в тоге римского сенатора; известняк, алебастр, итальянский мрамор; она постукивала эбеновой тростью по гербам на щитах, заставляла гудеть, как колокол, шлем старого сэра Роджера. Тогда мы были рыцари, бароны после Азенкура, прочие титулы пришли с Георгами. Пришли последними и уйдут первыми, а баронство останется. Когда всех вас уже не будет на свете, сын Джулии останется жить под именем, которое его праотцы носили, когда еще не пришли тучные дни: дни стрижки овец и широких хлебных пашен; дни роста и строительства, когда осушались болота и вспахивались пустыри; когда один человек строил дом, его сын возводил над ним купол, сын сына пристраивал два крыла и ставил запруды на реке. Тетя Джулия видела, как строили фонтан; он был стар еще до того, как очутился здесь, пережил два столетия неаполитанского солнца, привезен на борту военного фрегата в нельсоновские времена. Скоро фонтан иссякнет и будет стоять, покуда его не наполнят дожди и не поплывут в бассейне прошлогодние листья, а пруды зарастут тростником. Сегодня лучше.
Сегодня мне лучше. Гораздо лучше. Я жил осмотрительно, закрывался от холодного ветра, ел умеренно пищу по сезону, пил тонкие вина, спал в собственной постели; я проживу долго. Мне было пятьдесят, когда нас спешили и отправили на передовую; старым оставаться на базе — гласил приказ; но Уолтер Винеблс, мой командир, сказал мне: «Вы, Алекс, не уступите и самым молодым». Я и не уступал и не уступаю, было бы мне только легче дышать.
Воздуха нет, ни дыханья ветерка под бархатным балдахином. Когда наступит лето, — говорил лорд Марчмейн, забывая о спелых хлебах, и сочных плодах, и о сытых пчелах, лениво летящих к улью в жарком, солнечном свете у него за окном, — когда наступит лето, я встану с постели и буду сидеть на воздухе, чтобы легче дышалось.
Кто бы подумал, что все эти золотые человечки, джентльмены в своем отечестве, смогут так долго жить не дыша. Словно жабы в угольной яме, и горя не знают. Господи спаси, зачем мне выкопали эту яму? Неужели человек должен задохнуться в собственных погребах? Плендер, Гастон! Откройте окна! Скорее!
— Все окна распахнуты, милорд.
Возле его кровати был установлен кислородный баллон с длинной трубкой, воронкой и краном, который он сам мог поворачивать. Он часто жаловался.
— Там ничего нет, сестра, посмотрите, оттуда ничего не идет.
— Идет, лорд Марчмейн, баллон полон, это видно вот здесь, по пузырьку в пробирке; давление максимальное. Слышите, как шипит? Старайтесь вдыхать медленнее, лорд Марчмейн, понемножку, не торопясь, тогда почувствуете.
— Легкий, как воздух, есть такое выражение — легкий, как воздух. А мне теперь приносят воздух в тяжелой железной бочке.
Один раз он спросил:
— Корделия, что сталось с часовней?
— Ее закрыли, папа, после маминой смерти.
— Это была ее часовня, я ей подарил. У нас в семье все были строители. Я построил ее в павильоне из старых камней, в старых стенах; это было последнее добавление к новому дому; пришло последним и первым ушло. До войны там был свой капеллан. Помнишь?
— Я была слишком маленькой.
— Потом я уехал — оставил ее молиться в часовне. Это была ее часовня. Ее место. Назад я не вернулся, не хотел мешать ее молитвам. Говорили, что мы сражаемся за свободу; я одержал свою собственную победу. Разве это преступление?
— По-моему, да, папа.
— И взываете к небесам об отмщении? Так вот почему, наверно, меня заточили в эту пещеру с черной трубкой, подающей воздух, и с желтыми человечками по стенам, умеющими жить не дыша? По-твоему, так, дитя? Но скоро подует ветер, быть может завтра, и нам всем станет легче дышать. Дурной, злой ветер, который принесет мне облегчение. Завтра будет еще лучше.
Так пролежал лорд Марчмейн при смерти до середины июля, растрачивая последние силы в битве за жизнь. Потом, поскольку не было причины опасаться резких перемен в его состоянии, Корделия уехала в Лондон выяснить у себя в женской организации кое-какие вопросы в связи с предстоящей «национальной опасностью». И в этот день лорду Марчмейну внезапно стало хуже. Он лежал, неподвижный и безмолвный, и мучительно, с трудом дышал, только взгляд открытых глаз, иногда перемещавшийся по комнате, свидетельствовал о том, что больной в сознании.
— Это конец? — спросила Джулия.
— Неизвестно, — ответил доктор, — конец, когда он наступит, будет, вероятно, таким же. Но от теперешнего приступа он еще может оправиться. Главное — ничем его не тревожить. Любое потрясение может быть фатально.
— Я еду за отцом Маккеем, — сказала она. Я не удивился. Я все лето знал, что у нее на уме. Когда она уехала, я сказал доктору:
— Мы должны помешать этой нелепице. Он ответил:
— Мое дело — заботиться о теле. А не рассуждать о том, кому лучше жить, кому умереть и что с кем будет после смерти. Я просто стараюсь, чтобы человек не умер.
— Но вы только сейчас говорили, что потрясение его убьет. Может ли быть что-нибудь вреднее для человека, который так боится смерти, чем вид приведенного к нему священника, священника, которого он выставил за дверь, когда еще был в силах?
— Я допускаю, что это может его убить.
— Значит, вы это запрещаете?
— Я не вправе запрещать что-либо. Могу только выразить мое мнение.
— Кара, а вы что думаете?
— Я не хочу, чтобы его огорчали. Только на одно сейчас еще можно надеяться — что он умрет, сам того не сознавая. Но все-таки я хотела бы, чтобы священник был здесь.
— Так постарайтесь уговорить Джулию, чтобы она его к нему не пускала до… до конца. Потом уже вреда не будет.
— Хорошо, я попрошу ее не причинять Алексу горя. Через полчаса Джулия возвратилась с отцом Маккеем. Мы все сошлись в библиотеке.
— Я телеграфировал Брайди и Корделии, — сказал я, — надеюсь, все согласятся ничего не предпринимать до их приезда.
— Мне очень жаль, что их нет сейчас, — сказала Джулия.
— Ты не можешь одна взять на себя ответственность, — убеждал ее я. — Все остальные против тебя. Доктор Грант, скажите ей, что вы сегодня говорили мне.
— Я говорил, что вид священника вполне может его убить; в противном случае не исключено, что он оправится от этого приступа. В качестве его лечащего врача я обязан возражать против всего, что может причинить ему беспокойство.
— Кара?
— Джулия, милая, я знаю, вы хотите сделать как лучше, но ведь вы же знаете, Алекс не был религиозен. Он всегда смеялся над религией. И мы не должны теперь пользоваться его немощью для успокоения собственной совести. Если отец Маккей войдет к нему, когда он будет без сознания, это даст нам право похоронить его по закону, ведь верно, отец?
— Пойду взгляну, как он, — сказал доктор.
— Отец Маккей, — обратился я к священнику, — вы помните, как лорд Марчмейн встретил вас в прошлый раз? Неужели это возможно, по вашему мнению, чтобы он с тех пор переменился?
— Хвала богу, его милостью это возможно.
— Может быть, — предложила Кара, — вы бы вошли потихоньку, когда он спит, и произнесли над ним слова отпущения, а он и не узнал бы.
— У меня на глазах умерло так много людей, — ответил он, — и я не видел, чтобы кто-нибудь из них в последний час был огорчен моим присутствием.
— Но ведь то все были католики, а лорд Марчмейн не был, разве только формально, по крайней мере последние годы. Он смеялся над этим, Кара сама говорила.
— Христос пришел звать к раскаянию не праведников, но грешников.
Вернулся доктор.
— Без перемен, — сказал он.
— Ну подумайте, доктор, — повернул к нему священник свое спокойное, невинное, серьезное лицо, — могу ли я вызвать у кого-нибудь потрясение? — Он обвел взглядом нас всех. — Вы знаете, что я хочу сделать? Это так немного и так просто. Я ведь даже не ношу специального облачения, иду в чем есть. Вид мой ему уже знаком. Ничто не может его испугать. Я только спрошу у него, жалеет ли он о совершенных грехах. И буду ждать от него утвердительного знака, в крайнем случае довольно будет и того, что он не скажет мне «нет»; потом я дам ему божье прощение. А затем, хотя это уже и не так обязательно, я его помажу. Это сущий пустяк, прикосновение пальцев и капли масла вот из этой баночки; смотрите, ничего не может ему повредить.
— Ох, Джулия, как нам решить? — вздохнула Кара. — Постойте, я попробую с ним поговорить.
Она ушла в Китайскую гостиную; мы молча ждали; стена огня разделяла меня и Джулию. Немного погодя Кара возвратилась.
— По-моему, он ничего не слышал, — растерянно проговорила она — Мне казалось, я придумала, как начать. Я сказала:
«Алекс, ты помнишь Мелстедского священника? Ты его очень обидел, когда он приезжал тебя навестить. Ты был с ним так резок. Он опять приехал. Я хочу, чтобы ты с ним повидался ради меня и чтобы вы помирились». Но он не ответил. Если он без сознания, его не может огорчить вид священника, ведь правда, доктор?
Джулия, до этого стоявшая молча и неподвижно, вдруг шагнула вперед.
— Благодарю вас за совет, доктор, — проговорила она. — Я беру на себя полную ответственность за все, что может случиться. Отец Маккей, будьте добры пройти теперь к моему отцу. — И, не взглянув на меня, пошла впереди него к двери.
Мы все потянулись следом. Лорд Марчмейн лежал так же, как я его видел утром, только глаза у него были теперь закрыты; руки его вверх ладонями покоились на одеяле, на одной из них сиделка как раз щупала пульс.
— Входите, входите, — бодро сказала она. — Теперь вы его уже не потревожите.
— Уже?
— Нет-нет, но он больше ни на что не реагирует. Она поднесла к его лицу кислородную трубку, и шипение выходящего газа было единственным звуком у постели умирающего.
Священник наклонился над лордом Марчмейном и благословил его. Джулия и Кара опустились на колени в изножье кровати. Доктор, сиделка и я стояли позади.
— Ну, — сказал священник, — я знаю, вы жалеете обо всех своих грехах, правда? Сделайте знак, если можете. Ведь вы жалеете? — Но знака не было. — Попытайтесь припомнить свои грехи и попросите у бога прощения. Я отпущу вам грехи. А вы тем временем попросите у бога прощения за все, в чем ослушались его. — Он заговорил по-латыни. Я узнал слова:
«Ego te absolve in nomine Patris…»[56] — и увидел, что священник осеняет себя знаком креста. И тогда я тоже опустился на колени и стал молиться: «О бог, если бог есть, прости ему его грехи, если такая вещь, как грех, существует». И лежащий на кровати открыл глаза и испустил вздох, какой, по моим представлениям, испускают люди, умирая, но глаза его были подвижны, так что мы знали, что жизнь еще не покинула его.
Внезапно я почувствовал, что всей душой хочу этого знака, пусть даже только из учтивости, пусть даже только ради женщины, которую я люблю и которая, я знал, в эту минуту, стоя впереди меня на коленях, молилась о знаке. Казалось, то была совсем пустячная просьба — всего лишь кивок в благодарность, взгляд узнавания в толпе. Я стал молиться еще проще: «Бог, прости его грехи. И пожалуйста, сделай так, чтобы он принял твое прощение».
Совсем пустячная просьба.
Священник вынул из кармана серебряную баночку, опять сказал что-то по-латыни и прикоснулся к умирающему масляным тампоном; покончив со всем, что полагалось сделать, он убрал баночку и благословил умирающего последний раз. Внезапно лорд Марчмейн зашевелился и медленно поднес руку ко лбу; у меня мелькнула мысль, что он почувствовал влагу елея и хочет его стереть. «О бог, — молился я, — не дай ему это сделать!» Но мой страх был напрасен: так же медленно рука опустилась на грудь, потом передвинулась к плечу, и лорд Марчмейн осенил себя знаком креста. И тогда я понял, что просьба моя была совсем не о пустяке, не о попутном кивке узнавания, и мне припомнились слова из далеких времен моего детства о завесе, которая разодралась в храме надвое сверху донизу.
Все было кончено; сиделка опять подошла к кислородному баллону; доктор склонился над больным. Джулия шепнула мне:
— Проводи отца Маккея, хорошо? Я побуду здесь еще немного.
За дверью отец Маккей снова стал тем простым и добродушным человеком, которого я знал.
— Ну, разве не прекрасное было зрелище? У меня на глазах это случалось несчетное количество раз. Диавол сопротивляется до последней минуты, но в конце милость божия над ним торжествует. Вы, мистер Райдер, не католик, насколько мне известно, но по крайней мере вас должно это радовать ради дам, получивших теперь утешение.
Пока мы ждали шофера, мне пришло в голову, что отцу Маккею следует заплатить за его услуги. Я, смущаясь, спросил его об этом.
— Не беспокойтесь, мистер Райдер. Для меня это было удовольствие, — ответил он. — Но все, что бы вы ни уделили, будет кстати в таком приходе, как мой. — У меня в бумажнике оказались три фунтовые ассигнации, и я отдал их ему. — Право, вы более чем щедры. Благослови вас бог, мистер Райдер. Я заеду опять, хотя едва ли ему еще долго пребывать в этом мире.
Джулия оставалась в Китайской гостиной, и в пять часов пополудни ее отец умер, доказав тем самым правоту обеих споривших сторон — и доктора, и священника.
Здесь я подхожу к тем обрывочным фразам, которые оказались последними, сказанными между мною и Джулией, к последним воспоминаниям.
Когда отец ее умер, Джулия еще некоторое время оставалась у тела; сиделка вышла в другую комнату с печальным сообщением, и в открывшуюся дверь я мельком видел ее стоящей на коленях в изножье кровати; рядом в кресле сидела Кара. Вскоре они обе вышли, и Джулия сказала мне:
— Не сейчас, я отведу Кару в ее комнату. Позже. Пока она еще оставалась наверху, приехали из Лондона Брайдсхед и Корделия; и, когда мы наконец встретились наедине, это произошло украдкой, как у молодых влюбленных. Джулия сказала:
— Здесь, в темноте, в углу под лестницей, — одна минута, чтобы сказать «прощай».
— Так долго, чтобы сказать так мало.
— Ты знал?
— С утра; еще до того, как наступило утро; уже целый год.
— А я только сегодня. О мой дорогой, если бы ты мог понять. Тогда бы я перенесла разлуку, легче бы перенесла. Я бы должна сказать, что сердце мое разбито, только я не верю в разбитые сердца. Я не могу быть твоей женой, Чарльз, я больше никогда не смогу быть с тобой.
— Знаю.
— Откуда тебе знать?
— Что ты будешь делать?
— Просто жить дальше — одна. Как я могу сказать, что я буду делать? Ты знаешь про меня все. Знаешь, что я не создана для траура. Я всегда была плохой, Может быть, опять буду жить плохо и опять понесу наказание. Но чем я хуже, тем больше моя нужда в боге. Я не могу отказаться от надежды на его милость. А было бы именно это — новая жизнь с тобой, без него. Нам не дано видеть дальше чем на шаг вперед. Но сегодня я увидела, что есть одна вещь, по-настоящему непростительная — как в школе были такие проступки, за которые даже не наказывали и требовалось только вмешательство мамы, — и эту непростительную вещь я едва не совершила, но оказалась недостаточно плохой, чтобы ее совершить, это — сотворение иного добра, против божьего. Почему, почему мне было дано это понять, а тебе — нет, Чарльз? Может быть, потому что мама, няня, Корделия, Себастьян и даже Брайди и миссис Маспрэтт поминают меня в своих молитвах? А может быть, это мой личный уговор с богом, что, если я откажусь вот от этого, чего так хочу, потом, как бы плоха я ни была, он под конец все же не отвернется от меня… Ну вот, теперь мы оба останемся одиноки, и мне никогда не добиться, чтобы ты понял.
— Не хочу облегчать тебе разлуку, — сказал я, — и надеюсь, что твое сердце разобьется, но я все понимаю.
Лавина обрушилась, обнажив каменистый склон; последние отзвуки громов замерли среди белых вершин; новый завал безмолвно искрился глубоко в долине.
Эпилог БРАЙДСХЕД ОБРЕТЕННЫЙ
— Дыра хуже этой нам еще не попадалась, — сказал батальонный, — ни удобств, ни сообщения, и бригадное командование прямо на шее. Один кабак и тот во Флайт-Сент-Мэри, человек на двадцать вместимостью — туда, понятно, офицерам вход запрещен; есть военная лавка на территории лагеря. Раз в неделю, надеюсь, будет ходить грузовик в Мелстед-Карбери. Марчмейн в десяти милях и ничего собой не представляет. Вследствие всего этого первая забота ротных командиров — организовать отдых для своих солдат. Медицина, прошу вас осмотреть пруды на предмет пригодности для купания.
— Слушаюсь, сэр.
— Штаб бригады поручает нам расчистку помещения. Я лично думал, что их штабные лодыри и симулянты могли бы избавить нас от этой работы, но… Райдер, вам выделена команда из пятидесяти человек, в 10:45 доложитесь коменданту, он покажет, какая часть дома нам поручается.
— Слушаюсь, сэр.
— Наши предшественники, как видно, были не очень-то предприимчивы. Долина располагает отличными возможностями для устройства штурмовой полосы и минометного полигона. Начальник стрелковой подготовки, сегодня же проведите осмотр местности и представьте разметку до приезда бригадного командования.
— Слушаюсь, сэр.
— Я сам отправлюсь с адъютантом на рекогносцировку полигонов. Здешние места никто не знает? — Я промолчал. — Тогда все. Исполняйте.
— Дом старинный и в своем роде замечательный, — сказал мне комендант. — Жалко даже так его трепать.
Это был пожилой отставной подполковник, уже отслуживший свое и теперь вернувшийся в армию; он был из местных и жил где-то неподалеку. Мы встретились в холле у главного входа, где моя полурота выстроилась в ожидании дальнейших распоряжений.
— Пойдемте со мной. Я вам все покажу. Не дом, а целый город, но мы реквизировали только нижний этаж и несколько комнат наверху. Остальные — частная собственность и по большей части забиты мебелью; в жизни такой не видывал, кое-чему там цены нет.
На верхних этажах помещаются смотритель и несколько старых слуг — они вам не помешают — и один католический священник, переживший бомбежку, теперь его приютила леди Джулия, — тихий старичок, весь трясется, но безобидный. Открыл часовню при доме; солдатам туда вход дозволен, и удивительно, до чего многие бывают.
Домовладелица — леди Джулия Флайт, как она теперь себя именует. Она была замужем за Моттремом, знаете, министром чего-то там такого. Сейчас находится за границей, в женских частях, а я тут пока стараюсь приглядывать за домом. Очень было странно, когда старый маркиз оставил все ей, — сыновьям обида.
Вот здесь у тех, кто стоял в доме до вас, размещались писаря — места, прямо скажем, вдоволь. Как видите, камины и стены я распорядился обшить досками — там за ними много ценных произведений искусства. Э, да тут кто-то, я вижу, постарался, какие, право, солдаты все-таки разорители! Хорошо, что мы заметили, не то пришлось бы отвечать вам.
Эта комната тоже из просторных, раньше она вся была увешана гобеленами. Советую использовать для конференций.
— Я здесь только для уборки, сэр. Распределением комнат займутся в штабе бригады.
— А, ну что ж, у вас работа нетрудная. Ваши предшественники были народ вполне приличный. Конечно, им не следовало так обращаться с этим камином. Как они только сумели? С виду такой прочный. Интересно, можно ли будет его когда-нибудь починить?
Бригадный командир, вероятно, займет эту комнату под свой кабинет; прежний, во всяком случае, выбрал именно ее. Здесь много картин, а вынести нельзя: написаны прямо на стенах. Как видите, я сделал что мог, закрыл их по возможности, завесил, но наши армейские до всего доберутся; вот добрались— уже там, в углу. Тут была еще одна комната с картинами на стенах, вход снаружи, со стороны террасы — современная работа, но, на мой взгляд, красивее всех в доме; у них это был узел связи, так они там живого места не оставили. Жаль, надо сказать.
А этот страх божий был у них столовая. Я поэтому не стал и загораживать, хотя вообще-то не велика беда, если бы и повредили. Напоминает, по-моему, публичный дом, из тех, что пошикарнее, знаете, Maison Japonaise…[57] А это буфетная.
Мы быстро завершили обход пустых, гулких покоев. Потом вышли на террасу.
— Вон там солдатские уборные и душевая, не знаю, зачем было ставить их на самом виду, это еще до меня сделали. Впрочем, раньше за деревьями ничего не было видно. Мы проложили сюда дорогу прямо от шоссе через те посадки — не слишком живописно, зато удобно: очень много транспорта. Но парк изуродовали, ничего не скажешь. Видите, вон там какой-то олух проехал прямо через живую изгородь и снес кусок балюстрады — трехтонка, а подумаешь, тяжелый танк. А вот это фонтан, владелица дома им очень дорожит; молодые офицеры завели было обычай плескаться в нем, и он уже заметно пострадал, поэтому я обнес его колючей проволокой и выключил воду. Теперь там довольно грязно, все шоферы швыряют в него окурки и обертки от сандвичей, а вымести нельзя — проволока мешает. Фантастическое сооружение, верно?..
Ну, если вы все осмотрели, я поеду. Всего наилучшего. Его шофер бросил окурок в пустой бассейн фонтана, взял под козырек и распахнул дверцу машины. Я тоже взял под козырек, и комендант уехал через пролом в шеренге лип, окаймлявших аллею.
Хупер, — сказал я, когда мои солдаты приступили к работе, — как вы думаете, могу я на полчаса оставить на вас команду?
— Я как раз сейчас думал, где бы разжиться чайком.
— Что за вздор, — сказал я. — Они только начали.
— Они жутко разозлились.
— Пусть продолжают, ясно?
— Есть. Железно.
Я не задержался в опустошенных комнатах первого этажа, а поднялся наверх и пошел по знакомым коридорам, пробуя двери в комнаты, которые были закрыты, открывая другие, до потолка набитые мебелью. Наконец навстречу мне попалась старая горничная с чайным подносом в руках.
— Господи, — сказала она. — Неужто это мистер Райдер?
— Он самый. Я уже думал, что не встречу никого знакомого.
— Миссис Хокинс наверху, в своей прежней комнате. Я как раз несу ей чай.
— Я сам отнесу, если позволите, — сказал я и, войдя через завешенную дверь на лестницу без ковра, поднялся в детскую.
Няня Хокинс не узнала меня, пока я не назвался; мое появление поначалу совсем вывело ее из равновесия; и только когда мы немного посидели с нею у камина, к ней постепенно вернулась прежняя безмятежность. Она, совершенно не менявшаяся все эти годы, теперь вдруг очень сильно постарела. Последние перемены наступили для нее слишком поздно, она уже не в силах была их понять и принять, зрение, пожаловалась она мне, у нее совсем ослабло, и она справляется теперь только с самым простым рукоделием. Речь ее, отточенная за долгие годы «образованных» разговоров, вновь приобрела мягкий крестьянский распев времен ее молодости.
— …одна только я да две девушки и отец Мемблинг, бедняжка, вот что разбомбило-то его, и ни кола ни двора, ни крыши над головой у него не было, спасибо Джулия, добрая душа, взяла его сюда, а уж с нервами у него до того плохо… И леди Брайдсхед, то есть Марчмейн уже теперь, ее по правильному надо бы величать «ее светлость», только язык как-то не поворачивается, и с ней то же самое было. Сначала-то, как Джулия с Корделией ушли на войну, она сюда переехала с двумя мальчиками, ну, потом военные их отсюда выселили, тогда они сняли дом в Лондоне, но и месяца в нем не прожили, а Брайди-то не было, он со своим полком, как в прежние года его светлость, упокой господи его душу, а тут их вдруг возьми да и разбомби, ничего не осталось, а мебель свою она здесь держит, в каретном сарае. Тогда она другой дом сняла, за городом, а военные и этот забрали, вот она теперь и живет, слышно, в гостинице где-то на взморье, а гостиница — это не то что своим-то домом жить, верно я говорю? Куда это годится…
…Слыхали вы вчера, как мистер Моттрем речь говорил? Уж так он этому Гитлеру задал. Я сказала Эффи, девушке, что мне услужает: «Если только Гитлер это слышит, говорю, ну и если он по-английски-то понимает, да только едва ли, вот уж ему небось стыдно». Кто бы мог подумать, что мистер Моттрем так далеко пойдет? И все друзья его, что здесь-то сколько раз бывали. Я сказала мистеру Уилкоксу, он два раза в месяц меня обязательно навещает, спасибо ему, из самого Мелстеда на автобусе добирается, вот я ему и говорю: «Мы ангелов принимали, того не ведая», — ведь мистер Уилкокс не жаловал друзей мистера Моттрема, а я-то их никогда и не видела, но наслышана про них ото всех вас, и Джулия их тоже не жаловала, а они вон как далеко пошли.
Под конец я ее спросил:
— Вы получали что-нибудь от Джулии?
— От Корделии вот только на прошлой неделе, а они там вместе с самого первого дня, и Джулия приписала привет в низу страницы. Поживают обе хорошо, правда, где это, им писать нельзя, но отец Мемблинг читает между строк, он говорит, что в Палестине они, а Брайди со своим полком тоже там, вот как все удачно получилось. Корделия пишет, они ждут с нетерпением, когда можно будет после войны вернуться домой, да мы и все ждем того с нетерпением, вот только доживу ли я, это уж как бог даст.
Я пробыл у нее полчаса и, уходя, посулился навещать почаще. Спустившись в холл, я удостоверился, что ничего не сделано; Хупер встретил меня с виноватым видом.
— Им понадобилось срочно уйти за соломой для тюфяков. Я не знал, но мне сказал сержант Блок. Не уверен, что они вернутся.
— Не уверены? А какое приказание вы отдали?
— Ну, я сказал сержанту, чтобы он привел их обратно, если будет смысл возвращаться, то есть если останется время до обеда.
Было без малого двенадцать.
— Вас опять надули, Хупер. Солому можно получить в любое время до шести вечера.
— Вот черт, извините, Райдер. Сержант Блок…
— Я сам виноват, что ушел… Соберите ту же команду сразу после обеда, приведите сюда и не отпускайте, пока работа не будет сделана.
— Есть. Железно. А вы правда бывали в этом доме раньше?
— Правда. Это дом моих близких друзей. — И когда я произнес эти слова, они прозвучали, на мой собственный слух, так же странно, как некогда слова Себастьяна, когда он сказал не «Это мой дом», а «Здесь живет наша семья».
— Непонятно, ей-богу, одно семейство в таком домище? Какой в нем прок?
— Штаб бригады, мне кажется, нашел в нем какой-то прок.
— Да, но не затем же он был построен, верно?
— Верно, — ответил я. — Он был построен не затем. По-видимому, в этом и состоит одно из удовольствий от строительства дома, как и от рождения сына: в неведении, каким он вырастет. Не знаю. Я никогда ничего не строил; и я утратил право наблюдать, как растет мой сын. Я бездомный, бездетный, никем не любимый пожилой мужчина, Хупер. — Он посмотрел на меня, не зная, всерьез я говорю или шучу, решил, что шучу, и расхохотался. — А теперь ступайте в лагерь, да не попадайтесь на глаза батальонному, если он уже вернулся с рекогносцировки, лучше пусть никто не знает, что мы ухлопали утро впустую.
— Окей, Райдер.
Оставалась еще одна часть дома, где я до сих пор не побывал, и теперь я направился туда. В часовне не заметно было следов недавнего запустения; краски в стиле модерн были все так же ярки, перед алтарем, как прежде, горела лампада в стиле модерн. Я произнес молитву, древний, недавно выученный словесный канон, и ушел. По пути в лагерь под звуки обеденного горна я думал так:
«Строителям были неведомы цели, которым послужит в грядущих веках их произведение; они построили новый дом из камней, слагавших старый замок; год за годом, поколение за поколением приукрашали и достраивали его; год за годом великая жатва леса созревала в их парке; и вдруг ударили морозы и наступил век Хупера; дом и парк опустели, и вся работа пошла насмарку; quomodo sedet sola civitas. Суета сует, все — суета.
И все-таки, — продолжал я свою мысль, прибавляя шагу на пути в лагерь, где горн после недолгого молчания начал играть второй сигнал и громко выводил: „Пироги, пироги и кар-тош-ка!“ — и все-таки это еще не последнее слово, это даже и не меткое слово, это — мертвое слово десятилетней давности.
Из дела строителей вышло нечто совсем ими не предусмотренное, как и из жестокой маленькой трагедии, в которой я играл свою роль, — такое, о чем никто из нас тогда даже не думал; неяркий красный огонь — медный чеканный светильник в довольно дурном вкусе, вновь зажженный перед медными святыми вратами; огонь, который видели древние рыцари из своих гробниц, который когда-то у них на глазах был погашен, — этот же огонь теперь опять горит для других воинов, находящихся далеко от дома, гораздо дальше в душе своей, чем Акр или Иерусалим. Он не мог бы сейчас гореть, если бы не строители и актеры, исполнившие маленькую трагедию, ныне же я видел его своими глазами вновь зажженным среди древних камней».
Я прибавил шагу и вошел в барак, где находилась наша столовая.
У вас что-то сегодня необычно бодрый вид, — сказал мой помкомроты.
― НЕЗАБВЕННАЯ ― Англо-американская трагедия (роман, перевод Б. Носика)
Глава 1
Весь день жара была нестерпимой, но под вечер потянуло ветерком с запада, оттуда, где в нагретом воздухе садилось солнце и лежал за поросшими кустарником склонами холмов невидимый и неслышный отсюда океан. Ветер сотряс ржавые пятерни пальмовых листьев и оживил сухие, увядшие звуки знойного лета — кваканье лягушек, верещанье цикад и нескончаемое биение музыкальных ритмов в лачугах по соседству.
В снисходительном вечернем освещении обшарпанные грязные стены бунгало и заросший бурьяном садик между верандой и пересохшим бассейном уже не казались такими запущенными, да и два англичанина, сидевшие друг против друга в качалках — перед каждым стакан виски с содовой и старый журнал, — точное подобие своих бесчисленных соотечественников, заброшенных в забытые Богом уголки нашего мира, тоже словно бы подверглись на время иллюзорной реставрации.
— Скоро придет Эмброуз Эберкромби, — сказал тот, что был постарше. — Зачем — не знаю. Оставил записку, что придет. Найдите, Деннис, еще стакан, если удастся. — Потом добавил с раздражением: — Кьеркегор, Кафка, Коннолли, Комптон Вернет, Сартр, «Шотландец» Уилсон. Кто они? К чему стремятся?
— Некоторые из этих имен я слышал. Говорили о них в Лондоне перед самым моим отъездом.
— О «Шотландце» Уилсоне тоже?
— Нет. О нем, кажется, нет.
— Вот это «Шотландец» Уилсон. Его рисунки. Вы в них что-нибудь понимаете?
— Нет.
— Я тоже.
Минутное оживление сэра Фрэнсиса Хинзли сменилось апатией. Он разжал пальцы, выпустив из рук журнал «Горизонт», и неподвижный взгляд его уперся в темный провал давно высохшего бассейна. У сэра Фрэнсиса было нервное, умное лицо, черты которого несколько утратили свою четкость за годы ленивой жизни и неизменной скуки.
— Когда-то говорили о Гопкинсе, — продолжал он, — о Джойсе, о Фрейде, о Гертруде Стайн. Этих я тоже не понимал. До меня всегда туго доходило новое. «Влияние Золя на Арнольда Беннетта» или «Влияние Хенли на Флекера». Ближе я к современности не подходил. Мои коронные темы были «Англиканский пастор в английской прозе» или «Кавалерийская атака в поэзии» — все в таком роде. Похоже, тогда это нравилось публике. Потом она потеряла к этому интерес. Я тоже. Я всегда был самый утомимый из писак. Мне нужно было сменить обстановку. И я никогда не жалел, что уехал. Здешний климат мне по душе. Люди здесь вполне пристойные и великодушные, и главное — они вовсе не требуют, чтобы их слушали. Всегда помните об этом, мой мальчик. В этом секрет непринужденности, с какой здесь держатся. Здесь говорят исключительно для собственного удовольствия. Ничто из сказанного этими людьми и не рассчитано на то, чтобы их слушали.
— Вон идет Эмброуз Эберкромби, — сказал молодой англичанин.
— Привет, Фрэнк. Привет, Барлоу, — сказал сэр Эмброуз Эберкромби, поднимаясь по ступенькам веранды. — Ну и жарища была нынче. Присяду с вашего позволения. Хватит. — Он повернулся к молодому англичанину, наливавшему ему виски. — Теперь дополна содовой, пожалуйста.
Сэр Эмброуз носил костюм из темно-серой фланели, галстук итонской крикетной команды и соломенную шляпу, на которой была лента цветов фешенебельного крикетного клуба Англии. В этом костюме он неизменно появлялся в солнечные дни, а когда погода давала для этого повод, надевал фуражку с большим козырьком и шотландскую накидку с капюшоном. Ему было, как туманно выражалась леди Эберкромби, «около шестидесяти», однако, потратив долгие усилия на то, чтобы казаться моложе своих лет, он уповал теперь на почести, которые приносит возраст. В самое последнее время его почему-то стало тешить прозвище «Наш Старикан».
— Давно уже собирался навестить вас. Вот что здесь паршиво, так это то, что дел до черта, дела тебя засасывают и не остается времени для контактов. А нам ведь не годится терять связь. Мы, англичашки, должны держаться вместе. И ты тоже не должен прятаться, Фрэнк, слышишь, старый отшельник.
— Я еще помню время, когда ты жил здесь по соседству.
— Правда? Подумать только. Ты, должно быть, прав. Давненько же это было. Еще до того, как мы перебрались на Беверли-хилз. Ты знаешь, конечно, что теперь-то мы в Бел-Эйр. Сказать по правде, там мне тоже не сидится. Я купил участок на Пэсифик-Пэлисейдз. Жду только, когда строительство подешевеет. Так где ж это я тогда жил? Вон там, напротив, через улицу?
Именно там, через улицу, лет двадцать тому назад или больше, когда этот ныне заброшенный район был еще самым фешенебельным. Сэр Фрэнсис, едва вступивший в средний возраст, был в те времена единственным аристократом в Голливуде, старейшиной здешнего английского общества, главным сценаристом компании «Мегалополитен пикчерз» и президентом крикетного клуба. В те времена молодой или моложавый Эмброуз Эберкромби мельтешил на съемочных площадках, создавая свою знаменитую серию изнуряющих акробатически-героически-исторических ролей, и почти каждый вечер заходил к сэру Фрэнсису, чтобы подкрепиться. Теперь английские титулы наводняли Голливуд, и некоторые были подлинными, а сэр Эберкромби, как передавали, с пренебрежением отзывался о сэре Фрэнсисе, называя его «аристократом эпохи Ллойд Джорджа»[58]. Сапоги-скороходы, стремительная обувь неудачника, далеко унесли старого джентльмена от стареющего. На студии сэр Фрэнсис опустился до отдела рекламы, а в крикетном клубе был теперь лишь одним из десятка его вице-президентов. И плавательный бассейн, в котором некогда, точно в аквариуме, поблескивали длинные конечности забытых ныне красавиц, был пуст, потрескался и зарос сорной травой.
И все-таки между двумя джентльменами сохранилось какое-то подобие рыцарственной связи.
— Как дела у вас в «Мегало»? — спросил сэр Эмброуз.
— Сильно обеспокоены. Неприятности с Хуанитой дель Пабло.
— Сладострастная, томительная и ненасытная?
— Эпитеты не совсем те. Ее называют, точнее сказать — называли, «вспыльчивой, блистательной и садистски жестокой». Можешь мне поверить, потому что я сам эти эпитеты придумал. Тогда это было, как здесь выражаются, экстра-класс и внесло новую струю в рекламу кинозвезд.
Мисс дель Пабло была с самого начала под моим особым покровительством. Я помню день, когда она здесь появилась. Ее купил бедняга Лео — за глаза ее. Звали ее тогда Крошка Ааронсон — у нее были великолепные глаза и роскошные черные волосы. Так что Лео сделал из нее испанку. Он больше чем наполовину укоротил ей нос и послал на шесть недель в Мексику изучать стиль фламенко. Потом передал ее мне. Это я придумал ей имя. Это я сделал ее антифашистской беженкой. Это я объявил, что она возненавидела мужчин после того, что ей пришлось претерпеть от франкистских марокканцев. Тогда это был новый поворот. И он сработал. Она и впрямь была очень хороша в своем роде — этакий, знаешь ли, устрашающий природный оскал. Ноги у нее, правда, никогда не были фотогеничными, но мы выпускали ее в длинных юбках, а в сценах насилия снимали нижнюю часть тела с дублершей. Я гордился ею, и она годна была еще по меньшей мере лет на десять работы.
Ну а теперь тут у них в верхах новая политика. В этом году мы выпускаем только здоровые фильмы, чтобы угодить Лиге благопристойности. Так что бедной Хуаните приходится начинать все сначала — в амплуа ирландской простушки. Ей высветлили волосы и выкрасили их в морковный цвет. Я им объяснил, что ирландские простушки темноволосые, но консультант по цвету настоял на морковном. Она теперь по десять часов в день учится говорить с ирландским акцентом, а ей, бедняжке, еще вдобавок вытащили все зубы. Раньше ей никогда не приходилось улыбаться открытой улыбкой, а для злой усмешки ее собственные зубы были совсем не плохи. Теперь ей все время приходится хохотать как безумной. Значит, нужны зубные протезы.
Я бился три дня, подыскивая для нее подходящее имя. Ни одно ей не понравилось. Предложил Морин — так их тут уже две; Диэйдра — никто не смог это выговорить; Уна — звучит по-китайски; Бриджит — слишком банально. Просто она не в духе, вот и все.
Сэр Эмброуз в соответствии с местным обычаем не слышал почти ничего из того, что говорил его собеседник.
— Да-да, — сказал он, — здоровые фильмы. Идея, конечно, правильная. Я заявил в «Клубе ножа и вилки»: «Всю жизнь я придерживался в кинематографе двух принципов: никогда не делай перед кинокамерой того, чего не сделал бы дома, и никогда не делай дома того, чего не сделал бы перед камерой».
Он стал подробно развивать эту тему, а сэр Фрэнсис, в свою очередь, углубился в собственные мысли. Так два аристократа добрый час просидели рядом на качелях, то давая волю красноречию, то рассеянно погружаясь в думы и созерцая вечерние сумерки сквозь монокли, и молодой человек наполнял время от времени их стаканы, а заодно и свой собственный.
Вечерний час располагал к воспоминаниям, и, когда собеседник его брал слово, сэр Фрэнсис мысленно переносился на четверть века назад на туманные лондонские улицы, только что освободившиеся на вечные времена и покуда стоит мир от страха перед цеппелинами; перед его глазами вставали то Хэролд Монро, читающий стихи в Книжной лавке поэтов; то последнее выступление Бландена в «Лондонском Меркурии»; то появление Робэна де ла Кондамина на утренниках в «Фениксе»; то обеды со знаменитой Мод на Гровнер-сквер; то чаепития со знаменитым Госсом на Хэновер-террас; то утро, когда он и еще одиннадцать рифмоплетов-неврастеников встретились в пивной на Флит-стрит, чтобы отправиться на денек в Метроленд и поиграть в крикет, а посыльный с гранками из редакции нашел его там и стал хватать за рукав на ходу; то бесчисленные тосты на бесчисленных банкетах в честь бесчисленных сынов отчизны, чья бессмертная память…
У сэра Эмброуза было больше всяких передряг в прошлом, но жил он настоящим. Размышляя о своем нынешнем положении, сэр Эмброуз неторопливо и любовно перебирал в уме все преимущества этого положения.
— Ладно, — сказал он наконец. — Я, пожалуй, поплетусь. Хозяюшка моя небось заждалась. — Однако он почему-то не встал, а повернулся вместо этого к молодому человеку: — Ну а как ваши дела, Барлоу? Что-то давненько вас не видно на нашем крикетном поле. Должно быть, много работы на «Мегало»?
— Нет. Собственно говоря, срок моего контракта истек три недели назад.
— Ах, вот как! Но вы, наверное, даже рады сейчас отдохнуть. Я вот наверняка был бы рад. — Молодой человек промолчал. — Хотите послушать моего совета? Сидите спокойно дома, пока не подвернется что-нибудь приличное. Не хватайтесь за первое, что предложат. Эти люди умеют уважать человека, который знает себе цену. И очень важно сохранить уважение этих людей.
У нас, англичашек, положение тут особое, сами знаете, Барлоу. Эти люди, может, и посмеиваются над нами слегка — над тем, как мы говорим, как одеваемся, над нашими моноклями, — может, им кажется, что мы слишком чопорны и держимся особняком, но, видит Бог, они нас уважают. И ваше слово для них гарантия качества. Эти люди не станут зря платить, так что здесь вы встретите только самый цвет английской нации. Я иногда чувствую себя чем-то вроде посла, Барлоу. Я имею в виду ответственность, и ее в той или иной степени несет здесь каждый англичанин. Конечно, мы не можем быть все на самом верху, но все мы на ответственных ролях. Вы никогда не встретите англичанина в самых низах — кроме как в Англии, конечно. И здесь это понимают благодаря тону, который мы задали. Есть должности, на которые англичанин просто не пойдет.
Несколько лет назад произошел печальный случай с одним весьма приличным молодым человеком, который приехал сюда на должность художника-декоратора. Неглупый малый, однако он тут совсем одичал — стал носить покупные туфли, ремень вместо подтяжек, расхаживал без галстука и ел в этих аптечных забегаловках. А потом — вы просто не поверите — ушел со студии и открыл ресторанчик на паях с каким-то итальянцем. Тот его, конечно, надул, и вскоре он уже стоял за стойкой — смешивал коктейли. Жуткая история. Мы собрали в крикетном клубе деньги по подписке, хотели отослать его обратно в Англию, так этот мерзавец не захотел ехать. Сказал, что ему тут, видите ли, нравится. Человек этот причинил нам непоправимое зло, Барлоу. Иначе как дезертирством это не назовешь. К счастью, тут началась война. Он отправился домой как миленький и был убит в Норвегии. Он искупил свою вину, но я всегда думаю, насколько же лучше не иметь вины, которую следует искупить.
Так вот, у вас есть имя в вашей собственной сфере, Барлоу. Иначе бы вы здесь не оказались. Конечно, сейчас спрос на поэтов не такой уж большой, но рано или поздно поэт им понадобится, и вот тогда они придут к вам на поклон — если только, конечно, вы не сделаете за это время ничего такого, что уронило бы вас в их глазах. Вы меня понимаете? Ну ладно, я что-то совсем заболтался с вами, а дома моя хозяюшка ждет меня к ужину. Я уж поплетусь. До свиданья, Фрэнк, рад был с тобой побеседовать. Заглядывал бы почаще к нам в крикетный клуб. До свиданья, молодой человек, и запомните то, что я вам сказал. Вы можете подумать: вот ведь старый хрыч, учить вздумал, но поверьте, уж в этом-то я кое-что смыслю. Не надо, не провожайте, дорогу я знаю.
Было уже совсем темно. Фары автомобиля, ждавшего их гостя у калитки, разбрызгали сверкающий веер лучей за пальмами, скользнули по фасаду бунгало и постепенно померкли в стороне Голливудского бульвара.
— Что вы поняли из всего этого? — спросил Деннис Барлоу.
— Он что-то прослышал. Оттого и приезжал.
— Это должно было выплыть наружу.
— Разумеется. И если расценивать изгнание из здешнего английского общества как мученичество, можете приготовиться к нимбу и пальмовой ветви. Вы сегодня не были на службе?
— Я в ночную смену. Мне даже удалось сегодня кое-что написать. Тридцать строк. Хотите взглянуть?
— Нет, — сказал сэр Фрэнк. — Одно из бесчисленных преимуществ моего изгнания — то, что мне не приходится читать неопубликованных стихов и, если на то пошло, вообще никаких стихов, опубликованных или неопубликованных. Заберите их, мой мальчик, шлифуйте и отделывайте на досуге. Меня они только расстроят. Я не пойму их и, может, даже усомнюсь в целесообразности вашей жертвы, которую я сейчас так горячо одобряю. Вы — молодой гений, надежда английской поэзии. Я слышал об этом, и я в это свято верю. Я выполнил свой долг перед искусством уже тем, что помог вам бежать из упряжки, с которой сам давно и счастливо примирился.
Вас не водили в детстве на рождественское представление, которое называется «У конца радуги»? Очень глупая пьеска. Там святой Георгий и какой-то мичман летят на ковре-самолете спасать детей, которые заблудились и попали в страну Дракона. Так вот, мне это всегда казалось грубым вмешательством в чужую жизнь. Эти детишки были там совершенно счастливы. Получая письма из дому, насколько мне помнится, они кланялись с почтительностью, но даже не вскрывали их. Ваши стихи для меня — это письма из дому, так же как Кьеркегор, и Кафка, и «Шотландец» Уилсон. Я кланяюсь, не возмущаясь и не протестуя. Налейте мне еще, дружок. Я ведь ваше memento mori[59]. Я крепко завяз в путах короля Дракона. Голливуд стал моей жизнью.
Вы, может быть, видели тут в одном из журналов фотографию отрезанной собачьей головы — русские, осуществляя какие-то гнусные планы Москвы, поддерживают жизнь в этой голове, подкачивая в нее кровь из бутылочки. Так вот, когда эта собачья голова чует кошачий запах, с языка у нее капает слюна. Так и мы здесь все. Студии подкачивают в нас жизнь из бутылочки. Так что мы сохраняем еще способность к нескольким простейшим реакциям — но не более того. А если нас когда-нибудь отсоединят от бутылочки, мы просто погибнем. Мне приятно думать, что именно мой пример, который был у вас перед глазами изо дня в день больше года, вдохновил вас на героическое решение обосноваться в независимой профессии. Вы видели пример, а время от времени, вероятно, слышали и совет. Уж я, должно быть, не жалел слов, убеждая вас бросить студию, пока вы еще можете это сделать.
— Да, убеждали. Тысячу раз.
— Ну уж, конечно, не так часто. Раз или два, находясь в подпитии. Но уж не тысячу. И мой совет, вероятно, сводился к тому, чтобы вы вернулись в Европу. Однако никогда я не рекомендовал вам ничего столь безудержно мрачного, прямо-таки елизаветински жуткого, как эта работа, которую вы выбрали. Ну а что, наш нынешний хозяин доволен вами, как вы думаете?
— Мои манеры соответствуют. Так он сказал мне вчера. Человек, который работал до меня, оскорблял чувства клиентов трудовым энтузиазмом. Я кажусь им почтительным. Из-за сочетания моей меланхолии с английским акцентом. Некоторые наши клиенты уже отзывались об этом с одобрением.
— Ну а наши соотечественники? Боюсь, что от них мы не можем ждать сочувствия. Как выразился наш гость? «Есть должности, на которые англичанин просто не пойдет». Ваша должность, мой мальчик, стоит в этом ряду далеко не последней.
После ужина Деннис Барлоу отправился на работу. Он мчался в машине по направлению к Бербанку, мимо ярко освещенных мотелей, мимо позлащенных врат и залитых светом храмов в мемориальном парке «Шелестящего дола», до самой окраины, где размещалось его бюро. Мисс Майра Поски, его сослуживица, ожидала сменщика, освежив косметику и уже водрузив на голову шляпку.
— Надеюсь, не опоздал?
— Вы умничка. У меня свидание возле планетария, не то б я непременно осталась и сварила вам чашечку кофе. Работы весь день не было — разослала несколько поминальных карточек, вот и все. Да, мистер Шульц сказал, что, если что-нибудь поступит, ставьте сразу на лед — такая жара. Ну, счастливо. — И она ушла, оставив бюро на Денниса.
Контора была обставлена с мрачной изысканностью, оживляемой лишь двумя бронзовыми щенками на камине. Только низенькая стальная тележка, отделанная белой эмалью, отличала эту контору от сотни тысяч других американских контор и приемных, тележка да еще больничный запах. Около телефона стояла вазочка с розами — запах роз мешался с запахом карболки, однако не мог его одолеть.
Деннис уселся в одно из кресел, положил ноги на тележку и погрузился в чтение. Служба в военно-воздушных силах превратила его из простого любителя чтения в запойного книгочея. Существовали некоторые вполне известные и даже избитые стихотворные строки, которые из всего множества ассоциаций с неизбежностью рождали в нем именно те ощущения, которых он жаждал; он не экспериментировал — это было патентованное средство, его надежное снадобье, великое колдовство. Он открывал антологию, как женщина вскрывает пачку любимых сигарет.
За окнами — в город и прочь от города — непрерывным потоком неслись машины, ослепляя светом фар, оглушая рычанием приемников, включенных на полную громкость.
«В твоих объятьях тихо угасаю, — читал он, — я здесь, у мира сонного предела»[60]. — И повторял про себя: «Здесь, у мира сонного предела. Здесь, у мира сонного предела…» — как монах на молитве, который без конца повторяет все один и тот же текст, полный тайного смысла.
Неожиданно зазвонил телефон.
— «Угодья лучшего мира», — ответил он. Послышался женский голос, охрипший, как ему показалось, от волнения: при других обстоятельствах он подумал бы, что женщина пьяна.
— Говорит Теодора Хайнкель, миссис Уолтер Хайнкель, Виа Долороза, дом 207, Бел-Эйр. Вы должны приехать немедленно. Не могу рассказать вам по телефону. Мой маленький Артур… его только что принесли. Он как выбежал утром из дому, так больше и не вернулся. Я не особенно волновалась, потому что уже не раз бывало, что он убегал. Я говорю мистеру Хайнкелю: «Уолтер, как же я пойду на этот прием, когда я даже не знаю, где Артур», а мистер Хайнкель говорит: «Какого черта! Не можем же мы в последнюю минуту подвести миссис Лестер Скрип», так что я и поехала, а там я за столом сидела по правую руку от мистера Лестера Скрипа, как вдруг они пришли и говорят… Алло, алло, вы слушаете?
Деннис поднял трубку, уже давно лежавшую на промокашке.
— Выезжаю немедленно, миссис Хайнкель. Улица Долороза, 207, так вы, кажется, сказали.
— Я сказала, что я как раз сидела за столом справа от мистера Лестера Скрипа, когда мне сообщили про это. Мистеру Скрипу и мистеру Хайнкелю пришлось меня под руки вести до автомобиля.
— Я выезжаю немедленно.
— Сколько буду жить, себе не прощу. Подумать только, дома никого не было, когда его принесли. Прислуга ушла, и шоферу мусорной машины пришлось звонить нам из аптеки… Алло, алло, вы слышите? Я сказала, что мусорщику пришлось звонить из аптеки.
— Я еду, миссис Хайнкель.
Деннис запер контору и задом вывел машину из гаража — на сей раз не свою машину, а простой черный фургон, которым они пользовались для служебных выездов. Через полчаса он был уже в обители горя. Тучный мужчина встретил его на садовой дорожке. Он был приодет для вечернего приема в соответствии с самой последней здешней модой — костюм из твида, сандалии, шелковая рубашка травянисто-зеленого цвета с открытым воротом и вышитой монограммой во всю грудь.
— Рад вас видеть! — сказал он.
— Мистеру У.X. всякого счастья[61]! — невольно произнес Деннис.
— Простите? Не понял.
— Я из «Угодьев лучшего мира».
— Да-да, заходите.
Деннис открыл заднюю дверь фургона и вынул алюминиевый контейнер. — Хватит?
— Останется.
Они вошли в дом. В холле, сжимая в руке стакан, сидела женщина в длинном вечернем платье с глубоким вырезом и в бриллиантовой тиаре.
— Это было ужасное переживание для миссис Хайнкель.
— Я не хочу его видеть. Не хочу говорить об этом, — сказала женщина.
— Фирма «Угодья лучшего мира» берет на себя все хлопоты, — сказал Деннис.
— Вот там, — сказал мистер Хайнкель. — В буфетной.
Терьер лежал на сушильной доске возле раковины. Деннис перенес его в контейнер.
— Вы не согласились бы помочь мне?
Вдвоем с мистером Хайнкелем они донесли свою ношу до фургона.
— Как вы хотели бы — обсудить все приготовления сейчас или заехать к нам утром?
— По утрам я очень занят, — сказал мистер Хайнкель. — Пройдемте в мой кабинет.
На письменном столе стоял поднос. Они налили себе виски.
— У меня есть проспект, рекламирующий наши услуги. Что вы предпочитаете — простое погребение или кремацию?
— Простите? Не понял.
— Зарыть или сжечь?
— Сжечь, я думаю.
— У меня есть фотографии, на которых представлены урны различных стилей.
— Самая лучшая нас устроит.
— Вы хотите получить нишу в нашем колумбария или предпочли бы держать останки у себя дома?
— Вот это, что вы назвали первым.
— А как в отношении религиозных обрядов? У нас есть пастор, который охотно отправляет службу.
— Видите ли, мистер…
— Барлоу.
— Так вот, мистер Барлоу, мы с женой люди не очень набожные, однако тут такой случай, что миссис Хайнкель, пожалуй, пригодилось бы все, что можно, по части утешения.
— Погребение по первому классу в нашем бюро содержит ряд совершенно оригинальных процедур. Так, в момент предания тела огню из крематория вылетает отпущенный на волю белый голубь, символизирующий душу усопшего.
— Да, — сказал мистер Хайнкель. — Полагаю, что миссис Хайнкель это дело с голубем понравится.
— Каждую годовщину вы будете совершенно бесплатно получать по почте поминальную карточку следующего содержания: «Ваш маленький Артур вспоминает вас сегодня на небе и виляет хвостом».
— Прекрасная идея, мистер Барлоу.
— В таком случае вам только остается подписать заказ и…
Миссис Хайнкель печально кивнула ему, когда он проходил через холл. Мистер Хайнкель проводил его до машины.
— Рад был познакомиться с вами, мистер Барлоу. Право же, вы избавили меня от многих хлопот.
— Именно этой цели служит бюро «Угодья лучшего мира», — сказал Деннис и укатил прочь.
Затормозив у здания конторы, он перетащил собаку в холодильник.
Это была вместительная камера, в которой уже хранились два или три небольших трупика. Возле сиамской кошечки стояла банка фруктового сока и тарелка с бутербродами. Деннис перенес свой ужин в приемную и, жуя бутерброд, вернулся к прерванному чтению.
Глава 2
Дни шли за днями, наступила пора дождей, количество вызовов сократилось, а потом их и вовсе не стало. Деннис Барлоу был доволен работой. Художник в самой натуре своей сочетает разносторонность с пунктуальной точностью, угнетает его только работа однообразная или временная. Деннис подметил это еще во время войны: его друг-поэт, служивший в гренадерском полку, до конца сохранял энтузиазм, тогда как ему самому до смерти надоели его скучные обязанности в транспортной команде.
Он служил в частях снабжения ВВС в одном итальянском порту, когда вышла в свет его первая и единственная книжка. Англия была в ту пору неподходящее гнездо для певчих птичек; ламы напрасно таращились в белизну снегов, ожидая нового воплощения Руперта Брука. Стихи Денниса, появившиеся среди завывания бомб и удручающе бодрых изданий Канцелярии Его Величества, произвели сверх ожидания то же впечатление, что и подпольная пресса Сопротивления в оккупированной Европе. Книжку превознесли до небес, и, если бы не лимит на бумагу, она вышла бы и разошлась тиражом романа. В тот самый день, когда в Казерте получили номер «Санди таймс» с рецензией на его стихи, занимавшей целых два столбца, Деннису был предложен пост личного помощника одного из маршалов авиации. Он угрюмо отклонил этот пост, остался у себя в снабжении и заочно был удостоен на родине полудюжины литературных премий. Уволившись из армии, он отправился в Голливуд, где нужен был специалист для работы над сценарием о жизни Шелли.
И вот там, на студии «Мегалополитен», он столкнулся с той же бессмысленной суетой, что и в армии, только еще удесятеренной нервным возбуждением, столь характерным для студий. Он возроптал, пришел в отчаянье и наконец бежал.
Теперь он был доволен; у него была почтенная профессия, мистер Шульц его похваливал, а мисс Поски терялась в догадках. Впервые в жизни он понял, что значит «открывать новый путь»; путь этот был довольно узок, но зато это был достойный путь, он проходил в стороне от главных дорог и вел в беспредельную даль.
Не все его клиенты были столь же щедры и сговорчивы, как чета Хайнкелей. Иные старались увильнуть даже от десятидолларовых похорон, другие, попросив забальзамировать своих любимцев, вдруг уезжали на восток страны и вовсе забывали о них; одна клиентка больше недели продержала у них тушу медведицы, занимавшую полхолодильника, а потом вдруг передумала и вызвала чучельщика. Зато иногда судьба вдруг вознаграждала его за эти тяжкие дни какой-нибудь ритуалистической, похожей на языческую оргию кремацией шимпанзе или погребением канарейки, над чьей крохотной могилкой взвод трубачей морской пехоты выводил сигнал «тушить огни». Калифорнийские законы запрещают разбрасывать человеческие останки с самолета, однако для представителей животного мира небо открыто, и однажды Деннису довелось рассеять по ветру над бульваром Заходящего Солнца бренный прах какой-то домашней кошки. Именно тогда он был сфотографирован репортером местной газеты, и это завершило его падение в глазах общества. Впрочем, ему это было безразлично. Его поэма то удлинялась, то укорачивалась, точно змея, ползущая по лестнице, и все же ощутимо продвигалась вперед. Мистер Шульц повысил ему жалованье. Раны юности затягивались. Здесь, «у мира сонного предела», он испытывал спокойную радость, какую прежде ему довелось испытать только раз в жизни, в один из великолепных пасхальных дней, когда, подбитый в каком-то школьном состязании, он лежал в постели, лелея свои почетные ушибы, и слушал, как внизу, под окнами изолятора, вся школа проходит строем на тренировку.
Однако если Деннис процветал, то у сэра Фрэнсиса дела шли все хуже и хуже. Старик терял душевное равновесие. Он ничего не ел за ужином и бессонно шаркал по веранде в тихий рассветный час. Хуанита дель Пабло без восторга относилась к своему преображению и, не имея возможности воздать за это великим мира сего, терзала своего старого друга. Сэр Фрэнсис делился с Деннисом своими горестями.
Импресарио Хуаниты упирал на аргументы чисто метафизического свойства: признаете ли вы существование его клиентки? А если так, то можете ли вы законным путем принудить ее уничтожить самое себя? И можете ли вы вступать с ней в какие-либо договорные отношения до того, как она обретет элементарные отличительные признаки личности? Ответственность за ее метаморфозу была возложена на сэра Фрэнсиса. С какой легкостью он породил ее на свет лет десять тому назад — начиненную динамитом вакханку с пристаней Бильбао! И как тяжко было ему сейчас рыскать в номенклатуре кельтской мифологии, сочиняя для нее новую биографию: романтика Мурнских гор, босоногая девочка, крестьяне поговаривают, что ее подбросили феи и что горные духи поверяют ей свои тайны; шальная девчонка, сорвиголова, она выгоняет осла из стойла и дурачит английских туристов в окружении скал и водопадов! Он читал все это вслух Деннису и сам видел, что это никуда не годится.
Он прочел все это и на совещании в присутствии пока еще безымянной актрисы, ее импресарио и адвоката; при этом присутствовали также начальник юридического отдела студии «Мегалополитен» и начальники отдела рекламы, отдела звезд и отдела внешних сношений. За все время своей работы в Голливуде сэру Фрэнсису ни разу не приходилось бывать на совещании, где собралось бы столько светил великого синедриона корпорации. Они отвергли его сюжет без всякого обсуждения.
— Поработай с недельку дома, Фрэнк, — сказал начальник отдела звезд. — Попробуй найти новый поворот. Или, может, тебе не по душе эта работа?
— Нет, что вы, — вяло возразил сэр Фрэнсис. — Совещание мне очень помогло. Теперь я знаю, чего вы хотите. Уверен, что теперь у меня все пойдет гладко.
— Я всегда с удовольствием смотрю все, что вы для нас стряпаете, — сказал начальник отдела внешних сношений. Но когда за сэром Фрэнсисом закрылась дверь, великие люди переглянулись и покачали головами. — Еще один бывший, — сказал начальник отдела звезд. — Ко мне только что приехал двоюродный брат жены, — сказал начальник отдела рекламы. — Может, дать ему попробовать?
— Да, Сэм, — согласились остальные. — Пусть двоюродный брат твоей жены попробует.
После этого сэр Фрэнсис засел дома, и каждый день секретарша приходила к нему писать под диктовку. Он молол какой-то вздор, сочиняя новое имя и новую биографию для Хуаниты: красавица Кэтлин Фитцбурк, гордость знаменитого охотничьего клуба «Голуэй Блэйзерс»; вечерняя заря опускается на берега и отвесные скалы этой суровой страны, а Кэтлин Фитцбурк одна, со сворой гончих, вдали от полуразрушенных башен замка Фитцбурк… Потом наступил день, когда секретарша не явилась. Он позвонил на студию. Его соединяли то с одним кабинетом, то с другим, и в конце концов чей-то голос сказал:
— Да, сэр Фрэнсис, все верно. Мисс Маврокордато переведена в отдел работы со зрителем.
— Ну так пусть мне пришлют еще кого-нибудь.
— Не уверен, что мы сможем сейчас кого-нибудь найти, сэр Фрэнсис.
— Понимаю. Как ни грустно, мне придется тогда поехать на студию и там закончить работу. Вы не смогли бы послать за мной машину?
— Я соединю вас с мистером Ван Глюком.
И снова его стали соединять то с одним кабинетом, то с другим, перекидывая, как волан, пока наконец чей-то голос не произнес:
— Диспетчер по транспорту. Нет, сэр Фрэнсис, к сожалению, у нас сейчас нет под рукой ни одной студийной машины.
Уже ощущая, как плащ короля Лира обволакивает его плечи, сэр Фрэнсис нанял такси и поехал на студию. Он кивнул девушке за конторкой у входа с чуть меньшей учтивостью, чем обычно.
— Доброе утро, сэр Фрэнсис, — сказала она. — Чем могу быть вам полезна?
— Спасибо, ничем.
— Вы кого-нибудь ищете?
— Нет, никого.
Лифтерша взглянула на него вопросительно.
— Хотите подняться?
— Конечно, к себе на третий.
Он прошел по знакомому безликому коридору, распахнул знакомую дверь и замер на пороге. За его столом сидел какой-то не известный ему человек.
— Простите, — сказал сэр Фрэнсис. — Что за глупость. Никогда со мной этого не случалось. — Он попятился и закрыл дверь. Потом тщательно осмотрел её. Номер комнаты был тот же. Он не ошибся. Однако в прорезь, где последние двенадцать лет — с тех самых пор, как его перевели из сценарного отдела, — стояло его имя, теперь была вставлена карточка с другим именем: «Лоренцо Медичи». Он снова открыл дверь.
— Простите, — сказал он. — Но, должно быть, произошла какая-то ошибка.
— Вполне возможно, — сказал мистер Медичи жизнерадостно. — Похоже, здесь все какие-то малость чокнутые. Я тут добрых полдня выгребал из комнаты всякое барахло. Куча хлама, как будто здесь жил кто-нибудь: какие-то пузырьки с лекарствами, книжки, фотографии, детские игры. Кажется, это от какого-то старого англичанина, который дал дуба.
— Я и есть тот старый англичанин, но я не дал дуба.
— Страшно за вас рад. Надеюсь, среди этого хлама ничего ценного не было. А может, это еще валяется тут где-нибудь.
— Пойду повидаю Отто Баумбайна.
— Этот тоже чокнутый, а только вряд ли он что-нибудь знает насчет вашего барахла. Я просто выставил все в коридор, и точка. Вот, может, уборщица…
Сэр Фрэнсис дошел по коридору до кабинета помощника директора.
— У мистера Баумбайна сейчас совещание. Передать ему, чтобы он вам позвонил?
— Ничего, я подожду.
Он уселся в приемной, где две машинистки вели по телефону бесконечно длинные и сугубо интимные разговоры. Наконец вышел мистер Баумбайн.
— Ах, это ты, Фрэнк, — сказал он. — Как мило, что ты заглянул к нам. Очень рад. Нет, право, я очень рад. Заходи еще как-нибудь. Заходи почаще, Фрэнк.
— Я хотел поговорить с тобой, Отто.
— Да, только сейчас я как раз страшно занят, Фрэнк. А что, если я позвоню тебе где-нибудь на той неделе?
— Я только что обнаружил в своем кабинете какого-то мистера Медичи.
— Да, верно, Фрэнк. Только он произносит это «Медисси», что-то в этом роде; ты так произнес, будто он итальяшка какой-нибудь, а мистер Медисси очень приличный молодой человек, и у него очень, очень хорошие, прямо-таки замечательные анкетные данные, Фрэнк, так что я с большим удовольствием познакомлю тебя с ним.
— Ну а мне где работать?
— Ах, видишь ли, Фрэнк, об этом мне очень хотелось бы поговорить с тобой, но только сейчас у меня совсем нет времени. Ну просто совсем нет, правда, детка?
— Правда, мистер Баумбайн, — сказала одна из секретарш. — Сейчас у вас решительно нет времени.
— Вот видишь. У меня просто нет времени. Я знаю, что мы сделаем, детка, попытайтесь устроить сэра Фрэнсиса на прием к мистеру Эриксону. Уверен, что мистер Эриксон будет очень рад.
Так сэр Фрэнсис попал на прием к мистеру Эриксону, непосредственному начальнику мистера Баумбайна, и тот с недвусмысленной нордической прямотой объяснил ему то, о чем сэр Фрэнсис уже начал смутно догадываться, — что его долголетняя служба на благо компании «Мегалополитен пикчерз инкорпорейтед» пришла к концу.
— Вежливость требовала, чтоб меня хотя бы известили об этом, — сказал сэр Фрэнсис.
— Письмо уже послано. Застряло где-нибудь, вы же знаете, как бывает; столько всяких отделов должны его подписать — юридический отдел, бухгалтерия, отдел производственных конфликтов. Впрочем, в вашем случае я не предвижу никаких осложнений. Вы, к счастью, не член профсоюза. А то время от времени их треугольник протестует против нерационального использования кадров — это когда мы привозим кого-нибудь из Европы, из Китая или еще откуда-нибудь, а через неделю увольняем. Но у вас совсем другой случай. Вы у нас давно работаете. Почти двадцать пять лет, так, кажется? В вашем контракте даже обратный билет на родину не оговорен. Так что все должно пройти гладко.
Сэр Фрэнсис покинул кабинет мистера Эриксона и пошел прочь из великого муравейника, который именовался мемориальным блоком имени Уилбура К. Лютита и был построен уже после того, как сэр Фрэнсис приехал в Голливуд. Уилбур К. Лютит был тогда еще жив; однажды он даже пожал руку сэру Фрэнсису своей коротенькой толстой ручкой. Сэр Фрэнсис видел, как росло это здание, он даже занимал какое-то вполне почетное, хотя и не самое видное место на церемонии его открытия. На памяти сэра Фрэнсиса здесь заселялись, пустели и вновь заселялись комнаты, менялись на дверях таблички с именами. На его глазах приходили одни и уходили другие. Он видел, как пришли мистер Эриксон и мистер Баумбайн и как ушли люди, имен которых он теперь уже не мог припомнить. Он помнил лишь беднягу Лео, который вознесся, пережил падение и умер, не оплатив счета в отеле «Сады аллаха».
— Вы нашли, кого искали? — спросила его девушка за конторкой, когда он выходил на залитую солнцем улицу.
Трава на юге Калифорнии растет плохо, и голливудская почва не благоприятствует высокому уровню крикета. По-настоящему в крикет здесь играли лишь несколько молодых членов клуба: что касается подавляющего большинства его членов, то крикет занимал в сфере их интересов столь же малое место, как, скажем, торговля рыбой с лотка или сапожный промысел в оборотах лондонских оптовиков. Для них клуб был просто символом их принадлежности к английскому клану. Здесь они по подписке собирали деньги для Красного Креста, здесь они могли вволю позлословить, не боясь, что их услышат чужеземные хозяева и покровители. Здесь они и собрались на другой день после внезапной смерти сэра Фрэнсиса Хинзли, точно заслышав звон набатного колокола.
— Его нашел молодой Барлоу.
— Барлоу из «Мегало»?
— Он раньше был в «Мегало». Ему не возобновили контракт. С тех пор…
— Да, слышал. Какой позор.
— Я не знал сэра Фрэнсиса. Он тут подвизался еще до нашего приезда. Кто-нибудь знает, отчего он это сделал?
— Ему тоже не возобновили контракт. Слова эти звучали зловеще для каждого, роковые слова, произнося которые следует прикоснуться к чему-нибудь деревянному или стожить пальцы крестом; нечестивые слова, которые вообще лучше не произносить вслух. Каждому из этих людей был отпущен кусок жизни от подписания контракта до истечения его срока, дальше была безбрежная неизвестность.
— А где же сэр Эмброуз? Сегодня он обязательно придет.
Наконец он пришел, и все отметили, что он уже вдел черную креповую ленту в петлицу своей спортивной куртки. Несмотря на поздний час, он принял протянутую ему чашку чаю, потянул ноздрями воздух, до удушья пропитанный ожиданием, и наконец заговорил:
— Все, без сомнения, уже слышали эту жуткую новость про старину Фрэнка?
Невнятный ропот.
— В конце жизни ему не везло. Не думаю, чтоб в Голливуде остался еще кто-нибудь, за исключением меня самого, кто помнил бы годы его расцвета. Он всегда помогал тем, кто в нужде.
— Это был ученый и джентльмен.
— Несомненно. Он был одним из первых знаменитых англичан, пришедших в кино. Можно сказать, именно он заложил тот фундамент, на котором я… на котором все мы строили в дальнейшем. Он был здесь нашим первым полномочным представителем.
— А по-моему, студия могла бы и не увольнять его. Что для них его жалованье? Он и так уж, наверно, недолго бы обременял их кассу.
— Люди доживают здесь до преклонного возраста.
— Не в этом дело, — сказал сэр Эмброуз. — На это были свои причины. — Он выдержал паузу и продолжал столь же интригующе и фальшиво: — Пожалуй, лучше все же рассказать вам, потому что это касается каждого из нас. Не думаю, чтобы многие из вас навещали старину Фрэнка в последние годы. Я навещал. Я стараюсь поддерживать связь со всеми англичанами, которые здесь живут. Так вот, вам, наверно, известно, что Фрэнк приютил у себя молодого англичанина по имени Деннис Барлоу. — Члены клуба переглянулись, одни уже поняли, о чем пойдет речь, другие строили догадки. — Я не хочу сказать о Барлоу ничего дурного. Он был уже известным поэтом, когда приехал сюда. Вероятно, он просто не сумел добиться здесь успеха. Нельзя строго судить его за это.
Каждый из нас подвергается здесь суровой проверке. И самые достойные побеждают. Барлоу потерпел неудачу. Когда я узнал об этом, я поехал навестить его. Со всей прямотой, какую допускали приличия, я посоветовал ему убраться восвояси. Я считал своим долгом по отношению ко всем вам сделать ему подобное предложение. Мы не заинтересованы в том, чтобы какие-то неимущие англичане отирались здесь, в Голливуде. И я сказал ему об этом прямо и честно, как британец британцу.
Вероятно, большинство из вас знает, что он сделал после этого разговора. Поступил на собачье кладбище.
В Африке, если белый скомпрометирует себя и бросит тень на свой народ, власти отсылают его обратно на родину. Мы здесь, к сожалению, не обладаем такими правами. Беда наша в том, что за безрассудство одного из нас страдать приходится всем. Неужели вы думаете, что при других обстоятельствах «Мегало» стала бы увольнять беднягу Фрэнка? Когда же они увидели, что он живет под одним кровом с типом, который работает на собачьем кладбище… Ну, подумайте сами! Вы ведь не хуже моего знаете здешние нравы. Ни в чем не могу упрекнуть наших американских коллег. Люди здесь великолепные, они создали самую великолепную кинопромышленность в мире. У них здесь свои мерки — это есть. Но кто станет их в этом упрекать? В мире конкуренции твой лицевой счет зависит от того, не ударишь ли ты в грязь лицом. А это, в свою очередь, зависит от репутации — от твоего лица, как выражаются на Востоке. Потеряй лицо — и ты все потеряешь. Фрэнк потерял лицо. Этим все сказано.
Что до меня, то мне жаль молодого Барлоу. Не хотел бы я сегодня оказаться на его месте. Я только что его навестил. Считал, что этого требуют правила. Надеюсь, что всякий из вас, кому доведется с ним встретиться, будет помнить при этом, что главным его грехом была неопытность. Он не хотел послушать совета. И вот…
Я поручил ему все приготовления к похоронам. Как только полиция передаст ему останки, он отправится в «Шелестящий дол». Я подумал, что надо занять его каким-нибудь делом, отвлечь от тяжелых мыслей.
Мы в такую минуту должны не уронить марку. Может, нам даже придется раскошелиться — не думаю, чтобы у старины Фрэнка осталось много, но деньги наши не будут потрачены зря, если нам удастся при этом поддержать престиж английской колонии в глазах кинопромышленников. Я уже связался с Вашингтоном и просил прислать на похороны нашего посла, но похоже, что они не смогут. Я сделаю еще одну попытку. Это очень важно. Думаю, что студии тоже не останутся в стороне, если только увидят, что мы держимся твердо…
Солнце опустилось за поросший кустарником западный склон холма. Небо еще было ясным, но тени уже стлались по жесткой неровной траве крикетного поля, неся с собой пронзительный холод.
Глава 3
Деннис относился к числу скорее чувствительных, чем глубоко чувствующих молодых людей. Он прожил свои двадцать восемь лет, так и не соприкоснувшись непосредственно с жестокостью и насилием, но принадлежал к поколению, которое смакует чужую близость со смертью. До того самого утра, когда, вернувшись усталым с ночной смены, он обнаружил хозяина дома в петле под потолком, ему ни разу не приходилось видеть человеческий труп. Зрелище было грубое и ошеломляющее; однако рассудком он принял это событие как часть установленного порядка вещей. Человеку, жившему в менее жестокие времена, подобное откровение могло поломать всю жизнь; Деннис воспринял происшедшее как нечто такое, чего всегда можно ожидать в том мире, который он знал, и потому, направляясь сейчас в «Шелестящий дол», испытывал только любопытство и приятное возбуждение.
С самого приезда в Голливуд ему тысячу раз доводилось слышать название этого грандиозного прибежища мертвых; оно упоминалось в местных газетах, когда чьим-либо особенно прославленным останкам воздавались особенно пышные почести или когда это заведение приобретало какой-нибудь новый шедевр для своего собрания шедевров современного искусства. В самое последнее время Деннис ощутил к этой фирме повышенный интерес чисто профессионального свойства, ибо их бюро «Угодья лучшего мира» самим возникновением обязано было скромному соперничеству с великим соседом. Жаргон, на котором Деннис теперь ежедневно изъяснялся в конторе, был почерпнут именно из этого возвышенного и чистого источника. И сколько раз после какого-нибудь удачного погребения мистер Шульц ликующе восклицал: «Это сделало бы честь самому „Шелестящему долу“». И вот теперь, точно священник-миссионер, совершающий свое первое паломничество в Ватикан, или верховный вождь из Экваториальной Африки, впервые восходящий на Эйфелеву башню, Деннис Барлоу, поэт и собачий похоронщик, въезжал в Золотые Ворота.
Это были огромные ворота, самые большие в мире, и они сверкали подновленной позолотой. Особая надпись возвещала о том, что все конкурирующие Золотые Ворота из стран Старого Света уступают им по своему размеру. Сразу за воротами открывались полукруг золотистого тиса, широкая дорога, усыпанная гравием, и аккуратно подстриженная лужайка, посреди которой возвышалась диковинная массивная стена из мрамора, имевшая форму раскрытой книги. На ней полуметровыми буквами было высечено:
СОН
И привиделся мне сон, и увидел я Новую Землю, избранную для СЧАСТЬЯ. Там, в окружении всего, чем ИСКУССТВО и ПРИРОДА могут возвысить Душу Человека, я увидел Счастливый Приют Упокоения Бесчисленных Незабвенных. И узрел я Ждущих Своего Часа, что стояли на берегу узкого потока, еще отделявшего их от тех, кто ушел первым. Молодые и старые, они были равно счастливы. Счастливы в окружении Красоты, счастливы от сознания того, что их Дорогие, Незабвенные совсем рядом, в лоне Красоты и Счастья, недостижимых на земле.
И услышал я голос, сказавший: «Сделай это».
И тогда я пробудился и, озаренный Надеждой и Светом моего СНА, сотворил ШЕЛЕСТЯЩИЙ ДОЛ.
ВОЙДИ ЖЕ, ПУТНИК, и БУДЬ СЧАСТЛИВ.
А чуть пониже гигантским курсивом была высечена факсимильная подпись: «УИЛБУР КЕНУОРТИ, СНОВИДЕЦ».
Скромный деревянный указатель, стоявший рядом, гласил: «О ценах справляться в конторе. Езжайте прямо».
Деннис поехал дальше сквозь зелень парка и вскоре увидел здание, которое в Англии принял бы за усадьбу какого-нибудь банкира времен короля Эдуарда. Дом был черно-белый, обшитый тесом, с островерхим фронтоном, фигурными трубами из кирпича и железными флюгерами. Деннис поставил свою машину рядом с десятком других и пешком пошел по дорожке, окаймленной самшитовой изгородью, мимо искусственной ложбины, засеянной травой, мимо солнечных часов и маленького бассейна для птиц, мимо грубой каменной скамьи и голубятни. Вокруг него тихо звучала музыка — приглушенная мелодия «Индусской песни любви», исполняемая на органе и воспроизводимая бесчисленными динамиками, спрятанными в разных частях сада.
Когда Деннис в первый раз шел по территории кинокомпании «Мегалополитен», воображение его никак не хотело примириться с тем фактом, что эти казавшиеся столь незыблемыми улицы и площади, представлявшие все разнообразие исторических эпох и климатических поясов, были всего-навсего оштукатуренными фасадами, за которыми обнаруживалась их фанерная изнанка. Здесь иллюзия была как раз обратной. Деннис с трудом заставил себя поверить, что стоявшее перед ним здание было капитальной постройкой в трех измерениях; впрочем, здесь, как и во всех других уголках «Шелестящего дола», естественно возникавшее недоверие тут же опровергалось писаным и рисованным словом.
«Эта точная копия старинной английской Усадьбы, — гласила надпись, — как и все сооружения „Шелестящего дола“, построена целиком из первоклассной стали и бетона, на фундаменте, достигающем скальной породы. Его устойчивость гарантируется при пожаре, землетрясении и… Имена тех будут жить вечно, кто оставил их в анналах „Шелестящего дола“».
Над пробелом в надписи уже работал художник, и Деннис, присмотревшись внимательнее, обнаружил, что стерты были слова «при взрыве бомбы», а на их месте уже намечены контуры новых слов — «при ядерном взрыве».
Под неотступное звучание музыки Деннис перешел из одного сада в другой; путь в контору пролегал через салон цветочного магазина. Здесь одна молоденькая продавщица опрыскивала духами букет сирени на прилавке, а другая разговаривала по телефону.
— …Ах, миссис Боголов, я очень сожалею, но это вот как раз не принято в «Шелестящем доле». Сновидец решительно выступает против венков и крестов. Мы только раскладываем цветы, сохраняя при этом их естественную красоту. Эта идея принадлежит самому Сновидцу. Уверена, что мистеру Боголову это бы тоже больше понравилось. Может, вы предоставите нам все сделать самим, миссис Боголов? Вы только скажите, какой вы располагаете суммой, а уж мы возьмем на себя все остальное. Уверена, что вы будете очень и очень довольны. Благодарю вас, миссис Боголов, нам очень приятно…
Деннис прошел через салон и, толкнув дверь с надписью «Отдел справок», очутился в некоем подобии банкетного зала с деревянными стропилами. «Индусская песнь любви» звучала и здесь, нежно воркуя за темными дубовыми панелями. Покинув группу своих сослуживиц, навстречу Деннису тотчас же поднялась молодая особа, типичная представительница той совершенно новой породы изысканно прелестных, обходительных и энергичных молодых особ, которых он на каждом шагу встречал в Соединенных Штатах. На ее белом форменном платьице, слева, над высоко поднятой грудью, было вышито: «Моргпроводница».
— Чем могу быть полезной?
— Мне нужно договориться о похоронах.
— О ваших собственных?
— Нет, конечно. А что, похоже, что я отхожу?
— Простите? Не поняла.
— Разве похоже, что я вот-вот умру?
— О, нет! Просто многие из наших друзей клиентов предпочитают Досрочные Приготовления. Пройдите, пожалуйста, сюда.
Она провела его через зал в мягко освещенный коридор. Здесь интерьер был выдержан в георгианском стиле. «Индусская песнь любви» кончилась, и теперь ее сменило пение соловья. В маленькой, задрапированной кретоном гостиной Деннис и девушка присели, чтобы обсудить все необходимые приготовления.
— Прежде всего я должна записать Основные Данные. Деннис назвал свое имя, а также имя усопшего. — Итак, мистер Барлоу, каковы были ваши планы? Вначале, конечно, бальзамирование, а вот дальше уже по вкусу — с кремацией или без кремации. Наш крематорий построен на научной основе, и температура там создается такая высокая, что все несущественные элементы улетучиваются с дымом. Дело в том, что некоторым клиентам не нравилось, чтобы зола от гроба и от одежды мешалась с прахом их Незабвенного. Упокоение останков у нас обычно производится путем обычной погребизации, погребизации с памятником, урнизации с урной и муризации в стене, однако в последнее время многие стали предпочитать саркофагизацию. Это исключительно оригинальный способ. Гроб в этих случаях помещают внутрь герметически закрытого саркофага, мраморного или бронзового, который устанавливается на поверхности земли, в нише мавзолея, с индивидуальным смотровым окошком из цветного стекла или без такового. Это, разумеется, для тех, для кого соображения стоимости не играют существенной роли.
— Мы хотим, чтобы мой друг был предан земле.
— Вы уже не в первый раз в «Шелестящем доле»?
— В первый.
— Тогда позвольте мне объяснить вам содержание Сна. Наш парк разделен на зоны. Каждая зона имеет свое название и соответствующее Творение Искусства. Зоны, конечно, различны по стоимости, а внутри зоны размеры цен зависят от приближенности к Творению Искусства. У нас есть одноместные участки по цене, не превышающей пятидесяти долларов. Они находятся в Приюте Паломника — это зона, которую мы сейчас осваиваем за топливной свалкой крематория. Дороже всего стоят участки на Озерном Острове. Они стоят около тысячи долларов. Есть еще зона Гнездышко Влюбленных, в центре которой очень, очень красивая мраморная копия знаменитой статуи Родена «Поцелуй». Там у нас есть парные участки по семьсот пятьдесят долларов с пары. Ваш Незабвенный был женат?
— Нет.
— Чем он занимался?
— Он был писателем.
— А, тогда ему подойдет Уголок Поэтов. Там у нас уже много самых выдающихся деятелей литературы — некоторые собственной персоной, а некоторые еще в порядке Досрочного Приготовления. Вы, без сомнения, знакомы с произведениями Амелии Бергсон?
— Слышал о них.
— Мы только вчера в порядке Досрочного Приготовления продали мисс Бергсон участок под статуей видного греческого поэта Гомера. Я могла бы поместить вашего друга рядом с ней. Но вы, вероятно, захотите осмотреть зону, прежде чем решить окончательно.
— Я хочу увидеть все.
— У нас, конечно, есть что посмотреть. Я попрошу одного из наших гидов показать вам территорию, как только мы покончим с Основными Данными. Какого вероисповедания был ваш Незабвенный, мистер Барлоу?
— Он был агностик.
— У нас есть две Свободные церкви в парке и несколько священников Свободной церкви. Евреи и католики предпочитают собственные заупокойные службы.
— Сэр Эмброуз Эберкромби, кажется, готовит какую-то свою панихиду.
— О, уж не работал ли ваш Незабвенный в кино, мистер Барлоу? В таком случае ему следует упокоиться в Стране Теней.
— Я думаю, он предпочел бы остаться с Гомером и мисс Бергсон.
— В таком случае вам больше всего подойдет Университетская церковь. Мы стараемся избавлять Ждущих Своего Часа от продолжительной церемонии. Насколько я поняла, ваш Незабвенный был кавказец?
— Нет, с чего вы взяли? Он был чистейший англичанин.
— Англичане и есть чистейшие кавказцы, мистер Барлоу. В парке у нас существуют строгие разграничения. Сновидец сделал это для удобства Ждущих. В трудные минуты жизни они предпочитают, чтобы их окружали представители их собственной расы.
— Кажется, я понял. Так вот, разрешите заверить вас, что сэр Фрэнсис был совершенно белый.
Когда Деннис произнес эти слова, в его сознании всплыло видение, которое все время таилось там, не оставляя его надолго: кулем висящее тело, лицо с красными, страшно выпученными глазами, щеки в синих пятнах — точь-в-точь раскрашенный под мрамор обрез конторской книги, разбухший язык, торчащий изо рта, будто кончик черной сосиски.
— Теперь давайте решим, какой гроб.
Они перешли в демонстрационный зал, где были установлены гробы всех видов, изготовленные из различных материалов; соловей свистал где-то под карнизом.
— Крышка из двух частей пользуется наибольшим спросом для Незабвенных мужского пола. Открытой для обозрения при этом остается лишь верхняя часть тела.
— Открытой?
— Конечно, когда Ждущие Своего Часа приходят проститься.
— Боюсь, нам это не подойдет. Я видел его. Он, знаете ли, страшно обезображен.
— Если в вашем случае есть какие-нибудь особые затрудненьица, вы должны предупредить наших косметичек. Вы увидитесь с одной из них перед уходом. Еще не было случая, чтобы они не справились.
Деннис выбирал не спеша. Он изучил все, что было выставлено на продажу, и со смирением признал, что даже самые скромные из здешних гробов превосходят самые пышные экземпляры, предлагаемые «Угодьями лучшего мира»; когда же он подошел к разряду двухтысячедолларовых — а это были еще не самые дорогие, — ему показалось, что он перенесся в Египет времен фараонов. Наконец он остановился на массивном гробе орехового дерева с бронзовыми украшениями, отделанном внутри стеганым атласом. Крышку, как ему и рекомендовали, он выбрал составную, из двух частей.
— Вы уверены, что им удастся привести его в божеский вид?
— В прошлом месяце к нам поступил Незабвенный, который утонул. Труп его целый месяц находился в океане и был опознан только по ручным часам. Наши так обработали этого жмурика, — сказала моргпроводница, головокружительно спадая с высот стиля, которого она до сих пор строго придерживалась, — что он у нас стал ровно жених. Уж что-что, а дело свое они тут знают. Да что там, если б он на атомной бомбе верхом сидел, и то бы они его в божеский вид привели.
— Это звучит утешительно.
— Еще бы. — И, снова перейдя на профессиональный тон с такой легкостью, будто она просто надела очки, моргпроводница продолжала:
— Как будет одет ваш Незабвенный? У нас здесь есть собственное ателье. Бывает, после долгой болезни костюмы больше не годятся Незабвенному, а бывает и так, что Ждущие Своего Часа не хотят, чтобы зря пропадал хороший костюм. Так вот, у нас можно одеть Незабвенного по весьма сходной цене, поскольку похоронный костюм не должен быть рассчитан на долгую носку, а в тех случаях, когда открытой для прощания остается только верхняя часть, и вовсе нужны только пиджак и жилет. Темная одежда служит наилучшим фоном для цветов.
Деннис был так потрясен, что не сразу обрел дар речи.
— Сэр Фрэнсис был не такой уж денди, — произнес он наконец. — Сомневаюсь даже, есть ли у него что-нибудь подходящее к случаю. У нас в Европе, насколько я помню, обычно используют саван.
— Саваны у нас тоже есть. Я покажу вам несколько образцов.
Она подвела его к стояку с выдвижными ящиками, похожему на шкаф для хранения церковных облачений и, выдвинув один из ящиков, показала одеяние, подобного которому Деннис не видел никогда в жизни. Заметив его интерес, она позволила ему рассмотреть это одеяние самым тщательным образом. С виду это был обыкновенный костюм, наглухо застегнутый спереди, но совершенно открытый на спине; рукава его, едва приметанные у плеча, не были сшиты по шву; к обшлагам была прикреплена полоска белого полотна шириной в полдюйма, и такой же треугольник заполнял вырез жилета; галстук-бабочка виднелся в просвете воротничка, который лежал так, словно был разрезан сзади. Это был апофеоз манишки.
— Наша фирменная модель, — сказала моргпроводница. — Впрочем, теперь ее многие копируют. Сама идея ее подсказана водевилем с переодеваниями. Костюм этот позволяет обряжать Незабвенного, не нарушая позы.
— Изумительно. Полагаю, что именно этот костюм нам и потребуется.
— В брюках или без брюк?
— А в чем, строго говоря, назначение брюк?
— Их надевают в Салоне Упокоения. Все зависит от того, какое прощание вы предпочтете — в шезлонге или в гробу.
— Прежде чем решить, мне, вероятно, следовало бы увидеть Салон Упокоения.
— Пожалуйста.
Они снова прошли через холл, и она повела его вверх по лестнице. Пение соловья сменилось теперь звуками органа, и мелодия Генделя сопровождала их до самого Отдела Упокоения. Там моргпроводница спросила у сотрудницы:
— Какой салон у нас свободен сейчас?
— Только Салон Нарциссов.
— Вот сюда, мистер Барлоу.
Миновав множество закрытых дверей мореного дуба, она открыла наконец одну из них и посторонилась, пропуская Денниса. Он очутился в маленькой комнатке со светлой мебелью и веселенькими обоями. Комнатка эта вполне могла бы сойти за кабинет современного и фешенебельного загородного клуба, если бы не обитая кретоном кушетка, вокруг которой стояли вазы с цветами. На этой кушетке возлежало нечто вроде восковой фигуры, изображающей пожилую женщину, одетую для вечернего приема. Ее руки в белых перчатках сжимали букет цветов, на носу у нее поблескивало пенсне.
— Ой! — вскрикнула провожатая Денниса. — Как я могла так ошибиться! Это Салон Подснежников. Он уже занят, — пояснила она без особой надобности.
— Да.
— Прощание начнется здесь только после полудня, но нам лучше уйти, пока не пришла косметичка. Они любят делать завершающие мазки в последнюю минуту, перед тем как впустят Ждущих Своего Часа. Во всяком случае, вы получили представление о том, что такое прощание в шезлонге. Для мужчин мы обычно рекомендуем прощание в полуоткрытом гробу, потому что ноги у них всегда выглядят не очень красиво.
Они вышли из салона.
— Много ли народу придет прощаться?
— Да, я полагаю, что очень много.
— Тогда лучше взять двухкомнатный салон. Лучше всего Салон орхидей. Сделать заказ?
— Да, пожалуйста.
— Прощание будет в полуоткрытом гробу, а не в шезлонге?
— Нет, не в шезлонге.
Она повела его обратно в приемную.
— Вам, должно быть, стало немножко не по себе, мистер Барлоу, когда мы вдруг наткнулись на Незабвенную?
— Да, по правде сказать, стало.
— В день похорон все будет иначе, вот увидите. Прощание очень, очень большой источник утешения. Ведь нередко Ждущие Своего Часа в последний раз видят своего Незабвенного на ложе страдания, среди всех мрачных предметов, сопутствующих болезни. А у нас он вновь предстает перед ними таким, каким они знали его в расцвете жизни, преображенным покоем и счастьем. На обычных похоронах они едва успевают бросить на него прощальный взгляд, проходя мимо гроба. Здесь же, в Салоне Упокоения, они могут стоять сколько угодно, навсегда запечатлевая это прекрасное, светлое воспоминание в своей памяти.
Деннис отметил, что она говорит временами по-писаному — словами Сновидца, а временами вдруг бойко и весело, на собственном языке. Когда они вернулись в приемную, она снова заговорила бойко и деловито:
— Ну, в общем, я у вас вроде бы все узнала, мистер Барлоу, теперь осталось расписаться под заказом — и задаток.
Деннис был готов к этому. Это входило в процедуру и у них, в «Угодьях лучшего мира». Он заплатил пятьсот долларов и получил квитанцию.
— А теперь одна из косметичек ждет вас, чтобы записать свои Основные Данные, но, прежде чем проститься с вами, мне бы хотелось ознакомить вас с Системой Досрочного Приготовления. Как вы на это смотрите?
— Меня глубоко интересует все, что касается «Шелестящего дола», хотя этот аспект занимает меня, пожалуй, меньше прочих.
— Система эта дает вам двойную выгоду, — теперь она шпарила по-писаному, — с точки зрения финансовой и с точки зрения психологической. Вы вступаете сейчас, мистер Барлоу, в пору своего максимального заработка. И вы задумываетесь над тем, какими способами обеспечить свое будущее — помещением денег в бумаги, страховкой и так далее. Вы хотите в спокойствии прожить остаток своих дней, но подумали ли вы о том, каким бременем ляжет ваша смерть на тех, кого вы оставите после себя? В прошлом месяце, мистер Барлоу, к нам обратилась одна супружеская пара, прося ознакомить ее с Системой Досрочного Приготовления. Это были весьма почтенные наши сограждане, находившиеся в расцвете своих сил, имевшие двух дочерей, едва вступивших в нежную пору девической зрелости. Они подробно ознакомились с нашей системой, и она произвела на них большое впечатление. Они сказали, что зайдут через несколько дней договориться обо всем окончательно и подписать контракт. Но лишь один день суждено было прожить этим людям. Да, мистер Барлоу, они погибли в автомобильной катастрофе, и вместо них к нам в приемную явились две безутешные сироты, пришли спросить, какие приготовления были сделаны их родителями. Мы были вынуждены сказать, что никаких приготовлений сделано не было. В час величайшей нужды и горя бедные дети не получили утешения. А насколько иначе все могло бы происходить, если б мы имели право сказать им: «Добро пожаловать под Счастливую Сень „Шелестящего дола“».
— Все это так, но у меня, знаете ли, нет детей. К тому же я иностранец. И я не собираюсь умирать здесь.
— Мистер Барлоу, вы боитесь смерти.
— Нисколько, уверяю вас.
— Природный инстинкт, мистер Барлоу, рождает в нас страх перед неизвестностью. Но если вы поговорите об этом прямо и откровенно, ваши мрачные мысли рассеются. Этому научили нас психоаналитики. Извлеките ваши тайные страхи на белый свет рядовой повседневности, мистер Барлоу. Поймите, что смерть — это не ваша личная трагедия, а участь всякого человека. Как прекрасно писал Гамлет: «То жребий всех живущих; живое все умрет»[62]. Вероятно, вы считаете, мистер Барлоу, что размышления на эту тему — вещь болезненная и даже небезопасная; однако научные исследования доказывают нам совершенно противоположное. Многие люди, поддавшись страху смерти, допускают, чтобы из-за этого их жизненная энергия преждевременно иссякала, а заработок падал. Избавившись от страха смерти, эти люди реально смогли бы умножить свои достижения на жизненном поприще. Обдумайте сей час, в здравом уме и добром здоровье, какая форма последнего упокоения вас устраивает, оплатите ее сейчас, пока вам это не так трудно, и избавьтесь от всех тревог. Гоните монету, мистер Барлоу: «Шелестящий дол» найдет применение вашим денежкам.
— Я самым тщательным образом обдумаю это предложение.
— Вот наш проспект. А теперь я должна оставить вас с косметичкой.
Она вышла из комнаты, и Деннис мгновенно забыл, как она выглядит. Он и раньше встречал ее повсюду. Американские матери, подумал Деннис, очевидно, распознают своих дочерей так же, как китайцы, если верить слухам, безошибочно отличают одного представителя своей, казалось бы, совершенно единообразной расы от другого, однако для европейского глаза молоденькая моргпроводница была на одно лицо со своими сестрами, которых можно встретить в салоне пассажирского лайнера или в приемной любого учреждения, на одно лицо с мисс Поски из «Угодьев лучшего мира». Это был стандартный продукт. Мужчина может проститься с такой девушкой в гастрономическом магазине Нью-Йорка, пролететь три тысячи миль и обнаружить ее в табачном киоске Сан-Франциско с той же неизбежностью, с какой он находит свои любимые комиксы на привычной полосе местной газеты; и девушка эта будет мурлыкать те же самые слова в минуту нежности, высказывать те же взгляды и пристрастия в светской беседе. Она была удобна; но Деннис принадлежал к более древней цивилизации, и запросы его были тоньше. Он искал неуловимое — черты, едва различимые за пеленой тумана, силуэт в освещенном дверном проеме, тайную грацию тела, скрытую под вельветом форменного платьица. Он не вожделел соблазнов этого изобильного континента, трепещущих рук и ног в плавательных бассейнах, широко раскрытых подведенных глаз и губ в свете прожекторов. Однако девушка, которая вошла сейчас, была единственной в своем роде. Подыскать определение было нетрудно; оно пришло на ум Деннису, как только он увидел ее: единственная Ева суматошного гигиенического Эдема, девушка эта принадлежала к вымирающему племени.
На ней был белый халатик, униформа се профессии; она вошла в комнату, присела к столу и положила перед собой авторучку с той же профессиональной уверенностью, что и ее предшественница, и все же это была она, та, которую Деннис тщетно искал весь этот одинокий год, проведенный в изгнании.
Волосы у нее были прямые и темные, брови вразлет, кожа прозрачная, не тронутая загаром. Губы ее, без сомнения подкрашенные, не были, однако покрыты толстым слоем помады, как у ее подруг, и пурпурные комья не забивали их нежных морщинок; тем не менее они, казалось, сулили безмерную полноту чувственного общения. У нее был округлый овал лица, чистый и классически легкий профиль. Во взгляде ее широко расставленных зеленоватых глаз таился явственный отблеск безумия.
У Денниса перехватило дыхание. Когда девушка заговорила, голос ее звучал энергична и прозаически.
— От чего скончался ваш Незабвенный? — спросила она.
— Он повесился.
— Сильно ли изуродовано лицо?
— Ужасно.
— Так обычно и бывает. Вероятно, им займется лично мистер Джойбой. Видите ли, тут все дело в массаже, надо разогнать кровь с тех участков, где она скопилась. У мистера Джойбоя исключительно замечательные руки.
— А что делаете вы?
— Волосы, кожу и ногти, кроме того, я передаю бальзамировщикам указания относительно позы и выражения лица. У вас есть с собой фотографии вашего Незабвенного? Они бывают очень полезны, когда мы восстанавливаем внешний облик. Был ли это очень жизнерадостный пожилой джентльмен?
— Нет, скорее напротив.
— Что мне ему записать — спокойное философское выражение или сосредоточенно-решительное?
— Я думаю, первое.
— Это выражение придать труднее всего, но мистер Джойбой как раз на нем специализируется — и еще на радостной детской улыбке. У Незабвенного были собственные волосы? А каким был обычно цвет его лица? Мы, как правило, различаем три цвета: сельский, спортивный и научный, другими словами, румяный, смуглый и белый. Научный? Очки тоже? Ах, монокль. Это всегда трудно, потому что мистер Джойбой любит придавать голове легкий наклон, чтобы достичь большей естественности позы. А пенсне и монокли трудно закрепить, когда тело окоченеет. К тому же монокль выглядит менее естественно, когда глаз закрыт. Вы хотите непременно сохранить эту черту Незабвенного?
— Для него это было весьма характерно.
— Как вам угодно, мистер Барлоу. Разумеется, мистер Джойбой справится и с этим.
— Мне даже нравится, что глаз будет закрыт.
— Отлично. Ваш Незабвенный завершил свой путь на веревке?
— На подтяжках.
— Тогда нам будет нетрудно. А то иногда остается совершенно неизгладимый след. В прошлом месяце у нас был Незабвенный, который завершил свой путь на электрическом проводе. Тут уж даже мистер Джойбой ничего не мог поделать. Пришлось повязать ему шарф до самого подбородка. Но с подтяжками все обойдется благополучно.
— Я вижу, вы чрезвычайно высокого мнения о мистере Джойбое.
— Это настоящий художник. Иначе его не назовешь.
— Вам нравится ваша работа?
— Для меня это очень, очень большая честь здесь работать, мистер Барлоу.
— И давно вы здесь?
Деннис замечал, что американцы, как правило, довольно терпеливо отвечают на расспросы о своей карьере. Но эта косметичка словно опустила еще одну завесу между собой и собеседником.
— Полтора года, — коротко ответила она. — Итак, я почти обо всем вас спросила. Есть ли какая-либо индивидуальная черта его внешнего облика, которую вы хотели бы сохранить? Иногда, к примеру, Ждущие Своего Часа просят, чтобы их Незабвенный держал трубку в зубах. Или держал что-нибудь в руке. Например, детям мы даем какую-нибудь игрушку. Есть что-нибудь особенно характерное для вашего Незабвенного? Многие выбирают какой-нибудь музыкальный инструмент. Одна дама прощалась с близкими, держа в руке телефонную трубку.
— Нет, не думаю, чтобы это было кстати.
— Значит, просто цветы? Еще один вопрос: зубные протезы. Были ли у него протезы, когда он скончался?
— Право, не знаю.
— Попытайтесь, пожалуйста, выяснить. Протезы часто пропадают в полицейском морге, и для мистера Джойбоя это создает дополнительные трудности. Незабвенные, которые завершают свой путь добровольно, как правило, все-таки носят протезы.
— Я поищу у него в комнате и, если не найду, заявлю в полицию.
— Большое вам спасибо, мистер Барлоу. На этом мои Основные Данные исчерпаны. Рада была с вами познакомиться.
— Когда я увижу вас?
— Послезавтра. Вам лучше прийти чуть пораньше — до начала прощания — и проследить, все ли так, как вы хотели.
— Как мне спросить вас?
— Спросите просто косметичку из Салона Орхидей.
— А имя?
— Имя ни к чему.
Она ушла, и к нему снова подошла моргпроводница, которую он успел забыть.
— Мистер Барлоу, я договорилась с зональным гидом, чтобы она показала вам участок. Деннис очнулся от глубокой задумчивости.
— О, я доверяю вам выбрать, — сказал он. — По правде говоря, на сегодня я увидел уже достаточно.
Глава 4
Деннис отпросился с работы у себя в «Угодьях лучшего мира» для подготовки похорон и участия в них. Мистер Шульц отпустил его неохотно. Ему сейчас трудно было управляться без Денниса: все больше автомобилей сходило с конвейеров, все больше водителей появлялось на дорогах и все больше домашних животных попадало в морг; к тому же в Пасадене прокатилась волна смертей от пищевого отравления. Холодильник был набит до отказа, и печи крематория пылали денно и нощно.
— Право же, мистер Шульц, это будет весьма полезно для меня, — сказал Деннис, желая хоть как-то оправдать свое дезертирство. — Я подробно знакомлюсь с методами их работы, набираюсь самых разнообразных идей, которые мы сможем использовать у себя.
— Зачем вам новые идеи? — удивился мистер Шульц. — Поменьше платить за топливо, поменьше платить сотрудникам, побольше работать — вот и все новые идеи, которые мне требуются. Вы только посмотрите, Барлоу, мы с вами одни обслуживаем все побережье. От Сан-Франциско до самой мексиканской границы нет ни одного заведения нашего типа. И разве мы требуем, чтобы за похороны своих любимых зверюшек люди платили по пять тысяч долларов? А многие ли платят пятьсот? От силы два клиента в месяц. И что нам говорит большинство клиентов? «Сожгите его подешевле, мистер Шульц, лишь бы он не попал в руки городских властей, а то сраму не оберешься». Или закажут могилку и какой-нибудь надгробный камень все за пятьдесят долларов, включая услуги по доставке. С самой войны никакого спроса на шикарные похороны, мистер Барлоу Люди притворяются, что они любят своих животных, разговаривают с ними, как будто это их собственные дети, а потом является какой-нибудь гражданин в новой машине, дальше целые реки слез, и вот вам: «Скажите, мистер Шульц, это действительно нужен камень, чтобы все было прилично?»
— Мистер Шульц, вы просто завидуете «Шелестящему долу».
— А почему бы и нет, когда я вижу, как люди тратят такие деньги на всяких родственников, которых они ненавидели всю жизнь, а зверюшек, которые их любили и были им верны, и никогда не задавали никаких вопросов, и ни на что не жаловались — в роскоши или в бедности, в радости или в горе, — зверюшек они торопятся зарыть, как будто это просто какая-нибудь скотина? Возьмите отпуск на три дня, мистер Барлоу, но только не воображайте, что вам их оплатят за то, что вы откопаете там Бог знает какую идею.
Со следователем все обошлось гладко. Деннис дал показания; фургон «Шелестящего дола» увез останки; сэр Эмброуз сумел ублажить газетчиков. Он же с помощью других видных представителей английской колонии составил Ритуал Службы. Литургия в Голливуде скорее дело Режиссуры, чем Церкви. И каждый из членов крикетного клуба потребовал себе роль.
— Нужно будет прочитать отрывок из его «Сочинений», — сказал сэр Эмброуз. — Не знаю даже, найдется ли у меня сейчас что-нибудь. Такие вещи пропадают при переездах совершенно загадочным образом. Вы ведь литературный малый Барлоу. Вы, конечно, сможете отыскать подходящий отрывок. Что-нибудь такое, что передавало бы самую сущность этого человека — его любовь к природе, к честной игре, ну, сами знаете.
— А Фрэнк любил природу и честную игру?
— Ну, вероятно, должен был любить. Видный деятель литературы и все такое; отмечен королевскими наградами.
— Не помню, чтобы мне попадались в доме его сочинения.
— Найдите что-нибудь, Барлоу. Какое-нибудь небольшое высказывание. Ну, сочините, наконец, сами, если нужно: вы ведь, наверно, знаете его стиль. И вообще подумайте, вы же поэт все-таки. Не кажется ли вам, что сейчас самое время написать что-нибудь о старине Фрэнке? Что-нибудь такое, что я смог бы прочесть над его могилой. В конце концов, черт возьми, вы должны это сделать ради него — да и ради нас тоже. Не так это трудно. Берем же мы на себя всю грязную работу.
Вот именно, «грязную работу», думал Деннис, наблюдая, как члены крикетного клуба составляют список приглашенных. По этому вопросу мнения разошлись. Часть была за то, чтобы приглашены были немногие, и только англичане; большинство, возглавляемое сэром Эмброузом, хотело включить в список всех боссов кинопромышленности. Незачем «держать марку», объяснил сэр Эмброуз, если не перед кем ее держать, кроме бедняги Фрэнка. Кто возьмет верх в этом споре, сомневаться не приходилось. Вся тяжелая артиллерия была на стороне сэра Эмброуза. И пригласительные билеты были напечатаны в большом количестве.
Деннис тем временем пытался напасть хоть на какой-нибудь след «Сочинений» сэра Фрэнсиса. Книг у них в доме было совсем немного, да и те по большей части принадлежали Деннису. Сэр Фрэнсис перестал писать задолго до того, как Деннис научился читать. И Деннис не мог помнить этих очаровательных изданий, вышедших в свет еще в ту пору, когда он лежал в колыбели, книжек в цветастых картонных переплетах с бумажными наклейками, зачастую с маленьким неразборчивым автографом Ловата Фрэзера на титульном листе — всех этих плодов поверхностного, но живого ума: биографий, путевых дневников, критических заметок, стихов, драм — одним словом, того, что называют изящной словесностью. Наибольшие претензии на бессмертие заявляла книга «Свободный человек приветствует рассвет», наполовину биографическая, на четверть политическая, на четверть мистическая, — сочинение, которое кратчайшим путем дошло до сердца каждого подписчика Бутса в начале двадцатых годов и принесло сэру Фрэнсису дворянское звание. Книга «Свободный человек приветствует рассвет» давным-давно не переиздавалась, все ее изящные фразы вышли из моды и были забыты.
Когда Деннис познакомился с сэром Фрэнсисом на студии «Мегалополитен», имя Хинзли показалось ему смутно знакомым. В антологии современной поэзии был один его сонет. Если бы Денниса спросили об авторе сонета, он бы высказал предположение, что поэт был, по всей вероятности, убит при Дарданеллах. Не удивительно потому, что у Денниса не нашлось никаких произведений сэра Фрэнсиса. Тех же, кто знал сэра Фрэнсиса, не удивило бы, что произведений не оказалось и у самого автора. До конца своих дней он был наименее тщеславным из литераторов и вследствие этого наиболее прочно забытым.
Деннис тщетно пытался найти что-либо и уже начал подумывать об отчаянной вылазке в публичную библиотеку, как вдруг обнаружил старый затрепанный экземпляр «Аполлона», хранившийся Бог знает зачем в бельевом ящике сэра Фрэнсиса. Это был февральский номер за 1920 год, его синяя обложка выцвела и стала серой. Заполняли его по большей части стихи, написанные женщинами, многие из которых сейчас, вероятно, уже стали бабушками. Вполне возможно, что в одном из этих задушевных лирических опусов и крылась разгадка того, почему журнал пролежал все эти годы нетронутым на столь отдаленном форпосте цивилизации. В конце номера была, впрочем, также помещена рецензия, подписанная инициалами Ф.Х. Деннис обнаружил, что в ней говорилось о поэтессе, чьи сонеты были напечатаны в том же номере. Имя ее уже было забыто, но, возможно, именно здесь, подумал Деннис, и таилось нечто такое, «что сердце его задевало», что могло объяснить столь долгое изгнание сэра Фрэнсиса и что, во всяком случае, избавляло Денниса от вылазки в публичную библиотеку. «Тоненькая книжка, отмеченная яркой печатью страстного и глубокого таланта, таланта незаурядного…» Деннис вырезал рецензию и послал ее сэру Эмброузу. Потом вернулся к заказанным ему стихам.
Мореный дуб, кретон, мягкие ковры и лестница в георгианском стиле — все это вдруг кончалось на границе второго этажа. Выше лежала область, куда не ступала нога непосвященного. Служащие поднимались сюда в лифте, простой открытой клетке площадью восемь на восемь футов. Здесь, на верхнем этаже, царили кафель и фаянс, линолеум и хромированная сталь. Здесь были расположены бальзамировочные с рядами наклонных фарфоровых плит, с кранами, трубами, насосами для откачки, глубокими сточными желобами и резким запахом формальдегида. А еще дальше шли комнаты косметичек, где царил запах шампуня и паленых волос, ацетона и лаванды.
Служитель вкатил носилки в клетушку Эме. На них покоилось тело, укрытое простыней. Рядом шествовал мистер Джойбой.
— Доброе утро, мисс Танатогенос.
— Доброе утро, мистер Джойбой[63].
— Это задохшийся Незабвенный для Салона Орхидей.
Мистер Джойбой был воплощением самых совершенных профессиональных манер. До его появления здесь подъем на лифте из парадной части здания в производственный цех неизменно сопровождался некоторым снижением стиля. Здесь в ходу были такие слова, как «труп» и «тело», а один игривый молодой бальзамировщик из Техаса употреблял даже слово «туша». Этот молодой человек исчез буквально через неделю после того, как мистер Джойбой был назначен сюда Старшим Захоронителем, а это событие произошло в свою очередь через месяц после того, как Эме Танатогенос поступила в «Шелестящий дол» на должность младшей косметички. И, вспоминая мрачные времена, предшествовавшие появлению мистера Джойбоя, Эме всегда с благодарностью думала об атмосфере безоблачного спокойствия, которая, казалось, от рождения окружала этого человека.
Мистер Джойбой не был красавцем, если судить о нем по меркам кинематографа. Он был высок, но сложение имел отнюдь не атлетическое. Голова и туловище его не отличались правильностью пропорций, а лицо — свежестью красок, брови были еле намечены, а ресницы не видны вовсе; глаза, укрытые пенсне, казались розовато-серыми; волосы его, тщательно причесанные и надушенные, были весьма редкими, а руки — мясистыми; лучше всего дело, пожалуй, обстояло с зубами, которые были ровными и белыми, хотя и казались несколько великоватыми для его лица; он был наделен к тому же едва заметным плоскостопием и уже весьма заметным брюшком. Однако все эти физические несовершенства ничего не значили в сравнении с его нравственной устойчивостью и всепобеждающим обаянием его мягкого звучного голоса. Казалось, будто где-то внутри него спрятан динамик, который воспроизводит речь, произносимую далеко отсюда, в какой-то весьма влиятельной студии; все, что он говорил, могло бы транслироваться по радио в наиболее ответственные часы вещания.
Доктор Кенуорти всегда покупал все самое лучшее, а мистер Джойбой к моменту своего появления в «Шелестящем доле» уже завоевал известность. Он получил степень бакалавра бальзамирования на Среднем Западе и до поступления в «Шелестящий дол» успел поработать несколько лет на похоронном факультете одного знаменитого университета на востоке страны. Он вел протокол на двух Всеамериканских съездах захоронителей. Он возглавлял миссию доброй воли к похоронщикам Латинской Америки. Фотография его, хотя и с несколько фривольной надписью, была помещена в журнале «Тайм».
До его прихода в бальзамировочной ходили слухи, что мистер Джойбой чистейший теоретик. Слухи эти были развеяны в первый же день его работы. Достаточно было увидеть, как он берется за труп, чтобы проникнуться к нему уважением. Это было похоже на появление нового, никому не известного охотника на охоте; собаки еще не спущены и не рванулись по следу, но всем, кто увидел его в седле, уже ясно, что это настоящий наездник. Мистер Джойбой был холост, и все девушки «Шелестящего дола» пожирали его глазами.
Эме знала, что и ее голос звучит по-особому, когда она говорит с ним.
— Вы, наверно, столкнулись с большими трудностями, мистер Джойбой?
— Да, пожалуй, самую малость, думается, однако, все обошлось благополучно.
Он отдернул простыню и открыл тело сэра Фрэнсиса, совершенно нагое, если не считать белых полотняных подштанников. Оно было белое и слегка прозрачное, как старый мрамор.
— О, мистер Джойбой, просто бесподобно.
— Да, похоже, он получился симпатично. — Мистер Джойбой легонько ущипнул сэра Фрэнсиса за бедро, как делают торговцы домашней птицей. — Мягкий, гибкий. — Он поднял руку покойника и осторожно согнул ее в кисти. — Полагаю, что через два-три часа можно будет придать ему позу. Голову придется слегка наклонить, чтобы шов на сонной артерии оказался в тени. Скальп подсох очень симпатично.
— Но, мистер Джойбой, вы же придали ему Улыбку Лучезарного Детства!
— Да, а разве она вам не нравится?
— О, мне-то она, конечно, нравится, но Ждущий Часа ее не заказывал.
— Мисс Танатогенос, вам Незабвенные улыбаются помимо своей воли.
— Ой, что вы, мистер Джойбой.
— Истинная правда, мисс Танатогенос. Похоже, я просто бессилен что-либо с этим поделать. Когда я готовлю вещь для вас, некий внутренний голос говорит мне: «Он поступит к мисс Танатогенос», — и пальцы перестают мне повиноваться. Вы не замечали этого?
— Ой, правда, мистер Джойбой, я только на прошлой неделе заметила. «Все Незабвенные, которые поступают последнее время от мистера Джойбоя, — сказала я себе, — улыбаются просто бесподобно».
— Все для вас, мисс Танатогенос.
Музыки здесь не было слышно. На этом этаже деловито журчали и булькали краны в бальзамировочных, жужжали электрические сушилки в косметических кабинетах. Эме трудилась, как монахиня, сосредоточенно, бездумно и методично; сначала мытье шампунем, потом бритье, потом маникюр. Она разделила на пробор седые волосы, намылила каучуковые щеки и взялась за бритву; потом подстригла ногти и проверила, нет ли заусениц. Затем она подкатила столик, где стояли ее краски, кисти, кремы, и сосредоточенно, затаив дыхание, приступила к самой ответственной фазе своего творчества.
Часа через два задача была в основном выполнена. Голова, шея и руки усопшего вновь обрели краски — несколько жесткие по тону, с грубоватыми тенями, как, пожалуй, показалось бы в беспощадном свете косметического кабинета, но ведь творение Эме предназначалось для показа в янтарных сумерках Салона Упокоения и в полумраке церкви, где свет пробивается через витражи. Эме подсинила тени у век и отступила на шаг, чтобы спокойно полюбоваться своим шедевром. Мистер Джойбой неслышно подошел к ней и стал рядом, глядя на ее работу.
— Прелестно, мисс Танатогенос, — сказал он. — Я всегда могу положиться на вас, зная, что вы осуществите мой замысел. У вас были трудности с правым веком?
— Чуть-чуть.
— Внутренний уголок глаза имел тенденцию к приоткрыванию, не так ли?
— Да, но я положила немного крема под веко, а потом закрепила его шестым номером.
— Блестяще. Вот уж вам никогда не приходится говорить что и как. Мы работаем в унисон. Когда я направляю к вам Незабвенного, мисс Танатогенос, у меня такое чувство, как будто я веду с вами через него разговор. У вас когда-нибудь бывало такое же чувство?
— Я знаю только, что я особенно горжусь доверием и особенно тщательно тружусь, когда Незабвенный поступает от вас, мистер Джойбой.
— Верю, мисс Танатогенос. Благодарю вас. Мистер Джойбой вздохнул. Послышался голос носильщика:
— Там еще два Незабвенных снизу, мистер Джойбой. К кому их?
Мистер Джойбой вздохнул еще раз и вернулся к работе.
— Мистер Фогел, вы уже свободны?
— Да, мистер Джойбой.
— Там один ребенок, — сказал носильщик. — Вы им сами займетесь?
— Да, как обычно. Это что, мать и дитя? Носильщик взглянул на ярлычки, привязанные к запястью.
— Нет, мистер Джойбой, они не родные.
— Тогда, мистер Фогел, займитесь, пожалуйста, взрослым. Если бы это были мать и дитя, я бы занялся обоими, несмотря на перегрузку. У каждого из нас своя индивидуальная техника, возможно, даже не всякий это заметит, но, когда передо мной пара, забальзамированная разными мастерами, я это замечаю сразу, и у меня такое чувство, будто ребенок не от этой матери, так, словно их разлучили в смерти. Вам может показаться, что я фантазирую?
— Вы любите детей, правда, мистер Джойбой?
— Это так, мисс Танатогенос. Я стараюсь быть объективным, но ведь я всего-навсего человек, и ничто человеческое… Есть в невинном облике ребенка нечто такое, что пробуждает во мне все самое лучшее и даже больше того! На меня словно нисходит вдохновение, какое-то чувство, нездешнее и где-то возвышенное… впрочем, я не должен сейчас об этом, потому что о любимом деле можно говорить без конца… За работу…
Вскоре пришли костюмеры и обрядили сэра Фрэнсиса Хинзли в саван, ловко пригнав его на теле. Потом они подняли покойного — он уже начал отвердевать — и положили в гроб.
Эме подошла к занавеске, отделявшей косметические кабинеты от бальзамировочных, и знаком подозвала одного из ассистентов.
— Передайте, пожалуйста, мистеру Джойбою, что мой Незабвенный готов для придания позы. Мне кажется, сейчас самое время. Он затвердевает.
Мистер Джойбой завинтил кран и подошел к сэру Фрэнсису Хинзли. Он поднял его руки и соединил их кисти, но не так, как складывают для молитвы, а так, как кладут их одна на другую в знак смирения. Потом он поднял голову покойного, поправил подушку и чуть склонил шею, так чтоб лицо было видно вполоборота. Затем он отошел в сторону, чтобы окинуть все критическим взглядом, еще раз склонился над телом и слегка приподнял подбородок.
— Блестяще, — сказал он. — Они кое-где смазали краску, когда укладывали его в гроб. Пройдитесь там еще разочек кистью, чуть-чуть, слегка.
— Хорошо, мистер Джойбой.
Мистер Джойбой помедлил еще мгновенье, потом решительно повернулся к выходу.
— А теперь за малютку, — сказал он.
Глава 5
Похороны были назначены на четверг; прощанье должно было происходить в среду днем в Салоне Упокоения. В то утро Деннис приехал в «Шелестящий дол» посмотреть, все ли в порядке.
Его сразу провели в Салон Орхидей. В комнате было много цветов, по большей части из цветочного магазина с первого этажа и по большей части «в своей естественной красоте». (После особой консультации с руководством фирмы великолепный символ крикетного клуба — скрещенные биты и воротца — был также водворен в салоне. Доктор Кенуорти лично высказал по этому поводу свое мнение: символ этот по самой своей сути является напоминанием о жизни, а не о смерти; этот аргумент решил дело.) В прихожей цветов было так много, что казалось, будто здесь нет никакой мебели или украшений, ничего, кроме цветов; двустворчатые двери вели во вторую комнату — собственно Салон Упокоения.
Деннис взялся за ручку двери и остановился на мгновенье в нерешительности, почувствовав, что с той стороны кто-то тоже держится за ручку. Именно так в десятках романов стояли влюбленные. Дверь отворилась, и Эме Танатогенос оказалась совсем рядом; позади нее были цветы, еще много-много цветов, так что все вокруг нее было насыщено густым ароматом оранжереи, и приглушенный хор голосов, слившихся в священном песнопении, звучал из-за карниза. В тот момент, когда они столкнулись в дверях, чистый мальчишеский альт выводил с мучительно-сладострастным трепетом: «О, если б мне крылья голубки…»
Все было недвижно в зачарованной тишине этих комнат. Свинцовые рамы окон были завинчены наглухо. Воздух проникал сюда, как и мальчишеский альт певца, откуда-то издалека, преображенный и выхолощенный. Здесь было немного прохладнее, чем в обычном американском жилище. Комнаты казались отгороженными от всего мира и неестественно тихими, точно вагон поезда, который, остановился вдруг ночью где-то вдали от станция.
— Заходите, мистер Барлоу.
Эме посторонилась, и теперь Деннису стала видна гора цветов посреди комнаты. Деннис родился слишком поздно, чтобы своими глазами видеть зимний сад времен короля Эдуарда во всем его блеске, но он был знаком с литературой тою периода и в воображении своем уже воссоздал подобное зрелище. Теперь этот сад был перед ним со всеми своими атрибутами, вплоть до золоченых стульев, расставленных по два, словно в ожидании накрахмаленных и сверкающих бриллиантами флиртующих парочек.
Катафалка не было. Гроб стоял на убранном цветами постаменте, который лишь на несколько дюймов возвышался над ковром, устилавшим пол. Верхняя половина крышки была снята, и сэр Фрэнсис был виден до пояса. Деннису вспомнилась восковая фигура Марата в ванне.
Саван был подогнан безукоризненно. В петлице красовалась свежая гардения, еще одну гардению покойный сжимал в пальцах. Белоснежные седые волосы были разделены на прямой пробор, и полоска его ото лба до макушки обнажала скальп, такой бесцветный и гладкий, точно с него была содрана кожа и взгляду уже открылся нетленный череп. Золотой ободок монокля обрамлял аккуратно подрисованное веко.
Мертвая недвижность ошеломляла страшнее всякого взрыва. Тело, как бы лишенное оболочки движения и мысли, казалось сейчас меньше, чем при жизни. А лицо, обратившее к Деннису свой невидящий взгляд, — лицо это было просто ужасно; не имеющее примет возраста, как черепаха, и так же не имеющее в себе ничего человеческого; раскрашенная, самодовольная, непристойная пародия, по сравнению с которой даже та дьявольская личина, что Деннис увидел в петле, казалась просто невинной карнавальной маской, какую может надеть добрый дядюшка на рождественскую вечеринку.
Эме стояла у творения рук своих — художник на первом просмотре — и слышала, как у Денниса вдруг перехватило дыхание.
— Это то, чего вы ожидали? — спросила она.
— Больше того… — И вдруг: — Он совсем твердый?
— Да.
— Можно мне потрогать его?
— Пожалуйста, не надо. Это оставляет следы.
— Хорошо.
Потом в соответствии с этикетом заведения Эме вышла, оставив Денниса наедине с его мыслями.
Позднее в Салоне Орхидей зашаркали суетливые шаги посетителей; девушка из канцелярии «Шелестящего дола» сидела в прихожей, регистрируя их имена. Это были еще не самые крупные знаменитости. Звезды, продюсеры, начальники отделов должны были появиться только завтра, к часу кремации. Пока здесь толкалась мелкая сошка. Это было похоже на вечеринку, которую устраивают накануне свадьбы, чтобы показать подарки, и на которую приходят только близкие родственники да еще наименее занятые и наименее значительные из гостей. Тон здесь задавали подпевалы. Человек предполагал. Бог располагал. А эти вежливые, упитанные господа выражали окончательное и бесповоротное одобрение всему происходящему, кивком приветствуя слепую маску смерти. Забежал на минутку сэр Эмброуз.
— Все готово на завтра, Барлоу? Не забудьте про оду. Хотелось бы получить ее хоть за час до начала, прорепетировать перед зеркалом. Как она двигается?
— Думаю, что успею.
— Я прочту ее над могилой. В церкви будут зачитаны только отрывки из его Сочинений да еще Хуанита споет «Одежды цвет зеленый». Это единственная ирландская песня, которую она успела изучить. Удивительно, до чего это у нее получается похоже на фламенко. А в церкви как мы рассадим гостей, вы предусмотрели?
— Нет еще.
— Члены клуба должны быть, конечно, все вместе. «Мегалополитен» займет первые четыре ряда. Вероятно, придет сам Эриксон. Ну, это я могу доверить вам, не правда ли? — Выйдя на улицу, он сказал: — Мне жаль молодого Барлоу. Должно быть, он ужасно переживает все это. Сейчас важно дать ему побольше работы. Деннис поехал в Университетскую церковь. Это было небольшое каменное строение, квадратная башня которого возвышалась среди молодых дубков на вершине холма. У входа в храм было вмонтировано специальное устройство, которое любой посетитель мог включить простым нажатием кнопки для того, чтобы прослушать лекцию о достопримечательностях этих мест. Деннис остановился послушать.
Голос ему показался знакомым — голос диктора, сопровождающий обычно видовые фильмы:
«Вы находитесь в церкви святого Петра-вне-стен из Оксфорда, одной из древнейших и наиболее почитаемых в Англии святынь. Сюда приходили многие поколения студентов из всех стран мира и предавались своим юношеским мечтам. Будущие ученые и государственные мужи, еще неизвестные в ту пору, мечтали здесь о своих грядущих триумфах. Здесь Шелли вынашивал свою великую поэтическую карьеру. Отсюда молодые люди, исполненные надежд, отправлялись по пути успеха и счастья. Это символ души Незабвенного, которая здесь начинает свой путь величайшего и невиданного преуспеяния на веки вечные. Того преуспеяния, которое уготовано всем нам, какие бы разочарования ни постигли нас в нашей земной жизни.
Это не просто копия памятника, это его реконструкция. Воспроизведение того, что древние мастера пытались построить примитивными орудиями минувших веков. Время сыграло свою недобрую шутку с прекрасным оригиналом. Здесь вы видите его таким, каким некогда мечтали его увидеть первые строители.
Вы заметите, что боковые приделы сооружены исключительно из стекла и первосортной стали. Существует прекрасная легенда, связанная с этим прекрасным памятником. В 1935 году доктор Кенуорти совершал поездку по Европе, ища в этой сокровищнице искусства чего-либо достойного украсить „Шелестящий дол“. Путешествие привело его в Оксфорд, в знаменитую церковь св. Петра, построенную в норманнском стиле. Он нашел, что она слишком сумрачна. Он нашел, что в ней слишком много удручающих традиционных напоминаний о смерти. „А почему, — спросил доктор Кенуорти, — вы называете ее церковью святого Петра-вне-стен?“ И ему объяснили, что в старые времена городская стена проходила между церковью и деловым центром города. „У моей церкви, — сказал доктор Кенуорти, — вообще не будет стен“. И вот сегодня она предстает перед вами полная Божьего света, солнечных лучей и чистого воздуха, среди птичьего щебета и цветов…»
Деннис внимательно вслушивался в интонации, так часто пародируемые, но ни в одной пародии не достигающие ни полной бессмысленности, ни гипнотической убедительности оригинала. Интерес его на сей раз был не только профессионального или иронического свойства. «Шелестящий дол» опутал его своими чарами. За эту заповедную грань рассудка, куда не дерзает ступить никто, кроме художника, стекались несметные племена. И Деннис, дозорный у самой границы, мог разбирать следы и знамения.
Голос смолк и после паузы начал снова: «Вы находитесь в церкви святого Петра-вне-стен из Оксфорда…» Деннис выключил устройство, вернулся в отведенный для гостей придел церкви и приступил к выполнению своей прозаической задачи.
Канцелярия фирмы снабдила его отпечатанными на машинке карточками. Разложить их по скамьям было несложно. Под органом стояла уединенная скамья, отделенная от остальной части придела железной решеткой и шифоновым занавесом. В случае необходимости безутешные родственники могли укрыться за этой чадрой от любопытных глаз. Деннис отвел эти места репортерам скандальной хроники.
В какие-нибудь полчаса работа была закончена, и Деннис вышел в сад, который, впрочем, не мог превзойти Университетскую церковь ни освещением, ни обилием цветов, ни оглушительностью птичьего щебета.
Ода тяжким грузом лежала у него на совести. Он не написал еще ни строчки, а томительный, напоенный ароматами день не располагал к трудам. К тому же в душе его тихо и настойчиво звучал другой голос, напоминавший ему о задаче, куда более трудной, чем погребение Фрэнка Хинзли. Деннис оставил машину у калитки и спустился с холма по усыпанной гравием дорожке. Могилы, обозначенные лишь небольшими бронзовыми дощечками, многие из которых уже совсем позеленели, были едва различимы в зеленой траве. Струйки воды играли там и сям, вырываясь из спрятанной в траве системы труб и образуя сверкающую пелену дождя, над которой, скрытое брызгами по пояс, поднималось скопище бронзовых и мраморных статуй, аллегорических, детски наивных или эротических. Здесь бородатый маг пытал будущее в темных глубинах какого-то предмета, похожего на футбольный мяч из гипса. Там малыш прижимал к своей каменной грудке мраморного Мики Мауса. За поворотом дорожки открылась опутанная ленточками нагая Андромеда, пристально разглядывавшая свою отполированную руку, на которой пристроилась мраморная бабочка. Поэтический инстинкт Денниса был здесь все время настороже, точно гончая, идущая по следу. В «Шелестящем доле» крылось нечто, что было нужно ему и что он один мог отыскать в нем.
Деннис вышел в конце концов на берег озера, изобиловавшего лилиями и водяной птицей. Объявление гласило: «Продаются билеты на Озерный остров Иннисфри», и три юные парочки ждали у грубо сколоченной пристани. Деннис купил билет.
— Только один? — спросила его кассирша в окошечке. У молодых людей, окутанных почти осязаемым облаком юной любви, вид был такой же отсутствующий, как и у него самого. И потому Деннис стоял, не замечаемый никем, пока небольшой дизельный паром, бесшумно отчаливший от противоположного берега, не подошел к их причалу. Они поднялись на борт, и, когда недолгая переправа закончилась, парочки скользнули под сень сада. Деннис в нерешительности стоял на берегу.
Перевозчик спросил:
— Ждешь кого-нибудь, друг?
— Нет, никого.
— Что-то после обеда ни одной девицы не появлялось. Уж я бы заметил, коли пришла какая. Тут в большинстве парами ходят. А то бывает, парень ей здесь назначит свидание, а девица и не придет. Это сплошь да рядом. Так что по мне лучше уж сперва девицу добыть, а потом билеты покупать.
— Да нет, — сказал Деннис. — Я просто пришел написать поэму. Как тут, подходящее место?
— Не знаю, друг. Никогда не писал поэмы. Но вообще-то они тут все устроили по-поэтическому. Сам остров тоже по какому-то стиху называется[64]. Тут у них ульи. Раньше и пчелы были, но только они все время гуляющих жалили, так что теперь уж тут все механическое, по науке, и задница не покусана, и поэзии дополна.
Оно, конечно, место тут поэтическое, чтоб зарыли. По тыще монет за могилу берут. Самое что ни на есть распоэтическое место во всем чертовом парке. Его еще на моей памяти строили. Они думали, тут у них ирландцы будут своих хоронить, а потом оказалось, что ирландцы, они и без того поэтические и такие деньги не хотят платить, чтоб их зарыли. К тому же у них свое дешевое кладбище есть, католическое, в ихней части города. Так что у нас тут все больше евреи из хорошего общества. Им уединение нравится. А потом вода, она тут, видишь, всякое зверье отгоняет. От зверья этого на кладбищах спасу нет: доктор Кенуорти тут как-то отколол про это на Годичном собрании. Большинство, говорит, кладбищ служит сортиром для собак и мотелем для кошек. Ничего сказал, а? Доктор Кенуорти, он на Годичном в грязь лицом не ударит, уж будьте покойны.
У нас-то на острове насчет собак и кошек все спокойно. Вот от девиц спасу нет, девицы сюда с парнями просто в огромном количестве обжиматься приходят. Я так думаю, им это уединение не меньше, чем кошкам, нравится.
Несколько юных пар вышли из рощицы и остановились, ожидая, когда их пригласят на паром, — зачарованные Франчески и Паоло, выходящие из своей преисподней в пылающем ореоле любви. Одна девушка выдувала изо рта пузыри жевательной резинки, точно верблюд, жующий жвачку, но широко раскрытые глаза ее были нежными от недавно пережитого наслаждения.
По контрасту с размахом окружающего парка Озерный остров казался маленьким и уютным. Сплошная ограда кустарников скрывала от глаз его берега. Подстриженные дерновые тропки, петлявшие между купами деревьев, а по временам выводившие к уединенным могилам на прогалинах, сходились у главной поляны, где было посажено девять рядов фасоли (которая благодаря какой-то рациональной системе пересадки круглый год цвела алыми цветами), стояли шалаш из прутьев и несколько плетеных ульев. Здесь жужжание пчел напоминало скорее гул динамо-машины, зато во всех остальных уголках острова оно было и мерным, и баюкающим, вряд ли отличимым от жужжания настоящих пчел.
Могилы, расположенные близ пасеки, были самыми дорогими, хотя внешне ничем не отличались от всех остальных могил парка; на простых бронзовых дощечках среди густой травы были увековечены самые звучные имена коммерческого мира Лос-Анджелеса. Деннис заглянул было в шалаш, но тут же выскочил, извиняясь перед его временными обитателями, которых он потревожил. Потом он заглянул в ульи и увидел в глубине каждого из них светящийся глазок, свидетельствующий о том, что звуковое устройство работает исправно.
День был теплый, ни малейшее дуновение ветерка не шевелило вечнозеленой листвы, время сочилось мирно и неспешно, на вкус Денниса, даже слишком неспешно.
Свернув на одну из тропок, Деннис вдруг очутился в тупике. Здесь был семейный участок великого фруктовщика — об этом сообщала бронзовая дощечка. Кайзеровские «персики без косточки» красовались розовыми пушистыми боками на витринах всех магазинов страны. Специальная кайзеровская получасовка по радио наводняла мелодиями Вагнера каждую кухню. Здесь уже покоились два представителя семейства Кайзеров, жена и тетушка. Здесь по истечении отпущенного ему срока будет покоиться и сам Кайзер. Ветви большого дерева широким пологом нависали над землей. Деннис прилег в их густой тени. На таком расстоянии жужжание пчел в ульях звучало совсем как настоящее. Время и покой стали сочиться куда быстрее.
Деннис принес с собой записную книжку и карандаш. Нет, не так были написаны стихи, которые привели его к славе и к нынешней странной судьбе. Они обретали плоть во время поездок в холодных военных поездах — багажные полки доверху набиты снаряжением, тусклый свет выхватывает из темноты тесные ряды коленей, лица над ними скрыты в тени, табачный дым мешается с морозным дыханием, непонятные, никем не объяснимые остановки, перроны, темные и безлюдные, как пустынные тротуары. Он писал свои стихи в полевых казармах, весенними вечерами на вересковой пустоши, в миле от аэродрома, а то и на металлическом сиденье транспортных самолетов.
Нет, не так напишет он в один прекрасный день то, что еще предстоит ему написать: не здесь ублажит он духа, который в эту минуту так слабо и невнятно заявляет о своих непостижимых правах. Этот жаркий день располагал скорее к воспоминаниям, чем к стихотворству. Ритмы из поэтических хрестоматий тихо пульсировали у него в памяти.
Он написал:
Зароем великого рыцаря, Возложит студия розы, Зароем великого рыцаря, Экс-арбитра изящной прозы.И дальше:
Слыхал я, Фрэнсис Хинзли, висел ты под потолком, С глазами, налитыми кровью, с черным в зубах языком. Слезы пролил я, вспомнив, как часто ты и я Смеялись над этим городом, где зароют тебя. В формалине, раскрашенный, как шлюха на мостовой, Заквашен, законсервирован — не мертвый и не живой [65].Деннис уперся взглядом в полог листвы. Персик без косточки. Подходящая метафора для Фрэнка Хинзли. Деннису вспомнилось, что однажды он решится попробовать столь широко разрекламированный продукт мистера Кайзера и убедился, что это шарик сырой и сладкой ваты. Бедняга Фрэнк Хинзли, это все так похоже на него.
Час для стихов не пришел. Голос вдохновения молчал, голос долга звучал совсем глухо. Придет ночная пора, когда все мужчины смогут взяться за труд. А сейчас время смотреть на фламинго и размышлять о жизни мистера Кайзера. Деннис повернулся к надгробью и стал изучать воспроизведенный на нем почерк представительниц знаменитого дома. Судя по этому почерку, они не обладали сильным характером. Кайзер ничем не был обязан женщинам. Персик без косточки был только его детищем.
Деннис услышал приближающиеся шаги, а потом, не поворачиваясь, увидел, что идет женщина. Ступни, лодыжки, икры в должной последовательности появлялись в поле его зрения. Как и всякая другая пара ножек в этой стране, они были стройны и аккуратно обтянуты чулками. Что возникло раньше в недрах этой странной цивилизации, подумал он, ступня или туфелька, нога или нейлоновый чулок? Или, может, эти элегантные типовые ножки целиком, от края чулка до самой пятки, упакованные в целлофан, продаются где-нибудь в универмаге за углом? Может, они пристегиваются каким-нибудь хитроумным приспособлением к стерилизованным резиновым прелестям, расположенным чуть выше? Притом они, вероятно, продаются в том же универмаге, что и легкие небьющиеся головы из пластмассы? А может, вообще все это устройство сходит с конвейера готовым для немедленного употребления?
Деннис лежал неподвижно, и потому девушка успела подойти к нему совсем близко и опуститься на колени в тени того же самого дерева, собравшись прилечь на траву, когда вдруг заметила его и вскрикнула.
Деннис сел и, повернувшись к ней, увидел, что это та самая девушка из покойницкой. Она была в огромных с продолговатыми сиреневыми стеклами очках, которые она сняла сейчас, чтобы разглядеть его получше.
— Ах! — воскликнула она. — Прошу прощения. Вы не друг задохшегося Незабвенного из Салона Орхидей? У меня очень плохая память на живые лица. Вы меня испугали. Я не ожидала, что здесь может быть кто-нибудь.
— Я занял ваше место?
— Не совсем так. Я хочу сказать, что это место мистера Кайзера, а не мое и не ваше. Просто в эти часы здесь обычно никого не бывает, так что я прихожу сюда после работы, и я даже начала считать это место где-то своим. Я пойду куда-нибудь еще.
— Ни в коем случае. Я уйду сам. Я просто прилег здесь, чтобы написать стихотворение.
— Стихотворение?
Что-то в его словах затронуло ее. До сих пор она относилась к нему с тем безличным, равнодушным дружелюбием, которое заменяет вежливость в этой стране безродных и заблудших. Теперь глаза ее удивленно расширились.
— Вы сказали, стихотворение?
— Ну, да. Я, видите ли, поэт.
— Но это же, по-моему, замечательно! Ни разу не видела живого поэта. Вы не были знакомы с Софи Дэлмейер Крамп?
— Нет.
— Она сейчас в Уголке Поэтов. Она поступила, когда я здесь только первый месяц работала, и я была еще начинающая косметичка, так что мне, конечно, ею заниматься не позволили. К тому же она завершила свой путь во время трамвайной катастрофы и нуждалась в специальной обработке. Но все же я тогда воспользовалась случаем, чтобы ее рассмотреть. В ней очень заметно была выражена Душа. Можно сказать, я впервые изучила Душу, рассматривая Софи Дэлмейер Крамп. Так что теперь, когда нужно при обработке особо подчеркнуть Душу, мистер Джойбой поручает это мне.
— Вы занялись бы мной, если б я завершил путь?
— С вами будет нелегко, — сказала она, окидывая его профессиональным взглядом. — У вас неподходящий возраст для Души. Наиболее естественно она проявляется у совсем молодых или очень старых. Конечно, я сделаю, что смогу. По-моему, это очень, очень замечательно — быть поэтом.
— Но ведь и у вас здесь тоже весьма поэтическое занятие.
Он сказал это шутливо, чуть поддразнивая, но она ответила с величайшей серьезностью:
— Да, я знаю. Я знаю, что это так. Только бывает, что к концу рабочего дня, когда устанешь, то вдруг кажется, как будто все это недолговечно. Я что хочу сказать, что вот вы и Софи Дэлмейер Крамп — вы напишите стихи, их напечатают, а может, даже прочтут по радио, и миллионы людей их услышат, и может, их и через сотни лет люди еще будут читать. А мое произведение иногда через несколько часов сжигают. В лучшем случае могут положить в мавзолей, но знаете, даже там оно портится. Я видела там раскраску, которой нет еще и десятка лет, — она совершенно утратила глубину тона. Вот как вы думаете, может это быть великое произведение искусства, если оно такое невечное?
— Вам следует рассматривать это как нечто близкое к драматическому искусству, пению или игре на музыкальных инструментах.
— Да. Так я и делаю. Но только в наше время это все можно тоже записать на пластинку и будет вечное, правда?
— Об этом вы и размышляете, приходя сюда одна?
— Только в последнее время. Раньше я просто лежала на траве думала: как мне повезло, что я сюда попала работать.
— А теперь вы думаете иначе?
— Нет, что вы, и теперь, конечно, так думаю. Каждое утро и весь день, пока работаю. Просто по вечерам на меня что-то находит. Со многими художниками так бывает. Наверно, и с поэтами тоже так бывает иногда, правда?
— Хорошо, если бы вы рассказали мне о своей работе.
— Но вы же видели ее вчера.
— Я хотел сказать — о себе и о работе. Что побудило вас этим заняться? Где вы учились? Занимало ли вас в детстве что-нибудь в этом роде? Мне это было бы страшно интересно услышать.
— Я всегда интересовалась Искусством, — сказала она. — В университете я даже выбрала Искусство как второй предмет на целый семестр. Я бы взяла его как основной, да только отец разорился на религии, вот мне и пришлось приобретать специальность.
— Разорился на религии?
— Да, на Истинном Евангелии[66]. Поэтому меня и назвали Эме, в честь Эме Макферсон. Когда отец разорился, он хотел поменять мне имя. Мне тоже хотелось поменять, но это старое вроде как прилипло ко мне. Мама всегда забывала, на какое имя мы его поменяли, и опять придумывала новое. А уж как начнешь менять имена, то и не знаешь, на чем остановиться. Нет-нет да и услышишь какое-нибудь новое, которое звучит еще лучше. К тому же, знаете, честно говоря, бедная мама страдала пьянством. Но потом мы всегда возвращались к Эме в промежутках между разными этими модными именами, и в конце концов Эме победило.
— А что еще вы изучали в колледже?
— Еще психологию и китайский язык. Китайский мне не очень-то давался. Но это все, конечно, были второстепенные предметы — так, для культурного уровня.
— Ясно. А какой же у вас был основной предмет?
— Косметика.
— О!
— Ну да, всякие там перманенты, массажи, парафиновые маски — все, чем занимаются в салонах красоты. Но только, конечно, мы еще изучали и историю, и теорию тоже. Я писала диплом на тему «Восточные прически». Вот почему я и занималась китайским. Я думала, он мне поможет, но он не помог. Зато по искусству и психологии у меня в дипломе «отлично».
— И в это время, пока вы занимались искусством, психологией и китайским языком, вы мечтали о покойницкой?
— Ну что вы, нисколько. Вам это, правда, интересно? Тогда я расскажу, потому что это действительно довольно поэтическая история. Я закончила колледж в сорок третьем году, и многие девушки из нашей группы пошли работать на оборону, а меня это нисколько не интересовало. Не потому, что я не патриотка, не люблю свою родину и все такое. А просто я не увлекаюсь войной, вот и все. Теперь все не увлекаются. Ну а я уже в сорок третьем не увлекалась. Поэтому я и стала работать в Беверли-Уолдорф, в салоне красоты, а только и там нельзя было от этой войны избавиться. Наши клиентки — они будто ничего возвышеннее придумать не могли для разговора — все только про бомбежки по квадратам. А одна там была хуже всех, ее звали миссис Комсток. Она приходила каждую субботу утром волосы подсинивать и укладывать, и я вроде бы ей угодила. Она всегда меня спрашивала. Никто ей, кроме меня, не мог угодить, а только все равно она мне на чай больше двадцати пяти центов не давала. У этой миссис Комсток один сын был в Вашингтоне, а другой в Дели, внучка была в Италии да еще племянник какая-то шишка по военной пропаганде, так что мне приходилось все про них выслушивать, и я в конце концов стала бояться субботы больше всех дней недели. Потом эта миссис Комсток заболела, но я и тогда еще от нее не избавилась. Она посылала за мной, чтобы я ее на дому обслуживала, тоже раз в неделю, но и дома она давала мне только двадцать пять центов на чай и так же много говорила про войну, хотя уже не так связно. Так вот, представляете, как я удивилась, когда в один прекрасный день вызывает меня мистер Джебб, наш заведующий, и говорит: «Мисс Танатогенос, мне даже неудобно вас об этом просить. Просто не знаю, как вы на это посмотрите, но дело в том, что эта миссис Комсток — она умерла, и тут пришел ее сын, который из Вашингтона, и он очень хочет, чтобы вы уложили волосы миссис Комсток, как раньше. У них, кажется, нет ее последних фотографий, и в „Шелестящем доле“ никто не знает, какую она носила прическу, а полковник Комсток не может ее описать как следует. Вот я и подумал, мисс Танатогенос, что, может, вы окажете такую любезность полковнику Комстоку и поедете в „Шелестящий дол“, чтобы причесать миссис Комсток, как просит полковник Комсток».
Ну, я просто не знала, что сказать. Я до этого никогда не видела покойников — отец-то ведь ушел от матери, до того как он умер, если только он вообще умер, а мать уехала на Восточное побережье его искать, как раз когда я кончила колледж, и там она умерла. И я никогда не была в «Шелестящем доле», потому что, с тех пор как мы разорились, мать перешла в новую веру, а они вообще не признают, что смерть существует. Так что я очень нервничала, когда в первый раз шла сюда. А когда пришла, то все оказалось совсем по-другому, чем я ожидала. В общем, вы сами видели, так что вы понимаете. Полковник Комсток пожал мне руку и сказал: «Девушка, вы совершаете поистине прекрасный и благородный поступок». И отвалил мне пятьдесят монет.
Потом меня повели в бальзамировочную, и там на столе в своем свадебном платье лежала миссис Комсток. Никогда не забуду, как она выглядела. Как преобразилась. Иначе это просто нельзя назвать. С тех пор просто не счесть, сколько раз я имела удовольствие представлять людям их Незабвенных, и в большинстве случаев они так и говорят: «Ах, они совсем преобразились!» Конечно, она еще была бесцветная, и волосы у нее были вроде бы как жидкие, она была такая белая-белая, будто воск, и такая холодная, и молчала. И я сперва просто не решалась к ней прикоснуться. А потом я помыла ей волосы шампунем, и посинила, как обычно, и уложила так, как всегда ей укладывала, кругом кудряшки, кудряшки, а там, где уже редкие, чуть взбила, вроде бы попушистее. Потом, пока она сохла, косметичка стала ее подкрашивать. Она разрешила мне смотреть, и мы с ней разговорились, и она мне сказала, что у них как раз есть место младшей косметички, так что я сразу пошла к себе в салон и подала мистеру Джеббу заявление, что ухожу. Это было почти два года назад, и с тех пор я здесь.
— И не жалеете об этом?
— Ой, что вы, ни разу, ни вот столечко не жалела. А что я вам сейчас насчет недолговечности произведений сказала, так это каждый художник раньше или позже о своей работе так думает, правда? У вас так разве не бывает?
— Они небось и платят вам здесь больше, чем в салоне красоты?
— Да, чуть больше. Но зато Незабвенные не могут тебе дать чаевых, так что выходит почти то же. Но я не из-за денег работаю. Я бы здесь и бесплатно с удовольствием работала, но кушать-то нужно, к тому же Сновидец требует, чтобы мы выглядели прилично. И знаете, мне только просто нравилось обслуживать людей, которые не могут говорить. И только потом я начала понимать, сколько утешения и радости наша работа приносит людям. Как это замечательно — просыпаться утром и знать, что сегодня ты снова принесешь радость чьему-то истерзанному сердцу. Конечно, моя роль тут очень маленькая. Я только подручная у похоронщика, но зато мне выпадает счастье показывать людям конечный результат нашего труда и видеть впечатление. Я и вчера это видела по вашему лицу. Конечно, вы, англичане, народ где-то невыразительный, но я все равно знаю, что у вас творится в душе.
— Сэр Фрэнсис преобразился, это несомненно.
— Только когда к нам в отдел пришел мистер Джойбой, я как бы по-настоящему начала понимать, что такое «Шелестящий дол». Мистер Джойбой — он человек возвышенный и даже где-то святой. С того дня, как он пришел, у нас в похоронном даже атмосфера стала возвышенная. Никогда не забуду, как он однажды утром сказал одному молодому похоронщику: «Мистер Паркс, я хотел бы напомнить вам, что вы не в „Угодьях лучшего мира“».
Деннис ничем не выдал, что это название ему знакомо, но ощутил мгновенную похожую на укол радость, вспомнив, что в начале знакомства хотел было перекинуть мостик между ними, упомянув мимоходом о своем занятии, а потом передумал. Это бы не было должным образом оценено. И сейчас он лишь взглянул на нее ничего не выражающим взглядом, а Эме сказала:
— Не думаю, чтобы вам приходилось когда-нибудь слышать о них. Это ужасное заведение, где хоронят животных.
— Там не поэтично?
— Я никогда не бывала там сама, но мне рассказывали. Они пытаются делать все как у нас. По-моему, это даже где-то кощунство.
— О чем же вы думаете, когда приходите сюда по вечерам?
— Только о Смерти и об Искусстве, — ответила она просто.
— Полувлюблен в целительную смерть…
— Что это, то, что вы сказали?
— Это из одного стихотворения.
…Сколько раз, Полувлюблен в целительную смерть, Я в юности просил ее в стихах Позволить вздоху тихо отлететь. А ныне мне желанней, чем всегда, Без боли в мрак полночи отойти…[67]— Это вы написали?
Деннис заколебался:
— Вам нравится?
— Еще бы, бесподобно. Я как раз об этом очень часто думала, но только я не могла выразить. «А ныне мне желанней, чем всегда» и еще вот это: «Без боли в мрак полночи отойти». Ведь именно для этого и существует «Шелестящий дол», правда? По-моему, это просто замечательно — сочинять такие стихи. Вы их написали после того первого раза?
— Они были написаны задолго до этого.
— Даже если б вы написали их в «Шелестящем доле»… даже на самом Озерном острове, все равно бесподобней не скажешь. А до моего прихода вы тоже что-нибудь сочиняли в этом роде?
— Не совсем.
Музыкальный перезвон колокольчиков с Прекрасной Башни долетел через гладь озера, возвещая о времени.
— Шесть часов. Сегодня я должна вернуться пораньше.
— А мне еще предстоит закончить стихотворение.
— Вы напишете его здесь?
— Нет. Дома. Я иду с вами.
— Мне бы хотелось прочесть его, когда оно будет готово.
— Я вам его пришлю.
— Меня зовут Эме Танатогенос. Я живу недалеко, но пошлите его лучше сюда, в «Шелестящий дол». Здесь мой настоящий дом.
Когда они подошли к перевозу, паромщик заговорщицки подмигнул Деннису.
— Явилась все-таки, а, друг? — сказал он.
Глава 6
Все профессиональные движения мистера Джойбоя были исполнены бодрой жизнерадостности. Он стянул с рук резиновые перчатки с тем же блеском, с каким снимает их герой Уиды[68], возвращаясь из своих скаковых конюшен, швырнул их в почечную лоханку и натянул чистую пару, которую держал наготове ассистент. Потом он извлек визитную карточку, из тех, какими фирма в изобилии снабжала продавщиц цветочной лавки, а также хирургические ножницы. Не отрывая ножниц, он вырезал из карточки овал и обстриг его по краям примерно на полдюйма. Потом он склонился над трупом и потрогал челюсти, чтобы убедиться, крепко ли они сжаты, затем, оттянув губы, вставил карточку параллельно деснам. Это был великий момент; ассистент не уставал восхищаться тем, как ловким движением больших пальцев мистер Джойбой отгибал края карточки, а потом, ласково прикоснувшись кончиками обтянутых резиной пальцев к сухим, бесцветным губам покойника, возвращал их на место. И вот — пожалуйста! Там, где раньше была скорбная гримаса страдания, теперь сияла улыбка. Это было проделано мастерски. Доделок не требовалось. Мистер Джойбой отступил на шаг от своего творения, стянул перчатки и сказал:
— Для мисс Танатогенос.
За последний месяц лица, приветствовавшие Эме с покойницкой тележки, проделали эволюцию от выражения безмятежного спокойствия до ликующего восторга. Другим девушкам приходилось обрабатывать лица суровые, отрешенные или вовсе лишенные выражения; Эме всегда встречала радостную, лучезарную улыбку трупа.
Эти знаки внимания были с неодобрением замечены в косметических, где любовь к мистеру Джойбою скрашивала трудовые будни всего персонала. Конечно, в нерабочее время каждая из этих девушек была занята своим собственным супругом или поклонником, ни одна из них и не помышляла всерьез о том, чтобы стать подругой жизни мистера Джойбоя. И потому, когда он расхаживал среди них, как мэтр среди молодых художников, похваливая одну или делая замечание другой, опуская свою ласковую руку на теплое плечо живого или на холодное бедро покойника, он являл собой фигуру поистине романтическую, как бы созданную для всеобщего поклонения, но вовсе не предназначенную одной из них в качестве добычи.
Нельзя сказать, чтобы Эме не испытывала никакой неловкости, попав в столь исключительное положение. Сегодня же она встретила приветственную улыбку трупа и вовсе уклончиво, ибо предприняла шаг, который, насколько она могла судить, вряд ли был бы одобрен мистером Джойбоем.
Дело в том, что в этих краях особой популярностью пользовался некий духовный наставник, своего рода оракул, которому отведена была ежедневная рубрика на страницах одной из местных газет. Когда-то, во времена семейного благочестия, рубрика эта называлась «Почта тетушки Лидии»; теперь она была озаглавлена «Мудрость Гуру Брамина» и украшена фотографией бородатого, почти голого мудреца. К этому экзотическому источнику мудрости и прибегали те, кого мучили сомнения или постигало горе.
Может создаться впечатление, что в этой оконечности Нового Света бесцеремонность обращения и откровенность высказываний не оставляют места для сомнений, а бодрость духа не дает впасть в отчаяние. Увы, это не так: проблемы этикета, детской психики, эстетики и секса вопрошающе поднимают свои змеиные головы и в этом раю, а потому Гуру Брамин предлагал своим читателям слово утешения и ответ на мучившие их вопросы.
К нему-то и обратилась Эме, когда впервые обнаружила, сколь недвусмысленно улыбаются ей покойники. Сомнения ее касались не столько намерений мистера Джойбоя, сколько ее собственных. Ответ, который она получила, не удовлетворил ее полностью.
«Нет, Э.Т., не думаю, чтобы Вы были влюблены — пока еще нет. Признание достоинства мужчины и преклонение перед его деловыми качествами могут создать основу для развития дружеских отношений, но это еще не Любовь. Судя по Вашему письму, чувства, которые Вы испытываете в его присутствии, не дают нам основания полагать, что между вами существует физическое влечение — пока еще нет. Однако не забывайте, что ко многим любовь приходит поздно. Известны случаи, когда настоящая любовь приходила только после нескольких лет брака и после рождения Малыша. Почаще встречайтесь с Вашим другом. Любовь может прийти».
Это произошло до того, как встреча с Деннисом Барлоу повергла ее в еще большее смятение. Прошло полтора месяца с того дня, как они встретились на Озерном острове, и вот сегодня утром по дороге на работу она опустила в почтовый ящик еще одно письмо, на сочинение которого потратила полночи. Это было самое длинное письмо, какое ей приходилось когда-либо писать.
«Дорогой Гуру Брамин!
Вы, может быть, помните, я у Вас просила совета в мае. На этот раз высылаю Вам надписанный конверт с маркой, и Вы ответьте мне лично, потому что мне не хотелось бы, чтобы то, о чем я буду писать, упоминалось в печати. Пожалуйста, ответьте мне сразу или как только сможете, потому что я очень расстроена и должна скорее что-нибудь предпринять.
На случай, если Вы забыли, я Вам хочу напомнить, что я работаю вместе с одним человеком, который возглавляет наш отдел, и вообще во всех отношениях это самый замечательный человек, какого только можно себе представить. Для меня это большая честь, что я работаю вместе с таким специалистом, который к тому же очень развитой и культурный человек, прирожденный руководитель, а также истинный художник и образец хорошего воспитания. Разными мелкими знаками внимания он дал понять, что отдает мне предпочтение перед другими девушками, и, хотя он еще не сказал этого, потому что он не из тех, кто легко смотрит на вещи, я уверена, что он любит меня самым достойным образом. Однако я при нем не испытываю таких чувств, про которые наши девушки рассказывают, что они их испытывают со своими знакомыми мужчинами, и какие можно увидеть в кино.
Но я, мне кажется, испытываю такие чувства к другому, но он совсем не такой замечательный человек. Во-первых, он англичанин и потому во многих отношениях никак не Настоящий Американец. Дело не только в том, что у него акцент или как он ест, а в том, что он относится цинично ко многим вещам, которые должны быть Священными. Он даже, наверное, не имеет никакой религии. Правда, я сама тоже не имею, потому что в колледже у меня были передовые взгляды и воспитание в смысле религии у меня очень неудачное и в остальных смыслах тоже, но зато у меня есть этика. (Поскольку письмо это личное, я могу также сказать Вам, что мать у меня была сильно пьющая алкоголичка, и, наверно, это заставляет меня быть более чувствительной и застенчивой, чем другие девушки.) У него также нет понятия о Гражданском и Общественном Долге. Он поэт, и в Англии у него вышла книжка, которую очень положительно критиковали их критики. Я сама видела эту книжку и некоторые из этих рецензий, поэтому я знаю, что это правда, но свою здешнюю работу он очень окутывает тайной. Иногда он упоминает, как будто он работает в кино, а иногда, как будто он ничего не делает и только пишет стихи. Я видела его дом. Он живет один, потому что его друг (мужского пола), с которым он жил вместе, завершил путь полтора месяца назад. Я не думаю, чтоб он встречался с какой-нибудь другой девушкой или был женат. Денег у него не очень много. С виду он очень представительный мужчина, как Неамериканец, конечно, и вообще с ним очень весело, когда он не бывает непочтительный. Взять, к примеру, Творения Искусства в Мемориальном парке компании „Шелестящий дол“, он часто о них говорит непочтительно, а это ведь, по-моему, самая вершина всего, что есть прекрасного в Американском Образе Жизни. Так вот, могу ли я при этом надеяться на истинное счастье?
К тому же он совсем некультурный. Вначале я думала, что он должен быть, потому что ведь он поэт и был в Европе и встречался там с Искусством, но многим из наших великих писателей он как будто не придает значения.
Иногда он бывает очень нежный и любящий, но потом вдруг ведет себя неэтично. Так что мне очень нужен Ваш совет. Надеюсь, это длинное письмо не показалось Вам слишком большим.
С сердечным приветом
Эме Танатогенос»«Он написал для меня много стихотворений, некоторые из них бесподобные и вполне этичные, но другие не в такой степени».
Мысль о том, что почта уже унесла это письмо, отягчала совесть Эме, и она рада была, что утро прошло без каких-либо других знаков внимания со стороны мистера Джойбоя, кроме обычной приветственной улыбки с покойницкой тележки. Она старательно расписывала клиентов, и Деннис Барлоу был тоже сильно занят у себя в «Угодьях лучшего мира».
У них работали обе печи, так как им предстояло разделаться с шестью собаками, одной кошкой и одним диким козлом. Никто из хозяев при этом не присутствовал. Деннис и мистер Шульц могли действовать энергично. На кошку и собак у них ушло двадцать минут. Деннис выгребал не остывшую еще золу и складывал ее для охлаждения в ведра с этикетками. На козла ушел почти час. Деннис поглядывал время от времени в смотровое окошечко и в конце концов сокрушил рогатый череп кочергой. Потом он выключил газ, распахнул дверь топки и стал готовить контейнеры. Только одного из владельцев удалось склонить к покупке урны.
— Я ухожу, — сказал мистер Шульц. — А вы, будьте добры, подождите, пока остынет зола, чтоб можно было их упаковать. Всех, кроме кошки, будем развозить по домам. Кошку в колумбарий.
— Хорошо, мистер Шульц. А как быть с карточкой для козла? Не можем же мы написать, что он виляет хвостом на небесах. Козлы хвостами не виляют.
— Когда оправляются, виляют.
— Да, и все же для поминальной карточки это как-то не подходит. Козлы не мурлычут, как кошки. Не поют славу, как птички.
— Вероятно, они просто вспоминают.
Деннис написал: «Ваш Билли вспоминает вас сегодня на небесах».
Он поворошил серую дымящуюся кучку золы на дне каждого ведерка. Потом вернулся в контору и снова принялся разыскивать в «Оксфордской антологии английской поэзии» стихотворение для Эме.
Книг у него было немного, он уже начал испытывать недостаток в материале. Сперва он попытался сам писать для нее, но она отдавала предпочтение более ранним мастерам. К тому же собственная муза не давала ему покоя. Он забросил поэму, которую писал еще во времена Фрэнка Хинзли, казавшиеся такими далекими. Не этого требовала сейчас его муза. Она пыталась внушить ему весьма важную, отнюдь не простую и не лаконичную мысль. Это было как-то связано с «Шелестящим долом» и лишь косвенно касалось Эме. Рано или поздно он должен будет ублаготворить музу. Она стояла на первом месте. Что до Эме, то она пусть кормится из корыта антологий. Однажды он был на волосок от разоблачения: она сказала вдруг, что «Сравню ли с летним днем твои черты»[69] напоминает ей какие-то школьные стихи; в другой раз — на волосок от позора, когда она сочла «На ложе твоем» неприличным. «Пурпурный лепесток уснул и белый» [70] попало в самую точку, но он знал не много стихов, которые были бы столь же возвышенны, роскошны и сладострастны. Английские поэты оказались ненадежными гидами в лабиринте калифорнийского флирта — почти все они были слишком меланхоличны, стишком жеманны или слишком требовательны; они бранились, они заклинали, они превозносили. А Деннису нужно было что-то рекламно зазывное: он должен был развернуть перед Эме неотразимую картину не столько её собственных достоинств и даже не столько его собственных, сколько того безмерного блаженства, какое он ей предлагает. Фильмы умели делать это, популярные певцы тоже, а вот английские поэты, как выяснилось, — нет.
Промучавшись полчаса, он бросил поиски. Первых двух собак уже можно было упаковывать. Он поворошил козла, еще тлевшего кое-где под серо-белым налетом пепла. Сегодня Эме обойдется без стихов. Вместо этого он поведет ее в планетарий.
Бальзамировщики ели за обедом то же самое, что и прочие служащие похоронной фирмы, но сидели отдельно, за главным столом, где, согласно не очень давней, но свято соблюдаемой традиции, они ежедневно бросали кости и проигравший платил за всех. Мистер Джойбой бросил кости, проиграл и бодро заплатил по счету. В конечном итоге за месяц все они проигрывали примерно одинаковую сумму. Зато игра эта позволяла им продемонстрировать, что они люди, для которых какие-нибудь десять или двадцать долларов в неделю не так уж много значат.
В дверях столовой мистер Джойбой замешкался, посасывая таблетку, способствующую пищеварению. Девушки выходили поодиночке и парами, закуривая у дверей; Эме единственная из них не курила. Мистер Джойбой увлек ее в мемориальный парк. Здесь они остановились под аллегорической группой, изображающей «загадку бытия».
— Мисс Танатогенос, — сказал мистер Джойбой. — Я хотел сообщить вам, что я очень высоко ценю вас как работника.
— Благодарю вас, мистер Джойбой.
— Я упомянул об этом вчера в разговоре со Сновидцем.
— О, благодарю вас, мистер Джойбой.
— Мисс Танатогенос, с некоторых пор Сновидец строит планы на будущее. Это человек, безгранично устремленный в будущее. Он считает, что пришло время, когда женщины смогут занять подобающее место в «Шелестящем доле». Работая на низших должностях, они проявили себя достойными более высоких постов. Более того, он считает, что многих чувствительных и тонких людей от выполнения долга по отношению к своим Незабвенным удерживает чувство, которое я бы назвал не чем иным, как щепетильностью, хотя доктор Кенуорти видит тут естественное нежелание подвергать своих Незабвенных чему-либо, что пусть даже в малейшей степени отзывалось бы нескромностью. Короче говоря, мисс Танатогенос, Сновидец намерен подготовить женщину-бальзамировщицу, и его выбор, его в высшей степени разумный выбор, пал на вас.
— Ах, мистер Джойбой…
— Можете не говорить. Я понимаю ваши чувства… Могу ли я передать ему, что вы согласны?
— Ах, мистер Джойбой…
— А теперь, если мне будет позволено внести в наш разговор некоторый личный элемент, что вы думаете о том, чтобы как-то отпраздновать это событие? И не сделаете ли вы мне честь, согласившись отужинать со мной сегодня вечером?
— Ах, мистер Джойбой, даже не знаю, что сказать. У меня на сегодня было что-то вроде свидания.
— Но ведь оно было назначено до того, как вы услышали новость. Теперь, мне кажется, все предстает в несколько ином свете. К тому же, мисс Танатогенос, в мои намерения не входило ужинать с вами наедине. Я приглашаю вас к себе домой. Мисс Танатогенос, мне кажется, я заслужил величайшую честь и удовольствие представить первую женщину-бальзамировщицу «Шелестящего дола» моей мамуле.
Этот день был полон треволнений. После обеда Эме никак не могла сосредоточиться на своей работе. К счастью, на ее долю выпало на сей раз не так уж много важных заданий. Она помогла девушке из соседней кабинки приклеить накладные волосы к какому-то необычайно скользкому черепу; она наспех прошлась кистью по коже ребенка, возвращая ей телесный цвет; однако мысли ее уже витали в бальзамировочной, а слух ловил шипение и свист кранов, шаги служителей, выносивших почечные лоханки, накрытые крышкой, негромкие голоса, требующие нить для шва или перевязку для сосудов. Эме никогда не бывала за клеенчатой занавеской, отделявшей бальзамировочные от косметических; скоро она получит доступ в любое из этих помещений.
В четыре старшая косметичка сказала ей, что можно кончать. Эме, как всегда, аккуратно уложила краски и флаконы, промыла кисти и пошла в гардеробную переодеваться.
Она должна была встретиться с Деннисом на берегу озера. Он заставил себя ждать, а когда явился, воспринял новость о том, что она приглашена на ужин, с раздражающим спокойствием.
— С тем самым Джойбоем? — сказал он. — Что ж, это должно быть забавно.
Однако новость о предстоящем повышении настолько переполняла ее, что она не удержалась и рассказала ему все.
— Ого… — сказал он. — Вот это уже кое-что. Сколько же это даст?
— Не знаю. Я этим не интересовалась.
— Ты будешь теперь зарабатывать прилично. Как ты думаешь, сто долларов в неделю они дадут?
— Вряд ли кому-нибудь, кроме самого мистера Джойбоя, столько платят.
— Ну, полсотни-то дадут. Полсотни тоже неплохо. Тогда мы уже могли бы пожениться.
Эме остановилась как вкопанная, изумленно на него глядя.
— Как ты сказал?
— Мы могли бы пожениться, сама подумай. Ведь меньше полсотни они тебе не положат, верно?
— А с чего ты взял, скажи на милость, что я за тебя выйду?
— Как же, детка, меня ведь только деньги и останавливали. Теперь, когда ты можешь содержать меня, нам ничто больше не мешает.
— Любой американский мужчина стал бы презирать себя, если б жил на деньги жены.
— Это правда, но я, видишь ли, европеец. В наших более древних цивилизациях не осталось всех этих предрассудков. Я не говорю, конечно, что полсотни — это много, но я согласен первое время потерпеть.
— По-моему, это просто низко с твоей стороны.
— Не будь дурой. Нет, смотри, ты что, и вправду разозлилась?
Эме и вправду разозлилась. Она сразу повернулась и ушла, а в тот же вечер, еще до того, как отправиться на ужин, второпях нацарапала записку Гуру Брамину. «Пожалуйста, не трудитесь отвечать на мое утреннее письмо. Я теперь сама знаю, что мне делать». Письмецо это она отправила в редакцию срочной почтой.
Уверенной рукой Эме исполнила весь ритуал, предписываемый американской девушке, которая готовится к свиданию с возлюбленным: протерла подмышки препаратом, который должен закупорить потовые железы, прополоскала рот препаратом, освежающим дыхание, а, делая прическу, капнула на волосы пахучей жидкостью под названием «Яд джунглей». «Из глубин малярийных болот, — гласила реклама, — оттуда, где колдовские заклинания барабанов взывают к человеческим жертвам, точно каннибал, вышедший на охоту, неумолимо подкрадывается к вам „Яд джунглей“, последнее высококачественное творение „Жанеты“».
Полностью экипированная таким образом для домашней вечеринки, Эме с легким сердцем ждала, когда у входной двери раздастся мелодичный голос мистера Джойбоя: «Хэлло! Я здесь!» Она готова была откликнуться на недвусмысленный зов судьбы.
Однако все в этот вечер было не совсем так, как она представляла себе. Самый уровень, на котором проходило свидание, оказался гораздо ниже ее ожиданий. Она почти не бывала в гостях и, вероятно, именно по этой причине имела преувеличенное представление о том, чего можно ждать. Мистер Джойбой был известен ей как человек блистательный в смысле профессиональном, как постоянный корреспондент «Гроба», близкий друг доктора Кенуорти и вообще единственное светило похоронного отделения. Эме благоговейно обводила киноварью неподражаемые контуры его творений. Она знала, что он член Ротарианского клуба и кавалер Пифийского ордена; его костюмы и его машина были безупречно новыми, и, когда он с щегольским шелестом шин уносился в свою личную жизнь, ей казалось, что он переносится в мир совершенно иной, во всех отношениях более возвышенный, чем тот, в котором жила она. Однако это было не так.
Они долго ехали по бульвару Санта-Моника, прежде чем свернули в какой-то захудалый район. Создавалось впечатление, что квартал этот знавал лучшие времена, но потом счастье изменило ему. Многие дома до сих пор пустовали, но и те, что были обитаемы, уже утратили первоначальную свежесть. Деревянный домишко, возле которого они наконец остановились, не отличался сколько-нибудь выгодно от своих соседей. Дело в том, что похоронщикам, даже самым выдающимся, платят меньше, чем звездам кино. К тому же мистер Джойбой был человек предусмотрительный. Он откладывал на черный день, а также выплачивал страховку. Он старался производить на окружающих благоприятное впечатление. В один прекрасный день он обзаведется домом и детьми. Пока это не случилось, тратить деньги просто так, незаметно для окружающих, тратить их на мамулю — все равно что бросать деньги на ветер.
— Никак не соберусь заняться садом, — сказал мистер Джойбой, словно уловив невысказанное порицание во взгляде Эме, озиравшейся вокруг. — Этот домишечко я купил в спешке, просто так, чтобы пристроить мамулю, когда мы перебрались на Запад.
Он отпер парадную дверь, пропустил Эме вперед и громко заулюлюкал у нее за спиной.
— У-у-у, мамуля. А вот и мы!
Угрожающие раскаты мужского голоса сотрясали крохотный домишко. Мистер Джойбой распахнул дверь и повел Эме к источнику шума — радиоприемнику, который стоял на столе посреди невзрачной гостиной. Миссис Джойбой сидела, уткнувшись в приемник.
— Сидите тихо, пока не кончится, — сказала она.
Мистер Джойбой подмигнул Эме.
— Старушка страсть как не любит пропускать международный комментарий, — сказал он.
— Тихо! — злобно повторила миссис Джойбой.
Они сидели молча минут десять, пока хриплый голос, изливавший на них поток дезинформации, не сменятся другим, более вкрадчивым, который принялся расхваливать новый сорт туалетной бумаги.
— Выключи, — сказала миссис Джойбой. — Слышал, он говорит, что в этом году снова будет война.
— Мамуля, это Эме Танатогенос.
— Хорошо. Ужин на кухне. Ужинай, когда захочешь.
— Проголодались, Эме?
— Нет, да. Немножечко.
— А ну-ка посмотрим, что за сюрприз приготовила нам старушечка.
— Что и всегда, — сказала миссис Джойбой. — Нет у меня времени сюрпризами заниматься.
Миссис Джойбой повернулась в кресле к какому-то странному, накрытому платком предмету, который стоял тут же, на столе, рядом с приемником. Она откинула край остатка — под ним оказалась проволочная клетка, а в ней почти совсем лысый попугай.
— Самбо, — сказала она зазывно. — Самбо. Попугай склонил голову набок и моргнул. — Самбо, — повторила она. — Ты не хочешь поговорить со мной?
— Ты же отлично знаешь, мамуля, что птица уже много лет не говорит.
— Говорит сколько угодно, когда тебя нет. Правда ведь, мой Самбо?
Попугай склонил голову на другой бок, моргнул и, взъерошив жалкие остатки перьев, вдруг засвистел, как паровоз.
— Вот видишь, — сказала миссис Джойбой. — Не будь у меня Самбо, который меня любит, незачем было бы и жить.
На ужин был консервированный суп с вермишелью, миска салата с консервированными крабами, мороженое и кофе. Эме помогла принести посуду из кухни. Эме и мистер Джойбой вместе сняли приемник и накрыли на стол. Миссис Джойбой недружелюбно следила за ними из своего кресла. Матери знаменитостей часто обескураживают поклонниц своих сыновей. У миссис Джойбой были маленькие злобные глазки, волосы в мелких завитках, пенсне на непомерно толстом носу, бесформенное тело и прямо-таки омерзительное платье.
— Так мы жить не привыкли, и тут мы жить не привыкли, — сказала она. — Мы перебрались сюда с Востока, и, если бы меня кто-нибудь слушал, мы бы и сейчас там жили. В Вермонте нам каждый день помогала за пятнадцать монет в неделю цветная девчонка, да еще рада была радехонька. А здесь разве найдешь такую? Да и вообще, что здесь найдешь? Вы только поглядите на этот салат. Там, где мы жили раньше, там всего было больше, и все было дешевле, и все было лучше. Конечно, вдоволь у нас дома никогда ничего не было, еще бы, попробуй-ка вести хозяйство на те деньги, что мне дают.
— Мамуля любит шутить, — сказал мистер Джойбой.
— Шутить? Хорошенькие шутки — вести хозяйство на такие деньги, да еще чтоб гости ходили! — Потом, уставившись на Эме, она добавила: — А девушки в Вермонте работают.
— Эме очень много работает, мамуля. Я же тебе рассказывал.
— Хорошенькая работа. Да я бы свою дочь и близко не подпустила к такой работе. А ваша мать где?
— Она уехала на Восток. Наверно, умерла.
— Уж лучше умереть там, чем жить тут. Наверно? Это так нынешние дети заботятся о своих родителях.
— Полно, мамуля, как можно говорить такие слова. Ты ведь знаешь, как я забочусь…
Некоторое время спустя Эме смогла наконец проститься, не нарушая приличий; мистер Джойбой проводил ее до калитки.
— Я бы вас отвез, — сказал он, — но мне не хочется оставлять мамулю одну. Трамвайная остановка за углом. Вы легко найдете.
— Да, конечно, — сказала Эме.
— Вы очень понравились мамуле.
— Правда?
— Ну конечно. Я это сразу чувствую. Когда человек нравится мамуле, она обращается с ним запросто, без церемоний, как со мной.
— Она и правда обращалась со мной запросто.
— Ну еще бы. Она обращалась с вами запросто — это уж точно. Вы наверняка произвели на мамулю очень большое впечатление.
В тот вечер, прежде чем лечь спать, Эме написала еще одно письмо Гуру Брамину.
Глава 7
Гуру Брамином были двое мрачных мужчин и способная юная секретарша. Один мрачный мужчина писал в рубрику, другой, мистер Хлам, занимался письмами читателей, на которые нужно было отвечать лично. К тому времени, когда мужчины появлялись в редакции, секретарша успевала рассортировать письма и положить каждому на стол. Мистеру Хламу, который работал здесь еще со времен «Тетушки Лидии» и сохранил ее стиль, обычно доставалась меньшая пачка, ибо корреспонденты Гуру Брамина любили, чтобы их проблемы обсуждались публично. Это преисполняло их чувства собственной значимости, а иногда и помогало завязать переписку с другими читателями.
Над письмом Эме еще витал запах «Яда джунглей».
«Дорогая Эме, — диктовал мистер Хлам, присовокупляя новый окурок к бесконечной цепочке выкуренных сигарет. — Меня чуточку встревожил тон Вашего последнего письма».
Сигареты, которые курил мистер Хлам, были, если верить рекламе, приготовлены медиками с единственной целью — уберечь его дыхательные пути от страданий. И все-таки мистер Хлам страдал ужасно, а вместе с ним ужасно страдала и юная секретарша. С самого утра мистера Хлама по нескольку часов бил кашель; он поднимался откуда-то из самых глубин ада и облегчить его могло только виски. В особо тяжкие дни безмерно страдающей секретарше начинало казаться, что еще немного — и мистера Хлама вырвет. Сегодня выдался особо тяжкий день. Мистер Хлам тужился, корчился, содрогаясь всем телом, и отирал лицо носовым платком.
«Хозяйственная и домовитая американская девушка не найдет ничего предосудительного в том приеме, который Вам был оказан. Ваш друг оказал Вам самую большую честь, какую только мог, пригласив Вас, чтобы познакомить со своей матерью, а она не была бы матерью в истинном смысле этого слова, если бы не пожелала Вас увидеть. Настанет время, Эме, когда Ваш собственный сын приведет домой незнакомку. Тот факт, что человек этот помогает матери по хозяйству, тоже, на мой взгляд, не бросает на него тени. Вы пишете, что в переднике он выглядел недостойно. Нет сомнения в том, что помогать другим, не считаясь при этом с условностями, и есть высшее проявление истинного достоинства. Единственное, чем можно объяснить перемену в Вашем отношении к нему, — это то, что Вы не любите его так, как он того заслуживает, но тогда Вы должны сказать ему об этом прямо при первом же удобном случае.
Вам отлично известны недостатки Вашего второго друга, о котором Вы упоминаете, и я уверен, что Ваш здравый смысл поможет Вам отличить внешний блеск от истинного достоинства. Стихи — вещь неплохая, но, на мой взгляд, человек, который с таким энтузиазмом и скромностью возлагает на себя бремя домашней работы, стоит десятка речистых поэтов».
— Не слишком ли я сильно?
— Да, это сильно сказано, мистер Хлам.
— А черт, я себя сегодня премерзко чувствую. Да и девица, судя по всему, первостатейная сука.
— Мы уже привыкли к этому.
— Да. Ладно, смягчите чуть-чуть. Тут еще одно письмо, от женщины, которая кусает ногти. Что мы ей советовали в прошлый раз?
— Размышлять о Прекрасном.
— Напишите ей, чтоб продолжала размышлять.
А в пяти милях от редакции, в своем крошечном косметическом кабинете, Эме, прервав работу, перечитывала стихи, которые получила утром от Денниса.
Бог дал ей смелых глаз разлет И спрятал в них огни. Под пеплом сердца моего Пожар зажгут они. Лилейна шея, и на ней Златая бьется прядь. И хочет красок понежней День у нее занять. Как ручки нежные мягки, Их дрожи не стерпеть. За малый знак ее любви Так мало умереть. О нежный, резвый, милый друг! Святыня глаз моих…Одинокая слеза сбежала по ее щеке и упала на застывшую в улыбке восковую маску трупа. Эме спрятала стихи в карман полотняного халатика, и ее нежные, мягкие ручки вновь забегали по мертвому лицу.
В конторе «Угодий лучшего мира» Деннис сказал мистеру Шульцу:
— Мистер Шульц, я хотел бы получить прибавку к жалованью.
— Пока это невозможно. Дела у нас идут не так уж блестяще. И вы знаете это не хуже меня. Вы и так получаете на пять монет больше, чем тот, который был до вас. Я не хочу сказать, что вы их не заслужили, Деннис. Если дела пойдут в гору, вы первый получите прибавку.
— Я подумываю о женитьбе. Моя девушка не знает, что я работаю здесь. Она любит романтику. И я вовсе не уверен, что ей понравится мое занятие.
— A у вас есть на примете что-нибудь получше?
— Нет.
— Ну так скажите ей, пусть отложит на время свою романтику. Сорок монет в неделю — это все-таки сорок монет.
— Помимо воли я оказался перед дилеммой джеймсовского героя. Вам не приходилось читать Генри Джеймса, мистер Шульц?
— Вы же знаете, у меня нет времени для чтения.
— Его не нужно читать много. Все его книги посвящены одной теме — американской наивности и европейской искушенности.
— Думает, что он нас может обжулить, так, что ли?
— Джеймс как раз был наивным американцем.
— Ну так я не стану тратить время на мерзавцев, которые капают на своих.
— Он на них не капает. Каждое из его произведений — это в той или другой степени трагедия.
— Ну, так на трагедии у меня тоже нет времени. Возьмите-ка гробик с этого конца. Через полчаса уже придет пастор.
В то утро у них были похороны с полным соблюдением обряда — в первый раз за месяц. В присутствии десятка скорбящих гроб с эльзасским терьером был опущен в могилу, обсаженную цветами. Преподобный Эррол Бартоломью отслужил заупокойную службу:
— Пес, рожденный сукой, краткодневен и пресыщен печалями; как цветок, он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается…
После похорон, вручая в конторе чек мистеру Бартоломью, Деннис спросил его:
— Скажите мне, пожалуйста, как становятся священником Свободной церкви?
— Человек слышит Зов.
— О да, конечно. Но когда он услышал Зов, какова дальнейшая процедура? Я хочу спросить, есть ли какой-нибудь епископ Свободной церкви, который посвящает в сан?
— Нет, конечно. Тот, кто услышал Зов, не нуждается в человеческом посредничестве.
— Просто вы можете в один прекрасный день заявить: «Я священник Свободной церкви» — и открыть лавочку?
— Требуются значительные расходы. Необходимо помещение. Впрочем, банки, как правило, охотно идут навстречу. Ну и потом, конечно, каждый рассчитывает на радиопаству.
— Один мой друг услышал Зов, мистер Бартоломью.
— Знаете, я бы посоветовал ему крепко подумать, прежде чем на этот Зов откликнуться. Конкуренция с каждым годом становится все ожесточеннее, особенно в Лос-Анджелесе. Некоторые новички ни перед чем не останавливаются, берутся даже за психиатрию и столоверчение.
— Это нехорошо.
— Это совершенно выходит за рамки писания.
— Мой друг хочет специализироваться на похоронах. У него есть связи.
— Жалкие крохи, мистер Барлоу. Гораздо больше можно заработать на свадьбах и крестинах.
— Моего друга свадьбы и крестины интересуют в меньшей степени. Для него важно положение в обществе. Можно ли сказать, что священник Свободной церкви в социальном отношении стоит не ниже бальзамировщика?
— Бесспорно, мистер Барлоу. В душе американца живет глубочайшее уважение к служителю культа.
Уи-Керк-о-Олд-Лэнг-Сайн[71] стоит у самого края парка, вдали от Университетской церкви и мавзолея. Это низкое строение без колокольни и каких-либо архитектурных украшений, призванное скорее пленять душу, чем потрясать. Храм посвящен Роберту Бернсу и Гарри Лодеру[72], и в приделе развернута выставка предметов, связанных с их памятью. Скромный интерьер церкви оживляет лишь неяркий шотландский ковер. Снаружи стены ее поначалу были обсажены вереском, но под калифорнийским солнцем вереск разросся так пышно, что живая изгородь превзошла все размеры, какие могли привидеться доктору Кенуорти в его сновидениях, так что в конце концов он велел повыдергать вереск, а участок вокруг церкви огородить стеной, выровнять и замостить, в результате чего он стал походить на школьный двор — в полном соответствии с высоким общеобразовательным уровнем той нации, которую этот храм обслуживал. Однако безыскусная простота и слепая верность традиции были в равной степени чужды вкусам Сновидца. Он ввел усовершенствования; за два года до поступления Эме в «Шелестящий дол» он устроил в этом аскетически строгом дворике Гнездо Любви; конечно, здесь не было столь пышной растительности, как на Озерном острове, располагавшем к поэтическому флирту; зато, по мнению доктора Кенуорти, здесь было нечто сугубо шотландское, в таком уголке можно договориться о сделке и заключить контракт. Гнездо Любви представляло собой возвышение с двухместной скамьей из грубо отесанного гранита. Скамью разделяла пополам гранитная плита, прорезанная окошечком в виде сердца. Надпись на ступеньке гласила:
СКАМЬЯ ЛЮБВИ
Эта скамья сделана из подлинного шотландского камня, добытого в древних горах Эбердина. Она включает старинный символ — Сердце Брюса.
По традиции шотландских раздолий влюбленные, которые дадут друг другу обет на этой скамье и запечатлеют поцелуй через Сердце Брюса, увидят веселотворных много дней и под гору сойдут, не разнимая рук, как бессмертная чета Андерсонов.
Рекомендуемый текст обета был вырезан на возвышении, чтобы сидящая чета могла прочесть его вслух:
Пока не высохнут моря, Не утечет скала И дней пески не убегут, Клянусь любить тебя.Выдумка эта пришлась по вкусу широкой публике, и в Гнездо Любви зачастили влюбленные. Тех, кто просто прогуливается по парку, сюда мало что может привлечь. Сама церемония длится около минуты, и чуть ли не каждый вечер здесь можно увидеть влюбленные парочки, ожидающие своей очереди, пока не привычные к диалекту губы прибалтов, евреев и славян, преодолевая собственный акцент, справятся с текстом, который звучит в устах этих чужеземцев как священное заклинание африканских племен. Поцеловавшись через прорезь в граните, они уступают место следующей паре и уходят присмиревшие, а то и вовсе исполненные священного трепета после совершенного ими таинственного обряда. Здесь не слышно пения птиц. Его заменяет скрип шотландской волынки среди сосен и остатков вереска.
Вот сюда-то через несколько дней после своего визита к мистеру Джойбою Эме, вновь исполненная решимости, привела Денниса, и он, пробегая глазами цитаты, по обычаю «Шелестящего дола» в изобилии нацарапанные на камне, радовался про себя, что врожденное отвращение к шотландскому диалекту помешало ему заимствовать любовные тексты из Роберта Бернса. Они дождались своей очереди и наконец уселись рядышком на скамье.
— Пока не высохнут моря, — прошептала Эме. Лицо ее чудно светилось в маленьком сердцеобразном окошке.
Они поцеловались, потом торжественно спустились с возвышения и, не поднимая глаз, прошли мимо вереницы ожидающих парочек.
— Деннис, а что значит «веселотворных много дней»?
— Никогда не задумывался. Наверно, что-нибудь вроде того, как бывает под Новый год в Шотландии.
— А что бывает?
— Блюют на мостовой в Глазго.
— А-а…
— Знаешь, как эти стихи кончаются? «Теперь мы под гору бредем, не разнимая рук, дойдем и ляжем там вдвоем, Джон Андерсон, мой друг».
— Деннис, почему все стихи, которые ты знаешь, такие грубые? А еще хочешь стать пастором.
— Пастором Свободной церкви. Впрочем, в подобных вопросах мне ближе анабаптисты. Так или иначе, для тех, кто уже обручился, все этично.
Помолчав немного, Эме сказала:
— Я должна написать обо всем мистеру Джойбою… и… еще кое-кому.
Она написала в ту же ночь. Письма ее были доставлены утренней почтой. Мистер Хлам сказал:
— Пошлите ей наше обычное поздравительное письмо с пожеланиями и наставлениями.
— Но она выходит не за того, мистер Хлам.
— Эту сторону вопроса обойдите молчанием.
В пяти милях от редакции Эме сдернула простыню со своего первого утреннего трупа. Он поступил от мистера Джойбоя, и на лице его было выражение такого безысходного горя, что сердце у нее болезненно сжалось.
Глава 8
Мистер Хлам опоздал на работу. Он жестоко страдал с похмелья.
— Опять письмо от красотки Танатогенос, — сказал мистер Хлам. — А я-то уж думал, что мы отделались от этой дамочки.
«Дорогой Гуру Брамин!
Три недели назад я писала Вам, что все уладилось, что я приняла решение и счастлива, но я все равно несчастна и в некотором смысле даже несчастнее, чем раньше. Иногда мой английский дружок бывает со мной очень нежен и пишет стихи, но часто он требует от меня неэтичных вещей, а когда я говорю, что нет, мы должны подождать, он ведет себя очень цинично. Я начинаю даже сомневаться, получится ли у нас когда-нибудь настоящая Американская Семья. Он говорит, что собирается стать пастором. Я уже писала Вам, что у меня прогрессивные взгляды и я не верю ни в какую религию, но мне кажется, что нельзя же к религии относиться цинично, потому что она приносит многим людям большое счастье, и ведь не все могут быть прогрессивными на этой ступени Эволюции. Он пока еще не стал пастором, он говорит, что должен сначала закончить одно дело, которое он обещал одному человеку, но не говорит, что за дело, и я даже иногда думаю, что это что-нибудь нехорошее, раз он так скрывает.
Теперь о моем продвижении по службе. Мне были предложены Великие Возможности улучшить мое положение, но об этом больше ничего не слышно. Глава нашего отдела — тот джентльмен, о котором я Вам уже писала, он еще помогает своей матери по хозяйству, и вот теперь, после того как я дала обет и обручилась со своим английским дружком и написала обо всем этому джентльмену, он со мной не разговаривает даже на служебные темы, как с другими девушками в отделе. А учреждение, где мы работаем, должно приносить людям Счастье — это одно из главных наших правил, и этот джентльмен для всех Пример, но он очень несчастлив, а ведь цель нашего учреждения совсем другая. Иногда даже кажется, как будто он недобрый, а раньше этого никогда не казалось, нисколько. А мой жених только и знает, что зло смеется над именем этого джентльмена. Еще меня тревожит, что мой жених так интересуется моей работой. Я не хочу сказать, что мужчина совсем не должен интересоваться работой своей девушки, но он уж слишком интересуется. Я просто хочу сказать, что в каждом деле есть такие технические подробности, про которые, наверно, людям не хотелось бы, чтобы говорили после работы, а он как раз про это все время и спрашивает…»
— Женщины всегда так, — сказал мистер Хлам. — Для них просто нож острый упустить хоть одного мужчину.
На своем рабочем столе Эме часто находила послания от Денниса. Если накануне вечером они расставались недовольные друг другом, Деннис, прежде чем отправиться спать, переписывал какое-нибудь стихотворение, а по пути на работу завозил его в покойницкую. Эти послания, написанные его красивым почерком, должны были заменить ей исчезнувшие улыбки. Незабвенные, подобно самому мастеру, глядели теперь на нее с горестным укором.
В то утро по пути на работу Эме вспомнила, как яростно препирались они с Деннисом накануне, но, придя, снова обнаружила на своем столе стихи. Она стала читать, и сердце ее вновь открылось навстречу возлюбленному.
Эме, красота твоя — Никейский челн дней отдаленных…[73]Мистер Джойбой в костюме, без халата, прошел через косметическую к выходу. На лице его застыло скорбное выражение. Эме улыбнулась ему смущенно и виновато; неловко кивнув, он прошел мимо, и тогда, повинуясь внезапному порыву, она написала в верхней части страницы, над стихами: «Попытайтесь понять меня. Эме», потом проскользнула в бальзамировочную и почтительно положила листок со стихами на сердце трупа, вверенного заботам мистера Джойбоя.
Мистер Джойбой вернулся через час. Эме слышала, как он вошел к себе, слышала, как он включил краны. Встретились они только за обедом.
— Эта штука со стихами, — сказал он, — симпатично придумано.
— Их написал мой жених.
— Тот англичанин, с которым я видел вас во вторник?
— Да, он очень знаменитый поэт в Англии. — Ах, вот как? Не помню, чтобы мне доводилось когда-нибудь видеть английских поэтов. А чем он еще занимается?
— Учится на пастора.
— Вот как. Послушайте, Эме, если у вас есть еще какие-нибудь его стихи, я бы с удовольствием взглянул.
— О, мистер Джойбой, я и не знала, что вы человек поэтический.
— Когда у тебя горе и разочарование, становишься даже где-то поэтическим.
— У меня очень много его стихов. Я их тут и храню.
— Мне, правда, хотелось бы прочитать их внимательно. Как раз вчера я ужинал в «Клубе ножа и вилки», и там меня познакомили с одним литератором из Пасадены. Я бы хотел показать ему эти стихи. Может быть, он смог бы помочь вашему другу.
— О, мистер Джойбой, это так благородно с вашей стороны. — Она запнулась. Они впервые заговорили с самого дня ее обручения. Благородство этого человека потрясло ее. — Надеюсь, миссис Джойбой здорова? — спросила она несмело.
— Сегодня у мамули тяжелый день. У нее трагедия. Вы помните Самбо, ее попугая?
— Конечно.
— Он скончался. Он, конечно, уже был где-то староват, лет сто, если не больше, и все же смерть была неожиданной. Миссис Джойбой, конечно, переживает.
— Ах, мне так жаль.
— Да, она очень переживает. Никогда не видел ее в таком подавленном состоянии. Сегодня я все утро хлопотал о погребении. Потому я и отлучался. Ездил в «Угодья лучшего мира». Похороны в среду. Вот я и подумают, мисс Танатогенос: у мамули не так уж много знакомых в этом штате. И ей бы, конечно, было очень приятно, если бы на похоронах присутствовал кто-нибудь из друзей. Он был такой общительный, этот Самбо, когда был помоложе. Помню, на Востоке он больше всех радовался, когда бывали гости. Даже обидно, что никто не придет отдать ему последний долг.
— Ах, что вы, мистер Джойбой, я бы с радостью пришла.
— Правда, мисс Танатогенос? Это будет очень, очень симпатично с вашей стороны.
Так Эме появилась в конце концов в «Угодьях лучшего мира».
Глава 9
Эме Танатогенос изъяснялась на языке Лос-Анджелеса; скудная меблировка ее интеллекта, о которую обдирал себе коленки пришелец из Европы, была приобретена в местной школе и университете; Эме представала перед миром одетой и надушенной в соответствии с велениями рекламы; и мозг, и тело ее едва ли можно было отличить от других изделий стандартизированного производства, но дух — о, дух ее витал в других краях, и искать его нужно было не здесь, в пропитанных мускусом садах западной оконечности земли, но в чистом воздухе горного рассвета, на подоблачных перевалах Эллады. Притоны и фруктовые лавочки, древние темные промыслы (скупка краденого и сводничество), словно пуповиной независимо от воли Эме связывали ее с горными высями, где обитали ее предки. Она росла, становилась старше, и тот единственный язык, которым она владела, все меньше способен был выразить потребности ее созревающего духа; факты, засорявшие ее память, теряли свою значимость; в фигуре, которую отражало зеркало, ей было труднее узнавать себя. Эме удалялась в возвышенные и священные места обитания.
Вот почему открытие, что человек, которого она любила и с которым была связана нежнейшими клятвами, оказался лжецом и обманщиком, затронуло только часть се души. По всей вероятности, сердце ее было разбито, но это был лишь незначительный и недорогой продукт местного производства. Зато в плане более широком и более высоком она почувствовала, что ситуация упростилась. Драгоценный дар ее согласия нужно было вручить более достойному из противников, и она хотела быть только справедливой. Отныне не оставалось места для колебаний. Искусительные и сладострастные зовы «Яда джунглей» умолкли.
И тем не менее ее последнее письмо Гуру Брамину было написано на языке, который дан был ей воспитанием.
Мистер Хлам был нечисто выбрит, мистер Хлам был не совсем трезв. «Хлам все больше опускается, — сказал главный редактор. — Заставьте его взять себя в руки или увольняйте». Не ведавший о нависшей над ним угрозе мистер Хлам воскликнул:
— Боже мой, опять Танатогенос! Что она там пишет, милочка? Я что-то сегодня даже читать не могу.
— Ее постигло страшное прозрение, мистер Хлам. Человек, которого она, как ей казалось, любила, оказался лжецом и обманщиком.
— О-о, напишите ей, пусть выходит за другого.
— Кажется, так она и намерена поступить.
О помолвке Денниса и Эме не было объявлено ни в одной газете, и потому не потребовалось публичного опровержения. Помолвке мистера Джойбоя и Эме были посвящены полтора столбца в «Журнале похоронщиков» и фотография в «Гробе»; что касается местного журнала «О чем шелестит дол», то он посвятил их роману почти весь очередной номер. Была объявлена дата брачной церемонии в Университетской церкви. Мистер Джойбой получил баптистское воспитание, и священник, который в «Шелестящем доле» отпевал баптистов, охотно предложил ему свои услуги. Кастелянша подыскала для невесты белое усыпальное покрывало. Доктор Кенуорти выразил желание лично присутствовать на церемонии. Трупы, поступавшие теперь к Эме для дальнейшей обработки, торжествующе ухмылялись.
За все время Эме ни разу не встречалась с Деннисом. В последний раз она видела его у могилы попугая, когда он, словно бы вовсе не испытывая смущения, подмигнул ей над маленьким пышным гробиком. На самом деле он был порядком смущен и просто почел за лучшее притаиться на день-другой. А потом он увидел объявление о помолвке.
Эме было не так-то просто избежать нежелательных встреч. Она не могла попросту предупредить: «Если придет мистер Барлоу, меня нет дома» — и наказать слугам, чтоб его не пускали. У нее не было слуг, а если звонил телефон, она сама брала трубку. Ей надо было есть. Надо было ходить по магазинам. И в том и в другом случае она оказывалась беззащитной перед возможностью тех будто случайных дружеских встреч, которыми изобилует жизнь американца. И вот как-то вечером, незадолго перед свадьбой, Деннис, подстерегавший ее, прошел за ней в жирножковую и сел рядом у стойки.
— Привет, Эме. Хочу с тобой поговорить.
— Все, что бы ты теперь ни сказал, не имеет значения.
— Но послушай, милая моя, ты, кажется, совсем забыла, что мы с тобой обручены и должны пожениться. Мои теологические занятия продвигаются успешно. День, когда я заявлю о своих жениховских правах, уже не за горами.
— Лучше смерть.
— Признаться, этой альтернативы я не предвидел. Поверишь, первый раз в жизни пробую эти жирножки. Сколько раз собирался попробовать. Поразительно даже не то, что они такие противные, а то, что они совершенно безвкусные. Но давай поговорим начистоту. Ты что же, отрицаешь, что торжественно поклялась выйти за меня замуж?
— Но ведь девушка может и передумать, правда?
— Ну, по правде сказать, я в этом не уверен. Ты ведь дала торжественное обещание.
— Да, но я была обманута. Все эти стихи, которые ты посылал мне и притворялся, будто сам их написал, и все они такие возвышенные, что я даже наизусть учила отрывки, — оказывается, их написали другие люди, а некоторые из этих людей даже завершили путь сотни лет назад. В жизни так обидно не было, как тогда, когда я узнала.
— Так, значит, в этом все дело?
— И эти ужасные «Угодья лучшего мира». Ладно. Я лучше уйду. Мне даже есть расхотелось.
— Но ведь ты сама выбрала это место. Когда я тебя приглашал, я никогда не кормил тебя этими жирножками, правда?
— Если только не я тебя приглашала.
— Это несущественно. Но не можешь же ты идти вот так по улице и плакать. Моя машина стоит напротив. Давай я подброшу тебя до дому.
Они вышли на улицу, ярко освещенную светом неоновых ламп.
— Ладно, Эме, — сказал Деннис, — давай не будем дуться.
— Дуться? Ты мне просто отвратителен.
— Когда мы виделись в прошлый раз, мы были помолвлены и собирались сочетаться браком. Надеюсь, я могу рассчитывать на какие-то объяснения. Пока единственное, в чем ты обвиняешь меня, — это то, что не я автор нескольких наиболее знаменитых стихотворных шедевров, написанных по-английски. Ну а кто же тогда? Твой Гопджоп?
— Ты хотел, чтобы я подумала, будто это ты написал.
— Ну, Эме, ты не справедлива ко мне. Это я должен был бы быть разочарован тем, что девушка, на которую я растрачивал свои чувства, не знакома с самыми популярными сокровищами литературы. Но я понимаю, что твои критерии образования отличаются от тех, к которым я привык. Ты, несомненно, лучше, чем я, разбираешься в психологии и китайском языке. Но, видишь ли, в том отмирающем мире, из которого я пришел, цитирование — это поистине национальный порок. Когда-то цитировали античных писателей, теперь лирическую поэзию.
— Никогда больше не поверю ни одному твоему слову.
— Черт побери, чему ж тут не верить?
— Я в тебя не верю.
— Вот это уже другое дело. Верить кому-то и верить в кого-то — здесь, конечно, есть существенное различие.
— Ох, да перестань ты рассуждать.
— Что ж, согласен.
Деннис подогнал машину к обочине и попытался заключить Эме в свои объятия. Она сопротивлялась яростно и умело. Он тотчас отступился и закурил сигару. Эме долго всхлипывала, забившись в угол, а потом вдруг сказала:
— Эти ужасные похороны.
— Попугай Джойбоя? Да. Это я, пожалуй, смогу объяснить. Мистер Джойбой требовал, чтобы гроб был открытый. Я возражал, и ведь, в конце концов, мне виднее. Я изучал это дело. Открытый гроб годится для собак и кошек, они очень естественно сворачиваются в клубочек. Другое дело попугаи. Они выглядят просто нелепо, когда голова их покоится на подушечке. Но я наткнулся на непробиваемую стену снобизма. Раз так хоронят в «Шелестящем доле», значит, так должны хоронить в «Угодьях лучшего мира». Или ты думаешь, он вообще все это подстроил? Может быть. Вполне допускаю, что этот ханжа и зануда пошел на то, чтоб бедняга попугай выглядел так нелепо, лишь бы уронить меня в твоих глазах. Да и вообще кто приглашал тебя на эти похороны? Ты что, была знакома с покойным?
— Подумать только, все то время, пока мы встречались с тобой, ты тайком ходил туда, в это место…
— Дорогая моя, тебе, как американке, меньше всего пристало презирать мужчину за то, что он начинает с нижней ступеньки социальной лестницы. Я, конечно, не притязаю на столь высокое положение в похоронном мире, какое занимает твой мистер Джойбой, но зато я моложе его, гораздо привлекательнее и у меня свои зубы. А в будущем у меня — Свободная церковь. Я, наверно, уже стану главным священником «Шелестящего дола», а мистер Джойбой все еще будет потрошить трупы. У меня задатки великого проповедника — нечто метафизическое, в стиле семнадцатого века, апеллирующее скорее к разуму, чем к простейшим эмоциям. Нечто в духе Лода[74] — этакое манерное, многословное, остроумное и совершенно недогматическое, свободное от предрассудков. Я думал о своем облачении. Широкие рукава, вероятно…
— Ой, да замолчи ты. Надоело до смерти!
— Эме, как твой будущий муж и духовный наставник, я должен предупредить тебя: с человеком, которого любишь, так не разговаривают.
— Я не люблю тебя.
— «Пока не высохнут моря».
— Понятия не имею, что это все значит.
— «Не утечет скала». Это, надеюсь, достаточно ясно. «Клянусь люб-бить тебя…» Уж эти-то слова тебе наверняка понятны. Именно так их произносят популярные певцы. «И дней пески не убегут, клянусь люб-бить тебя». Насчет песков, готов признать, звучит несколько туманно, но общий смысл поймет даже человек, вконец ожесточивший свое сердце. К тому же ты что, забыла о Сердце Брюса?
Рыдания утихли, и по наступившему молчанию Деннис понял, что в прелестной и слабой головке, уткнувшейся в угол, мыслительный процесс идет полным ходом.
— Это Брюс, что ли, написал стихотворение? — спросила она наконец.
— Нет. Но имена этих людей настолько похожи, что разница просто несущественна.
Последовала пауза.
— А этот Брюс или как там его, он не оставит никакого выхода для тех, кто дал клятву?
Деннис не возлагал больших надежд на обет, данный в церквушке Олд-Лэнг-Сайн. Он и упомянул-то о нем неизвестно зачем. Но теперь он поспешил использовать свое преимущество.
— Послушай, ты, сладостное и безнадежное создание. Ты сейчас стоишь перед дилеммой — это по-нашему, по-европейски, а по-вашему — ты попала в переплет.
— Отвези меня домой.
— Хорошо, я могу объяснить тебе все по дороге. На твой взгляд, в мире нет ничего прекраснее «Шелестящего дола», разве только рай небесный. Я тебя понимаю. На свой грубый английский манер я разделяю твой восторг. Я даже собрался написать об этом один опус, но боюсь, что не смогу в этой связи повторить вслед за Доусоном[75]: «Если вы его прочтете, все поймете вы». Ты не поймешь в нем, милая, ни единого слова. Но это все так, между прочим. Твой мистер Джойбой — это воплощенный дух «Шелестящего дола», единственное промежуточное звено между доктором Кенуорти и простыми смертными. Итак, оба мы, ты и я, одержимы «Шелестящим долом», «в целительную смерть полувлюблен», как я сказал тебе однажды, и, чтобы избежать дальнейших осложнений, позволь мне сразу добавить, что эти стихи тоже написал не я. Так вот, ты баядерка и девственная весталка этого заведения, и совершенно естественно, что меня влечет к тебе, а тебя влечет к Джойбою. Психологи объяснят тебе, что подобное случается на каждом шагу.
Вполне может статься, что с точки зрения Сновидца, моя репутация небезупречна. Попугай выглядел в гробу просто ужасно. Так что из этого? Ты любила меня и поклялась любить вечно самой священной клятвой во всем религиозном арсенале «Шелестящего дола». Теперь тебе понятна та дилемма, перед которой ты стоишь, тот тупик или переплет, в который ты попала? Святость неделима. Если целовать меня через сердца Бернса или Брюса — это не священный акт, то и ложиться в постель со стариной Джойбоем тоже не священный акт.
Она молчала. Деннис и не ожидал, что его слова произведут на нее такое глубокое впечатление.
— Ну, мы приехали, — сказал он наконец, остановившись перед домом, где она снимала квартиру. Он знал, что всякое проявление мягкости сейчас неуместно. — Вылезай.
Эме ничего не сказала и вначале даже не двинулась с места. Потом она прошептала:
— Ты мог бы освободить меня.
— Да, но я не хочу.
— Даже если я совсем забыла тебя?
— Но ведь ты не забыла.
— Забыла. Когда я отворачиваюсь, я даже не могу вспомнить, какой ты. А когда тебя нет, я совсем о тебе не думаю.
Когда Эме очутилась одна в железобетонной клетке, которую она называла своей квартирой, на нее набросились все демоны сомнения. Она включила радио, безрассудная буря тевтонской страсти захватила ее и вынесла на крутой обрыв безумия, потом музыка вдруг оборвалась. «Мы передавали музыку по заявке компании „Кайзеровские персики без косточки“. Помните, что ни один другой сорт персиков, из поступающих в продажу, не гарантирует ни столь полного отсутствия косточек, ни столь высокого качества. Только покупая кайзеровские персики без косточек, вы покупаете полновесную, сочную персиковую мякоть без всяких посторонних…»
Она сняла телефонную трубку и набрала номер мистера Джойбоя.
— Пожалуйста, ну пожалуйста, приезжайте. Я так мучаюсь.
В трубке слышался оглушительный гвалт человеческих и нечеловеческих голосов, и среди этого гвалта тихий, слабый голос повторял:
— Погромче, роднуля-детуля. Не совсем понял.
— Я так несчастна.
— Я совсем тебя не слышу, роднуля-детуля. У мамули новая птица, и мамуля учит ее разговаривать. Может, мы просто отложим наш разговор на завтра?
— Пожалуйста, дорогой, приезжайте сейчас, вы могли бы?
— Что ты, детуля-роднуля, конечно, я не могу оставить мамулю в первый вечер, когда у нее новая птица, как можно? Каково ей будет, подумай! Сегодня у мамули большой праздник, детуля-роднуля. Я должен быть с ней.
— Это касается нашего брака.
— Ну да, детуля-роднуля, это понятно и где-то естественно. Целый ряд небольших проблем и вопросиков. Утро вечера мудренее, детуля-роднуля. Тебе надо выспаться хорошенько.
— Я должна вас увидеть.
— Ну-ну, детуля-лапуля, папочка будет строгим. Сейчас же сделай, как велит папуля, а то папуля не на шутку рассердится.
Она повесила трубку и снова прибегла к высокой опере, лавина звуков захватила и оглушила ее. Это было нестерпимо. В наступившей затем тишине сознание ее стало понемногу оживать. Телефон. В редакцию.
— Я хочу поговорить с Гуру Брамином.
— А он по вечерам не работает. Очень жаль, но…
— Это очень важно. Вы не могли бы дать его домашний телефон?
— У нас их двое. Какой из них вам нужен?
— Двое? Я не знала. Мне нужен тот, который отвечает на письма.
— Это мистер Хлам, но он у нас с завтрашнего дня не работает, да и дома его в это время все равно не застанешь. Попробуйте позвонить в «Салун Муни». Там наши из редакции чаще всего сидят вечером.
— Его действительно зовут Хлам?
— Так он, во всяком случае, мне говорил, рыбонька.
Мистер Хлам был в тот день уволен из газеты. Этого события давно ждали все сотрудники редакции, кроме самого мистера Хлама, и вот теперь он излагал историю о том, как его предали, в разных питейных заведениях, где ее выслушивали безо всякого сочувствия. Бармен сказал:
— Вас к телефону, мистер Хлам. Сказать, что вас нет? В его теперешнем состоянии мистеру Хламу казалось вполне вероятным, что это звонит его редактор, исполненный раскаяния. Он потянулся через стойку бара за трубкой.
— Мистер Хлам?
— Да.
— Наконец-то я вас разыскала. Это Эме Танатогенос… Вы меня помните?
Еще бы ему было не помнить.
— Конечно, — сказал мистер Хлам после продолжительной паузы.
— Мистер Хлам, у меня большое несчастье. Мне нужен ваш совет. Вы помните того англичанина, о котором я вам писала?…
Мистер Хлам поднес трубку к уху своего собутыльника, ухмыльнулся, пожал плечами, потом положил трубку на стойку, закурил сигарету, выпил и заказал еще. С замызганной деревянной стойки едва доносилось взволнованное бормотанье. Эме потребовалось довольно много времени, чтобы изложить суть своих затруднений. Затем поток звуков оборвался и сменился прерывистым, всхлипывающим шепотом. Мистер Хлам взял трубку.
— Алло… Мистер Хлам… Вы слушаете? Вы слышите меня?… Алло.
— Ну-ну, рыбонька, что там?
— Вы меня слышали?
— Конечно же, прекрасно слышал.
— Ну и что… что мне теперь делать?
— Что делать? Я тебе скажу, что делать. Садись-ка ты в лифт и поезжай на самый верхний этаж. Подыщи окно поудобнее и прыгай. Вот что тебе остается.
Послышалось тихое, сдавленное рыдание, а потом спокойное:
— Спасибо.
— Я сказал ей, чтоб она совершила прыжок в высоту.
— Слышали.
— А что, скажете, я не прав?
— Тебе видней, друг.
— Бог ты мой, с такой-то фамилией!
В ванной Эме, в шкафчике среди инструментов и химических препаратов, столь необходимых для женского преуспеяния, лежал темный тюбик со снотворным, столь необходимым для женского отдохновения. Эме проглотила огромную дозу, легла и стала ждать, когда придет сон. И он пришел наконец, вторгся бесцеремонно и грубо, без предупреждающей сонливости и обволакивающей неги. Не было блаженного прилива, осторожного прикосновения, приподнимающего и несущего куда-то освобожденный разум. Без двадцати десять Эме уже снова лежала без сна, безутешная в своем горе, с мучительной болью, сжимающей виски, потом слезы выступили у нее на глазах, она зевнула; потом вдруг стало двадцать пять минут шестого, и она снова лежала без сна.
Еще не начинало светать; небо было беззвездное, а пустынные улицы залиты огнями. Эме встала, оделась и вышла из подъезда на свет дуговых фонарей. Короткое расстояние от своего дома до «Шелестящего дола» она прошла, никого не встретив. Золотые Ворота запирали после полуночи, но для ночной смены обычно оставалась незапертой боковая калитка. Эме вошла в калитку, и знакомая дорога привела ее к возвышению у церквушки Олд-Лэнг-Сайн. Здесь она села на скамью и стала ждать рассвета.
Душа ее была теперь совершенно спокойна. Неизвестно где и неизвестно как обрела она утешение и совет в глухой час непроглядной ночи; быть может, она связалась с духами своих предков, того нечестивого и одержимого племени, что, покинув алтари старых богов, садилось на корабли и пускайтесь по свету, гонимое неведомыми страстями по неведомым улочкам среди неведомых варварских языков и наречий. Отец ее посещал храм Истинного Евангелия, мать пила. Аттические голоса пророчили Эме более высокую участь; голоса, прилетавшие издалека, из другого века, пели ей о Минотавре, что в нетерпении бьет ногами в самом конце подземного лабиринта; нежно шептали ей про тихую водную гладь у Беотийского побережья, про вооруженных воинов, что стояли молча безветренным утром, про флот, недвижно застывший на якоре, про Агамемнона, отвращавшего свой взор; говорили ей об Алкестиде и гордой Антигоне.
Восток светлел. В круговращении суток только первые, самые ранние часы остаются незахватанными людьми. В этой части континента встают поздно. Эме, застыв в экстазе, наблюдала, как бесчисленные статуи, едва мерцавшие в полумраке, начинают белеть, как все четче проступают их очертания, а серебристо-серый покров лужаек становится зеленым. Теплый луч коснулся ее. И тогда все близ нее и дальше по склонам, насколько хватало глаз, превратилось в пляшущее море света, в миллионы крохотных радуг и язычков пламени. Это дежурный в своей будке повернул рычажок орошения, и вода брызнула из бесчисленных отверстий укрытой от человеческого глаза системы труб. Появились садовники с тачками и садовыми инструментами и разбрелись по своим делам. День наступил.
Эме быстро спустилась по усыпанной гравием дорожке к зданию похоронной конторы. В приемной дежурные ночной смены пили кофе. Они взглянули на нее без всякого любопытства, когда она молча проскользнула мимо них: срочную работу выполняли здесь в любое время суток. Эме поднялась в лифте на верхний этаж. Там царила тишина и не было никого, если не считать накрытых простынями покойников. Она знала, где искать то, что ей было нужно, — широкогорлую синюю бутылочку и шприц. Она не писала прощальных писем, ни у кого не просила прощения. Она далека была сейчас от обычаев общества и обязательств перед людьми. Оба героя — и Деннис, и мистер Джойбой — начисто стерлись в ее памяти. Речь шла о ней самой и о божестве, которому она служила.
То, что она выбрала для инъекции стол мистера Джойбоя, было чистой случайностью.
Глава 10
Мистер Шульц подыскал на должность Денниса какого-то молодого человека, и последняя неделя, проведенная Деннисом в «Угодьях лучшего мира», ушла на то, чтобы посвятить его в секреты производства. Это был очень способный молодой человек, живо интересовавшийся что почем.
— У него нет вашей обходительности, — сказал мистер Шульц. — У него не будет вашего индивидуального подхода, но, думаю, свое жалованье он оправдает иным путем.
В день смерти Эме Деннис, отправив ученика чистить топку крематория, принялся было за уроки заочного курса для проповедников, который он получил по подписке, когда дверь конторы вдруг отворилась, и Деннис, взглянув на гостя, с изумлением узнал в нем человека, с которым был едва знаком и который был его соперником в любви, а именно мистера Джойбоя.
— Мистер Джойбой, — сказал он. — Неужели снова попугай — и так скоро?
Мистер Джойбой сел. Вид его был ужасен. Убедившись, что они одни, он начал всхлипывать.
— Эме, — выговорил он наконец.
Вопрос Денниса был полон глубочайшей иронии:
— Надеюсь, не ее похороны вы хотите нам заказать?
Вопрос этот вызвал у мистера Джойбоя неожиданный взрыв страсти:
— Вы знали об этом! Вы, наверно, ее убили. Убили мою детулю-роднулю.
— Вы с ума сошли, Джойбой.
— Она умерла.
— Моя невеста?
— Моя невеста.
— Сейчас не время для пререканий, Джойбой. С чего вы взяли, что она умерла? Вчера вечером она была жива и здорова.
— Она там, на моем столе, под простыней.
— Да, это, конечно, то, что ваши газеты назвали бы «только факты». Вы уверены, что это она?
— Еще бы не уверен. Она отравилась.
— Неужели? Жирножками?
— Цианистым калием. Сделала себе укол.
— Тут есть о чем подумать, Джойбой. — Деннис помолчал. — Я любил эту девушку.
— Нет, это я любил ее.
— Прошу вас.
— Моя детуля-роднуля.
— Я бы попросил вас не употреблять в нашем серьезном разговоре этих интимных и довольно странных эпитетов. Как вы поступили?
— Я осмотрел ее, потом накрыл простыней. У нас есть стенные холодильники, мы иногда храним в них незаконченную работу. Я спрятал ее туда. Он бурно зарыдал.
— А зачем вы пришли ко мне? Мистер Джойбой хрюкнул. — Не понял.
— Помогите, — сказал мистер Джойбой. — Вы виноваты. Вы должны что-нибудь сделать.
— Сейчас не время для взаимных обвинений, Джойбой. Позвольте лишь напомнить вам, что это вы официально помолвлены с ней. При подобных обстоятельствах некоторое проявление чувств естественно, однако не впадайте в крайности. Я, конечно, никогда не считал ее совершенно нормальной, а вы?
— Она была моя…
— Не произносите этого слова, Джойбой. Не произносите, не то я вас выгоню.
Мистер Джойбой принялся рыдать с еще большим самозабвением. Ученик Денниса открыл дверь и замер, пораженный этим зрелищем.
— Заходите, — сказал Деннис. — У нас клиент, который только что потерял любимое существо. На вашей новой должности вам придется привыкать к подобным проявлениям горя. Вы что-нибудь хотели?
— Я только хотел сказать, что газовая печь снова работает нормально.
— Отлично. А теперь очистите похоронный фургон. Джойбой, — продолжал Деннис, когда они снова остались одни, — прошу вас взять себя в руки и прямо сказать, что вам от меня нужно. Пока что я ничего не могу разобрать в этом семейном надгробном плаче, кроме каких-то мамуль, папуль и детуль.
Мистер Джойбой издал какие-то новые звуки.
— На сей раз это прозвучало как «доктор Кенуорти». Именно это вы хотели мне сказать?
Мистер Джойбой всхлипнул.
— Доктор Кенуорти знает?
Мистер Джойбой застонал.
— Он не знает?
Мистер Джойбой всхлипнул снова.
— Вы хотите, чтобы я сообщил ему эту новость?
Стон.
— Вы хотите, чтобы я помог скрыть от него?
Всхлип.
— Знаете, это похоже на гадание с медиумом.
— Крышка, — произнес мистер Джойбой. — Мамуля.
— Вы полагаете, что карьера ваша пострадает, если доктор Кенуорти узнает, что вы храните труп нашей отравленной невесты в холодильнике? И что надо не допустить этого ради вашей матушки? И вы хотите, чтобы я помог вам избавиться от тела?
Всхлип и снова поток слов.
— Вы должны помочь мне… все из-за вас… простодушное американское дитя… липовые стихи… любовь… мамуля… детуля… должны помочь… должны… должны.
— Мне не нравится, Джойбой, что вы без конца повторяете «должны». Знаете, что сказала королева Елизавета своему архиепископу — вот, кстати, кто был воистину священник Свободной церкви: «Запомни же, ничтожный, что слово „должны“ не годится для разговора с монархами». Скажите, кроме вас, имеет кто-нибудь доступ к этому холодильнику?
Стон.
— Понятно, можете идти, Джойбой. Отправляйтесь на работу. Я обдумаю этот вопрос. Приходите снова после обеда.
Мистер Джойбой вышел. Деннис слушал, как отъезжала его машина. А потом он ушел на собачье кладбище, чтобы остаться наедине со своими собственными мыслями, которыми он не стал бы делиться с мистером Джойбоем. Размышления его были прерваны появлением человека, с которым он также был некогда знаком.
День выдался прохладный, и сэр Эмброуз Эберкромби надел по этому случаю костюм из твида, накидку с капюшоном и охотничью войлочную шляпу — одеяние, в котором он сыграл столько комических ролей в фильмах из жизни английской деревни. В руке у него был пастушеский посох.
— А, Барлоу, — сказал он, — трудитесь в поте лица.
— Сегодня спокойное утро. Надеюсь, вас привела сюда не тяжелая утрата.
— Нет, упаси Боже. Никогда не заводил здесь животных. И надо сказать, без них скучно. Вырос среди лошадей и собак. Думаю, что вы тоже, так что вы правильно меня поймете: тут для них место неподходящее. Спору нет, удивительная страна, но человек, который понастоящему любит собаку, никогда не привезет ее сюда.
Он помолчал, с любопытством оглядывая скромные памятники. — Неплохое у вас местечко. Жаль, что вы уходите.
— Вы получили мою карточку?
— Да, вот она. Сперва подумал, что кто-то подшутил над нами, довольно глупо. Но кажется, это не подделка, не так ли?
Откуда-то из глубин своей накидки он извлек карточку с печатным текстом и протянул ее Деннису. Там говорилось:
«Майор авиации преподобный Деннис Барлоу оповещает о том, что в ближайшее время он открывает контору на Арбакл-авеню, 1154, Лос-Анджелес. Все обряды Свободной церкви отправляются быстро и по сходным ценам. Специализация на похоронах. Надгробные речи в стихах и прозе. Тайна исповеди строго сохраняется».
— Да, это не подделка, — подтвердил Деннис.
— Так. Этого я и опасался.
Они снова помолчали. Деннис сказал:
— Карточки эти, как вам известно, рассылает агентство. Я не думал, что вас это особенно заинтересует.
— Однако меня это заинтересовало. Мы могли бы здесь поговорить где-нибудь?
Размышляя, уж не придется ли ему именно от сэра Эмброуза выслушать первую покаянную исповедь, Деннис повел гостя в контору. Там оба англичанина уселись друг против друга. Ученик Денниса просунул на мгновение голову в дверь и доложил, что с фургоном все в порядке. Наконец, сэр Эмброуз заговорил:
— Так не пойдет, Барлоу. Позвольте мне, старому человеку, сказать вам это без обиняков. Так не пойдет. Ведь вы все-таки англичанин. Они тут все прекрасные люди, но вы сами знаете, как это бывает. И среди самых прекрасных людей может найтись несколько отпетых клеветников. А международную обстановку вы знаете не хуже моего. Всегда найдутся какие-нибудь политики и журналисты, которые только и ждут оклеветать наше Отечество. Поступок, подобный вашему, будет лить воду на их мельницу. Мне не понравилось, когда вы начали здесь работать. Я вам тогда об этом прямо сказал. Но это было ваше частное дело. С религией же все обстоит иначе. Вы, наверно, мечтали о каком-нибудь милом сельском приходе у нас на родине. Но здесь религия совсем не то. У вы мне поверьте, я знаю эту страну.
— Странно слышать это от вас, сэр Эмброуз. Одна из главных задач, которые я перед собой ставил, — достичь более высокого положения в обществе.
— Тогда бросьте эту затею, мой мальчик, пока еще не поздно.
Сэр Эмброуз пространно заговорил о промышленном кризисе в Англии, о том, как нуждается их родина в молодежи и в долларах, о титанических усилиях, которые затрачивают они тут, в кинематографе, чтобы не уронить марку.
— Отправляйтесь на родину, дорогой мой. Там ваше настоящее место.
— Собственно говоря, — начал Деннис, — с тех пор, как я дал это объявление, обстоятельства несколько переменились. Зов, который я услышал, звучит теперь несколько слабее.
— Вот и отлично, — сказал сэр Эмброуз.
— Но у меня есть некоторые затруднения практического характера. Все мои сбережения я вложил в занятия богословием.
— Нечто в этом роде я предвидел. Тут-то и придет на помощь крикетный клуб. Надеюсь, никогда не настанет такое время, чтобы мы не смогли прийти на помощь соотечественнику в беде. На вчерашнем заседании комитета как раз упомянули и ваше имя. И было достигнуто полное согласие. Короче говоря, мы отправим вас домой, дружочек.
— Первым классом?
— Туристским. Но мне говорили, что там потрясающий комфорт. Что вы на это скажете?
— И вагон-салон?
— Нет, салона нет.
— Ладно, — сказал Деннис. — Полагаю, что, как священник, я должен теперь привыкать к некоторому аскетизму.
— Достойное решение, — сказал сэр Эмброуз. — Чек у меня с собой. Мы его вчера же и подписали.
Через несколько часов снова пришел похоронщик.
— Вы уже взяли себя в руки? Тогда садитесь и слушайте внимательно. Перед вами две проблемы, Джойбой, и разрешите подчеркнуть, что это ваши проблемы. Это у вас хранится труп вашей невесты, и это ваша карьера сейчас под угрозой. Итак, у вас две проблемы — как избавиться от трупа невесты и как объяснить ее исчезновение. Вы пришли ко мне за помощью, и так уж случилось, что я, и только я, могу помочь разрешить обе эти проблемы.
В моем распоряжении прекрасный крематорий. У нас тут легкая жизнь. Все у нас делается просто, без лишних формальностей. Если я приезжаю с гробом и говорю: «Мистер Шульц, у меня овца, ее нужно сжечь», то он говорит мне: «Валяйте». Вы, кажется, склонны были смотреть на нас свысока из-за этой свободы обращения. Теперь, по всей вероятности, вы отнесетесь к этому иначе. Единственное, что остается сделать, — это забрать нашу Незабвенную, если вы простите мне этот термин, и привезти ее сюда. Сегодня вечером после работы — самое подходящее время.
Вторая проблема — как объяснить ее исчезновение. У мисс Танатогенос почти не было знакомых и не было родных. Она исчезает накануне свадьбы. Известно, что я некогда ухаживал за ней. Может ли быть более правдоподобное объяснение, чем то, что ее врожденный хороший вкус в последний момент восторжествовал и она сбежала со своим прежним поклонником? Единственное, что требуется, — это чтобы я исчез одновременно с ней. Как вам известно, никто в Южной Калифорнии не интересуется тем, что происходит там, за горным хребтом. Возможно, что наше поведение осудят в первый момент как аморальное. На вашу долю может выпасть не совсем приятное вам сострадание. Но этим все ограничится.
Меня в последнее время стала несколько угнетать непоэтическая атмосфера Лос-Анджелеса. Мне нужно закончить одну работу, а здесь для этого место не подходящее. Только наша юная подруга удерживала меня здесь — она да еще скудость моих средств. Кстати, о скудости, Джойбой. Я полагаю, у вас должны быть солидные сбережения?
— Есть некоторая сумма, вложенная в страховку.
— А сколько вы могли бы получить под нее? Тысяч пять?
— Нет-нет, ни в коем случае.
— Две?
— Нет.
— Сколько же тогда?
— Ну, может, тысячу.
— Так получите их, Джойбой. Нам понадобится вся сумма. И заодно получите деньги вот по этому чеку. Тогда мне как раз хватит. Вам это может показаться сентиментальным, но я хотел бы уехать из Соединенных Штатов с таким же комфортом, как приехал. Гостеприимство «Шелестящего дола» не должно уступать гостеприимству студии «Мегалополитен». Из банка зайдите в туристическое агентство и купите мне билет в Англию, причем чтоб до Нью-Йорка в салон-вагоне, а оттуда на теплоходе компании «Кунард», в одноместной каюте с ванной. В дороге у меня будет много всяких расходов. Так что оставшиеся деньги принесите мне вместе с билетами. Вы все поняли? Отлично. Я приеду с фургоном к вам в покойницкую сразу после ужина.
Мистер Джойбой ждал у служебного входа в покойницкую. «Шелестящий дол» был идеально оборудован для беспрепятственной транспортировки мертвых тел. На быстроходную и бесшумную тележку фирмы они установили самый большой из похоронных контейнеров Денниса, сначала пустой, потом полный. После этого они отправились в «Угодья лучшего мира». Там, конечно, было больше кустарщины, однако вдвоем им без особого труда удалось перенести на руках свою ношу в крематорий и поставить в печь. Деннис повернул рычажок и зажег газ. Пламя рванулось из всех отверстий кирпичной кладки. Он закрыл железную дверцу.
— Полагаю, на все потребуется часа полтора, — сказал Деннис. — Вы хотели бы присутствовать?
— Мне больно думать, что она уходит вот так, — она любила, чтобы все было по правилам.
— Я подумал, не отслужить ли мне заупокойную службу. Мою первую и последнюю службу в лоне Свободной церкви.
— Этого я не перенесу, — сказал мистер Джойбой. — Ну что ж. Тогда я прочту вместо службы небольшое стихотворение, написанное мной специально по этому поводу.
Эме, красота твоя — Никейский челн дней отдаленных…— Эй, не смейте! Опять липовые стихи.
— Джойбой, не забывайте, пожалуйста, где вы находитесь.
Что мчал средь зыбей благовонных Бродяг, блужданьем утомленных, В родимые края!— Просто удивительно, до чего же эти стихи подходят к случаю, вы не находите?
Но мистер Джойбой уже покинул помещение.
Пламя бушевало в кирпичной топке. Деннису предстояло дождаться, пока оно поглотит свою пищу. Ему предстояло еще разбросать в топке жаркие угольки, разбить кочергой череп, а может, и тазобедренные кости, перемешать их кусочки с золой. А пока он зашел в контору и сделал отметку в специальном журнале.
Завтра и в каждую годовщину смерти, до тех пор, пока будут существовать «Угодья лучшего мира», мистер Джойбой будет получать почтовую карточку: «Твоя маленькая Эме виляет сегодня хвостиком на небесах, вспоминая о тебе».
Никейский челн дней отдаленных, —повторял Деннис, -
Что мчал средь зыбей благовонных Бродяг, блужданьем утомленных, В родимые края!В этот свой последний вечер в Лос-Анджелесе Деннис думал о том, что ему еще повезло. Другие, более достойные, чем он, потерпели здесь крушение и погибли. Побережье усеяно их костями. А он уезжает отсюда не только не обобранный, но даже обогащенный. Он тоже не избежал крушения; он оставил здесь нечто давно ему досаждавшее — свое молодое сердце; вместо него он увозит багаж художника — огромную, бесформенную глыбу пережитого опыта, увозит ее домой, к древним и безрадостным берегам, чтобы трудиться над ней потом упорно и долго, один Бог знает, как долго. Для минуты прозренья иногда мало и целой жизни.
Деннис взял на столе роман, забытый мисс Поски, устроился поудобнее и стал ждать, пока не сгорит до конца его незабвенная.
Рассказы
― МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ― (перевод М. Лорие)
(Письма дочки богатых родителей)
Пароход «Слава Эллады».
Дорогая моя!
Ну так вот, я обещала сразу написать и написала бы но очень качало просто ужас. Сейчас стало немножко легче так что сажусь писать. Ну вот ты ведь знаешь наше путешествие начинается в Монте-Карло а когда папа и мы все приехали на вокзал оказалось что путь от Лондона туда в билеты не входит и папа рассердился просто ужасно и сказал что не поедет а мама сказала глупости конечно поедем и мы тоже но папа успел обменять все деньги на лиры и франки только оставил шиллинг на чай носильщику в Дувре он такой методичный так что ему пришлось все менять обратно и он после этого ворчал всю дорогу и не взял мне и Берти билетов в спальном вагоне а сам в спальном всю ночь не спал до того был рассержен. Ужас как грустно.
Потом все пошло гораздо лучше судовой кассир назвал его полковник и каюта ему понравилась так что он повел Берти в казино и проиграл а Берти выиграл и Берти кажется нализался во всяком случае он когда ложился спать издавал такие звуки он в соседней каюте как будто его тошнило. Берти везет с собой книги по искусству барокко раз он учится в Оксфорде.
Ну так вот в первый день была качка и мне прямо с утра как только я села в ванну стало не по себе и мыло не мылилось п. ч. вода соленая ты ведь знаешь а потом пошла завтракать в меню было ужасно всего много даже бифштекс с луком и очень симпатичный молодой человек он сказал только мы с вами и пришли можно к вам подсесть и все шло замечательно он заказал бифштекс с луком но я сплоховала пришлось уйти к себе и опять лечь а он как раз говорил что больше всего восхищается девушками которые не боятся качки ужас как грустно.
Самое главное не принимать ванну и совсем не делать быстрых движений. Ну на следующий день был Неаполь и мы посмотрели несколько церквей для Берти и тот город который взорвался во время землетрясения и убило несчастную собаку у них там есть с нее гипсовый слепок ужас как грустно. Папа и Берти видели какие-то картинки а нам их не показали мне их потом Билл рисовал а мисс Ф. подсматривала. Я тебе еще не писала про Билла и мисс Ф.? Ну так вот Билл уже старью но очень элегантный то есть на самом деле он наверно не такой уж старый только он разочарован в жизни из-за жены он говорит что не хочет говорить о ней дурно но она сбежала с каким-то иностранцем так что онеперь ненавидит иностранцев. Мисс Ф. зовут мисс Филлипс препротивная ходит в яхтсменском кепи ужасная дрянь. Лезет к второму помощнику это конечно никого не касается но всякому дураку ясно что он ее видеть не может просто всем морякам полагается делать вид будто они влюблены в пассажирок. Кто у нас есть еще? Ну всякие старички и старушки. Папа пристроился к одной леди Мюриел дальше не помню, она знала еще моего дядю Нэда. Есть одни молодожены это очень неловко. И еще священник и еще очень милый педик с фотографическим аппаратом в белом костюме и несколько семейств с нашего промышленного севера.
Целую крепко Берти тоже.
Мама купила шаль и какую-то зверюшку из лавы.
ОТКРЫТКА
Это вид Таоримы. Мама купила здесь шаль. Было очень смешно п. ч. мисс Ф. дружила только со вторым помощником а его не пустили на берег и когда рассаживались по машинам мисс Ф. пришлось втиснуться вместе с одним семейством с промышленного севера.
Пароход «Слава Эллады».
Дорогая моя!
Надеюсь ты получила мою открытку из Сицилии. Мораль ее в том чтобы не дружить с моряками по я-то подружилась с кассиром это совсем другое дело п. ч. он ведет двойную жизнь у него в каюте граммофон и сколько угодно коктейлей а иногда гренки с сыром и я спросила а вы за все это платите? а он сказал нет но пусть это вас не беспокоит.
Теперь мы три дня будем в море и священник сказал что ото хорошо п. ч. мы все сдружимся но мы с мисс Ф. не сдружились она впилась в несчастного Билла как пиявка не хочет рисковать снова оказаться одной когда нас пустят на берег. Кассир говорит что одна такая всегда на пароходе найдется он даже говорит так про всех кроме меня а про меня совершенно правильно говорит что я не такая. Ужас как мил.
На палубе играют во всякие игры гадость ужасная. А в последний день перед Хайфой будет маскарад. Папа здорово играет во всякие игры особенно в шайбу и ест больше чем в Лондоне но это вероятно ничего. Костюмы для бала надо брать напрокат у парикмахера то есть это нам надо а у мисс Ф. есть собственный. Я придумала замечательную штуку вернее это кассир мне посоветовал чтобы одеться матросом я уже примеряла костюм он мне идет ужасно. Бедная мисс Ф.
Берти ни с кем не дружит в игры играть он не хочет и вчера вечером опять нализался и пробовал спуститься вниз по вентилятору его второй помощник вытащил и все старички за капитанским столом смотрят на него скептически. Это новое слово. Очень литературно? Или нет?
Педик кажется пишет книгу у него зеленая вечная ручка и зеленые чернила но что он пишет я не разглядела. Целую крепко. Ты скажешь здорово я наловчилась писать письма и будешь права.
ОТКРЫТКА
Это снимок Земли Бетованной и знаменитого Галлелейского моря. Здесь все оч. восточное с верблюдами. Про маскарад скоро напишу это целая история насмотрелась же я. Папа уезжал на весь день с леди М. потом сказал что она очаровательная женщина знает жизнь.
Пароход «Слава Эллады».
Дорогая моя!
Ну так вот на маскарад уже к обеду надо было прийти в костюмах и когда мы входили все аплодировали. Я опоздала п. ч. никак не могла решить надевать шапочку или нет потом надела и получилось дивно. Но мне похлопали совсем мало и когда я огляделась то увидела штук двадцать девушек и нескольких женщин в таких же костюмах вот каким двуличным человеком оказался этот кассир. Берти был апашем банально до ужаса. Мама и папа были прелесть. Мисс Ф. была в балетном костюме из русского балета он ей как корове седло ну за обедом мы пили шампанское а потом бросали серпантин я бросила не раскрутив и попала мисс Ф. прямо по носу. Ха-ха. Мне захотелось поболтать и я сказала официанту как весело правда? а он сказал да, только не для тех кому потом прибираться надо. Ужас как грустно. Ну Берти конечно нализался и немножко переборщил особенно в разговоре с леди М. а потом сидел в темноте в каюте у двуличного, кассира и плакал мы с Биллом нашли его там и Билл дал ему выпить и что бы ты думала он исчез куда-то с мисс Ф. и больше мы их не видели это наглядный пример до какого позора может довести нас то есть его Демон Пьянства.
А потом кого бы ты думала я встретила того молодого человека который в первый день заказал бифштекс с луком его зовут Роберт и он сказал я вас все время ищу. Ну я немножко поиздевалась над ним ужас как мил.
Бедную маму выбрал в поверенные Билл он рассказал ей все про свою жену и как она разочаровала его с иностранцем ну завтра мы прибываем в Порт Саид D. V. это по-латыни на случай что ты ве знаешь означает если богу будет угодно а оттуда вверх по Нилу и в Каир.
Пришлю открытку со сфинксом.
ОТКРЫТКА
Это сфинкс. Ужас как грустно.
ОТКРЫТКА
Это храм не помню кого. Дорогая моя спешу тебе сообщить я обручилась с Артуром. Артур это тот про которого я думала что он педик. Берти находит что египетское искусство никакое не искусство,
ОТКРЫТКА
Это гробница Тутанхамена оч. знаменитая. Берти говорит что это пошлятина а сам обручился с мисс Ф. т. ч. не ему бы говорить я теперь называю ее Мэбел. Ужас как грустно. Билл не разговаривает с Берти. Роберт не разговаривает со мной папа и леди М. видимо поругались был один человек со змеей в мешке и еще мальчик он мне предсказал судьбу оч. счастливую. Мама купила шаль.
ОТКРЫТКА
Сегодня видела эту мечеть. Роберт обручился с новой девушкой как зовут не знаю препротивная.
Пароход «Слава Эллады».
Дорогая моя!
Ну так вот мы все вернулись из Египта перебудораженные и двуличный кассир спросил какие новости а я сказала новости? пожалуйста я обручилась с Артуром а Берти обручился с мисс Ф., ее теперь зовут Мэбел это уж совсем невыносимо я так и сказала а Роберт с какой-то противной девицей а папа поругался с леди М. а Билл поругался с Берти а Робертова противная девица меня обхамила а Артур был прелесть но двуличный кассир ничуть не удивился он сказал что так бывает каждый рейс во время экскурсии по Египту все либо обручаются либо ссорятся а я сказала не в моих привычках обручаться с кем попало за кого он меня принимает а он сказал как видно не в моих привычках ездить в Египет т. ч. больше я с ним не разговариваю и Артур тоже.
Целую.
Пароход «Слава Эллады».
Деточка мы в Алжире он не очень восточный тут полным полно французов. Так вот с Артуром все копчено я все-таки оказалась права а теперь я обручилась с Робертом это гораздо лучше для всех особенно для Артура из-за тот о чем я тебе писала первое впечатление никогда нс обманывает. Правда? Или нет? Мы с Робертом целый день катались по Ботаническому саду и он был ужас как мил. Берти нализался и поссорился с Мэбел теперь она опять мисс Ф. т. ч. тут все в порядке а противная Робертова девица весь день оставалась на пароходе со вторым помощником., Мама купила шаль. Билл рассказал леди М. про свое разочарование и она рассказала Роберту а он сказал что да мы все уже про это слышали а леди М, сказала что Биллу недостает умения молчать и она после этого его не уважает и не винит его жену и того иностранца.
ОТКРЫТКА
Забыла о чем писала в последнем письме но если я упоминала препротивного человека по имени Роберт считай что ничего этого не было. Мы все еще в Алжире папа поел сомнительных устриц но все обошлось. Берти пошел в один дом полный шлюх и там нализался а теперь ему недостает умения про это молчать как, сказала бы леди М.
ОТКРЫТКА
Ну вот мы и вернулись и все спели хором за счастье прежних дней и я расцеловалась с Артуром а с Робертом не разговариваю он плакал то есть Артур а не Роберт потом Берти извинился почти перед всеми кого он обхамил но мисс Ф: сделала вид что не слышит и ушла. Ужас какая дрянь.
― КОРОТЕНЬКИЙ ОТПУСК МИСТЕРА ЛАВДЭЯ ― (перевод М. Лорие)
1
— Ты увидишь, папа почти не изменился, — сказала леди Мопинг, когда машина завернула в ворота психиатрической больницы графства.
— Он будет в больничной одежде? — спросила Анджела.
— Нет, милая, что ты. Он же на льготном положении. Анджела приехала сюда в первый раз, и притом по собственному почину.
Десять лет прошло с того дождливого дня в конце лета, когда лорда Мопинга увезли, с того дня, о котором у нее осталось горькое и путаное воспоминание; в этот день ее мать ежегодно устраивала прием у себя в саду, что всегда было горько, а на этот раз все еще запуталось из-за погоды — с утра было ясно и солнечно, а едва приехали первые гости, вдруг стемнело и хлынул дождь. Гости устремились под крышу, тент над чайным столом завалился, все бросились спасать подушки и стулья, скатерть, зацепившаяся о ветки араукарии, трепыхалась на ветру, выглянуло солнце, и гости, осторожно ступая, погуляли по намокшим газонам; снова ливень; снова на двадцать минут солнце. Отвратительный день, и в довершение всего в шесть часов вечера ее отец пытался покончить с собой.
Лорд Мопинг уже не раз грозил покончить с собой по случаю этих чаепитий на воздухе. В тот день его нашли в оранжерее — с почерневшим лицом он висел там на своих подтяжках. Какие-то соседи, укрывшиеся в оранжерее от дождя, вынули его из петли, и уже через час за ним явилась карета. С тех пор леди Мопинг периодически навещала его и, вернувшись без опоздания к чаю, о своих впечатлениях помалкивала.
Многие ее соседи не одобряли местонахождения лорда Мопинга. Конечно, он был не рядовым пациентом. Он помещался в особом отделении, предназначенном для умалишенных с достатком. Им предоставлялись все льготы, совместимые с их недугом. Они могли носить любую одежду (некоторые выбирали себе весьма прихотливые наряды), они курили дорогие сигары, и в годовщину своего поступления в больницу каждый мог угостить обедом тех из своих собратьев, к которым у него лежала душа.
И все же, спору нет, заведение было отнюдь не самое дорогостоящее; недвусмысленный адрес «Психиатрическая больница графства N», отпечатанный на почтовой бумаге, выстроченный на халатах персонала, даже выведенный крупными буквами на щите у главных ворот, вызывал весьма неприглядные ассоциации.
Время от времени друзья леди Мопинг пытались менее или более тактично заинтересовать ее подробностями о частных лечебницах на взморье, о санаториях, где «работают видные специалисты и созданы идеальные условия для лечения нервно-' больных», по она особенно не вслушивалась. Когда ее сын достигнет совершеннолетия, пусть поступает как сочтет нужным, пока же она не намерена ослаблять свой режим экономии. Муж бессовестно подвел ее в тот единственный день, когда ей требовалась лояльная поддержка. Он и того, что имеет, не заслужил.
По саду бродили, волоча ноги, унылые фигуры в теплых халатах.
— Это умалишенные из низших сословий, — объяснила леди Мопинг. — Для таких, как папа, здесь есть очень миленький цветник. Я им в прошлом году послала отводков.
Они проехали мимо желтого кирпичного фасада к боковому подъезду, и врач принял их в «комнате посетителей», отведенной для таких свиданий. Окна были забраны изнутри железными прутьями и проволочной сеткой; камин отсутствовал; Анджела, которой не сиделось на месте, хотела было отодвинуть свой стул подальше от отопления, но оказалось, что он привинчен к полу.
— Лорд Мопинг сейчас к вам выйдет, — сказал врач.
— Как он себя чувствует?
— О, превосходно, я им очень доволен. Не так давно он перенес сильный насморк, но, в общем, состояние здоровья у него отличное. Он много пишет.
По каменному полу коридора приближались неровные, шаркающие шаги. Высокий брюзгливый голос (Анджела узнала голос отца) сказал за дверью: — Говорю вам, мне некогда. Пусть зайдут позднее.
Другой голос, звучавший не так резко, с легким призвуком деревни, отвечал: — Пошли, пошли. Это же пустая формальность. Посидите сколько захочется и уйдете.
Потом дверь толкнули снаружи — у нее не было ни замка, ни ручки, — и в комнату вошел лорд Мопинг. За ним следовал пожилой человек — щуплый, с густой белоснежной шевелюрой и очень добрым выражением лица.
— Это мистер Лавдэй. В некотором роде слуга лорда Мопинга.
— Секретарь, — поправил лорд Мопинг. Заплетающейся походкой он подошел ближе и поздоровался с женой за руку.
— Это Анджела. Ты ведь помнишь Анджелу?
— Нет, не припоминаю. Что ей нужно? — Мы просто приехали тебя навестить.
— И выбрали для этого самое неподходящее время. Я очень занят. Лавдэй, вы перепечатали мое письмо к пане Римскому?
— Нет еще, милорд. Если помните, вы просили меня сперва подобрать данные о рыбных промыслах Ньюфаундленда.
— Совершенно верно. Что ж, тем лучше. Письмо, очевидно, придется писать заново — после полудня поступило много новых сведений. Очень много… Вот видишь, дорогая, у меня ни минуты свободной. — Он обратил беспокойный, ищущий взгляд на Анджелу. — Вы ко мне, вероятно, по поводу Дуная? Придется вам зайти в другой раз. Передайте им, что все будет в порядке, пусть нс волнуются, но я еще не успел всерьез этим заняться. Так и передайте.
— Хорошо, папа.
— Впрочем, — продолжал лорд Мопинг недовольным тоном, — это вопрос второстепенный. На очереди еще Эльба, Амазонка и Тигр, верно, Лавдэй?… Дунай, скажите на милость. Паршивая речонка. Его и рекой-то не назовешь. Ну, мне пора, спасибо, что не забываете. Я бы охотно вам помог, но вы сами видите, дел у меня выше головы. Знаете что, вы мне все это напишите. Да-да, изложите черным по белому.
И он удалился.
— Как видите, — сказал врач, — состояние здоровья у него отличное. Он прибавляет в весе, аппетит отличный, сон тоже. Словом, весь его тонус не оставляет желать лучшего.
Дверь снова отворилась, и вошел Лавдэй.
— Простите, если помешал, сэр, но я боялся, что дочка лорда Мопинга, может быть, огорчилась, что папаша ее не узнал. Вы не обращайте внимания, мисс. В следующий раз он нам очень обрадуется. Это он только сегодня в расстройстве чувств, потому что запаздывает с работой. Понимаете, сэр, я всю эту неделю подсоблял в библиотеке и не все его доклады успел перепечатать на машинке. И еще он запутался в своей картотеке. Только и всего. Он это не со зла.
— Какой славный, — сказала Анджела, когда Лавдэй опять ушел к своему подопечному.
— Да, я просто не знаю, что бы мы делали без нашего Лавдэя. Его все любят, и персонал и пациенты.
— Я его помню, — сказала леди Мопинг. — Это большое утешение — знать, что у вас тут такие хорошие служители. Несведущие люди говорят столько глупостей о психиатрических больницах.
— О, но Лавдэй не служитель, — сказал врач.
— Неужели же он тоже псих? — спросила Анджела.
Врач поправил ее: — Он наш пациент. Это небезынтересный случай. Он здесь находится уже тридцать пять лет.
— Но я в жизни не видела более нормального человека, — сказала Анджела.
— Да, он производит такое впечатление, и последние двадцать лет с ним и обращаются соответственно. Он у нас душа общества. Конечно, он не принадлежит к числу платных пациентов, но ему разрешено сколько угодно с ними общаться. Он отлично играет на бильярде, когда бывают концерты — показывает фокусы, чинит обитателям этого отделения патефоны, прислуживает им, помогает им с кроссвордами и со всякими их… м-м… любимыми занятиями. Мы разрешаем платить ему мелочью за услуги, так что он, вероятно, уже скопил небольшой капиталец. Он умеет справляться даже с самыми несговорчивыми. Просто неоценимый помощник.
— Да, но почему он здесь?
— А, это печальная история. В ранней молодости он совершил убийство — убил молодую женщину, с которой даже не был знаком. Свалил ее с велосипеда и задушил. Потом сам явился с повинной и с тех пор находится здесь.
— Но теперь-то он не представляет никакой опасности. Почему же его не выпускают?
— Как вам сказать, если б это было кому-нибудь нужно, вероятно, выпустили бы. А так… Родных у него нет, только сводная сестра живет в Плимуте. Раньше она его навещала, но уже много лет как перестала бывать. Ему здесь хорошо, а уж мы-то, могу вас уверить, ничего не предпримем для его выписки. Нам неинтересно его лишиться.
— Но это как-то нехорошо, — сказала Анджела.
— Возьмите хоть вашего отца, — сказал врач. — Он бы совсем зачах, если бы Лавдэй не исполнял при нем обязанности секретаря.
— Нехорошо это как-то…
2
Анджела уезжала из больницы, подавленная ощущением несправедливости.
— Только подумать — всю жизнь просидеть под замком в желтом доме.
— Он пытался повеситься в оранжерее, — отвечала леди Мопинг, — на виду у Честер-Мартинов.
— Я не про папу. Я про мистера Лавдэя.
— Кажется, я такого не знаю.
— Ну, тот псих, которого приставили смотреть за папой.
— Секретарь твоего отца? По-моему, он очень порядочный человек и как нельзя лучше выполняет свою работу.
Анджела умолкла, но на следующий день, за вторым завтраком, она вернулась к этой теме.
— Мама, что нужно сделать, чтобы вызволить человека из желтого дома?
— Из желтого дома? Бог с тобой, дитя мое, надеюсь, ты не мечтаешь, чтобы папа вернулся сюда, к нам?
— Нет-нет, я про мистера Лавдэя.
— Анджела, ты сама не знаешь, что говоришь. Не следовало мне вчера брать тебя с собой.
После завтрака Анджела уединилась в библиотеке и с голевой ушла в законы об умалишенных, как их излагала энциклопедия.
С матерью она больше об этом не заговаривала, но через две недели, услышав, что надо послать ее отцу фазанов для его одиннадцатого юбилейного обеда, неожиданно вызвалась сама их отвезти. Ее мать, занятая другими делами, не заподозрила ничего дурного.
Анджела поехала в больницу па своей маленькой машине и сдала дичь по назначению, после чего попросила вызвать мистера Лавдэя. Он оказался занят — мастерил корону для одного из своих друзей, ожидавшего, что его нс сегодня-завтра коронуют императором Бразилии, — но отложил работу и вышел с пей побеседовать. Они заговорили о здоровье и самочувствии ее отца, а потом Анджела как бы невзначай спросила:
— Вам никогда не хочется отсюда уйти?
Мистер Лавдэй поглядел на нее своими добрыми серо-голубыми глазами.
— Я привык к этой жизни, мисс. Я привязался к здешним страдальцам, и некоторые из них как будто привязались ко мне. Во всяком случае, им бы меня недоставало.
— И вы никогда не думаете о том, чтобы опять очутиться на свободе?
— Ну как же, мисс, очень даже думаю, почти все время.
— А что бы вы тогда стали делать? Должно же быть что-нибудь такое, ради чего вам бы хотелось уйти отсюда?
Мистер Лавдэй смущенно поежился.
— Не скрою, мисс, хоть это похоже на неблагодарность, но один коротенький отпуск мне бы хотелось иметь, пока я еще пе совсем состарился и могу получить от него удовольствие. У всех у нас, наверно, есть свои заветные желания, вот и мне одну вещь очень хотелось бы сделать. Не спрашивайте, что именно… Времени на это потребуется немного — полдня, от силы день, а там можно и умереть спокойно. После этого мне и здесь жилось бы лучше и легче было бы посвящать время этим несчастным помешавшимся людям. Да, так мне кажется.
По дороге домой Анджела глотала слезы. «Бедняжка, — подумала она вслух. — Будет ему коротенький отпуск».
3
С этого дня у Анджелы появилась новая цель в жизни. Круг занятий ее оставался прежним, но вид был отсутствующий, а тон — сдержанно-вежливый, что очень беспокоило леди Мопинг. (Кажется, девочка влюблена. Только бы не в сына Этбертсонов, он такой нескладный).
Она много читала в библиотеке, одолевала расспросами любого гостя, притязавшего на познания в юриспруденции или медицине; особым ее расположением стал пользоваться старый ор Родерик Лейн-Фоскот, их депутат. Слова «психиатр», «юрист», «правительственный чиновник» были теперь окружены в ее глазах таким же ореолом, как раньше киноактеры и чемпионы по боксу. Она боролась за правое дело, и к концу охотничьего сезона борьба ее увенчалась успехом: мистер Лавдэй получил свободу.
Главный врач согласился скрепя сердце, но препятствий не чинил. Сэр Родерик послал прошение министру внутренних дел. Были подписаны необходимые бумаги, и наконец настал день, когда мистер Лавдэй покинул заведение, где прожил столько лет и принес столько пользы.
Прощание обставили торжественно. Анджела и сэр Родерик Лейн-Фоскот сидели вместе с врачами па эстраде в гимнастичесном зале. Ниже расположились те из пациентов, кого сочли достаточно уравновешенными, чтобы выдержать такое волнение.
Лорд Мопинг, выразив подобающее случаю сожаление, от имени пациентов с достатком преподнес мистеру Лавдэю золотой портсигар; те, что мнили себя монархами, осыпали его орденами и почетными титулами. Служители подарили ему серебряные часы, а среди бесплатных пациентов многие обливались слезами.
Врач произнес прочувствованную речь. — Не забудьте, — сказал он, — что вы уносите с собой наши самые горячие пожелания. Мы всегда будем помнить, как работали с вами рука об руку. Время только острее даст нам почувствовать, сколь многим мы вам обязаны. Если когда-нибудь вы устанете от жизни в, слишком людном мире, здесь вас всегда примут с радостью. Ваша должность остается за вами.
С десяток разнообразных больных припрыжку пустились провожать его, а потом чугунные ворота распахнулись и мистер Лавдэй вышел на волю. Его сундучок еще раньше отправили на станцию, сам же он пожелал пройтись пешком. В свои планы он никого но посвящал, но деньгами был обеспечен, и создалось впечатление, что он едет в Лондон поразвлечься, а потом уже направится к своей сводной сестре в Плимут.
Каково же было всеобщее изумление, когда через каких-нибудь два часа он возвратился в больницу. На лице его играла странная улыбка — добрая улыбка, словно вызванная сладкими воспоминаниями.
— Я вернулся, — сообщил он врачу. — Теперь уж, надо думать, навсегда.
— Но почему так скоро, Лавдэй? Вы совсем не успели пожить в свое удовольствие.
— Нет, сэр, премного благодарен, сэр, я очень даже пожил в свое удовольствие. Много лет я тешил себя надеждой на одну небольшую вылазку. Она получилась недолгой, сэр, но в высшей степени приятной. Теперь я могу без сожалений снова приступить к моей здешней работе.
Несколько позже на дороге, в полумиле от ворот больницы, нашли брошенный велосипед. Велосипед был дамский, далеко не новый. В двух шагах от него, в канаве, лежал труп задушенной молодой женщины. Она ехала домой пить чай и имела несчастье обогнать мистера Лавдэя, когда тот шагал к станции, размышляя о своих новых возможностях.
― ДОМ АНГЛИЧАНИНА ― (перевод Р. Облонской)
1
Мистер Беверли Меткаф постучал но барометру, висящему в коридоре, и с удовлетворением отметил, что за ночь он упал на несколько делений. Вообще-то мистер Меткаф любил солнце, но был уверен, что истинному сельскому жителю полагается неизменно желать дождя. Что такое истинный сельский житель и каковы его отличительные черты — это мистер Меткаф изучил досконально. Будь у него склонность водить пером по бумаге и родись он лет на двадцать-тридцать раньше, он бы составил из этих своих наблюдений небольшую книжечку Истинный сельский житель по воскресеньям ходит в темном костюме, а не в спортивном, не то что попрыгунчик-горожанин; он человек прижимистый, любит покупать по дешевке и из кожи вон лезет, лишь бы выгадать лишний грош; вроде бы недоверчивый и осторожный, он легко соблазняется всякими техническими новинками; он добродушен, но не гостеприимен; стоя у своего забора, готов часами сплетничать с прохожим, но неохотно пускает в дом даже самого близкого друга… Эти и сотни других черточек мистер Меткаф подметил и решил им подражать.
«Вот-вот, дождя-то нам и надо», — сказал он про себя, потом растворил дверь и вышел в благоухающий утренний сад. Безоблачное небо ничего подобного не обещало.
Мимо прошел садовник, толкая перед собой водовозную тележку.
— Доброе утро, Боггит. Барометр, слава богу, упал.
— Угу.
— Значит, дождь будет.
— Не.
— Барометр очень низко стоит.
— Ага.
— Жаль тратить время на поливку.
— Не то все сгорит.
— Раз дождь, не сгорит.
— А его не будет, дождя-то. В наших местах только и льет, когда во-он дотуда видно.
— Докуда это — дотуда?
— А вон. Как дождь собирается, всегда Пиберскую колокольню видать.
Мистер Меткаф отнесся к этому утверждению весьма серьезно.
— Старики, спи кой в чем больше ученых смыслят, — часто повторял он и напускал на себя этакий покровительственный вид.
Садовник Боггит вовсе не был стар и смыслил очень мало: семена, которые он сеял, всходили редко; всякий раз, как ему позволяли взять в руки прививочный нож, казалось, будто не саду пронесся ураган; честолюбивые замыслы по части садоводства были у него очень скромные — он мечтал вырастить такую огромную тыкву, каких никто и не видывал; но мистер Меткаф относился к нему с простодушным почтением, точно крестьянин к священнику. Ибо мистер Меткаф лишь совсем недавно уверовал в деревню и, как полагается новообращенному, свято чтил земледелие, деревенский общественный уклад, язык, деревенские забавы и развлечения, самый облик деревни — как сверкает она сейчас в лучах нежаркого майского солнца, и плодовые деревья стоят в цвету, и каштан в пышном зеленом уборе, и на ясене распускаются почки; чтил здешние звуки и запахи — крики мистера Уэстмейкота, выгоняющего на заре своих коров, запах влажной земли, и Боггита, который неуклюже плещет водой на желтофиоль; мистер Меткаф чтил самую суть деревенской жизни (вернее, то, что полагал ее сутью), пронизывающую все вокруг; чтил свое сердце, которое трепетало заодно с этой живой, трепетной сутью, ибо разве сам он по частица всего этого — он, истинный сельский житель, землевладелец?
Сказать по правде, земли-то у него было кот наплакал, но вот сейчас он стоял перед домом, глядел на безмятежную долину, расстилающуюся перед ним, и поздравлял себя, что не поддался на уговоры агентов по продаже недвижимости и не взвалил на свои плечи миллион всевозможных забот, которых потребовали бы владения более обширные. У него около семи акров земли, пожалуй, как раз столько, сколько надо; сюда входит парк при доме и выгон; можно было купить еще и шестьдесят акров пахотной земли, и день-другой возможность эта кружила ему голову. Он, разумеется, вполне мог бы себе это позволить, но, на его взгляд, противоестественно и прямо-таки грешно помещать капитал так, чтобы получать всего два процента прибыли. Ему требовалось мирное жилище для спокойной жизни, а не имение, как у лорда Брейкхерста, чьи угодья примыкают к его собственным; лишь низкая, идущая по канаве изгородь в сотню ярдов длиной отделяет его выгон от одного из выпасов лорда, а ведь у лорда Брейкхерста, на которого каждый день обрушиваются заботы о его огромных владениях, нет ни мира, ни покоя, одно беспокойство. Нет, толково выбранные семь акров — это именно то, что нужно, и уж конечно, мистер Меткаф выбрал с толком. Агент говорил чистую правду: Мачмэлкок на редкость хорошо сохранился, чуть ли не лучше всех остальных уголков Котсуолдской округи. Именно о таком уголке Меткаф мечтал долгие годы, пока торговал хлопком в Александрии.
Теперешний его дом многим поколениям известен был под странным названием «Хандра», а предшественник мистера Меткафа переименовал его в «Поместье Мачмэлкок», Новое название очень ему шло. То был «горделивый дом в георгианском стиле, сложенный из светлого местного камня; четыре общих комнаты, шесть спален и гардеробных — все отмеченные печатью своего времени». К огорчению мистера Меткафа, жители деревни нипочем не желали называть его обиталище «поместьем». Боггит всегда говорил, что работает в «Хандре», но ведь новое название придумали еще до мистера Меткафа, и на почтовой бумаге оно выглядело очень неплохо. Слово «поместье» как бы возвышало его владельца над прочими местными жителями, хотя на самом деле превосходство это отнюдь не было бесспорным.
Лорд Брейкхерст, разумеется, занимал в этих краях совсем особое положение, он ведь был глава судебной и исполнительной власти графства, ему принадлежали земли в пятидесяти приходах. И леди Брейкхерст не нанесла визита миссис Меткаф: особе ее круга уже не обязательно заезжать и оставлять визитную карточку, но имелись по соседству два семейства из того круга, в котором обычай наносить визиты еще не потерял своего значения, и одно семейство середка на половинку, не считая приходского священника — этот разговаривал как настоящий простолюдин и в проповедях своих обличал богачей Два нетитулованвых, но благородных землевладельца, что соперничали с мистером Меткафом, были леди Пибери и полковник Ходж, оба, на взгляд здешних жителей, люди пришлые, но все-таки поселились они в этих местах лет на двадцать раньше мистера Меткафа.
Леди Пибери жила в «Имении Мачмэлкок» — крыша ее дома не сегодня-завтра скроется за густой летней листвой, но сейчас она еще видна но ту сторону долины, среди распускающихся лип. От владений мистера Меткафа ce земли отделяет выпас в четыре акра; там пасется упитанное стадо Уэстмейкота, украшает ландшафт и служит противовесом ее цветникам, в великолепии которых чувствуется что-то от роскоши богатых городских предместий. Она вдова и. как и мистер Меткаф, приехала в Мачмэлкок из дальних краев. Женщина состоятельная, добрая, скуповатая, она прилежно читала всяческую беллетристику, держала множество скотч-терьеров и пять степенных старых служанок, еле волочивших ноги.
Полковник Ходж жил в «Усадьбе», в большом доме с красивой остроконечной крышей, расположенном в самой деревне, и парк его одной стороной тоже примыкал к лугу Уэстмейкота. Полковник был человек не денежный, но он живо участвовал в делах Британского легиона и организации бойскаутов; он принял приглашение мистера Меткафа к обеду, но в семейном кругу называл его не иначе, как «хлопковый саиб».
Еще одни соседи, Хорнбимы со Старой Мельницы, занимали в местном обществе положение ясное и недвусмысленное. Эта бездетная немолодая чета посвятила себя художественным ремеслам. Мистер Хорнбим-старший был обыкновенный гончар в Стаффордшире и сам торговал своими изделиями; помогал он своим родичам неохотно и довольно скудно, но эти деньги, которые они не зарабатывали споим трудом, а получали от него каждые три месяца в виде чеков, обеспечили им вполне определенное место в верхнем слое здешнего общества. Миссис Хорнбим усердно посещала церковь, а ее супруг был мастер выращивать ароматические травы и овощи. Короче говоря, устрой они на месте своего огорода теннисный корт да обзаведись мистер Хорнбим фраком, соседи, безусловно, приняли бы их как равных. Во время первых послевоенных выборов миссис Хорнбим побывала у всех арендаторов, до кого можно было добраться на велосипеде, но Дамского кружка она сторонилась и, по мнению леди Пибери, не сумела себя поставить. Мистер Меткаф считал мистера Хорнбима богемой, а мистер Хорнбим мистера Меткафа — филистером. Полковник Ходж довольно давно поссорился с Хорнбимами из-за своего эрдель-терьера и, из года в год встречаясь с ними по нескольку раз на дню, не желал их замечать.
Обитателям крытых черепицей скромных домиков деревни от всех этих чужаков была немалая польза. Иностранцы, изумленные ценами в лондонских ресторанах и великолепием более доступных им герцогских дворцов, часто поражались богатству Англии. Однако о том, как она богата на самом деле, им никто никогда не рассказывал. А как раз в таких-то деревушках, как Мачмэлкок, и впитываются вновь в родную почву огромные богатства, что стекаются в Англию со всей империи. У здешних жителей был свой памятник павшим воинам и свой клуб. Когда в стропилах здешней церкви завелся жук точильщик, они не постеснялись расходами, чтобы его уничтожить; у здешних бойскаутов была походная палатка и серебряные горны; сестра милосердия разъезжала по округе в собственной машине; на Рождество для детей устраивались бесконечные елки и праздники и всем арендаторам корзинами присылали всякие яства; если кто-нибудь из местных жителей заболевал, его с избытком снабжали портвейном, и бульоном, и виноградом, и билетами нa поездку к морю; по вечерам мужчины возвращались с работы, натруженные покупками, и круглый год у них в теплицах не переводились овощи. Приходскому священнику никак не удавалось пробудить в них интерес к Клубу левой книги.
— «Господь нам эту землю дал, чтоб всю ее любить, но каждому лишь малый край дано в душе вместить» [76], — сказал мистер Меткаф, смутно вспоминая строки из календаря, который висел у него в кабинете в Александрии.
От нечего делать он сунул нос в гараж — там его шофер задумчиво склонился над аккумулятором. Потом заглянул еще в одну надворную постройку — и убедился, что за ночь с газонокосилкой ничего не случилось. Приостановился в огороде — отщипнул цветки у недавно посаженной черной смородины: в это лето ей еще не следовало плодоносить. И вот обход закончен — и Меткаф не спеша отправился домой завтракать. Жена уже сидела за столом. — Я все обошел, — сказал он. — Хорошо, дорогой. — Все идет прекрасно. — Хорошо, дорогой.
— Только вот Пиберскую колокольню не видно. — Боже милостивый, да на что тебе колокольня, Беверли? — Если ее видно, значит будет дождь. — Ну что за чепуха. Опять ты наслушался этого Боггита. Она встала и оставила его читать газеты. Ей надо было потолковать с кухаркой. Уж очень много времени в Англии отнимают слуги; и она с тоской вспомнила одетых в белое проворных слуг-берберов, которые шлепали по выложенным плиткой прохладным полам их дома в Александрии.
Мистер Меткаф позавтракал и с трубкой и газетами удалился к себе в кабинет. «Газетт» вышла сегодня утром. Истинный сельский житель первым делом всегда читает свой «местный листок», и поэтому, прежде чем открыть «Таймс», мистер Меткаф терпеливо продирался через колонки, посвященные делам Дамского кружка, и через отчеты о заседании Совета но устройству и ремонту канализации.
Так безоблачно начался этот день гнева!
2
Около одиннадцати мистер Меткаф отложил кроссворд в сторону. В прихожей, подле двери, ведущей в огород, он держал всевозможные садовые инструменты особого образца: специально предназначенные для людей пожилых. Он выбрал тот, что был совсем недавно прислан, не спеша вышел на солнышко и стал расправляться с подорожником нa лужайке перед домом. У инструмента этого был красиво обшитый кожей черенок, плетеная рукоятка и на конце лопаточка нержавеющей стали; работать им было одно удовольствие, и почти безо всяких усилий мистер Меткаф скоро уже изрыл довольно большой участок маленькими аккуратными ямками.
Он остановился и крикнул в сторону дома:
— Софи, Софи, выйди посмотри, что я сделал. Наверху в окне показалась голова жены.
— Очень мило, дорогой, — сказала она.
Ободренный Меткаф вновь принялся за дело. Но тут же окликнул идущего мимо Боггита.
— Отличная штука этот инструмент, Боггит.
— Угу.
— Как по-вашему, в эти ямки стоит что-нибудь посеять?
— Не.
— Думаете, трава все заглушит?
— Не. Подорожник опять вырастет.
— Думаете, я не уничтожил корни?
— Не. У них так вот макушки пообрубаешь, а корни только пуще в рост пойдут.
— Что ж тогда делать?
— А подорожник, его никак не одолеешь. Он все одно опять вырастет.
И Боггит пошел своей дорогой. А мистер Меткаф е внезапным отвращением взглянул на свою новую игрушку, досадливо приткнул ее к солнечным часам и, сунув руки в карманы, уставился вдаль, на другую сторону долины. Даже на таком расстоянии ярко-фиолетовая клумба леди Пибери резала глаз, она никак не сочеталась с окружающим ландшафтом. Потом взгляд Меткафа скользнул вниз, и на лугу, среди коров Уэстмейкота, он заметил незнакомые фигуры и стал с любопытством вглядываться.
Какие-то двое — молодые люди в темных городских костюмах — сосредоточенно занимались чем-то непонятным. С бумагами в руках, поминутно в них заглядывая, они расхаживали большими шагами по лугу, словно бы измеряли его, присаживались на корточки, словно бы на глазок прикидывали уровень, тыкали пальцем в воздух, в землю, в сторону горизонта.
— Боггит, — встревоженно позвал мистер Меткаф, — подите-ка сюда.
— Угу.
— Видите тех двоих на лугу мистера Уэстмейкота?
— Не.
— Не видите?
— Этот луг не Уэстмейкотов. Уэстмейкот его продал, — Продал! Господи! Кому же?
— Кто его знает. Приехал какой-то из Лондона, остановился в «Брейкхерсте». Слыхать, немалые деньги за этот луг отвалил.
— Да на что ж он ему понадобился?
— Кто его знает, а только вроде надумал дом себе строить.
Строить. Это чудовищное слово в Мачмэлкоке решались произносить разве что шепотом. «Проект застройки», «Расчистка леса под строительство», «Закладка фундамента» — эти непристойные слова были вычеркнуты из благовоспитанного словаря здешней округи и лишь изредка со смелостью, дозволенной одним только антропологам, их применяли к диким племенам, обитающим за пределами здешнего прихода. А теперь этот ужас возник и среди них, точно роковой знак чумы на домах в «Декамероне».
Оправившись от первого потрясения, мистер Меткаф приготовился было действовать — мгновение поколебался: не ринуться ли вниз, бросить вызов врагу на его же территории, но решил — нет, не стоит, сейчас требуется осмотрительность. Надо посоветоваться с леди Пибери.
До ее дома было три четверти мили; обсаженная кустами дорога вела мимо ворот, через которые можно было пройти на луг Уэстмейкота; и мистеру Меткафу уже виделось, как в скором времени на месте этих шатких ворот и глубокой, истоптанной коровами грязи появятся кусты золотистой бирючины и красный гравий. Над живой изгородью словно уже мелькали головы чужаков, на них были торжественнее черные городские шляпы. Мистер Меткаф печально проехал мимо.
Леди Пибери сидела в малой гостиной и читала ромам; с детства ей внушали, что благородной даме с утра читать романы тяжкий грех, и потому сейчас она все же чувствовала себя немножко виноватой. Она украдкой сунула книгу под подушку и поднялась навстречу Меткафу.
— А я как раз собиралась выйти, — сказала она. Меткафу было не до учтивости.
— У меня ужасные новости, леди Пибери, — начал он без предисловий.
— О господи! Неужто у бедняги Кратуэла опять недоразумения с бойскаутским счетом?
— Нет. То есть да, опять не сходится на четыре пенса, только на этот раз они лишние, а это еще хуже. Но я к вам но другому делу. Под угрозой вся наша жизнь. На лугу Уэстмейкота собираются строить. — Коротко, но с чувством он рассказал леди Пибери о том, что видел.
Она слушала серьезно, сумрачно. Меткаф кончил, и в маленькой гостиной воцарилась тишина; только шесть разных часов невозмутимо тикали среди обитой кретоном мебели и горшков с азалиями.
— Уэстмейкот поступил очень дурно, — сказала наконец леди Пибери.
— По-моему, его нельзя осуждать.
— А я осуждаю, мистер Меткаф, сурово осуждаю. Просто не могу его понять. И ведь казался таким приличным человеком… Я даже думала сделать его жену секретарем нашего Дамского кружка. Он должен был прежде посоветоваться с нами. Ведь окна моей спальни выходят прямо на этот луг. Никогда не могла понять, почему вы сами не купили эту землю.
Луг сдавался в аренду за три фунта восемнадцать шиллингов, а просили за него сто семьдесят фунтов да плюс церковная десятина и налог на доход с недвижимости. Леди Пибери все это прекрасно знала.
— Когда он продавался, его любой из нас мог купить, — довольно резко ответил Меткаф.
— Он всегда шел заодно с вашим домом.
Мистер Меткаф понял: еще немножко и она скажет, что это он, Меткаф, поступил очень дурно, а ведь всегда казался таким приличным человеком.
И в самом деле, мысль се работала именно в этом направлении.
— А знаете, вам еще сейчас не поздно его перекупить, — сказала она.
— Нам всем грозит та же беда, — возразил мистер Меткаф. — По-моему, надо действовать сообща. Ходж, когда прослышит про это, тоже не очень-то обрадуется.
Полковник Ходж прослышал и, конечно, не очень-то обрадовался. Когда мистер Меткаф вернулся домой, тот его уже поджидая.
— Слыхали, что натворил этот негодяй Уэстмейкот?
— Да, — устало ответил Меткаф, — слышал.
Беседа с леди Пибери прошла не совсем так, как он надеялся. Эта дама вовсе не жаждала действовать.
— Продал свой луг каким-то спекулянтам-подрядчикам.
— Да, я слышал.
— Странное дело, а я всегда думал, что этот луг ваш, — Нет, не мой.
— Он всегда шел заодно с домом.
— Знаю, только мне он был ни к чему.
— Ну вот, а теперь все мы попали в переделку. Как вы думаете, они продадут его вам обратно?
— Еще вопрос, хочу ли я его покупать. Они, наверно, запросят за него как за участок под застройку — семьдесят, а то и восемьдесят фунтов за акр.
— Может, и побольше. Но, помилуйте, приятель, неужели ото вас остановит! Вы только подумайте, если у вас перед окнами вырастет целый дачный поселок, вашему дому будет грош цена.
— Ну, ну, Ходж, с чего вы взяли, что они понастроят дач?
— Не дачи, так виллы. Уж не собираетесь ли вы стать на сторону этих молодчиков?
— Нет, конечно. Что бы они тут ни построили, нам всем придется несладко. Я уверен, на них можно найти управу. Существует Общество защиты сельской Англии. Им это, наверно, Судет небезразлично. Можно бы подать жалобу в Совет графства. Написать в газеты, обратиться в Отдел надзора за строительством. Главное — нам надо держаться всем заодно.
— Ну да, много от этого будет толку. Забыли, сколько всего сейчас строят в Метбери?
Мистер Меткаф вспомнил и содрогнулся.
— По-моему, это один из тех случаев, когда все решают деньги. Вы не пробовали прощупать леди Пибери?
Впервые за время знакомства мистер Меткаф ясно почувствовал, что полковник Ходж может быть грубоват. — Пробовал. Она, понятно, весьма озабочена.
— Этот луг всегда назывался «Нижняя Хандра», — сказал полковник, возвратись к своему прежнему, вдвойне оскорбительному ходу мысли. — Так что, в сущности, это не ее забота.
— Это наша общая забота, — возразил Меткаф.
— Не понимаю, чего вы ждете, скажем, от меня, — сказал полковник Ходж. — Мое положение вам известно. А всему виной наш священник — каждое воскресенье проповедует большевизм.
— Нам надо собраться и все обсудить.
— За этим дело не станет. Ближайшие месяца три у нас только и разговору будет что про это строительство.
Сильней всего грозная весть расстроила Хорнбимов. Они услыхали ее от поденщицы, которая дважды в неделю приходила из деревни грабить их кладовую. По простоте душевной она думала — все городские джентльмены будут рады, что их полку прибыло; Хорнбима она по-прежнему считала горожанином, несмотря на его бороду и домотканую одежду, и потому с гордостью сообщила ему эту новость: вот, мол, обрадуется.
Обитателей Старой Мельницы объяли тревога и уныние. Здесь не вспыхнул гнев, как в «Усадьбе», никто никого не осуждал, как в «Имении», никто не призывал к действию, как в «Поместье». Здесь воцарилась безысходная печаль. У миссис Хорнбим, которая лепила свои горшки и крынки, опустились руки. Мистер Хорнбим уныло сидел за ткацким станком. То был час, который они обычно посвящали работе — сидели в разных концах бревенчатого сарая и занимались каждый своим ремеслом. В иные дни они напевали друг другу обрывки и припевы народных песен, а тем временем пальцы их хлопотливо мяли глину и направляли челноки. Сегодня они сидели молча и по примеру японских мистиков пытались отогнать новую напасть в небытие. Им ото неплохо удалось с полковником Ходжем и его эрдельтерьером, с войной в Абиссинии и с очередным ежегодным приездом мистера Хорнбима-старшего, однако новая напасть не перешла в небытие даже к заходу солнца.
Миссис Хорнбим подала неприхотливый ужин: молоко, изюм, сырую репу. Мистер Хорнбим отвернулся от своей деревянной тарелки.
— Художнику нет места в нынешнем мире, — сказал он. — Ведь нам только и надо от их бездушной цивилизации, чтобы нас оставили в покое, чтобы был у нас лоскут земли да клочок неба над головой и мы жили бы тихо-мирно и делали бы красивые, радующие глаз вещи. Кажется, нам совсем немного надо. Мы оставляем им и их машинам весь земной шар. Но им все мала Они гонят нас и травят. Они знают: пока существует хотя бы один-единственный уголок, где живы еще красота и порядочность, это им постоянный укор.
Темнело. Миссис Хорнбим кремнем высекла огонь и зажгла свеча. Потом подошла к арфе, щипнула струны, извлекла несколько щемящих звуков.
— Может быть, мистер Меткаф этому помешает, — сказала она.
— Подумать только, вся наша жизнь зависит от такого вот вульгарного господина.
Так он был настроен, когда получил приглашение от мистера Меткафа прибыть назавтра днем в «Имение Мачмэлкок» посовещаться с соседями.
Выбор места для этой встречи был задачей весьма тонкой, ибо леди Пибери отнюдь не желала отказаться от главенства в здешнем обществе, но играть первую скрипку именно в этом деле ей вовсе не улыбалось, хотя, с другой стороны, оно слишком задевало ее интересы, и потому просто от него отмахнуться она не могла. Вот почему приглашения рассылал и подписывал мистер Меткаф, но собраться все должны были у нее в малой гостиной — это напоминало совещание министров в королевском дворце.
За день леди Пибери лишь утвердилась в своем мнении, и оно полностью совпало с суждением полковника Ходжа: «Мы попали в беду из-за Меткафа — зачем с самого начала не купил луг, вот пускай теперь и вытаскивает нас всех». И хотя в присутствии Меткафа ничего столь решительного сказано не было, он, конечно же, почувствовал общее настроение.
Он приехал последним. Леди Пибери встречала своих гостей весьма прохладно.
— Очень мило, что вы пришли. По-моему, в этом не было особой необходимости, но мистер Меткаф настаивал. Вероятно, он хочет рассказать нам, что он намерен предпринять.
Самому же Меткафу она только и сказала:
— Мы сгораем от любопытства.
— Извините, что опоздал. Ну и нахлопотался же я сегодня! Побывал у всех здешних властей предержащих, связался со всеми обществами и сразу вам скажу: отсюда помощи ждать нечего. Мы даже не числимся в списках сельских местностей.
— Верно, — сказал полковник Ходж. — Об этом я позаботился. Не то нашей недвижимости было бы полцены.
— Списки, вот чем мы стали, — простонал мистер Хорнбим. — Чтобы жить как хочешь, надо теперь числиться в списках.
— В общем, придется как-то самим выпутываться, — продолжал свою речь мистер Меткаф. — Я так думаю: этому молодому человеку все равно где строить — в нашей округе или в любой другой. Строительство еще не началось, он пока не связан никакими обязательствами. Мне кажется, если мы тактично предложим выгодные для него условия, чтобы он получил на этом кое-какую прибыль, он, возможно, и согласится перепродать участок.
— Я полагаю, нам следует выразить мистеру Меткафу глубокую благодарность, — сказала леди Пибери.
— Вам ничего не жаль ради общества, — сказал полковник Ходж.
— Прибыль — рак нашей эпохи…
— Я вполне готов взять на себя долю обязательств… — При слове «долю» лица у всех словно окаменели. — Предлагаю создать общий фонд, каждый внесет пропорционально тому количеству земли, которым он сейчас владеет. По моему грубому подсчету выходит так: мистер Хорнбим — одна доля, полковник Ходж — две, я — две, и наша любезная хозяйка — пять. Цифры эти можно уточнить, — прибавил он, заметив, как холодно все приняли его слова.
— На меня не рассчитывайте, — сказал полковник Ходж. — Не могу себе этого позволить.
— Я тоже, — сказал мистер Хорнбим.
Леди Пибери оказалась перед трудным выбором. Воспитание не позволяло сказать о весьма существенном обстоятельстве — что мистер Меткаф куда богаче — воспитание да еще гордость. Луг необходимо спасти, но, если покупать его сообща, ей и вправду неминуемо придется платить большую часть, не то пострадает ее достоинство. А ведь если разобраться, тут не может быть двух мнений: спасти положение — прямой долг Меткафа. Она не стала раскрывать карты и продолжала игру.
— Вы человек деловой, — сказала она, — и, конечно, понимаете, как неудобно совместное владение. Вы что же, предлагаете разделить луг или мы будем вместе платить аренду, десятину и налог? Это все ужасно неудобно. Не знаю даже, допускается ли это по закону.
— Вот именно. Я просто хотел заверить вас, что готов пойти навстречу. А этот луг меня нимало не интересует, уверяю вас. Я охотно его уступлю.
В его словах послышалась угроза, они прозвучали почти невежливо. Полковник Ходж почувствовал, что дело принимает опасный оборот.
— А по-моему, сперва надо узнать, согласен ли этот малый перепродать луг, — вмешался он. — Тогда уж и решайте, кто из вас его возьмет.
— Мы с большим интересом будем ждать, чем кончатся переговоры мистера Меткафа, — сказала леди Пибери.
Зря она так сказала. Уже в следующий миг она бы с радостью взяла свои слова обратно. Ей смутно хотелось сказать что-то неприятное, отплатить мистеру Меткафу за то, что она очутилась в неловком положении. Она совсем не желала наживать в нем врага, а теперь он ей, конечно, враг.
Мистер Меткаф тотчас откланялся, чуть ли не сбежал, и весь вечер был вне себя. Целых пятнадцать лет он был президентом Британской торговой палаты. Все деловые люди в Александрии чрезвычайно его уважали. Никто не мог сказать о нем дурного слова, ведь он безупречно честен. Египетским и левантийским купцам, которые пытались втянуть его в какие-нибудь махинации, он давал самый суровый отпор. Нажимать на него было бесполезно. Такова была его репутация в клубе, а здесь, дома, в деревне, какая-то старуха вздумала застать его врасплох. Вдруг все переменилось. Он уже не тот, кому ничего не жаль ради общества, теперь он будет разговаривать по-другому: карты на стол, выкладывайте, что у вас на уме, ведите себя как положено, не то пожалеете, вот он теперь какой Меткаф — разъяренный, свирепый, который и себя не пощадит, лишь бы все было чисто, потопит любой корабль, если на нем есть хоть на грош незаконного товару, Меткаф — знаменитость деловых кругов.
— Зря она так сказала, — заметил полковник Ходж, сидя за прескверным обедом у себя дома и рассказывая обо всем жене. — Меткаф теперь пальцем не шевельнет.
— А может быть, ты сам поговоришь с этим, который купил луг? — спросила миссис Ходж.
— Да-а, верно… пожалуй… Знаешь, схожу-ка я прямо сейчас.
И он пошел.
Найти этого человека оказалось нетрудно: в «Гербе Брейкхерста» он был единственным постояльцем. Хозяин гостиницы назвал его фамилию — мистер Харгуд-Худ. Ходж застал его в буфете, тот сидел совсем один, потягивал виски с содовой и усердно решал напечатанный в «Таймсе» кроссворд.
— Здрасте, — сказал полковник. — Моя фамилия Ходж.
— Да?
— Вы, верно, знаете, кто я такой?
— Извините, но…
— Я владелец «Усадьбы». Мой парк примыкает к лугу Уэстмейкота, это который вы купили.
— Так его зовут Уэстмейкот? — сказал Харгуд-Худ. — Я не знал. Подробности я предоставил своему поверенному. Сказал ему только, что, мне нужно уединенное место для работы. На прошлой неделе он сообщил, что нашел здесь подходящее местечко. Это и вправду как раз то, что мне нужно. А никаких имен он мне нe называл.
— Вы желали поселиться именно в этом краю?
— Нет, нет. Но здесь очаровательно, — учтиво прибавил Худ. Помолчали.
— Я хотел с вами потолковать, — зачем-то сказал полковник Ходж. — Выпьем по стаканчику.
— Благодарю. Опять помолчали.
— Боюсь, здесь не очень-то здоровая местность, — сказал полковник. — Участок-то наш в низине.
— А мне это неважно. Мне нужно только уединение.
— Писатель, а?
— Нет.
— Тогда художник?
— Нет, нет. Меня, скорее, можно назвать ученым.
— Понятно. Построите дом и станете приезжать на субботу — воскресенье?
— Нет, нет, совсем наоборот. Я всю педелю буду работать здесь со своими сотрудниками. И я строю, в сущности, не жилой дом, хотя, конечно, будет и жилая часть тоже. Раз мы окажемся с вами такими близкими соседями, вы, может быть, хотите посмотреть проекты?…
— …Ничего подобного я отродясь не видал, — рассказывал на другое утро полковник мистеру Меткафу. — Он называет это «промышленная экспериментальная лаборатория». Две высоченные трубы, это, говорит, так полагается по закону, из-за вредных газов, водонапорная башня, шесть дач для его сотрудников… ужас. И ведь вот что странно — человек-то он вроде приличный. Говорит, ему и в голову не пришло, что кому-то все это помешает. Думал, мы даже заинтересуемся. Я эдак тактично заговорил о перепродаже, ну а он сказал, всем этим занимается его поверенный…
3
«Поместье Мачмэлкок.
Многоуважаемая леди Пибери!
Позвольте поставить Вас в известность, что, согласно нашей беседе три дня назад, я встретился с мистером Харгудом-Худом, купившим луг, который лежит между Вашими и моими владениями, и с его поверенным. Как Вам уже сообщил полковник Ходж, мистер Харгуд-Худ намерен построить экспериментально-промышленную лабораторию, губительную для прелестей нашей сельской природы. Как Вы, без сомнения, знаете, работы еще не начаты, и мистер Харгуд-Худ согласен перепродать свою собственность, если должным образом будут возмещены все его затраты. В запрошенную им цену входит стоимость перепродаваемого участка, издержки на оформление сделки и плата за архитектурный проект. Этот мерзавец загнал нас в тупик. Он требует пятьсот фунтов. Цена непомерно высока, но я готов заплатить половину при условии, что вторую половину заплатите Вы. В случае если Вы не согласитесь на это великодушное предложение, я постараюсь оградить мои собственные интересы, не считаясь с интересами округи.
Искренне Ваш
Беверли Меткаф»«P. S. Я хочу сказать, что продам „Поместье“, пущу землю под строительные участки.»
«Имение Мачмэлкок.
Леди Пибери имеет честь сообщить мистеру Меткафу, что получила сегодняшнюю его записку, тон которой совершенно необъясним. Кроме того, извещаю, что не имею желания увеличивать свои и без того значительные обязательства перед округой. Леди Пибери не может согласиться на совместное с мистером Меткафом владение лугом, поскольку у него значительно меньше земли и, следовательно, меньше забот, а вышеозначенный луг должен по справедливости стать частью Ваших владений. Леди Пибери полагает также, что, если лаборатория мистера Харгуда-Худа будет и в самом деле так уродлива, в чем я сомневаюсь, мистеру Меткафу вряд ли удастся осуществить свой план и превратить свой сад в участок под застройку жилыми домами.»
— Ну и черт с ней, — сказал мистер Меткаф, — ничего не поделаешь.
4
Прошло десять дней. Прелестная долина, которую скоро должны были обезобразить, сверкала под солнцем во всем своем очаровании Пройдет год, думал Меткаф, и свежая зеленая листва покроется сажей, зачахнет из-за вредных газов; неяркие крыши и трубы, которые вот уже двести лет, а то и больше служат украшением здешнего пейзажа, будут заслонены индустриальными уродами из стали, стекла и бетона. На обреченном лугу мистер Уэстмейкот чуть ли не в последний раз созывал своих коров; на следующей неделе начнется строительство, и надо искать новые пастбища. Да и мистеру Меткафу тоже, фигурально выражаясь. Его письменный стол уже завален объявлениями агентов по продаже недвижимости. И все из-за каких-то жалких пятисот фунтов, сказал он себе. И ведь придется все заново отделывать, потом стоимость переезда и связанные с ним потери. Строителей-спекулянтов, к которым он со зла обратился, его участок не заинтересовал. При переезде он потеряет, конечно, куда больше пятисот фунтов. Но и леди Пибери тоже, угрюмо заверил он себя. Пусть знает: Беверли Меткафа голыми руками не возьмешь.
А леди Пибери, на противоположном склоне, тоже с грустью обозревала окрестности. Густые и длинные тени кедров пересекли газон; за долгие годы, что она прожила в этом имении, кедры почти не изменились, а вот живую изгородь из самшита она сажала сама, и пруд с кувшинками тоже она придумала и украсила его свинцовыми фламинго; у западной стены она насыпала груду камней и посадила на них альпийские цветы и травы; цветущий кустарник тоже насажен ею. Все это не увезешь на новое место. И где оно, ее новое место? Она слишком стара, ей поздно разбивать новый сад, заводить новых друзей. Как многие ее сверстницы, она станет переезжать из гостиницы в гостиницу дома и за границей, немного поплавает на пароходе, нежеланной гостьей будет подолгу жить у родных. И все из-за двухсот пятидесяти фунтов, из-за двенадцати фунтов десяти шиллингов в год — на благотворительность она и то жертвует больше. Но суть не в деньгах, суть в Принципе. Она не хочет мириться со Злом, с этим дурно воспитанным господином, что живет на холме напротив.
Вечер был великолепный, но Мачмэлкоком завладела печаль. Хорнбимы совсем загрустили и пали духом, полковник Ходж не находил себе места, мерил шагами потертый ковер своего кабинета.
— Тут недолго и большевиком заделаться, не хуже этого священника, — сказал он. — Меткафу что? Он богач. Куда захочет, туда и махнет. И леди Пибери что? А страдает всегда маленький человек, кто еле сводит концы с концами.
Даже мистер Харгуд-Худ и тот, кажется, приуныл. К нему приехал его поверенный, и весь день они то и дело тревожно совещались.
— Пожалуй, мне надо пойти и еще раз поговорить с этим полковником, — сказал Харгуд-Худ и в сгущающихся сумерках зашагал по деревенской улице к дому Ходжа.
Эта-то героическая попытка достичь полюбовного соглашения и породила миротворческий план Ходжа.
5
— …Скаутам позарез нужно новое помещение, — сказал полковник Ходж.
— Меня это не касается, — сказал мистер Меткаф. — Я уезжаю из этих краев.
— Я подумал, может, поставить им домик на лугу Уэстмейкота, место самое подходящее, — сказал полковник Ходж.
И все устроилось. Мистер Хорнбим дал фунт, полковник Ходж — гинею, леди Пибери двести пятьдесят фунтов. Распродажа на благотворительном базаре, никому не нужное чаепитие, вещевая лотерея и обход домов дали еще тридцать шиллингов. Остальное нашлось у мистера Меткафа. В общей сложности он выложил немногим больше пятисот фунтов. И сделал это с легким сердцем. Ведь теперь уже не было речи, что его обманом втягивают в невыгодную сделку. А ролью щедрого благотворителя он просто упивался, и, когда леди Пибери предложила, чтобы луг оставили под палаточный лагерь и дом пока не строили, не кто иной, как мистер Меткаф, настоял на строительстве и пообещал отдать на это черепицу с разобранной крыши амбара. При таких обстоятельствах леди Пибери не могла возражать, когда дом назвали «Зал Меткаф — Пибери». Название это воодушевило мистера Меткафа, и скоро он уже вел переговоры с пивоварней о переименовании «Герба Брейкхерста». Правда, Боггит по-прежнему называет гостиницу «Брейкхерст», но новое название красуется на вывеске и все могут его прочесть: «Герб Меткафа».
Так мистер Харгуд-Худ исчез из истории Мачмэлкока. Вместе со своим поверенным он укатил к себе домой за холмы, за горы. Поверенный приходился ему родным братом.
— Мы висели на волоске, Джек. Я уж думал, на этот, раз мы погорим.
Они подъезжали к дому Харгуда-Худа, к двойному четырехугольнику блеклого кирпича, что славился далеко за пределами графства. В дни, когда в парк пускали публику, неслыханное множество народу приходило полюбоваться тисами и самшитами, на редкость крупными и прихотливо подстриженными, за которыми с утра до ночи ухаживали три садовника. Предки Харгуда-Худа построили дом и насадили парк в счастливые времена, когда еще не было налога на недвижимость и Англия не ввозила зерно. Более суровое время потребовало более энергичных усилий, чтобы все это сохранить.
— Что ж, этого хватит на самые первоочередные расходы и еще останется немного — можно будет почистить рыбные пруды. Но месяц выдался беспокойный. Не хотел бы я опять попасть в такую переделку, Джок. В следующий раз придется быть осмотрительней. Может, двинем на восток?
Братья достали подробную карту Норфолка, разложили нa на столе в главной зале и принялись загодя со знанием дела подыскивать какую-нибудь очаровательную, нетронутую цивилизацией деревушку.
― ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ― (перевод Р. Облонской)
Джон Верни женился на Элизабет в тысяча девятьсот тридцать восьмом году, но упорно и люто ее ненавидеть стал лишь зимой тысяча девятьсот сорок пятого. Мимолетные приступы ненависти к ней то и дело накатывали на него и прежде, ему вообще свойственны были такие вспышки. Не то чтобы он отличался, как говорится, дурным нравом, скорее, наоборот; он всегда казался рассеянным, утомленным, только это и говорило о его одержимости, так другие несколько раз на дню бывают одержимы приступами смеха или желания.
Среди тех, с кем он служил во время войны, он слыл соней и тюленем. Для него не существовало ни особенно хороших дней, ни плохих, все были на одно лицо — хороши, ибо он быстра и споро делал что положено, никогда при этом не попадая впросак и не горячась; плохи, ибо в душе его, в самой глубине, при каждой помехе или неудаче то и дело полыхали, вспыхивали и гасли незримые молнии ненависти. В его опрятной комнате, когда утром перед ним как перед командиром роты один за другим представали провинившиеся и нерадивые солдаты; в клубе-столовой, когда младшие офицеры включали приемник и мешали ему читать; в штабном колледже, когда «группа» не соглашалась с его решением; в штабе бригады, когда штаб-сержант терял подшивку документов или телефонист соединял его не с тем, с кем требовалось; в машине, когда шофер ухитрялся проскочить поворот; потом, уже в госпитале, когда ему казалось, что доктор чересчур бегло осматривает его рану, а сестры весело судачат у постелей более приятных им пациентов, вместо того, чтобы обхаживать его, Джона Верни, — при всевозможных неприятностях армейской жизни, при которых другие лишь пожмут плечами да ругнутся — и дело с концом, у Джона устало опускались веки, крохотная граната ненависти взрывалась в душе — и осколки со звоном ударяли об ее стальные стенки.
До войны у него было меньше причин раздражаться. Были кое-какие деньги и надежда сделать политическую карьеру. Перед женитьбой он проходил обучение в партии либералов на двух безнадежных дополнительных выборах. В награду руководство предоставило ему избирательный округ в лондонском предместье, от которого он сможет с успехом баллотироваться на следующих выборах. Сидя у себя в квартире в Белгрэвии он пекся об этом округе и часто ездил в Европу, изучал там политическую обстановку. Эти поездки убедили его, что война неизбежна; он резко осудил Мюнхенское соглашение и раздобыл себе офицерскую должность в Территориальной армии.
В мирное время Элизабет легко и ненавязчиво вписывалась в его жизнь. Она была ему родня, на четыре года моложе его. В тридцать восьмом году ей исполнилось двадцать шесть, и она еще ни разу ни в кого не влюбилась. Это была спокойная, красивая молодая женщина, единственное дитя своих родителей, у нее имелись кое-какие деньги, и в дальнейшем ей предстояло получить еще. Когда она только начала выезжать, с ее губ нечаянно слетело и достигло чужих ушей какое-то неуместное замечание, и с тех пор она прослыла «больно умной». Те же, кто знал ее лучше всего, безжалостно окрестили еe «себе на уме».
Это предопределило ее неуспех в гостиных и на балах, еще год она томилась в бальных залах на Понт-стрит, а затем успокоилась на том, что стала ездить с матерью по концертам и по магазинам и наконец, к удивлению небольшого кружка ее друзей, вышла замуж за Джона Верни. Ухаживанье, завершившееся браком, проходило без особой пылкости, по-родственному, в обоюдном согласии. Из-за приближающейся войны они решили не обзаводиться детьми. Чувства и мысли Элизабет всегда и для всех оставались за семью печатями. Если она и отзывалась о чем-то, то обычно отрицательно, и суждения ее можно было счесть либо глубокомысленными, либо тупоумными — кому как заблагорассудится. На вид она была отнюдь не из тех женщин, которых можно всерьез возненавидеть.
Джона Верни демобилизовали в начале 1945 года, и, когда он вернулся домой, на груди у него красовался «Военный крест», а одна нога навсегда стала на два дюйма короче другой. Элизабет теперь жила в Хемстеде со двоими родителями, которые приходились Джону тетей и дядей. Она писала ему об этих переменах, но поглощенный своим, он представлял их себе очень смутно. Квартиру, где он с Элизабет жил до войны, заняло какое-то правительственное учреждение, мебель и книги отправлены были на склад и погибли — часть сгорела во время бомбежки, остальное растащили пожарники. Элизабет, лингвист по образованию, стала работать в секретном отделе министерства иностранных дел.
Дом ее родителей был некогда солидной виллой в георгианском стиле, из окон открывался широкий вид. Джон Верни приехал туда рано утром, проведя ночь в переполненном вагоне поезда Ливерпуль — Лондон. Кованая железная ограда и ворота были грубо выломаны сборщиками железного лома, а палисадник, прежде такой ухоженный, густо зарос сорняками и кустарником и весь был истоптан солдатами, которые по ночам приводили сюда своих подружек. Сад за домом обратился в небольшую воронку от бомбы — по краям ее громоздились кучи глины, обломки статуй, кирпич и стекло от разрушенных теплиц, и из этих груд торчали высокие, по грудь, сухие стебли кипрея. Стекла по заднему фасаду все вылетели, и окна Пыли забраны картоном и досками, так что в комнатах все время стояла тьма.
— Добро пожаловать в царство хаоса и вечной ночи, — радушно приветствовал Джона дядя.
Слуг в доме не было: старые сбежали, молодых призвали в армию. Элизабет напоила его чаем и ушла на работу.
Здесь он поселился, и, по словам Элизабет, ему еще повезло, что у него оказалась своя крыша над головой. Мебель купить было невозможно, меблированные комнаты сдавались за бешеные деньги, а их доход ограничивался теперь только жалованьем. Можно бы подыскать что-нибудь за городом, но у Элизабет не было детей, и, значит, она не имела права уйти со службы. Да и Джон был связан своим избирательным округом.
Округ тоже стал неузнаваем. В городском саду выросла фабрика, обнесенная колючей проволокой, точно лагерь для военнопленных. Обступавшие некогда сад аккуратненькие домики, в которых жили возможные сторонники партии либералов, были разбомблены, залатаны, конфискованы, заселены рабочими-иммигрантами. Каждый день Джон получал десятки жалоб от своих избирателей, выселенных из Лондона в провинцию. Он надеялся, что орден и хромота помогут ему завоевать расположение новых жителей, но нет, им и дела не было до превратностей войны. Зато они весьма интересовались социальным страхованием, хотя в интересе этом явственно сквозило недоверие.
— Они тут все красные, — сказал Джону здешний представитель либералов.
— Вы хотите сказать, я не пройду?
— Ну, мы еще поборемся. Тори выставляют летчика, участника воздушных боев над Англией. Боюсь, он заберет большую часть голосов наших избирателей среднего достатка, а их и так осталось уже немного.
Выборы и в самом деле прошли скверно: Джон Верни получил голосов меньше, чем все другие кандидаты. По его округу избрали учителя-еврея, чьи речи дышали ожесточением. Руководство оплатило расходы Джона Верни, но все равно выборы дались ему тяжело. И когда они кончились, он остался безо всякого дела.
Он продолжал жить в Хемстеде; когда Элизабет уходила на работу, помогал тетке стелить постели, прихрамывая, отправлялся к зеленщику и торговцу рыбой, снедаемый ненавистью, стоял в очередях, а вечером помогал Элизабет стирать белье. Ели они в кухне, продуктов было мало, но стряпала тетка вкусно. Дядя три дня в неделю работал — помогал паковать посылки для Явы.
Элизабет, женщина себе на уме, никогда не рассказывала о своей работе, а работа, в сущности, была связана с насаждением враждебных населению деспотических правительств в Восточной Европе. Однажды вечером, в ресторане, к ней подошел и заговорил с нею высокий молодой человек с изжелта-бледным острым лицом, которое дышало умом и юмором.
— Это начальник моего отдела, — сказала потом Элизабет. — Он такой забавный. Убежденный консерватор и ненавидит нашу работу.
— Теперь уже нет никакой необходимости работать в государственном аппарате, — сказал он. — Война-то кончилась.
— Наша работа еще только начинается. И нас никого не отпустят. Пойми же наконец, в каком положении сейчас Англия.
Элизабет часто принималась объяснять ему «положение». Шаг за шагом, одну сложность за другой, она в эту скудную углем зиму показывала ему широкие сети государственного контроля, которые сплетены были за время его отсутствия. Джона, воспитанного в духе традиционного либерализма, эта новая система возмущала до глубины души. Более того, он чувствовал, что и сам он попался, пойман в ловушку, запутан, связан по рукам и ногам: куда ни пойдешь, что ни сделаешь, что пи задумаешь, всякий раз попадаешь впросак и терпишь неудачу! А Элизабет, объясняя, невольно все это защищала. Такое-то правило установлено для того, чтобы избежать таких-то зол и вредных явлений; вот такая-то страна пренебрегла этими предосторожностями, а потому терпит беды, от которых Англия избавлена, и так далее, и тому подобное, и все это она втолковывала этак спокойно, вразумительно.
— Я знаю, Джон, это все очень неприятно, но пойми, в таком положении все, не ты один.
— А вам, бюрократам, только этого и надо, — сказал он. — Равенство на основе рабства. Государство, в котором есть только два класса — пролетарии и чиновники.
Элизабет оказалась неотъемлемой частью этой системы. Она работает на государство. Она служит этой новой, чуждой, захватившей всю Англию силе… Зима все тянулась, газ в плите горел еле-еле, через залатанные окна пробивался дождь, потом пришла наконец и весна, в непотребных зарослях вокруг дома лопались почки, а тем временем Элизабет странно выросла в глазах Джона. Она стала символом. Как солдаты в отдаленных лагерях вспоминают своих жен с нежностью, какой никогда не испытывали к ним дома, и жены — те самые жены, которые бывали, наверно, и сварливы и неряшливы, — становятся дли них олицетворением всего хорошего, что осталось позади, из пустыня и джунглей они кажутся совсем иными, а пустопорожние их авиаписьма рождают надежду, так в воображении отчаявшегося Джона Верни Элизабет обратилась не просто в олицетворенную людскую злобу, по в жрицу и менаду эпохи простонародья.
— Ты плохо выглядишь, Джон, — сказала ему тетка. — Нам с Элизабет надо проветриться, уехать ненадолго. На пасху у нее отпуск.
— Ты хочешь сказать, государство пожаловало ей дополнительный паек в виде общества собственного супруга. А все необходимые анкеты она уже заполнила? Или она такой важный комиссар, что с нее это не спрашивают?
Дядя с теткой смущенно посмеялись. Джон отпускал шуточки с таким усталым видом, утомленно опустив веки, что его домашних сразу обдавало холодом. Элизабет в этих случаях лишь молча и серьезно смотрела на него.
Джон чувствовал себя неважно. Нога все время болела, так что в очередях он уже не стоял. Спал он плохо — кстати, и Элизабет впервые за всю свою жизнь стала плохо спать. У них теперь была общая спальня: из-за зимних дождей в их доме, который основательно тряхнуло при бомбежке, во многих местах обрушились потолки и находиться в верхних комнатах было небезопасно. На первом этаже, в бывшей библиотеке ее отца, поставили две односпальные кровати.
В первые дни после возвращения Джон чувствовал себя настоящим влюбленным. Теперь же он и близко не подходил к жене. Ночь за ночью они лежали во тьме, каждый в своей постели. Однажды Джон два долгих часа не мог уснуть и наконец зажег лампу, что стояла между кроватями. Оказалось, Элизабет лежит и широко раскрытыми глазами смотрит в потолок.
— Прости. Я тебя разбудил?
— Я не спала.
— Я хотел немного почитать. Тебе это не помешает?
— Ничуть.
Она отвернулась. Джон почитал примерно час. Потом погасил свет — уснула ли к этому времени Элизабет, он не понял.
После этого ему часто очень хотелось включить свет, но он боялся: вдруг опять окажется, что она не спит и широко раскрытыми глазами глядит в потолок. И вместо того, чтобы предаваться восторгам любви, он лежал и ненавидел жену всеми силами души.
Ему не приходило в голову уйти от нее — вернее, время от Бремени мысль эта мелькала, но он безнадежно от нее отмахивался. Их связывала, общая жизнь, ее родные — родня и ему, их денежные дела тесно переплелись, и виды на будущее у них тоже общие. Уйти от нее значило бы начать все сначала, одному, голу и босу, в чуждом и непонятном мире; и в тридцать восемь лет у хромого и усталого Джона Верни не хватало на это мужества.
Никакой другой женщины он не любил. Пойти ему было не к кому, заняться нечем. Больше того, в последнее время он стал подозревать, что, если б он и ушел куда-нибудь, Элизабет не огорчилась бы. А ему теперь только одного всерьез и хотелось: причинить ей зло.
«Хоть бы она сдохла, — твердил он про себя в бессонные ночи. — Хоть бы она сдохла».
Иногда они по вечерам куда-нибудь ходили вместе. Зима кончилась, и Джон завел привычку раза два в неделю обедать в своем клубе. Он думал, Элизабет в это время сидит дома, но как-то утром выяснилось, что накануне она тоже где-то обедала. Он не спросил с кем, но тетка спросила.
— Просто с одним сослуживцем, — ответила Элизабет.
— С тем самым? — спросил Джон.
— Представь, да.
— Надеюсь, ты получила удовольствие.
— Вполне. Еда, конечно, была мерзкая, по он очень занятный.
Однажды Джон вернулся вечером из клуба после жалкого и унылого обеда, да еще ехал в оба конца в переполненных вагонах метро, и оказалось — Элизабет уже легла и крепко спит. Когда он вошел, она не шевельнулась. К тому же она храпела, прежде с ней этого не бывала. Он постоял с минуту, пригвожденный к месту этим новым и непривлекательным обликом — голова у нее запрокинута, рот открыт, в уголках губ поблескивает слюна. Потом он слегка потряс ее. Она что-то пробормотала, повернулась на бок и, так и не очнувшись от глубокого сна, затихла.
Спустя полчаса, когда он тщетно пытался уснуть, Элизабет опять захрапела. Он включил свет, посмотрел на нее повнимательней и с удивлением, которое вдруг перешло в радостную надежду, заметил подле нее на ночном столике наполовину пустую трубочку с незнакомыми таблетками.
Он взял ее в руки, посмотрел. «24 Comprimеs narcotiques, hypnotiques»[77] было на ней написано, и дальше крупными красными буквами: «Ne pas dеpasser deux».[78] Он сосчитал оставшиеся таблетки. Одиннадцать.
Надежда трепетной бабочкой забилась у него в груди, переросла в уверенность. Внутри разгорался огонь, отрадное тепло разлилось по всему телу до самых кончиков пальцев. Он лежал и, в счастливом предвкушении, как ребенок в канун Рождества, прислушивался к ее всхрапам. «Вот проснусь утром, а она уже мертвая», — говорил он себе — так некогда он трогал пустой чулок в ногах своей кроватки и говорил себе: «Утром проснусь, а он полный». Точно маленькому, ему не терпелось уснуть, чтобы скорей настало завтра, и, точно маленький, он был безмерно возбужден и никак не мог уснуть. Наконец он сам проглотил две таких таблетки и почти тотчас провалился в небытие.
Элизабет всегда вставала первая и готовила завтрак для всей семьи. Она уже сидела перед зеркалом, когда Джон проснулся — переход от сна к бодрствованию был резкий, внезапный, и он сразу же ясно и четко вспомнил все, что происходило вечером.
— Ты храпел, — сказала она.
Разочарование было таким острым, он даже не сразу сумел заговорить.
— Ты с вечера тоже храпела, — сказал он наконец.
— Это, наверно, потому, что я приняла таблетку снотворного. Зато уж и выспалась.
— Всего одну?
— Да, больше двух вообще нельзя, опасно.
— Откуда они у тебя?
— От того приятеля с работы… Ему прописал доктор ему, случай, когда он чересчур напряженно работает. Я сказала ему, что не сплю, и он дал мне половину трубочки.
— А мне он может достать?
— Наверно. Он по этой части многое может.
И они с Элизабет стали регулярно глотать это снадобье и на всю долгую ночь проваливались в пустоту. Но нередко Джон медлил, несущая блаженство таблетка лежала подле стакана с водой, и, зная, что бдение продлится не дольше, чем он пожелает, Джон не спешил приблизить миг радостного погружения в небытие, слушал храп Элизабет и упивался ненавистью к ней.
Однажды вечером, когда все еще не решено было, как провести отпуск, Джон с Элизабет пошли в кино. Показывали фильм с убийством, не слишком оригинальный, но пышно обставленный. Новобрачная убила своего мужа — выбросила его из окна дома, стоящего на краю обрыва. Ей помогло то, что муж выбрал для медового месяца самое уединенное место — маяк. Новобрачный был очень богат, и она хотела завладеть его деньгами. Ей достаточно было рассказать местному доктору и нескольким соседям о своих опасениях — муж ходит но ночам, как лунатик; и вот она всыпала ему в кофе снотворное, стащила его с кровати, выволокла на балкон, что потребовало изрядных усилий — там она заранее выломала часть перил, — и столкнула спящего вниз. Потом легла в постель, наутро подняла тревогу и рыдала над изувеченным телом, которое вскоре обнаружили внизу, на камнях, уже наполовину смытое в море. Возмездие настигло ее, но позднее, а тогда все сошло ей с рук.
Что-то больно все легко у нее получилось, подумал Джон и уже через несколько часов забыл об этой истории, она осела в одном из темных уголков мозга, где в пыли и паутине скапливаются фильмы, сны, анекдоты, и так и остаются там до конца жизни, разве только нечаянный случай вдруг вытащит их на свет.
И так оно и случилось через несколько недель, когда Джон с Элизабет уехали отдыхать. Место нашла Элизабет.
Дом принадлежал кому-то из ее сослуживцев. Назывался он Форт Доброй Надежды и стоял на Корнуэльском побережье.
— Его только-только вернули после реквизиции, — сказала Элизабет, — наверно, он в прескверном состоянии.
— Нам не привыкать, — сказал Джон.
У него и в мыслях не было, что она могла бы провести отпуск без него. Она была такой же неотъемлемой его частью, как искалеченная, ноющая нога.
Они приехали ветреным апрельским днем в поезде и, по обыкновению, порядком намаялись. Потом тащились восемь миль на такси по грязи корнуэльских дорог, мимо домиков, сложенных из гранита, и старых, заброшенных оловянных рудников. Добрались до деревни, на адрес которой жителям здешних мест слали письма, проехали через нее по проселочной дороге, утонувшей меж двух высоких насыпей, но за деревней дорога вдруг вынырнула на поверхность, на открытый луг на краю обрыва, — и вот уже над ними несутся облака, кружат морские птицы, у ног трепещут на ветру полевые цветы, воздух насыщен солью, внизу рокочут, разбиваясь о камни, воды Атлантики, дальше — взбаламученный густо-синий с белыми нахлестами простор, а за ним — безмятежной дугой — горизонт. Здесь, на обрыве, и стоял дом.
— Твой отец сказал бы: «Стоит в приятном месте этот замок»,[79] — заметил Джон.
— Что ж, и вправду так.
Небольшое каменное строение это поставили па самом краю обрыва лет сто назад для защиты от вражеских нашествий, а в годы мира превратили в жилой дом; в нынешнюю войну адмиралтейство снова пустило его в дело — устроило здесь пункт связи, а теперь ему вновь предстояло стать мирным жилищем. Обрывки ржавой проволоки, мачта, бетонный фундамент давали представление о прежних хозяевах.
Джон и Элизабет внесли свои вещи в дом и расплатились с таксистом.
— Каждое утро из деревни приходит женщина. Я сказала, что сегодня вечером она нам не понадобится. Она оставила керосин для ламп. И — вот молодец — зажгла камин и припасла дров. Да, а что нам подарил отец, взгляни-ка. Я обещала не говорить тебе, пока не приедем на место. Бутылка виски. Правда, мило с его стороны? Он три месяца копил свой паек…
Так оживленно болтала Элизабет, разбирая багаж.
— У нас здесь у каждого будет своя спальня. Эта комната единственная сойдет за гостиную, зато есть кабинет — на случай, если тебе захочется поработать. По-моему, нам здесь будет вполне удобно…
В гостиной было два просторных «фонаря», стеклянные двери из них выходили на балкон, повисший над морем. Джон растворил одну дверь, и в комнату ворвался морской ветер. Джон вышел на балкон, глубоко вздохнул и вдруг сказал:
— Э, да здесь опасно.
В одном месте, между двух дверей, в чугунных перилах зиял провал и каменный край балкона ничем не был огражден. Джон озадаченно посмотрел на пролом, на пенящиеся внизу среди камней волны. Неправильный многогранник памяти неуверенно повернулся было и замер.
Он уже побывал здесь несколько недель назад — на галерее маяка в том быстро забывшемся фильме. Вот так же стоял и смотрел вниз. Так же кишели, накатывались на камни волны, разбивались фонтанами брызг и отступали. И тот же грохот и тот же пролом в чугунной ограде, и пропасть под ногами.
Элизабет все что-то говорила там, в комнате, ветер и море заглушали ее голос. Джон вернулся в комнату, закрыл и запер балконную дверь. В наступившей тишине услышал:
— …только на прошлой неделе взял со склада мебель. И попросил эту женщину, которая приходит из деревни, все как-нибудь расставить. А у нее, я вижу, довольно странные представления. Ты только погляди, куда оно засунула…
— Как, ты сказала, называется этот дом?
— Форт Доброй Надежды.
— Хорошее название.
Вечером Джон пил виски своего тестя, курил трубку и строил планы. Прежде он был хороший тактик. Он мысленно не спеша оценивал обстановку. Цель: убийство.
Наконец они поднялись — пора было идти спать.
— Ты взяла с собой таблетки?
— Да, неначатую трубочку. Но сегодня они мне, конечно, не понадобятся.
— Мне тоже, — сказал Джон, — здесь замечательный воздух.
В последующие дни он обдумывал тактическую задачу. Она была очень проста. «План операции» у него уже есть. Он пользовался сейчас словами и формулами, к которым привык в армии. «…Возможные варианты действий противника… внезапность… закрепление успеха». «План операции» образцовый. С первых же дней Джон начал приводить его в исполнение.
Его уже знали в деревне, он постепенно завязывал знакомства. Элизабет — друг хозяина дома, сам он — герой, только что вернулся из армии и все еще не освоился сызнова со штатской жизнью.
— Впервые за шесть лет отдыхаем с женой вместе, — сказал он в гольф-клубе, а в баре даже немного разоткровенничался: намекнул, что они подумывают наверстать упущенное и завести ребенка.
В другой раз вечером он заговорил о том, как трудно всем далась война — гражданским приходилось еще трудней, чем военным. Взять, к примеру, его жену — перенесла все бомбежки, весь день на работе, а ночью бомбы. Ей бы надо было сразу уехать, одной, и надолго: у нее нервы расстроены — ничего серьезного, но, сказать по правде, его это порядком беспокоит. В Лондоне он раза два видел — жена встает во сне и ходит, как лунатик.
Оказалось, его собеседникам такие случаи известны — серьезно беспокоиться тут не о чем, просто надо присматривать, как бы это не переросло во что похуже. А у доктора она была?
Нет еще, отвечал Джон. Она ведь сама про это и не знает. Он ее не будил, просто укладывал в постель. Может, морской воздух пойдет ей на пользу. Да она уже вроде чувствует себя много лучше. Если, когда они вернутся домой, с ней опять начнется что-нибудь такое, у него есть на примете очень хороший специалист.
Гольф-клуб всячески ему сочувствовал. Джон спросил, есть ли тут поблизости хороший врач. Да, старик Маккензи доктор что надо, сказали ему, даром пропадает в деревне, отсталым его никак не назовешь. Читает самоновейшие книжки, психологию и всякое такое. Прямо понять нельзя, отчего Мак не стал каким-нибудь крупным специалистом, светилом.
— Пожалуй, надо сходить к этому Маку посоветоваться, — сказал Джон.
— Правильно. Лучше него вам никого не найти.
Отпуск у Элизабет был всего две недели. Когда до отъезда оставалось три дня, Джон отправился к доктору Маккензи. В комнате, которая скорее напоминала кабинет адвоката, а ее врача — темной, прокуренной, с книжными полками по стенам, — его принял седой добродушный холостяк.
Сидя в старом кожаном кресле, Джон рассказал ему ту же историю, что в гольф-клубе, только на сей раз более тщательно подбирал слова. Доктор Маккензи выслушал не перебивая.
— Никогда в жизни не встречал ничего подобного, — закончил Джон.
Маккензи отозвался не сразу.
— Вам сильно досталось во время войны, мистер Верни? — спросил он, помолчав.
— Да вот изувечило колено. До сих пор дает о себе знать.
— И в госпитале намучились?
— Три месяца пролежал. Паршивое заведение в пригороде Рима.
— Такие увечья всегда сопровождаются нервным потрясением. Нередко потрясение остается, даже когда рана уже зажила.
— Да, но я не совсем понимаю…
— Дорогой мой мистер Верни, ваша жена просила ничего вам не говорить, но, по-моему, я должен сказать: она уже советовалась со мной по этому поводу.
— О том, что она ходит во сне, как лунатик? Но она же не может… — И тут Джон прикусил язык.
— Дорогой мой, я вас понимаю. Она думала, что вы не знаете. За последнее время вы дважды бродили по ночам, и ей приходилось укладывать вас в постель. Ей все известно.
Джон не нашелся, что сказать.
— Мне не впервой выслушивать пациентов, которые рассказывают о своих симптомах, но говорят, что пришли посоветоваться о здоровье друга или родственника, — продолжал доктор Маккензи. — Обычно это девушки, которым кажется, что они в положении. Интересная особенность вашего случая, пожалуй даже решающая особенность, именно в том, что и вам захотелось приписать свою болезнь кому-то другому. Я назвал вашей жене специалиста в Лондоне, который, я полагаю, сумеет вам помочь. А пока могу посоветовать вам побольше двигаться, вечером легкая пища…
Джон в ужасе заковылял к Форту Доброй Надежды. Безопасность оказалась необеспеченной, операцию следует отменить, инициатива утрачена… в голову лезли формулировки из учебника по тактике, но дело приняло такой неожиданный оборот, что Джона просто оглушило. Безмерный животный страх шевельнулся в нем и был поспешно придушен.
Когда он вернулся, Элизабет накрывала к ужину. Джон стоял на балконе, с горьким разочарованием глядя на пролом в балконной решетке. Вечер выдался совсем тихий. Был час прилива, и море неслышно колыхалось среди камней далеко внизу, вздымалось и вновь опадало. Джон постоял, посмотрел вниз, потом повернулся и вошел в комнату.
В бутылке оставалась последняя солидная порция виски. Джон налил стакан и залпом выпил. Элизабет внесла ужин, сели за стол. На душе у него понемногу становилось спокойнее. Ели они, как обычно, молча. Наконец он спросил:
— Элизабет, почему ты сказала доктору, что я хожу во сне?
Она спокойно поставила тарелку, которую держала в руках, и с любопытством на него поглядела.
— Почему? — мягко сказала она. — Да потому, что я беспокоилась, разумеется. Я не думала, что ты это знаешь.
— Я в самом деле ходил?
— Ну да, несколько раз… и в Лондоне, и здесь. Я сначала думала, это неважно, а позавчера ночью застала тебя на балконе, около этой ужасной дыры. И уж тут испугалась. Но теперь все уладится. Доктор Маккензи назвал мне специалиста…
Вполне может быть, подумал Джон Верни, очень похоже на правду. Десять дней он день и ночь думал об этой бреши в перилах, о выломанной решетке, об острых камнях, торчащих из воды там, внизу. И вдруг он почувствовал, что надежды его рухнули, все стало тошнотворно, бессмысленно, как тогда в Италии, когда он лежал беспомощный на склоне холма с раздробленным коленом. Тогда, как и теперь, усталость была еще сильней боли.
— Кофе, милый?
Он вдруг вышел из себя.
— Нет! — Это был почти крик. — Нет, нет, нет!
— Что с тобой, милый? Успокойся. Тебе плохо? Приляг на диван у окна.
Он послушался. Он так устал, что насилу поднялся со стула.
— Ты думаешь, кофе не даст тебе уснуть, дорогой? У тебя такой вид — кажется, ты уснешь сию минуту. Вот, ложись сюда.
Он лег и, словно прилив, что, медленно поднимаясь, затопил камни внизу, под балконом, сон затопил его сознание. Он клюнул носом и вдруг очнулся.
— Может быть, открыть окно, милый? Впустить свежего воздуха?
— Элизабет, — сказал он, — у меня такое чувство, будто мне подсыпали снотворного.
Точно камни внизу, под окном, которые то погружаются в воду, то из нее выступают, то погружаются вновь, еще глубже, то едва показываются на поверхности вод, — всего лишь пятна среди слегка закипающей пены, — сознание его медленно тонет. Он приподнялся, точно ребенок, которому приснился страшный сон, — еще испуганный, еще полусонный.
— Да нет, откуда снотворное, — громко сказал он. — Я ж не притронулся к этому кофе.
— Снотворное в кофе? — мягко, будто нянька, успокаивающая капризного ребенка, переспросила Элизабет. — В кофе — снотворное? Что за нелепая мысль. Так бывает только в кино, милый.
А он уже не слышал ее. Громко всхрапывая, он крепко спал у открытого окна.
Примечания
1
Речь идет о вопросе и ответе из католического школьного катехизиса: «Каковы суть Четыре Последние Вещи, о коих всегда надлежит помнить? Четыре Последние Вещи, о коих всегда надлежит помнить, суть: смерть, страшный суд, ад и рай». — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)2
«Чистилище»
(обратно)3
Следует, пожалуй, объяснить, что в то время бывали приглашения трех сортов. Во-первых, аккуратно и без затей написанные от руки, на них значилось имя, число, месяц, час и адрес; во-вторых, те, что рассылались из Челси: «Ноэл и Обри в субботу вечером решили повеселиться. Приходите и, если можете, приносите бутылку»; и, наконец, те самые, для которых Джонни Хуп заимствовал текст из журнала «Взрыв» и «Футуристического манифеста» Маринетти. Последние представляли собой два столбца убористой печати. В левом был перечень всего, что Джонни ненавидел, в правом — всего, что он, в общем, одобрял. Для большей части вечеров, которые финансировала мисс Маус, приглашения писал Джонни Хуп — Прим. автора.
(обратно)4
Декоративные стеклянные изделия с рельефными украшениями из цветов, птиц и пр. (по имени изобретателя Рене Лалика).
(обратно)5
См. «Упадок и разрушение» — Прим. автора.
В первом романе Ивлина Во, «Упадок и разрушение» (1928), Марго Бест-Чедвинд — очень богатая вдова (как говорят злые языки, отравившая своего мужа). Она решает выйти замуж за молодого учителя своего сына, но, когда она перед самой свадьбой посылает жениха в Марсель по делам, связанным с «Южноамериканским акционерным обществом Развлечений», выясняется, что она — владелица целой сети публичных домов в Южной Америке. Молодой герой попадает в тюрьму, сама же Марго выходит сухой из воды и через некоторое время становится женой министра внутренних дел Малтраверса, получившего титул лорд Метроленд, а ее сын Питер наследует фамильный титул семьи ее первого мужа — граф Пастмастер. — Прим. перев.
(обратно)6
Сводня (франц).
(обратно)7
Акр (Сен-Жан д'Акр) — крепость в Сирии, где в 1799 году англичане нанесли поражение армии Наполеона.
(обратно)8
Замок во Франции, место победы англичан над французами в Столетней войне (1415 год).
(обратно)9
Килликрэнки — горный проход в Шотландии, где в 1689 году произошла битва между кланами шотландских горцев и полками английского короля Вильгельма.
(обратно)10
Гровнер-хаус — особняк герцогов Вестминстерских в фешенебельном районе Лондона Мэйфэре. Там находится одно из ценнейших в Англии частных собраний картин.
(обратно)11
Этот анекдот в слегка дополненном виде вошел впоследствии в сборник легенд горной Шотландии «Сказки из тумана», рекомендованный для чтения в начальной школе. Хороший пример того, чем отличается так называемый «живой» элемент фольклора от «мертвого». — Прим. автора.
(обратно)12
— Если бы молодость знала. — Если бы старость могла (франц.).
(обратно)13
Джон Весли (1703–1791) — английский священник. Вместе с другим священником, Джорджем Уайтфилдом, основал протестантскую секту методистов. Побывал в Америке, где читал проповеди индейцам. Вернувшись в Англию, разошелся во взглядах с Уайтфилдом и основал собственную секту (веслеанцев). Когда ему запретили служить в церкви, стал странствующим проповедником, обошел и объездил верхом всю Англию и приобрел многочисленных последователей, а также смертельных врагов. Оставил «Дневник» — записи о своей жизни с 1735 по 1790 год, и множество ученых трактатов, памфлетов, исторических трудов и переводов.
(обратно)14
Уильям-Август Камберленд (1721–1765) — второй сын английского короля Георга II, командовал английскими войсками в битве при Каллодене в Шотландии (1746), был известен жестокими расправами с шотландскими горцами.
(обратно)15
Английский актер Генри Ирвинг (1838–1905) прославился исполнением роли убийцы в пьесе «Колокола», сделанной по роману Эркман-Шатриана «Польский еврей».
(обратно)16
Королевский автомобильный клуб
(обратно)17
Автомобильная ассоциация
(обратно)18
Выбыл.
(обратно)19
Шекспир, «Ричард II», II, I. Перевод Н. Холодковского.
(обратно)20
Леки, Уильям Эдвард (1838–1903) — английский историк. Особенно известен его капитальный труд «История Англии в XVIII веке».
(обратно)21
Номер тысяча семьдесят восемь (франц).
(обратно)22
Вторая очередь! (франц.) — приглашение второй смены в вагон-ресторан.
(обратно)23
И я в Аркадии (лат). Родина Тристана из легенд о Тристане и Изольде.
(обратно)24
Район Оксфорда, где группировались женские колледжи.
(обратно)25
В целом (лат.)
(обратно)26
Часы на оксфордской колокольне Большой Том бьют в полночь 101 раз.
(обратно)27
Поэма Т. С Элиота (1888–1965) — американского и английского поэта Перевод А. Сергеева.
(обратно)28
Английская девушка, дочь смотрителя маяка, спасшая в 1837 году вдвоем с отцом экипаж тонувшего в скалах судна.
(обратно)29
О, северная скука! (франц.)
(обратно)30
Великолепный (итал.)
(обратно)31
Деревенский праздник (франц.)
(обратно)32
Дитя Марии (франц.)
(обратно)33
Катер (итал.)
(обратно)34
Во дворец Живо (итал.)
(обратно)35
Да, синьор Плендер (итал.)
(обратно)36
Вот мы и приехали, синьоры (итал.)
(обратно)37
Бельэтаж (итал.)
(обратно)38
Москиты (итал.)
(обратно)39
Здесь, сейчас, сейчас, синьоры (итал.)
(обратно)40
Омаров (итал.)
(обратно)41
Окороком (итал.)
(обратно)42
Свет (франц.)
(обратно)43
Ханжество (франц.)
(обратно)44
Вид вышивки (франц.)
(обратно)45
Против мира (лат.)
(обратно)46
Пикабиа, Франсис — французский художник, один из зачинателей так называемого «дадаизма».
(обратно)47
Тарарам (франц.)
(обратно)48
Щавель (франц.)
(обратно)49
Утка под прессом (франц.)
(обратно)50
Блины с черной икрой (франц.)
(обратно)51
Штаб-квартира бастующих во время Всеобщей забастовки 1926 р.
(обратно)52
Роковая женщина (франц.)
(обратно)53
Католическая служба в страстной четверг, пятницу и субботу.
(обратно)54
«Как одиноко спит город» (лат.) — первый стих из библейского «Плача Иеремии».
(обратно)55
Китайщина (франц.)
(обратно)56
«Я отпускаю тебе грехи во имя Отца» (лат.)
(обратно)57
Японский домик (франц.)
(обратно)58
Намек на то, что титулы во времена Ллойд Джорджа можно было приобрести и не вполне благовидным путем.
(обратно)59
Помни о смерти (лат.)
(обратно)60
Из стихотворения А. Теннисона «Тифон»
(обратно)61
Точная цитата из знаменитого издательского посвящения к сонетам Шекспира («господину У. X. всякого счастья и вечной жизни, обещанных ему нашим бессмертным поэтом…»). Над загадкой У. X. ломали голову многие шекспироведы. Ему посвятил новеллу О. Уайльд. Ассоциация была столь же естественной для Денниса, сколь нелепой для У. X. из Голливуда.
(обратно)62
Искаженная реплика королевы из трагедии Шекспира «Гамлет»
(обратно)63
Если фамилия Эмме напоминает о смерти («танатос» — по-гречески «смерть»), то фамилия главного похоронщика сочетает понятия жизнерадостной бодрости, комфорта и простоты обращения.
(обратно)64
Речь идет о стихотворении ирландского поэта Уильяма Йетса (1805–1939) «Озерный остров Иннисфри»: // Тогда восстану и уйду, уйду на Иннисфри, // Построен скромный там шалаш, его из прутьев я сплел, // Цветущей фасоли девять рядов, в ульях мед собери. // Жить одиноко я уйду в жужжащий пчелами дол. // Там мирный час я обрету, неспешно сочится он… // (Перевод подстрочный)
(обратно)65
Циничный перифраз стихотворения Уильяма Кори «Гераклит».
(обратно)66
Международная церковь Истинного Евангелия — секта, основанная в Лос-Анджелесе в 1918 г. проповедницей Эме С. Макферсон, применявшей в своих пышных богослужениях музыку и световые эффекты.
(обратно)67
Из стихотворения Джона Китса «Ода соловью».
(обратно)68
Уида — псевдоним английской писательницы Луизы де ла Раме (1839–1908), автора многочисленных романов из жизни высшего общества, герои которых были наделены необычной красотой и изысканностью манер.
(обратно)69
18-й сонет Шекспира. Перевод С. Маршака.
(обратно)70
Из «Принцессы» А. Теннисона.
(обратно)71
На шотландском диалекте — «Церквушка старых добрых времен».
(обратно)72
Гарри Лодер (1870–1950) — шотландский эстрадный певец и композитор, сочинитель простодушных комических песенок для мюзик-холла.
(обратно)73
Из стихотворения Эдгара По «К Елене». Перевод В. Брюсов. Имя Елена заменено Деннисом на Эме.
(обратно)74
Уильям Лод (1573–1645) — архиепископ Кентерберийский, знаменитый проповедник.
(обратно)75
Эрнест Доусон (1867–1900) — английский поэт.
(обратно)76
Начальные строки стихотворения Р. Киплинга «Сассекс».
(обратно)77
Содержит 24 таблетки наркотического и гипнотического действия (франц.).
(обратно)78
Принимать не больше двух таблеток одновременно (франц.).
(обратно)79
Строка из «Макбета» Шекспира.
(обратно)


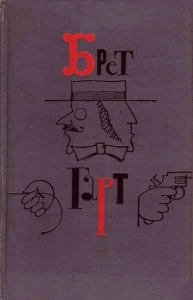
Комментарии к книге «Мерзкая плоть. Возвращение в Брайдсхед. Незабвенная. Рассказы», Ивлин Во
Всего 0 комментариев