Исаак Башевис Зингер Враги. История любви Роман
Часть первая
Глава первая
I
Герман Бродер перевернулся на бок и открыл глаза. Он уснул поздно, проснулся поздно и уже час или два ворочался в постели, находясь между явью и сном. На мгновение он оказывался в Нью-Йорке, потом где-то в Цевкуве, в послевоенных лагерях в Германии или даже на сеновале в Липске. Иногда все перемешивалось. Герман знал, что он в Бруклине, и в то же время слышал голоса нацистов, которые втыкали в сено штыки, пытаясь до него дотянуться. Из последних сил он отодвигался от стены сеновала. Острие штыка уже касалось его головы.
Полное пробуждение пришло как решение. «Все, хватит глупых снов!» — сказал он себе и сел. Было светло. Ядвига уже давно оделась. Напротив кровати висело зеркало, в котором Герман увидел себя: в мятой ночной рубашке, с длинной шеей, продолговатым лицом и остатками волос, которые когда-то были рыжими, но со временем полиняли и приобрели желтоватый оттенок с примесью седины. Череп заострялся кверху и блестел. Из-под всклокоченных бровей выглядывали голубые глаза. Они смотрели пронзительно и в то же время мягко. Нос был узким, щеки впалыми, губы тонкими.
Герман всегда просыпался помятым и обросшим щетиной, с таким выражением лица, будто он боролся всю ночь. На высоком лбу виднелся темный синяк. Он потрогал его. «Что это такое, а? — спросил он сам себя. — Может, след от штыка из сна?»
Герман улыбнулся своей догадке: он наткнулся на платяной шкаф ночью, когда выходил в уборную.
Вдруг он крикнул заспанным голосом:
— Ядвига!
У двери, ведущей в коридор, показалась Ядвига — розовощекая польская девка (на самом деле уже замужняя баба), курносая, со светлыми глазами и белыми, как лен, волосами, забранными в кичку и заколотыми шпилькой. В одной руке она держала швабру, в другой — леечку для комнатных цветов. На ней было платье из материала, которого не встретишь в здешних краях, и пара разношенных шлепанцев на босу ногу. У Ядвиги были высокие скулы и пухлая нижняя губа.
Ядвига провела год вместе с Германом в послевоенных лагерях в Германии и уже третий год жила в Америке, однако в ней сохранилась свежесть и застенчивость польской крестьянки. Она не пользовалась косметикой, а по-английски выучила всего несколько слов. Герману казалось, что она привезла с собой из Липска даже запахи. В постели от нее пахло ромашкой. Из кухни теперь доносились ароматы свеклы, молодой картошки, укропа и еще чего-то непонятного, пахнущего летом и землей и напоминающего Герману о Липске.
Минуту она смотрела на него с выражением добродушного укора, а потом проговорила:
— Поздно уже. Я постирала твои вещи и сходила в магазин. Я позавтракала, но теперь опять есть захотелось…
Ядвига говорила на просторечном польском. Герман отвечал ей как придется: на польском, на идише. Иногда в шутку вставлял в речь слова из «святого языка», а то и цитаты из Талмуда. Она, разумеется, не понимала, но все равно слушала, глядя на него с любовью и сдерживая смех.
— Который час, девка? — сказал Герман.
— О, уже скоро десять.
— Ну, буду одеваться.
— Чай подавать?
— Нет, не надо.
— Не ходи босиком, я принесу тебе шлепанцы.
— Ты еще не выбросила шлепанцы?
— Нет, я их смазала. Они совсем ссохлись.
Герман пожал плечами:
— Чем ты их смазала? Дегтем? Так и осталась крестьянкой из Липска.
— Не ходи босиком!
Ядвига вновь ушла на кухню, через какое-то время вернулась со шлепанцами и вынула из платяного шкафа купальный халат.
Хотя Ядвига была женой Германа и соседки звали ее «миссис Бродер», она все еще вела себя с ним как в те времена, когда прислуживала в доме его отца, реб Шмуэля-Лейба Бродера из Цевкува. Всю семью уничтожили, но Ядвиге удалось спрятать Германа на сеновале у себя в деревне, в Липске. Даже ее собственная мать не знала об этом тайнике.
После освобождения, в 1945 году, появился свидетель, который присутствовал при расстреле жены Германа, Тамары, и видел, как у нее забрали детей. Герман увез Ядвигу в Германию, а позже, когда получил американскую визу, заключил с ней официальный брак. Ядвига была готова принять еврейскую веру, но зачем заставлять ее следовать религии, которую Герман и сам не соблюдал? Он не ходил в синагогу, она не ходила в церковь.
Война, опасности, скитания по пути в Германию, путешествие на военном корабле в Галифакс, затем переезд на автобусах в Нью-Йорк вызвали у Ядвиги испуг, от которого она так и не смогла прийти в себя. Она по-прежнему не решалась ездить в метро в одиночку, никогда не отходила от дома дальше чем на несколько кварталов. А зачем? На Мермейд-авеню можно купить все, что надо: хлеб, овощи, фрукты, кошерное мясо (Герман не ел свинины), даже пару туфель и платье.
В те дни, когда Герман оставался дома, он иногда гулял с Ядвигой по набережной. Сколько раз он повторял, чтобы она не вцеплялась в него, что он никуда не сбежит, но Ядвига крепко держала Германа под руку. Шум и крики большого города оглушали и ослепляли ее. Соседки уговаривали Ядвигу пойти с ними на пляж купаться, но у нее остался страх перед морем. Ее тошнило от одного взгляда на поднимающиеся волны и качающиеся корабли.
Однажды Герман взял ее с собой в кафе на Брайтон-Бич, но Ядвига никак не могла привыкнуть к поездам метро, которые проносятся по линии «L» с оглушительным треском и грохотом, к машинам, с ревом мчащимся вдаль, к бесконечно стекавшимся откуда-то толпам людей. Нью-Йорк выглядел так, будто здесь постоянно шла война. Герман купил Ядвиге медальон, внутрь которого он положил записку с именем и адресом — на тот случай, если она заблудится, — но Ядвига не доверяла написанному.
Для Германа эти отношения были своего рода ответной благодарностью. Почти три года его жизнь зависела от Ядвиги. Она приносила ему на чердак еду, воду, выносила горшок. Каждый раз, когда ее сестра Марьяна собиралась залезть по лестнице на чердак, Ядвига приходила предупредить Германа, чтобы тот спрятался поглубже в яму, которую сам для себя вырыл в сене. Летом, когда заготавливали свежее сено, она прятала Германа в погребе для картошки или в другом укрытии. Ядвига подвергала опасности себя, мать и сестру. Если бы немцы узнали, что их семья прячет еврея, их бы всех расстреляли и, может быть, даже сожгли деревню.
Теперь Ядвига жила в многоэтажном доме. Вместо сеновала у нее были целых две царских комнаты с кухней, коридором, холодильником, газовой плитой, ванной, электричеством и даже телефоном, по которому Герман говорил с ней в те дни, когда ездил торговать книгами. Герман находился далеко, в других городах, но Ядвига слышала его голос в трубке, как будто он был совсем рядом. Иногда, в хорошем настроении, он пел по телефону ее любимую песенку:
Будет у нас сынок, Господи помоги! Где его качать? Господи помоги! Под окном корыто Стоит разбито. В нем укачаем: Баю-бай. Будет у нас сынок, Господи, помоги! Во что его завернем? Господи, помоги! В твой фартук, В мой галстук, Сыночка завернем, От холода сбережем.Песня оставалась только песней. Герман следил, чтобы Ядвига не забеременела. Он утверждал, что в мире, где маленьких детей отбирают у родителей и расстреливают, нельзя оставлять потомство. Квартира, которую он приобрел для Ядвиги, была похожа на заколдованный дворец из сказок, которые в деревне рассказывали бабки, когда пряли лен или щипали пух. Нажмешь кнопку на стене — загораются лампы. Из кранов течет холодная и горячая вода. Повернешь ручку — загорается огонь, на котором можно варить, жарить и печь. Здесь была ванная, где можно каждый день мыться и быть чистым, навсегда забыв о вшах и блохах. Ну а радио! Герман настроил его на волну, где по вечерам можно было слушать польскую речь, польские песни, мазурки, польки и даже проповедь священника или новости из Польши, попавшей под власть большевиков.
Ядвига не умела ни читать, ни писать, и Герман часто писал за нее письма маме и сестре. Потом приходил ответ, который Герман читал ей вслух. Иногда Марьяна вкладывала в письмо зернышко, яблоневую веточку с листком или василек, и они приносили в далекую Америку родные запахи Липска.
Так здесь, в далекой стране, Герман стал Ядвиге мужем, братом, отцом и богом. Он вызывал в ней восхищение и любовь еще тогда, когда Ядвига прислуживала в доме его отца в Цевкуве. Но, лишь отправившись с ним в чужие страны, она смогла по-настоящему оценить его ум, доброту и практичность. Он уезжал и возвращался, ездил на поездах и автобусах, читал книги и газеты, зарабатывал деньги. Если Ядвиге требовалось что-то по хозяйству, стоило лишь попросить, и он все приносил сам или заказывал на дом через посыльного, а Ядвига подписывалась тремя кружочками.
Однажды, седьмого мая, в день ее рождения, Герман принес клетку с двумя птичками, которых здесь называли «попугаи», — желтым самцом и голубой самочкой. Ядвига дала им имена: самцу — Войтуш, в честь своего добросердечного отца, самочке — Марьяша, в честь сестры. С матерью у Ядвиги были плохие отношения. Та второй раз вышла замуж, отчим бил пасынков. Из-за него Ядвига была вынуждена оставить родной дом и пойти прислуживать к евреям. Позже отчим исчез, и больше о нем никто не слышал.
Если бы Герман всегда был дома или хотя бы каждый день приходил ночевать, Ядвига считала бы себя счастливой. Но он часто уезжал торговать книгами, потому что зарабатывал этим на жизнь. Во время его отъездов Ядвига закрывала дверь на цепочку, потому что боялась воров и пожилых соседок, которые приходили поболтать с ней на смеси русского, английского и идиша и разузнать, откуда она приехала и чем занимается ее муж. Герман предупредил Ядвигу, чтобы она рассказывала как можно меньше. Он научил ее отвечать по-английски:
— Excuse me[1], у меня нет времени, я занята…
II
Герман брился, пока ванна наполнялась водой. Его борода отрастала невероятно быстро. За ночь лицо становилось колючим, как терка. Он стоял перед зеркалом в ванной, на аптечном шкафчике, щуплый, ростом немного выше среднего, с плоской грудью, покрытой порослью, похожей на войлок, торчащий из старых диванов или кресел. Он ел, не ограничивая себя, но оставался худым: ребра торчали, между шеей и плечами темнели глубокие ключичные впадины. Кадык ходил вверх-вниз словно сам по себе. Герман выглядел усталым.
Стоя перед зеркалом, он предавался фантазиям: нацисты снова пришли к власти и захватили Нью-Йорк. Он, Герман, прячется здесь, в ванной. Ядвига наглухо закрыла и заклеила обоями дверь, чтобы она казалась частью стены. Где тут можно сидеть? Вот здесь, на крышке унитаза. Спать можно в ванне. Нет, она слишком коротка. Герман принялся рассматривать кафельный пол в поисках места, где бы он мог вытянуться, но вскоре понял, что, даже если улечься косо, по диагонали, придется сгибать колени. Ну, по крайней мере, тут есть свет и свежий воздух: в ванной было окошко, выходившее во двор.
Затем Герман прикинул, сколько еды будет приносить ему Ядвига каждый день. Чтобы выжить, достаточно двух-трех картофелин, краюхи хлеба, куска сыра и ложки масла, иногда таблетки с витаминами. Это обошлось бы ей не больше доллара в неделю, в крайнем случае — полтора. У Германа были бы книги и бумага для письма. По сравнению с сеновалом в Липске он бы роскошно устроился. При себе держал бы заряженный револьвер или лучше пулемет. Если нацисты обнаружат его укрытие и придут его арестовывать, он угостит их пулеметной очередью…
Герман не заметил, как ванна наполнилась до краев. В ванной комнате клубился пар. Герман быстро закрутил краны. Эти сны наяву превращались в навязчивые идеи, от которых было трудно избавиться.
Как только он забрался в ванну, Ядвига открыла дверь и сказала:
— Вот мыло.
— У меня еще есть.
— Душистое мыло. На, понюхай. Три куска за десятку.
Ядвига сама понюхала мыло, а потом отдала его Герману. Ее руки остались по-крестьянски шершавыми. В Липске она годами выполняла мужскую работу: сеяла, жала и молотила зерно, сажала картошку, пилила и колола дрова. Местные женщины, соседки в Бруклине, давали ей разные кремы для смягчения кожи, но руки так и остались по-мужски жесткими. Кроме рук, все тело Ядвиги было женственным и гладким: полные белые груди, округлые бедра. Ноги стройные, а икры мускулистые и твердые как камень.
С самого рассвета и до вечера, когда пора было ложиться спать, Ядвига не присаживалась ни на минуту. Она всегда находила себе занятие. Хотя квартира была недалеко от моря, через открытые окна налетало много пыли, и Ядвига целый день убирала, мыла, терла и драила. Герман помнил, как его мама хвалила Ядвигу за усердие. Сейчас Ядвиге было тридцать три года, но она выглядела моложе своего возраста.
— Давай я тебя намылю, — сказала она.
По правде говоря, Герману хотелось побыть одному. Он еще не до конца продумал все детали своей защиты от нацистов здесь, в Бруклине…
Например, нельзя оставлять вот так окно во двор, его нужно загородить или замаскировать, чтобы немцы не догадались. Но как?
В это время Ядвига принялась намыливать ему спину, плечи и бедра. Герман не удовлетворил ее естественное желание иметь детей и сам занял место ребенка в ее жизни. Ей хотелось баловать Германа, играть с ним, кормить. Он прекрасно знал об этом. Каждый раз, когда он уезжал из дома, Ядвиге казалось, что он больше не вернется, заблудившись в огромном Нью-Йорке, в бурлящей Америке. Каждое его возращение она воспринимала как чудо. Сегодня он якобы должен был ехать в Филадельфию, где останется на ночь, а может, на две. Да, но он хотя бы позавтракает с ней?
Из кухни доносился аромат кофе. Ядвига сама научилась печь для него рогалики, усыпанные маком, такие когда-то продавали в Цевкуве. Она потчевала его разными деликатесами и готовила домашние блюда из Липска: суп с клецками, борщ с кнейдлах[2], перловку с молоком, кашу с бульоном. Каждый день она подавала ему свежевыглаженную рубашку, нижнее белье и носки. Она хотела сделать для него так много, а ему нужно было так мало. Герман проводил больше времени в дороге, чем дома, а Ядвига мучилась от неизрасходованной энергии, от неутоленного желания пообщаться, поговорить с ним.
— Во сколько поезд? — спросила она.
— Что? В два.
— А вчера ты сказал, в три.
— В два с чем-то.
— А где этот город, куда ты едешь?
— Филадельфия? В Америке. Где же еще?
— Далеко?
— В Липске сказали бы — далеко, а здесь — пару часов на поезде.
— Откуда ты знаешь, что там нужны книги?
Герман задумался на минуту.
— Я не знаю. Я ищу покупателей.
— Почему ты не торгуешь книгами здесь? Здесь же так много людей.
— Где, на Кони-Айленд? Сюда приезжают есть попкорн, а не книги читать.
— А о чем книги?
— О, обо всем: как строить мосты, прокладывать дороги, руководить страной. Есть песенники, сборники сказок, театральные пьесы, биография Гитлера…
Ядвига приняла серьезный вид:
— Об этой свинье пишут в книгах?
— В них пишут о разных свиньях.
— М-да…
Ядвига пошла на кухню. Она почувствовала, что Герман смотрит ей вслед. Вскоре он пошел за ней.
Ядвига открыла дверцу клетки и выпустила попугаев на свободу. Желтый Войтуш тут же уселся Герману на плечо. Он любил щипать его за мочку уха и клевать крошки с губ и с кончика языка.
Ядвига каждый раз удивлялась тому, насколько купание и бритье омолаживали Германа, придавали ему свежий и довольный вид.
Она принесла горячие булочки с маком, черный хлеб, омлет и кофе со сливками. Ядвига старалась, чтобы Герман поправился после всех испытаний, через которые ему пришлось пройти в Польше, а потом и в Германии. Но он ел кое-как: откусит от булочки и отложит, попробует омлет и отставит в сторону. Конечно же, его желудок ссохся во время войны, но Ядвига помнила, что он всегда был малоежкой. Его мама, Ядвигина хозяйка, сердилась на него из-за этого всякий раз, когда он приезжал в гости из Варшавы, где учился в университете.
Ядвига с сожалением покачала головой: как можно получать удовольствие от еды, читая газету? Он хватался то за еврейскую газету, то за английскую. Читал и морщился. У него полный шкаф книг. Все ящики набиты бумагами. Глотает, не прожевывая. До двух часов еще долго, а он все поглядывает на настенные часы. Вместо того чтобы нормально сидеть на стуле, сидит на краешке, словно собираясь вскочить в любой момент.
Иногда его лицо становится печальным и бледным, глаза смотрят куда-то вдаль, сквозь стену. Потом он отбрасывает тягостные мысли и снова приободряется.
— Сегодня я буду ужинать уже в Филадельфии, — сказал Герман.
— С кем ты будешь ужинать? Один?
Он перешел на идиш:
— Один. С царицей Савской! Из меня такой же торговец книгами, как из тебя — жена раввина. Если бы не рабби, пройдоха, мы давно бы положили зубы на полку. Он набит деньгами и мне подбрасывает копейку. И еще эта из Бронкса — сфинкс какой-то. Как я еще с вами не свихнулся, диву даюсь! Пиф-паф…
— Говори так, чтоб я понимала!
— Что тебе понимать? Йойсеф даас йойсеф мехойв.[3] Истину мы оба познаем уже не здесь, а на том свете. При условии, что после смерти есть жизнь. А если нет, придется обойтись без истины…
— Еще кофе?
— Да, еще кофе.
— А что пишут в газете?
— Заключили временное перемирие, но ненадолго. Скоро снова подерутся, скоты безмозглые. Тут уж никаких сомнений.
— Где подерутся?
— В Корее, в Китае… чёрт-те где. Им нужны кровопролития и страдания. Без этого никак.
— По радио сказали, что Гитлер жив.
— Все может быть. Даже если один Гитлер умер, найдутся миллионы готовых занять его место. Мир полон гитлеров…
Ядвига немного помолчала, а потом, облокотившись на швабру, заговорила снова:
— Наша соседка — та, седая, с первого этажа, — сказала, что на заводе можно зарабатывать по двадцать пять долларов в неделю.
— Что, хочешь пойти работать?
— Тоскливо дома одной. А заводы далеко. Были бы близко, я бы пошла.
— В Нью-Йорке ничего не бывает близко. Научись ездить на метро, иначе будешь сидеть как привязанная.
— Я не знаю английского.
— Есть курсы. Если хочешь, я тебя запишу.
— Старуха сказала, что в школу не берут, если не знаешь алфавит.
— Я тебя научу.
— Когда? Тебя никогда нет дома…
Герман знал, что она права. Кроме того, очень сложно начинать учиться грамоте в ее годы. Он заметил, что, даже прежде чем взять ручку и подписаться тремя кружочками или крестиками, Ядвига начинает смущаться, краснеет, дрожит и потеет. Ее язык, губы и глотка не могут произнести ни одного английского слова, даже самого простого. Обычно Герман понимал ее просторечный польский, но иногда ночью, охваченная сексуальным возбуждением, Ядвига принималась болтать с таким деревенским выговором, которого Герман совсем не разбирал. Она произносила слова и выражения, которых он никогда не слышал.
Герману казалось, что из ее славянской глотки вырываются звуки давно вымерших земледельческих племен, живших, наверное, в дохристианские времена. Он, Герман, уже давно убедился в том, что человеческий разум содержит в себе намного больше, чем можно познать в течение одной жизни. Гены хранят информацию из других эпох. Похоже, что даже Войтуш и Марьяша говорят на языке, созданном поколениями попугаев. Они явно беседовали или читали мысли друг друга, потому что каждый раз взлетали одинаково: в одну и ту же секунду и в одном направлении. У животных и даже у людей есть инстинкты, еще неизвестные биологам и физиологам. Никакая психология не способна объяснить поведение народов, сообществ и индивидов.
Сам он, Герман Бродер, был для себя загадкой. Он мог ввязаться в безумную авантюру, им владели страхи, в которых он никогда не решился бы признаться. В нем бродили страсти, которые ни Фрейд, ни Юнг, ни Адлер[4] не сумели бы объяснить. Как, допустим, можно охарактеризовать Германа, судя по его выходкам? Психопат, шарлатан, преступник и лицемер в придачу. Ему нельзя писать проповеди для рабби Лемперта, в них каждое предложение — насмешка, издевка…
Герман подошел к окну и посмотрел на улицу. В нескольких кварталах отсюда шумело море. С набережной и Серф-авеню доносились отголоски летнего утра на Кони-Айленд. А здесь, в проулке между Мермейд-авеню и Нептун-авеню, все было тихо. Дул легкий ветерок, в густых кронах деревьев щебетали птицы. С залива доносились запахи пива, гари, моря и рыбы, смрад разложения и смерти, рождения и битвы — древние мрачные ароматы, которым нет названия. Высунув голову, Герман увидел разрушенные корабли, оставленные здесь неизвестно когда и медленно разваливающиеся на части. Их липкие палубы обросли раковинами моллюсков, живых, но погружающих корабль все глубже в смертельное оцепенение.
Герман услышал укоризненный голос Ядвиги:
— Кофе остынет. Возвращайся к столу!
III
Герман вышел, закрыл за собой дверь и спустился по лестнице. Небольшое промедление, и Ядвига позвала бы его обратно. Каждый раз, когда он уходил из дома, она прощалась с ним так, будто Америку захватили нацисты и ему угрожает опасность. Ядвига прижималась своей горячей щекой к его щеке и обливалась слезами. Она кричала ему вслед, чтобы он остерегался автомобилей, не забывал обедать и звонил ей по телефону. Она прижималась к нему со страхом и преданностью собаки. Герман часто дразнил ее, придумывал прозвища, но никогда не забывал того, как она ухаживала за ним изо дня в день в течение почти трех лет. Ядвига действительно каждую минуту рисковала собственной жизнью и жизнью своей семьи. За ее крестьянской неотесанностью скрывались чуткость, искренность и верность. И насколько он, Герман, запутался и заврался, настолько она была честной и прямодушной.
И все же Герман не мог постоянно оставаться с Ядвигой. Рабби Лемперт снял для него кабинет с хорошей библиотекой и загрузил работой. Рабби писал в американские и израильские еврейские газеты, выходившие на иврите, печатался в английских и американских еврейских журналах. Он подписывал контракты с издателями и выпускал книги. Его приглашали читать лекции в разных учреждениях, даже в университете. У рабби Лемперта не было ни времени, ни терпения заниматься наукой или писать. Он заработал состояние на торговле недвижимостью. Ему принадлежали полдюжины санаториев, он построил доходные дома в Боро-Парке и Вильямсбурге[5] и состоял акционером в компании с миллионными проектами.
Этот рабби Лемперт походил на персонаж из голливудского фильма: у него была пожилая секретарша миссис Ригель, от которой он не мог избавиться, потому что она наверняка слишком много знала. Он успел разойтись с женой, но теперь снова жил с ней. Его сын женился на ирландке, а дочь мечтала стать актрисой.
Герман проводил для рабби Лемперта «исследования», как тот их называл. На самом деле он просто писал за него книги и статьи в еврейские журналы и составлял речи. Герман писал на иврите или на идише, кто-то другой переводил все это на английский, третий редактировал, четвертый занимался рекламой. Рабби зарабатывал большие деньги, но его расходы часто превосходили доходы, по крайней мере, так он отчитывался в налоговой декларации. Он ложился спать в два часа ночи и вставал в семь утра, ел килограммовые бифштексы, курил гаванские сигары, пил шампанское и жертвовал деньги на разные благотворительные цели. У него было невероятно высокое давление, и доктора предупреждали его об угрозе инфаркта, но и в шестьдесят четыре года энергии у него было хоть отбавляй. Не зря его прозвали «энергичный раввин».
Работая на рабби Лемперта, Герман узнал все его достоинства и недостатки. Рабби Лемперт был одновременно толстокожим, добродушным, сентиментальным, хитрым, грубым и наивным. С детских лет он помнил наизусть малоизвестные мидраши и отрывки из Гемары, но мог ошибиться, цитируя Пятикнижие. Он грешил и каялся, искал признания, обладая при этом врожденным властолюбием Амана[6]. У рабби был огромный живот. Он был метр восемьдесят ростом и весил под сто килограммов.
Рабби Лемперт изображал из себя донжуана, но Герман быстро понял, что рабби не везло с женским полом. Он все еще искал настоящую любовь и часто выставлял себя на посмешище из-за этих нелепых поисков. Дошло до того, что однажды ревнивый муж побил рабби в отеле в Атлантик-Сити…
Кабинет Германа находился в здании на Двадцать Третьей улице, недалеко от Четвертой авеню.
Герман с Ядвигой жили в старом доме, где обосновались семейные пары пенсионеров, нуждавшихся в свежем воздухе для поправки здоровья. Они ходили в синагогу и читали газеты на идише. В жаркие дни соседи выносили на улицу табуретки и складные стульчики и беседовали о старой родине, об американских детях и внуках, о крахе на Уолл-стрит в двадцать девятом году, о пользе бани, витаминов и минеральной воды из источников в Саратога-Спрингс.
Герману часто хотелось поближе познакомиться с этими евреями и их женами, но приходилось обходить их стороной во избежание ненужных сложностей. Поэтому он с молодецкой удалью преодолел шатающиеся ступеньки и быстро свернул направо, прежде чем кто-нибудь успел его остановить.
До метро на Стилвелл-авеню Герман мог дойти по Мермейд-авеню, Нептун-авеню, Серф-авеню или по набережной. В каждой из этих дорог была своя прелесть. На сей раз он выбрал Мермейд-авеню. В этой улице был какой-то восточноевропейский уют: на стенах еще висели прошлогодние объявления о выступлениях канторов и раввинов в Дни трепета[7]. Из ресторанов и кофеен доносились запахи бульона, каши, рубленой печенки, хрена и чеснока. В пекарнях продавали бабки и яичные бисквиты, штрудели и пирожки с луком. На уличных прилавках женщины вытаскивали из банок соленые огурцы.
Запахи переносили Германа обратно в Цевкув, Варшаву, Краков. То повеет медовым бисквитом, то селедочным рассолом, то кислой капустой или свежевыпеченными бубликами. Герман никогда не отличался большим аппетитом, но недостаток еды в годы войны приучил его всякий раз чувствовать голод при виде продовольствия. Солнце освещало корзины и ящики с апельсинами, бананами, вишней, клубникой и помидорами. Чего здесь только нет! В сезон сюда привозили черную смородину и сливу, которая созревает обычно только в августе.
Отец небесный, здесь евреи могут жить свободно! На проспекте и в боковых улицах можно было увидеть синагоги, еврейские школы, даже школу с преподаванием на идише. Шагая по улице, Герман высматривал места, где можно спрятаться от нацистов. Где бы тут соорудить укрытие? А если спрятаться на колокольне костела? Он никогда не был партизаном, но теперь часто искал позиции, удобные для обстрела нацистского патруля…
На Стилвелл-авеню Герман снова повернул направо. Его овеяло зноем и сладковатым запахом Кони-Айленда. Оттуда неслись крики зазывал, приглашающих в паноптикумы и цирки, где показывают женщин без головы, девушек-русалок, богатырей, разрывающих оковы, всевозможных чудовищ, летучих мышей и драконов. Там было все на свете: астрологи, составляющие гороскопы, лавки с хот-догами, стойки с прохладительными напитками, пиццерии, лотереи, карусели, тиры, пасторы-миссионеры и экстрасенсы, вызывающие души умерших за пятьдесят центов.
У входа в метро итальянец с выпученными глазами бил длинным ножом по железной штанге, повторяя много раз одно и то же слово голосом, который вырывался из самого чрева и перекрывал общий гомон. Он продавал сахарную вату и мягкое мороженое, которое таяло, как только оказывалось в стаканчике.
Вдали, по другую сторону набережной, блестел и серебрился океан, полный прыгающих, купающихся и плавающих тел. Все вокруг было дешевым и суетным, но в то же время красочным, полным сытости, роскоши и свободы, которую способны оценить только те, кому знаком вкус рабства.
Вскоре Герман спустился в метро. Из поездов выходили толпы пассажиров, среди них было много молодежи. Герман нигде не встречал таких диких выражений на лицах, как здесь. Но вероятно, это была дикость иного рода, нежели в Европе. Молодыми людьми владело не желание причинить боль другому, а просто страсть к удовольствиям. Они бегали, орали, как сумасшедшие, толкались и скакали, как козлы. У большинства были темные глаза, низкие лбы, черные вьющиеся волосы. Метро кишело итальянцами, греками, пуэрториканцами. Юные девушки с высокой грудью смеялись, жевали жвачку, пили кока-колу из бутылок, они несли с собой сумки с едой, подстилки для пляжа, крем от загара и солнечные зонтики.
Как и Герман, все они были одолеваемы повседневными заботами и иллюзиями этого мира.
Герман поднялся по лестнице к платформе линии «L», и тут же подошел поезд. Из вагона ударила жара, как из печки. Гудели вентиляторы, устройство для открывания и закрывания дверей жалобно скрипело. Яркий свет ламп слепил глаза. На кирпично-красном полу валялись газеты, ореховая скорлупа, белели пятна от выплюнутой жевательной резинки. Полуголые черные мальчишки чистили ботинки сидящим пассажирам, склоняясь к их ногам, как служители древнего языческого культа.
На скамейке лежала оставленная кем-то еврейская газета. Герман стал просматривать заголовки: Сталин сказал в интервью, что коммунизм и капитализм способны к мирному сосуществованию[8]; в Китае произошли бои между красными и войсками Чан Кайши. На внутренних полосах газеты беженцы описывали ужасы Майданека, Треблинки и Освенцима. Беженец свидетельствовал о десяти тысячах польских офицеров, расстрелянных большевиками в лесу[9]. Бывший коммунист сообщал о трудовых лагерях на севере России, где раввины, социалисты, либералы, священники, сионисты и троцкисты из последних сил добывали золото и умирали от голода, холода и авитаминоза.
Герман, казалось бы, уже привык к этим ужасам. С 1939 года[10] он постоянно слышал об убийствах и, несмотря на это, каждый раз вновь содрогался от страха. Статья на первой полосе заканчивалась заверением о том, что будет создана система, основанная на равенстве и справедливости, которая исцелит больной мир[11].
«Вот ведь как? Им бы всё мир лечить», — пробормотал Герман и отшвырнул газету. Разговор о лучшем мире и светлом будущем казался ему насмешкой и оскорблением праха мучеников. Его трясло каждый раз от слов о том, что жертвы погибли не напрасно. Дети, прятавшиеся в дырах отхожих мест от немецких облав, не должны были расплачиваться за будущее счастье. «А мне что делать? — спрашивал сам себя Герман. — Приходится молчать, молчать… Люди, которые так считают, — обезумевшие убийцы… Ну, а я что? Есть и моя доля в общем зле».
Герман открыл рюкзак, достал рукопись, стал читать и делать пометки. Его работа так же никчемна и нелепа, как и все, что с ним происходит. Он превратился в писателя-призрака при рабби. Из всех нелепых заработков, которые когда-либо находили люди, ему, Герману, достался самый нелепый… Он писал о вещах, в которые не верил. И тоже сулил лучший мир и светлое будущее — в раю…
Герман с детских лет размышлял о религии и философии, он проштудировал все философские труды из книжного шкафа своего отца. Он уехал из дома и скитался по вокзалам и меблированным комнатам с клопами, чтобы иметь возможность слушать лекции по философии в Краковском университете и в Институте «Вшехница польска»[12] в Варшаве. Он поссорился с родителями, женился против их воли, и все это во имя культуры, науки, гуманизма — как это только не называли. От всех этих занятий у него не осталось ничего, кроме пустых слов и выхолощенного красноречия. Лучше бы он пошел учиться точным наукам или какой-нибудь профессии!
Он читал рукопись и морщился. Он, Герман, обходился с Богом, как Терах[13] с идолами. Герман находил для себя лишь одно оправдание: те, кто слушают проповеди рабби или читают его статьи, тоже кривят душой. Все современное еврейство — это одна большая система всеобщего обмана.
Двери вагона открывались и закрывались, пассажиры входили и выходили. Герман каждый раз поднимал глаза. Нацисты бродили по Нью-Йорку. Американские консульства в Германии выдали им визы. Союзники только что объявили об амнистии восьмисот тысяч «мелких нацистов». Все обещания судить убийц были обманом с самого начала. Кто будет судить и кого? Вся их судебная система лжива. Если нет сил покончить с собой, надо закрыть глаза, заткнуть уши, замкнуть разум и жить как муха, как червь, как микроб…
IV
По такому принципу Герман и жил, не имея ни планов, ни цели. Он содержал Ядвигу и убедил ее в том, что ездит по Америке и торгует книгами. Она бы поверила во что угодно, любым небылицам. Маше, напротив, он сказал правду о том, что не может развестись с Ядвигой. Если бы не Ядвига, быть ему сейчас горсткой пепла. Герман потерял всё за годы войны с Гитлером, но пасть так низко — платить злом за добро — он не мог.
Маша как будто смирилась с ситуацией и все же постоянно грозилась уйти от него. И дня не проходило без упреков, при встречах или по телефону. В перерывах между ссорами они целовались, обнимались, говорили о любви и строили планы на будущее. В те дни, когда он якобы ездил торговать книгами, он ночевал у Маши. У Германа была комната в ее квартире. Обе, Ядвига и Маша, могли прожить на копейки. Ядвига была родом из деревни, а Маша провела несколько лет в гетто и концлагере. У нее на предплечье была татуировка с номером. Теперь она работала кассиршей в кафетерии на Тремонт-авеню в Бронксе.
Все настолько переплелось, что потерялись логические связи между характерами людей, их жизненным опытом, происхождением и событиями жизни. Машин отец, Меер Блох, был сыном богача. Его отец, реб Мендл Блох, владел домами в Варшаве и сидел за одним столом[14] с Александровским ребе[15]. Меер стал носить «немецкое» платье[16], пописывать на иврите и занялся меценатством. Он бежал из Варшавы до того, как нацисты захватили город, и умер в Казахстане от голода и дизентерии.
Когда началась война, Машина мама, Шифра-Пуа, гостила у сестры в Берлине и не успела вернуться в Варшаву. Маша поступила в школу Бейс-Янкев[17] по воле своей религиозной матери, позднее она перешла в гимназию с преподаванием на иврите и на польском. Мама попала в одно гетто, а дочь — в другое. Они встретились только в Люблине после освобождения, в 45-м году.
Хотя Герман сам пережил войну, он никак не мог понять, как им обеим удалось спастись. Он просидел больше двух лет на сеновале. В его жизни образовалась пустота, которую ему так и не удалось заполнить. В то лето, когда нацисты напали на Польшу, он приехал в гости к родителям в Цевкув, а его жена Тамара уехала с обоими детьми к своим родителям на курорт, в Наленчув, где у ее отца был дом. Сначала Герман прятался в Цевкуве, потом у Ядвиги в Липске.
Герман не прошел ни через принудительные работы в гетто, ни через концлагеря. Он слышал крики нацистов, их стрельбу, но странным образом ему не довелось взглянуть на их лица. Годы войны остались в его памяти одним черным пятном. Неделями он не видел дневного света. Его глаза отвыкли смотреть, руки отнялись от безделья, ноги потеряли способность ходить. Герман часто мысленно сравнивал себя с мудрецом из Талмуда Хони Амеагелем[18], которому после семидесятилетнего сна мир показался таким чуждым, что он вымолил себе смерть.
С госпожой Блох и с Машей Герман познакомился в Германии. Маша была уже замужем за доктором Леоном Торчинером, который не то открыл какой-то гормон или витамин, не то участвовал в его исследовании. Он выдавал себя за ученого, но проводил дни и ночи напролет за игрой в карты с бандой контрабандистов. Леон говорил на вычурном польском и любил упоминать университеты и профессоров, с которыми сотрудничал. Он жил на деньги «Джойнта»[19] и на Машин скудный доход, который она получала, латая и перешивая одежду, — Маша закончила курсы кройки и шитья.
Маша, Шифра-Пуа и Леон Торчинер уехали в Америку раньше Германа. К тому времени, когда в Нью-Йорке он снова встретился с Машей, она уже разошлась с Леоном Торчинером, который не открывал никаких гормонов и витаминов и даже не был доктором. По Машиным рассказам, он вскоре стал жиголо, альфонсом у одной пожилой особы, вдовы богатого торговца недвижимостью. Еще в Германии Герман и Маша поняли, что полюбили друг друга. Оба они надеялись на встречу здесь, в Нью-Йорке…
Теперь Герману надо было пересесть на станции Юнион-сквер и доехать до Двадцать Третьей улицы. Он проехал свою остановку и оказался на Тридцать Четвертой улице. Перейдя по лестнице на другую сторону платформы, он сел в поезд, идущий в Даунтаун. Задумавшись, он снова не вышел вовремя и проехал до Канал-стрит.
Путаница с линиями метро, перекладывание вещей с одного места на другое, плутание по улицам, привычка забывать о заказах, терять рукописи, книги и записные книжки — все это висело над Германом как проклятие. Он часто шарил по карманам. У него пропадали то перьевая ручка, то темные очки. Исчезала адресная книжка, забывался номер собственного телефона. Он покупал зонтик и тут же где-то оставлял его. Надевал пару калош, и они словно куда-то испарялись. Герман иногда подозревал, что домовые и злые духи подтрунивают над ним.
Наконец-то он доплелся до офиса, находившегося в одном из домов рабби Лемперта. Как только Герман переступил порог, зазвонил телефон. Герман поднял трубку, и рабби тут же принялся кричать на него тяжелым басом:
— Где вас черти носят? Вы должны были с утра быть здесь! Где моя речь для Атлантик-Сити? Вы забываете, что мне надо успеть ее просмотреть и все прочее. И зачем вы вообще поселились в квартире без телефона? Сколько раз я вам предлагал платить за ваш телефон. Если человек работает на меня, я должен иметь возможность ему позвонить, чтоб он не прятался в нору, как мышь. О, вы так и остались новичком! Тут вам Нью-Йорк, а не Цевкув. Америка — свободная страна, здесь не надо ни от кого прятаться. Вы же не фальшивомонетчик или черт знает кто! Говорю вам сегодня в последний раз: поставьте у себя дома телефон или нашему сотрудничеству конец. Я скоро приеду. Мне надо с вами поговорить. Ждите!
Рабби Лемперт повесил трубку. Герман принялся быстро писать мелким почерком. «Что теперь делать? — бормотал он. — Будет конфуз!» Когда Герман познакомился с рабби, он не признался ему в том, что живет с польской крестьянкой. Он рассказал, что он холостяк и снимает комнату у своего земляка, бедного портного, у которого нет телефона. Телефон в квартире Германа в Бруклине был зарегистрирован не на его имя, а на имя Ядвиги Прач.
Сколько раз рабби Лемперт выказывал желание посетить комнату Германа у бедняги-земляка! Он с удовольствием заехал бы на своем «кадиллаке» в бедный район, чтобы произвести впечатление своим обликом и дорогим костюмом. Рабби любил совершать благодеяния: находить работу тому, кто в ней нуждался, писать рекомендательные письма в благотворительные учреждения. Но Герман всякий раз отговаривал его от визита, объясняя, что его земляк не любит гостей, что он не просто стеснителен, но повредился умом в лагерях и может оскорбить пришедшего, даже не пустить его на порог. Герман совсем отбил у раввина охоту приехать в гости, когда мимоходом упомянул, будто жена земляка прихрамывает, и у семейной пары нет детей. Раввину нравились семьи, в которых были дочери. Больные старики вызывали у него неприязнь.
Рабби часто говорил, что Герману пора съезжать с этой квартиры. Он пытался найти Герману невесту и предложил ему квартиру в одном из своих домов. На это Герман отвечал, что этот земляк спас ему жизнь в Цевкуве и что он нуждается в тех нескольких долларах, которые Герман платит ему за комнату. Одна ложь влекла за собой другую. Рабби произносил речи и писал статьи, направленные против смешанных браков. Герман не раз затрагивал эту тему в своих текстах для него. Он и сам был противником ассимиляции и смешения с врагами Израиля…
«Как же это можно объяснить? — подумал Герман и пробормотал: — Лев йодеа морас нафшой…[20]». Он, Герман, согрешил против всех и вся: против еврейства, американского закона, общепринятой морали. Он подло обманывал и Ядвигу, и Машу. Но он не мог иначе. Ядвига при всей своей доброте ему наскучила. Когда он разговаривал с ней, ему казалось, что он говорит сам с собой. С другой стороны, Маша была такой своенравной, упрямой и нервной, что он не мог рассказать ей правду. Он убедил Машу в том, что Ядвига фригидна, и дал клятвенное обещание бросить Ядвигу, если Маша получит развод от Леона Торчинера…
Герман услышал тяжелые шаги, и в двери появился рабби Лемперт. Высокий, широкоплечий великан с красным лицом, пухлыми губами, крючковатым носом и черными, как уголь, глазами навыкате, он с трудом протиснулся в узкий проем двери. На нем были светлый костюм, желтые ботинки, расшитый золотом галстук с булавкой, украшенной жемчужиной. Изо рта торчала длинная сигара. Из-под панамы, украшенной яркой лентой, виднелась черная с проседью шевелюра. Что-то дикое и необузданное было во всем его облике. Каждый раз, глядя на него, Герман удивлялся, как он смог стать рабби. На манжетах сверкали запонки с рубинами, на пальце левой руки блестел перстень с бриллиантом.
Раввин вынул сигару изо рта и, щелкнув по ней, стряхнул горстку пепла, а затем принялся кричать громовым голосом:
— Вы только сейчас сели писать? Уже давно надо было закончить! Я не могу ждать до последнего! Что вы там настрочили? Не надо длинно. Конференция раввинов — это вам не совет старейшин в Цевкуве. Здесь Америка, а не Польша. А что с эссе про Баал-Шема?[21] Мне уже надо его отсылать — дедлайн. Если у вас есть другие занятия или вам лень, дайте знать, я найду кого-то другого. Просто запишу себя на диктофон и дам Ригель расшифровывать.
— Сегодня все будет готово.
— Отдайте, сколько написали, и, в конце концов, сообщите мне ваш адрес. Где вы живете? В аду? У черта на рогах? Я начинаю думать, что у вас есть жена и вы прячетесь где-то вместе с ней.
У Германа пересохло в горле.
— Хорошо бы у меня была жена…
— Хотели бы, была бы. Я вам предлагал хорошую женщину, но вы даже встретиться с ней не захотели. Чего вы боитесь? Никто вас силком под венец не тащит. Какой у вас адрес?
— Правда, не стоит…
— Я требую, чтобы вы мне дали ваш адрес. Вот записная книжка, ну!
Герман дал ему Машин адрес в Бронксе, с трудом выговорив название улицы и номер дома.
— Как зовут вашего земляка?
— Джо Прач.
— Как? Прач? Странное имя. Как оно пишется? Я велю поставить ему телефон, а счета пусть мне присылают.
— Без его согласия нельзя ставить телефон.
— Ему-то чем это помешает?
— Звонки пугают его, напоминают о лагере.
— Даже у новых эмигрантов есть телефоны. Вы поставите телефон у себя. В свою комнату вы можете хоть телеграф провести.
— Я не хочу доставлять ему неудобства.
— Ему от этого будет только лучше. Если он болен, ему нужен врач или не знаю что. Все с ума посходили! Больные люди! Поэтому раз в два года происходит война, поэтому появляются гитлеры. Вы должны быть на работе шесть часов в неделю. Мы так договаривались. Я плачу аренду и вычитаю эти деньги из налогов. Что это за офис, если он все время закрыт? У меня и без вас забот хватает…
Лемперт помолчал немного, а затем спросил:
— Можно задать вам вопрос личного характера?
— О чем вы хотите спросить?
— Вы мужчина, не женщина. Вы еще молоды. Что вы делаете, когда вам нужна женщина?
Герман на мгновение задумался.
— Ничего.
— Ничего, как говорила моя мама, это для отвода глаз. Может, у вас есть любовница, но вы просто не хотите об этом рассказать? Я, конечно, раввин, но при этом цивилизованный человек, а не ханжа. Я хотел стать вам другом, но что-то мне мешает сблизиться с вами. Вы не подпускаете к себе. Я бы мог вам во многом помочь, но вы закрываетесь, как устрица. Что вы скрываете? Что за тайны за семью печатями?
Герман ответил не сразу:
— Переживший то, что я пережил, больше не принадлежит этому миру.
— Красивые фразы, пустые слова. Вы принадлежите этому миру, так же как и все мы. И пусть вы тысячу раз были на волосок от смерти, но пока вы живете, едите и ходите, извините меня, в уборную, вы человек из плоти и крови, как и все мы. Я знаю с десяток узников лагерей и даже таких, которые едва избежали печей. Несмотря на всё это, они прекрасно устроились в Америке: ездят на машинах, занимаются бизнесом. Можно быть на том или на этом свете, но нельзя стоять одной ногой на земле, а другой — на небесах. Вы заигрались, вот и все. Но зачем вам такая роль? По крайней мере, со мной вы могли бы быть откровенны.
— Я откровенен.
— Что вас беспокоит? Вы больны, что ли?
— Нет, в общем-то.
— А может, вы импотент? На нервной почве, не от рождения.
— Я не импотент.
— Но тогда что с вами? Ладно, не буду на вас давить. И не буду вам навязывать свою дружбу. Но сегодня же позвоню и распоряжусь, чтобы вам поставили телефон.
— Подождите с этим.
— Почему? Что вы боитесь телефона? Телефон — не нацисты, он не пожирает людей. Если у вас невроз, пойдите к доктору. Может, вам нужен психоаналитик. Не пугайтесь, это не значит, что вы сумасшедший. Многие к ним обращаются. Я сам одно время ходил к психоаналитику. У всех свои проблемы. У меня есть друг, доктор Верховский, как раз польский еврей из Варшавы, я вас отправлю к нему, он много не возьмет…
— В самом деле, реб Лемперт, со мной ничего страшного.
— Ничего так ничего. Моя Сильвия тоже кричит, что с ней ничего страшного. Но она больной человек. Она зажигает газ на плите и уходит, открывает воду в ванной и затыкает слив тряпкой, а я сижу за письменным столом и вдруг вижу лужу на ковре. Помню, был настоящий потоп. Я спрашиваю, зачем она это делает, а она начинает ругаться и впадает в истерику. Для того-то и есть на свете психиатры, чтобы помогать нам, чтобы не пришлось отправить нас в сумасшедший дом…
— Да, да…
— Что с вами разговаривать! Покажите, что вы там написали…
Глава вторая
I
Герман Бродер шел по Четырнадцатой улице к Седьмой авеню. Он работал в течение трех часов, и теперь все было закончено: речь раввина Сидни Лемперта на конференции в Атлантик-Сити через две недели, в воскресенье, и эссе о Баал-Шем-Тове. С Баал-Шем-Товом Герман обошелся просто: провел параллель со Спинозой[22] и подробно рассмотрел характерный для обоих пантеизм, процитировав высказывание Баал-Шем-Това: «Эль ойлом» — «Бог — это мир. Мир — это Бог». Речь в Атлантик-Сити, напротив, далась Герману с трудом. Как можно верить в избранность, Божественное провидение и грядущее воскрешение из мертвых после Майданека и Треблинки? Как им не стыдно, этим профессиональным святошам в ермолках? Даже у пророков были претензии к Богу, даже праведники иногда сомневались. Сам пророк Моисей разбил скрижали Завета…
Герман задремал. Во сне ему явились двое его детей: Довидл и Йохведл. Они словно выплыли из тумана. Герману привиделось, что у них была одна голова на двоих. «Как это? — спрашивал он себя. — А где Тамара? Там, по-видимому, не признается материнство…»
Герман вздрогнул и проснулся. Он спал не больше пяти минут, но проснулся посвежевшим и поспешил к метро, пока не начался час пик.
Уже больше двух лет он жил в Нью-Йорке, но этот город все еще удивлял его. Серо-синее небо и раскаленные стены домов источали тропический жар. Герман вдохнул тяжелый воздух, пропитанный бензином, дымом и пылью. «Как можно существовать среди такой вони? — спрашивал сам себя Герман. — Они отравили атмосферу…» С утра Ядвига подала ему свежую рубашку, но она уже липла к телу, струйки пота стекали с шеи по спине. Неподалеку ремонтировали мост. Машины сверлили асфальт. Котлы, в которых плавили асфальт, пылали синим пламенем. От раскопанной земли, полной труб, железа и частей старого фундамента, исходил запах, который невозможно описать словами. Пахло газом, глиной и жженой резиной.
«Сколько мертвецов можно было бы здесь захоронить? — подумал Герман. — Сколько человек поместится в этой яме?» Подъехали огромные грузовики — лагеря на колесах. Где-то недалеко был пожар, выли и стонали сирены пожарных машин. Герману пришло в голову, что так, должно быть, звучал плач Гададриммона в долине Мегиддонской.[23]
В последнее время все мысли Германа имели мало общего с реальностью. Он следовал философии Файхингера «Как если бы».[24] Жил выдуманной жизнью: придумал женитьбу на Ядвиге, завел придуманный роман с Машей. Он выдумал, что хочет пить, и остановился у лавки, стены которой были увешаны искусственной травой не зеленого, а голубого цвета. Над входом висели ананасы и кокосы, вырезанные в форме человеческих лиц и страшных масок.
Внутри лавки разгоряченные мужчины в мокрых рубашках заправлялись апельсиновым соком, кока-колой, лимонадом и напитком из папайи. Толпы женщин толклись у входа в магазин дешевых вещей. Из дверей выходили миниатюрные дамы с большими пакетами. Они были одеты в летние тряпки кричащих цветов и странного покроя, которые оголяли высокие груди, широкие бедра, покрытые венами ноги. «Сильный пол слаб, а красивый пол уродлив, — подумал про себя Герман. — Все один большой обман…» Хотя он только что пил, в горле у него пересохло.
«Это не город, — твердил кто-то внутри него, — а концентрационный лагерь, куда жертвы приходят добровольно, манимые бумажками под названием „доллары“». На мгновенье ему стало смешно, но тут же подступила тоска. Что он делает в этой жаре? Сколько еще это терпеть? Трудно поверить, что недалеко от этого пекла и давки есть океан, парки, леса, озера, сады. Газеты пестрят рекламой об уютных уголках, загородных виллах, фермах, где можно поплавать на лодке, покататься верхом или полежать в гамаке с книжкой. Но ему, Герману, суждено остаться в этом городе. Во-первых, у него нет денег на летние каникулы, во-вторых, с кем ему ехать? Он не может оставить ни Ядвигу, ни Машу…
Герман зашел в метро, и его обдуло затхлым теплым воздухом, как из бани. Еще не наступил вечерний час пик, когда кондукторы набивают вагоны пассажирами до отказа, так, что двери не закрыть, но народ уже бежал и толкался.
В экспрессе, идущем в Бронкс, все места были заняты. Пассажиры читали газеты и жевали резинку. Герман ухватился за поручень. Вентилятор крутился над головой, но не охлаждал воздух. Герман не стал покупать дневную газету и теперь разглядывал рекламу, предлагавшую чулки, шоколад, супы-концентраты и «достойные» похороны. Поезд шел по узкому тоннелю. Горящие в нем лампы не могли рассеять каменную темноту. На каждой станции вваливались новые толпы пассажиров. Сладковатый аромат смешивался с запахом пота. По лицам женщин текла косметика. Тушь расплывалась, у запаха духов появился неприятный оттенок.
Толпа понемногу редела. Поезд выехал из тоннеля на линию «L». На улице виднелись плоские крыши, фабричные окна. Белые и черные женщины плясали вокруг станков. В зале с низким железным потолком полуголые подростки играли в бильярд. Там и тут девушки в купальниках, поставив на крыше шезлонг, жарили свое тело под палящим солнцем. По бледно-голубому небу пролетела птица. Хотя здания не выглядели старыми, в городе царил дух изношенности и потертости. Все было покрыто пыльной дымкой, золотисто-огненной, как если бы Земля вошла в хвост кометы… Герман смотрел на улицу и пытался найти уголок прохлады, случайно попавший сюда из далеких стран.
Поезд остановился, и Герман выскользнул из вагона, прежде чем двери снова закрылись. Спустившись в толпе по железной лестнице, он оказался в парке. Деревья и трава росли здесь, словно посреди поля. На ветках прыгали и щебетали птицы. В траве виднелись желтые цветы. Природа везде брала свое: в Липске, в Освенциме, в Бронксе. Она строго придерживалась нейтралитета, который Господь ей завещал после Потопа. Вечером все скамейки в парке будут заняты. А сейчас на них сидело только несколько пожилых людей. Один старик в синих очках и с лупой в руке читал газету на идише, второй, закатав штанину до колена, грел на солнце больную ногу. Старушка вязала шерстяную кофту, которая пригодится зимой, когда все покроется снегом и льдом и подуют ветра из Канады и с Северного полюса.
Герман повернул налево и направился к переулку, в котором жила Маша со своей матерью Шифрой-Пуей. В переулке было всего несколько домов, между ними — пустыри, поросшие сорняками. Здесь находился какой-то лагерь с замурованными окнами и воротами, всегда закрытыми. В полуразрушенном доме располагалась мастерская столяра, делавшего мебель, которую покупатели потом красили сами. Над пустым домом с выбитыми стеклами висела табличка: «For sale» — «Продается». Герману казалось, что переулок никак не может решить: стать частью жилого квартала или исчезнуть.
Шифра-Пуа и Маша жили в доме с обвалившейся верандой и пустым нижним этажом. Окна были заколочены досками и жестью. Там, по-видимому, уже должны были начать ремонт, потому что табличка сообщала, что квартира сдается в аренду. Узкая лестница с шаткими перилами вела наверх.
Герман поднялся до третьего этажа и остановился. Не потому, что устал, а потому, что хотел предаться детской фантазии. Что было бы, если бы Земля раскололась на две половины, ровно между Бронксом и Бруклином? Ему бы пришлось остаться здесь. Другая половина, на которой осталась Ядвига, улетела бы куда-нибудь в другую галактику, попав в поле притяжения другой звезды. Что бы тогда было, а?.. Опять-таки, если теория Ницше о вечной повторяемости верна, это, может быть, уже происходило квадриллион лет назад… Спиноза сказал где-то или просто намекнул, что Господь делает все, что в Его силах…
II
Герман постучал, и Маша тут же открыла дверь. Они поцеловались в дверях.
Маша была невысокого роста, но благодаря стройности и манере держать голову она казалась выше, чем на самом деле. У нее были рыжие вьющиеся волосы. Герман любил называть их смесью огня и золота. Кожа была ослепительно белой. У нее были светло-голубые, с серыми прожилками глаза, тонкий нос и острый подбородок. Щеки впалые, в губах, узких и полных одновременно, все время торчала сигарета. В ее лице читались резкость и сила людей, которые в жизни много раз подвергались опасности. Даже теперь Маша весила не более пятидесяти килограммов. Освободившись из лагеря, она весила меньше тридцати, словно один из тех скелетов, которые нацисты не успели сжечь. Какое-то время она провела в больнице. Доктора поначалу решили, что дело безнадежно, но она поправилась.
Маша обладала энергией, которая была непонятна Герману. Она могла бодрствовать по ночам, выкуривать по тридцать сигарет в сутки, работать по четырнадцать часов в день. Вскоре после переезда в Америку она заговорила по-английски практически без акцента. На идише, по-польски, на иврите и немного по-французски Маша говорила еще в Варшаве. В лагерях и во время скитаний она выучила немецкий и русский. Ее отец, Меер Блох, читал ей свои рукописи, когда Маша была одиннадцатилетней девочкой. В четырнадцать лет вокруг нее уже крутились мальчики, с которыми она заводила платонические романы.
В противоположность Ядвиге, с которой было не о чем разговаривать, Маша могла без конца рассказывать истории. Герман обычно называл ее энциклопедией еврейских несчастий и приключений. Сколько раз он просил, чтобы она написала о своей жизни, но Маша отвечала, что происшедшее с ней описать невозможно. Никто бы не поверил, что это случилось на самом деле.
— Честно говоря, я уже и сама не верю… — говорила она.
Дверь с лестницы вела прямо на кухню. Маша ела мало, но, несмотря на это, любила готовить большие и сытные обеды. Так она брала реванш за годы голода и лишений. Ее мать, Шифра-Пуа, часто жаловалась, что Маша готовит для черта: попробует всего понемножку, а остальное выбрасывает. Но такой уж была Маша. Закурив сигарету, забывала ее на краю пепельницы. Пригубив кофе, оставляла его остывать в чашке. У нее были способности к шитью, и она шила себе из разных обрезков великолепные платья, которые потом почти не надевала. В книгах, которые Герман приносил ей, она читала только первую и последнюю страницы. Те считанные разы, когда Герман водил ее в театр, она не выдерживала и уходила после первого акта.
Лень и пораженчество проявлялись во всем, что делала Маша. Свадьба с Леоном Торчинером и затем развод с ним, как говорила она сама, причинили ей больше горя, чем остальные переживания. Из семьи Маша вынесла уважение к науке. Леон Торчинер убедил ее в том, что он ученый с мировым именем, даже намекал на то, что его выдвигают на Нобелевскую премию. Маша попыталась развестись с ним здесь, в Америке, но он не хотел давать ей развод. Одно время он, покупая в кредит, пробовал отправлять Маше счета. Она была вынуждена нанять адвоката.
— Где мама? — спросил Герман.
— Скоро придет.
— Вот, я принес тебе подарок. — Герман протянул Маше сверток.
— Подарок? Ты не обязан каждый раз приносить мне подарки. Что это?
— Коробка для почтовых марок.
— Для марок? Это мне пригодится, спасибо. В ней уже есть марки? Ой, и правда. Мне нужно написать сотню писем, а я уже несколько недель не брала перо в руки. У меня было оправдание: дома не было марок. Но теперь я не смогу отвертеться. Спасибо, милый, спасибо. Не трать деньги. Ну, иди поешь. Я приготовила твою любимую кашу с мясом.
— Ты же мне обещала больше не готовить мяса.
— Я и сама себе обещала то же самое, но больше нечего готовить, кроме мяса. Сам Господь ест мясо. Мясо, которое Он ест, конечно, человеческое или мясо ангелов. Вегетарианцев не существует, нет. Если бы ты видел то же, что и я, ты бы знал, что Бог хочет убивать.
— Не обязательно делать то, чего хочет Бог.
— Нет, обязательно. Нацистов на небесах никто не может истребить…
Дверь в другую комнату открылась, и вошла Шифра-Пуа. Она была выше Маши, темноглазая брюнетка с забранными в узел черными волосами с проседью, острым носом и сросшимися бровями. Над верхней губой у нее росла бородавка. С подбородка свисало несколько черных волосков. На левой щеке виднелся шрам — след от немецкого штыка, этот шрам она получила еще в 39-м году, в первые недели после гитлеровского вторжения.
Сразу же бросалось в глаза, что Шифра-Пуа была когда-то красивой женщиной. Меер Блох был влюблен в нее и писал ей стихи на иврите. Но лагеря и болезни сломили ее. Шифра-Пуа постоянно носила черное. Она все еще пребывала в трауре по мужу, родителям, сестрам и братьям, которые погибли в гетто и в лагерях. Сейчас она моргала глазами, как человек, внезапно попавший из темноты на свет. Она сделала вид, будто не узнала гостя, подняла тонкие руки, словно готовясь поправить прическу, и сказала:
— А, Герман! Я вас с трудом узнала.
— Значит, богатым будешь, — отозвалась Маша.
— Почему вы не едите? — спросила Шифра-Пуа. — Остынет.
Маша подмигнула:
— Мама, где ты находишься? Нацисты еще не добрались до Нью-Йорка. Сейчас они в Йонкерсе[25]. Когда, не дай Бог, доберутся, тебе сообщат. Еда тоже еще не готова. Сейчас она подогревается, а не остывает.
— Что? У меня появилась привычка: присяду где-нибудь и засну. Ночью лежу без сна до рассвета и грежу. А днем глаза слипаются. Я долго спала?
— Откуда я знаю? Я даже не знала, что ты спишь, — сказала Маша. — Она заходит в темную комнату и, не зажигая лампы, шарит в темноте, как мышь. Мыши здесь тоже есть. И я уже не различаю, кто из них шуршит. Почему ты боишься зажигать свет? Упадешь опять в темноте и сломаешь ногу. Вот увидишь!
— Что ты опять начинаешь? Что это за сверток? Не нужно каждый раз приносить подарки. Зачем жечь свет почем зря? Я пошла за мотком ниток и ненадолго присела на стул. Я не сплю, у меня перед лицом словно падает занавес, и, не дай Бог вам такого, мутится в голове. И я сижу, как в оцепенении. Что вы стоите? Возьмите стул. Чем это пахнет? Подгорело, что ли?
— Не подгорело, мама, не подгорело. У моей мамы есть странное свойство: если у нее что-то не получается, она упрекает меня. У нее всегда все подгорает, и, когда я готовлю, ей кажется, будто что-то горит. Когда мама кипятит молоко, оно убегает, и она постоянно предупреждает меня, чтобы я была аккуратнее. Герман, ты же увлекаешься психологией. В психологии описан такой случай? Должно быть, это болезнь от Гитлера. У нас в лагере была женщина, которая часто наговаривала на других, обвиняла их в том, что сделала сама. Она была ненормальной и в то же время очень смешной. Потому что сумасшедших не существует. Они только притворяются безумными, вот и все. Я сидела в укрытии с одной сумасшедшей и убедилась в том, что, когда дело доходит до денег, все оказываются здоровыми…
— Все здоровы, только твоя мать ненормальная, — проворчала Шифра-Пуа.
— Мама, я этого не говорила. Не искажай мои слова. Садись, Герман, садись. Он принес мне коробочку для марок. Теперь придется писать письма. Герман, я собиралась сегодня убрать твою комнату, но закрутилась с тысячей других дел. Я тебя предупреждала: будь жильцом, как все остальные, или, как они называют это здесь, — квартирантом. Если ты не будешь требовать, чтобы в твоей комнате убирали, у тебя всегда будет беспорядок. У нацистов я привыкла к принуждению и уже ничего не делаю добровольно. Если мне нужно что-то сделать, я представляю, что надо мной стоит немец с автоматом. Здесь, в Америке, я начинаю убеждаться в том, что рабство вовсе не трагедия. Нет лучше средства, чем кнут…
— Говорит, говорит… Сама не знает о чем, — пожаловалась Шифра-Пуа. — Она любит перечить, вот и все. У нас про таких людей говорили: «Мойше против». Она это унаследовала от семьи отца, пусть ему будет светло в раю. У них все только и занимались демагогией. Мой папа — да покоится он в мире, — твой дед, амшиновский гаон[26], однажды сказал: «Они рассуждают умно, но в итоге получается, что есть квасное на Пасху — это заповедь»…
— При чем тут квасное? Сделай милость, мама, сядь. Не выношу, когда она стоит. Она так шатается, как будто вот-вот упадет. И дня не пройдет, чтоб не упала.
— Что она про меня выдумывает? Я лежала при смерти в больнице в Люблине. Чуть не отправилась на тот свет. Мне уже было хорошо, как вдруг она прибежала и позвала меня обратно. Зачем я тебе понадобилась, если ты все время придумываешь про меня глупости? Умирать приятно, это удовольствие. Кто отведал вкус смерти, для того жизнь ценности не представляет. Если бы люди знали, как хороша смерть, никто бы не хотел жить. Я-то думала, что она уже отправилась на тот свет. И вдруг узнаю, что она жива и пришла за мной. И что ты думаешь? Сегодня она меня нашла, а на следующий день уже перечит и колет меня тысячью иголок. В это трудно поверить. Расскажи кому, подумают, что я сошла с ума, чтоб это случилось с моими врагами.
— Ты сошла с ума, мама. Чтобы описать, в каком состоянии я ее забрала из Польши, нужна бочка чернил. Одно могу сказать с чистой совестью: даже там никто меня так не мучил, как…
— Что я тебе сделала, дочка? Что я тебе сделала? Ты была здорова, чтоб не сглазить, а я при смерти. Люди превратились в чертей, даже честные люди. Я ей прямо сказала: я не хочу жить, с меня хватит. А она мне приставила нож к горлу и тащит обратно в эту жизнь. Ножом можно убить, а можно и оживить. Зачем я тебе понадобилась, а? Маму ей подавай. Леон, опять-таки, мне сразу не понравился. Я на него посмотрела и говорю: «Дочка, он жулик». Говорят, у людей все на лбу написано, надо только уметь читать. Моя дочь читает сложнейшие книги, а в людях совсем не разбирается. Теперь осталась вдовой, соломенной вдовой.
— Если я захочу замуж, я не буду ждать от него развода.
— Что? Мы пока еще евреи, а не гои. Что там с жарким? Долго ему еще стоять на огне? Мясо совсем расползется. Дай-ка я посмотрю! Ну вот! Там же ни капли воды не осталось. Ой, ничего нельзя ей поручить.
— Мама, хватит!
— Я же сразу поняла, что подгорает. Эти убийцы сделали меня калекой, но нюх у меня остался. Куда ты смотрела, а? Начиталась глупых книг, горе мне, горе!
III
Маша ела и курила. Откусывала кусочек и затягивалась сигаретой. Она попробовала всего понемножку и вскоре отставила тарелку. То и дело пододвигая еду ближе к Герману, она говорила:
— Вот-вот. Представь, что ты на сеновале в Липске и твоя полька принесла тебе порцию свинины. Никогда не знаешь, что будет завтра. Все может повториться. Убивать евреев — дело естественное. Евреев надо убивать, этого хочет Бог.
— Дочка, ты ранишь мне сердце! — отозвалась Шифра-Пуа.
— Это правда. Папа всегда говорил, что все от Бога. Ты, мама, тоже так говоришь. Если Бог мог спокойно смотреть на то, как уничтожают евреев в Европе, почему Его должно волновать уничтожение евреев в Америке? Бога ничего не волнует. Бог такой. Правда, Герман?
— Кто его знает.
— У тебя на все один ответ: мы ни о чем не знаем. Хоть что-то мы должны знать! Если Господь всемогущ и может все, Он должен вступиться за Свой любимый народ. Если Он сидит на небесах и молчит, это значит, что Ему наплевать.
— Так и получается, по мнению Спинозы. Мне самому трудно смириться с мыслью о том, что Богу присуще равнодушие. По-моему, нет отвратительнее качества, чем равнодушие.
— Да? Почему же Он молчит?
— Дочка, ты дашь ему спокойно поесть или нет? Сначала приносишь мясо, а потом хочешь, чтобы он за едой ответил на все твои вопросы.
— Ничего страшного. Мясо вкусное, — отозвался Герман. — Хотел бы я знать ответ на эти вопросы! Может быть, страдания — атрибут Бога. Если предположить, что Бог во всем, значит, мы тоже — Бог. И если я тебя бью, это означает, что Бог принимает удар.
— Это также означает, что Бог наносит удар, — парировала Маша.
— Да.
— Зачем Богу бить самого себя?.. Доедай, чтобы ничего не осталось. Это твоя философия? Если еврей — Бог, и нацист — Бог, тогда, братец, не о чем говорить. Мама испекла пирог. Пойду принесу тебе кусочек.
— Дочка, пусть сначала съест фруктовое пюре.
— Какая разница, что сначала? В желудке все смешается. Мама, ты педант. Вот ты кто. Ну, дай ему пюре.
— Он же еще не доел мясо.
— Женщины, перестаньте ссориться из-за меня. Какая разница, что есть сначала. Если вы вдвоем не можете жить в мире, тогда о каком мире вообще может идти речь? Тогда два последних человека на земле прикончат друг друга.
— А ты сомневаешься? — спросила Маша. — Я — нет. Они будут стоять друг напротив друга, вооруженные атомными бомбами, и умирать от голода, потому что у них не будет времени поесть. Если один отвлечется на еду, второй бросит бомбу. Однажды папа повел меня в кино. Она ненавидит кино, — Маша указала на маму, — а папа с ума сходил по кино. Он говорил, что, сидя в кинотеатре, забывает обо всех заботах. Тогда мне кино нравилось, а теперь терпения не хватает. Я сидела рядом с ним, он давал мне подержать свою трость. Фрейд мог бы произнести целую речь по этому поводу. Когда папа уходил из Варшавы, в тот день, когда все мужчины уходили по Пражскому мосту[27], он показал на свою трость и сказал: «До тех пор пока она со мной, ничего плохого не случится».
Почему я рассказываю об этом? Ах да! В одном фильме показывали, как два оленя дерутся за самку. Они переплелись рогами и долго боролись, пока один из них не упал замертво. Оставшийся в живых был тоже едва жив. Тем временем олениха стояла поодаль и щипала траву, как будто ее это не касается. Я была еще ребенком, кажется, во втором классе гимназии. Но уже тогда меня волновали те же вопросы, что и сегодня. В тот момент я подумала, что если Бог вложил такую жестокость в невинного зверя, то мир безнадежен. В лагерях я часто вспоминала эту сцену, и это пробудило во мне ненависть к Богу.
— Дочка, нельзя так говорить.
— Я делаю много того, что нельзя. Ладно, неси пюре!
— Разве мы можем понять Бога?
И Шифра-Пуа пошла к плите.
— В самом деле, не ссорься с ней, — произнес Герман в тишине. — К чему это приведет? Зачем ты так упорствуешь? Если бы моя мама была жива, я бы с ней не спорил.
— Решил меня поучать? Мне с ней жить, а не тебе. Четыре дня в неделю отсиживаешься у своей польки, а когда приходишь, учишь меня морали. Она терроризирует меня своей набожностью и скудоумием. Раз здесь все так трагично, а Бог справедлив, почему она поднимает шум, когда каша подгорает в кастрюле? Ее больше интересуют кастрюли. Она сильнее любого атеиста привязана к материальному миру. Это она погнала меня замуж за Леона, потому что он приносил ей пирожные и еще какую-то ерунду. Потом она начала его поносить, Бог знает почему. Мне было все равно, за кого выходить замуж. После того, что я пережила, все остальное кажется мне детской игрой. Расскажи лучше, как поживает твоя крестьянка. Ты опять сказал ей, что едешь торговать книгами?
— Что же еще?
— Где ты сегодня?
— В Филадельфии.
— А что будет, если она узнает обо мне?
— Она никогда не узнает.
— Все возможно.
— Можешь быть уверена, ей нас не разлучить.
— Я ни в чем не уверена. Если ты способен проводить пять дней в неделю с неграмотной неотесанной кухаркой, значит, тебе ничего лучшего и не надо. А какой смысл марать бумагу ради какого-то раввина-мошенника? Стань лучше сам раввином и мошенником и работай от своего собственного имени!
— Я не могу.
— Ты все еще прячешься на сеновале. Это правда…
— Да, правда. Бывают солдаты, которые могут спокойно наблюдать, как бомба падает на город и убивает тысячи людей, но при этом они не могут зарезать курицу. До тех пор пока я не вижу обманутого читателя, а он не знает о моем существовании, меня это не трогает. И потом, то, что я пишу для раввина, никому не причиняет вреда. Наоборот…
— То есть ты не обманщик?
— Я обманщик, и скорее бы это все закончилось.
Шифра-Пуа вернулась к столу:
— Вот пюре. Подожди, пусть остынет. О чем тут болтает моя дочь? В чем упрекает меня? Можно подумать, что злее врага у нее нет на всем свете.
— Мама, ты знаешь поговорку: защити меня Бог от моих друзей, с врагами я справлюсь сам.
— Да знаю я, как мы справляемся. Но если я осталась в живых, после того как уничтожили мою семью и мой народ, то ты права. Это ты виновата, Маша, я бы давно уже обрела покой, если бы не ты.
IV
После ужина Герман пошел в свою комнату. Это была крошечная комнатка с окном, выходившим в маленький дворик, где стоял сарай со всяким хламом. Под окном росла трава и чахлое деревце. Кровать была не убрана. Повсюду валялись книги, рукописи, исписанные листы.
Подобно тому как Маша все время держала меж пальцев сигарету, Герман при любой возможности рисовал карандашом или ручкой. Он продолжал писать и рисовать даже на сеновале в Липске, когда хватало света, пробивавшегося сквозь щели в крыше. Ядвига предупреждала его, что бумажки могут привлечь внимание немцев. Он выводил каллиграфические буквы, украшая их вензелями, росчерками, завитками и штришками. Он рисовал чудовищ с оттопыренными ушами, длинными носами, круглыми глазами и окружал их змеями, трубами, рогами и лестницами.
Иногда, просто по привычке, Герман делал заметки к работе, которую когда-то должен был написать, но давно уже от этого отказался. Отголоски довоенных лет, когда Герман изучал философию и зарабатывал частными уроками. Одно время он преподавал в молодежной группе какой-то сионистской партии в пригороде Варшавы. Тамара давала уроки фортепиано.
Оба, и он и Тамара, выросли в зажиточных семьях. Тамарин отец, реб Шахна Лурия, торговал лесом и владел вместе с шурином предприятием, торгующим посудой. У него было всего две дочери — Тамара и Шева, или Стефа, как она себя называла.
Герман был единственным ребенком в семье. Когда началась война, он писал диссертацию на тему «Интеллект и характер в философии Шопенгауэра». Позже в разъездах он потерял рукопись. Работа получилась слишком объемной для диссертации. Герман набрал множество материалов в доказательство тезиса Шопенгауэра о том, что интеллект всего лишь подчиняется воле и готов найти оправдание и придать смысл любому абсурду, любому преступлению, любой безумной выходке. Он, Герман, даже попытался создать собственную систему — странное сочетание каббалы с идеями Спинозы и Шопенгауэра.
Из этих попыток ничего не вышло, но Герман приобрел привычку держать под рукой письменные принадлежности. У него всегда были с собой ручки и блокноты. Он по-прежнему останавливался перед витринами книжных магазинов, а в свободные часы ходил на Четвертую авеню порыться в старых книгах. Может быть, в нем еще теплилась надежда на то, что в какой-нибудь старой книге или запыленной рукописи он наткнется на откровение, открытие, новую истину…
Комнатка находилась под самой крышей, летом здесь всегда было жарко. Жара спадала только на рассвете. В открытое окно летела копоть из заводских труб. Маша часто меняла простыни и надевала на подушки чистые наволочки, но постельное белье все равно казалось грязным. В полу были дыры, ночью там скреблись мыши. Несколько раз Маша ставила мышеловки, но Герман не мог смотреть на страдания пойманных мышей. Посреди ночи он вставал и освобождал их.
Войдя в комнату, Герман сразу вытянулся на кровати. Он часто не отдавал себе отчет в том, насколько его тело напряжено и полно болезненных ощущений. Он страдал от ревматизма и ишиаса. По-видимому, у него была опухоль в позвоночнике. Герману не хватало терпения ходить по врачам, да он и не верил им. Усталость, приобретенная в годы оккупации, никогда не покидала Германа, разве только когда он занимался любовью с женщиной. После еды появлялась боль в животе. От малейшего сквозняка начинался насморк. Из-за часто воспалявшегося горла Герман все время хрипел. Что-то беспокоило в ухе: волдырь или нарост. Только одного ему удавалось избегать: температуры.
Наступил вечер, но небо за окном оставалось светлым. В нем зажглась одна-единственная звезда, сине-зеленая, невероятно далекая, не по-здешнему яркая и насыщенная. Прямой луч спускался из далекой вселенной прямо в глаза Герману, завораживая его. Это небесное тело (если это было действительно тело) сияло радостью насмешника. С космическим величием оно высмеивало физическую и духовную слабость червя, наделенного лишь одной способностью — страдать.
V
Дверь открылась, и вошла Маша с сигаретой во рту. В вечерних сумерках пятна света играли на ее лице. Зеленые глаза светились, словно сами по себе. Сколько раз Герман предупреждал ее, что своим курением она когда-нибудь устроит пожар, но Маша отвечала:
— Все евреи сгорят рано или поздно…
Она встала у двери и затянулась сигаретой. На мгновение жар от сигареты придал ее лицу фантастический пламенно-красный отблеск. Потом, отодвинув книгу с журналом, она присела на краешек стула и сказала:
— Отец небесный, здесь жарко, как в аду.
— В аду будет еще жарче, — ответил Герман.
В такой зной нелепо сидеть дома в одежде, но Маша не раздевалась, пока мать не уснет. Она постелила себе на диване в большой комнате.
Хотя Машин отец Меер Блох был безбожником, Шифра-Пуа соблюдала заповеди, вела кошерную кухню и даже надевала парик[28], когда ходила в синагогу в Дни трепета. По субботам она заставляла Меера Блоха произносить благословение на вино и петь гимны, а после трапезы он закрывался в кабинете и писал стихи на иврите…[29] Гетто, концентрационные лагеря и лагеря беженцев поколебали семейные устои матери и дочери. В доме, где Шифра-Пуа жила в гетто, мужчины и женщины спаривались друг с другом без стыда, словно животные. После того как Маша вышла замуж за Леона Торчинера в Германии, Шифра-Пуа жила с молодоженами в одной комнате, разгороженной ширмой.
Шифра-Пуа говорила обычно, что душа, как и тело, может вынести определенное количество ударов и потрясений, и не более того. Потом она перестает чувствовать боль. Здесь, в Америке, Шифра-Пуа молилась каждый день, часто закрывала волосы платком, накладывала на себя ограничения и давала обеты, на которые не решалась даже в Варшаве. Мысль о сожженных, отравленных газом, замученных евреях никогда не покидала ее. Она постоянно зажигала поминальные свечи — фитили в стаканах с парафином — в память о родных и друзьях. В еврейских газетах она читала только воспоминания беженцев; экономила на еде, чтобы покупать книги о Майданеке, Треблинке и Освенциме.
Другие выжившие рассказывали, что со временем все забывается, но ни Шифра-Пуа, ни Маша не относились к их числу. Наоборот, чем больше Катастрофа отдалялась от них, тем ближе она становилась. Маша нередко упрекала мать за то, что та постоянно оплакивает мертвых и пострадавших в Катастрофе, но как только мать замолкала, Маша принималась оплакивать их сама и богохульствовала в придачу. Вспоминая о жестокостях немцев, она подбегала к мезузе и плевала на нее… Шифра-Пуя всплескивала руками:
— Плюй, дочка, плюй. На этом свете мы горели в огне и на том будем гореть…
Машин развод с Леоном Торчинером и роман с Германом Бродером, женатым на нееврейке, казался Шифре-Пуе продолжением тех ужасных событий, которые начались в 1939 году и, как видно, вовсе не собирались заканчиваться. Несмотря на это, Шифра-Пуа привязалась к Герману, звала его «дитя мое» и, хотя он не был религиозен, задавала ему разные вопросы, поражаясь его познаниями в еврейской традиции. В библиотеке отца он изучил не только Талмуд с комментариями, но и некоторые разделы Шулхан Аруха.
Каждый день Шифра-Пуа просила в молитвах Всевышнего, чтобы Леон Торчинер добровольно развелся с Машей, Герман избавился от своей крестьянки, а сама Шифра-Пуа дожила бы до того счастливого дня, когда она поведет дочь под венец. Но по-видимому, ее заслуги перед Господом не были столь велики. Когда Шифра-Пуа оставляла в покое Машу, она начинала обвинять саму себя в том, что несправедливо обходилась с Меером, перечила родителям, уделяла недостаточно внимания Маше, когда та была маленькой и в ней еще можно было воспитать страх Божий. Самым ужасным своим грехом она считала то, что осталась в живых, в то время как все праведники и праведницы отправились в рай.
Герман слышал, как Шифра-Пуа возилась на кухне, мыла посуду и что-то бормотала. Она погасила и снова зажгла лампу, дочитала молитву и произнесла Кришме.[30] Потом приняла снотворное и пошла наполнить грелку горячей водой. Она не то говорила сама с собой, не то спорила с кем-то невидимым. Шифра-Пуа страдала от болей в сердце, печени, почках и мочевом пузыре. Раз в несколько месяцев ее состояние ухудшалось настолько, что врачи опускали руки, однако понемногу она снова приходила в себя.
Герман, положа руку на сердце, никогда не понимал отношений матери с дочерью. Они любили друг друга и без конца доставляли друг другу неприятности. Уличали одна другую в неправоте и в то же время готовы была пожертвовать собой. Их взаимные претензии восходили еще к тем временам, когда Меер Блох был жив. Кажется, у него завязался платонический роман с еврейской поэтессой, Машиной учительницей. Маша любила шутить, что любовь между отцом и поклонницей иврита началась с сильного дагеша[31] и достигла пика в тот момент, когда они поменялись очками: Меер Блох надел ее окуляры, а учительница нацепила его пенсне…
VI
В комнате Шифры-Пуи стало темно, но Маша все еще сидела на стуле в комнате Германа и курила одну сигарету за другой. Их любовь была полна историй. Маша сравнивала себя с Шахерезадой. Поцелуи, ласки, страстные игры сопровождались воспоминаниями о гетто, лагерях, о Машиных скитаниях по разрушенной Польше, ее жизни в лагерях для перемещенных лиц. Ее постоянно преследовали мужчины: в укрытиях, в сараях, в лесу, даже у дверей газовой камеры.
Герману почти нечего было рассказать о годах войны, в то время как жизнь Маши была полна приключений. Иногда казалось, будто она их придумывает, но Герман знал, что Маша не лжет. Как ни странно, по-настоящему закрученные истории стали приключаться с ней уже после освобождения. Вывод из всех этих странных сюжетов был один: если Господь решил усовершенствовать свой избранный народ посредством гитлеровских репрессий, Он совершил ошибку. Почти все соблюдающие Закон евреи погибли, а те, кому удалось избежать этой участи, за редким исключением не имели ни веры, ни желания вновь обратиться к религии…
Маша исповедовалась и одновременно хвасталась перед Германом, выпуская на него клубы дыма и роняя пепел на простыни. Она жевала резинку, грызла шоколад и пила кока-колу из бутылки. Герману она тоже принесла какие-то лакомства из холодильника. Это были не просто отношения между мужчиной и женщиной, а греховная связь, длившаяся до рассвета, как у тех древних евреев, которые рассказывали о чудесах Исхода из Египта до первой утренней звезды[32].
Часть героев и героинь из Машиных драм позже погибли, умерли своей смертью или застряли в советской России. Другие обосновались в Канаде, Израиле или здесь, в Нью-Йорке. Однажды Маша пошла в булочную купить пирог, и булочник оказался бывшим капо. Беженцы приходили пофлиртовать с Машей в кафетерий на Тремонт-авеню, где она работала кассиршей. Некоторые из них разбогатели в Америке, открыли фабрики, магазины, супермаркеты. Вдовцы вновь женились, вдовы снова выходили замуж. Еще молодые женщины, потерявшие детей, завели детей с новыми пассиями. Мужчины, ставшие в Германии спекулянтами и торговавшие на черном рынке, брали в жены немок. Катастрофа не послужила уроком практически никому — ни преступникам, ни жертвам. Возьмите, например, Леона Торчинера!
Маша без устали рассказывала о нем и его поступках. Он был одновременно патологическим лжецом, пьяницей, хвастуном, сексуальным маньяком, картежником, способным проиграть последнюю рубашку. На свадебный банкет, который Маша с матерью приготовили на собственные деньги, он пригласил своих любовниц. Он красил волосы, пользовался поддельным дипломом доктора наук, был уличен в плагиате, выставлял себя членом то ревизионистской[33], то коммунистической партии и как альфонс жил на деньги обманутых женщин. Нью-йоркский судья, выдавший Маше развод, присудил ей алименты — пятнадцать долларов в неделю, но Леон Торчинер не выплатил ни цента. Напротив, с помощью разных уловок он пытался выманить деньги у Маши. Он продолжал ей звонить и писать письма, умоляя вернуться к нему.
— Странно, но ведь он любит меня, — говорила Маша.
— Что ты называешь любовью?
— Да, что такое любовь?…
Герман получил от Маши обещание прекратить эти ночные бдения. Им обоим рано вставать на работу. Но Маша, видимо, относилась к тем людям, которым сон не нужен. Она засыпала на несколько минут и снова просыпалась. Ее мучили сновидения, в кошмарах являлись мертвые. Она кричала во сне, говорила по-немецки, по-русски, на иврите. Маша зажигала электрическую настольную лампу и показывала Герману царапины и шишки, оставленные мертвыми на ее руках, груди и бедрах. Иногда ей снилось, как отец читает стихи на иврите, написанные уже на том свете. У Маши в памяти всегда оставалась строчка или фраза из стихотворения.
В прошлом у Маши было много любовных историй, но она не могла простить Герману его прежних отношений с женщинами, даже с теми, которых уже не было в живых. Он, конечно же, любил Тамару, мать его детей? Ее тело привлекательнее, чем Машино? Чем именно? Ну, а студентка с романской филологии? Девушка с длинными косами? А Ядвига? Она действительно так холодна, как Герман описывает? Это ложь! Неправда! А что, если она, Маша, вдруг умрет? Если она совершит самоубийство? Через какое время он заведет другую женщину? Пусть хоть раз честно скажет!
— А через какое время ты нашла бы другого?
— Я бы больше никого не искала.
— Это правда?
— Да, черт возьми, святая правда.
И Маша впилась в его губы. Вдруг стало так тихо, что было слышно, как мышь скребется под полом. Машино горячее и податливое тело изгибалось. Подвижная как акробатка, она пробуждала в нем такие желания и силы, о существовании которых Герман даже не подозревал. Только заведя роман с Машей, он наконец понял, почему интимные отношения между мужчиной и женщиной лежат в основе каббалистического учения. Фрейд вовсе не преувеличил роль секса, наоборот — он недооценил секс, рационализировав и сделав будничными разговоры о нем. В те минуты, когда Герман мечтал создать новую метафизику или даже религию, он основывал свою теорию на притяжении полов. В начале была жажда. Божественное и человеческое творение — это страсть. Гравитация, свет, магнитные явления — все это составляющие единой субстанции, суть которой в желании. Материя, пустота, тьма, грех — не что иное, как спад и возбуждение среди вечно длящейся любви…
На рассвете Маша ушла к себе на диван. Герман закрыл глаза и сразу уснул. Шифра-Пуа встала очень рано, и Маша легла на ее кровать. Иногда, когда Герман просыпался, в промежутке между двумя снами, он слышал, как Шифра-Пуа молится в передней. С надрывным напевом она разговаривала с Владыкой мира, напоминая Ему о союзе, заключенном с Авраамом, Исааком и Иаковом, о данных через Его пророков обетах не истреблять семя Израиля.
Окно в комнате Германа выходило на восток, на противоположной стене играли пурпурные блики. Птицы, ночевавшие на дереве во дворике, пели, рассевшись на ветках. Крыша остыла, с улицы дул свежий ветерок, доносился запах травы, листьев и цветов, смешанный с ароматом свежевыпеченных булочек, рогаликов и пирогов. По соседству располагалась пекарня. Герман зарылся поглубже в подушку и закрыл лицо летним одеялом. Он бы мог так проспать недели, месяцы, годы, позабыв все несправедливости, совершенные по отношению к нему или причиненные им самим. Он вспомнил талмудическое изречение: «Сон злодея приятен и ему самому, и всему миру»…
VII
В то время Маша работала по утрам в кафетерии. Герман заснул на рассвете, а когда проснулся, часы показывали без четверти одиннадцать. На улице светило солнце. Сквозь открытое окно доносилось щебетание птиц и громыхание грузовика. В соседней комнате Шифра-Пуа читала еврейскую газету, вздыхая каждый раз о страданиях еврейского народа и человеческой жестокости. Герман пошел в ванную, побрился, помылся. Его одежда осталась в квартире на Кони-Айленд, но и здесь, в Бронксе, у него были рубашки, носовые платки и нижнее белье. Шифра-Пуа приготовила ему свежевыглаженную рубашку. Она обращалась с Германом, как теща с зятем. Он еще не оделся, а Шифра-Пуа уже принялась жарить ему омлет. Специально для него купила земляники. Завтрак вместе с Шифрой-Пуей был делом непростым и приводил Германа в замешательство. Она настаивала на том, чтобы он совершал омовение рук[34]. Теперь, когда Маши не было дома, Шифра-Пуа подала ему шляпу, чтобы он надел ее перед тем, как произнести благословение на хлеб, и позже, во время послетрапезного благословения. Она сидела за столом напротив Германа, и тот знал, о чем она думает: в лагере нельзя было даже помыслить о такой еде. Ради куска хлеба или подгнившей картофелины рисковали жизнью. Шифра-Пуа взяла ломтик хлеба так медленно, словно дотрагивалась до святыни, и с осторожностью надкусила его. Во взгляде ее темных глаз читалась вина. Может ли она позволить себе такую роскошь, когда тысячи невинных евреев были уничтожены Гитлером? Чем она, Шифра-Пуа, заслужила такую милость: сидеть за столом и наслаждаться летними дарами Всевышнего? Шифра-Пуа считала, что это дается ей за грехи. Религиозных евреев с чистой душой Господь забрал к себе…
— Доедайте, Герман, все до конца.
— Спасибо. Вкусный омлет.
— Отчего ему быть невкусным? Яйца свежие, масло свежее. В Америке, чтоб не сглазить, полно хороших вещей. Как бы нас не лишили этого за наши грехи. Подождите, я принесу вам кофе.
— Почему вы со мной на «вы»? Говорите «ты». Вы же мне как мама.
— Что? Со временем… дай Бог…
Наливая кофе, Шифра-Пуа разбила чашку. Это было ее слабое место. Посуда часто падала у Шифры-Пуи из рук. Зрение подводило ее. Маша нередко упрекала ее за неуклюжесть, да Шифра-Пуа и сама стыдилась этого. Когда-то она была редкостной хозяйкой, а после лагерей превратилась в комок нервов. Как она мучается, как страдает от ночных кошмаров — только Отец Небесный об этом знает. Разве можно жить с такими воспоминаниями, как у нее? Вот и теперь, стоя у плиты, она увидела, как еврейскую девушку раздевают и ставят на бревно над навозной ямой. Она стоит там и шатается, готовая каждую секунду упасть в грязь. А вокруг стоят немецкие, украинские, литовские парни и девушки, заключают пари о том, как долго она сможет удерживать равновесие, и выкрикивают оскорбления народу Израиля. Они пьяны от водки и жажды крови и сгорают от нетерпения увидеть, как восемнадцатилетняя благородная красавица из знатной раввинской семьи окунется в нечистоты.
Это была лишь одна из сотни историй, которые Шифра-Пуа рассказывала Герману. Теперь он сидел за столом, и какое-то шестое чувство подсказывало ему, что именно из-за такого очередного видения Шифра-Пуа разбила чашку. Когда она вспоминает об этом, ее руки и ноги становятся ватными. Герман встал и принялся помогать ей собирать осколки, но Шифра-Пуа не позволила: не дай Бог, еще поранит палец. Она села на корточки и щеткой собрала осколки в совок. Вскоре Шифра-Пуа подала ему кофе. У Германа часто возникало ощущение, что все, к чему бы она ни прикасалась, наполнялось святостью. Он выпил кофе, вдохнул еще раз его аромат и заел куском пирога, который Шифра-Пуа испекла специально для него (сама она придерживалась строгой диеты по настоянию врача). Герман предался размышлениям, таким старым и избитым, что тяжело выразить словами. Их суть сводилась к одному большому вопросу, который, кто бы ни пробовал ответить на него, всегда оставался неразрешенным. Всю душу вынимал…
Сегодня Герману как раз не надо было идти в офис. Маша работала в кафетерии до полудня, и он отправился ей навстречу. Этим летом Маша первый раз получила недельный отпуск и хотела куда-нибудь поехать. Но куда? И разве можно оставить больную маму одну? Герман вышел на Тремонт-авеню и побрел по направлению к кафетерию. Он проходил мимо галантерейных лавок, лотков с женским бельем, одеждой, шоколадом, канцелярскими товарами. За ними сидели продавцы и продавщицы и ждали покупателей, как в Цевкуве. Большие магазины постепенно вытесняли маленькие лавочки. Тут и там на дверях висели таблички «Сдается в аренду». На этом месте один уже прогорел, пусть другой попытает счастье. Герман зашел в кафетерий через вертящийся турникет и увидел Машу. Она стояла там, дочь Меера Блоха и Шифры-Пуи, отпрыск раввинов, хасидских ребе и еврейских писателей, спасшаяся от нацистских печей, и продавала кому-то пластинку жевательной резинки. Она увидела Германа и улыбнулась. Судя по часам, Маше оставалось работать еще двадцать минут. Герман сел за столик. Он предпочитал столики у стены, а лучше даже в углу между стен, чтобы никто не мог подойти к нему сзади. Хотя Герман только что плотно позавтракал, он заказал у стойки чашку кофе и рисовый пудинг. Сколько бы он ни ел, он не прибавлял в весе. Словно бы внутри него горел огонь, сжигающий все. Герман сел и стал издалека поглядывать на Машу. Солнце светило в окно, но, несмотря на это, в помещении горели электрические лампы. Посетители за столиками читали газеты на идише. Ни от кого не надо было прятаться. Каждый раз это казалось Герману чудом. Как долго так может продолжаться? — спрашивал он себя. Ему показалось, что один из посетителей просматривает коммунистическую газету. Наверное, у него есть претензии к Америке, он жаждет революции, мечтает о том, чтобы народ хлынул на улицы, бил стекла в лавках, мимо которых он, Герман, проходил только что, тащил продавцов в тюрьму и отправлял их в ссылку, в трудовые лагеря…
— Нет, здесь мне ничего не исправить, — пробормотал Герман. — Это не мой мир…
Он сидел тихо, угнетенный собственными проблемами. Уже третий день он проводил здесь, в Бронксе, а Ядвиге сказал, что уехал в Балтимор. Герман позвонил ей по дороге и клятвенно пообещал, что вернется сегодня вечером. Однако он вовсе не был уверен, что Маша его отпустит. Она хотела пойти с ним в кино. Все средства были хороши, чтобы удержать Германа как можно дольше рядом с собой. Сколько Герман ни объяснял, что ему приходится маневрировать между двумя домами, Маша никак не хотела войти в его положение. Она ненавидела Ядвигу лютой ненавистью. Если у Германа оказывалось пятно на одежде или не хватало пуговицы на пиджаке, Маша сразу обвиняла Ядвигу в том, что та не заботится о Германе, относится к нему равнодушно и живет с ним только ради денег. Даже в том, что Ядвига почти три года прятала Германа на сеновале, Маша видела лишь крестьянскую хитрость. Эта полька заранее просчитала, что потом Герман возьмет ее с собой в Америку… Маша была лучшим доказательством теории Шопенгауэра о том, что интеллект — это лишь слуга воли.
Маша закончила работу, передала деньги и чеки кассирше, занявшей ее место, и подошла к столику, за которым сидел Герман, с едой на подносе. Она почти не спала всю ночь и встала очень рано, но не выглядела усталой. Изо рта торчала вечная сигарета. За сегодня она уже выпила немало чашек кофе. Как говорят в Америке, Маша жгла свечу с обоих концов: она ела много острого — кислую капусту, соленые огурцы, горчицу. Все блюда посыпала солью и перцем и пила несладкий черный кофе без молока. Она сделала глоток и затяжку, глубоко втянула дым. Три четверти еды оставила нетронутыми.
— Ну, как там мама? — спросила Маша.
— Все о’кей…
— О’кей, да? Надо отвести ее завтра к врачу. Сердце стало совсем слабое.
— Что с твоим отпуском?
— Пока неясно. Давай пойдем отсюда! Ты обещал сходить со мной в зоопарк.
— Да, поехали.
— Зачем ехать? Пошли пешком…
Оба, Маша и Герман, могли пройти пешком многие километры. Маша часто останавливалась у витрин магазинов. Она презирала американскую роскошь и при этом не могла избавиться от женского интереса к распродажам. Магазины, подлежащие ликвидации, распродавали свой товар по дешевке, иногда за полцены. Магазины тканей за гроши отдавали остатки, из которых Маша шила платья для себя, собирала из лоскутков покрывала и занавески, обивала стулья и диваны. Да, но зачем и для кого? Куда она ходила? Кто приходил к ней в гости? Маша отдалилась от других эмигрантов, во-первых, потому, что Леон Торчинер вертелся в этих кругах, а во-вторых, из-за того, что жила с Германом. Всегда существовала опасность, как бы кто-нибудь с Кони-Айленда его не увидел и не узнал, что он ведет двойную игру. Если судьба решит выкинуть один из своих фокусов, она ни с чем не посчитается.
Пройдя часть пути, Герман и Маша зашли в ботанический сад и уже в который раз посмотрели на экзотические цветы, пальмы, кактусы и бесчисленные растения, которые выращивают в теплицах, в искусственном климате. Герману пришло в голову, что еврейство — это тоже сорт растения, вскормленного на чужой почве библейскими обетованиями, верой в приход Мессии и надеждой на справедливость. Через некоторое время Герман с Машей вошли в зоопарк в Бронксе, который, как Герман слышал еще в Варшаве, был самым большим в мире. Два белых медведя дремали в тени навеса у бассейна со стоячей водой. Им, конечно же, снились снега и айсберги Северного полюса. Наблюдать за животными и птицами никогда не надоедало Герману. Все они что-то рассказывали на своем бессловесном языке, передавали приветы из древних времен, раскрывали или, наоборот, скрывали тайны творения. Лев дремал, время от времени лениво открывая свои золотистые глаза, полные отчаяния, которое свидетельствует о том, что он не в состоянии ни жить, ни умереть. Он отгонял мух своим мощным хвостом. Волк наматывал круги, совершая ритуальный обход вокруг собственного безумия. Тигр принюхивался к решетке, выискивая слабое место. Два верблюда стояли неподвижно и горделиво один рядом с другим, как два восточных принца. Каждый раз в зоопарке Герман думал о том, что он находится в концлагере, который род человеческий выстроил для живых существ. Воздух был полон тоски по древним лесам, пустыням, горам, долинам, покинутым норам и оставленным семьям. Их согнали сюда со всех концов света, подобно евреям в Европе, и обрекли на гибель от изоляции, скуки, недостатка любви и дружбы. Некоторые животные кричали о своей беде, другие страдали молча. Попугаи тоненькими голосами заявляли о своих правах. Птица с клювом, похожим на банан, вертела головой направо и налево, словно в поисках паяца, сыгравшего с ней злую шутку и выставившего ее на посмешище перед пернатыми… Совпадение? Теория Дарвина? Нет, это был план или, по крайней мере, каприз, сознательная, изощренная игра, полная насмешек и мелких придирок. Герман вспомнил Машины слова о нацистах на небесах. И правда, может, сидит там наверху какой-нибудь Гитлер и мучает существа из плоти и крови? Он наделил их зубами, когтями, рогами и шипами, чтобы они могли либо превратиться в злодеев, либо погибнуть.
Маша отбросила сигарету:
— О чем ты задумался? Что было раньше, яйцо или курица? Пойдем, купишь мне мороженое.
Глава третья
I
Герман провел с Ядвигой два дня. Поскольку он рассчитывал уехать с Машей на неделю в отпуск, он заблаговременно рассказал Ядвиге о предстоящем путешествии в Чикаго. Герман устроил ей что-то вроде выхода в свет — однодневной прогулки, чтобы компенсировать свой отъезд. Утром, сразу после завтрака, они отправились на набережную кататься на карусели. Ядвига даже вскрикнула, когда Герман посадил ее на льва, а сам уселся на тигра. Одной рукой Ядвига держалась за гриву льва, а в другой она сжимала рожок с мороженым. Потом Герман прокатил ее на чертовом колесе. Кабину, в которой они сидели, раскачивало и бросало в разные стороны. Ядвига даже упала на Германа, смеясь от радости и страха. Пообедав кнышами, фаршированной кишкой и кофе, они пошли вместе гулять на Шипсхедбей и сели на прогулочный катер, идущий в Бризи-Пойнт. Ядвига боялась, как бы у нее не началась морская болезнь, но море было спокойным, корабль едва покачивался на золотисто-зеленых волнах. Играла музыка. Легкий ветерок растрепал Ядвиге волосы, и она подвязала их цветастым платком. На берегу, где швартовались прогулочные катера, играла музыка. Ядвига выпила лимонада. Вечером, после ужина в рыбном ресторане, Герман повел Ядвигу на фильм с танцами и песнями, красивыми женщинами и роскошными дворцами. Он пересказал ей содержание фильма заранее. Ядвига придвинулась близко к Герману, сжала его руку и время от времени подносила ее к губам, бормоча:
— Я счастлива… счастлива… Сам Бог мне тебя послал!
В этот день мирская суета стоила Герману почти пять долларов, но он хотел доставить Ядвиге немного удовольствия, прежде чем оставить ее одну на неделю. Ночью, проспав несколько часов, она проснулась от желания и осыпала Германа поцелуями. Ее крестьянский польский изобиловал архаичными словами и выражениями. В который раз она сказала, что хочет завести ребенка и перейти в иудаизм. Герман пообещал, что все так и произойдет…
Утром позвонила Маша и сообщила, что отпуск придется отложить на несколько дней, потому что кассирша, которая должна была ее подменить, заболела, и Герман сказал Ядвиге, что поездка в Чикаго, во время которой он рассчитывает продать побольше книг, состоится позже. После завтрака он отправился к раввину в офис на Двадцать Третьей улице, а потом сел на Седьмой авеню в метро и поехал в Бронкс, к Маше. Такой распорядок уже превратился для Германа в рутину, но теперь им вдруг овладело беспокойство. «Что со мной происходит? Почему я не могу расслабиться ни на минуту?» — спрашивал он сам себя. Помимо всех сомнений и самокопания, в последнее время Германа терзало нехорошее предчувствие чего-то, что должно случиться. Он постоянно боялся грядущей катастрофы. Но что именно произойдет? Может, он заболеет? Не дай Бог, с Машей или Ядвигой случится несчастье? Может, обнаружив, что Герман ведет двойную жизнь, его арестуют и депортируют? Он, Герман, не платил налоги, поскольку зарабатывал мало, но тем не менее был обязан заполнять налоговую декларацию. А вдруг он должен федеральному правительству или штату несколько долларов, но забыл об этом, потому что проживает по двум адресам? А что ему писать в графе «род занятий»? Герман знал, что его разыскивают земляки из Цевкува, но предпочитал держаться от них подальше. Любые контакты были опасны для него. Где-то в Америке у Германа были дальние родственники, но он не знал, где они живут, да и не хотел знать…
Герман попробовал сам себя утешить и заговорить собственные страхи: а когда он не страдал от фобий и предчувствий? Ну, что такого может с ним случиться, чего еще не случалось? Зачем так зависеть от подачек и объедков, которые судьба ему подбрасывает, и заранее отказываться от этого мира или от мира грядущего? Но опять-таки, способно ли живое существо отказаться? Разве сама жизнь с философской точки зрения не есть акт страха и надежды? Разочаровавшиеся живут только в надежде на то, что покорность судьбе принесет им хоть частичку покоя. Даже те, кто кончает жизнь самоубийством, верят в то, что в могиле их ждет покой…
Вечер с Машей прошел как обычно: поссорились, помирились, поцеловались. Маша рассказывала множество историй из прошлого, путая имена, названия городов и даты. Герман уже давно смирился с тем, что никогда не узнает, кем она была на самом деле и что пережила. Противоречия были свойственны то ли ее личности, то ли событиям минувшей войны.
Рано утром Маше надо было идти на работу. Герман остался в постели. Он, как всегда, запаздывал с работой для рабби Лемперта, но рассчитывал сегодня как-нибудь закончить то, что от него требовалось. Герман дал раввину неправильный адрес для установки телефона, но, по-видимому, рабби Лемперт забыл о своей идее. Слава Богу, он был слишком погружен в свои собственные дела. Он тут же забывал то, о чем говорил, и не пересматривал свои записи. Вся Америка, вся экономика этой страны строится на спешке. Никто из старых философов и социологов не мог предсказать наступления подобной эпохи — эпохи ажиотажа. Работаем быстро, едим быстро, говорим быстро. Даже умираем быстро… «Кто знает, может, на небесах тоже торопятся? — Герман играл с понравившейся ему мыслью. — Может быть, спешка — один из атрибутов Бога?» Судя по движению электромагнитных волн и скорости расширения Вселенной (согласно самой последней теории), в мироздании царит ажиотаж. Бог нетерпелив. Ангелы в спешке поют гимны и выполняют задания. Господь подгоняет Метатрона[35], Метатрон торопит Сандалфона[36], серафимов, херувимов, офанимов и арелимов[37]. В материи толкутся молекулы, атомы и электроны. У самого времени нет времени, чтобы выполнить все задачи, которые оно взвалило на себя в этом бесконечном пространстве среди бесчисленных измерений. Эта спешка наверняка послужила причиной того, что Сатана, черти и бесенята получили такую власть. По-видимому, их миссия — подгонять Создателя, и именно из-за этой спешки Мессия запаздывает…
Герман зевнул и уснул. Его сны тоже торопились, наползали один на другой, противоречили всякой логике, разрушали структуру личности, искажали все категории мышления. Герман открыл глаза, часы показывали пятнадцать минут одиннадцатого. Шифра-Пуа молилась в другой комнате, тщательно проговаривая слова молитвы. Герман живо вскочил, пошел в ванную и наскоро побрился. Удивительно, что не порезался. Встреча с Машей была назначена на три часа. Герман захватил с собой рукописи для правки. Вскоре он был уже одет. Шифра-Пуа поставила завтрак на стол. На диване лежала газета на идише, и Герман пробежался по заголовкам: ну конечно, ни евреи, ни остальной мир ничего не знали об уничтожении евреев Гитлером. У них на это не было времени. История тоже торопится. По-видимому, ей надо готовиться к третьей мировой войне…
После кофе, когда Шифра-Пуа принялась мыть посуду, Герман развернул газету. Внезапно он увидел свое собственное имя и прочитал объявление: мистер Герман Бродер из Цевкува, вас просят обратиться к реб Аврому-Нисону Ярославеру… В объявлении был приведен адрес на Ист-Бродвее и телефон. Герман замер от удивления. Он развернул газету совершенно случайно, обычно он ограничивался просмотром передовицы. Герман знал, кто такой реб Авром-Нисон Ярославер, — это дядя Тамары, ученый муж, александровский хасид. После приезда в Америку Герман один раз встречался с этим человеком, родным дядей его жены, и обещал встретиться с ним снова. Дядя хотел всячески облагодетельствовать Германа, несмотря на то что его племянницы уже не было в живых и родственные связи были разорваны. Однако Герман скрывался от него, боясь, как бы тот не узнал о его браке с нееврейкой. И вдруг дядя разыскивает Германа через газету. «Что это может означать?» — спрашивал себя Герман. Он опасался этого человека, поддерживавшего общение с соотечественниками и родственниками. Еще впутает Германа в какую-нибудь историю, из которой потом не выбраться. «Я притворюсь, что ни о чем не знаю, — решил Герман. — Нет больше Германа Бродера!»
Долгое время он сидел, уставившись на объявление. Зазвонил телефон, Шифра-Пуа сняла трубку и тут же сказала:
— Герман, это вас. Маша.
Пока Герман брал трубку и разговаривал с Машей, Шифра-Пуа заглянула в газету и, по-видимому, сразу увидела объявление. Она с удивлением повернулась к Герману и показала пальцем на газету. Маша предупредила, что задержится на час на работе. Как только Герман повесил трубку, Шифра-Пуа сказала:
— Вас ищут через газету, вот здесь.
— Да, я видел.
— Позвоните. Там есть номер телефона. Кто это?
— Сам не знаю. Наверное, кто-то из земляков.
— Позвоните им. Это наверняка важно, если они пишут в газете.
— Важно для них, а не для меня.
Шифра-Пуа подняла глаза. Герман не двинулся с места. Потом он вырезал объявление и показал Шифре-Пуе, что на другой стороне тоже объявления и это не помешает ей дальше читать газету.
— Они хотят зазвать меня в землячество, — сказал Герман, — но на это у меня нет ни времени, ни терпения.
— Может, у вас нашелся какой-то родственник?
— У меня никого нет.
— Делайте, как знаете. В наше время поиски родных — это не ерунда. Мир сошел с ума. Люди, потерявшие близких, находят сестер, братьев и детей.
— Вся моя семья погибла.
Сначала Герман намеревался было вернуться в свою комнату и поработать несколько часов над рукописью, но передумал и, попрощавшись с Шифрой-Пуей, вышел на улицу. Встреча с Машей была назначена только на четыре. Герман направился к Тремонт-авеню прогулочным шагом. «Что бы это могло значить?» — спрашивал он сам себя. Он думал пойти в парк, сесть на скамейку и просмотреть рукопись, но ноги сами привели его к телефонной будке. Ему стало нехорошо на душе. Только теперь Герман понял, что предчувствие, терзавшее его в последние дни, было как-то связано с этим объявлением. Да, существуют такие явления, как телепатия, ясновидение, или как их еще называют? Свернув на Тремонт-авеню, Герман зашел в аптеку. Полный волнения и сомнений, он набирал номер телефона, указанный в объявлении, и при этом повторял: «Это безумие. Я сам себе усложняю жизнь…»
Герман набрал номер, телефон звонил, но никто не брал трубку. «Оно и к лучшему, — сказал себе Герман. — Больше не буду звонить». В ту же секунду он услышал вопрос реб Аврома-Нисона:
— Кто это, а? Алло!
Этот голос казался старым, сломленным и удивительно родным, хотя Герман всего один раз общался с реб Авромом-Нисоном лично, не по телефону. Кашлянув, Герман сказал:
— Это Герман, Герман Бродер.
Голос умолк, как если бы реб Авром-Нисон совсем не ожидал услышать это имя и онемел от удивления. Потом он словно собрался с силами и заговорил громче и четче:
— А, Герман! Вы прочитали объявление в газете? У меня для вас новость, но не пугайтесь. Это, не дай Бог, не плохая новость. Совсем наоборот. Только не волнуйтесь.
— Что случилось?
— Это касается Тамары-Рохл, Тамары. Она жива.
Герман не ответил. В самом деле, он совершенно не рассчитывал, что это может случиться, и выказал меньшую радость, нежели должен был в этом случае. Он проговорил:
— Дети…
— Детей больше нет.
Некоторое время Герман молчал. Это было молчание человека, уже привыкшего к невероятным поворотам собственной судьбы, человека, которого ничем не удивишь. Он впал в ступор. В душе не было ни печали, ни радости, лишь пустота. Машинально Герман произнес:
— Как это? Свидетель видел, как ее застрелили. Как там его имя? Я не припомню сейчас…
— Да, это правда. Фашисты стреляли в нее, в теле осталась пуля, но она выжила. Ночью она спряталась под грудой трупов, потом выбралась и скрывалась в доме у знакомого поляка. А позже уехала в Россию.
— Где она сейчас?
— У меня дома.
Последовало долгое тяжелое молчание. Потом Герман спросил:
— Когда она приехала?
— Она здесь с воскресенья. Просто постучала в дверь и вошла. Мы ищем вас по всему Нью-Йорку. Если хотите, я позову ее к телефону.
— Нет. Я скоро буду у вас.
— А?
— Я скоро буду у вас, — повторил Герман.
Он попытался положить трубку, но она выпала у него из рук и повисла на проводе. Герману показалось, что реб Авром-Нисон продолжал что-то говорить, но он взял трубку и повесил ее, отдавая себе отчет в том, что ведет себя грубо. Он даже не поблагодарил реб Аврома-Нисона. Герману стало душно, и он открыл дверь телефонной будки. Пот стекал по лбу. Он стоял, вперив взгляд в стойку буфета, расположенную на противоположной стороне. За стойкой сидела женщина на высоком стуле и пила какой-то напиток через трубочку, а молодой человек угощал ее печеньем. Герман вышел из телефонной будки и отправился к двери. Он казался совершенно спокойным, только ноги стали ватными, а шаг — нетвердым. Герман вышел из будки и глубоко вдохнул уличный воздух. «Ну вот», — сказал он сам себе. Это означало: вот в чем смысл моего предчувствия… Но было и другое значение: в моем положении остается только принимать факты такими, какие они есть… Маша порой упрекала Германа, называла его роботом, и в этот раз он признал ее правоту. Как будто источник эмоций в сознании Германа засорился и остался лишь холодный рассудок. В четыре он встречается с Машей в кафетерии. Он пообещал Ядвиге, что сегодня вечером вернется домой. Кроме того, надо закончить работу для раввина… Герман стоял на проходе. Посетители аптеки натыкались на него. Внезапно он вспомнил определение чуда, данное Спинозой: это состояние, когда сознание замирает без движения перед чем-то, что не имеет связи с чем-то другим… Герман шел, сам не понимая куда. Он забыл, в какой стороне находится кафетерий. Подойдя к почтовому ящику, он вновь остановился. «Тамара жива!» — бормотал он, чтобы лучше осознать смысл этих слов. Это было похоже на шутку Провидения. Все, кого он любил, погибли, но эта истеричная женщина, которая мучила Германа многие годы и с которой он еще до войны хотел развестись, воскресла из мертвых. «Вот теперь будет настоящий ад!» — говорил себе Герман. Вдруг ему захотелось смеяться. Его оппонент, небесный соперник, метафизический противник, который на время покинул Германа — может быть, потому, что нет смысла бить лежачего, — внезапно нанес ему мощный удар: шах и мат!
Герман знал, что теперь дорога каждая минута, но не мог двинуться с места. Подошла женщина и, бросив письмо в почтовый ящик, с подозрением посмотрела на Германа. Он облокотился на ящик. Бежать? Куда? С кем? Маша не могла оставить мать. У него, Германа, нет денег. Вчера он забрал то, что осталось от пяти долларов, и это весь его капитал до тех пор, пока раввин не выдаст ему новый чек. А что он скажет Маше? Мать расскажет ей про объявление.
Герман посмотрел на часы. Короткая стрелка показывала одиннадцать, а длинная подошла к трем, но Герман не мог определить, который час. Он всмотрелся в циферблат так, будто для того, чтобы верно узнать время, требовалось духовное напряжение. «Если бы, по крайней мере, на мне был приличный костюм», — подумал Герман. Несмотря на смятение, ему не хотелось появляться в чужом доме плохо одетым, в мятых брюках и со стоптанными каблуками. Герман действительно не стремился к успеху в Америке, но стыдился идти в гости в поношенной одежде. Впервые в нем взыграло тщеславие типичного эмигранта: показать, что у него все в порядке… Одновременно кто-то внутри него потешался над этим желанием…
II
Герман вернулся к линии «L» и поднялся по лестнице. Он сам не знал, какое чувство в нем преобладает: удивление, любопытство или страх перед предстоящими трудностями. Герман словно принял большую дозу наркотика, зная, что его действие наступит позже. Возвращение Тамары не повлекло за собой никаких изменений, разве что в голове у Германа. В вагонах пассажиры читали газеты и жевали резинку как ни в чем не бывало. По-прежнему жужжали вентиляторы. Герман поднял с пола истоптанный газетный лист и попытался прочесть репортаж об игроках на скачках. «Что ж, люди находят в этом забвение», — мысленно оправдывал их Герман. Перевернув страницу, он прочитал анекдот и даже улыбнулся. «Анекдот остается анекдотом, даже для того, кто всходит на эшафот», — сказал он сам себе. При всей субъективности явлений в них преобладает мистическая объективность…
Герман нашел скамью с одним сиденьем и сел на нее, довольный отсутствием соседей. Он закрыл глаза и оказался в своей собственной темноте. Он даже опустил поля шляпы, чтобы тусклый свет ламп не просачивался сквозь ресницы. Сквозь дремоту Герман думал: «Двоеженство? Да, двоеженство». В какой-то степени его даже можно обвинить в многоженстве… За то время, пока Тамара считалась погибшей, он нашел в ней множество достоинств. Она любила его. Истеричный характер достался ей по наследству. Ей нельзя было заводить детей. По сути своей она была человеком высоко духовным, со всеми сложностями и болевыми точками, присущими таким натурам. Герман часто обращался к ее святой душе и просил у нее прощения. Но в то же время он отдавал себе отчет в том, что Тамарина смерть избавила его от невыносимых страданий. Даже сеновал в Липске казался ему курортом по сравнению с прежними скандалами с Тамарой…
«Может быть, она стала спокойнее? — задавался вопросом Герман. — Сколько ей лет?» Он не мог вычислить ее возраст. Ясно только, что Тамара старше Германа. Он попытался разобраться с происшедшим и привести мысли в порядок. В Тамару стреляли, и она, с пулей в теле, нашла приют у поляка. Там ее, по-видимому, вылечили, и она переправилась в Россию. Но как? Как можно было в разгар войны пересечь границу? Скорее всего, это произошло весной 1941 года. Ну и где она находилась все эти годы? Почему она не дала о себе знать после 1945 года? По правде говоря, он, Герман, тоже не искал Тамару. Он никогда не заглядывал в списки пропавших родственников, публиковавшиеся в газетах. И, несмотря на все это, она смогла прорваться в Польшу, а затем и в Германию. «Раз большевики не отправили ее в лагерь, значит, у нее кто-то был, — промелькнула мысль у Германа, — русский или татарин… Кто-нибудь когда-нибудь уже находился в таком же положении, как я? — спрашивал себя Герман. — Нет, никто и никогда». Понадобятся еще триллионы и квадриллионы лет, чтобы повторилось такое сочетание обстоятельств… От полного отчаяния Герману захотелось смеяться. Чего хотят от него Небеса? Какую миссию возлагают на него? Какой-то небесный стратег составил коварный план и играет с Германом в — как это у них называется — войну на истощение? Неземной садист проводит над ним эксперименты, похожие на те, что немецкие врачи проводили над евреями…
Поезд остановился, Герман вскочил: Четырнадцатая улица! Он вышел из вагона и направился к автобусу, идущему в Ист-Сайд. Герман уже ездил туда несколько раз: на лекцию на идише, в кинотеатр на Клинтон-стрит, где показывали фильмы на идише, в еврейские книжные лавки на Канал-стрит, где он искал книги на идише для работы на рабби Лемперта… С утра погода казалась прохладной, но с каждой минутой день становился все жарче. Его рубашка намокла и липла к спине. Что-то в одежде давило, но он не знал, что именно: воротник, резинка от нижнего белья или туфли. Пройдя мимо зеркала, Герман увидел в нем себя: исхудавшего, немного сутулого, в бесформенной шляпе и мятых брюках. Его галстук перекрутился. Герман побрился несколько часов назад, но на щеках снова пробивалась щетина. «Я не могу появиться там в таком виде!» — обеспокоенно сказал себе Герман. Он замедлил шаг, чтобы остыть и подсушить рубашку. Герман рассматривал витрины. Наверняка здесь можно купить дешевую рубашку. Может, погладить костюм? По меньшей мере, надо почистить ботинки… Герман уселся на ящик, негритенок принялся мазать ботинки гуталином и сквозь кожу щекотать ему ноги кончиками пальцев. Герман вдохнул смрадный воздух, полный пыли и запахов бензина, асфальта и пота. «Как долго легкие могут это выдерживать? — спросил он сам себя. — Как долго может существовать эта сама себя уничтожающая цивилизация? Они задохнутся… Сначала все сойдут с ума, а потом задохнутся…» Негритенок начал было что-то говорить о Германовых ботинках, но тот не понял его английского. Мальчишка произносил только половину слов. Он был полуголый. По его прямоугольной голове с косичками тек липкий пот. Черные глаза глядели с первобытной мягкостью и терпением, унаследованным от поколений африканцев.
— Как продвигается бизнес? — спросил Герман, чтобы хоть что-нибудь сказать.
И негритенок ответил:
— Pretty good…[38]
III
Сидя в автобусе, идущем с Юнион-сквер на Ист-Бродвей, Герман вспомнил, что кто-то в Нью-Йорке рассказывал ему о реб Авроме-Нисоне Ярославере. Этот человек приехал в Нью-Йорк за две недели до нападения Гитлера на Польшу. У реб Аврома-Нисона в Люблине было маленькое издательство, выпускавшее репринты старых книг. Однажды он ездил в Оксфорд, чтобы взглянуть на рукопись одного из ранних мудрецов Талмуда. В Нью-Йорк он приехал, чтобы набрать подписчиков для издания одного из трактатов Мегале Амукот.[39] Потом у реб Аврома-Нисона в Польше погибли жена и дети. В Нью-Йорке он женился на вдове раввина, стал переписчиком и толкователем священных книг. Он собирал материалы для своеобразного словаря с именами великих раввинов, хасидских ребе и других авторов, погибших от рук нацистов. Его жена Шева-Хадаса ему помогала. Реб Авром-Нисон Ярославер и Шева-Хадаса приняли на себя обязанность проводить траурную церемонию по мученикам, погибшим в Европе, раз в неделю по понедельникам. В этот день они постились, сидели в носках на низеньких скамеечках и полностью соблюдали траурный ритуал.
Герман подошел к указанному дому на Ист-Бродвее и посмотрел в окна квартиры реб Аврома-Нисона на первом этаже. Они были наполовину задернуты шторами, точно такими же, какие висели в домах у раввинов в Европе. Герман поднялся по ступенькам и нажал на звонок. Ответили не сразу. Напряженная тишина стояла за дверью с мезузой в деревянном футляре, как будто там внутри шепотом спорили, стоит ли его впускать. Через некоторое время Герман услышал шаги. Дверь медленно открылась. На пороге стояла женщина, по-видимому Шева-Хадаса: невысокая, худая, с очками на горбатом носу, морщинистыми щеками, узким подбородком, в платье с высоким воротничком и платком на голове. Она выглядела точно так же, как выглядели благочестивые еврейки в Польше. В ее облике и одежде не было ничего американского, никакого намека на спешку и возбуждение, словно подобные встречи между мужем и женой были для нее обычным делом.
Герман поздоровался с Шевой, она кивнула в ответ. Они молча прошли по коридору. В средней комнате стоял реб Авром-Нисон Ярославер, человек небольшого роста, коренастый, сутулый, с бледным лицом, окладистой светлой с проседью бородой, взлохмаченными пейсами, высоким лбом, разлинованным, как пергамент, и в приплюснутой ермолке. Его карие глаза под желтовато-серыми веками смотрели с печалью, о которой Герман уже почти забыл, — еврейской печалью, древней, как еврейское изгнание, печалью покаянных молитв, плачей, причитаний Судного дня, воспоминаний о школьных набегах,[40] Хмельничине[41], Уманской резне и отряде Гонты[42], истреблениях и гонениях, упомянутых только в самых старых молитвенниках. Из-под расстегнутой капоты торчал широкий арбоканфес. Даже запахи в этом доме напоминают о прошлом. Здесь пахнет припущенным луком, чесноком, засохшей халой, селедкой, цикорием, гуталином и еще чем-то непонятным, о чем помнит только нос. Реб Авром-Нисон посмотрел на Германа, и по его взгляду было ясно: слова здесь не нужны. Он бросил взгляд на дверь, ведущую в другую комнату.
— Позови ее, — сказал он жене.
Женщина медленно пошла в другую комнату.
— Да, чудо небесное, — сказал реб Авром-Нисон.
Время тянулось медленно. Герману показалось, что он слышит торопливый шепот в соседней комнате, как будто женщины спорили о чем-то. Все в нем успокоилось, как случается, когда подходишь к гробу взглянуть на умершего родственника… Дверь открылась, и Шева-Хадаса ввела Тамару, словно невесту под венец. Герман тут же все понял. Он думал, что Тамара постарела, но она выглядела необычайно молодо. Тамара была одета в американскую одежду и наверняка посетила салон красоты. Ее волосы были иссиня-черными, блестящими от свежей краски. Тамара нарумянила щеки, выщипала брови и накрасила ногти красным лаком. Она напомнила Герману буханку несвежего хлеба, который немного подрумянили в горячей печке. Желтые глаза смотрели в сторону. До этого момента Герман готов был поклясться, что помнит Тамарино лицо во всех деталях, но теперь он заметил в нем то, о чем успел уже позабыть: складки в углах рта, которые были у нее всегда и придавали лицу выражение печали, подозрительности, презрения и даже насмешки. Герман стоял, уставившись на нее. Да, это была Тамара: тот же нос с горбинкой, высокие скулы, та же форма рта, подбородок, губы и уши. У Германа словно отнялся язык, он никак не мог подобрать слова. Губы произнесли словно сами по себе:
— Надеюсь, ты узнаешь меня.
— Да, я тебя узнаю, — ответила она, и это был Тамарин голос, хотя и немного изменившийся, а может быть, она им хорошо владела.
Реб Авром-Нисон подал знак жене, и оба вышли из комнаты. Герман и Тамара еще долгое время молчали. «Зачем они надели на нее это розовое платье?» — спрашивал себя Герман. Его смущение прошло, и Герман почувствовал что-то вроде раздражения по отношению к женщине, которая присутствовала при расстреле их общих детей и при этом позволила себе так вырядиться. Теперь он был доволен тем, что не надел для нее свой парадный костюм. Ему стало холодно. Он снова превратился в прежнего Германа — мужа, который не ладил со своей женой и в конце концов ушел от нее.
— Я не знал, что ты жива, — сказал Герман и сам устыдился собственных слов.
— Об этом ты никогда не знал, — ответила Тамара в своей прежней манере.
— Ну, присядь сюда, на диван.
— Хорошо.
Тамара села. На ней были капроновые чулки. Она поправила подол платья, на секунду обнаживший ее колено. Герман стоял напротив нее у стола в оцепенении — реальный человек, оказавшийся в абсолютно фантастической ситуации. Ему пришло в голову, что так встречаются души умерших. Между этим миром и тем. Между бытием и небытием. Они говорят на языке живых, потому что еще не выучили язык мертвых… Герман спросил:
— На чем ты приехала? На корабле?
— Нет, самолетом.
— Из Германии?
— Нет, из Стокгольма.
— Где ты была все это время? В России?
Тамара ответила не сразу, словно раздумывая над вопросом:
— Да, в России.
Герман вздрогнул:
— Я не знал, что ты жива. Правда. До сегодняшнего утра. Ко мне пришел свидетель и рассказал, что присутствовал при расстреле, твоем и де…
— Да? Кто он? Никто не выбрался оттуда живым. Если он только не нацист.
— Нет, еврей.
— Этого не может быть. В меня попало две пули. Одна до сих пор во мне, — Тамара показала на левое бедро.
— Ее нельзя извлечь?
— Можно попробовать здесь, в Америке.
— Ты словно восстала из мертвых.
— Что? Да, на мне лежали десятки мертвецов, целая груда. Было тихо, я была мертва. И вдруг я почувствовала, что жива, и принялась выбираться из-под трупов.
— Где это произошло? В Каламине?
— Рядом, в поле. Ночью я шла, истекая кровью. Шел дождь. Если бы не он, нацисты бы выследили меня.
— А кто этот поляк?
— Павел Цехонский. У отца были дела с ним. Я подумала: чем я рискую? В худшем случае он меня убьет.
— А он тебя спас?
— Я провела у него четыре месяца. Докторам нельзя было доверять. Он был моим врачом. Он и его жена.
— Ты их видела после войны?
— Их уже нет в живых.
— Вот так Господь награждает за добрые дела…
Тамара не ответила. У нее явно изменился характер. Герман никогда не видел, чтобы она была немногословна или молчала. Он помнил Тамарины бесконечные претензии: она говорила, кричала, плакала. Ее говорливость не утихала и в самые интимные мгновения. Даже во сне она бормотала, вскрикивала и стонала. В те считанные разы, когда Герман ходил с ней в театр или в кино, она ни на минуту не закрывала рта. А теперь Тамара сидела и смотрела на него искоса, молча. Герману стало стыдно перед ней за свой потрепанный костюм. У него появилось подозрение, что у Тамары был другой мужчина или несколько. Герман почувствовал, что забыл задать самый важный вопрос, но не помнил, какой именно. Он услышал Тамарин голос:
— Как так вышло, что дядя не знал твоего адреса? Мы поместили объявление в газету.
— У меня нет своей квартиры. Я живу у одного человека.
— И все же ты мог оставить адрес.
— Зачем? Я ни с кем не общаюсь.
— Почему же?
Герман хотел ответить, но слова застряли у него в горле. Он отодвинул стул от стола и присел на краешек. Его охватило что-то вроде амнезии. Герман понимал, что надо спросить о детях, но не мог произнести этого слова. Он почти никогда о них не упоминал, даже в разговорах с Ядвигой или Машей. Герман боялся слова «дети». От разговоров о живых, здоровых детях он впадал в панику. Каждый раз, когда Ядвига или Маша говорили, что хотят от него ребенка, он грубо перебивал их. Ему даже удалось избавиться от воспоминаний о своем отцовстве. Где-то в бумагах у него лежали фотографии Йохведл и Довидла, но Герман никогда не доставал их из ящика, где они были спрятаны. Он, Герман, никогда не хотел детей и не занимался ими, как подобает отцу. В те годы, когда они жили вместе, дети всегда тянулись к Герману, особенно старшая, Йохведл, а он избегал их. Был случай, когда он отказался от них, изобразив из себя холостяка. С Тамарой вернулись и воспоминания о его преступлении. Герман боялся, что она начнет плакать и причитать, но Тамара держала себя в руках. Он услышал свой голос:
— Когда ты узнала, что я жив?
Тамара рассеянно посмотрела на него:
— Когда? Уже после войны. По чистой случайности.
— Как это? Впрочем, все равно.
— Разве? Одна моя знакомая, вернее, близкая подруга распаковывала посылку, завернутую в мюнхенскую газету на идише, и увидела в ней твое имя. Как весть об этом дошла до меня — это сказка тысячи и одной ночи, потому что подруга не знала, где я нахожусь. К тому времени мы уже расстались.
— А где ты была тогда? Все еще в России?
Тамара не ответила, а Герман не стал дальше расспрашивать. Из опыта общения с Машей и встреч с беженцами в германских лагерях он знал, что от людей, прошедших через концлагеря или скитания по России, никогда не добиться правды. Не потому, что они лгут, а потому, что об этих ужасах так просто не расскажешь…
IV
— Где ты живешь? — спросила Тамара. — Чем ты занимаешься?
В автобусе Герман уже успел приготовиться к Тамариным вопросам, но теперь от растерянности не мог ответить. Он начал говорить первое, что пришло в голову:
— Я не знал, что ты жива и…
На Тамарином лице появилась кривая усмешка.
— Кому посчастливилось занять мое место?
— Она нееврейка, из польской семьи, у которой я прятался.
Тамара задумалась на минуту:
— Крестьянка?
— Да.
— Это цена, которую ты заплатил?
— Можно и так сказать.
— Что ж, я понимаю.
— А как у тебя? Ты тоже вышла замуж?
Тамара посмотрела Герману прямо в глаза, но ничего не ответила. Это был взгляд, полный сочувствия и жалости. Ее лицо приняло выражение задумчивости, которое бывает у того, кто говорит об одной вещи, думая о другой.
— Так чем ты занимаешься?
— Я работаю на рабби, американского раввина.
— Что ты делаешь для раввина? Разрешаешь галахические вопросы?
— Я пишу для него книги.
— А он-то что делает? Развлекается с девками?
— Что-то вроде этого. Тебе, по-видимому, уже все рассказали об Америке.
— У нас в лагере была женщина из Америки. Ей вздумалось поехать к Сталину искать правды, и ее тут же отправили в лагерь. Там она и умерла. У меня был где-то адрес ее сестры. Перед смертью она взяла мою руку и попросила отыскать ее родственников и рассказать им правду.
— Она была из семьи коммунистов?
— Скорее всего.
— Они не поверят тебе. Они все как под гипнозом.
— Их всех депортировали. Мужчин отправили на изнурительные работы, морили голодом. Я видела все это собственными глазами. Если бы не видела, тоже бы не поверила.
— Так что с тобой случилось?
Тамара прикусила нижнюю губу и отрицательно помотала головой. Она смотрела на Германа и одновременно сквозь него. Это была уже не та Тамара, которую он знал. От нее исходили озлобленность и некая гордость, которой не было раньше. «Может, это не Тамара, а ее сестра?» — промелькнула мысль у Германа. И тут Тамара начала рассказывать:
— О том, что со мной случилось, никому и не расскажешь. Я скажу тебе правду: я сама об этом не знаю. Случилось столько всего, что иногда кажется, будто ничего и не было. О многом я начисто забыла, даже о нашей жизни вместе. Я лежала на нарах в Казахстане и пыталась восстановить в памяти, почему тем летом тридцать девятого я забрала детей и уехала к отцу, но совершенно ничего не могла вспомнить.
Целыми днями мы пилили бревна в лесу, мы работали по двенадцать — четырнадцать часов в день. Ночью было так холодно, что я глаз не могла сомкнуть. Пахло так, что невозможно было дышать. Люди заболевали цингой. Вот говорит с тобой человек, строит планы на жизнь. И вдруг он замолкает. Ты говоришь с ним, а он не отвечает. Подходишь ближе, а он уже мертв.
Так вот, лежу я и думаю, почему я тогда не уехала с тобой в Цевкув. И ничего не помню. Говорят, это психическая болезнь, у нее есть название. Очень неприятно: иногда я все помню, а иногда ничего. Там нас учили быть безбожниками, но я знаю, что все предопределено. Мне выпало присутствовать при том, как папе выдрали бороду и кусок щеки в придачу. Тому, кто не видел папу в те минуты, не понять, что значит быть евреем. Я и сама об этом не знала, да и сейчас не знаю. Знала бы, пошла бы по его стопам.
Видишь ли, мама не выдержала испытания, упала в ноги убийцам, а те плевали в нее и топтали сапогами. Меня они хотели изнасиловать, но у меня были месячные, а ты же знаешь, какое у меня сильное кровотечение. Оно уже прекратилось. Уже прекратилось. Откуда взяться крови, когда нет хлеба? Так зачем ты спрашиваешь меня, что произошло? Пылинка, гонимая ветром по горам, по долам, не знает, где ее носило. А кто тот поляк, что тебя спрятал?
— Не поляк. Это наша прислуга. Ты ее хорошо знала: Ядзя, Ядвига.
— Она? Как раз ее я помню. На ней ты и женился?
Казалось, Тамара сейчас рассмеется.
— Да, на ней.
— Прости, но тогда она была уродлива и к тому же глупа. Твоя мама часто рассказывала нам о ее бестолковости. Она даже туфель не умела надеть. Помню, свекровь рассказывала, что Ядвига пыталась натянуть левую туфлю на правую ногу. А однажды ей дали деньги на покупки, и она их потеряла.
— Она спасла мне жизнь.
— Ну да. Жизнь дороже всего. Где ты женился на ней, в Польше?
— В Германии.
— А по-другому ты не мог ее отблагодарить? Ладно, лучше не буду спрашивать.
— И спрашивать нечего. Так оно и есть.
Тамара оглядела собственную ногу, чуть приподняла платье, почесала колено и сразу одернула подол.
— Где вы с ней живете? Здесь, в Нью-Йорке?
— В Бронксе. Это часть Нью-Йорка.
— Я знаю. У меня там есть один адрес. У меня целая книжка с адресами. Мне понадобился бы год, чтобы их все обойти и рассказать, как умер этот да как умер тот. Я уже была в Бруклине. Тетя объяснила мне дорогу, и я сама доехала на метро. Захожу в дом, а они не понимают ни слова на идише. Я попробовала по-русски, по-польски, по-немецки, но они знали только английский. Я назвала имя и объяснилась жестами, показав, что их тетя умерла. Дети просто смеялись. Мама с виду милая женщина, но не еврейка, совсем не еврейка. О том, что сделали нацисты, уже хоть что-то известно, хоть капля в море. А вот о том, что вытворяет Сталин, мир не знает. И даже те, кто живет там, всего не знают. Ты сказал, как ты зарабатываешь на жизнь? Пишешь для раввина?
Герман задумался:
— Можно и так сказать. Я зарабатываю в основном тем, что езжу торговать книгами.
— И этим тоже? Какими книгами, на идише?
— На идише, на иврите, на английском.
— Куда ты ездишь?
— По разным городам.
— А что делает твоя крестьянка, пока тебя нет?
— Что делают жены, когда мужья в отъезде? Здесь в Америке это уважаемая профессия — коммивояжер, так это здесь называется.
— У вас есть дети?
— Дети? Нет.
— Что ты так испугался? Я уже ничему не удивляюсь. Я видела еврейских девушек, выходивших замуж за немцев, в прошлом нацистов. Я лучше помолчу о том, что вытворяли еврейки, чтобы спасти свою шкуру. На соседней кровати брат развлекался с сестрой. Они настолько стыд потеряли, что не могли дождаться темноты. Что тут может меня удивить? Где она тебя прятала?
— Ядзя? Я же тебе сказал: на сеновале.
— А родители об этом не знали?
— У нее есть только мать.
— Мать знала?
— Нет.
— Глупости. Знали они, но крестьяне — народ хитрый. Они сразу просчитали, что после войны ты женишься на ней и заберешь с собой в Америку. Ты наверняка забрался к ней в постель еще тогда, когда жил со мной.
— Никуда я не забирался, прекрати говорить ерунду. Откуда им было знать, что мне дадут американскую визу? Речь вообще шла о том, чтобы ехать в Палестину.
— Они знали, знали. Может быть, она и идиотка, но ее мать переговорила с другими крестьянами. Мол, так и так. Все хотят ехать в Америку. Весь мир хочет в Америку. Если бы открыли границы, в Америке иголке было бы негде упасть. Ты думаешь, что я злюсь на тебя? Во-первых, я уже ни на кого не злюсь. Во-вторых, ты не знал, что я жива. В-третьих, ты обманывал меня еще тогда, когда мы были вместе. Ты ушел от меня. Ты ушел от детей. Даже писем не писал в последние недели, хотя война могла начаться с минуты на минуту. Я знаю отцов, прорвавшихся через линию фронта, прошедших сквозь огонь, только чтобы быть вместе со своими детьми. Я знаю мужчин, бежавших в Россию, но вернувшихся на оккупированную нацистами территорию из-за тоски по своим семьям. А ты остался сидеть в Цевкуве, укрывшись на сеновале у своей любовницы. Какие претензии могут быть у меня к такому человеку? А почему ты не завел с ней детей?
— Не завел, и точка.
— Что ты так на меня смотришь? Ты женился, а я не замужем. Коль скоро внуки моего отца были для тебя недостаточно хороши и ты стыдился их, как парши, почему ты не завел новых детей с Ядвигой? Ее отец был, конечно, человеком более достойным, чем мой…
— Да, ты не изменилась.
— Нет, изменилась. Перед тобой другой человек. Не молодой и не старый. Да, я выбралась из-под груды трупов, но та Тамара, что оставила детей, семью и всех остальных евреев И бежала в Скибу — так называется та деревня, — это уже другая Тамара. Я, чтоб ты знал, умерла. А когда жена умерла, муж может делать, что хочет. Да, действительно, мое тело бродит по Земле, и даже дотащилось до Нью-Йорка. На меня надели капроновые чулки, покрасили волосы и даже ногти, позор для моих лет. Но у гоев всегда разукрашивали мертвецов, а в сегодняшних евреях не осталось ничего еврейского. Раз так, я ни на что не жалуюсь и никого не ревную. Я бы даже не удивилась, если бы ты женился на нацистке, одной из тех, что топтали каблуками еврейских девушек и танцевал среди трупов. Меня больше ничего не удивляет.
— Вот как?
— Да, так. И все же это показательно, что ты всю войну пролежал на сеновале. Шесть миллионов евреев прошли через ад, а ты лежал на сене, и твоя служанка-любовница приносила тебе поесть. Так откуда тебе знать, что произошло? Надеюсь, ты не ведешь себя со своей крестьянкой так, как обходился со мной.
На некоторое время наступила тишина. За дверью, ведущей в коридор и на кухню, послышались шаги.
V
Дверь открылась. Сначала вошел реб Авром-Нисон Ярославер, за ним — Шева-Хадаса. Они не шли, а волочили ноги.
— У вас наверняка нет квартиры, — сказал реб Авром-Нисон. — Пока не найдете квартиру, можете жить у нас. Гостеприимство — это заповедь, да и потом вы наши родственники — «и от единокровного твоего не укрывайся»[43].
Тамара подняла глаза:
— Дядя, у него есть другая жена.
Шева-Хадаса всплеснула руками. Реб Авром-Нисон стоял потупившись.
— Ну, тогда это другое дело…
— Ко мне приходил очевидец и рассказал, что присутствовал при том, как они…
Герман осекся. Он забыл предупредить Тамару о том, чтобы та ничего не рассказывала. Он поднял глаза и отрицательно покачал головой. Герман стоял пристыженный перед благочестивым евреем реб Авромом-Нисоном и его чинной женой. Только бы Тамара не проговорилась о том, что его жена — нееврейка!
У Германа появилось детское желание удрать из этого дома до того, как его опозорят, и он, сам того не сознавая, попятился к выходу.
— Не убегай. Я не буду тебя ни к чему принуждать, — сказала Тамара холодно и с отчужденностью в голосе.
— О таком только в газетах и писать, — отозвалась Шева-Хадаса.
— Вы, избави Бог, не совершили никакого греха, — проговорил реб Авром-Нисон. — Если бы вы знали, что Тамара жива, это было бы, не приведи Господь, прелюбодеяние. Но так это просто херем рабейну Гершома[44]. А коль скоро у вас был свидетель гибели Тамары, не дай Бог, дело нельзя толковать как херем. Вы просто должны развестись с той женщиной. Странно, что вы нам о ней не рассказывали…
— Я не хотел вас огорчать.
И Герман снова сделал знак Тамаре, приложив палец к губам. Реб Авром-Нисон схватился за бороду. Шева-Хадаса склонялась все ниже. Глаза ее источали печаль, древнюю, как весь женский род, голова в платке вздрагивала и кивала, смиряясь с древней бедой — мужской неверностью и страстью к чужому лону, от которой не смогли избавиться даже праведники. Казалось, что Шева-Хадаса говорит про себя: «Так было и так будет». Она сделала шаг вперед.
— Такие вещи мужу с женой положено обсуждать наедине, — сказала она. — Я пока приготовлю что-нибудь поесть.
— Спасибо, я только что поел, — поспешно проговорил Герман.
— Его жена хорошо готовит. Надо думать, она приготовила ему на завтрак жирный бульон. — Тамара подмигнула и состроила гримасу, какую делают обычно евреи, говоря о свинине, — смесь отвращения и насмешки.
— Чашку чаю с печеньем? — спросила Шева-Хадаса.
— Нет, правда, ничего не надо.
— Знаете что? Идите-ка в другую комнату и обо всем поговорите, — предложил реб Авром-Нисон. — Вот отдельная комната. Эти дела решаются с глазу на глаз. Если я смогу вам чем-то помочь, буду рад это сделать. Такие времена! — продолжал он другим тоном. — Мы живем в эпоху хаоса. Во всем виноваты безбожники. Это они сеют смуту в мире. Вы здесь ни при чем…
— Дядя, и среди евреев хватает безбожников. Кто, как ты думаешь, привел нас на то поле? Евреи-полицейские. На рассвете они врывались во все двери, обыскивали чердаки и подвалы, а если кто-то пытался спрятаться, били его резиновыми дубинками. Они обвязали нас веревкой, как скот, который ведут на убой. Я попыталась заговорить с одним из них, так он ударил меня так, что я до сих пор чувствую боль. Эти идиоты не знали, что их тоже не пощадят.
— Незнание есть корень зла.
— Русские гэпэушники не лучше нацистов.
— М-да, «и преклонился человек, и унизился муж»[45]. Если не верить в Создателя, то кругом будет хаос.
— Таков род человеческий, — сказал Герман, словно сам себе.
— Что? «Помышление сердца человеческого — зло от юности его»[46]. Но поэтому и существует Тора. Так, пойдите туда и поговорите обо всем.
Реб Авром-Нисон открыл дверь в спальню. Там стояли две кровати, одна рядом с другой, как раньше в еврейских домах. Они были застелены покрывалами, которые не встретишь в здешних краях. Тамара пожала плечами и первой вошла в комнату, Герман последовал за ней. Это напомнило ему ту комнату, в которую много лет назад ввели его и Тамару — Тамару-Рохл — в ночь после свадьбы.
За окном шумел Нью-Йорк, но здесь, за гардинами, был Каламин или Цевкув. Все напоминало о прошлом: цвет стен, почерневший потолок, дощатый пол, даже форма комода и обивка кресел. «Самый умелый режиссер не смог бы подобрать более удачных декораций», — подумал Герман. Ему показалось, что в комнате пахнет нюхательным табаком. Герман устроился в кресле, а Тамара присела на краешек кровати.
— Ты не обязана мне рассказывать, но… — начал Герман. — Раз ты считала, что меня нет в живых, ты, конечно же… с другими…
И больше он не мог произнести ни слова. Герман словно захлебнулся в собственных словах. Его рубашка вновь намокла, он почувствовал, как струйка пота стекает по спине.
Тамара испытующе поглядела на него и с видом победителя ответила:
— Тебе хочется знать, да? Всю правду?
— Ты не обязана ничего мне рассказывать. Я был абсолютно искренен с тобой и заслужил, чтобы ты…
— А у тебя есть выбор? Ты обязан говорить мне правду. По закону я твоя жена, а это значит, что у тебя есть две жены. Здесь строго относятся к подобным вещам. Что касается меня, то я хотела бы, чтобы ты усвоил одну вещь: я не отношусь к любви, как к спорту.
— Я и не говорил, что это спорт.
— Это ты сделал карикатуру из нашей совместной жизни. Я пришла к тебе невинной девочкой…
— Прекрати! Прекрати!
— Чтоб ты знал: как бы мы ни страдали и ни были уверены, что наши дни или даже часы сочтены, мы жаждали любви. Мы тосковали по ней еще больше, чем в обычной жизни. Люди лежали в подвалах и на чердаках, голодные и завшивевшие, но при этом целовались и держались за руки. Я никогда не предполагала, что люди могут быть такими легкомысленными. Так же было и в России. Для тебя я всегда была хуже пустого места, и я тебя не виню. В Торе не написано, что я должна тебе нравиться. Но другие мужчины пожирали меня глазами.
Несчастливая моя доля! Моих детей расстреляли, а мужчины требовали от меня любви. Я им четко дала понять: моя душа в этом не участвует. Меня хотели купить — купить за буханку хлеба, кусок жира или какое-нибудь послабление на работе. И не думай, что это мелочь. Кусочек хлеба был моей мечтой. Пара картофелин была для меня целым состоянием. В лагерях торговали собой, да еще как! Мне рассказывали о сделках, заключенных — и смех, и грех — на пороге газовой камеры. По правде говоря, всю выручку можно было спрятать в одной туфле. Вот так, всеми силами, люди пытались спасти свою жизнь. После приезда в Россию сначала у меня были богатыри — красивые мужчины, моложе меня, с красивыми женами. Они волочились за мной и обещали златые горы.
Мне даже в голову не приходило, что ты жив. Да даже если бы и пришло, я тебе ничем не обязана. Напротив, я хотела избавиться от своих воспоминаний. Но одно дело — хотеть, а совсем другое — иметь возможность это сделать. У меня была потребность влюбиться. Мне необходимо любить мужчину. Если нет, он вызывает во мне отвращение. Я часто завидую женщинам, которые играют в любовь. Что такое любовь, как не игра? И что такое вообще человек? В сто раз хуже самого мерзкого животного. Но что-то во мне сопротивлялось этому — кровь моих проклятых прабабок.
Я говорила себе, что я полная дура. Но когда мужчина дотрагивался до меня, я отстранялась. Они считали меня сумасшедшей и были правы. Меня поносили, называли лицемеркой и еще хуже того. Люди становились грубыми, обнаруживая свое происхождение от обезьяны. Один почтенный еврей в течение нескольких часов пытался меня изнасиловать. В придачу ко всему этому они еще принимались меня сватать. Все твердили одно: вы еще молодая женщина, вам нужно замуж. И в результате семью завел ты, а не я. В одном я уверена: Бога нет.
— Так у тебя никого не было?
— Ты так говоришь, будто ты разочарован. Нет, у меня никого не было, но тебя это не касается. У меня никого не было и никого уже не будет. Я хотела сохранить чистоту не для тебя, а для своих детей…
— Ты же говоришь, что Бога нет.
— Нет. Если Бог смотрит на все это и молчит, то никакой Он не Бог. Я разговаривала с соблюдающими евреями и даже с раввинами.
К нам в лагерь попал молодой человек — раньше он был раввином в Старом Джикове, — вот это был праведник, каких поискать. Он, бедняга, работал на лесоповале, хотя и был слишком слаб для такой работы. Красные убийцы прекрасно знали, что от его работы никакой пользы, но замучить раввина — это их святая обязанность. По субботам он не брал домой порцию хлеба, потому что нельзя ничего носить с собой. И тебе не дано понять, какая это была жертва! Его мама, жена раввина, была святой женщиной. Одному Богу известно, сколько добра она сделала, как утешала всех вокруг, как жертвовала последним. Потом от несчастий она ослепла. Она знала наизусть псалмы и читала их до последнего вздоха.
Однажды я спросила у этого раввина, как Бог допускает такую несправедливость? Он привел всевозможные объяснения: мы ничего не знаем о Боге и тому подобное. Я не осмелилась ему возразить, ему и без меня хватало мучений, однако сама я почувствовала досаду. Я рассказала ему о детях, а он побледнел, как мел, и устыдился, словно сам совершил все эти злодеяния. Я заметила, что он еле дышит. В конце концов он сказал: «Я прошу вас, не продолжайте».
— Да, да.
— Ты даже не спрашиваешь о детях.
Герман задумался на минуту:
— Что здесь спрашивать?
— И не спрашивай. Я знала, что праведники существуют, но никогда бы не поверила, что дети, маленькие дети, могут быть праведниками. Они повзрослели за одну ночь. Не ели ни кусочка моего хлеба, потому что хотели оставить его для меня. Они шли на смерть, как святые. Души существуют, а Бога нет. Не спорь со мной. Это так. Это мое убеждение. И да будет тебе известно, что Довидл и Йохведл приходят ко мне, не во сне, а наяву. Ты, конечно же, подумаешь, что я сошла с ума, но меня это не волнует.
— И что они говорят?
— О, разные вещи. Там они снова стали детьми… Что ты собираешься делать? Разведешься со мной?
— Нет.
— А мне тогда что делать? Переехать к твоей польке?
— Для начала тебе нужна квартира.
— Да, у них нельзя оставаться.
Глава четвертая
I
«Это смешно, смешно, — думал про себя Герман. — Это настолько трагично, что даже смешно».
Герман перешел Четырнадцатую улицу, разговаривая сам с собой. Он оставил Тамару у дяди, а сам намеревался ехать к Маше. Позвонил ей из кафе и сказал, что нашелся его дальний родственник из Цевкува. Даже имя ему придумал: Файвл Лембергер, бывший учитель Талмуда лет шестидесяти. Скептичная Маша спросила: «А может, это Хава Краковер[47], твоя прежняя любовь, женщина лет тридцати?» Герман ответил: «Если ты хочешь, я вас познакомлю».
Теперь Герман зашел в аптеку, чтобы позвонить Ядвиге. Все кабинки были заняты, и Герману пришлось ждать. Его удивляло не столько само случившееся, сколько то, что во всех своих фантазиях, проигрывая разные варианты поворота событий и возможные совпадения, он никогда не мог себе представить именно этого. А может, он просто не помнит? Может быть, и дети тоже воскреснут? Раз уж высшие силы играют с ним, они вскоре опять что-нибудь выдумают. Но что? «Ладно, их не перехитрить! — решил Герман. — У них есть бесчисленные способы удивить человека. Если уж они придумали Гитлера и Сталина, от них всего можно ожидать…»
Герман ждал десять минут, но все кабинки были по-прежнему заняты. Один говорил и жестикулировал, будто его собеседник на другом конце провода мог его видеть, другой шевелил губами без остановки, произнося монолог, третий при разговоре все время затягивался сигаретой и пересчитывал мелочь с готовностью продолжать беседу. Какая-то девушка смеялась, то и дело поглядывая на красные ногти на левой руке, как будто разговор касался этих ногтей, их формы и цвета… Возникало впечатление, что от всех звонящих требовали объяснений, оправданий или отговорок. Лица попеременно выражали насмешку, серьезность, любопытство и заботу.
Дверь в кабинку открылась, и Герман вошел внутрь. Несколько секунд он вдыхал запах и тепло другого человека, потом набрал номер. Ядвига тут же сняла трубку, словно все время провела у телефона в ожидании звонка Германа.
— Ядзя, darling[48], это я, — сказал Герман.
— Да, да!
— Как дела?
— Откуда ты говоришь?
— Из Балтимора.
Ядвига немного помолчала.
— Это где? Ладно, все равно.
— В паре сотен миль от Нью-Йорка. Слышно хорошо?
— Да, хорошо.
— Вот, пытаюсь торговать книгами.
— И что, покупают?
— Трудновато, но покупают. А иначе кто будет за меня платить квартплату? Как ты провела день?
— Ну, я постирала белье. Здесь все так пачкается, — сказала Ядвига, видимо не отдавая себе отчет в том, что каждый раз говорит одно и то же. — Местные прачечные рвут белье в клочья.
— Как там птички?
— О, болтают. Они целый день рядышком, целуются друг с другом.
— Везет им. Я сегодня переночую в Балтиморе. Завтра еду в Вашингтон. Это еще дальше, но я тебе позвоню. Для телефона расстояний не существует. Электричество передает голос со скоростью триста тысяч километров в секунду, — говорил Герман, сам не понимая, в чем заключается смысл этой лекции. По всей видимости, он хотел показать Ядвиге, как далеко он уехал и как мала вероятность того, что он скоро вернется домой.
При разговоре по телефону Ядвига словно менялась: было тяжело вытянуть из нее хоть слово. Она все еще немного боялась этого аппарата.
В тишине Герман слышал, как щебечут попугаи.
— Ты меня слышишь? — спросил он.
— Да.
— К тебе кто-нибудь заходил? Я имею в виду соседок…
— Что? Никого не было. Но кто-то звонил в дверь. Я открыла на цепочку, за дверью стоял молодой человек с машиной, которая всасывает пыль. Он хотел мне показать, как она работает, но я сказала, что без тебя никого в дом не пускаю.
— Правильно сказала. Он может быть продавцом пылесосов, а может оказаться вором и убийцей.
— Я его не пустила.
— Хорошо. Чем будешь заниматься вечером?
— Ну, помою посуду. Поглажу твои рубашки.
— Ладно, пока.
— Когда ты позвонишь?
— Завтра.
— Где будешь ужинать?
— В Филадельфии, то есть в Балтиморе, здесь полно ресторанов.
— Не ешь мяса. Испортишь желудок.
— Не буду, пока.
— Ложись спать не поздно.
— Хорошо, пока.
— Когда вернешься домой?
— Послезавтра, не раньше.
— Приезжай, без тебя тошно.
— Я тоже скучаю. Я привезу тебе подарок.
И Герман повесил трубку.
«Добрая душа, чистая душа, — думал он про себя. — Как так получается, что в этом распущенном мире существуют такие добрые создания? Это загадка, разве что придется поверить в переселение душ… — Герман вспомнил Машино утверждение о том, что у Ядвиги может быть любовник. — Это неправда, неправда! — разозлился он от этой мысли. — Она совершенно неспособна лгать…»
При этом Герман представил себе, как какой-то поляк сидит сейчас рядом с Ядвигой. Пока она говорила с Германом, тот стоял позади нее и проделывал всякие подлые штучки, хорошо знакомые самому Герману.
«Да, можно быть уверенным только в смерти, — вспомнил Герман чье-то выражение. — Мы ищем удовлетворения потребностей собственного тела, пренебрегая душой ближнего. — Размышляя, Герман перефразировал изречение рабби Исроэла Салантера[49]. — Если ты будешь честен, мне будет легче тебя обмануть. Наверное, в этом и заключается цель всех проповедников и блюстителей морали…»
Герман вспомнил о рабби Лемперте. Если сегодня раввин не получит главу, он может уволить Германа раз и навсегда. Скоро Герману придется снова вносить квартплату в Бронксе и в Бруклине… «Я сбегу! Сбегу. То, что сегодня произошло, это уже слишком! Это меня прикончит».
Он спустился по лестнице в метро. Какая духота! Что за липкая жара! Негры носились взад-вперед, в их криках было что-то нью-йоркское и африканское одновременно. Женщины в платьях с мокрыми подмышками толкали друг друга пакетами и коробками. Их глаза сверкали от сдерживаемой ярости. Вы хотели развитие техники, так получайте развитие техники, жарьтесь в аду, который вы создали сами! Герман полез в карман брюк за платком, но платок тоже промок.
На платформе теснился народ, тела плотно прижаты, все мысли сосредоточены на одном — занять место. Поезд подъехал быстро, со свистом, словно собираясь промчаться мимо станции. Вагоны были набиты битком. Толпа ринулась к открывшимся дверям, прежде чем выходящие пассажиры успели выскочить из вагона. Неуемная сила втиснула Германа в вагон. На него давили чужие тела, бедра, груди, локти. «Словно меня похоронили заживо, — размышлял кто-то внутри Германа. — По меньшей мере, здесь исчезает иллюзия свободного выбора. Здесь человек подобен камню, лаве, метеориту в космосе».
Герман стоял в тесноте и завидовал высоким людям, чьи головы торчали из толпы. На них наверняка дуют вентиляторы. Так жарко не было даже летом на сеновале. Такая толкотня была, наверное, только в товарных вагонах, которые везли евреев в газовые камеры…
Герман закрыл глаза. Что теперь делать? С чего начать? Тамара приехала без денег. Она получит материальную поддержку от «Джойнта», но только при условии, что скроет тот факт, что в Америке у нее есть муж. Она заранее предупредила, что не намерена обманывать американских филантропов… А как Герман сможет вести жизнь двоеженца, к тому же имеющего любовницу? Его посадят на пару лет в тюрьму и только потом депортируют в Польшу.
«Мне нужен адвокат! Нужно срочно обратиться к адвокату! — подумал Герман. — Но как объяснить американскому адвокату всю ситуацию? У них на все простой ответ: кого ты любишь? Разведись с другой… Покончи с этим делом… Найди работу… Сходи к психоаналитику…»
В своих фантазиях Герман увидел, как судья выносит ему приговор, тыча в него указательным пальцем:
— Ты злоупотребил нашим американским гостеприимством…
Тамара упомянула было в разговоре, что готова развестись, но потом как-то передумала. Он, Герман, успел заверить ее в том, что живет с Ядвигой исключительно из благодарности… Я — мошенник, ужасный мошенник! Мне нужны все трое, это постыдная правда. Как развестись, когда она была мне верна все эти годы? Она мать моих детей… Пусть даже мертвых детей… Они приходят к ней… Она живет только своим прошлым. Она похорошела, стала спокойнее и интереснее… Она прошла через ад пострашнее, чем Маша. Развестись с Тамарой означало отправить ее к другому мужчине… Любовь? Они используют это слово так, будто бы у него есть четкое и ясное определение. На самом деле до сих пор никто не знает, что означает это слово…
Герман остановился у фруктовой лавки и купил два фунта вишен. Маша теперь уже дома. Герман нарушил ее планы на сегодняшний день, но она все равно его ждет. Он тоже скучает по Маше, хотя уже заранее опасается, как бы она не устроила ему допрос. Почему Герман пошел встречаться с дальним родственником вместо того, чтобы к четырем часам прийти к ней в кафетерий? Маша, чего доброго, может потребовать, чтобы он позвонил родственнику и дал ей с ним поговорить. Маша все время что-то подозревает. Она знает про Германа больше, чем любая другая женщина. Обмануть Машу практически невозможно. Кстати, что это за родственник? Герману нужно все просчитать заранее, со всеми именами и правдоподобными деталями…
Он открыл дверь и увидел Машу, которая сегодня, по-видимому, была в хорошем расположении духа. Она обрадовалась Герману, вынула изо рта сигарету и поцеловала его. С плиты доносилось шипение жарившегося мяса. Пахло жарким, чесноком, борщом и молодой картошкой. Герман услышал голос Шифры-Пуи.
Каждое посещение этой квартиры, как бы она ни была полна скорби и конфликтов, вселяло в Германа уверенность. Мать с дочерью постоянно варили, пекли, возились с кастрюлями, посудой, дуршлагами, разделочными досками. Они напоминали Герману его собственный дом в Цевкуве. По субботам здесь делали чолнт и кугл[50]. Здесь не забывали о Новолетии, десяти днях до Судного дня[51], трех неделях до Девятого ава[52], обо всех постах и праздниках.
Именно потому, что Герман жил с нееврейкой, его так радовали субботние свечи, субботняя хала, изюм на Новолетие, бокал субботнего вина, пасхальная трапеза, оладушки из мацы. Шифра-Пуа знала, что Герман сведущ в галахе и часто задавала ему вопросы. Мы помыли вместе молочную ложку с мясной вилкой…[53] Свеча капнула на кастрюлю…[54] В курице не было желчи…[55] И Герман отвечал:
— Попробуйте на вкус печень, она горькая?
— Да, горькая.
— Если горькая, значит, курица кошерная.
II
Пока Герман ел картошку со щавелевыми щами, Маша спросила:
— Ой, я совсем забыла. Что за родственник у тебя отыскался?
У Германа кусок застрял в горле. Он уже забыл имя, которое сообщил Маше по телефону. Привыкший к импровизациям, он начал без подготовки:
— Да, отыскался у меня родственник. Я и не знал, что он жив.
— Он или она?
— Я же тебе сказал: родственник.
— Ты многое говоришь. Кто он? Откуда?
В этот момент Герман вспомнил имя, которое придумал, — Файвл Лембергер.
— И кем он тебе приходится? — спросила Маша.
— Родня по маминой линии.
— Кем?
— Он сын брата моей матери.
— Девичья фамилия твоей мамы Лембергер?
— Да, Лембергер.
— Кажется, ты называл другую фамилию.
— Ничего я не называл.
— До этого ты сказал, что ему около шестидесяти, как у тебя может быть такой старый двоюродный брат?
— Мама была самой младшей. Дядя был на двадцать лет старше нее.
— А как звали дядю?
— Тевье.
— Как? Тевье? Сколько лет было твоей матери, когда она погибла?
— Лет пятьдесят.
— Раз так, твоему дяде Тевье было семьдесят. Как у человека семидесяти лет может быть сын, которому за шестьдесят?
— Не забывай, что уже прошли годы после их смерти.
— Сколько лет? Расчеты не совпадают. Приехала твоя прежняя любовь, которая так сильно по тебе соскучилась, что дала объявление в газете. Зачем ты вырвал объявление? Испугался, как бы я не увидела имени и номера телефона? Я купила еще одну газету и пометила для себя и имя, и номер. Я скоро позвоню и узнаю правду. В этот раз ты с треском провалился! — сказала Маша. Ее глаза смотрели со смешанным выражением ненависти и удовлетворения.
Герман отставил тарелку.
— Звони хоть сейчас, и конец расспросам! — сказал он. — Давай звони! Мне невыносимы твои отвратительные обвинения!
У Маши поменялось выражение лица.
— Позвоню, когда захочу. Ешь, картошка остынет.
— Если ты мне не доверяешь, наши отношения совершенно бессмысленны.
— Да, бессмысленны. Вся моя жизнь сплошной абсурд. Но картошку тебе все равно придется съесть. Да, раз уж он сын брата твоей мамы, почему ты назвал его дальним родственником? С каких пор двоюродный брат — это дальний родственник?
— Для меня все родственники дальние.
— Расскажи об этом своей бабушке! У тебя есть эта девка, у тебя есть я, но вот возвращается какая-то холера из Европы, и ты бросаешь меня и бежишь ей навстречу. У нее может быть даже сифилис…
Шифра-Пуа подошла к столу:
— Что ты не даешь ему поесть?
— Мама, не вмешивайся! — раздраженно отозвалась Маша.
— Я не вмешиваюсь. Все равно ты меня не спрашиваешь. Разве ты ценишь мое мнение? Не нападай на него с упреками. Попадет, не дай Бог, не в то горло. Я знаю случай, как один человек, упаси Боже, так подавился из-за…
— У тебя на все найдется история! Он лгун, жулик, хуже некуда. У него даже мозгов не хватает на то, чтобы нормально соврать. — Маша обращалась одновременно и к маме, и к Герману. Ее рот скривился, в глазах появились зеленые огоньки, как у кошки.
Герман подцепил ложкой маленькую картофелину — круглую, молодую, мокрую от масла, обсыпанную укропом. Ему захотелось положить ее в рот, но он сдержался. «Ну, вот и пришел конец», — пронеслось у Германа в голове. Он получил обратно жену и потерял любовницу. Такой фокус проделала с ним судьба. «Гениальный ход», — подумал Герман, как будто бы он играл с судьбой партию в шахматы.
Герман заранее составил в мыслях историю про встречу с родственником во всех подробностях, позабыв лишь о том, что его память никуда не годится. Как говорится, у лгуна короткая память. Теперь он оказался в безвыходном положении. «Что ж, выбора нет, надо бежать», — подумал Герман. Краем ложки он разделил пополам нежную картофелину. Все вокруг стало серым, исполненным разочарования. «Рассказать ей правду?» — спрашивал себя Герман, но изнутри, из темноты его собственного «я» ответа не следовало. Он вспомнил древнееврейское выражение: «овед эйцес»[56]. Да, он оказался абсолютно беспомощен.
Несмотря на всю сложность положения, Герман был странно спокоен. Это было спокойствие преступника, схваченного за руку и знающего, что наказание неизбежно.
— Так почему ты не звонишь? — сказал Герман.
— Ешь, я сейчас принесу фрикадельки.
Герман жевал картошку и чувствовал, как каждый кусочек наполняет его жизненной силой. Сегодня он пропустил обед и, вероятно, похудел, потерял много энергии от того, что с ним произошло. Теперь у него появилось странное ощущение, что он приговорен к смерти и ест в последний раз перед казнью. Маша скоро узнает правду. Рабби Лемперт наверняка уже решил выгнать его с работы. Он, Герман, остался с какими-то двумя долларами в кармане. Что делать? Какую работу искать? Он не справится даже с мытьем посуды в ресторане. Перестав писать статьи для раввина, он подохнет с голоду. Такие, как он, не способны даже быть иждивенцами. Его обман раскроется при первом же расследовании.
После мяса Маша подала пудинг, а затем яблочное пюре с чаем. Герман планировал еще поработать ночью над рукописью для раввина, но его желудок отяжелел, на него напала усталость. Он поблагодарил маму и дочь за ужин, и Шифра-Пуа сказала:
— Что вы благодарите меня? Всевышнего благодарите.
И поднесла ему стакан для омовения рук и ермолку.
Герман начал бормотать первые стихи послетрапезного благословения. Затем ушел в свою комнату. Маша налила воды в раковину для мытья посуды. Было еще светло, на дереве во дворике щебетали птицы.
У Германа было чувство, будто сегодняшний день — самый длинный из всех летних дней на его памяти. Он вспомнил изречение Дэвида Юма о том, что нет логического доказательства того, что завтра снова встанет солнце. И если это так, то нет гарантии, что оно сегодня зайдет…
В комнате было жарко. Герман часто удивлялся, почему ничто здесь не воспламеняется от такой высокой температуры. Душными летними вечерами ему мерещилось, как пламя занимается на потолке, на стенах, на покрывале, на книгах и рукописях. Герман растянулся на кровати и закрыл глаза… Невозможное вдруг стало возможным. То, чего он даже не мог представить себе, вдруг стало реальностью. Кто знает, может быть, однажды он повстречает родителей, детей, отравленных газом и сгоревших дядей, теток, двоюродных братьев и сестер, друзей? Мир сделает виток, и прошлое будет прожито заново…
Сквозь дремоту он размышлял. Сегодня Тамара попросила у него адрес и номер телефона, но он только пообещал ей, что позвонит завтра. Он всем все обещал, никому не мог отказать. Чего же им всем тогда надо? Немного дружбы, чуть-чуть секса, чтобы забыть на время об одиночестве, о Катастрофе, о смерти. Каким бы бедным и ничтожным Герман ни был, от него зависели живые люди… Но все это имело смысл, пока у него была Маша. Если Маша уйдет, обе, Ядвига и Тамара, превратятся для него в обузу.
Герман заснул и снова проснулся. Был вечер. В другой комнате Маша разговаривала по телефону. Она говорит с реб Авромом-Нисоном Ярославером? С Шевой-Хадасой? С Тамарой?.. Герман прислушался. Нет, она просто болтала с другой кассиршей. Через некоторое время она зашла к нему в комнату в полутьме и спросила:
— Ты спишь?
— Я уже проснулся.
— Ты ложишься и сразу засыпаешь. Должно быть, твоя совесть чиста.
— Я никого не убивал.
— Ты убиваешь, убиваешь. Можно зарезать без ножа. Герман, я готова взять отпуск, — Маша изменила тон.
— С какого числа?
— Мы можем уехать в воскресенье вечером.
Герман ненадолго замолчал.
— У меня сейчас есть только два доллара и несколько центов.
— Возьми чек у раввина.
— Теперь уже даже не знаю.
— Ну, ты, наверное, хочешь остаться здесь со своей полькой или с кем-то другим. Весь год ты мне обещаешь златые горы и в последнюю минуту отказываешься от обещаний. Не думай, что получится меня обмануть. Все продумано и просчитано. Мне нельзя так говорить, но по сравнению с тобой Леон Торчинер — честный человек. Он тоже вешал лапшу на уши, но это было глупое хвастовство, россказни и фантазии. Его вымыслы никогда не приносили ему пользы. А ты обманываешь умно и изощренно. И все же, чтоб ты знал, я поняла все твои фокусы. Ты не хочешь ехать со мной, потому что не можешь оставить в одиночестве свою гойку. Теперь наверняка появился еще кто-то, или, может, ты сам дал объявление, чтобы меня запутать. Скоро я это узнаю, позвонив по тому номеру. Если такой адрес и номер существуют, я с легкостью узнаю, кто к тебе приехал и все остальное. Если же этого номера не существует, я пойму, на что ты способен. Так в чем суть твоих выходок?
— Позвони и узнаешь. За восемь центов будешь знать правду.
— Кто к тебе приехал?
— Мертвец с того света.
— Говори понятно!
— Моя умершая жена Тамара восстала из могилы. Накрасила себе ногти и приехала в Нью-Йорк, чтобы меня повидать.
— Что? Все может быть. Что произошло между тобой и раввином?
— Я опаздываю с работой. Я все погубил.
— Ты взял дополнительную работу, чтобы не ехать со мной. Ты мне не нужен, и деньги твои мне не нужны. В воскресенье утром я упакую рюкзак и пойду куда глаза глядят. Если я не уеду из этого города через несколько дней, я свихнусь. Жара сводит меня с ума. Мама сводит меня с ума. Ты сводишь меня с ума. Сколько мне еще это терпеть? Во мне все дрожит. Я еще никогда не чувствовала себя такой усталой, даже там. Там мы работали физически, а мозг отдыхал. Мы все превратились в роботов и поэтому смогли это вынести. Пока механизм не ломается, он работает. Кто упал, тот упал, а кто остался в строю, тот тянет лямку. А здесь мы расплачиваемся за все это. Я устала, смертельно устала.
— Приляг.
— Спасибо за совет. Не поможет. Ты засыпаешь, а у меня голова мелет, как мельница. Я ложусь и вспоминаю о боли, о диких выходках, о вырождении человека. А когда засыпаю, то оказываюсь рядом с ними. Они тащат меня, бьют, преследуют. Нацисты набрасываются со всех сторон, как собаки на зайца. Кто-нибудь уже умирал от кошмаров? Сны сведут меня в могилу. Подожди, пойду возьму сигарету.
Маша вышла. Герман высунулся из окна и огляделся. Матовое небо было затянуто облаками. Дерево под окном не шевелилось. В воздухе стоял запах болот и тропиков. Шарик, который называют Землей, в который раз вращался с запада на восток. Солнце мчалось куда-то со всеми своими планетами. Млечный Путь вращался вокруг своей оси — этот процесс длился сто миллионов лет — так написано в книгах. Среди этих космических происшествий он, Герман, стоял со своим узелком с реальностью, со своими краткосрочными проблемами. Достаточно веревки, капли яда, удара ножом, чтобы проблемы исчезли вместе с ним самим. Почему она не звонит? Чего она ждет? — спрашивал себя Герман. Она тоже боится горькой правды.
Маша вошла с сигаретой во рту.
— Если ты хочешь поехать со мной, я возьму расходы на себя.
— Так у тебя есть деньги?
— Займу в профсоюзе.
— Ты знаешь, что я не достоин этого.
— Не достоин. Но если нужен вор, то его снимают с виселицы…
И Маша сделала глубокую затяжку. Ее лицо на мгновение осветилось, тень лежала на нем сеткой, словно под кожей у нее были горячие угли, едва тлеющие в пепле, но готовые разгореться в ночной пожар…
III
На сей раз Герману предстояло провести выходные вместе с Ядвигой в Бруклине, а в понедельник он уезжал с Машей за город.
Он закончил главу и отнес ее раввину, получил чек и клятвенно пообещал отныне больше не опаздывать с работой. Ему повезло, что рабби Лемперт такой занятой человек. Весьма кстати у него не оказалось времени, чтобы поговорить с Германом. Раввин забрал рукопись и сразу вытащил из нагрудного кармана чековую книжку. Ему звонили по двум телефонам сразу, сегодня же ему надо было лететь в Детройт на проповедь или на бизнес-встречу. При прощании раввин покачал головой, демонстрируя сожаление и осведомленность. Казалось, он хотел сказать: «Не думай, эмигрантишка, что тебе удастся меня одурачить. Мне известно обо всех твоих проделках. Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь…» Он подал Герману не всю руку, а только два пальца.
Когда Герман уже подошел к двери, секретарша мисс Ригель позвала его:
— А что с вашим телефоном?
— Я оставил раввину адрес.
И Герман закрыл за собой дверь.
Каждый раз, когда Герман получал от раввина чек, он воспринимал это как чудо. Чтобы его обналичить, он тут же направился в банк, где знали рабби Лемперта. Сам Герман с банками дела не имел. Он носил наличные в заднем кармане брюк и все время боялся, как бы его не обокрали. Была пятница. Настенные часы в банке показывали пятнадцать минут двенадцатого. Офис раввина находился на Пятьдесят Седьмой улице, там же располагался и банк.
Герман отправился по направлению к Бродвею. «Позвонить Тамаре?» — думал он. Судя по Машиным разговорам вчера вечером, ночью и сегодня утром, не было сомнений в том, что она уже позвонила реб Аврому-Нисону Ярославеру. Теперь Маша знает, что Тамара жива. Тамара, конечно же, знает, что у него, Германа, кроме Ядвиги есть еще любовница. «Может, бросить их всех и сбежать?» Герман в который раз играл с этой мыслью. Сейчас у него почти три сотни долларов. С такой суммой можно протянуть полгода, а может, и больше.
Думая о бегстве, Герман каждый раз представлял себе примерно один и тот же план: он войдет в синагогу, ешиву или другое учебное заведение в Даунтауне и присядет подумать. Он вновь станет учеником ешивы — не потому, что верит в то, что Господь даровал евреям Талмуд или даже Тору на горе Синай, а потому, что в этих книгах приводится учение жертв, а не палачей. Евреи раскачивались над Гемарой в гетто, в тайных укрытиях. Евреи погибали за эти книги в Вормсе, в Люблине, во Франкфурте-на-Майне, в Сибири. Что бы ни говорили о Мишне, о Гемаре, о мидрашах и о Зогаре, составители этих книг не были агрессорами, жандармами, шпионами, террористами, охотниками или тюремщиками. Эти книги были написаны изгнанным народом, отказавшимся от светских ценностей. Религиозные евреи усвоили то, что проповедовали христиане.
С кем же он, Герман, мог себя идентифицировать? Невзирая на все грехи и ложь, он тоже жертва. Он не живет, а крадется тайком по этой жизни, не получает наслаждения, а лишь ворует кусочки, подбирает крошки мироздания. Даже в мыслях о Боге он, Герман, не способен выдумать никакого другого бога, кроме Бога Ицхака Лурии[57] и Баал-Шем-Това, ребе Нахмана из Брацлава[58] и реб Аврома-Нисона Ярославера.
Да, но сможет ли он действительно осуществить свои фантазии? Сможет оставить беспомощную Ядвигу без гроша в кармане? Позволит ли ему совесть усесться за Талмуд? Сможет ли он обманывать евреев, убеждая их в том, что он верующий, в то время как по их представлениям он отступник? Нет, на такое даже он не способен…
Дойдя до Бродвея, Герман зашел в аптеку позвонить, сам не зная, кому именно — Маше, чтобы спросить, знает ли она уже обо всем, или Тамаре.
— Мне конец, конец, — твердил он сам себе. — На этот раз дело выйдет мне боком, — вспомнил он Тамарино выражение.
Но почему Маша сразу не позвонила по этому номеру? Почему она завела разговор об отъезде из Нью-Йорка? Ей не хватает сил посмотреть правде в глаза? Да, что-нибудь да получится из этого безумия. Природа может порождать камни, червей или сумасшедшие выходки, из этого всегда что-нибудь получается. Всякому мусору свой веник.
Герман положил монету в аппарат и набрал номер реб Аврома-Нисона. Через некоторое время он услышал голос Шевы-Хадасы:
— Кто это?
— Говорит Герман Бродер, Тамарин муж. — Он сказал это неуверенно, с опаской.
Шева-Хадаса ответила:
— Я ее позову…
Герман не знал, сколько длилось ожидание: минуту, две, пять. Ему оно показалось долгим. Сам факт, что Тамара не сразу подошла к телефону, означает одно: Маша уже звонила.
— Шила в мешке не утаишь, — сказал себе Герман. — Нарыв лопнул.
Он услышал Тамарин голос, он несколько отличался от прежнего, чуть-чуть изменился. Герман не говорил с Тамарой по телефону лет десять и уже успел забыть, как звучит ее голос. Да и Тамара уже, как видно, отвыкла от телефона. Она спросила, не в меру повысив голос:
— Герман, это ты?
— Да, это я, — ответил Герман. — Я все еще не могу поверить в то, что это на самом деле произошло.
— Что это? Все невероятно. Я смотрю из окна на нью-йоркскую улицу. Здесь полно евреев, чтоб не сглазить. Даже слышно, как рубят рыбу.
— Да, это еврейский квартал.
— В Стокгольме тоже есть евреи, но они другие. Хорошие евреи, но уже мало похожие на нас. А здесь почти как в Каламине…
— Да, еще осталось кое-что.
Оба ненадолго замолчали. Потом Герман спросил:
— Тебе никто не звонил?
Тамара ответила не сразу:
— Кто должен звонить? У меня никого нет в Нью-Йорке. Здесь есть — как их тут называют — каламинское землячество, но оно в другом районе. Дядя поспрашивает у них, но пока…
Тамара осеклась.
— Ты не искала комнату?
— Что? У кого искать-то? Я иду в субботу в «Джойнт», может, они знают. Ты обещал позвонить вчера. — Тамара сменила тон.
— Я был занят.
— Здесь все заняты. У тебя есть немножко времени или опять куда-то спешишь?
— Нет, время есть.
— Как-то странно. В России мне было плохо, но мы были вместе и в лагере, и на лесоповале. Мы всегда были группой беженцев. В Стокгольме мы держались вместе. Здесь я впервые оказалась одна. Дядя — праведный человек, и тетя — святая, но они уже пожилые люди. Я смотрю из окна, и вокруг так пусто. Может, ты придешь? Дяди нет дома, тетя собирается за покупками. Мы могли бы поговорить.
— Хорошо, я приду.
— Приходи. Все-таки мы были когда-то близкими людьми.
И Тамара повесила трубку.
Герман вздрогнул: «Что ж, возьму такси…»
Он вышел на улицу и сразу поймал такси. Заработанных денег с трудом хватит на еду, но Герману надо было спешить. Он не мог опоздать к Ядвиге на целый день. Она уже ждала с нетерпением там, в Бруклине. Герман сел в такси и рассмеялся от собственной растерянности: «Да, Тамара здесь, это не галлюцинация…»
Герман давно уже не соблюдал субботу, но пятничный день для него все еще сохранял прежнее ожидание субботы. Он торопился, как в Цевкуве, словно должен был успеть вымыться и вернуться домой до зажигания свечей. В нос ему ударили запахи лепешек, жаркого и кугла из лапши. В ушах звучали мелодии и слова субботней молитвы. Леху неранено ладоной норио лецур йишеейну…[59] Что-то внутри него сожалело об отступничестве и неприкаянности. Еврейство, с которым он порвал, полностью не отпускало его, тянуло обратно. Герману часто казалось, что он слышит голос с горы Синай: шуву боним шововим[60], возвратитесь, дети-отступники… Может ли кто-то быть большим отступником, чем Герман? Даже отступникам его поведение показалось бы мятежным…
Такси остановилось, Герман заплатил и дал водителю на чай. «Все равно я банкрот», — оправдывал он свое расточительство. Герман позвонил в дверь, и Тамара открыла. Ему сразу бросилось в глаза, что Тамарины ногти больше не были красными. Видимо, она сняла лак. На ней было другое платье, уже не розовое, но темного цвета, волосы немного растрепались. Он заметил в ее прическе нити седины.
На Тамарином лице появилась улыбка — радость человека, который нетерпеливо ждал кого-то, и тот наконец пришел. Она сказала:
— Тетя уже ушла.
Герман не поцеловал Тамару при первой встрече и хотел это сделать теперь, но Тамара отстранилась.
— Я поставлю чай.
— Чай? Зачем? Я только что позавтракал.
— Я заслужила, чтобы ты выпил со мной чашку чаю, — сказала Тамара с провинциальным кокетством.
Он пошел за ней в среднюю комнату. Чайник засвистел на кухне. Должно быть, Тамара заранее поставила воду кипятиться. Хозяев квартиры не было дома, и Тамара взяла эту роль на себя. Она принесла поднос с чаем, лимоном и печеньем в вазочке, которое Шева-Хадаса наверняка испекла сама: печенье было не круглое и не овальное, а фигурное, с зазубринками, его было тяжело раскусить. Оно пахло корицей, миндалем и домашним уютом.
Герман жевал печенье. Стакан был наполнен до краев невероятно горячим чаем, из него торчала потемневшая изогнутая ложка. Некая сила собрала здесь все характерные предметы еврейского дома в Польше, вплоть до мельчайших подробностей.
Тамара села за стол не близко и не далеко от Германа, а именно так, как истинная хозяйка садится рядом не с мужем, а с близким родственником.
— Смотрю я на тебя, — сказала она, — и не верю, что это ты. Я вообще ни во что не верю. С тех пор как я приехала сюда, все утратило черты реальности.
— Там было по-другому?
— Там не было времени на размышления…
— Я живу так, с тех пор как себя помню.
— Что? Я уже почти обо всем забыла. Ты не поверишь, Герман, ночью я не спала, пыталась вспомнить, как мы с тобой познакомились и сблизились, — и не могла. Я знаю, что у нас были ссоры, но из-за чего? Жизнь сошла, как луковая шелуха. Я даже начала забывать о том, что произошло со мной в России и совсем недавно в Швеции. Мы куда-то ходили, где-то болтались. Нам выдавали бумаги, потом забирали обратно. Мамочки, сколько раз за последние недели я писала свое имя! Кому нужно столько подписей? И все с твоей фамилией: Тамара Бродер. Для них, для всех этих чиновников, я все еще твоя жена, которая носит твое имя…
— Теперь мы уже не можем быть чужими друг другу.
— Тебе этого не понять. Ты просто так говоришь, а я это чувствую. Ты быстро нашел утешение у другой — прислуги твоей матери. А ко мне приходили дети, твои дети… Герман, давай больше не будем говорить об этом! Я не хочу больше вспоминать.
— Почему нет? Они ведь и мои де…
— Да, твои. Я тебе, Боже упаси, не изменяла. Расскажи мне лучше, как тебе живется. По крайней мере, она тебе хорошая жена? Ко мне у тебя были тысячи претензий.
— Что мне от нее требовать? Она занимается тем же, что делала в качестве прислуги.
— Да? Что ж, жена — это тоже прислуга. Но все это странно, странно. Ты не выглядишь постаревшим. Ты взволнован? Что с тобой?
— Никому и не расскажешь, что со мной.
— Мне ты можешь рассказать, Герман. Во-первых, мы все же были близки. Во-вторых, я уже покинула этот мир. Я, не дай тебе Бог, мертва, а мертвому можно все рассказать. Кто знает? Может, я тебе помогу.
— Как? Я тоже мертв, как и ты. Пролежав три года на сеновале, в этот мир уже не вернешься. Здесь, в Америке, я фактически лежу на сеновале. Ты, кажется, сама сказала об этом позавчера.
— Ну, у двух мертвецов точно не должно быть секретов друг от друга.
— О чем я могу тебе рассказать? Мы уже не люди, мы человеческие останки. Как развалины, оставшиеся от гетто, обломки и ошметки. Все валяется в одной куче: шкатулка для этрога[61], детский череп и кошачий скелет.
— Давай по существу, Герман, без демагогии. То, что сделано, сделано, но почему бы тебе не найти приличный заработок? Писать для раввина — это не работа.
— А что мне здесь делать? Гладить брюки — работа не из легких, нужно вступить в юнион — так здесь называют профсоюзы. Чтобы туда попасть, нужна рекомендация, если только…
— Раз уж дети погибли, почему ты не заведешь с ней детей?
— Ах, об этом ты хочешь поговорить?
— Ну, не злись. Раз я тебе чужая, будь, по крайней мере, со мной вежлив. Все-таки нашей семье нужен наследник.
— Ты тоже, наверное, сможешь завести ребенка.
— Нет.
— Мне не нужны дети. Довольно! Зачем? Чтобы гоям было кого жечь?
— Ты прав, Герман. Ты прав. Но здесь так пусто. Так странно пусто. Я встретила здесь женщину, которая тоже была в лагерях. Она потеряла всю семью, но теперь завела нового мужа и новых детей. Некоторые люди начали жизнь заново. Дядя твердит, что мы с тобой должны поговорить и прийти к общему решению. Да простят мне эти соблюдающие евреи, но в них есть какое-то глупое упрямство. Он говорит: пусть Герман разводится с той или даст развод тебе. Дядя просто хочет обо мне позаботиться, даже намекнул, что собирается оставить мне наследство. Боже мой, у них на все один ответ: так хочет Бог. И поэтому они способны пройти сквозь ад и остаться целыми и невредимыми.
— Я не могу развестись с Ядвигой, потому что я не женился на ней по еврейскому обычаю, — сказал Герман, сам не понимая, зачем он это говорит и к чему эти слова могут привести.
— А для тебя это принципиально?
— Нет, не принципиально.
— Ты ей верен или завел еще шесть любовниц? — спросила Тамара.
Герман немного помолчал.
— Ты хочешь, чтобы я перед тобой исповедался?
— Я хочу знать правду.
— Правда в том, что у меня есть любовница.
На Тамарином лице появилась улыбка, но вскоре оно снова приняло прежнее выражение.
— Я так и знала. О чем тебе говорить с Ядвигой? Ей все как об стену горох. Она тебе не подходит. А кто твоя любовница?
— Оттуда, из лагерей.
— Почему ты не женишься на ней вместо крестьянки?
— У нее есть муж. Они разъехались, но он не дает ей развод. Он мошенник, полусумасшедший.
— Ах, вот как. У тебя ничего не изменилось. По крайней мере, ты говоришь мне правду. Или еще что-то скрываешь?
— Я ничего не скрываю.
— Мне все равно, одна у тебя, или две, или целая дюжина. Уж если ты не был верен мне, пока я была молода и красива — по крайней мере, не уродина, — почему ты должен быть верен неотесанной крестьянке? Ну, а та, любовница, довольна своим положением?
— У нее нет выбора. Муж не хочет разводиться, а она любит меня.
— А ты? Ты тоже ее любишь?
— Не могу жить без нее.
— Да уж, слышать от тебя такие слова! Какая она? Красивая? Умная? Страстная?
— Все вместе.
— Так как же ты живешь? Бегаешь от одной к другой?
— Делаю, что могу.
— Ты ничему не научился на наших несчастьях. Абсолютно ничему. Я бы, наверное, тоже не изменилась, если бы не увидела, что сделали с нашими детьми. Это был такой удар, от которого мне уже не оправиться. Меня утешали, мол, время лечит. Но происходит ровно наоборот: со временем раны становятся все глубже, они гноятся. Мне нужно найти комнату, Герман, я больше не могу ни с кем жить. От беженцев я запросто избавилась. Я их всерьез не воспринимала. Как только они стали лезть ко мне с советами и предложениями, я сказала, чтоб они сами себе морочили голову. А дяде я не могу перечить, он мне как отец. Никого ближе у меня не осталось. Тетя тоже как близкая родственница. А какой смысл разводиться? Жить я уже ни с кем не буду. Только если я тебе мешаю жениться, тогда…
— Нет, Тамара, ты не мешаешь. Мои чувства к тебе никто у меня не отнимет.
— Какие чувства? Ладно, можешь обманывать крестьянку, но зачем обманывать самого себя? Я не хочу читать тебе мораль, но ничего хорошего из этой истории не выйдет. Смотрю я на тебя и думаю: вот так выглядит загнанный зверь, который не может выбраться из западни. Что она за женщина, эта твоя любовница?
— Немного не в себе, но безумно интересная.
— Детей у нее нет?
— Нет.
— Она молода? Сможет завести детей?
— Да, но она тоже не хочет детей.
— Не лги, Герман, ты выдумываешь. Если женщина любит мужчину, она хочет от него детей. И она хочет выйти за него замуж, чтобы он не бегал к другой. Почему у нее не сложилось с мужем?
— Потому что он лгун, иждивенец, бесчестный человек. Он присвоил себе докторскую степень. Он заводит романы с пожилыми женщинами и живет за их счет.
— Да? Прости, но она поменяла шило на мыло. У тебя две жены, ты пишешь для какого-то раввина проповеди, в которые сам не веришь. Ты ей рассказал про меня?
— Еще нет, но она прочитала объявление в газете и что-то заподозрила. Она может сюда позвонить в любую минуту. Или может, уже звонила?
— Мне никто не звонил. Что мне ей сказать, если позвонит? Что я твоя сестра?
— Я сказал ей, что приехал мой двоюродный брат Файвл Лембергер.
Тамара рассмеялась:
— Мне сказать, что я Файвл Лембергер?
— Говори что хочешь.
— Почему ты не сказал ей правду? Я приехала сюда не для того, чтобы забирать тебя у кого-то.
— Да, надо было так и сделать. Но тут же начались бы расспросы, она бы мне не поверила. Тогда я не смог бы видеться с тобой.
— Ревнивица? Дядя дал объявление в газету без моего ведома. Я не хочу усложнять тебе жизнь. Если она тебя так любит и ты тоже увлечен, при чем тут я? Я просто прошу тебя помочь мне с комнатой. Хорошо, что пока «Джойнт» платит. Потом я найду работу. Кто-то уже предлагал мне работу — сортировать пуговицы. Фабрика находится далеко, где-то в другом городе.
— Зачем нужно сортировать пуговицы?
— Кто его знает? Зачем-то надо сортировать пуговицы. И к тому же я могла бы пригодиться: если тебе нужен развод, я дам тебе развод. Если тебе не нужен развод, то я могу сортировать пуговицы и без развода. Пей чай, остынет. Где будешь справлять субботу? У крестьянки или у еврейки? Или может, вторая тоже нееврейка?
— Ее отец был еврейским писателем.
— Даже так? Меня ничто уже не должно удивлять после всего, что я пережила, но я все же удивлена. В чем смысл такой жизни? К чему это приведет? Ты тоже моложе не становишься. Так в чем смысл всего этого? Если она, твоя любовница, позвонит, что мне ей ответить? Я не хочу играть роль разоблачителя.
— Скажи, что ты родственница.
— Какая родственница? Если я скажу одно, а ты — другое, она узнает об обмане.
— Она так и так узнает. Она может поговорить с дядей или с тетей. Они точно не будут ей лгать.
— И то верно. А что будет, если она узнает, что у тебя кроме нее еще две жены вместо одной?
И Тамара снова засмеялась. Смех менял ее лицо. Во взгляде светилась радость, которой Герман до этого не замечал или о которой успел забыть. На левой щеке даже показалась ямочка. На мгновенье она снова приобрела девичью кокетливость и обаяние. У Германа появилось странное чувство, будто молодость пряталась в уголках Тамариных глаз, полных самоуверенности, которую никакие болезни не смогли искоренить. В нем проснулось желание обладать ее телом, любопытство к ее скрытой женственности. Он поднялся со стула, словно желая попрощаться. Тамара тоже встала и спросила:
— Ты уже бежишь, да?
— Мне сегодня еще надо успеть в микву[62], — пошутил он. — Канун субботы…
На Тамарином лице снова появилась улыбка.
— Я не слышала слово «миква» уже Бог знает сколько времени.
— Тамара, иди сюда.
— Что ты хочешь?
— Поцеловать тебя.
— Двух женщин недостаточно? Достаточно. Меня будешь целовать уже на том свете.
— Тамара, ты не вправе отказываться, — Герман сам не знал, что говорит. — Это не твоя вина, что мир полон злых людей.
— На что мне рассчитывать? Что ты меня возьмешь третьим колесом в телегу? Давай не портить того, что было. Мы прожили вместе годы. При всех твоих выходках это были мои лучшие годы.
— Спасибо, Тамара, спасибо.
— Помоги мне с комнатой!
Они перекинулись еще парой слов в коридоре. У выхода Тамара вдруг подошла к Герману и поцеловала его в губы. Это было так неожиданно, что он даже не ответил на ее поцелуй. Он попытался ее обнять, но Тамара отстранилась и велела:
— Иди!
Герман вышел, его глаза наполнились слезами. Он шел, не разбирая дороги, и чуть не споткнулся на лестнице. Он вошел в метро и отправился в Бруклин.
В последние годы Германа не покидало чувство разочарования, но на этот раз его охватила такая боль, какую он уже давно не испытывал. Он почувствовал жалость ко всем существам, живущим и мучающимся, — людям и животным. Тамара, сам Герман, Маша, Ядвига, Шифра-Пуа, раввин и все-все тяжело страдали, были полны тщетных надежд и шли все в одном направлении — к предсмертным мукам, болезни, убийству, скотобойне и могиле. В семье Германа все уже достигли неизбежного конца. Не помогли ни молитвы, ни благословения, ни пожелания, ни другие уловки, чтобы выбраться из смыкающихся тисков. Злодеи, запятнанные невинной кровью и совершившие убийства, которые ни Бог, ни время не сотрут из памяти, тоже потихоньку умирали, кто от рака, кто от инфаркта. Как это объяснить? Не может быть никакого объяснения тому, почему детей загоняют в товарные вагоны и везут на смерть. А если на это и есть резон, то он мерзок. А невинные животные? А мышь, которая идет вечером попить воды и попадает в когти кошки? А сама кошка…
Герман посмотрел перед собой. Пассажиры жевали резинку и читали газеты. Они утешали себя чужими несчастьями, некрологами и сообщениями о преступлениях. Невесту застрелили в день свадьбы, и ее фотография смотрела с желтой страницы газеты: в свадебном платье со шлейфом, с букетом цветов и улыбкой. Чего же она хотела? Быть преданной мужу, беременеть, рожать детей в муках, воспитывать их, работать, стирать, убирать, состариться и умереть. Но даже этим не наделила ее судьба. А убийца? Утолив свой гнев, теперь он будет ждать несколько лет в камере для смертников того момента, когда все апелляции будут отклонены, придет время последней трапезы, и его поведут на электрический стул… Лучший мир? Грядущий мир? Уфф…
Закрыв глаза, Герман погрузился в собственную тьму.
IV
Пятница и суббота с Ядвигой пролетели быстро. Ядвига не перешла в иудаизм официальным образом при участии раввина, но старалась соблюдать законы. Она помнила еврейские обычаи с того времени, когда прислуживала у родителей Германа. На субботу она покупала халу и пекла печенье. В Америке нет таких печей[63], в которых можно держать чолнт, но соседка научила Ядвигу накрывать газовую плиту асбестом и ставить на него еду, чтобы она не остывала в субботу.
Ядвига купила на Мермейд-авеню вино для благословения и субботние свечи с двумя медными подсвечниками. Она не знала слов благословения, но после зажигания субботних свечей закрывала руками глаза и что-то бормотала точно так же, как это делала мама Германа.
А еврей Герман не соблюдал субботу. Он включал и выключал свет, после ужина, состоящего из рыбы, риса с бобами, курицы и морковного цимеса, садился писать, хотя, как Ядвига хорошо помнила, писать в субботу запрещено. Когда она упрекала его в том, что он нарушает Божьи заповеди, Герман заявлял:
— И ты собралась меня поучать? Бога нет. Нет. Если даже и есть, я хочу поступать Ему назло…
Сегодня Герман принес домой деньги, но выглядел он более озабоченным, чем когда-либо. Ядвига пыталась заговорить с ним, но он не отвечал. Он несколько раз интересовался, не звонил ли ему кто-нибудь по телефону сегодня до его возвращения. В перерыве между рыбой и бульоном Герман вынул из нагрудного кармана записную книжку с ручкой и что-то пометил. Иногда по пятницам, пребывая в хорошем расположении духа, он пел субботние напевы, которые знал от своего отца, — «Шолом-алейхем»[64], «Эшес хайл»[65]. Герман перевел их для Ядвиги на польский: первый был гимном ангелам, провожающим еврея домой в субботу, а второй — похвалой любимой жене, которая ценнее жемчуга. Щеки у Ядвиги рдели, когда Герман говорил с ней словами из Библии, ее глаза светлели и наполнялись субботним весельем.
Но сегодня Герман молчал и постоянно оглядывался, как потерянный. У Ядвиги иногда закрадывались подозрения, что у Германа были другие женщины во время его поездок. Все же он был городским, образованным человеком. Ему, наверное, иногда хотелось иметь отношения с женщиной, которая умеет читать эти маленькие буковки. И все же она жалела Германа. Разве мужчины способны понять, что им нужно на самом деле? Их ослепляют слова, улыбки, стук каблучков. В Америке полно вертихвосток, кокеток и распутниц.
После трапезы Герман принялся бродить взад-вперед. Обычно Маша звонила ему в пятницу вечером. В субботу она не звонила из дома, чтобы не сердить мать, но Герман рассчитал, что Маша должна позвонить с улицы. В пятницу вечером она выходила из дома покурить, говоря обычно: «Я пошла подымить». Но время шло, и телефон молчал. Всю неделю с наступлением вечера Ядвига накрывала клетку с попугаями Войтушем и Марьяшей, но в субботу она позволяла им бодрствовать допоздна. Самец Войтуш помогал Герману с пением субботних напевов, его охватывало некое птичье воодушевление, он щебетал, выводил трели, летал по комнате. Если Герман не пел, Войтуш усаживался на крышку клетки и чистил крылышки.
— Что случилось? — спросила Ядвига.
— Ничего, ничего, — ответил Герман.
— Что-то произошло!
— Я тебя прошу, оставь меня в покое!
Ядвига ушла стелить постель. Герман уставился в окно. С тех пор как Маша прочитала объявление, он все время ждал скандала и боялся, что Маша бросит его раз и навсегда. В смятении он выдумал нескладную историю и теперь полностью зависел от Маши. Она может в любую минуту узнать о Тамарином возвращении. Вчера она несколько раз повторила имя его выдуманного двоюродного брата, Файвла Лембергера, и сделала это, иронично подмигивая, с победоносной ревностью. Однако, по всей видимости, она отложила удар. Вероятно, не хотела портить отпуск, который Герман обещал провести вместе с ней. Отпуск начинался в этот понедельник.
Насколько Герман был уверен в Ядвиге, настолько же неуверен в Маше. Она никогда не могла смириться с тем, что Герман живет с другой. Маша упрекала его в этом при любой возможности. Ревность сжигала ее. Иногда она даже провоцировала Германа, говоря, что вернется к Леону Торчинеру. Герман прекрасно знал, что Маша нравится мужчинам. Он часто видел, как в кафетерии они пытаются заговорить с ней, просят ее адрес и телефон, оставляют свои визитные карточки. Все заглядывались на Машу, начиная от хозяина-еврея и заканчивая посудомойщиком-пуэрториканцем. Даже женщины восхищались ее изяществом, ее огненно-рыжими волосами, длинной шеей, тонкой талией, стройными ногами, белой кожей.
Чем он, Герман, привлек ее? И как долго будет действовать его обаяние? Сколько раз он пытался подготовиться к тому дню, когда Маша оставит его, но никогда не мог найти ничего и никого, кто бы мог занять ее место. Для Германа Маша была последней связью с жизнью. Без нее ему незачем вставать по утрам…
Теперь он стоял и смотрел на темный переулок, на застывшие листья деревьев, на небо, в котором отражались огни Кони-Айленда, на пожилые пары, которые, выставив стулья на крыльцо, вели длинные каждодневные разговоры о тех, кому уже не на что надеяться.
— Ну, будь что будет, — сказал себе Герман. — Ани леейди нахон — я готов к своему провалу.
Ядвига коснулась его плеча:
— Постель готова. Я постелила свежее белье.
— Спасибо.
Ядвига вышла, Герман отправился следом. Ее тело не возбуждало, а насыщало его. Но иногда он все-таки находил ее привлекательной, потому что рядом с ней он мог думать о Маше и даже говорить о ней на идише так, чтобы Ядвига не понимала.
Герман погасил свет в комнате. Тускло горели свечи. Ядвига пошла в ванную. Она привезла из деревни правила женской гигиены, которые никогда не нарушала. Перед сном она полоскала рот, мылась и расчесывала волосы. Еще в Липске она соблюдала чистоту, и здесь, в Америке, следовала гигиеническим рекомендациям из польских радиопрограмм. Войтуш успел высказать последний протест, прежде чем стало темно. Он забрался в клетку вслед за Марьяшей и уселся рядом с ней на жердочку, готовый спать или молчать до восхода солнца. Герман начал раздеваться. С ним случилось нечто невероятное: к нему вернулась мертвая жена, но никакого облегчения он от этого не испытал. Герман представил себе, как Тамара лежит в дядиной квартире на диване, женщина, живущая прошлым, без мужа, без детей, без профессии, без дома. А что Маша? Она стоит где-нибудь в парке или на Тремонт-авеню и «дымит» — втягивает и выпускает сигаретный дым. Мимо проходят молодые люди и подзывают ее свистом. Кто-то останавливает машину и пытается «подбросить» ее. Кто знает? Может, она уже едет вместе с ним? «Все погибло, погибло», — бормотал Герман.
Телефон зазвонил, Герман бросился к нему. Одна субботняя свеча уже догорела, но вторая еще теплилась. Он поднял трубку и сказал:
— Маша?
Маша выждала некоторое время, а затем ответила приглушенным голосом:
— Ты еще не спишь?
— Нет, не сплю.
— Ты лежишь в постели с крестьянкой?
— Нет, я не лежу с ней в постели.
— А где же? Под кроватью?
— Где ты? — спросил Герман, едва дыша.
— Какая тебе разница, где я?
— Ты знаешь, что мне не все равно.
— Нет, ты мог бы быть со мной, а вместо этого ты развлекаешься со своей кухаркой из Липска. У тебя и другие есть. Твой двоюродный брат Файвл Лембергер — это толстая баба, которую ты любишь. Ты уже спал с ней?
— Пусть Бог меня накажет.
— Кто она? Ты с таким же успехом можешь сказать мне правду.
— Я же сказал тебе: Тамара воскресла из мертвых.
— Что? Это не Тамара. Ты замучил Тамару, она гниет в земле. Это одна из твоих любовниц.
— Клянусь костьми моих родителей и детей, что это никакая не любовница! — сказал Герман дрожащим голосом, с интонацией человека, который говорит правду.
Маша поняла, что такой клятвой не обманывают. Его голос звучал надрывно и в то же время торжественно. Повисло долгое молчание. Маша спросила:
— Кто она?
— Моя родственница, женщина, сломленная войной и потерявшая детей. «Джойнт» помог ей переехать в Америку.
— Зачем ты рассказывал мне о Файвле Лембергере?
— Я хорошо знаю тебя и твои причуды. Как только слышишь о женщинах, тут же думаешь…
— Сколько ей лет?
— Моего возраста. Пропащая душа. Ты думаешь, реб Авром-Нисон Ярославер объявлял бы о возвращении моей любовницы? Они верующие люди. Я же сказал тебе: позвони им и сама обо всем узнаешь.
— Ну, ладно! На этот раз ты не виноват. Ты даже не представляешь, как я переживала в последние дни.
— Дурочка, я тебя люблю! Где ты?
— Где я? Я вышла подымить. Стою на Тремонт-авеню. Каждые две минуты останавливается машина и предлагают подвезти. Юнцы свистят мне вслед, как будто мне восемнадцать лет. Мне никогда не понять, что им от меня надо. Куда поедем в понедельник?
— Куда-нибудь поедем.
— Я боюсь оставлять маму одну. Вдруг на этой неделе у нее случится сердечный приступ? Она умрет, и никто даже не заметит.
— Попроси кого-нибудь из соседей приглядеть за ней.
— Я не общаюсь с соседями. Я ни с кем не общаюсь. Не могу же я вдруг пойти просить у них одолжения. Мама и сама сторонится людей. Когда стучат в дверь, ей кажется, что это нацисты. Дорого мне обойдется эта поездка, врагам не пожелаю!
— Если так, давай останемся в городе.
— Я скучаю по зеленой травке, по глотку свежего воздуха. Этот город меня измучил. Даже в лагерях воздух был чище, чем здесь. Я бы взяла маму с собой, но она не поедет с нами. Для нее я замужем и не должна даже разговаривать с тобой. Что за народ? Бог насылает на него несчастья, а он только дрожит, боясь отдалиться от Бога. Правда в том, что Господь ненавидит евреев. Он величайший антисемит. Гитлер выполнил Божью волю…
— Зачем ты тогда зажигаешь свечи? Почему не ешь свинину? Почему постишься в Судный день?
— Не для Него, а для идола, которого придумали себе евреи. Необязательно лепить божка из глины, можно выдумать божка. Настоящий Бог нас ненавидит, а мы себе придумали бога, который нас любит и избрал нас из всех народов. Ты же сам сказал: они делают законы из камня, а мы — из идей. Во сколько ты придешь в воскресенье?
— В четыре.
— Бери с собой вещи. Я рискну. Если она умрет, то умрет. Служение настоящему Богу заключается в убийстве.
— Маша, я скучаю по тебе.
— Ты скучаешь по мне. Ты убиваешь меня. Ты Бог и убийца. Ну, хорошей субботы!
V
Герман и Маша сели на автобус, идущий в Адирондак. Через шесть часов они вышли у озера Джордж и сняли комнату за шесть долларов. У них не было определенных планов. В парке на скамейке Герман нашел карту штата Нью-Йорк, эта бумажка и служила ему путеводителем. Разве важно, куда именно ехать? Главное, что они вместе с Машей. Им больше не надо прятаться от Шифры-Пуи, выслушивать ее жалобы и ворчание.
Окна комнаты выходили на озеро и горы. Ветер наполнял комнату запахом сосен. Где-то играла музыка. Маша взяла с собой из дома корзинку с завтраком, который они приготовили вместе с мамой: драники, пудинг, пюре из яблок, слив и изюма и домашний пирог.
Маша закурила и, встав у окна, принялась смотреть на озеро, по которому плавали весельные лодки и моторные катера. Она спросила игривым тоном:
— А где же нацисты? Что это за мир без нацистов?
Потом добавила:
— Отсталая страна, эта Америка!
Перед отъездом Маша получила отпускные и купила бутылку коньяка. В России она привыкла к выпивке. Герман отпивал по глотку из бумажного стаканчика, в то время как Маша каждый раз заново наполняла свой стакан. Она становилась все веселее и увереннее в себе и принялась насвистывать и подпевать музыке, доносившейся снаружи.
В детстве, в Варшаве Маша занималась танцами. Ее икры были твердыми, как у танцовщицы. Она принялась вытягивать руки и выделывать разные па. Без платья, в нейлоновых чулках, туфлях с высокими каблуками, сигаретой во рту и распущенными волосами она напоминала Герману гимнасток, приезжавших в Цевкув вместе с циркачами и дрессированными медведями. Она пела на идише, иврите, по-русски, по-польски и еще какую-то песню, которую она слышала от цыган. Маша требовала пьяным голосом, чтобы Герман танцевал вместе с ней:
— Поди сюда, ешиботник, покажи, на что ты способен!
Они рано легли спать, но ночь прошла очень беспокойно. Маша засыпала на час и опять просыпалась. Она требовала всего сразу: любви, сигарет, выпивки, разговоров. На озере виднелась лунная дорожка, плескалась рыба. На небе появились звезды. Маша рассказывала истории, вызывающие ужас или ревность.
Утром Герман и Маша взяли рюкзаки и снова пошли к автобусной станции. Они переночевали в бунгало на берегу озера Шрун. Там было так холодно, что пришлось спать в одежде. Утром после завтрака они взяли лодку. Герман сел на весла, а Маша устроилась греться на солнышке. Герману казалось, что он может читать Машины мысли сквозь ее опущенные веки, по складкам на ее лбу. Над ней струился дымок. На лице была полуулыбка, которую иногда можно увидеть у покойников.
Герману приходили в голову все те же мысли: как прекрасно жить в Америке, свободной стране, без страха перед нацистами, энкавэдэшниками, пограничниками и доносчиками. Герман даже не взял с собой «важные бумаги»: в США никто никогда не спрашивал документы. Правда, в переулке между Мермейд-авеню и Нептун-авеню его ждала Ядвига, а на Ист-Бродвее в квартире у реб Аврома-Нисона Ярославера жила Тамара, прошедшая через ад и приехавшая в Америку в ожидании подачек от Германа. Он отчетливо ощутил, что эти две женщины рассчитывают на него, и их претензии полностью обоснованы. Герман был в долгу перед ними, этот долг он никогда не сможет оплатить. Даже у рабби Лемперта были моральные претензии к Герману: раввин хотел сделать его своим закадычным другом, но Герман оттолкнул его.
Однако у бледно-голубого неба, у золотисто-зеленых деревьев, у желто-зеленой воды не было чувства вины или разобщенности. В природе все еще царила древняя гармония. Птицы выпевали добрыдень,[66] как музыканты наутро после свадьбы. Теплый ветерок приносил с собой запахи леса и еды из гостиниц — пахло овощами и фруктами, кофе и сливками, сладкой выпечкой и супом. Иногда прорывалось звучное мычание коровы. Герману показалось, что он слышит кудахтанье курицы или кряканье утки. В это летнее утро тоже рубили головы. Треблинка была повсюду.
Маша открыла глаза:
— Так бы и пролежала всю жизнь…
Машины запасы еды закончились, но она не хотела идти в ресторан. Зачем переплачивать? Маша пошла на рынок и купила хлеба, помидоров, сыра и яблок. Она не отличалась скупостью, но привыкла экономить, как человек, переживший голод. По дороге Маша позвонила матери. Она вернулась нагруженная едой, как будто собиралась готовить для целой семьи. Несмотря на игривое легкомыслие, материнский инстинкт брал свое. Она не швырялась ни деньгами, ни едой, в отличие от опустившихся женщин. В бунгало обнаружилась керосинка, и Маша сварила кофе. Дымок и запах керосина напомнили Герману его первые студенческие годы в Варшаве, годы без Тамары.
В открытое окно влетали мухи, пчелы и бабочки. Мухи и пчелы садились на просыпанный сахар, а бабочка застыла на ломте хлеба. Она не ела хлеб, а, видимо, насыщалась одним его запахом. Все эти существа не были для Германа просто навязчивыми насекомыми, которых нужно прогнать. В каждом из них он видел чудо Божественного творения, декларацию вечной жизни, наслаждения, познания. Вытягивая хоботок в процессе еды, муха терла одну лапку о другую. Крылья бабочки напоминали Герману талес. Бабочка совершала утреннюю молитву над куском хлеба. Пчела, жужжа, отправилась собирать цветочный нектар. Откуда-то приполз муравей. Он пережил холодную ночь и теперь выполз на стол. Но куда он собрался? Муравей остановился ненадолго у крошки, потом пополз дальше — не прямо, а зигзагом, то туда, то сюда — движение во имя движения. Он отбился от общества и теперь мог рассчитывать только на самого себя.
От озера Шрун они отправились на озеро Плэсид, где сняли комнату в доме на холме. Все в доме было старым, но аккуратным: прихожая, лестницы, гобелены на стенах, полотенце с вышитой на нем молитвой — раритет, привезенный из донацистской Германии. На широких кроватях лежали пышные подушки, какие можно встретить только в европейских отелях. Из окна комнаты был виден склон холма. На книжных полках лежали номера старых журналов. Солнце клонилось к закату и отбрасывало пурпурные удлиненные отблески на стены комнаты.
Через некоторое время Герман вышел позвонить. Он научил Ядвигу отвечать на звонки, оплачиваемые за счет принимающей стороны. Ядвига спросила, где он, и Герман назвал первый город, пришедший ему на ум. Обычно Ядвига ни на что не жаловалась, но в этот раз начала рассказывать Герману, что ей страшно по ночам, что соседки смеются и показывают на нее пальцем. Зачем Герману так много денег? Она, Ядвига, готова пойти работать и отдавать свой заработок ему, чтобы он почаще бывал дома, как все остальные мужчины… Герман успокоил ее, заверив, что не будет долго отсутствовать. Ядвига послала ему поцелуй по телефону, а Герман чмокнул губами в ответ.
К тому моменту как Герман вернулся, Маша уже успела на него разозлиться. Он пытался заговорить с ней, но Маша не ответила. Герман спросил, на что она злится, и она сказала:
— Теперь я знаю правду.
— Какую правду?
— Я слышала каждое слово. Ты скучаешь по ней, не можешь дождаться возвращения к ней.
— Она нуждается в добром слове. Она совсем одна, беспомощная.
— А я что? Все, это конец.
Они поужинали молча. Маша не зажигала лампы. Она достала из корзины вареное яйцо, и Герману вдруг вспомнился канун Девятого ава, последняя трапеза перед постом, когда в сумерках садятся на низкие скамеечки и едят вареные яйца с пеплом в знак траура — символ колеса судьбы, способного повернуться в любой момент. Маша жевала и курила. Герман попробовал заговорить с ней, но она не ответила. Сразу после ужина она улеглась в одежде на кровать и свернулась клубком. Трудно было понять, спит ли она или просто обиженно молчит.
Герман вышел на улицу. Он отправился по незнакомому переулку, заглядывая в витрины сувенирных лавок, где были выставлены куклы-индейцы, вышитые золотом сандалии с деревянными подошвами, ожерелья из янтаря, китайские серьги, мексиканские браслеты. Он дошел до озера, в воде отражалось бронзовое небо.
По берегу медленно и чинно прогуливались беженцы из Германии — широкоплечие мужчины и полные женщины. Они разговаривали о домах, магазинах и биржевых акциях. Женщины переспрашивали, давали советы. «И это мои братья? Мои сестры? В чем заключается их еврейство? А мое еврейство?» — спрашивал себя Герман. У них у всех одно и то же стремление — как можно быстрее ассимилироваться, как можно скорее избавиться от акцента. Германа охватило мучительное ощущение отверженности. Он не принадлежал ни к ним, ни к американским евреям, ни к полякам, ни к польским евреям. Подобно муравью, которого он видел сегодня утром на столе, Герман оторвался от общества. Даже те две женщины, которые его любили, разочаровались в нем. Герман удерживал их рядом с собой насильно, посредством лжи. Но где же его собственная правда?
Герман отправился вокруг озера, прошел мимо небольшого леса, пустырей и отеля, построенного в стиле швейцарского шале. Появились светлячки, застрекотали кузнечики. В кроне дерева заухала проснувшаяся сова. Взошла луна, похожая на череп. Что там наверху? Что такое луна? Кто ее создал? С какой целью? Или в мироздании вообще нет никакой цели? А он, Герман, когда-нибудь познает истину? Или он лопнет, как пузырь, от этого знания и не останется следа от его сомнений?
Было уже поздно, когда Герман вернулся домой. Он прошагал несколько миль. В комнате не горело ни одной лампы. Маша лежала в той же позе, в которой он ее оставил. «Может, она умерла?» — вдруг подумал Герман. Он спросил:
— Ты спишь?
Маша не ответила. Он подошел и потрогал ее лицо. Маша сказала:
— Что тебе надо?
Герман разделся и лег рядом с ней. Он долго лежал без сна, потом наконец задремал.
Когда Герман снова открыл глаза, луна светила в окно. Маша стояла посреди комнаты и пила коньяк из бутылки. Он сказал:
— Маша, это не выход!
— А в чем выход? Mind your own business![67]
Она разделась и подошла к нему. От нее пахло алкоголем. Герман опьянел от ее губ. Они молча поцеловались. Они занимались любовью в полной тишине, как животные. Потом Маша села и закурила сигарету. Вдруг она спросила:
— Где я была в это же время пять лет назад?
Она задумалась, долго рылась в собственной памяти и затем ответила:
— В долине смерти.
VI
Герман и Маша переехали в гостиницу, недалеко от границы с Канадой. Оставалась еще пара дней отпуска. Цены в гостинице были умеренные — тридцать долларов в неделю с человека.
На берегу озера рядом с бунгало полуголые мужчины и женщины играли в карты. На теннисном корте раввин в ермолке и шортах играл в теннис с раввиншей. В гамаке, натянутом между двух сосен, лежали парень с девушкой и безудержно смеялись. У парня были высокий лоб, растрепанные волосы, плоская волосатая грудь. На девушке был обнажавший живот купальник, на шее висела звезда Давида.
Хозяйка гостиницы заверила Германа и Машу в том, что местная еда абсолютно кошерна, а постояльцы живут как одна дружная семья. Она привела пару в бунгало с некрашеными стенами и голыми балками на потолке.
В столовой за длинными столами полуголые мамы пичкали детей едой. Малыши плакали, давились, выплевывали насильно запихнутые в них овощи. Раввин, игравший в теннис, сыпал остротами. Официанты — студенты колледжа или ешивы — высокомерно перешучивались с пожилыми дамами и увлеченно флиртовали с юными девушками. Они тут же подошли к Маше спросить, откуда она, где родилась, как спаслась от нацистов, и отпустили несколько двусмысленных комплиментов.
У Германа комок встал в горле. Он не мог есть ни рубленую печенку с луком, ни блинчики, ни жирный кусок говядины, ни фаршированную кишку. Женщины за столом сетовали:
— Что это за мужчина? Он же ничего не ест…
У Ядвиги на сеновале, в пересыльных лагерях, за несколько лет проживания в Америке Герман успел забыть об особенностях современных евреев. Но вот он видит вновь всё то же самое, как будто ничего не изменилось. Та же пошлость, те же противоречия и абсурд.
Еврейский поэт с круглым лицом и кудрявыми волосами завел разговор с раввином. Представившись атеистом, он говорил о светской жизни, о культуре, о борьбе за права евреев, об антисемитизме. Пока поэт бросался фразами, раввин совершал омовение рук и произносил благословение после еды. Иногда он поднимал глаза и говорил несколько слов вслух. Полная женщина твердила, что идиш — это жаргон, смесь языков, лишенная грамматики. Бородатый еврей в очках в золотой оправе и шелковой ермолке встал и произнес речь о недавно созданном государстве Израиль, ожидая поддержки аудитории.
Маша разговорилась с женщинами, ее уже называли миссис Бродер и выспрашивали разные подробности о том, когда они поженились с Германом, сколько у них детей, чем занимается муж. Герман наклонил голову, как будто хотел побыть один. Любое общение с людьми приводило его в смятение. А вдруг среди них найдется кто-то из Бруклина, кто знает Германа и Ядвигу?
Какой-то пожилой еврей, родом из Галиции, зацепился за имя «Бродер» и стал выспрашивать у Германа, откуда тот родом, нет ли у него семьи во Львове, в Тарнове, в Бродах, в Дрогобыче. У этого еврея в семье был Бродер, пятая вода на киселе, он учился на раввина, но стал адвокатом и теперь занимает важное место в религиозной партии «Мизрахи» в Тель-Авиве. Чем больше Герман рассказывал, тем больше тот спрашивал. Должно быть, хотел свести разговор к тому, что они с Германом родственники.
Все женщины за столом восхищались Машиной красотой, ее стройной фигурой и манерой одеваться. Маша вскользь заметила, что сама сшила платье, которое было на ней надето, и соседки по столу очень заинтересовались. Is that so?[68] Может быть, она шьет на заказ? У всех оказались платья, которые надо было расставить, ушить, удлинить, укоротить.
Герман поел кое-как, но встал из-за стола с тяжестью в желудке. Он вспотел от жары и пошел с Машей прогуляться.
«Что это за изгнание? — спрашивал Герман сам себя. — Концлагерь для души. Ад, в котором евреи теряют свою значимость сами по себе». Герман сам не осознавал, каким нетерпимым он стал за годы одиночества, насколько претила ему светская жизнь, насколько он оторвался от общества и был чужд человеческих отношений. Его мучило только одно желание — как можно скорее сбежать отсюда.
Он зашагал так быстро, что Маша отстала.
— Куда ты бежишь? За тобой никто не гонится…
Они поднимались на холм. Герман то и дело оглядывался по сторонам: можно ли здесь спрятаться от нацистов? Откуда можно было бы их обстрелять? Кто-нибудь решился бы спрятать их с Машей на сеновале? Герман только что пообедал, но уже начал беспокоиться о том, как пройдет ужин. Невыносимо сидеть среди женщин и смотреть, как они пичкают своих детей. Они портят трапезу. Герман больше не может выносить их пустую болтовню. Еврейство? Что за еврейство, если Бога нет? И как можно служить Богу, насылающему такие несчастья?
В Нью-Йорке Герману не терпелось подышать свежим воздухом, насладиться природой, но теперь к нему вернулись переживания, которые город почти сумел успокоить. Евреям совершенно не подходил этот покой среди низких домиков, сараев, амбаров и садов. Здесь, среди лесов и полей, разница между евреями и гоями становилась удивительно очевидной. Маша боялась собак. Каждый раз, когда она слышала собачий лай, она хватала Германа за руку. Маша начала жаловаться, что ей тяжело ходить в туфлях на высоком каблуке. Фермеры, живущие здесь, смотрели на гуляющих с видимым недовольством.
Когда они возвращались в гостиницу, Герману захотелось покататься по озеру на одной из лодок, предоставленных в распоряжение гостям. Маша колебалась. Желая отговорить Германа, она сказала:
— Ты еще меня утопишь…
В конце концов она села в лодку и закурила сигарету. Герман взял весла. Он знал, как управлять лодкой, но чувствовал неловкость в руках, натянутость каждого движения. Ни он, ни Маша не умели плавать. Небо было ясным, дул ветер. Поднявшиеся волны бились о борта лодки и качали ее, как колыбель. Изредка Герман различал какой-то плеск, словно в воде их подстерегало чудовище. Оно тихо следовало за ними, каждую минуту готовое потопить лодку и погубить катающихся. Много ли нужно, чтобы перевернуть это корыто?
Герман любил повторять, что уже не держится за жизнь. Но вот он сидит в напряжении, внутри что-то ёкает при каждом движении лодки. Маша смотрит на него с подозрением, дает указания и критикует. Она не доверяет его физической подготовке, а может, просто не верит в удачу? С такими, как они, все может случиться. Природа сохраняет нейтралитет. То же солнце светило над Освенцимом, Майданеком, Треблинкой и Штутгофом. Тот же ветер уносил дым из печей, в которых сжигали евреев.
— Смотри, бабочка!
Маша показала пальцем.
Как это она улетела так далеко от берега? И сможет ли добраться обратно? Она порхает в воздухе, размахивая белыми крылышками. Летит зигзагами, без определенного направления, и вдруг исчезает из виду. Где она? Утонула? Волны полны игры света и тени, они складываются, подобно огромной паутине или жидкой шахматной доске. Нет, мир — это не хаос. Здесь царит закон. Вероятно, Спиноза был прав: сам Бог подчиняется Своим собственным законам. Он и есть закон. Он знает свою физику, химию, биологию, социологию и поэтому ничему не удивляется — ни резне Хмельницкого, ни лагерям, Гитлера, ни чуме, ни Сталинградской битве. Это все необходимо, предопределено. Если Герману с Машей сегодня суждено утонуть, это не нарушит мировую гармонию.
— Осторожно! Скала!
Маша вскочила, лодка закачалась. Герман принялся грести в обратную сторону. И правда, скала торчит из воды, неровная, острая, поросшая мхом. Она еще помнит о леднике, который во время оледенения оставил в земле эту яму. Выстояв среди дождей, снегов, морозов и жары, она не боялась никого, ни нацистов, ни большевиков, ни топоров, ни бомб. Эта скала безразлична, как Бог. Ее не надо освобождать, она уже свободна. Страх смерти — это страх перед Богом.
Лодка плыла к пристани. Герман и Маша вышли на берег. Дойдя до бунгало, они улеглись на кровать и накрылись шерстяным одеялом. Они лежали друг рядом с другом, две души, отстранившиеся от Бога. Маша закрыла глаза. Было непонятно, дремлет она или думает. Потом ее глаза словно заулыбались под веками. Губы начали что-то бормотать. Герман пристально рассматривал Машу: знает ли он ее? Даже изгибы ее тела были ему неизвестны. Он и вправду никогда не изучал форму ее носа, подбородка, лба. А что происходит в этой голове? Маша вздрогнула и села:
— Я только что видела отца…
Она немного помолчала, подумала, а потом спросила:
— Какое сегодня число?
Герман подсчитал дату.
— Уже почти семь недель у меня не было гостей, — сказала Маша.
Герман не сразу понял, о чем она говорит. Все его женщины называли период менструаций по-разному, праздники, дни, период, месячные… Герман встревожился и попытался посчитать.
— У тебя, наверное, задержка.
— У меня не бывает задержек. Во всем я ненормальная, а тут нормальная на сто процентов.
Герман замолчал.
— Сходи к доктору.
— Они так сразу не определят. Я подожду еще недельку. Здесь аборт стоит долларов пятьсот. — Маша сменила тон: — И к тому же это опасно. Женщина, работавшая в кафетерии, умерла в течение нескольких часов. Получила заражение крови — и все. Это страшная смерть. Что будет с мамой, если я соберусь на тот свет?
— Не думай сразу о плохом. Ты еще не умираешь.
— От жизни до смерти один шаг. Я видела, как умирают, и я знаю. Подожди, схожу за сигаретой.
Маша встала с кровати и закурила. Она подошла к окну, открыла занавеску и выглянула, затем вернулась к Герману.
— Папа еще никогда не выглядел таким живым, как сегодня. Он сказал мне «мазл-тов», и поэтому…
— Ты хочешь ребенка?
— Незаконного? Не хочу!
— Нет незаконных детей.
— В книгах, может, и нет, а в жизни, если незаконный, значит — незаконный. Недалеко от нас живет женщина с ребенком, на него все показывают пальцем и обзывают его.
— Не надо жить на той же улице.
— Герман, может быть, и можно спрятаться от Бога, но от людей не спрячешься! Даже на сеновале нельзя отлеживаться вечно!
Маша повернулась в постели. Она не сидела и не лежала, но оперлась головой о спинку кровати, смотрела перед собой и улыбалась. Вскоре улыбка исчезла, лишь в углу рта остался ее след.
— Не дрожи, дорогой, я тебе ребеночка не подброшу, — сказала Маша.
VII
К ужину раввин, по-видимому, запасся новыми шутками. Он сыпал анекдотами, женщины смеялись. Студенты-официанты с грохотом ставили тарелки на стол. Сонные дети отказывались есть, а мамы били их по рукам. Какая-то новоприбывшая женщина отослала свою порцию обратно на кухню, и повар пытался ей возразить: «Гитлер вас лучше кормил?»
После ужина все отправились в клуб, который находился в перестроенном сарае. Еврейский поэт произнес речь, прочитал стихи, одобрительно отозвался о Сталине. Артистка показала пародию на известных актеров и актрис, она плакала, смеялась, кричала, жестикулировала. Женщины и девушки заходились от смеха.
«Почему все это меня не веселит? Почему это для меня так болезненно?» — спрашивал себя Герман. В этом клубе все превращалось в фарс: цель сотворения мира, избранность народа Израиля, смысл страданий. Через открытую дверь залетали мухи и мотыльки, привлеченные тусклыми лампами и ослепленные искусственным дневным светом. Немного покружив, они падали замертво, обжегшись о лампу или размазанные по стене ударом мухобойки.
Герман огляделся и увидел, что Маша с кем-то танцует. Огромный мужчина в неопрятной рубашке и зеленых шортах, открывающих его волосатые ноги, держал Машу за талию, а она пыталась дотянуться рукой до его плеча. Один официант дудел на тромбоне, другой стучал на барабане, третий дул в инструмент, похожий на дырявый горшок.
Герман понимал, что Маша расстроится, но больше не мог здесь оставаться. Стояла темная звездная ночь, безлунная и по-северному холодная. Герман снова отправился по той же дороге, но в обратном направлении. Квакали лягушки, стрекотали кузнечики, падали метеориты. Клуб постепенно удалялся, уменьшался, превращаясь в светлячка.
С тех пор как Герман отправился в отпуск с Машей, он ни минуты не оставался один. Теперь он шел размеренным шагом и в который раз осознавал, что, сколько ни анализируй, его действия невозможно свести к логической схеме. При всем своем пессимизме Маша сохраняла в себе женские инстинкты: она хотела мужа, детей, семью, ей нравились музыка, театр, развлечения. Германа же одолевала печаль, от которой невозможно избавиться. Он, Герман, не был жертвой Гитлера, он стал жертвой еще до Гитлера.
Герман дошел до сгоревшего дома, остановился и зашел внутрь. Можно ли здесь перезимовать? Он стоял среди обугленных стен, вдыхая запах старого пожарища. Нет, он больше не способен подыгрывать, хохотать, подпевать, танцевать, как все. Он боится смерти и при этом тоскует по тишине, по божественному покою. В дыре, которая служила когда-то окном, темнело небо — папирус, полный иероглифов, неразрешимая и терзающая ум загадка. Герман остановил взгляд на трех звездах, расположившихся по диагонали, подобно огласовке «куббуц»[69]. Он разглядывал эти три солнца. У каждого из них; вероятно, были свои планеты, свои кометы, свои космические особенности. Как странно, что кусок плоти, заключенный в череп, может видеть такие далекие предметы! Как странно, что сосуд с мозгом способен постоянно удивляться и никак не может прийти к окончательному ответу! Все они молчали: Бог, звезды, мертвые. А говорящие всегда говорят впустую…
Когда Герман вернулся, в клубе уже было темно. Представление и танцы уже закончились. Здание, только что полное суеты, теперь стояло в тишине, в темноте, погруженное в собственные размышления, свойственные всем неодушевленным предметам.
Герман принялся искать бунгало, заранее зная, что это будет непросто. Он плохо ориентировался всегда и везде: в городах, в деревнях, на кораблях и в гостиницах. Один фонарь горел при входе в здание, в котором находился офис, но внутри никого не было.
Шальная мысль пронеслась в голове у Германа: а что, если Маша ушла спать к танцору в зеленых шортах? Это, конечно, маловероятно, но нынче все может произойти в среде людей, разочарованных во всех своих ожиданиях и лишенных веры. Что такое светская культура, как не убийство и не проституция? Что представляет собой сам Герман, как не клубок желаний и жажды приключений?
Дверь открылась, и Герман услышал Машин голос. Должно быть, она увидела его из окна. Маша крикнула:
— Куда ты убежал? — и расплакалась.
Герман боялся, что этой ночью не сможет уснуть, но как только он положил голову на подушку, его охватил сон. Маша отодвинулась от Германа и повернулась к нему спиной. В его голове промелькнула последняя мысль, и все пропало. Открыв глаза, Герман не знал, как долго он проспал: один час или шесть. В бунгало стояли густые сумерки, было по-зимнему холодно. Маша не лежала, а сидела на кровати. В темноте ее лицо было подобно бледному пятну, глаза светились своим собственным светом.
— Ты не спишь? — спросил Герман.
Маша немного помолчала.
— Герман, я боюсь операции! — отозвалась она хриплым взволнованным голосом.
Герман не сразу понял, о чем она говорит.
— Ах да.
— Может, Леон даст мне развод. Я поговорю с ним в открытую. Если он откажется от развода, ребенок будет носить его имя.
— Ты знаешь, что я не могу развестись с Ядвигой.
Маша простонала и крикнула одновременно:
— Ах, ты не можешь? Английский король, когда хотел жениться на своей возлюбленной, отказался от трона[70], а ты не можешь освободиться от этой невежи? Никакой закон не заставляет тебя жить с ней. В худшем случае будем платить ей алименты. Я буду работать сверхурочно и платить. И не думай, что я верю в институт брака и во всю эту бессмыслицу. Я слишком много повидала, чтобы всерьез воспринимать венчание или обручальное кольцо, но мама верит в это. Я тебе об этом не рассказывала, но она ест меня заживо. И себя ест. Она твердит: лучше бы я погибла в лагерях, чем терпеть такой позор. Теперь, если будет еще ребенок в придачу, она долго не протянет.
— Не должно быть никакого ребенка!
— Не должно быть? А может, я тоже еще хочу прожить пару лет? Мне стыдно за тебя и твои слова!
— Ты же знаешь, что развод убьет Ядвигу!
— Что? Я ни о чем не знаю. И потом, ты обручился у раввина с этой паршивкой?
— У раввина? Нет.
— Тогда как? Просто расписались?
— У нас гражданский брак.
— По еврейскому закону это браком не считается. Венчайся со мной. Мне не нужны американские бумажки.
— Никакой раввин не будет венчать без свидетельства о браке. Здесь Америка, а не Польша.
— Я найду раввина.
— Это многоженство. Двоеженство.
— Никто не узнает. Только мама и я. Мы съедем с квартиры, а ты можешь выступать под любым именем, под каким хочешь. Если тебе так дорога эта крестьянка, можешь ходить к ней раз в неделю. С этим я смирюсь.
— Рано или поздно меня посадят и депортируют.
— Никто тебя не посадит. У нас не будет официальных бумаг, и никто не сможет доказать, что мы муж и жена. Ксубу[71]можешь сжечь сразу после свадьбы.
— Ребенка нужно регистрировать.
— Это мы придумаем. Довольно того, что я согласна делить тебя с этой мерзавкой, с этой проходимкой. Выслушай меня. — Маша внезапно сменила тон: — Я уже час тут сижу и думаю. Если ты даже на это не согласен, уходи и больше не появляйся. Решено. Я пойду к доктору, который сделает мне операцию, а ты больше на глаза мне не показывайся. Если я даже этого не могу от тебя добиться, значит, твоя любовь гроша ломаного не стоит. Клянусь своим праведным отцом, что я от этого не отступлюсь. Даю тебе минуту на размышление. Да или нет. Если нет, то одевайся и уходи, я больше не хочу тебя видеть ни секунды.
— Что ты кипятишься? Ты хочешь, чтобы я нарушил закон. Я буду бояться полицейских на улице.
— Ты так и так их боишься. Отвечай четко!
— Да.
Маша надолго замолчала.
— Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь? Мне не надо будет завтра начинать сначала?
— Нет, решено.
— Ставлю тебе ультиматум. Я решила. Завтра же поговорю с Леоном, чтобы он дал мне развод. Если не даст, объявлю ему войну не на жизнь, а на смерть.
— Что ты сделаешь? Застрелишь его?
— На это я тоже способна, но есть и другие способы.
— Какие способы?
— Он вне закона, нечист, как свинья. Если захочу, его завтра же вышлют из страны. Он живет по поддельным документам. Из него такой же доктор, как из меня профессор. В Польше он сидел за коммунизм, хотя его коммунизм такая же ерунда, как и все другие «измы». Он хотел завести ребенка, просто жаждал, но я не хотела иметь ребенка от шарлатана и тряпки. Я его напугаю, и он даст развод. А потом мы с тобой поженимся.
— По еврейскому закону ребенок все равно будет считаться незаконнорожденным. Сейчас ты чужая жена.
— Еврейский закон и все другие законы волнуют меня, как прошлогодний снег. Я ему не жена, и он мне не муж. Что мне до закона, написанного парочкой святош? Я это делаю для мамы, и только для нее.
— Ну, хорошо.
— Я знаю, ты думаешь, что я тебя принуждаю, заманиваю в сети. Напрасно ты так думаешь: я тебя не неволю. Я буду тебе хорошей женой. Лучше, чем ты можешь себе представить. Мне известны все твои мысли, так вот, завести со мной ребенка — это не такая трагедия, как ты себе вообразил.
— При чем тут трагедия?
— Все само собой получается. Весь мир заводит детей. Никто не хочет одинокой старости. Леон хотел восьмерых, а не одного. Наш ребенок может оказаться гением.
— Скорее, он будет идиотом.
— От идиота всегда можно избавиться. Может, когда-нибудь жизнь станет лучше? Бог не мог создать этот мир только для Гитлера.
— Он точно создал его не для евреев.
— Ты еще полюбишь своего ребенка. Ты будешь обожать его. Если будет мальчик, назовем его в честь моего отца. Подожди, я закурю.
Маша встала с кровати и долго возилась в темноте. Запел петух, и ему сразу же ответили другие петухи. Бледно-голубой свет проникал через окно. Ночь закончилась. Все птицы разом принялись щебетать. Герман не мог больше оставаться в постели. Он встал, надел брюки и ботинки и открыл дверь.
Природа казалась увлеченной предрассветной работой. Луч солнца изобразил детский рисунок на ночном небе — смесь полос, пятен, мазков и красок. Выпала роса. Над озером клубился белый, как молоко, туман. На ветке дерева рядом с бунгало расположилось несколько маленьких птичек. Они широко открывали нежные клювики, а мама уже принесла им червячков, стебельки и держала корм в клюве. Она летала туда и обратно с тем усердием, которое характерно для всякого главы семейства.
Над озером всходило солнце — пурпурная лампа, свежевычищенная, полная новых, никогда не стареющих сил. На поверхности озера заплясали огоньки. Стволы сосен украсились золотыми и огненными нитями. На каждой иголочке сверкали драгоценные камни. С какой-то ветки упала шишка, полная семян и готовая дать рождение новой сосне, если для этого будет место и удачное стечение обстоятельств.
Маша вышла на улицу босяком, в длинной рубашке и с сигаретой во рту:
— В этом мире не может быть совсем темно…
Часть вторая
Глава пятая
I
Герман снова собирался в дорогу. Он сказал Ядвиге, что едет на Средний Запад и пробудет там целую неделю, до Кущей. Без особой необходимости он придумал новую ложь о том, что станет продавать Британскую энциклопедию. Ядвига не могла отличить одну книгу от другой, и этот вымысел был совершенно бесполезен, но Герман уже приобрел привычку выдумывать разные небылицы. Должно быть, в этом была какая-то практическая цель. Ложь устаревает, ее надо бесконечно обновлять.
Поскольку Ядвига не знала, что такое энциклопедия, это иностранное слово показалось ей подозрительным. В последнее время у нее появилось много претензий к Герману. Он провел в дороге весь первый день Новолетия и половину второго дня. Ядвига приготовила к празднику голову карпа, яблоки в тесте, яблоки с медом, все точно, как научила ее соседка, а Герман, похоже, торговал книгами даже в праздник. Он приехал на следующий день усталый и даже не взглянул на Ядвигину стряпню.
Соседки по дому, говорившие наполовину на идише, наполовину по-польски или по-русски, часто убеждали Ядвигу в том, что у ее мужа, скорее всего, есть коханка, любовница. Одна еврейка посоветовала Ядвиге найти адвоката, подать на развод и получать от Германа алименты. Другая взяла Ядвигу с собой в синагогу послушать шофар. Ядвига стояла среди женщин и, когда затрубили в шофар, разрыдалась. Звук шофара сочетал в себе крик, плач и предостережение. Он напомнил Ядвиге о Липске, о войне, о смерти отца и о муках ада.
Пробыв несколько дней дома с Ядвигой, Герман снова собрался в путь. Как ни странно, на этот раз он уезжал из Нью-Йорка не ради Маши, а чтобы навестить Тамару, которая сняла на две недели бунгало в Катскильских горах. Поэтому пришлось солгать и Маше: Герман якобы ехал на два дня в Атлантик-Сити вместе с рабби Лемпертом на конференцию раввинов.
Это была неумелая выдумка. Даже раввины-реформисты никогда не устроили бы конференцию во время десяти Дней трепета, но с тех пор, как Маша получила развод от Леона Торчинера и готовилась к венчанию с Германом по прошествии девяноста дней после развода[72], она стала мягче и перестала устраивать сцены ревности. Казалось, беременность изменила ее характер. Она выбросила из головы все горькие воспоминания, все претензии к людям и к Богу. В ней появилась женская мягкость, Маша перестала ссориться с Германом и уже заранее вела себя как жена. По отношению к матери она тоже стала терпимее. Маша нашла раввина — беженца, согласившегося провести венчание без официального бракосочетания.
Теперь, когда Герман сказал, что должен сопровождать рабби Лемперта в Атлантик-Сити и вернется к Судному дню, Маша не стала докучать ему расспросами, не искала противоречий в его словах, как это случалось раньше. Герман сказал, что раввин заплатит ему за поездку пятьдесят долларов. Они нуждались в деньгах.
Вся затея была полна опасностей. Герман пообещал Маше, что позвонит из Атлантик-Сити, а оператор междугородней связи обычно сообщает, откуда звонят. Кроме того, Маша могла позвонить в офис рабби Лемперта и узнать, что тот остался в Нью-Йорке. Но раз уж Маша так и не позвонила реб Аврому-Нисону Ярославеру, зачем ей звонить рабби Лемперту? Видимо, несмотря на все подозрения, Маша доверяла Герману.
И потом, когда опасности подстерегают на каждом шагу, одной опасностью больше или меньше, уже не имеет значения. В Нью-Йорке у Германа было две жены, и он готовился венчаться с третьей. Хотя Герман боялся последствий своего поведения и скандала, который рано или поздно разразится, ему стала даже нравиться эта конспирация, когда один неверный шаг, ошибка или простая забывчивость могли привести к краху. Иногда он продумывал все заранее, иногда импровизировал. Подсознание Германа — или как там оно называется — служило ему исправно, чем часто удивляло его. Он говорил, не осознавая того, к чему его слова могут привести, и только позднее соображал, на какие хитрости решился его язык словно сам по себе. За всей этой путаницей скрывалась логика. Удача сопутствовала Герману, а может, он заключил договор с дьяволом?
Герман мог бы с легкостью избавиться от Тамары. Она несколько раз повторила, что, если ему нужен развод, она готова развестись, не создавая дополнительных сложностей. Но этот развод не спасет Германа. Разве закон отличает многоженство от двоеженства? К тому же развод стоит денег, и Герману пришлось бы предъявить документы, которые только усугубят его положение. Таким, как он, лучше не связываться с чиновниками или, как он мысленно сформулировал: лучше не трогать, чтоб не пахло. Единственное его спасение — в инерции, в сохранении статус-кво, чтобы все оставалось на своих местах.
Помимо этого Герман воспринимал возвращение Тамары как мистическое явление. При встрече с ней он каждый раз заново переживал чудо воскрешения из мертвых. Иногда при разговоре с Тамарой у него возникало чувство, будто он вызвал ее дух во время спиритического сеанса. Он не раз забавлялся мыслью о том, что Тамары на самом деле уже нет в живых, а к нему вернулся лишь ее призрак.
Подобно некогда им любимому философу Шопенгауэру, Герман интересовался оккультизмом и соответствующей литературой. В городской библиотеке на Сорок Второй улице он искал книги о телепатии, ясновидении, духах, полтергейсте и любых других паранормальных явлениях. Коль скоро официальные религии не оправдали себя, а философия занялась самоуничтожением, оккультизм остался единственным прибежищем искателей истины. Тамарино возвращение было похоже на вмешательство потусторонних сил.
Души существуют на разных уровнях. Тамара вела себя — по крайней мере, с виду — как живой человек. «Джойнт», заботившийся о беженцах, платил ей ежемесячное пособие. Дядя, реб Авром-Нисон Ярославер, тоже помогал деньгами.
Тамара обосновалась на пару недель в Маунтиндейле, в бунгало рядом с еврейской гостиницей. Она не хотела жить в общем здании и питаться со всеми в столовой. Хозяин гостиницы, польский еврей, согласился приносить ей в бунгало горячую еду два раза в день. Герман пообещал приехать на день-другой. Тамарино пребывание в гостинице уже подходило к концу, сразу после Судного дня она намеревалась вернуться в Нью-Йорк. Герман получил от нее письмо на свой адрес в Бруклине, в котором она с вежливым укором спрашивала, почему он не выполняет свое обещание. Тамара написала: «Я думала, что ты приедешь ко мне на кейвер-овес[73]».
Деваться было некуда. Герман оставил деньги Ядвиге и заплатил за квартиру в Бронксе. Тамаре в подарок он купил книгу с рассказами о нацистских лагерях. Герман положил в рюкзак рукопись для рабби Лемперта, которую намеревался отредактировать или вовсе переписать.
Он приехал на автобусную станцию слишком рано. Сел на скамейку, поставил в ноги рюкзак и стал дожидаться объявления посадки на автобус. Прямого автобуса в Маунтиндейл не было, предстояло ехать с пересадкой.
Герман купил еврейскую газету, в которой прочитал только заголовки. Содержание новостей никогда не меняется: Германия отстраивается, союзники и СССР прощают нацистам все их преступления. Каждый раз, когда Герман читал подобные новости, у него перехватывало дыхание. В нем пробуждались фантазии о мести, он представлял, как выдумает способы погубить целые армии, разрушить предприятия, предать суду всех тех, кто участвовал в уничтожении евреев. Он стыдился этих наивных фантазий, которые рождались в его голове по малейшему поводу. Но сколько бы он их ни прогонял, они одолевали его с неизменной настойчивостью.
— Да, я совсем не взрослею, — бормотал Герман. — Так и остался маленьким мальчиком…
Герман услышал объявление о своем автобусе и побежал к выходу. Он оказался первым пассажиром и занял место у окна. Герман по-прежнему радовался поездке, как ребенок. Он положил рюкзак на багажную полку, и на душе вдруг стало легко и приятно. Он не заметил, как зашли другие пассажиры. Здесь говорили на идише, читали еврейские газеты. Автобус тронулся в путь, из полураскрытого окна подул ветерок, донесся запах травы, деревьев и бензина.
Путь до Маунтиндейла, который обычно длится пять часов, занял на сей раз целый день. Автобус подъехал к какой-то станции, на которой следовало подождать следующего. На улице было по-летнему тепло, но день уже становился по-осеннему короче. После захода солнца появился полумесяц, но и он вскоре зашел, ночь была темной и звездной. Водитель погасил свет в салоне, потому что он мешал ему на узком и извилистом шоссе. Мимо окна проносились темные леса. Внезапно на пути возник освещенный отель. На веранде мужчины и женщины играли в карты. Через минуту они исчезли из виду. Это было похоже на мираж. Вскоре опять стало темно.
Пассажиры постепенно выходили из автобуса, каждый со своим багажом, со своим чемоданом, они исчезали в ночи. Герман остался один в автобусе. Он сидел, прислонившись лицом к стеклу, и пытался запомнить каждое дерево, каждый куст, каждый камень на дороге, словно Америка катилась к закату, как некогда Польша, а он, Герман, хотел зафиксировать в памяти как можно больше деталей… Разве наша планета рано или поздно не погибнет? А Солнечная система — разве это не атомная бомба замедленного действия? Где он об этом читал? Вся Вселенная переживает процесс взрыва. Ночная меланхолия охватила небо. Звезды пылали, как поминальные свечи в космической синагоге. Да, Тамара права. Он едет к ней на кейвер-овес.
Стало светло, автобус остановился у отеля «Палас», где Герману надо было выходить. Герман увидел здание, в точности похожее на те, мимо которых он проехал: та же веранда, те же столы и стулья, мужчины и женщины, такая же увлеченность карточной игрой. «Как возможна, — спрашивал себя Герман, — такая одинаковая бездомность? Неужели индивидуальность не существует в Америке? Может быть, автобус ездил кругами вокруг одного и того же отеля?» От долгого сидения ноги у Германа затекли, он поднялся по широкой лестнице с юношеской нерешительностью.
Вдруг появилась Тамара в белой блузке, темной юбке и белых туфлях. Она загорела, сменила прическу и выглядела моложе. Тамара подбежала к Герману, выхватила у него рюкзак и представила его женщинам, игравшим в карты. Женщина, на которой холодным вечером был лишь купальный костюм и наброшенный на плечи пиджак, взглянула последний раз в свои карты и обратилась к Герману хриплым голосом:
— Как же вы оставили такую красивую женщину одну так надолго? Мужчины слетаются на нее, как мухи на мед.
— Что же ты так долго не приезжал? — спросила Тамара, и эти слова, польско-еврейский акцент и знакомая интонация разрушили все мистические иллюзии. Она не призрак с того света, а настоящая женщина во плоти. Тамара выглядела здоровой и полной сил, она поправилась. — Ты голоден? — спросила Тамара. — В столовой для тебя оставили обед.
Она взяла его под руку и повела в столовую, где горела только одна лампа. Столы были заранее накрыты для завтрака. Кто-то еще возился на кухне. Оттуда слышались голоса и шум льющейся воды. Тамара, видно, здесь уже освоилась.
Она пошла на кухню и вскоре вернулась с молодым человеком, несущим поднос с ужином для Германа: половинку дыни, бульон с лапшой, курицу с морковкой и компот с кусочком бисквита. Тамара подшучивала над ним, а молодой человек отвечал ей остроумно и доброжелательно. «Для мертвой она выглядит слишком живой», — подумал Германа. В этот момент он заметил на руке у молодого человека синюю татуировку с номером[74].
Официант вскоре ушел, а Тамара замолчала и приняла серьезный вид. Ее лицо изменилось. Куда-то пропала та моложавость, которую Герман заметил по приезде. Исчез даже загар. Под глазами появились круги. Тамара сказала:
— Ты видел этого парня? Он был практически в печи, еще минута, и от него бы осталась горстка пепла.
II
Тамара лежала на кровати, а Герман — на раскладушке, которую она поставила для него в своем бунгало. Оба не могли уснуть. Герман задремал было на минуту, но вздрогнул и проснулся. Раскладушка под ним скрипела и трещала. Герману что-то снилось, но он забыл, что именно, в памяти осталось только чувство страха. Тамара спросила:
— Ты не спишь?
— Усну как-нибудь.
— У меня есть снотворное. Если хочешь, я дам тебе таблетку. Я их тоже принимаю, но они больше не действуют. Я принимаю одну, другую, но все равно не сплю. А уж если засыпаю, то это не сон, а погружение в хаос. Подожди, дам таблетку.
— Не надо, Тамара, обойдусь.
— Что, так и будешь ворочаться всю ночь?
— Если ты пустишь меня к себе, то я засну.
Тамара долго молчала.
— А какой в этом смысл? Тебе нужна жена, а я, Герман, мертва. С мертвой спать невозможно. Хотя я тоже уже спала с мертвецами.
— Кто же тогда я, Тамара? Тоже мертвец.
— Что? Да, два мертвеца идут плясать… Я думала, ты, по крайней мере, верен Ядвиге.
— Я тебе обо всем рассказал.
— Да, рассказал. Когда-то я помнила все, о чем мне рассказывают, а теперь можно говорить со мной часами, но в голове ничего не остается. Слова потеряли свой смысл. Они скатываются с меня, как вода с жирной поверхности. Я понимаю каждое слово по отдельности, но все вместе не укладывается у меня в голове. Если тебе неудобно на раскладушке, иди ко мне. Что может случиться? Ничего.
— Ну…
В темноте Герман встал с кровати. Он почувствовал дрожь в коленях и слабость в ногах. «Что я делаю? — спросил он себя. — Это полная бессмыслица». Герман забрался под одеяло и ощутил тепло от Тамариного тела. От нее веяло чем-то, о чем он уже успел забыть за годы разлуки, — женщиной, матерью, родным когда-то человеком.
Тамара лежала на спине и не двигалась. Края одеяла были заправлены под матрас, образовывая то, что здесь называют конвертом. Герман улегся на бок лицом к Тамаре. Он не дотрагивался до нее, но ощущал полноту ее грудей. Герман сам не мог понять, испытывает ли желание по отношению к Тамаре или нет. Он лежал тихо и смущенно, как жених в первую брачную ночь. Годы, словно ширма, отделяли его от Тамары.
Одеяло мешало Герману, и он хотел попросить Тамару вытащить его из-под матраса, но ждал. Тамара сказала:
— Как долго мы не лежали рядом? Кажется, лет сто.
Ее голос задрожал. Герман подумал и сказал:
— Не прошло и десяти лет.
— Да? Ты прав. Мне они кажутся вечностью. Только Бог может вместить столько в такое короткое время.
— Ты все еще в Него веришь?
— Не спрашивай меня, не спрашивай. После того, что случилось с детьми, я перестала верить. Где я была в сороковом году в Судный день? Уже в России. В Минске. Шила белье на фабрике и зарабатывала на жизнь, как получалось. Я жила за городом у гоев. Когда наступил Судный день, я решила, что не буду поститься. Зачем? Для кого? Да и соседям не стоило показывать, что я религиозна. Но как только настал вечер и я представила, что где-то евреи произносят Кол-нидрей[75], у меня еда в горле застряла.
— Ты говорила, что Довидл и Йохведл приходят к тебе…
Герман тут же пожалел о собственных словах. Тамара не пошевелилась, только кровать заскрипела. Пружины матраса вибрировали и стонали, словно сама постель была потрясена этими словами. Тамара словно прислушалась и подождала, пока скрип прекратится, потом произнесла:
— А ты мне поверишь? Лучше я не буду рассказывать.
— Я верю. Те, кто во всем сомневаются, способны верить всему.
— Правда? Даже если я захочу тебе рассказать, я не смогу. Этому есть только одно объяснение: я сумасшедшая. Но безумный разум — это все-таки разум. Безумство тоже где-то рождается.
— Когда они приходят? Во сне?
— Не знаю. Я же тебе сказала, что не сплю, а погружаюсь в хаос. Иногда как будто падаю в бездну. Я падаю и падаю, а дна все не видно. Потом остаюсь висеть в воздухе. Это просто пример. Со мной столько всего происходит, что я всего не упомню, да об этом и не расскажешь. Дни я еще как-то проживаю, а ночи полны ужасов. Каждая ночь по-разному: другие страдания, другие страхи. Я знаю, с точки зрения нормального человека мне надо обратиться к врачу, к психиатру. Но чем он мне поможет? Все, на что он способен, — это дать болезни латинское название. Одно название, другое название. Я хожу к врачу за одним рецептом — на снотворное. Ты спросил о детях. Да, они приходят. Иногда я провожу с ними всю ночь.
— О чем они говорят?
— Они болтают ночь напролет, но когда я просыпаюсь, ничего не помню. А если и помню хоть пару слов, то потом забываю. Остается только чувство того, что они где-то здесь и хотят общаться со мной. Иногда я гуляю с ними или летаю, сама не знаю. Еще я слышу музыку, но это странная музыка, беззвучная. Мы доходим до черты, через которую мне не переступить. Они вырываются от меня и перелетают на другую сторону. Что там, я не помню. Гора или еще какая-то преграда. Иногда мне кажется, будто там лестница, что-то вроде винтовой лестницы, и кто-то выходит им навстречу, ангел или призрак. Что бы я ни говорила, Герман, все будет неправдой, потому что все это так странно, что никакими словами не опишешь. Конечно, если я сумасшедшая, то это часть моего безумного вымысла.
— Ты не сумасшедшая, Тамара.
— Ну, спасибо. Разве мы знаем, что такое безумие? Раз уж ты здесь, придвинься поближе. Вот так, чтобы мне не было страшно. Я не буду тебя сторониться. Я годами жила с мыслью, что тебя нет в живых, а с теми, кто на небесах, свои счеты. Когда я узнала, что ты жив, я уже не смогла обратно перестроиться.
— Дети никогда не говорят обо мне?
— Кажется, нет. Но я точно не знаю.
Наступила тишина. На улице стоял ночной покой, даже сверчки затихли. Герман различил журчание, напоминающее звук ручейка или водосточной трубы. Он долго прислушивался к нему. В животе заурчало, но он не знал, у него или у Тамары. Герман почувствовал зуд, ему хотелось почесаться, но он сдержался. Герман не думал, но какой-то процесс происходил в его голове. Вдруг он сказал:
— Тамара, я хочу тебя спросить.
При этом он сам не знал, о чем именно собирается спрашивать.
— Да? Ну, спрашивай.
— Почему ты осталась одна?
Тамара не ответила. Не слыша ее дыхания, Герман заподозрил, что она задремала. Он было решил, что не дождется ответа, но внезапно Тамара заговорила ясным и бодрым голосом:
— Я уже говорила тебе, что для меня любовь не спорт.
— Что это значит?
— Я не могу хладнокровно начинать отношения с тем, кого я не люблю. Очень просто.
— Значит, ты еще любишь меня?
— Этого я не говорила.
— За все годы у тебя не было мужчины? — спросил Герман с дрожью в голосе, стыдясь своих собственных слов и того смятения, которое они в нем вызывали. Ему показалось, что Тамара вот-вот разозлится на него и закричит, но Тамара только кашлянула.
— Зачем тебе это знать?
— По крайней мере, я имею право знать правду.
— Нет никакой правды.
— Брось эту философию. Отвечай просто и ясно.
Тамара помедлила.
— А что бы было, если бы у меня кто-то был? Ты выпрыгнешь из кровати и пойдешь пешком в Нью-Йорк?
— Нет, Тамара, я даже не стану тебя осуждать. Со мной ты можешь быть абсолютно откровенной.
— А потом будешь называть меня проституткой или не знаю кем еще.
— Нет. Раз ты не знала, что я жив, о какой проституции может идти речь? Самые праведные жены после смерти мужей снова выходят замуж.
— Да, верно.
— Так каков твой ответ?
— Почему ты так дрожишь? Ты совсем не изменился.
— Отвечай ясно и четко! — велел Герман.
— Да, у меня кто-то был.
Тамара выговорила это почти со злостью. Она быстро перевернулась на бок лицом к Герману и еще ближе пододвинулась к нему. Герман различил в темноте блеск ее глаз. Матрас принялся странно шуршать и трястись. Поворачиваясь, Тамара коснулась своим коленом колена Германа, и у него по спине побежали мурашки. Его сердце вздрогнуло, как перышко, и остановилось.
— Когда? Как?
— В России. Все там же.
— Кто это был?
— Мужчина, не баба.
В Тамарином ответе слышался сдерживаемый смех вместе с раздражением, даже презрением и злорадством. Герман с трудом выговорил:
— Один? Несколько?
Тамара нервно вздохнула:
— Тебе незачем знать все в подробностях.
— Если уж начала, рассказывай обо всем.
— Ну, несколько.
— Сколько?
— Правда, Герман, к чему это?
— Говори сколько!
— Подожди, сама не помню.
Наступила тишина. Тамара считала про себя. Германа пронизали боль, печаль и желание. Он лежал, стыдясь капризов собственного тела, возбуждения и мимолетных прихотей того, что называют нервной системой. Он удивлялся разладу внутри себя самого. Одна половина его существа горевала о страсти, которую уже невозможно обрести заново, о предательстве, которое, каким бы маленьким и ничтожным оно ни было по сравнению со всеми злодеяниями мира, оставит пятно греха на всех грядущих поколениях. Другая половина его существа жаждала погрузиться в порок, испить до дна и усугубить этот позор. Он услышал Тамарин голос:
— Трое.
— Трое мужчин? Ну…
— Я не знала, что ты жив. Ты плохо обращался со мной. Все эти годы ты мучил меня. Ты ушел от детей, отправился изучать философию.
— Да, да.
— Я знала, что, если бы ты был жив, ты бы сделал то же самое. И ты поступил так же — женился на маминой прислуге.
— Ты знаешь, в каких обстоятельствах.
— У меня тоже были свои обстоятельства.
— Ну ты и проститутка!
У Тамары вырвалось нечто, похожее на смех.
— Разве я не говорила?
И она протянула руки к Герману.
III
Герман погрузился в тяжелый сон, но кто-то разбудил его. Он открыл глаза и в темноте не мог понять, кто его будит. Он даже не мог вспомнить, где находится. Это Ядвига? Или Маша? Голос показался ему чужим и знакомым одновременно. «Я связался с какой-то незнакомой женщиной? — спросил себя Герман. — И где я?» Его охватила амнезия, продлившаяся всего несколько секунд. Ах да, это Тамара! Он спросил:
— Что тебе нужно?
— Я хочу, чтобы ты знал правду. — Тамарин голос звучал торжественно и немного дрожал, словно она едва сдерживала слезы.
— Какую правду?
— Правда в том, что у меня никого не было. Никаких трех мужчин, ни одного и даже ни половины, — сказала Тамара. — Никто даже пальцем до меня не дотрагивался. Это чистая правда!
Герман задумался и припомнил. Тамара не лежала, а сидела на кровати. В темноте он ощутил ее настороженность и решимость не дать Герману заснуть, пока тот ее не выслушает. Его охватила злость и отвращение. Он произнес:
— Ты лжешь!
— Не лгу. Я тебе сказала об этом при нашей первой встрече, но заметила твое разочарование. Что ты за извращенец?
— Я не извращенец.
— Мне жаль, Герман, но у меня никого не было. Я чиста, как в день нашей свадьбы. Я говорю, что мне жаль, потому что, если бы я знала, что ты почувствуешь себя обманутым, я бы, наверное, сделала это ради тебя. Желающих было хоть отбавляй.
— Ты столько болтаешь языком, что я больше тебе никогда не поверю.
— Ну и не верь. Я тебе сразу сказала правду, еще у дяди. Наверное, мне надо было описать выдуманных мужчин, чтобы доставить тебе удовольствие, но у меня не хватает фантазии для подобной лжи. Герман, ты знаешь, как дорога мне память о наших детях. — Тамарина интонация изменилась. — Я бы скорее позволила отрезать себе язык, чем осквернить их имена, но я беру Довидла и Йохведл в свидетели того, что никто даже не дотрагивался до меня. Не думай, что мне легко было избегать мужчин. Люди занимались любовью на полу, в хлеву, в кладовках и подвалах, просто сношались друг с другом, как животные. Женщины отдавались едва знакомым мужчинам. Но когда кто-либо пытался сблизиться со мной, я его отталкивала. Передо мной каждый раз возникал образ наших детей. Я знала, что им бы это не понравилось. Я клянусь Богом, детьми, святыми душами моих родителей, что ни один мужчина не поцеловал меня за все эти годы! Если этой клятвы недостаточно, чтобы ты мне поверил, прошу тебя, оставь меня. Сам Бог не может потребовать от меня более сильной клятвы.
— Я верю тебе.
— Говорю тебе: это могло бы произойти, но какая-то сила удерживала меня. Что это была за сила, мне до сих пор не известно.
— Моя сила.
— Да? Может быть. После той ночи среди трупов граница между жизнью и смертью стерлась для меня. Живые казались мне мертвецами, а покойники оживали. Я часто думала о том, что где-то у меня есть муж, хотя была уверена в том, что не осталось и следа от твоих костей. Как это понять?
— Это не нужно понимать.
— Герман, мне надо еще кое-что сказать тебе.
— Что еще?
— Прошу тебя, помолчи, не перебивай меня. Перед приездом в Америку доктор из консульства осматривал меня и заключил, что я полностью здорова. Я пережила все: голод, эпидемии. В России мы работали на тяжелых работах, ты даже себе не можешь представить на каких. Я пилила дрова, рыла ямы, возила камни на тачках. Ночью вместо сна мне часто приходилось присматривать за больными, умиравшими на соседних нарах. Нужно иметь железное здоровье, чтобы все это преодолеть. Я никогда не знала, что во мне скрыты такие силы. Скоро я пойду работать, и какой бы ни оказалась здешняя работа, она будет легче прежней. Я не хочу брать деньги у «Джойнта», а те несколько долларов, что дядя мне всучил, я ему верну. Говорю это к тому, что я, упаси Бог, не буду обращаться к тебе за помощью. Когда ты рассказал, что зарабатываешь на жизнь писанием книг для какого-то раввина, который потом издает твои работы под своим именем, я представила себе твое положение. Это бессмысленно, Герман, это никуда не ведет. Если бы мы жили вместе, я не позволила бы тебе так опуститься. Я думаю о тебе. Я думаю о тебе все время и переживаю. Ты губишь себя, Герман, ты убиваешь себя!
— Я не убиваю себя, Тамара. Я уже, слава Богу, конченый человек.
— Что будет с тобой дальше? Мне не следует этого говорить, но и молчать нельзя. Я не могу быть ни с кем другим, кроме тебя. Для меня это так же очевидно, как то, что сейчас на дворе ночь.
Герман ответил не сразу. Он закрыл глаза, пытаясь хоть на секунду продлить свой сон. При этом он размышлял. Ему стало смешно от запутанного положения, в котором он оказался, и от Тамариной искренности.
— Герман, мне больше незачем жить. Я провела здесь почти две недели, ела, гуляла, купалась, беседовала с разными людьми. При этом я постоянно спрашивала себя, зачем я все это делаю. Для кого и зачем? Я пробовала читать, но книги мне тоже наскучили. Женщины все время обхаживали меня, подыскивали мне занятия, но я отшучивалась и отвечала им словами, которые для меня ничего не значили. Герман, дорогой, у меня нет другого выхода. Я должна умереть.
Герман сел:
— Что ты будешь делать? Повесишься?
— Почему нет? Если веревка может положить этому конец, слава веревочнику! Мне уже давно надо было это сделать, но там у меня была надежда. На что я надеялась, сама не знаю. Я хотела обосноваться в Израиле, но, когда я узнала, что ты жив, все изменилось. Теперь у меня нет надежд, а без надежды жить невозможно. От этого умирают быстрее, чем от рака. Я наблюдала это много раз, но видела и обратное. Одна женщина в Джамбуле лежала при смерти, буквально находилась в агонии. И вдруг она получает письмо и посылку с продуктами из-за границы. Когда ей сообщили об этом, она пришла в себя и постепенно поправилась. Доктор написал об этом случае в Москву.
— Она еще жива?
— Она умерла от дизентерии год спустя.
— Тамара, у меня самого нет надежд. Единственное, что со мной могут сделать, это посадить в тюрьму и депортировать.
— За что посадить? Ты никого не обворовал.
— У меня две жены, а скоро будет еще третья.
— Третья? Кто эта третья? — спросила Тамара, едва выговорив эти слова.
— Маша, женщина, о которой я тебе рассказывал.
— Ты же сказал, что у нее есть муж.
— Он развелся с ней. Она беременна.
Герман сам не знал, зачем выдает Тамаре все свои секреты. Должно быть, у него была потребность поделиться с кем-то, похвастаться своими сложностями, а может быть, он хотел шокировать ее своим распутством. Тамара принялась раскачиваться на кровати. Загудели пружины матраса, вся кровать затряслась, затрещала и завибрировала, как при землетрясении. Тамара сказала с некоторой долей иронии:
— Ну, мои поздравления, ты станешь отцом.
— Я с ума сойду, в этом горькая правда. А может, я и так сумасшедший.
— Да, ты не в себе. А все же в чем смысл?
— Она боится делать аборт. К таким вещам человека нельзя принуждать. Она хочет, чтобы ребенок родился в браке. У нее религиозная мать.
— Да? Все возможно. Я должна поклясться, что больше ничему не буду удивляться. Завтра ты получишь развод! — Тамара говорила возбужденно. — Избавишься хоть от одной напасти. Тебе не надо было приезжать ко мне в такой ситуации, но говорить с тобой о морали — это как обсуждать цвета со слепцом. Ты всегда такой был? Или на тебя так повлияла война? Я уже точно не помню, каким человеком ты был раньше.
— Ты хотела сказать: каким нелюдем.
— А в чем разница? Одни моменты своей жизни я помню в точности, с миллионом деталей, а другие — полностью позабыла. Осталась лишь пустота, огромный пузырь. А с тобой что? Ты такой легкомысленный или просто любишь мучиться?
— Я попал в тиски и не могу высвободиться.
— Что за тиски? От меня ты скоро освободишься. От Ядвиги тоже просто избавиться. Дай ей денег и отправь обратно в Польшу. Для нее это тоже не жизнь. Она сидит одна в квартире. Крестьянке необходимо работать, рожать детей, с утра выходить в поле, а не сидеть взаперти, как зверь в клетке. Так можно и свихнуться. Если тебя, не дай Бог, посадят, что станется с ней?
— Тамара, она спасла мне жизнь.
— Поэтому ты ее губишь?
— Да, в этом есть логика.
— Насколько же человек может выжить из ума!
Герман не ответил. Должно быть, начинало светать, потому что Герман вдруг увидел Тамарино лицо. Его черты постепенно проступали из темноты: пятно здесь, пятно там, как картина в процессе создания. На него глядели ее светлые широко раскрытые глаза.
Вдруг на стене напротив окна показался солнечный блик, похожий на пурпурную мышь с ушами, мордочкой и хвостиком. Только теперь Герман почувствовал, что в бунгало очень холодно. Он обратился к Тамаре:
— Приляг, а то простудишься.
— Черт меня не берет.
Несмотря на это, они снова улеглись в кровать, и Герман накрыл себя и Тамару шерстяным одеялом. Он обнял Тамару, она не стала сопротивляться. Герман грелся рядом с ней, прислонившись лбом к ее щеке. Мысль о том, что Тамара знает все его тайны, сближала их. В нем снова пробудилось желание обладать ее телом. Герман целовал ее в полусне, прижимаясь к ее груди. Они лежали молча, парализованные сложностью ситуации и противоречивыми прихотями плоти.
Огненная мышь побледнела, потемнела, потеряла хвост и вскоре совсем исчезла. Снова наступила ночь.
IV
День и ночь перед Судным днем Герман провел у Маши.
Шифра-Пуа купила двух куриц для капорес[76], одну для себя, другую для Маши. Она хотела купить петуха для Германа, но тот отказался. Он уже давно лелеял мысль стать вегетарианцем. При любой возможности он твердил: то, что нацисты сделали с евреями, люди делают с животными. Почему птица должна брать на себя человеческие грехи? Где справедливость? Почему милосердный Бог принимает такие жертвы? В этот раз Маша приняла сторону Германа. Шифре-Пуе пришлось поклясться, что если Маша не исполнит обряд капорот, то она, Шифра-Пуа, уйдет из дома. Тогда Маша отказалась нести куриц к резнику после обряда.
Тем временем две курицы, одна белая, другая желтая, лежали на полу со связанными ногами, их золотистые глаза покорно глядели в сторону. Герману показалось, будто эти глаза спрашивали: зачем нас создали, если нас ждет такой конец? И как те, кто несет нас на убой, могут обвинять других? Как они смеют вымаливать себе милость, прощение, удачный год и хорошую запись в Книге Жизни?[77]
Шифре-Пуе пришлось самой нести куриц к резнику. Как только мать вышла из дома, Маша разрыдалась. Слезы неожиданно потекли по ее щекам, лицо исказилось гримасой и стало мокрым. Она бросилась к Герману и разревелась, как маленькая девочка:
— Я больше не хочу!.. Не хочу!
— Чего ты не хочешь?
— Ничего не хочу…
Герман подал ей платок, чтобы высморкаться. Маша ушла в ванную, оттуда донеслись сдерживаемые рыдания. Потом она вернулась с бутылкой виски в руке. Видимо, она уже выпила изрядно. Она плакала и смеялась с виноватой шаловливостью избалованного ребенка.
Герман подумал, что беременность сделала ее на удивление инфантильной. У нее появились девчачьи капризы, она чаще смеялась и плакала, стала по-детски игривой, чувствительной, даже наивной. Герман вспомнил слова Шопенгауэра о том, что женщина никогда не достигает настоящей зрелости, но, рожая детей, сама остается ребенком.
— В этом мире, — сказала Маша, — остается одно средство — алкоголь. На, выпей и ты! — И поднесла бутылку к губам Германа. От одного запаха его затошнило.
— Нет, это не по мне.
В ту ночь Маша не пришла к нему. Она заснула сразу после ужина, может быть, приняла снотворное. Одетая, она лежала в пьяном дурмане, выпятив губы. Матери пришлось раздеть ее.
Герман погасил свет у себя в комнате. Для него и для людей, с ним связанных, праздники были днями тоски. Перед глазами вставала прежняя жизнь в Польше. Погибшая семья всплывала из забытья, неизбежного, как смерть. Теперь Герман вспоминал каждую деталь из жизни в Цевкуве: утренняя молитва в синагоге, когда произносят тринадцать принципов веры, приготовления в канун праздников, зажигание больших свечей, угощение вечером накануне Судного дня в хасидской молельне, блюда для пожертвований во дворе синагоги, даже платье и украшения мамы, которые она из года в год надевала, отправляясь в синагогу на Кол-нидрей.
Курицы, по поводу которых Шифра-Пуа еще недавно спорила с Машей, уже лежали в холодильнике ощипанные, просоленные, обескровленные[78] и разделанные. В окно светил месяц, являя более половины, но меньше трех четвертей луны. В нем словно притаилось утешительное доказательство того, что во всякой изменчивости есть нечто постоянное: вечная луна меняет свои фазы. Все тем же осенним вечерним светом она освещает осеннее вечернее небо, полное уходящего летнего тепла и приближающихся зимних холодов.
Герман заснул. Ему снились вещи, не имеющие никакого отношения к его жизни, его заботам и отношениям с людьми. Он скользил с ледяной горы, помогая себе странным приспособлением — гибридом коньков, санок и лыжной палки, одним из тех сомнительных изобретений, которые возможны только во сне.
Утром, после завтрака, Герман попрощался с Машей и Шифрой-Пуей и уехал в Бруклин. По дороге он позвонил Тамаре. Ее тетя Шева-Хадаса купила Тамаре место в женской части синагоги, и Тамара уже ходила на поминальную молитву. Как подобает благочестивой жене, она высказала Герману свои пожелания и добавила в телефонную трубку:
— Что бы там ни было, но у меня нет человека ближе тебя.
Последние несколько недель Ядвига постоянно сердилась на Германа. Он слишком много ездил. Соседки подначивали ее. Обряд капорес Ядвига не делала, но приготовила трапезу: халу, мед, рыбу, блинчики, курицу. После войны Ядвига стала специалисткой по еврейской кухне. Она начала готовить еще в лагерях на территории Германии. Сегодня у нее на кухне пахло так же, как у Шифры-Пуи. Ядвига постилась в Судный день, она купила билет в синагогу за десять долларов, которые потихоньку накопила, экономя на распродажах в течение всего лета.
Теперь Ядвига упрекала Германа за его разъезды и обвиняла в том, что у него есть другие женщины. Он отвечал то добродушно, то сердито, даже толкнул и ударил Ядвигу, потому что хорошо знал, что она к этому привыкла. В польских деревнях мужчины били женщин. Это дало Ядвиге повод поплакать и пожаловаться, что она спасла Герману жизнь, а он платит ей побоями в самый святой день года.
День прошел, приближался вечер. Герман и Ядвига поужинали. Ядвига сделала одиннадцать глотков воды, чтобы не испытывать жажды в течение года, как научили ее соседки.
Герман не пошел в синагогу. Он не мог поступить, как один из тех ассимилированных евреев, которые ходят молиться только в Судный день[79]. После того как Герман перестал спорить с Богом, он иногда обращался к Нему с просьбами, но стоять в доме Божьем с молитвенником и, по обычаю, хвалить Его и петь Ему гимны — нет, этого Герман не мог.
Соседи знали, что Герман, еврей, остается дома в Судный день, в то время как его жена-нееврейка ходит молиться. Было очевидно, что весь дом обсуждает его персону. Германа осуждали, удивлялись его поведению, практически объявляли ему херем[80].
Ядвига нарядилась в новое платье, которое купила по дешевке на распродаже. Она повязала на голову платок, повесила на шею нитку ненастоящего жемчуга. На указательном пальце блестело обручальное кольцо, которое купил для нее Герман, хотя он никогда не стоял с ней под хупой[81]. В синагогу Ядвига взяла молитвенник с древнееврейским текстом с одной стороны и английским — с другой, хотя не читала ни на том, ни на другом языке.
Ядвига была женой Германа, но этой ночью она отодвинулась на другую сторону кровати. Перед уходом в синагогу она поцеловала Германа и по-матерински сказала:
— Попроси у Бога хорошего года… — и расплакалась, словно маленькая еврейская девочка. Его лицо стало мокрым и горячим от слез.
Соседки уже ждали Ядвигу внизу, готовые принять ее в свой круг и научить остаткам еврейской традиции, полученным от мам и бабушек, но испарившимся или исказившимся за годы пребывания в Америке.
Герман принялся шагать взад-вперед. Обычно, когда он оставался один в Бруклине, он сразу звонил Маше, но в Судный день Маша не звонила и не «дымила». И все же он попытался ей позвонить, поскольку в небе еще не показались три звезды[82]. Никто не снял трубку. Маша пошла с Шифрой-Пуей в синагогу, у нее тоже было место в маленькой молельне в Бронксе.
Шагая по комнате, Герман общался со всеми тремя сразу: с Машей, Тамарой и Ядвигой. Как ясновидец, он читал их мысли. Он точно знал — или, по крайней мере, ему так казалось, — как работает ум каждой из них. Претензии к Богу смешивались у них с претензиями к Герману. Его жены молились о его здоровье и при этом требовали от всемогущего и милосердного Бога, чтобы Он наставил Германа на путь истинный.
Сам Герман, не хотел хвалить Бога именно в этот день, когда Он получает столько дифирамбов. Он уничтожил половину народа, а вторая половина падает перед Ним ниц и плачет. Они все еще взывают: «Ор заруа лацадик улейишерей лев симхо»[83] — и целуют свитки Торы, в то время как праведники на морозе, раздетые, копают собственные могилы, а чистые сердца погибают в ямах Освенцима.
Герман встал у окна. Переулок был пуст. Листья на деревьях уже начали желтеть. С каждым порывом ветра опадало несколько листьев. Набережная была пуста. Все лавки на Мермейд-авеню были закрыты. На Кони-Айленде стояла тишина Судного дня, так что до Германа доносился плеск волн, их пенное шипение. Должно быть, у моря был постоянный Судный день. Оно молится богу, но это не Бог обетов, поощрений и наказаний. Этот бог как само море: он разлит в вечности, бесконечно разумен и безгранично безразличен, он страшен в своей неограниченной силе, он существует по законам, которые не подлежат изменениям. Как странно, что после всех вечерних молитв, которые произносят евреи, после просьб о хорошем годе и хорошей записи в Книге Жизни, находится один-единственный гимн — поэма, содержащая в себе всю суть учения Спинозы…
Стоя у окна, Герман пытался в мыслях общаться с Машей и Тамарой. Он утешал их обеих, желал им хорошего года, обещал им другой вид любви, нежели тот, что требуется обычным женщинам. Они не были обычными женщинами, как и он — обычным мужчиной. Все трое видели смерть и думали о ней каждый день, каждый час, каждую минуту…
Герман пошел в спальню и в одежде улегся на кровать. Он не хотел этого признавать, но из всех страхов самым сильным для него был страх стать отцом. Он боялся за сына, а еще больше за дочь — средоточие всего того, что Герман отрицал: рабства, даже не жаждущего освобождения; слепоты, даже не подозревающей, что она слепа.
Герман уснул. Его разбудила Ядвига, вернувшаяся из синагоги. Она рассказала, что кантор спел Кол-нидрей, а потом «рабин» произнес проповедь и попросил денег на синагогу, на Палестину и на другие еврейские нужды. Она, Ядвига, пожертвовала пять долларов. Со смущением она объявила Герману, что этой ночью ему не следует к ней прикасаться. Это запрещено.
Ядвига склонилась над Германом, и тот увидел в ее глазах знакомое выражение, напомнившее ему нечто близкое и родное, но что именно — он не мог понять. Ее взгляд казался мягким и добрым, серьезно озабоченным и в то же время радостным. Губы пошевелились, словно хотели что-то сказать, но не произнесли ни звука. Потом она прошептала:
— Я стану еврейкой. Я принимаю еврейскую веру.
— Да? А как?
— Я поговорила с раввином.
Герман молча уставился на нее.
— Зачем тебе это? Ну да все равно.
— Я хочу от тебя ребенка… Еврейского ребенка.
Глава шестая
I
Первые два дня праздника Кущей Герман провел у Маши в Бронксе, а на будние дни праздничной недели вернулся к Ядвиге в Бруклин.
Герман позавтракал и теперь сидел за столом в гостиной. Он работал над статьей для книги, которая должна была называться «Еврейская жизнь в Шулхан Арухе и респонсах[84]». Рабби Лемперт заранее договорился о продаже этой книги в Америке и в Англии, более того, он собирался подписывать контракт о переводе на французский язык. Герман получал половину аванса.
Этот труд должен был содержать тысячу пятьсот страниц, но вместо того, чтобы предупредить читателей о том, что книга будет издана в нескольких томах, рабби Лемперт разбил ее на отдельные монографии, каждая из которых якобы представляла собой самостоятельное произведение. Впоследствии он намеревался объединить их в один огромный том.
Герман написал несколько строк и отложил ручку. Как только он принимался за работу, его нервы (или как бы это ни называлось) устраивали саботаж. Германа охватила сонливость, так что он с трудом удерживал глаза открытыми. То ему хотелось пить, то помочиться. Воротник стал натирать шею. Он обнаружил крошку, застрявшую между двумя шатающимися зубами, и попытался вытащить ее сначала кончиком языка, а потом с помощью нитки, которую выдернул из переплета записной книжки.
Ядвига спустилась в подвал постирать белье, взяв у Германа двадцатипятицентовую монету для стиральной машины. На кухне попугай Войтуш давал птичьи наставления Марьяше, своей жене, которая уселась на жердочке рядом с ним, понурив голову, словно была в чем-то виновата, а Войтуш отчитывал ее за неведомые птичьи прегрешения, которым нет оправдания.
Внезапно зазвонил телефон.
— Что ей еще надо? — удивился Герман. Полчаса назад Маша позвонила ему и сказала, что пойдет на Тремонт-авеню за покупками для Шмини Ацерес и Симхес-Тойре.
Герман поднял трубку и сказал:
— Да, Машеле!
И в ответ услышал низкий мужской голос — невнятное бормотание человека, который хотел начать разговор, но растерялся от неожиданности. Герман собрался было сказать, что его собеседник ошибся номером, но тот попросил позвать к телефону Германа Бродера. Герман помедлил с ответом: он не знал, признаваться или положить трубку, потому что испугался, что звонят из полиции, узнав о его двоеженстве. В конце концов он спросил:
— Что вам угодно?
На том конце провода послышалось кряхтение, бурчание и легкий кашель в придачу, словно говорящий прочищал горло, прежде чем начать разговор:
— Пожалуйста, выслушайте меня! — начал он на идише. — Меня зовут Леон Торчинер. Я бывший муж Маши.
У Германа пересохло во рту. Это было его первое общение с Леоном Торчинером. У Леона оказался неожиданно глубокий грудной голос, он говорил на грубом идише, отличавшемся от языка Германа и Маши. Такое произношение можно услышать только в Малой Польше, где-нибудь в провинции между Радомом и Люблином. Каждое его слово вибрировало, словно кто-то ударил по басовым струнам фортепиано. В этом низком голосе были чужие и одновременно знакомые интонации, словно говорил родственник, отдалившийся от семьи.
— Да, я знаю. Как вы нашли мой номер? — спросил Герман.
— Какая разница? Нашел, и все тут. Скажу вам правду: я увидел его в Машиной записной книжке. Я хорошо запоминаю цифры. Я не знал, чей это номер, но потом, как говорится, до меня дошло.
— Понимаю.
— Надеюсь, я вас не разбудил.
— Нет, нет.
Герман едва удержался от дрожи, а зубы слишком громко клацнули при слове «нет». Собеседник выдержал длинную паузу, и Герман понял, что тот относится к людям медлительным, тугодумам.
— Мне нужно с вами увидеться, — наконец произнес Леон.
— Зачем?
— По личному делу.
«Не очень-то он умен», — подумал Герман. Маша часто повторяла, что Леон глуп. Герман устыдился, ему было несвойственно так думать о людях. Он поколебался секунду.
— Вы сами понимаете, что мне эта встреча неприятна, — услышал Герман свой запинающийся ответ. — Не понимаю, зачем это нужно. Раз уж вы разводитесь и… и…
— Господин Бродер, дорогой мой, не все можно сразу понять. Я бы вам не звонил, если бы это не было важно и для меня, и для вас, кхе-кхе…
Он издал нечто похожее на кряхтение и смешок одновременно — звук, соединивший в себе добродушную досаду и победоносную насмешку человека, который с самого начала сумел перехитрить своего противника. Герман почувствовал, как у него горят мочки ушей.
— Нельзя ли поговорить об этом по телефону? — спросил он.
— Нет, о таких вещах следует говорить с глазу на глаз. Скажите, где вы живете, я приеду к вам домой, или можно встретиться в кафетерии, я вас приглашаю…
— Скажите хотя бы, о чем пойдет речь, — настоятельно попросил Герман. У него не было времени для встречи, и к тому же он не доверял Леону. Ему захотелось бросить трубку.
Леон Торчинер замолчал, но это молчание было наполнено звуками: он причмокивал губами, словно борясь со словами, которые пытались помимо его воли вырваться из горла. Герман вспомнил слова Маши о том, что Леон так и остался животным.
— Речь пойдет о Маше, о чем же еще? Она единственное, что нас, как говорится, связывает. Сейчас мы развелись, но прежде все-таки были супругами, этого никто не станет отрицать. Я знал о вас еще раньше, чем она мне рассказала. Не спрашивайте откуда. У меня, как говорится, свои источники информации.
— Где вы сейчас?
— Я? Во Флэтбуше, но я знаю, что вы торчите где-то на Кони-Айленде, и если вам неудобно ехать в мой район, то я могу приехать к вам. Как это говорят? Если Магомет не идет к горе, то гора идет к Магомету, кхе-кхе…
— На Серф-авеню есть кафетерий, — сказал Герман. Каждое слово давалось ему с трудом. Он принялся растолковывать собеседнику, где находится кафетерий и где лучше сесть на метро, идущее на Стилвелл-авеню. Леон Торчинер переспрашивал много раз. Он повторял каждую фразу и затягивал разговор, словно это доставляло ему удовольствие, — такое часто бывает с ленивыми людьми, которые в суете повседневных дел удивляются и самым мелким переменам.
Теперь Герману стало ясно, почему Леон не смог организовать свое дело и был вынужден, судя по Машиным рассказам, жить за счет пожилых женщин. Он не вызывал в Германе ненависти, нет, скорее, раздражение из-за того, что ставил Германа в неловкое положение.
У Германа возникло подозрение: «Кто его знает — такой тип вполне может иметь при себе нож или револьвер. Никто не знает заранее, на что способен отвергнутый мужчина».
Герману пришлось наскоро помыться и побриться. Он решил надеть свой лучший костюм, не мог же он предстать оборванцем перед Леоном. «Надо всем нравиться, — подумал Герман. — Даже бывшему мужу собственной жены».
Он спустился в подвал и увидел, как его трусы с огромной скоростью вращаются в стиральной машине. Вода внутри машины бурлила, пенилась и пузырилась. У Германа возникло странное чувство, будто неодушевленные субстанции — вода, хлопок, мыло, сода — разозлились на человека и на то насилие, которое он совершает по отношению к ним. Ядвига увидела Германа и испугалась: прежде он никогда сюда не спускался.
— Я должен пойти в кафетерий на Серф-авеню, — сказал Герман. И хотя Ядвига не спрашивала о деталях, он описал в точности, где это, втайне надеясь, что если подвергнется нападению со стороны Леона Торчинера, то Ядвига, сможет сообщить об этом в полицию и стать свидетелем в суде… Герман умышленно повторил имя «Леон Торчинер» несколько раз. Ядвига глядела на него со смиренным удивлением крестьянки, давно отчаявшейся понять городского человека и его дела, и в то же время с откровенной злобой и недоверием. Даже в те дни, которые принадлежали Ядвиге, он отыскивал поводы, чтобы оставить ее одну.
Герман взглянул на часы и решил, что не стоит приходить в кафетерий слишком рано. Такой тип, как Леон Торчинер, точно опоздает минимум на полчаса.
Стоял солнечный и мягкий октябрьский день, но аттракционы на Кони-Айленде были уже закрыты. Не осталось ничего, кроме забитых досками дверей и стершихся, выцветших плакатов. Все уже разъехались: девушка-змея, великан, разрывающий цепи, безногий и безрукий пловец, экстрасенс, за пятьдесят центов вызывающий дух умершего, астролог, составляющий гороскоп за двадцать пять центов. Объявление о канторе, который будет сладкогласно молиться в Дни трепета в зале клуба Демократической партии, истерлось и истрепалось на ветру. Даже пожелание молящимся хорошей записи в Книге Жизни уже устарело… Чайки летали над морем и с криками выискивали в воде рыбу.
Для того чтобы потянуть время, Герман вышел на набережную. Волны все еще бились о берег, шипя и пенясь, и в который раз отступали — водяные собаки, привыкшие лаять, но не способные укусить. Вдали качался кораблик с серым парусом, море приводило его в движение, но оставляло стоять на месте.
«Это уже было, уже было, — думал Герман. — Творение, потоп, Содом, дарование Торы, уничтожение евреев Гитлером. Словно худая корова из сна фараона, время проглатывало вечность и даже знака не подавало о том, что она у нее внутри… А Леону Торчинеру наверняка не известно, что уже слишком поздно».
Герман вошел в кафетерий и увидел Леона Торчинера, сидевшего за столом у стены. Он узнал его по фотографии из Машиного альбома, хотя сейчас он выглядел старше: человек лет пятидесяти, ширококостный, с квадратной головой, густыми черными волосами, матовыми, без блеска, напоминающими парик. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что они крашеные. Широколицый: широкий подбородок с ямочкой посредине, высокие скулы, широкий нос с широкими ноздрями. Брови были густыми, карие глаза — раскосыми, как у татарина. На лбу шрам, как от зарубцевавшегося ножевого ранения. В чертах лица проступало нечто тяжелое и безумное, но при этом знакомое и характерное для польских евреев.
«Он не собирается меня убивать», — заключил Герман. Трудно было поверить в то, что этот болван был когда-то Машиным мужем. Сама мысль об этом казалось смешным, безумным малодушием. Но факты всегда вскрывали все гнойники, разбивали теории и уничтожали чувства и убеждения.
Перед Торчинером стояла чашка черного кофе, в пепельнице тлела сигарета с толстым слоем пепла на конце. Слева на тарелке лежал недоеденный омлет. Увидев Германа, Леон Торчинер сделал вид, будто привстает, но тут же снова рухнул на стул.
— Герман Бродер, да? — спросил он и протянул Герману большую тяжелую руку: — Здравствуйте…
II
— Садитесь, садитесь. — Леон Торчинер твердил одно и то же. — Я принесу вам кофе.
— Не надо, спасибо.
— Чай?
— Я уже ел и пил, спасибо.
— Я принесу вам кофе! — сказал Леон Торчинер решительно. — Раз уж я вас пригласил, вы мой гость. Я соблюдаю диету, боюсь поправиться, поэтому заказал омлет. Но могу угостить вас куском чизкейка…
— В самом деле, это лишнее.
— Ну…
Леон Торчинер поднялся. Герман увидел, как он взял поднос и встал у буфета. Для своего телосложения он был невысок. Руки и ноги были слишком длинными для его роста, а плечи — как у великана. Такими они вырастали в Польше: в ширину больше, чем в высоту. Леон был одет в коричневый костюм в полоску, вероятно, чтобы выглядеть моложе тех женщин, которые его содержали. Леон вернулся с чашечкой кофе и куском чизкейка. Он быстро схватил еле тлевшую сигарету, внушительно затянулся и тут же выпустил кольцо дыма.
— Я представлял вас совсем иначе, — сказал он.
— Как же?
Воротничок стал давить Герману на шею.
— Маша описывала вас как настоящего донжуана…
Он произнес эти слова без иронии и, по-видимому, не в обиду Герману.
— Женщины склонны преувеличивать. — Герман склонил голову еще ниже.
— Да? Я долго думал, звонить вам или нет. Это не так просто. У меня есть все основания считать вас своим врагом, но скажу вам сразу, я делаю это для вашего блага. Верите вы мне или нет, это, как говорится, другое дело.
— Да, я понимаю.
— Нет, вы не понимаете! Что вы понимаете? Вы, как рассказывает Маша, занимаетесь писательством, а я ученый. Для того чтобы что-то понять, надо располагать фактами, полной информацией. Ничто не может быть известно заранее, разве что то, что один плюс один равно двум.
— Да, верно.
— А факт в том, что Маша купила у меня развод за такую цену, которую ни одна честная женщина не в состоянии заплатить, даже если от этого зависит ее жизнь, — заговорил Леон Торчинер своим низким голосом, без спешки и раздражения. — Я говорю это потому, что, если женщина способна заплатить такую цену, можно поставить под сомнение ее честность. У нее были любовники и до меня, и в то время, когда мы были вместе. Это чистая правда. Именно поэтому мы разошлись. Буду с вами откровенен. Вообще-то, до вас мне нет дела. На свете много дураков, особенно здесь в Америке. Но я познакомился с человеком, который вас знает. Он не в курсе наших отношений — если это можно так назвать, — он мне сам рассказывал о вас. К чему скрывать? Это рабби Лемперт. Я слышал от него, что вы пострадали во время войны, два года пролежали на сеновале и все такое прочее. Я знаю, что вы на него работаете. Раввин называет это «проводить исследование», но мне тоже палец в рот не клади. Вы талмудист, а я специалист по бактериологии и органической химии.
Рабби Лемперт хочет издать книгу о том, что точные науки содержат истины Торы. Таким образом, он вышел на меня. Я ему четко сказал: Тора не имеет никакого отношения к современным наукам и пусть он не дурит людям голову. Моисей понятия не имел о витаминах и гормонах. Я не собираюсь торговать собой ради пары долларов. И без них обойдусь. Раввин не назвал вашего имени, но, услышав историю о сеновале, я сопоставил факты. Он хвалит вас, хвалит невероятно. Но ему, конечно, не известно то, что известно мне. Вообще-то, он странный тип. Сразу принялся звать меня по имени, а это не по мне. Все должно идти своим путем. Даже в личных отношениях следует соблюдать законы эволюции. С ним и поговорить нормально нельзя, постоянно звонит телефон. Он занимается всем и сразу. Зачем ему столько денег? Но давайте ближе к делу.
Да будет вам известно, что Маша — потаскуха, вот и все. Хотите венчаться с потаскухой, как говорится, дело ваше, но не дайте заманить себя в сети. Я говорю вам об этом при условии, что наша встреча останется в тайне. Только с таким расчетом я вам позвонил. — Леон Торчинер взял сигарету и затянулся, но сигарета уже погасла.
Пока Леон Торчинер говорил, Герман сидел молча, сгорбившись. Ему было жарко, хотелось чем-нибудь обмахнуться, но Герман сдержался. Уши горели. По спине под рубашкой вдоль позвоночника потекла струйка пота. Когда Леон Торчинер отвлекся на сигарету, Герман спросил сдавленным голосом:
— За какую цену?
Леон Торчинер приставил руку к уху:
— Я не слышу. Говорите громче.
— Я имею в виду цену…
— Что? Вы сами знаете, за какую цену. Вы не столь уж наивны. Вы, наверное, думаете, что я сам не лучше нее, и в каком-то смысле будете правы. Во-первых, вы влюблены в нее, а Маша относится к числу женщин, в которых можно влюбиться. Она сводит мужчин с ума, меня самого чуть до ручки не довела. Как бы примитивна Маша ни была, она обладает умом Фрейда, Адлера и Юнга, вместе взятых, и даже более того. Она гениальная актриса. Смеется — так смеется, плачет — так плачет. Я ей прямо сказал: если б ты не тратила свой талант на глупости, стала бы второй Сарой Бернар. Так что меня не удивляет, что вы в нее втюрились. Не буду вас обманывать: я люблю ее до сих пор. Можно любить и ненавидеть одновременно. В наше время это известно даже гимназисту, посетившему первое занятие по психологии. Так вот, это первое. Во-вторых, вы, наверное, недоумеваете, зачем я делюсь с вами этими секретами и какое мне дело до вас? Я вам объясню, имейте терпение меня выслушать.
— Да, я вас слушаю.
— Кофе остынет! Съешьте кусок чизкейка. И не нервничайте. Прежде всего, мы живем во времена мировой революции, революции духа. Нацистские газовые камеры — это плохо, но гораздо хуже, когда человек теряет духовные ценности. У вас была религиозная семья, иначе откуда вам иметь представление о Талмуде? Мои родители не были фанатиками, просто соблюдающими евреями. Что же, разве раньше были другие евреи? У моего отца был один Бог и одна жена, у мамы — один Бог и один муж.
Маша наверняка вам рассказывала, что я учился в Варшавском университете и специализировался по биологии. Я работал с профессором Волконским и участвовал в одном очень важном открытии. Фактически я сам сделал это открытие, хотя он получил, как здесь говорят, дивиденды. В действительности слава не досталась и ему. Нобелевскую премию получил один англичанин. Нам кажется, что воры есть только в Варшаве, на Крохмальной или на Смоче[85], и в Нью-Йорке, в Боуэри[86]. Чепуха. Воры есть среди профессоров, художников, даже самых великих. Обычные воры никогда не воруют друг у друга, а некоторые ученые живут только за счет воровства. Вы знаете, что Эйнштейн украл свою теорию у математика, помогавшего ему, имя которого никому не известно? Фрейд тоже воровал, и Спиноза. Собственно говоря, к делу это не относится, но я жертва подобного мошенничества.
Когда нацисты вошли в Варшаву, я сумел устроиться у них на работу, потому что у меня были письма от величайших немецких ученых, благодаря которым мне простили даже мое еврейство. Но я решил не пользоваться этими привилегиями и прошел сквозь ад. Позже я сбежал в Россию, но там наши интеллектуалы сразу же перессорились друг с другом и даже стали доносить один на другого. А большевикам только это и было нужно: ученых сразу отправили в лагеря. Я сам раньше испытывал симпатии к коммунизму, но в тот момент, когда мне довелось стать коммунистом, я разочаровался во всей системе и прямо заявил им об этом. Вы представляете, что со мной сделали.
Я пережил войну, лагеря, голод, вшей и в 1945 году приехал в Люблин. Там я познакомился с вашей Машей, которая в то время была любовницей или женой какого-то красноармейца-дезертира, который стал заниматься контрабандой и торговлей валютой в Польше. Точно не знаю, что между ними было. Он обвинял Машу в измене и еще Бог знает в чем. Не мне вам говорить, что она красавица, а несколько лет назад была еще краше. Контрабандист, должно быть, содержал ее. Во время войны я потерял всю семью. Услышав, что я ученый и все такое прочее, Маша потянулась ко мне. У контрабандиста, видимо, была другая или еще шесть таких же. Вы же понимаете, что в жизни плевел больше, чем зерен.
Маша разыскала мать, и мы все вместе уехали в Германию. Даже туда пришлось пробираться нелегально. У нас не было прав на переезд, каждый шаг был смертельно опасен. Чтобы выжить, надо было преступать закон, потому что по закону мы были обречены на гибель. Вы сами пострадали и, наверное, знаете, как все это было, хотя у каждого своя история. С беженцами невозможно нормально разговаривать, потому что, что бы ты ни сказал, они ответят, что все было ровно наоборот и что ты искажаешь факты. Каждый твердит свое.
Но вернемся к Маше. Мы приехали в Германию, нас, как и подобает выжившим евреям, заботливо отправили в лагерь. Там все жили друг с другом без обручений и венчаний. Кому тогда нужны были эти церемонии? Но Маша привезла с собой мать, и та потребовала, чтобы мы обвенчались по закону Моисея и Израиля[87]. Контрабандист, по всей видимости, дал ей развод, или она просто с ним не венчалась. Не спрашивайте меня об этом, это меня не касается. Я хотел поскорее вернуться к научной работе, религия меня мало волновала. Хупа так хупа. Беженцы сразу взялись за торговлю, точнее, за контрабанду. Американские войска привезли в Германию лучшие товары, ими и торговали. Евреи торговали везде, даже в Освенциме. Если ад существует, и там развернут торговлю. Я никого не упрекаю. А что делать в такой ситуации? С голоду помирать? Благотворительные организации оплачивали только воду для каши, а в голодные годы тоже ведь надо и питаться, и одеваться.
Но что поделаешь, если от природы я не торгаш? Я сидел дома и довольствовался деньгами, которые присылал «Джойнт». Ни к университету, ни к лабораториям немцы меня не подпускали. Была еще парочка таких же бездельников, как я, мы читали книги и играли в шахматы, но Маше это не нравилось. Контрабандист приучил ее к роскоши. Когда мы только встретились, ей польстило то, что я ученый, но долго ли живут такие чувства? Она смешала меня с грязью, начались ужасные скандалы. Ее мать, скажу я вам, праведница. Таких, как она, теперь больше нет. Она прошла через муки ада и осталась чиста. Вы мне не поверите, но на самом деле я влюбился в ее мать, не физически, а духовно. Часто ли попадаются святые люди? Машин отец тоже был приличным человеком, писателем, гебраистом. В кого она пошла, не известно. Ее постоянно тянуло развлекаться. Контрабандисты все время устраивали вечера, пьянки-гулянки. В России Маша пристрастилась к выпивке.
При нашей встрече в Люблине у меня возникло впечатление, что у Маши был только один контрабандист, но вскоре выяснилось, что она крутила романы направо и налево. Мужчины любили ее, а она любила мужчин. Слабых евреев всех уничтожили, а у выживших было железное здоровье, хотя, как теперь выясняется, им тоже досталось. Только сейчас мы пожинаем плоды происшедшего. Лет через сто будут идеализировать гетто, рассказывать, что выжившие были святыми. Большую ложь трудно себе представить. Во-первых, святые люди редко встречались в подобных местах. Во-вторых, практически все религиозные евреи погибли. У тех, кто выжил, было одно желание — выжить любой ценой. В некоторых гетто были даже кабаре. Представьте себе: кабаре! Чтобы выжить, приходилось идти по трупам.
По моей теории человеческий род ухудшается, а не улучшается. Я верю в так называемую обратную эволюцию. Последний человек на земле будет преступником или сумасшедшим…
Я предполагаю, — продолжал Леон Торчинер, — что Маша наговорила вам про меня всяких гадостей, но на самом деле это она разрушила нашу семью, а не я. Она бегала по танцам, а я, как дурак, сидел дома с ее матерью. Та плохо видела, и я читал для нее вслух Пятикнижие на идише и американские еврейские газеты. Но сколько я должен был терпеть такую жизнь? Я и сейчас не стар, а тогда был в самом расцвете сил. Я тоже начал общаться с людьми, стал искать контакты в научном мире. Из Америки приехали профессорши — здесь много ученых дам, — мною заинтересовались. Моя теща, Шифра-Пуа, сказала мне прямо: коль скоро она проводит целые дни, иногда и ночи, без тебя, ты ей ничем не обязан. Шифра-Пуа до сих пор любит меня. Мы встретились как-то на улице, она обняла меня и поцеловала. Она до сих пор называется меня «мое солнышко».
Когда настало время отъезда в Америку, Маша вдруг помирилась со мной. Визу получил я, а не она. Ее вообще хотели отправить в Палестину. Я получил визу не как беженец, а как ученый. Меня пригласили сразу в два известных американских университета. Из обоих меня впоследствии выгнали из-за интриг, о которых я сейчас не буду рассказывать, это не имеет отношения к делу. Я разрабатывал теории и совершал открытия, которые вызвали недовольство крупных компаний. Президент одного из университетов ясно дал мне понять, что они не могут допустить второго краха на Уолл-стрит. Я открыл ни много ни мало новые источники энергии. Атомной? Не совсем. Я бы назвал ее биологической. Атомную бомбу создали бы намного раньше, если бы Рокфеллер не вмешался.
Нет никаких сомнений — это так же ясно, как то, что вы видите меня сейчас перед собой, — что американские миллиардеры наняли воров, чтобы выкрасть у меня установку, которую я собирал в одиночку в течение нескольких лет. Если бы эта установка заработала — а от этого меня отделял всего лишь шаг, — тогда бы все американские нефтяные компании обанкротились. Мои инструменты и материалы не имели никакой ценности для воров. Меня тоже хотели купить. Мне и сейчас вставляют палки в колеса и не выдают американские документы. Вы можете десять раз в день плевать в лицо Дядюшке Сэму, а он, как говорится, будет делать хорошую мину при плохой игре. Но дотроньтесь до его акций, и он превратится в тигра…
Так о чем это я? Да, Америка. Что бы Маша делала в Палестине? Ее бы наверняка отправили в лагерь для беженцев, ничуть не лучший, чем тот, что был в Германии. Ее мать больна, и тамошний климат она бы точно не перенесла. Я не строю из себя праведника. У меня уже тогда была женщина, которая требовала, чтобы я развелся с Машей. Она была американкой, вдовой миллионера. Она готова была оборудовать для меня отдельную лабораторию, чтобы я не зависел от университетов. Но время для развода еще не пришло. Всему нужно время на созревание, даже раковой болезни. В действительности я уже потерял доверие к Маше, но, как видно, любовь не обязательно должна основываться на доверии. Однажды я встретил школьного товарища, и тот мне прямо сказал: «Можно справиться с ревностью. Со всем можно справиться, кроме смерти».
Может быть, еще кофе? Нет? Да, со всем можно справиться, но после переезда в Америку Маша снова взялась за свое. Не знаю, как она познакомилась с вами, да мне это и не важно. Какая мне разница? Я ни в чем вас не обвиняю. Вы никогда не клялись мне в верности, а в этом мире царит воровство. Я ворую у тебя, ты воруешь у меня. Я точно знаю, что у нее был кто-то до вас, уже здесь, в Америке. Я встречался с ним, он из этого тайны не делал. Позже, после встречи с вами, Маша стала просить у меня развода, но, поскольку она разрушила мою жизнь, я был ей ничем не обязан. Гражданский брак она расторгла с легкостью, потому что я бросил ее, но к разводу по еврейскому закону меня никто не может принудить, даже самый авторитетный раввин. Это ее вина, что я остался ни с чем. После войны я попробовал восстановить утраченные связи в области своей научной работы, но она держала меня в таком напряжении, что и речи быть не могло о серьезном занятии наукой. Мне, наверное, не стоит об этом говорить, но я начал ее ненавидеть, хотя ненависть мне не присуща. Вот сейчас я разговариваю с вами как с другом и желаю вам только добра. Мой расчет прост: не было бы ее, нашелся бы кто-нибудь другой. Если бы я был во всем виноват, как Маша это представляет, ее мать не послала бы мне на Новолетие открытку с добрыми пожеланиями.
Теперь я подхожу, так сказать, к главному. Пару недель назад звонит мне Маша и говорит, что нужно встретиться. Я говорю: что произошло? Она начинает выкручиваться: так, мол, и так. Короче говоря, я попросил ее прийти ко мне. Она разоделась, как говорится, в пух и прах и пришла. Я, представьте себе, уже слышал о вас раньше, но она начинает мне рассказывать всю эту историю, как будто она произошла только вчера. Так и так. Она вас полюбила, забеременела, хочет сохранить ребенка. Она хочет венчаться с вами у раввина, и все такое прочее. И начинает приплетать сюда мать. Я ей говорю: с каких пор ты беспокоишься о матери? Мне не надо объяснять вам, что я почти ничего о вас не знал. Она застала меня в плохом настроении. К тому же она уселась нога на ногу, как актрисы, чьи фотографии печатают в желтой прессе. Я ей сказал: ты повела себя со мной как потаскуха, вот и плати теперь как постаскуха. Она даже не сопротивлялась. Мол, пока мы еще муж и жена, можно. До сих пор не понимаю, зачем я это сделал. Это какая-то мужская месть. Но когда я познакомился с рабби Лемпертом и узнал от него о вас, о вашей учености, о сеновале, где вы пролежали почти три года, мне все стало ясно, совершенно ясно, и я понял, что она заманила вас в сети так же, как и меня. Почему ее тянет только на интеллектуалов, хороший вопрос, хотя и с грубыми мужиками она тоже имела дело. Может, ей доставляет удовольствие морочить голову людям высокой духовной культуры.
— Да.
— Вот вкратце вся история. Я долго колебался, рассказывать вам ее или нет, потому что понимал, что радости она вам не доставит, но решил все же вас предупредить. Я надеюсь, по крайней мере, что это ваш ребенок. Видимо, она по-настоящему любит вас, но про такого человека трудно что-то с определенностью утверждать.
— Я на ней не женюсь, — сказал Герман. Он произнес эти слова так тихо, что Леон Торчинер приставил руку к уху:
— Что? Я вас об одном прошу, не рассказывайте ей о нашей встрече. Я должен был поговорить с вами раньше, но, как видите, я человек непрактичный. Я начинаю какое-нибудь дело и тут же попадаю в неприятности. Если она узнает о нашем разговоре, я не уверен, что останусь в живых.
— Я ничего не скажу.
— Вы абсолютно не обязаны на ней жениться. Она не маленькая, знала, что может быть внебрачный ребенок. Кого надо пожалеть, так это вас. Что с вами произошло? Ваша жена погибла?
— Да, погибла.
— Дети тоже?
— Все.
— Раввин рассказал мне, что вы живете у земляка и что у вас нет телефона, но я все же засомневался в этом. Однажды я видел ваш телефонный номер у Маши в записной книжке. У нее есть привычка обводить важные номера или подчеркивать их. При этом никакого имени рядом с номером не было. Вокруг вашего номера она нарисовала целый сад с деревьями и змеями. Почему вы не хотите дать раввину свой телефон? Действительно чтобы не пугать вашего земляка?
Последние слова Леон Торчинер проговорил с иронией. В его глазах появилась еле заметная усмешка. «Он, конечно же, знает о Ядвиге, — подумал Герман. — Он следит за мной. Это все наверняка подстроено раввином».
Вдруг Герман вспомнил стих из Книги Иова: ки пахед похадти вайеесоени — ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня… Последние недели его не покидало чувство, что какая-то враждебная сила преследует его, что ей известны все его тайны. «Да, все еще хуже, чем я себе представлял», — сказал себе Герман. Он спросил:
— А как вы сегодня оказались в Бруклине, если вы живете на Манхеттене?
Леон Торчинер помедлил с ответом:
— У меня здесь друзья.
— Ну да.
— Я не хочу вмешиваться в ваши дела, — начал Леон Торчинер, сбивчиво, заикаясь, — но если уж вы хотите отделаться от кого-то, то надо руководствоваться логикой. Ни один человек здесь в Америке — если только он не находится в сумасшедшем доме — не боится телефона. Раввин не такой болван, чтобы верить вашим выдумкам. И потом, вы сказали ему, что ваш земляк живет в Бронксе. Раввин был со мной откровенен, он считает, что вы что-то от него скрываете. Боитесь знакомить его с Машей?
— Я ничего не боюсь. Ну, я пойду. Большое спасибо за вашу информацию.
— Не спешите, не спешите. Я говорю это ради вашего же блага. В Америку приехали люди, привыкшие в Европе к конспирации. Там это, может быть, и имело смысл, но здесь свободное государство, и не нужно ни от кого прятаться. Здесь нет охранки, провокаторов, всей этой европейской бессмыслицы. Здесь можно быть коммунистом, анархистом, кем хотите. Здесь есть гои, которые молятся ядовитым змеям, произнося какой-то псалом или Бог знает что, другие ходят голыми. У Маши тоже постоянные секреты. Проблема в том, что те, у кого есть тайны, сами же их и выдают. Человек сам на себя доносчик. Маша рассказывала мне о вещах, о которых не должна была рассказывать, и вы о них никогда не узнаете. Где я об этом читал? Тайны, как женщины, любят, чтобы их разгадывали, кхе-кхе…
— О чем она вам рассказывала?
— О чем она мне рассказывала? Она и вам расскажет. Это просто вопрос времени. Людям необходимо чем-нибудь хвастаться, хоть грыжей. Мне незачем вам об этом говорить, вы это и сами знаете. Она не спит по ночам. Она курит и разговаривает. Я часто просил ее дать мне поспать, но черт не дает ей покоя. Если бы она жила в Средние века, точно была бы ведьмой и летала в пятницу вечером на помеле к черту на бал. Но в Бронксе черт бы сдох со скуки. Ее мать тоже ведьма в своем роде, но из хороших — раввинша и мегера одновременно. Каждая сидит у себя в комнатке и, как паук, плетет сеть. Как только в нее попадает муха, ее хватают. Если вовремя не сбежать, из вас выпьют последние остатки жизненных сил…
— Я ухожу. Доброго дня.
— Мы можем остаться друзьями. Раввин — человек грубый, но он любит людей. Ему бы хотелось сблизиться с вами. У него много связей, он щедрый человек. Он разозлился на меня, потому что я не хотел интерпретировать первый раздел Книги Бытия как текст об электронике и телевидении, но он найдет кого-нибудь другого. В душе он «янки», в ответ на любой вопрос выписывает чек. Когда попадет на тот свет и будет давать отчет перед Богом, тоже вытащит свою чековую книжку. Но как говорила моя бабушка Райце: «У савана нет карманов»…
III
Телефон звонил, но Герман не поднимал трубку. Он посчитал количество звонков и вновь принялся за Гемару. Он уселся за убранный стол с ермолкой на голове и принялся читать нараспев, как когда-то в синагоге в Цевкуве:
«Мишна. И вот работы, которые выполняет жена для своего мужа: она мелет, печет, стирает белье, готовит, кормит ребенка, стелет постель и прядет шерсть. Если жена приводит с собой служанку, то она не мелет, не печет и не стирает, если она приводит двух, то она не готовит и не кормит ребенка, если трех, то она не стелет постель и не прядет шерсть, если четырех, то она сидит в гостиной. Рабби Элиезер говорит: даже если она приводит сто служанок, муж заставляет ее прясть шерсть, потому что безделье приводит к легкомыслию. Гемара: разве она мелет, ведь этим занимается вода? Но это означает: она готовит зерно для помола. Может быть, она мелет ручной мельницей? Это мнение не совпадает с мнением рабби Хии, потому что рабби Хия говорит: жена существует только ради ее красоты, жена существует только для рождения детей; потом рабби Хия говорит: жена существует только для красоты; потом рабби Хия говорит: всякий, кто хочет, чтобы его жена была красива, должен одевать ее в лён; всякий, кто хочет, чтобы его дочь была мудра, должен кормить ее молодыми цыплятами и молоком до тех пор, пока она не вступит в возраст зрелости…»[88]
Телефон зазвонил снова, на этот раз Герман уже не считал звонки. Он порвал с Машей. Он принял праведное решение покончить с греховным миром, в котором погряз, с тех пор как отдалился от Бога, Торы и еврейской традиции. Прошлой ночью он проанализировал поведение современного еврея, и, в частности, свое собственное. Каждый раз Герман приходил к одному и тому же выводу: если еврей хоть на шаг отступает от Шулхан Аруха, он погружается в сферу низменного — фашизм, большевизм, убийства, супружеская неверность, ложь. Что может удержать Машу от ее нынешнего поведения? Чего следует избегать Леону Торчинеру? Кто и что исправит евреев, работавших на ГПУ, бывших капо, ворами, спекулянтами и доносчиками?
Какой философ смог бы воспрепятствовать погружению Германа в болото, в котором тот сейчас оказался? Ни Беркли и ни Юм, ни Спиноза и ни Лейбниц, ни Гегель и ни Шопенгауэр, ни Ницше и ни Гуссерль. Все они проповедовали некую мораль, но ее сила, ее мощь была недостаточной для того, чтобы противостоять искушению. Можно быть последователем Спинозы и нацистом; можно увлекаться гегельянской феноменологией и работать на Сталина; можно верить в монады, в мировую душу, в слепую волю, в европейскую культуру, в трансцендентальный субъективизм и при этом совершать преступления.
Ночью, лежа в постели, Герман размышлял: он обманывает Машу, Маша обманывает его. У обоих были одинаковые мотивы: за несколько лет нужно получить от жизни все, потому что скоро придет смерть, ночь, угасание жизненных сил, вечность без воздаяния, без наказания, без желаний. За этим мировоззрением скрывались разочарование, обман и принцип «кто сильней, тот и прав».
Избежать этого можно, только обратившись к вере в Бога. А к чьей вере обращаться ему, Герману? Не к вере же тех, кто во имя Господа создали инквизицию, устраивали крестовые походы и кровавые войны. Для него, для Германа, есть только одно прибежище — обратно к Торе, к Талмуду, к Шулхан Аруху, к еврейским книгам. Он сомневается? Разве те, кто сомневаются в существовании кислорода, не дышат? Разве те, кто не признают наличие гравитации, отказываются ходить по земле? Если он, Герман, задыхается без Бога и без Торы, он должен служить Богу и читать Тору… И Герман, раскачиваясь, продолжал нараспев: «И она… кормит ребенка». Мишна не следует школе Шамая, потому что мы учим: если женщина поклялась не кормить ребенка, говорит школа Шамая, она вынимает грудь у него изо рта. А школа Гилеля говорит: муж принуждает ее, и она кормит ребенка…[89]
Снова зазвонил телефон. Ядвига вошла на кухню. В одной руке она держала утюг, в другой — кастрюлю с водой.
— Почему ты не отвечаешь на звонок? — спросила она.
— Я больше не буду отвечать на звонки в праздники. А если ты хочешь стать еврейкой, не гладь белье в Шмини Ацерет.
— Это ты пишешь в субботу, а не я.
— Я больше не буду писать в субботу. Если мы не хотим стать нацистами, мы должны служить Богу.
— Пойдешь со мной сегодня на «куфес».
— Надо говорить «акуфес»,[90] а не «куфес». Я пойду с тобой. Сходи в микву, если хочешь быть настоящей еврейкой.
— Я сделаю все, что ты скажешь.
— Пусть будет так. Эйзе иша кшейра аойса роацон баала — какая женщина чиста? Та, которая исполняет волю своего мужа.
— Когда ты сделаешь из меня еврейку?
— Я поговорю с раввином. Я начну учить тебя молитвам.
— У нас будет ребенок?
— Если на то будет воля Божья…
Ядвига покраснела, ее глаза загорелись. Она была вне себя от радости.
— А что делать с утюгом?
— Отложи его до конца праздника…
Ядвига постояла еще немного и ушла. Затем снова вернулась на кухню. Герман потрогал свой подбородок, сегодня он не брился с утра, и борода уже начала расти. У него возникла мысль, что больше ему нельзя будет писать для рабби Лемперта, даже в будние дни. Это фальсификация. Ему, Герману, придется искать работу учителя или что-нибудь подобное. Он разведется с Тамарой. Он сумеет сделать то, что удавалось сотням поколений евреев до него. Покаяться? Она, Маша, не покается, она со всеми своими иллюзиями и амбициями до мозга костей современная женщина.
Лучше всего, если он, Герман, уедет из Нью-Йорка. Он поселится в каком-нибудь далеком городке. Иначе его будет постоянно одолевать искушение вернуться к Маше. Одно ее имя волнует его. Телефонный звонок возбуждает нервную систему. В этом звуке слышна ее ярость, похоть, привязанность. Когда он смотрит в комментарии Раши[91] или тосафистов[92], ему вспоминаются Машины ласки, пикантные разговоры, игривые замечания, насмешки над всеми теми, кто вожделеет ее и бегает за ней, как кобель за сукой. Без сомнения, это Маша виновата в том, что случилось с Леоном Торчинером. У нее есть тысяча способов, как сделать свинью кошерной[93].
На мгновение мысли Германа как будто остановились. Он сидел над Гемарой и смотрел на буквы и слова. От них веяло чем-то родным, чем-то таким, что никогда не может стать чужим или состариться. В этих текстах — его дом. Страницами этих книг были воспитаны его родители, родители его родителей, все поколения, от которых он происходит. Эту манеру письма не смогли перевести ни на какой другой язык, только переложить на идиш. Даже такая фраза, как «жена существует только для красоты», имела здесь глубоко религиозный смысл. От нее пахло не косметикой, а синагогой, женской частью молельни, покаянными молитвами, причитаниями, изгнанием, мученичеством.
Разве это можно объяснить? Евреи взяли слова с рыночной площади, из лавок, из ремесленных мастерских, из спален и наделили их святостью. Даже слова «вор» и «разбойник» приобрели в Гемаре новое звучание, другое значение, другие ассоциации, чем в других языках. Грешники из Гемары воровали и грабили только ради того, чтобы евреям было чему учиться, чтобы Раши мог оставить по этому поводу свой комментарий, чтобы тосафисты задали свои вопросы, чтобы Магаршо, Магарам и Магаршаль[94] искали противоречия, приводили интерпретации и заканчивали свои рассуждения фразами: «следует постановить» или «требует дальнейшего рассмотрения»… Даже язычники, упомянутые в Гемаре, служат идолам только ради того, чтобы в Талмуде появился трактат об идолопоклонстве.
Телефон зазвонил снова, и Герману показалось, что в звуке звонка он слышит Машин крик. Он услышал ее призыв: ты можешь, по крайней мере, меня выслушать! По закону нельзя слушать только одну сторону, если один оговаривает другого и позорит его, то он и сам не заслуживает доверия. Герман знал, что он нарушает все обеты, и тем не менее встал и поднял трубку. Он сказал:
— Алло.
В трубке было странно тихо. Должно быть, Маша потеряла дар речи. Оба прислушивались к напряженному молчанию, к непониманию и обиде, древней, как Адам и Ева. Герман спросил:
— Кто это?
Никто не ответил.
— Шлюха проклятая!
Герман различил что-то вроде легкого вздоха. Потом Маша спросила:
— Ты еще жив?
— Да, я жив.
Опять наступило долгое молчание.
— Что с тобой случилось?
— Случилось то, что ты самая мерзкая и низкая тварь, которую я когда-либо встречал. Жалкое отродье, свинья, мразь!
Последние слова он выкрикнул, у него перехватило дыхание. Маша помедлила.
— Ты и правда свихнулся!..
— Будь проклят тот день, когда я тебя встретил! Сука, потаскуха!
— Господи, что я сделала?
Пока Герман кричал, ему пришло в голову, что это не его, Германа, голос, не его манера общения. Его отец обычно кричал так на неверующего еврея: гой, злодей, еретик. Это был древний еврейский крик против тех, кто преступает закон, нарушает договор. Маша закашляла и захлюпала. Она словно задыхалась от рыданий.
— Кто тебе сказал? Леон?
Герман обещал Леону Торчинеру не упоминать его имени, но и не мог скрывать, откуда получил информацию. С какой стати он должен лгать из-за Леона? И что ему выдумать? Он не ответил и услышал Машины слова:
— Это самый отвратительный человек, которого мне довелось встретить в жизни.
— Он отвратителен, но он сказал правду.
— Правда в том, что он предложил мне это, но я плюнула ему в лицо. Это правда. Если я лгу, пусть я не доживу до завтра, пусть никогда не обрету покой после смерти. Устрой нам встречу! Если он осмелится повторить ту же клевету, я убью и его, и себя. Боже мой!
Маша кричала не своим голосом, а голосом оклеветанной еврейской девушки. Все это было до боли знакомо Герману, он словно слышал голоса поколений.
После клятвы Маша разрыдалась. Она рыдала, как дщерь Израилева, имя которой пытался обесчестить какой-то проходимец. У Германа внутри все оборвалось.
— Ну, я лучше промолчу.
— Он не еврей, он нацист!
Маша так закричала, что Герману пришлось отодвинуть трубку от уха. Он стоял и прислушивался к ее плачу. Вместо того чтобы постепенно утихнуть, рыдания становились все громче и жалобнее. В Германе снова пробуждалась ярость.
— У тебя был любовник в Америке!
— Если у меня был любовник в Америке, пусть я заболею раком, пусть Бог услышит мои слова и накажет меня. А если это Леон придумал, пусть проклятье поразит его! Святой Отец, посмотри, что они делают со мной! Если он говорит правду, пусть ребенок умрет в моей утробе…
— Перестань, ты клянешься, как торговка на рынке.
— Нет мне больше жизни!
И Маша захлебнулась в рыданиях на том конце провода.
Глава седьмая
I
Всю ночь шел снег, рыхлый снег, тяжелый, как соль. Переулок между Мермейд- и Нептун-авеню полностью засыпало. Несколько машин в переулке стояли покрытые снегом, сквозь который проглядывали их темные контуры. Герман подумал, что так, наверное, выглядели колесницы в Помпеях, после того как Везувий засыпал их на три четверти пеплом. Ночью небо приобрело фиолетовый оттенок, как будто чудо изменило мироздание и Земля вошла в новое, неизвестное ученым созвездие. Какое-то давно забытое чувство пробудилось в Германе. Ему вспомнилось детство: Ханука, заготовка гусиного жира загодя на Пасху, игра в дрейдл[95], катание на коньках по каналам и выделывание пируэтов, недельный раздел Торы «Ваейшев»[96] с последним словом «вайишкахейгу»[97], который дети расшифровывали как «Войцех играет в карты на Хануку»[98].
«Все это было когда-то, было! — говорил себе Герман. — Даже если принято считать, что время — это способ мышления, по утверждению Спинозы, или форма мировосприятия, согласно Канту. Однако нельзя отрицать тот факт, что зимой в Цевкуве топили печи толстыми поленьями. Отец, да покоится он в мире, читал Шулхан Арух с комментариями раввинов Йосефа Теомима[99] и Арье-Лейба Коэна[100]. Мама готовила перловку с фасолью, картошкой и сушеными грибами». Герман почувствовал во рту вкус этой каши. Он услышал папино бормотание над книгой, мамин разговор с Ядвигой на кухне, звон колокольчика на санях с дровами, которые крестьянин вез из лесу.
Хотя была зима, воздух на улице — створка окна была открыта — звенел и потрескивал, словно тысячи кузнечиков стрекотали в снегу. В доме было слишком жарко, на сей раз дворник топил всю ночь. Пар в батарее пел монотонную песню, полную тоски и печали, свойственной только неодушевленным предметам. Герману казалось, что пар в трубах жалуется: «Плохо, плохо, плохо… тоска, тоска, тоска…» Лампы не горели, комнату освещал почти дневной свет, розоватый, отражавшийся от неба и снега. Герману чудилось, будто это северное сияние, о котором он читал в книгах.
В эту ночь Герман не сомкнул глаз. Он уже обвенчался с Машей. Она, судя по его расчетам, была на шестом месяце, хотя живот был практически незаметен. У Ядвиги тоже была задержка.
«Вот меня и купили с потрохами!» — говорил себе Герман. Ему вспомнилась еврейская пословица: «Десять врагов не причинят человеку большего вреда, чем он сам». Во всем виноват его противник, гениальный шахматист. Вместо того чтобы поставить ему неожиданный мат (это он тоже умеет), он загоняет Германа в угол, блокирует его фигуры своими и готовит мат, какой обычно ставят новичку.
Герман сидел на стуле в банном халате и шлепанцах, грелся и вдыхал холодный воздух с океана, с залива. Он выглянул на ночную улицу. Ему захотелось произнести молитву, но как может такой, как он, брать на себя смелость разговаривать с Высшими Силами? И о чем ему просить?
Он вернулся в кровать и лег рядом в Ядвигой. Сегодня в некотором смысле была их последняя ночь, потому что завтра Герману предстояло ехать в одну из своих выдуманных поездок, то есть провести время с Машей в Бруклине.
С тех пор как он обвенчался с Машей и надел на нее обручальное кольцо, она стал вести себя как жена. Она убирала комнатку, где они жили. Ей уже не надо было скрываться от матери по ночам. Маша пообещала Герману больше не спорить с ним, но обещание не выполняла — оскорбляла Ядвигу при любой возможности и кляла ее на чем свет стоит. Как-то у Маши вырвалось, что она убьет эту крестьянку.
Машина надежда на то, что венчание успокоит маму, не оправдалась. Шифра-Пуа за глаза упрекала Германа, жаловалась, что его брак с Машей — это просто обман и издевательство над ней и над Машей. Она запретила Герману звать ее тещей. Мать и дочь постоянно злились друг на друга и разговаривали только по необходимости. Шифра-Пуа стала еще богомольнее, она постоянно советовалась со священными книгами, читала еврейские газеты и мемуары жертв нацизма. Днем она часто лежала в темной спальне, и было неясно, дремлет она или копается в собственных воспоминаниях.
Беременность Ядвиги стала еще одной катастрофой. Раввин из синагоги, где Ядвига молилась в Судный день, взял с нее десять долларов, знакомая сводила ее в микву, и Ядвига разом превратилась в еврейку. Она начала следовать правилам ритуальной чистоты и кашрута. То и дело она задавала Герману вопросы: можно убрать мясо в холодильник, в котором стоит бутылка молока?[101] Можно есть молочное после паревного?[102] Можно ли написать письмо маме, хотя по еврейским законам она ей уже не мать?[103] Соседки, не отличавшиеся глубокими знаниями, давали ей каждая свои советы и наставления. Старый еврей-иммигрант, уличный торговец, попытался обучить ее алфавиту. Теперь Ядвига настраивала радио не на польскую, а на еврейскую станцию, где передавали религиозные песнопения и лекции о еврейской традиции. Эфир этой радиостанции был заполнен причитаниями, вздохами, благословениями и проклятиями. Ядвига просила Германа, чтобы тот говорил с ней на идише, хотя этого языка практически не понимала. Она все чаще читала ему нотации из-за того, что он ведет себя не так, как остальные евреи, не ходит в синагогу, не молится с талесом и тфилин. Герман отвечал ей:
— Mind your own business[104]. He тебе лежать на моей доске с гвоздями в аду…
Иногда он говорил ей:
— Делай, как я. Оставь в покое евреев. У нас и без тебя много неприятностей.
— Можно мне носить медальон, который прислала Марьяша? Он в форме креста.
— Можно, можно. Надоело уже.
Ядвига перестала сторониться соседей. Теперь они постоянно заходили к ней в гости посплетничать. Соседки, которым было нечем заняться, вели с Германом войну. Они взяли Ядвигу под свою опеку: обучали ее еврейским обычаям, пытались подыскать ей работу, сообщали о скидках на рынке, наставляли, чтобы она не давала Герману себя использовать. У американской женщины должен быть пылесос, электрический миксер, электроутюг и по возможности посудомоечная машина. Квартиру необходимо застраховать от пожара. Ей, Ядвиге, нужно получить страховой полис, и еще ей надо лучше одеваться, а не ходить в крестьянских обносках.
Среди соседей возникла настоящая перепалка по поводу того, какому идишу учить Ядвигу. Польские еврейки пытались научить ее польскому выговору, а литваки — литвацкому[105]. Все соседки предупреждали Ядвигу, что ее муж слишком много времени проводит в разъездах и что, если она не будет за ним следить, он уйдет к любовнице… В Ядвигиной голове все перемешалось. Она решила своим крестьянским умом, что наличия страхового полиса и посудомоечной машины требует еврейский закон.
Герман заснул, но вздрогнул во сне и проснулся. Его сны были столь же запутанны и болезненны, как жизнь наяву. Он поговорил с Ядвигой об аборте, но она и слышать об этом не хотела. Разве она не заслуживает хотя бы ребенка? Так и умрет, не оставив того, кто будет читать по ней кадиш (Ядвига выучила это слово). А он, Герман? Почему он должен быть сухим, неплодоносящим деревом? Она будет ему хорошей женой. Она готова пойти работать до девятого месяца беременности. Может, например, стирать белье для соседей и драить полы, чтобы в семейном бюджете был и ее вклад. Одна соседка, у которой сын открыл супермаркет, предложила Герману работу, чтобы он не ездил по всей стране с книгами…
«Как можно было попасть в такую дикую ситуацию? — спрашивал себя Герман. — В какую же авантюру я ввязался…»
Ему надо было позвонить Тамаре, которая переехала в меблированные комнаты, но дни шли, а он все не звонил. Герман, как всегда, опаздывал с работой для раввина. Каждый день он боялся получить письмо из налоговой инспекции с огромными штрафами. Он испытывал страх перед проверкой, которая выведет его на чистую воду. Ему не следовало оставаться в этой квартире, коль скоро Леон Торчинер знал его телефон. Он вполне может наведаться в гости к Герману.
Герман положил руку Ядвиге на бедро. От нее исходило животное тепло. По сравнению с ее телом тело Германа было холодным. Ядвига почувствовала его прикосновение и что-то пробормотала сквозь сон, не прекращая храпеть. «Сна не существует, — подумал Герман. — Люди просто притворяются спящими и называют это сном».
Он заснул, а когда проснулся, было уже светло. Снег сверкал под лучами солнца. Ядвига уже ушла на кухню, пахло кофе. Попугайчик Войтуш щебетал и выводил трели, видимо, специально для своей жены, которая почти не издавала звуков, а целыми днями сидела и чистила клювом перышки.
Герман сразу вспомнил о Ядвигиной беременности. Многие годы все обходилось без последствий, но в последнее время ему явно с этим не везло…
Он лежал в постели и в который раз подсчитывал свои расходы. Он задолжал за квартиру в Бруклине и в Бронксе; нужно платить за телефоны на имя Ядвиги Прач и Шифры-Пуи Блох. Компании «Эдисон» тоже не заплачено, из-за этого могут отключить газ и электричество. Где-то у Германа лежали счета. У него часто пропадали квитанции и документы. Наверное, деньги он тоже терял. «Ладно, слишком поздно для всего этого, — оправдывался Герман сам перед собой. — Все это временно, временно…»
Через некоторое время он пошел в ванную бриться. За ночь у него отросла колючая щетина. Он намылил лицо и взглянул на себя в зеркало. Мыло на щеках напоминало белую бороду, из которой торчал бледный нос и пара светлых глаз, усталых, но полных юношеского любопытства. Герман все еще жаждал разгадать тайну мироздания, тайну любви.
Внезапно зазвонил телефон. «Это она, Маша!» — сказал себе Герман. Прошло уже несколько дней с тех пор, как он был у Маши. Сначала он боялся, что их венчание под хупой охладит его страсть, но, как выяснилось, в этой запутанной ситуации он стал желать ее еще сильнее. Он поднял трубку и сказал:
— Машеле!
Герман услышал знакомый и в то же время чужой голос. Это был голос пожилой женщины, она запиналась и не могла выговорить ни слова. Герман хотел было сказать, что ошиблись номером, но женщина обрела дар речи, и он услышал:
— Это Шифра-Пуа.
Внутри у Германа что-то оборвалось.
— Шифра-Пуа? Что случилось?
— Маша… больна… — всхлипнула она.
Герман помолчал. «Самоубийство!» — пронеслось у него в голове. Его охватил страх и тревога.
— Что случилось?!
— Приезжай… пожалуйста.
— Что случилось?
— Пожалуйста, приезжай, — повторила Шифра-Пуа и сразу повесила трубку.
Герман немного еще постоял у телефона, думая, не перезвонить ли ему Шифре-Пуе и узнать подробности, но он знал, что ей трудно говорить по телефону. И потом, у нее были проблемы со слухом. Герман вернулся в ванную. Мыло на щеках засохло и начало отваливаться хлопьями. Волоски бороды приобрели старческий вид. Что бы ни произошло, ему надо побриться и принять душ. «Пока мы живы, от нас не должно вонять», — не то подумал, не то пробормотал Герман и снова принялся водить кисточкой по щекам.
II
Дверь открылась, и Ядвига вошла в ванную. Обычно в таких случаях она медленно приоткрывала дверь и просила разрешения войти, но в этот раз резко распахнула дверь.
— Кто звонил? — спросила она. — Твоя любовница?
Герман бросил на нее злобный взгляд:
— Оставь меня в покое!
— Кофе остывает.
— Я не буду завтракать. Мне надо бежать.
— К кому? К твоей любовнице?
— Да, к любовнице.
— Мне сделал ребенка, а сам бегаешь к шлюхам… Никаких книг ты не продаешь. Ты ездишь к любовнице.
Даже в этой суматохе Герман не переставал удивляться. Никогда еще Ядвига так с ним не разговаривала. Не иначе как соседки, те, что брали ее с собой в синагогу и водили в микву, настропалили ее. Германа охватила ярость. Везде им надо совать свой нос. Никогда не пройдут мимо чужих неприятностей. Со всех сторон одолели. Все разваливается…
— Быстро пошла на кухню! — крикнул Герман. — Иначе я выгоню тебя отсюда.
— У тебя есть любовница. Ты ночуешь у нее. Собака!
И Ядвига зашлась в плаче, граничащем с криком. Она погрозила Герману кулаком. Герман стал толкать ее к двери, но Ядвига сопротивлялась. Они молча яростно боролись. Наконец Герман вытолкал Ядвигу из ванной и запер дверь. Он слышал, как она кричала и ругалась по-польски: «Падаль, холера, негодяй, паршивец…» Он быстро включил душ, который окатил его холодной водой. «Все злые силы против меня…» Герман в спешке оделся, проклиная всё и вся. Вещи падали у него из рук. Ядвига ушла из дома, видимо, чтобы рассказать соседям, что муж ее бьет…
Герман глотнул кофе из чашки, стоявшей на кухонном столе, и вышел на улицу, но тут же вернулся, потому что забыл надеть свитер и калоши. Когда Герман оказался на улице, снег ослепил его. Кто-то сгреб снег и расчистил дорожку между двумя сугробами. Герман почувствовал холод, от которого никакая одежда не спасает. Он шел невыспавшийся, голодный, взбудораженный плохой новостью. Может, она приняла яд? Связано ли это с ее беременностью?
Герман поднялся по лестнице на платформу и стал ждать поезда. Дул ледяной ветер. Зимой, в стужу, Кони-Айленд с его луна-парком и ипподромом выглядели заброшенными. Цветные башенки, колесо обозрения, бассейн — все было похоже на засыпанные снегом развалины, отголоски древнего природного катаклизма, разрушившего забытую цивилизацию.
Подъехал поезд, Герман зашел в вагон. На мгновенье он увидел в окно море. Волны поднимались и пенились по-зимнему агрессивно. Какой-то человек пробирался по пляжу, непонятно, что ему там было нужно в такую стужу. Может, он собрался топиться…
Герман сел на сиденье, которое, видимо, подогревалось изнутри. Тепло сквозь обивку заструилось по его телу, даже мурашки пошли по спине. Вагон был полупустым. На полу растянулся пьяный. Он лежал в летней одежде без шапки, что-то лепетал, брызгал слюной и пускал пузыри. Время от времени он начинал злобно бормотать, открывая налитые кровью глаза, полные древней ярости.
Герман поднял испачканную газету и прочитал новости о маньяке, убившем женщину с шестью детьми. Он забыл убить седьмого или просто не заметил его, и тот рассказал о происшедшем в полиции. Поезд двигался, как всегда, медленно. Кто-то вслух предположил, что рельсы засыпало снегом. Поезд все же дотащился до Таймс-сквер, где Герман пересел на экспресс, идущий в Бронкс. Каждый раз по дороге из Кони-Айленда в Бронкс Герман вновь и вновь удивлялся тому, как огромен Нью-Йорк. Это не город, а целое государство.
Почти два часа длилась его поездка, и Герман не переставая читал грязную газету: статьи на первой полосе, объявления, даже новости со скачек и некрологи — все, что угодно, лишь бы заглушить свое беспокойство. События его жизни сменяли друг друга с непривычной быстротой. Каждую минуту он ожидал нового бедствия. Поезд остановился, и Герман свернул в переулок, в котором жили Шифра-Пуа и Маша.
Молиться Богу? Герман вспомнил утверждение из Талмуда о том, что тот, кто видит неприятности в своем квартале и молится Богу, чтобы они обошли его дом стороной, не прав. Случившегося не изменишь, даже мысленно.
Переулок был полностью засыпан снегом, даже тропинки не успели протоптать. Герман шел почти по колено в снегу. Он взбежал по ступенькам, открыл дверь и увидел Шифру-Пую рядом с маленьким толстеньким молодым человеком, по всей видимости доктором, и еще какую-то женщину, наверное соседку. Ее голова с черными кудрями казалась слишком большой для маленького тела. Когда Герман вошел, Шифра-Пуа сказала:
— Я думала, ты уже не приедешь.
— На метро далеко ехать.
Голова Шифры-Пуи была покрыта черным платком. На желтоватом лице было больше морщин, чем обычно.
— Где она? — спросил Герман, сам не зная, говорит ли он о живой или о мертвой.
— Она уснула. Не входи.
Круглолицый, похожий на парикмахера доктор с маслеными глазками и носом с горбинкой спросил, словно с усмешкой:
— Муж, да? — И показал на Германа.
— Да, муж, — ответила Шифра-Пуа.
— Мистер Бродер? Ваша жена не беременна, — сказал доктор. — Кто вам сказал, что она беременна?
— Она сама.
— У нее было кровотечение, but[106] не беременность… Какой доктор ее осматривал?
— Я не знаю. Я вообще не знаю, была ли она у доктора.
— Люди, где вы живете? On the moon?[107] Вы все еще застряли в своих местечках in Russia[108]. — Доктор говорил то на идише, то на английском. — Здесь, когда женщина беременеет, надо быть connected[109] с доктором все время… Вся ее беременность была здесь!
И доктор приложил указательный палец ко лбу.
Шифра-Пуа, должно быть, уже слышала эти слова, но опять всплеснула руками, как будто слышит их впервые. Она закачала головой по-женски суетливо, словно опять и опять переживая древнее горе:
— Я этого не понимаю, не понимаю. У нее рос живот.
— Это нервное…
— Что за нервы… упаси Бог от таких нервов… она кричала, начались схватки. Горе мне горе!
— Госпожа Блох, я слышала о таком, — заговорила соседка с большой головой. — На нас обрушиваются несчастья. Мы так пострадали от Гитлера, что совсем обезумели… У одной тут вздулся огромный живот, in street[110] поговаривали, что у нее двойня, а в больнице оказалось, что это газы.
— Газы? — переспросила Шифра-Пуа, схватившись за ухо, будто не слышит. — То есть они держались у нее все эти месяц? Да, злые силы играют с нами. Мы вышли из ада, но ад преследует нас и в Америке. Гитлер преследует нас повсюду…
— Я пойду, — сказал доктор. — Она будет спать до позднего вечера, а может, и до завтрашнего утра. Когда проснется, дайте ей лекарство. Можете ее покормить, но не чолнтом…
— Кто же ест чолнт на неделе? — спросила Шифра-Пуа. — У нас даже на субботу не бывает чолнта. Если его готовить на газовой плите, получается не то.
— Ладно, я шучу.
— Вы еще придете доктор?
— Я зайду завтра утром по дороге в больницу. Все о’кей. Станете бабушкой через год. Внутри она полностью здорова.
— Да? Я так долго не протяну, — сказала Шифра-Пуа. — Только Отец Небесный знает, сколько жизни и здоровья я потеряла за эти часы. Я думала, что она на шестом или самое большее на седьмом месяце. И вдруг она как закричит, что у нее схватки, из нее льется кровь. Чудо небесное, что я еще жива и стою перед вами.
— О’кей, это все здесь.
И доктор снова указал на лоб. Посвистывая, он вышел. Через некоторое время соседка тоже ушла. Шифра-Пуа еще долго молчала и прислушивалась, словно подозревала, что соседка стоит под дверью. Потом она заговорила:
— Что ты скажешь о нашем несчастье? Я хотела внука. Я хотела, чтобы мы его назвали в честь одного из убитых евреев. Я надеялась, что будет мальчик. Мы бы назвали его Меер. Но у нас все выходит наоборот. Нам не везет. Нельзя было меня спасать от нацистов, нельзя. Я должна была остаться вместе со всеми замученными евреями, а не бежать в Америку. Горе мне, горе. Но хотелось жить, очень хотелось. На что мне сдалась эта жизнь? Я завидую мертвым. Целый день им завидую. Моя жизнь — наказание, горькое наказание, я даже смерти не заслужила. Только вечные муки. Но чем дальше, тем ближе. Сил моих больше нет! — Шифра-Пуа сменила тон: — То, что случилось сегодня, сведет меня в могилу. Я надеялась, что мои кости похоронят в земле Израиля, но мне суждено лежать в Америке на cemetery[111]…
Герман не ответил. Шифра-Пуа подошла к столу, взяла лежащий на нем молитвенник и снова положила его на место.
— Хочешь есть?
— Нет, спасибо.
— Почему ты так долго ехал? Ладно, я помолюсь.
Она надела очки, села на стул и принялась шевелить бледными губами.
Герман осторожно открыл дверь в спальню. В кровати, на которой обычно спала Шифра-Пуа, теперь лежала Маша. Во сне она выглядела красивой, спокойной, задумчивой. Долгое время Герман стоял и смотрел на нее — жертва Гитлера, жертва его, Германовых, безумных выходок. Его охватила любовь к Маше, ему стало стыдно за свое поведение. Что мне сделать? Как возместить все те страдания, которые ей пришлось претерпеть из-за меня? Герман осознал: что бы он сейчас ни предпринял, он обязательно причинит кому-нибудь боль. Он довел ситуацию до того, что, сделай он что-нибудь хорошее одной, пострадает другая.
Герман снова прикрыл дверь и пошел в свою комнату. Он стоял, глядя на дворик через полузамерзшее окно. Дерево, которое недавно было покрыто зеленой листвой, теперь согнулось от снега и наледи. На груде металлолома и старых решетках, валявшихся во дворе, лежал толстый покров, белый с синеватым отливом, поблескивающий, словно кристалл. Как будто снег служил погребальным саваном мусору, собранному людьми. На столе лежали рукописи для раввина.
Герман прилег на кровать. Глаза его закрылись, и он уснул. Открыв глаза, он увидел, что наступил вечер. Шифра-Пуа стояла над ним и будила:
— Герман, Герман!
— А? Что такое?
— Маша проснулась, пойди к ней.
Герман не сразу понял, где он находится и что произошло с Машей. Он встал с кровати, ноги его дрожали.
В спальне горела одна лампа. Маша лежала в той же позе, что и днем. Глаза были открыты. Она взглянула на Германа и ничего не сказала. Он спросил:
— Как ты себя чувствуешь?
И Маша ответила:
— У меня больше нет чувств…
III
Герман никогда бы в этом никому не признался, но он был глубоко убежден в том, что Машина ложная беременность — это ответ Провидения на его молитвы. Он сомневался сам в себе, но был абсолютно уверен в том, что наверху прислушиваются к его просьбам. Им руководят, в его поведении есть смысл и цель.
Он, Герман, играл в шахматы с судьбой, но какие-то силы были и на его стороне. Его философия вперемешку с религиозностью, унаследованной от дедов и прадедов, превратилась в мифологию. Если обратиться к пантеизму Спинозы, утверждающему, что все есть Бог, а Бог есть все, то получится, что в любом человеке, черве или микробе есть модус Божественного. В мире нет места ни фактическим ошибкам, ни лжи. Идей может быть мало, они могут быть смутными, но не ложными.
Герман принял пантеизм Спинозы, но отверг его рационализм. Если у Бога есть бесконечные ипостаси, неведомые нам, то, может быть, воля, свобода, смысл, борьба между добром и злом — это тоже Божественные ипостаси? Каббала восприняла все лучшее от учения Спинозы без его категоричности, искусственности и слепоты.
Мелочь? В мироздании нет мелочей. Жизнь мыши так же важна, как жизнь звезды. Его, Германа, отношения с Ядвигой, Машей и Тамарой тесно связаны со Вселенной, с вечностью. Желание наслаждаться любовью и при этом не давать жизнь новым поколениям и не плодить новые страдания — это не случайность и не каприз. Им руководит божество. Человеческий род достиг новой ступени своего развития: наслаждаться сексом и при этом не платить цену беременности и родов, колыбелек и пеленок, оспы и кори, скарлатины и дифтерита.
Наверняка весь род человеческий станет когда-нибудь заниматься тем же, что делает сейчас он, Герман. Созданная им путаница — это часть глобальной проблемы.
Как можно совместить желание мужчины обладать множеством женщин и тягу женщины к одному-единственному избранному мужчине? Как можно создавать глобальные экономические проекты, не ущемляя личных инициатив? Как можно поощрять объединение в группы по национальным признакам, не допуская конфликтов между ними? Как можно усовершенствовать человеческие расы, избегая расизма? Как можно служить Богу, не обременяя себя бесконечными правилами и запретами, которые религии накопили за много поколений? Как можно, узнав о человеческих трагедиях и страдания всякого живого существа, не впасть в отчаяние и оцепенение?
Герман сидел дома в Бруклине и писал эссе для рабби Лемперта. Раввин нередко жаловался, что Герман наполняет свои работы мыслями, с которыми он, рабби Лемперт, не согласен. Раввин частенько говаривал: «Не подложите мне свинью…» Герман уже понял, что другие раввины вели полемику с рабби Лемпертом. Его обвиняли в искажении еврейских традиций. Обычно у раввина не было времени читать Германову писанину, но однажды он вернул ему рукопись на исправление. И все же Герман не мог повторять старые ортодоксальные тексты.
Работа на рабби Лемперта стала для него мучительно трудна. А что еще ему было делать? Какое занятие искать в огромном Нью-Йорке?
На улице снова выпал снег. Ядвига приготовила кашу, как в Цевкуве: перловую крупу с белой фасолью, сушеными грибами, картошкой, посыпанной укропом, свекольной ботвой и петрушкой. По радио передавали вульгарную песенку из еврейской театральной постановки, которую Ядвига приняла за религиозное песнопение. Попугаи Войтуш и Марьяша по-своему реагировали на шум: они громко свистели и щебетали, а потом принялись летать туда-сюда, и Ядвига прикрыла кастрюли, чтобы птички, Боже упаси, туда не упали.
В разгар работы Германа охватила усталость. Он отложил ручку, откинулся на спинку кресла и попробовал подремать. Маша не пошла на работу. Она все еще была слаба после происшедшего и впала в своего рода апатию. Когда Герман говорил с ней, Маша отвечала коротко, по делу, из-за этого темы для разговоров быстро исчерпывались. Шифра-Пуа целыми днями читала Псалмы, как будто до сих пор существовала угроза Машиной жизни[112].
Герман знал, что, поскольку Маша не ходила на работу в кафетерий, в доме у нее не было даже самого необходимого, но он и сам остался без денег. Кто-то посоветовал ему банк, где можно одолжить сто долларов под высокие проценты, но чем поможет эта ссуда? Кроме того, нужен поручитель.
Герман сидел над рукописью, дремал, зевал, рисовал на клочке бумаги кружочки, штришки, рыбок, короны, разных чудовищ с глазами на животе и рогами на плечах, связанных друг с другом трубками, линиями, спиралями. При этом он постоянно искал выход из положения.
Бежать? Но куда? Где ночевать в первую же ночь? А что делать с самим собой? Он будет тосковать и страдать от мысли, что бросил беспомощную Ядвигу. По правде говоря, Маша тоже беспомощна. Эта ложная беременность словно изменила ее личность. Она стала молчаливой, спокойной, безразличной, утратила женскую страсть. Перестала говорить по ночам и курить сигареты. Лежит молча, и неясно даже, спит она или думает. Когда Герман дотрагивается до нее, она вздрагивает, но тут же затихает вновь. Это кризис, который пройдет? Она перестала любить Германа? Всего можно ожидать от тех, чье существование — сплошная истерика: любовь, страсть, желания, мысли. Как грешники в аду, они постоянно мечутся между льдом и огнем[113].
Ядвигина беременность, принятие ею иудаизма, соседки, вмешивающиеся в его, Германа, личную жизнь, — все это было для него одной большой катастрофой. Но переезжать в разгар зимы без денег он не мог, да это и не помогло бы. У Германа не было никакого желания становиться отцом, когда ему уже за сорок, он не мог себе этого позволить. У него уже были дети, он их потерял. Завтра может появиться новый Гитлер. Мир способен снова излить свой гнев на нынешнего еврея, который в любом случае станет козлом отпущения, да к тому же сам делает все возможное, чтобы накликать гнев народов, вмешиваясь во все мировые конфликты с готовностью удобрить своей кровью социальные революции.
Но как он, Герман, может объяснить это Ядвиге, когда это недоступно для понимания даже величайшим еврейским интеллектуалам? Праведный еврей должен хотеть совершить самоубийство. Герман знал об этом еще в Польше. Рожать детей после недавнего уничтожения евреев — это безумие, преступление. От одной мысли об этом у него мурашки бегут по спине. Сколько бы он ни анализировал ситуацию, вывод следует один и тот же: необходимо бежать, но с кем? Маша не может, ей нельзя бросить больную мать. Сейчас не время прямо поговорить об этом с Машей…
Тамара съехала от реб Аврома-Нисона Ярославера и поселилась в меблированных комнатах. Она упомянула в прошлую пятницу, что устроилась на работу, сортирует пуговицы. Герман пытался поддержать ее заверениями, что она остается его настоящей женой, матерью его детей, и намеками на то, что все может измениться… Отец Небесный, он все еще пользовался старыми юношескими приемами, проверенной пустой мужской болтовней, на которую женщина всегда оказывается падкой, с какой бы усмешкой она ее ни воспринимала.
Герман пришел к Тамаре в гости с букетом цветов и бутылкой вина, словно жених на сватовство. В лифте, в который не поместилось бы и три человека, стоял веник. Окна Тамариной комнаты выходили на глухую стену. Пол был устлан рваным линолеумом. Из кресла торчала набивка. Пахло краской, сыростью и средством от клопов.
Тамара сидела на кровати с рваным одеялом, положив ногу на ногу.
— Как тебе нравится моя американская могила? — спросила она и рассмеялась.
Герман хотел отвести ее в ресторан, но она приготовила ему что-то вроде сухого ужина: хлеб, сыр, форель, которую она хранила в обычном шкафу. Она выпила кофейную чашку вина, приобрела нетрезвую уверенность в себе и сказала:
— За здоровье твоих жен…
Все это: Тамарина речь, ее веселость, семейные упреки, заверения в том, что она не испытывает никакой ревности — было какой-то придуманной реальностью, не имеющей связи с этим миром. Она рассказывала истории о России, и, хотя Герман уже слышал множество подобных историй, он каждый раз заново удивлялся. Например, история о девушках, работавших на маслозаводе, которые, чтобы вынести немножко масла, окунали нижнее белье в бочку и так шли домой; или случай с писателем, который приехал в некий город делать доклад о поэзии и отправился на черный рынок продавать краденый кусок мыла; а еще история о бухгалтере, ведшем дела фабрики на старых газетах, потому что он не мог достать чистых листов; или рассказы о толпах людей, сидевших днями и ночами на платформе в ожидании поезда, который так и не пришел, и многие из них умерли от голода, холода, истощения и разочарования. История о пассажирах, проснувшихся в темноте на крыше вагона и оставшихся без головы, как только поезд въехал в низкий туннель.
Когда Тамара уставала от трагедий, она описывала человеческую распущенность. Из-за войны, голода, вшей люди утратили всякий стыд. Дочери занимались любовью на глазах у матерей; женщины и мужчины спали друг с другом, не зная, как зовут партнера; они совокуплялись в темных вагонах, хотя никогда прежде друг друга не видели. Вся человеческая культура, религии, границы, для возведения которых понадобились тысячи лет, были уничтожены в одну ночь.
Но во всем этом хаосе она, Тамара, сохранила человеческое лицо. Она даже не могла изменить мужу, которого считала погибшим и с которым несколько лет назад хотела развестись. Как в истории про Иосифа[114], она оставила свою одежду в руках русского, который пытался ее изнасиловать. Она использовала все свои женские хитрости, чтобы избавиться от тех, кто приставал к ней якобы по любви…
Герман сказал Тамаре:
— Было бы весело, если бы я узнал, что ты говоришь неправду.
— Как бы ты узнал?
— На том свете.
— Зачем мне тебя обманывать?
На это Герману нечего было ответить. Действительно, зачем ей обманывать? Из-за того, что он женился на прислуге, а она живет в комнате за двадцать долларов в месяц и сортирует пуговицы за восемнадцать долларов в неделю? Даже здесь, в Нью-Йорке, мужчины обращали на нее внимание, предлагали ей замужество. Один раввин, знакомый реб Аврома-Нисона, сделал ей предложение, она могла стать раввиншей в Бруклине, жить в просторной квартире, носить соболя и украшения покойной раввинши.
— Я даже не знаю, — сказала Тамара, — благородство ли это. Наверное, слабость или просто сумасшествие.
Она погасила лампу и прилегла на кровать рядом с Германом. Она целовала его и смеялась, потом спросила:
— Ну, великий ты мой мудрец, что ты нафилософствовал? Что было раньше, яйцо или курица?
Тамара рассказала ему, что готовится через пару дней лечь в больницу. Нью-Йоркские доктора собираются вырезать пулю, которая застряла в ее теле той ночью тридцать девятого года…
IV
Герман сидел и писал: «Вайаре хоом вайонуу вайаамду мерохок»[115], Коцкий ребе[116] так толковал этот стих: даже если народ все видит и волнуется, как было на горе Синай, он остается стоять в отдалении. В действительности дарование Торы, десять заповедей, явление Торы на горе Синай — все это было против простого народа, против его природы, его судьбы. Гора Синай была навязана евреям, как объясняет это Талмуд, но никого ни к чему принудить нельзя. Золотой телец был ответом простого народа. Еврейский народ, как и весь мир, никогда полностью не принял десять заповедей. Выступления против этих заповедей в наше время настолько же сильны, как и во время дарования Торы, а может быть, даже еще сильнее. Народу нужен телец, не важно, из золота, серебра или ложных теорий. Идолопоклонство появилось раньше, чем сам Бог.
Вдруг Герман отложил ручку. Раввин не примет этого. Напрасные старания. Раввин уже предупреждал его, чтобы он не включал в эссе сомнительные идеи. Для бизнеса этого не нужно. На лекциях рабби Лемперту задают вопросы, на которые он не в состоянии ответить. Раввин говорил Герману:
— Если вы хотите поругаться с миром, не делайте этого за мой счет. Мне не нужно ссор…
Ядвига вошла на кухню:
— Герман, каша готова.
— Готова? Я тоже готовенький. Сейчас расплавлюсь. Я, девка, больше так не могу, я банкрот во всех смыслах: духовно, физически, материально. Тебе не надо было меня спасать. Я бы уже давно обрел покой где-нибудь в мировом хаосе или в выдуманном мире, а ты осталась бы сама собой, а не принимала бы иудаизм, в то время как богоизбранный народ, наоборот, крестится…
Ядвигины глаза смеялись.
— Говори так, чтобы я понимала.
— Ты же хотела, чтобы я говорил на идише.
— Говори, как твоя мама.
— Я не могу говорить, как мама. У нее была вера, а у меня нет даже отступничества. Из меня такой же отец, как из тебя комментатор Меера Шиффа[117]… Ты меня изнасиловала, девка. У нашего ребенка будут все недостатки Иакова и Исава…[118]
— Ладно, я не понимаю, что ты там болтаешь. Иди есть. Я сделала перловку, как в Цевкуве.
Герман собирался встать, как вдруг в дверь позвонили.
— Это, наверное, твоя соседка, пришла учить тебя платить налог на солому, — сказал Герман.
— Открыть?
— Скажи, чтобы пришли позже.
Ядвига пошла открывать дверь. Герман перечеркнул ручкой половину последней страницы, бормоча:
— Как хочешь, рабби Лемперт, нет так нет. Ты и сам, уж извини меня, из простых. Твоя прабабушка наверняка пожертвовала сережку, чтобы у тельца был хвост подлиннее.
В этот момент Герман услышал сдавленный крик. Ядвига вбежала в комнату, где сидел Герман, и захлопнула дверь. Ее лицо было бледным, как уличный снег. Она вращала глазами и дрожала.
«Погром?» — промелькнуло в голове у Германа. Его мозг словно встряхнули внутри черепной коробки, Герман онемел от страха. Нечто подобное он пережил много лет назад, когда услышал голоса нацистов в хлеву. Он спросил, задыхаясь:
— Кто там?
— Не ходи! Не ходи! Боже мой! — прокричала Ядвига. На губах у нее выступила пена. Она попыталась преградить Герману путь. Ее лицо скривилось, вытянулось и приобрело незнакомое выражение.
Герман бросил взгляд в окно. Может, выпрыгнуть? Здесь не было пожарной лестницы… У него задрожали колени, в ушах звенело. Он стал искать место, откуда удобнее будет сопротивляться нападавшим. Это было в точности как в его кошмарах, когда нацисты гнались за ним, окружали со всех сторон и загоняли в угол. Рубашка промокла за секунду. Он подошел к Ядвиге, и она странно быстро схватила его за запястья. В этот момент дверь открылась, и Герман увидел Тамару в потертой шубе, меховой шапке и сапогах. Он сразу все понял и сказал:
— Не дрожи, идиотка! Она жива!
— Исус Мария!
Ядвига трясла головой. Она налегла на Германа всем телом и чуть не свалила его.
Тамара сказала:
— Я не думала, что она меня узнает.
— Она жива! Она жива! Она не мертвая! — кричал Герман Ядвиге.
Он принялся толкать Ядвигу, желая приободрить ее и одновременно от нее отделаться. Она вцепилась в Германа, у нее вырвался плач, которого он никогда раньше не слышал, похожий на рев животного. Он снова заговорил:
— Она жива! Она жива! Она спаслась! Успокойся! Глупая крестьянка!
— О Пресвятая Дева!.. Сердце мое!
И Ядвига перекрестилась, но сразу же спохватилась, вспомнив о том, что еврейке нельзя делать этот жест. Она вздрогнула, выставила одну ногу вперед и так замерла, скрестив руки и выпучив глаза. Ее искривленный рот был полон застывшего крика.
Тамара сделала шаг назад.
— Я не думала, что она меня узнает. Родная мать меня не узнала бы. Успокойся, Ядзя, — сказала она по-польски, — я не мертвая и не восстала из могилы…
— Ой, батюшки! — И Ядвига ударила себя кулаками по голове.
Герман сказал:
— Зачем это все? Она ведь могла умереть от страха.
— Мне жаль, мне очень жаль. Я думала, что сильно изменилась и совсем не похожа на себя прежнюю… Я хотела посмотреть, где и как ты живешь…
— Могла бы, по крайней мере, позвонить…
— О Боже, о Боже! Что теперь будет? Что будет?! — воскликнула Ядвига. — А я беременна… именно теперь…
Она положила руки на живот. Тамара удивленно взглянула на нее и едва не рассмеялась. Герман уставился на Тамару, он не верил собственным глазам. «Это не сон?» — спрашивал себя Герман. Это какая-то другая Тамара. Он спросил:
— Ты сошла с ума или выпила?
Сказав эти слова, Герман почувствовал запах алкоголя. Он сразу все понял. Тамара напилась и пришла к нему в гости. Он вспомнил, что Тамара собиралась лечь в больницу, ей должны были извлечь пулю.
— Ты пьешь горькую? — спросил Герман.
— Если нет сладкой, приходится пить горькую. Хорошо ты с ней устроился. — Тамара сменила тон: — Когда ты жил со мной, дома всегда был беспорядок. Мне никогда не удавалось убирать за тобой, повсюду валялись твои бумаги, твои книги. А тут все чисто, вылизано. Ну конечно, она же из знатной семьи!
— Она поддерживает чистоту, а ты бегала туда-сюда и выступала с речами в Поалей Цион[119].
— А где крест? — спросила Тамара по-польски. — Почему здесь нет креста? — Она повернулась к Ядвиге. — Раз нет мезузы, должен висеть крест.
— Вот мезуза, — ответила Ядвига.
— Крест тоже надо повесить, — сказала Тамара. — Не думайте, что я пришла помешать вашему мирному сожительству. В России я научилась пить, а когда я выпью, становлюсь любопытной. Я хотела посмотреть, как вы тут живете, и больше ничего. И потом, все-таки я имею к вам некоторое отношение. Вы оба помните те времена, когда я была еще жива.
— Исус Мария!
— Я не мертвая, не мертвая. Не живая и не мертвая. На самом деле я на него совсем не претендую. — Тамара указала пальцем на Германа. — Он не знал, что я еще мучаюсь где-то, и тебя, Ядзя, он, конечно, всегда любил. Он наверняка спал с тобой еще до моего появления.
— Нет, нет! Я была честной девушкой. Я пришла к нему невинной, — сказала Ядвига.
— Да? Поздравляю! Мужчины любят невинных. Если бы они могли, они бы сделали так, чтобы каждая женщина ложилась к ним в постель проституткой, а вставала невинной. Ну, я вижу, что оказалась нежеланным гостем. Пойду своей дорогой.
— Пани Тамара, пусть пани садится. Пани меня напугала и поэтому… Я посмотрела на пани и узнала ее… Но пусть пани садится. Я принесу кофе… Пусть меня Бог накажет, если я знала, что… Я бы так никогда не сделала, никогда! Мы всегда вспоминали о пани только хорошее…
— Ну, спасибо. Я тебя ни в чем не виню, Ядзя. Наш мир — мир жадных людей. Каждый тянет одеяло на себя. Он тот еще подарочек, — Тамара показала на Германа, — но все же лучше, чем быть одной. И квартира у вас хорошая. У нас никогда такой не было.
— Я принесу кофе. Хотите есть?
Никто не ответил. Ядвига ушла на кухню, неуклюже шлепая подошвами тапок. Она оставила дверь открытой. Герман заметил, что Тамарины волосы под шапкой были растрепаны. Под глазами появились то ли впадины, то ли желтоватые мешки.
— Я не знал, что ты пьешь, — сказал он.
— Ты много чего не знаешь. Ты думал, что я могу пройти сквозь ад и выйти без сучка, без задоринки. Ты идиот, это невозможно! В России все болезни лечили одним лекарством — водкой или самогоном. Напивались, ложились на солому или на голую землю — и конец мучениям. Пусть Бог и Сталин делают, что хотят. Вчера я пошла передать привет знакомым, а они торгуют спиртом, прямо здесь, в Бруклине, но в другом районе. Они мне дали с собой целую бутылку водки.
— Ты же должна была лечь в больницу.
— Должна была… Не хочу я туда, Герман, не хочу. Эта пуля здесь, — Тамара положила руку на бедро, — мой лучший сувенир. Она напоминает мне о том, что когда-то у меня были дом, родители, дети. Если у меня отнимут и ее, то ничего не останется. Пуля стала частью меня, ты понимаешь или нет? Это все-таки немецкая пуля, но, пролежав столько лет в еврейском теле, она стала родной. Ей может однажды прийти в голову взорваться, но пока она сидит тихо, мне хорошо с ней. Подойди. Если хочешь потрогать, потрогай. Ты тоже как-то к этому причастен. Тот же револьвер застрелил твоих детей.
— Тамара, я тебя прошу.
Тамара скривилась и, дразнясь, показала Герману кончик языка.
— Тамара, я тебя прошу, — передразнила она Германа с детской игривостью, вызванной алкоголем. — Не дрожи. Она с тобой не разведется. А если разведется, ты всегда можешь уйти к другой. Как ее зовут? Я уже забыла ее имя. Если и та тебя выгонит, придешь ко мне. Я бросила работу с пуговицами, но в Америке пуговиц много… А вот и Ядзя с кофе!
Ядвига внесла поднос с двумя чашками кофе, сахарницей, сливками и домашним печеньем. На ней был фартук. Теперь она выглядела так, как раньше, — служанкой. Перед войной она прислуживала Герману и Тамаре, когда они приезжали в гости из Варшавы в Цевкув. Ядвигино лицо, прежде бледное, стало красным и мокрым. Капельки пота проступили на лбу. Тамара смотрела на нее с удивлением и насмешкой. У Германа что-то оборвалось внутри.
— Поставь. Принеси кофе и себе.
— Я пойду на кухню.
И Ядвига снова зашлепала подошвами по полу. На этот раз она прикрыла дверь.
Несмотря на смятение, Герман спрашивал себя, случалось ли такое когда-нибудь прежде? Или это происходит впервые за всю историю Вселенной? Он обратился к Тамаре:
— Да, ты ее уничтожила…
V
— Я уже поняла, что свалилась как снег на голову, — сказала Тамара. — Те, у кого вся жизнь наперекосяк, никогда не могут ничего сделать правильно. Это закон природы. Я действительно немного выпила, но совсем не пьяна. Будь добр, позови Ядвигу. Я должна ей все объяснить.
— Лучше я сам объясню.
— Нет, позови. Она подумает, что я пришла забрать ее мужа…
Герман встал, пошел на кухню и закрыл за собой дверь. Ядвига стояла у окна, повернувшись спиной к комнате. Услышав его шаги, она вздрогнула и обернулась. Ее волосы растрепались, глаза наполнились слезами, лицо покраснело и опухло. Такие перемены могут быть вызваны большим горем или продолжительной ссорой. Ее лицо исказилось гримасой, оно дрожало. Подбородок стал похож на старушечий.
Прежде чем Герман успел что-либо сказать, она подняла кулаки к голове и зашлась крестьянским плачем:
— Куда мне теперь идти?
— Ядзя, ничего не изменилось.
Ядвига затряслась, из горла вырвались хриплые звуки, похожие на шипение гуся.
— Почему ты говорил, что она мертва? Ты не ездил продавать книги, а был с ней!
— Ядзя, клянусь Богом, что это не так. Она совсем недавно приехала в Америку. Я не знал, что она жива.
— Что мне теперь делать? Она твоя жена.
— Ты моя жена.
— Она была первой… Я уйду, уеду в Польшу. Если бы только я не носила твоего ребенка!
Ядвига замотала головой и заголосила, как крестьянки, оплакивающие покойника. А-а-а…Тамара открыла дверь.
— Ядзя, не плачь. Я вовсе не пришла забирать твоего мужа. Я просто хотела посмотреть, как вы тут устроились…
Ядвига наклонилась вперед, будто собираясь упасть Тамаре в ноги.
— Пани Тамара, вы его жена, пусть это так и останется. Если Бог даровал пани жизнь, это подарок… Я отступлюсь. Это дом пани. Я уеду в Польшу, обратно домой… Моя мамочка меня не выгонит.
— Нет, Ядзя, об этом и речи быть не может. Ты вынашиваешь его ребенка, а я уже, как говорится, высохшее дерево. Бог забрал моих детей себе.
— О, пани Тамара!
Ядвига зашлась плачем и ударила себя обеими руками по лицу. Она принялась странно шататься и сгибаться, как будто искала место, куда бы упасть. Герман посмотрел на входную дверь, опасаясь, что сбегутся соседи. Тамара воскликнула:
— Ядзя, успокойся, он мне не нужен, и я ему тоже. Я вроде бы жива, но на самом деле мертва. Мертвецы иногда приходят в гости, я именно такой гость. Я встала из могилы, чтобы посмотреть, что творится на этом свете. Но раз у вас есть мезуза, я больше не приду. Мертвецы боятся мезуз[120]…
Ядвига убрала руки от лица, которое так изменилось за короткое время, что Герман почти не узнавал его. Оно стало красным, как сырое мясо, широким, под глазами образовались круги, и проступили вены. Ядвига закашлялась, подавившись собственными словами.
— Нет, пани Тамара, пани останется здесь! Я простая крестьянка, необразованная, но у меня есть сердце… этот человек — муж пани, это квартира пани… пани уже довольно поскиталась по свету…
— Замолчи! Он мне не нужен. Если хочешь обратно в Польшу, поезжай, но не ради меня. Я с ним жить не буду, даже если ты уедешь.
Ядвига на мгновенье затихла. Она смотрела на Тамару искоса, с недоверием и подозрением, полуоткрыв рот. Она подняла подол фартука и высморкалась.
— Куда пани пойдет? Здесь дом и хозяйство. Пусть пани остается здесь. Я буду готовить и убирать. Я снова стану служанкой. Так угодно Богу.
— Нет, Ядвига, я не приму эту жертву. Перерезав горло, заново его не сошьешь. В нашу с ним жизнь вмешался Гитлер, все искромсал и выкорчевал. Мы бы разошлись еще в Варшаве, если бы не дети. Теперь, когда их нет, что нас связывает? Мне жаль, что я к вам ворвалась так неожиданно, но я так больше никогда не сделаю. Ты оказалась доброй душой. Честно скажу, ты для него лучшая жена.
— Пани Тамара, не уходите!
И Ядвига протянула руки, преграждая ей путь. Тамара сняла шапку и попыталась поправить волосы.
Герман сделал шаг вперед:
— Куда ты спешишь? Останься ненадолго. Раз уж так вышло, мы могли бы стать друзьями все трое. Мне не придется столько лгать…
— Я должна идти! — сказала Тамара строго и решительно.
В этот момент послышался звонок в дверь, долгий резкий звонок. Попугаи, до сих пор сидевшие на клетке, словно прислушиваясь к разговору Ядвиги с незнакомой женщиной, перепугались и залетали по комнате. Ядвига выбежала в другую комнату.
У Германа на лбу появилась кривая морщина.
— Кто там?
Он различил бормотание, но не мог понять, кто говорит, мужчина или женщина. Немного помешкав, он открыл дверь.
На пороге стояла пара, оба маленького роста. У женщины было желтоватое морщинистое лицо, желтые глаза, желтые волосы цвета морковного цимеса. Лоб и щеки покрывали морщины, которых не встретишь в Америке, словно резец вырезал их в камне. При этом она не выглядела старой, ей было, наверное, не больше сорока. Она улыбалась добродушно, миролюбиво, с хитринкой, обнажая челюсти, полные кривых зубов с золотыми коронками. На ней был халат и шлепанцы. Она взяла с собой вязание и, стоя у двери, перебирала в руках спицы.
Рядом с женщиной стоял низкорослый мужчина в фетровой шляпе с пером, желтом летнем пиджаке, легком для холодного зимнего дня, розовой рубашке, полосатых брюках, желтых ботинках и трехцветном желто-красно-зеленом галстуке. От него веяло чем-то иноземным, забавным и летним, как будто он только что прилетел из жарких стран и еще не успел сменить костюм. Он напомнил Герману красочных персонажей с рекламы пива или цирковой афиши. Для человека низкого роста у него была слишком вытянутая голова, горбатый нос, впалые щеки, заостренный подбородок с ямочкой посредине. Темные глаза под взъерошенными бровями улыбались доброжелательно и шутливо, будто его визит был всего лишь шуткой.
Женщина сказала на польском идише:
— Вы меня не знаете, мистер Бродер, но я знаю вас. Мы живем на нижнем этаже. Мы недавно въехали. Ваша жена дома?
— Она в другой комнате.
— Прекрасная женщина, добрая душа. Я участвовала в ее переходе в иудаизм. Это я отвела ее в микву и показала, что нужно делать. Она родилась среди неевреев, но любит еврейские традиции. Вот так бы всем еврейским девушкам. Ей нужно знать обо всех правилах, она постоянно задает мне вопросы. В Америке такого не встретишь, даже среди ортодоксов. Она сейчас busy?[121]
— Да, несколько занята.
— Этот человек — мой друг, мистер Пешелес. Он живет не здесь, у него дом в Си-Гейт. У него есть, чтоб не сглазить, дома в Нью-Йорке и в Филадельфии. Он приехал к нам на денек, и мы рассказали ему о вас, о том, что вы продаете книги и сами пишите. У него есть к вам деловой разговор, но я сама не знаю, о чем именно.
— Никаких дел! Никаких дел! — подхватил мистер Пешелес. — Мой бизнес не книги, a real estate[122]. Фактически я и от этого отстранился, потому что какой смысл заниматься бизнесом? Рокфеллер тоже ест всего три раза в день… Не более того. Я люблю заглянуть в «маленькие буквы»[123], просмотреть газету, журнал, книгу, что под руку попадется. У меня не хватает терпения читать, потому что писатели слишком много болтают. Они делают, как говорится, из квинты кварту, а я люблю покороче. Если есть что сказать, говори, а если сказать нечего, лучше помолчать. Если у вас найдется немного времени, я бы перекинулся с вами парой слов.
Герман помедлил.
— Мне очень жаль, но сейчас я ужасно занят.
— Недолго, всего десять-пятнадцать минут, — вмешалась женщина. — Мистер Пешелес приезжает ко мне раз в полгода или даже реже. Он, чтоб не сглазить, богатый человек, дай Бог каждому, и если вы ищите квартиру или не знаю что, он может оказать вам услугу.
— Что за услугу? Я не оказываю никаких услуг. Мне самому приходится платить за квартиру. Здесь Америка, but[124] если вам нужна квартира, я могу вам посоветовать, это, как говорится, вас ни к чему не обяжет.
— Ладно, заходите. Простите, что принимаю вас на кухне. Моя жена переодевается в комнате.
— Какая разница где? Он не к вам приехал, чтобы вы принимали его с почетом… Ему, чтоб не сглазить, и так везде оказывают почести. Его только что сделали президентом самого большого дома для престарелых в Нью-Йорке. Вся Америка знает, кто такой Нэйтен Пешелес. Он недавно построил две ешивы в Иерусалиме. Не одну, а две, в них сотни молодых людей учат Тору, и все это за его счет.
— Прошу вас, госпожа Шраер, не делайте мне publicity[125]. Если мне нужен будет рекламный агент, я найму человека, и that's all[126]. Им не надо знать о моих ешивах и обо всем прочем. Я делаю это не для того, чтобы прославиться или чтобы меня, как говорится, с почетом вызывали к Торе[127].
Мистер Пешелес говорил тихо и быстро. Он выплевывал слова, как горошины. Его рот ввалился, нижней губы почти не было видно. Он улыбался с умным видом и снисхождением богача, пришедшего в гости к бедняку. Весь разговор происходил у двери.
— Я лучше пойду, — сказала Тамара.
— Не торопитесь, не надо уходить из-за меня, — отозвался мистер Пешелес. — Я уже не молодой человек, а вы юная красивая женщина и все такое прочее, но не надо от меня убегать. Я не медведь и, как говорится, не ем людей.
— Заходите, садитесь, — сказал Герман. — Не уходи, Тамара, — продолжил он. — Я вижу, что не хватает стульев, но мы скоро перейдем в другую комнату. Одну секундочку!
Герман оставил всех на кухне, а сам пошел в среднюю комнату. Ядвига стояла посреди комнаты. Она больше не плакала, но глядела на дверь в смятении и тревоге, с крестьянским страхом перед городом и его сложностями. Она спросила:
— Кто там?
— Соседка, миссис Шраер. Она привела с собой какого-то мужчину.
— Что ей нужно? Я не могу никому на глаза показаться. Посмотри на мое лицо!
— Они не хотят уходить, дикари!
— А пани Тамара еще не ушла? Ой, я сойду с ума!
— Только этого мне сейчас не хватало…
Герман вернулся на кухню. Госпожа Шраер уже сидела на стуле за кухонным столиком. Попугай Войтуш уселся Тамаре на плечо и дергал ее за сережку. Герман услышал, как мистер Пешелес говорит Тамаре:
— Всего несколько недель назад? Вы не выглядите новенькой. В наше время, когда кто-нибудь только приезжал в Америку, его было видно за милю. Мир, как говорится, переменился. Вас можно легко принять за американку, абсолютно.
— Что вы! Здесь я чувствую себя чужой…
VI
— Ядвига плохо себя чувствует… Она, скорее всего, не выйдет, — начал Герман, сам не зная, к чему приведут эти слова. — Но может быть, вы пройдете в спальню? Там будет удобнее.
— Удобнее? — подхватила миссис Шраер. — Гитлер научил нас довольствоваться минимальным комфортом…
— Вы приехали оттуда, да? — спросил Герман.
— Да, оттуда, — повторила миссис Шраер.
— Из лагерей?
— Из России.
— Где именно вы были в России? — спросила Тамара.
— В Джамбуле.
— В лагере?
— И в лагере тоже. Я жила на берегу.
— Отец Небесный, я тоже жила на берегу! — воскликнула Тамара. — Вместе с раввиншей из Цевкува и ее сыном.
— Ну, мир тесен, мир тесен! — Мистер Пешелес даже хлопнул в ладоши. У него были маленькие руки с длинными пальцами и ногтями со свежим маникюром. — Россия вроде бы страна большая, но, когда встречаются два беженца, всегда оказывается, что они или родственники, или были в одном лагере, или еще что-нибудь подобное. Знаете что? Давайте все-таки пойдем к вам, — обратился он к миссис Шраер. — Я пошлю за бубликами, лососем и за бутылочкой коньяка. Раз уж вы обе из Джамбула, у вас будет о чем поговорить. Пойдемте с нами мистер… э-э-э… Бродер. Я запоминаю людей, но забываю имена. Однажды я забыл, как зовут мою собственную жену.
— Это забывают все мужчины, — отозвалась миссис Шраер, подмигнув.
— К сожалению, я не смогу спуститься, — сказал Герман.
— Почему нет? Берите свою жену и спускайтесь. Христианка, принявшая иудаизм в наше время, — это впечатляет. Ходят слухи, что вы жили у нее на сеновале в течение двух лет и тому подобное. Какие книги вы продаете? Меня интересуют редкие книги, однажды я купил книгу с автографом Линкольна. Я люблю посещать аукционы. Мне говорили, что вы пишете. Что вы пишете?
Герман хотел ответить, но зазвонил телефон. Тамара сделала шаг вперед. Войтуш взлетел с ее плеча. Телефон находился рядом с кухней, в узком коридорчике, ведущем в спальню. Как бы тихо Герман ни разговаривал, в кухне все было слышно. Герман разозлился на Машу. Что она названивает? Она же знает, что он приедет… Может, вовсе не отвечать? Несмотря на это, он поднял трубку и сказал:
— Алло!
Ему тут же пришло в голову, что это может быть Леон Торчинер. «Вот ведь проклятый денек», — сказал себе Герман. С того дня, когда Леон Торчинер позвонил и встретился с ним в кафетерии на Серф-авеню, Герман каждый день ждал, что тот опять позвонит. Герман ясно почувствовал, что Леон копает под него, следит за ним, плетет интриги. Иногда у него возникало смутное ощущение, будто Леон слышит каждое его слово…
Из трубки раздался мужской голос, но не хриплый глубокий голос Леона Торчинера, а громовой бас.
— Is this mister Herman Broder?
— Yes.[128]
— Это рабби Лемперт.
Наступила тишина. На кухне все молчали.
— Да, рабби Лемперт.
— То есть у вас есть телефон, и не в Бронксе, а в Бруклине. Эспланада два — это где-то на Кони-Айленде.
— Мой земляк переехал, — пробормотал Герман, зная, что эта ложь ни к чему не приведет и лишь повлечет за собой новые трудности.
Раввин покашлял и пробурчал:
— Переехал и установил телефон. Sure, sure,[129] я, конечно, damn fool,[130] но не настолько damn fool, как вы думаете. Мистер Герман, — раввин повысил голос, — вся эта комедия, которую вы играете, бесполезна, совершенно бесполезна. Я знаю все, абсолютно все. Вы женились и даже не сообщили мне, чтобы я пожелал вам счастья. Кто знает? Я бы, наверное, подарил вам хороший подарок, подарок для жениха, как это называлось раньше. Но если вы так хотите, это ваша право, как говорится, рецойной шел одем зе квойдой…[131] Я вам звоню потому, что в вашей статье о каббале вы допустили несколько ужасных mistakes — ошибок, которые не к лицу ни вам, ни мне.
— Каких ошибок?
— Я не могу вам сказать сейчас. Мне позвонил рабби Москович. Статья уже набрана и отдана в печать. Завтра должны были отсылать сборник переплетчику. И вдруг они нашли mistakes, им надо будет вынимать pages[132] и переделывать весь журнал, исключив статью. Вот как вы работаете на меня.
— Рабби Лемперт, мне очень жаль, но, если так произошло, я отказываюсь от работы. Вы мне ничего не должны за то, что я сделал до этого.
— А чем это мне поможет? Я рассчитывал на вас. Я верил в вашу аккуратность. Почему вы невнимательны? Я вас нанял для того, чтобы вы делали research[133] и не выставляли меня перед всем миром дураком и невежей. Вы сами знаете, что я busy[134] и…
— Не знаю, какие ошибки я допустил, но если они есть, я больше не вправе заниматься этой работой.
— Где мне теперь взять нового человека? У вас были тайны от меня, что это за тайны? Если вы любите женщину, в этом нет греха. Я не фанатик и не выискиваю грехи. Я принял вас как друга и открылся перед вами, но вы мне втюхали историю с земляком, жертвой Гитлера и другие глупости. Здесь, в Америке, у людей нет секретов. Все знают, чем занимается и президент, и каждый из нас. Здесь тайны есть только у гангстеров. Не хочу вас обижать, это свободная страна, но почему я не могу знать, что у вас есть женщина? По меньшей мере, у меня есть право пожелать вам счастья.
— Конечно. Большое спасибо.
— Почему вы говорите так тихо? У вас болит горло?
— Нет, нет…
— Я вас предупреждал много раз, что не могу работать с человеком, который не хочет дать мне свой адрес и телефон. И потом, вы же не Аль Капоне, а я не — как его зовут? — Датч Шульц[135]. Мне нужно сейчас же к вам заехать, скажите, где вы живете. Может быть, мы сможем что-то исправить, они согласны подождать с публикацией несколько часов.
— Я живу не здесь, а в Бронксе…
Герман почти шептал в трубку. У него пересохло горло, язык прилип к нёбу. На лбу и на шее проступил пот. Он почувствовал, как намокает рубашка. Раввин подождал немного.
— Снова в Бронксе? Где в Бронксе? Я вас решительно не понимаю.
— Не буду вам объяснять. Здесь я только временно.
— Временно? Моя мама говорила: в тихом омуте черти водятся. Что с вами? У вас две жены?
— Может быть.
— О’кей, а когда вы будете в Бронксе?
— Сегодня вечером.
— Дайте мне адрес. Раз и навсегда! Пора положить конец этой ерунде!
Герман, поколебавшись, дал Машин адрес. Он прикрыл трубку рукой, чтобы его слова не были слышны на кухне.
— Во сколько вы там будете?
Герман ответил.
— Это точно или вы опять меня обманываете?
— Нет, я буду там.
— О’кей, я подъеду. И не нервничайте. Я не отберу у вас вашу жену. Если я работаю с кем-то, я имею право прийти к нему домой поздороваться. И вообще, я — раввин, а не случайный прохожий. Я бы мог сделать для вас больше, чем вы думаете, если бы вы прекратили свои выходки.
— Спасибо, увидимся позже, гуд бай.
Герман вернулся на кухню и увидел Ядвигу. Она вышла из гостиной, ее лицо и глаза все еще оставались красными. Она стояла, уперев руки в боки, и смотрела в сторону коридора, по всей видимости прислушиваясь. Герман услышал, как госпожа Шраер спрашивает Тамару:
— А как вас отправляли? Эшелонами?
— Я бежала, — ответила Тамара.
— Мы ехали в вагонах для скота. Путь занял три недели. В вагоне люди толпились, как сельди в бочке. Чтобы справить нужду, простите меня, надо было делать это в окно. Представьте, мужчины и женщины — все вместе. Как мы это вынесли, мне никогда не понять, но некоторые не доехали. Слабые умерли стоя. Мертвых просто выбрасывали из поезда. Вот так большевики переправляли беженцев в Россию. Мы приехали в лес, стоял жуткий мороз, нужно было рубить деревья, чтобы из них построить барак. Мы рыли ямы в снегу и спали в них.
— Я знаю. Мне все это хорошо знакомо, — ответила Тамара.
— У вас есть родственники здесь? — спросил мистер Пешелес у Тамары.
Тамара немного помедлила.
— Дядя и тетя, они живут на Ист-Бродвее.
— Ист-Бродвей? А кем он вам приходится? — И Пешелес показал на Германа.
— А, мы друзья.
— Пойдемте вниз к миссис Шраер, мы тоже подружимся. От ваших разговоров о голодовке я проголодался. Мы покушаем, выпьем и поболтаем. Пойдемте с нами мистер… э-э-э… Бродер. В такой холодный день неплохо поговорить по душам.
— Мне нужно идти, — сказал Герман всем и никому конкретно.
— Мне тоже надо идти, — заговорила Тамара.
Ядвига как будто очнулась:
— Куда уходит пани? Пусть пани останется. Я приготовлю ужин.
— Нет, Ядзя, в другой раз. В другой раз.
— Ну, я вижу, что вы не принимаете мое приглашение! — воскликнул мистер Пешелес. — Пойдемте, миссис Шраер, в этот раз нам не повезло, но надежда умирает последней. Я хотел бы взглянуть на то, что вы пишите, и на ваши книги. Если у вас есть что-нибудь интересное, мы могли бы заключить сделку. Я, как вы видите, в некотором роде коллекционер. Кроме того…
— Мы позже поговорим, — сказала миссис Шраер Ядвиге. — Может быть, мистер Пешелес будет почаще бывать у нас. Одному Богу известно, сколько этот человек сделал для меня. Все остальные ограничивались жалобами на еврейскую долю, а он сделал мне визу. Я написала письмо ему, совершенно незнакомому человеку, только потому, что наши отцы были партнерами, они вместе занимались торговлей зерном. И две недели спустя пришел аффидевит. Мы пошли к консулу, он уже знал про мистера Пешелеса, все знали…
— Ну, довольно, не хвалите меня, не хвалите. Что такое аффидевит? Листочек бумаги.
— Такие листочки спасли тысячи евреев.
Пешелес поднялся.
— Как ваше имя? — обратился он к Тамаре. Тамара вопросительно посмотрела на него, на Германа, на Ядвигу.
— Тамара.
— Мисс? Миссис?
— Зовите меня, как хотите.
— Тамара какая? У вас должна быть фамилия.
— Тамара Бродер.
— Тоже Бродер? Вы что, брат и сестра?
— Двоюродные, — ответил Герман за Тамару.
— О’кей, мир тесен. Странные люди. Однажды я прочитал в газете такую историю: беженец сидел за ужином со своей новой женой, и вдруг дверь открылась и вошла его прежняя жена, которая, как он думал, погибла в гетто. Вот какую кашу заварили эти Гитлер, Сталин и все их отродье.
Миссис Шраер заулыбалась. Ее желтые глаза наполнились льстивой веселостью. Морщины на лице стали глубже, они напоминали татуировку первобытных людей.
— К чему вы это рассказываете, мистер Пешелес?
— A, just so[136]. В жизни всякое бывает. Особенно в наше время, когда все перевернулось с ног на голову…
Мистер Пешелес подмигнул и вытянул губы, словно решил свистнуть. Потом засунул руку в нагрудный карман и подал Тамаре две визитные карточки:
— Кем бы вы ни были, давайте будем знакомы.
VII
Как только гости вышли, Ядвига снова расплакалась. Слезы полились у нее из глаз, лицо мгновенно исказилось. По всей видимости, Ядвига решила продолжить прерванный скандал.
— Куда ты уходишь? Почему ты оставляешь меня одну? Пани Тамара! — Ядвига повысила голос. — Он не торгует книгами. Все это ложь, брехня. У него есть любовница, и он бегает к ней. Это уже всем известно. Соседи смеются надо мной. А я спасла ему жизнь. Нас всех хотели расстрелять: меня, мою мамочку, мою сестру Марьяшу. В деревне все знали, что мы прячем еврея, в нас плевали и били стекла в доме! На наших полях пасли коров, а мы и возразить не смели, потому что любой негодяй мог сдать нас немцам. Я последний кусок изо рта вынимала и несла ему на сеновал. Я выносила за ним горшок…
— В самом деле, Ядвига, постыдилась бы, — проговорил Герман, удивляясь собственным словам.
— Мне стыдиться? Это тебе должно быть стыдно! Это ты всех держишь за дураков, ты сказал, что твоя жена умерла, но вот она стоит здесь. В этом доме слышно каждое слово, все уже знают о моем горе и позоре!
— Герман, мне надо идти! — воскликнула Тамара. — Завтра я ложусь в больницу. Мне должны вынуть пулю, вот отсюда. — Тамара показала Ядвиге на бедро. — Я скажу тебе одно, Ядзя: он не знал, что я жива. Я совсем недавно приехала из России.
— Да, но она звонит ему каждый день, эта любовница. Он думает, что я не понимаю, но я понимаю идиш. Каждое слово. Они смеются надо мной. Он болтается где-то с этой сукой, приходит домой измученный и без гроша в кармане. Хозяйка заходит каждый день, требует квартирную плату и угрожает, что выкинет нас отсюда в разгар зимы. Я могла бы пойти работать на завод, но я ношу его ребенка. Здесь надо обращаться в больницу, к доктору. Здесь никто не рожает дома.
— Это ты хотела ребенка, а не я.
— Разве это грех? Я тебя никуда не пущу! — крикнула Ядвига. Она подбежала к двери и загородила ее руками.
Тамара сказала:
— Ядзя, мне надо идти.
— Пусть пани не сердится. Это не вина пани. Он обманывает всех. Если он хочет вернуться к пани, я отступлюсь. Я отдам ребенка. Здесь можно отдать ребенка, еще и денег за это получу…
— Не говори ерунды, Ядзя. Я не вернусь к нему, а ты не отдашь ребенка. Ребенок не обманет. Ребенок останется навсегда твоим. Я найду для тебя больницу и доктора. Пережить бы только операцию.
— О, пани Тамара!
— Ядзя, пусти меня! — сказал Герман угрожающе.
— Ты никуда не пойдешь!
— Ядзя, меня ждет раввин. Я работаю на него. Если я не встречусь с ним сейчас, я останусь без куска хлеба.
— Это ложь, ложь, проститутка тебя ждет, а не раввин.
— Клянусь Богом и душами моих родителей, что меня ждет раввин.
— Пусть он приедет сюда! Мы никого не гоним. В доме все кошерно.
— Ну, я поняла, что у вас тут происходит, — сказала Тамара сама себе и им двоим. — Мне надо идти, потому что уже завтра утром я ложусь в больницу. А сегодня мне надо еще постирать вещи и приготовить белье. Ядзя, выпусти меня.
— Все-таки решила лечь в больницу? В какую именно? Как она называется? — спросил Герман.
— Какая разница? Если выживу, то выйду оттуда, а если нет, то меня похоронят без тебя. Ты не обязан навещать мою могилу.
— В самом деле, Тамара, весь мир против меня. Я пока еще никого не убил.
— Не хочу, чтобы ты меня навещал. Еще цветы принесешь или что-нибудь другое. Я вижу, в каком ты положении. И потом, как только доктора узнают, что у меня есть мужчина, они выставят тебе счет. Я им сказала, что у меня здесь никого нет, пусть так и останется. Я дам о себе знать.
Тамара подошла к Ядзе и поцеловала ее. Ядвига положила голову Тамаре на плечо. У нее вырвался душераздирающий крик. Она принялась целовать Тамарин лоб, щеки, руки. Ядвига склонилась, словно опускаясь на колени. Она быстро бормотала что-то на своем крестьянском наречии, но было совершенно непонятно, что она говорит. Ее лицо опухло и намокло от слез.
Как только Тамара вышла, Ядвига воинственно загородила руками дверь:
— Сегодня ты никуда не пойдешь!
— Посмотрим.
Герман подождал, пока затихнут Тамарины шаги.
— Говорю тебе в последний раз: пусти меня!
— Только через мой труп!
Герман схватил Ядвигу за обе руки и принялся грубо, молча бороться с ней. Он почувствовал в себе силу, о которой и сам не подозревал. Герман с силой толкнул Ядвигу, и она упала. Раздался глухой стук.
Герман распахнул дверь и выбежал из дома. Он забыл надеть калоши, но о возвращении не могло быть и речи. Он прыгал через шатающиеся ступеньки и слышал то ли призыв, то ли стон. «Может, я сломал ей позвоночник…» Он вспомнил, как некогда учил, что, нарушая одну из десяти заповедей, человек нарушает все. «Я кончу тем, что стану убийцей», — сказал он себе.
Наступил вечер, но Герман и не заметил этого. На лестнице было темно. Дверь осталась открытой, но он не оглядывался. Герман вылетел на улицу, между сугробами его ждала Тамара в шубе, меховой шапке и сапогах — кусочек России, чудом переместившийся в Америку.
Тамара крикнула:
— Где твои калоши? Ты не можешь так идти!
— У меня нет выбора.
— Хочешь покончить жизнь самоубийством, да?
— Это лучше всего.
— Что ты сделал? Побил ее?
— Сделал, что смог.
— Вернись, возьми калоши. Получишь воспаление легких.
— Не твое дело, что я получу. Пошли вы все к черту!
— Ну, настоящий Герман… В какую грязь ты вляпался? Подожди, я поднимусь и принесу твои калоши.
— Нет, ты никуда не пойдешь!
— Ладно, будет одним идиотом меньше.
Тамара побрела по кривой тропинке между сугробами. Улица выглядела по-вечернему пустынной, снег отливал кристальной синевой. Время от времени Тамара оглядывалась назад. Фонари уже зажглись, спустились сумерки. Небо было затянуто желтоватыми, ржаво-коричневыми тучами, предвещавшими непогоду. Дул ледяной ветер.
Вдруг наверху открылось окно, из него выпала калоша. Потом полетела вторая. Это побитая Ядвига встала с пола и бросала Герману вслед калоши. Он поднял глаза к окну, она тут же закрыла его и задернула занавески. Тамара обернулась. В темноте она рассмеялась горьким смехом над этой жалостью по отношению к тому, кто ее не заслуживал. Она подмигнула и погрозила Герману кулаком.
Герман сразу надел калоши, зачерпнув при этом полные ботинки снега. Тамара подождала, пока Герман догонит ее. Она сказала:
— Худшему псу достаются лучшие кости… Так было всегда и везде. Почему?
Она взяла Германа под руку, и они побрели дальше, как пожилая супружеская пара. С крыш сдувало снег. Мермейд-авеню была покрыта сугробами. В снегу виднелся мертвый голубь, торчали только красные лапки. «Да, святое создание, ты уже свое отмучился, — сказал себе мысленно Герман. — Хорошо тебе…» Его охватила горечь, стало тяжело на сердце. Он поднял взгляд к небу. «Зачем Ты создал его, если ему предстоял такой конец? Как долго Ты еще собираешься молчать, Ты, всемогущее Божество?»
Герман и Тамара дошли молча до Стиллвел-авеню и сели вместе в метро. Тамаре надо было выходить на Четырнадцатой улице, а Герману — на Таймс-сквер. Все сидячие места были заняты, кроме одного узкого бокового сиденья, куда они и втиснулись.
— Ты же решила не делать операцию, — сказал Герман.
— Да что мне терять, кроме своей никчемной жизни?
Герман опустил голову. Он представил себе, что они с Тамарой едут в одном из тех вагонов, которые везли евреев в газовые камеры. Герман фантазировал: существует таблетка, которую можно принять и проспать семьдесят лет, как Хони Амеагель… Теперь у него было одно желание — бежать от всех и вся, забраться в какую-нибудь дыру и ни о чем не думать, ни на что не надеяться. Он отдавал себе отчет в том, что, по существу, он мечтает о могиле.
На Юнион-сквер Тамара попрощалась с ним, он встал и поцеловал ее. Тамара расплакалась, и лицо Германа стало мокрым от ее слез.
— Не поминай лихом! — сказала она.
— Прости меня!
— Это не твоя вина…
Тамара вышла. Герман вернулся в слабо освещенный угол. Ему вдруг почудилось, что он слышит голос отца. «Ну, и что же ты наделал? — говорил ему отец. — Сделал невыносимой и свою жизнь и чужие. Потерял и этот мир, и мир грядущий… Нам стыдно за тебя в раю».
Герман вышел на Таймс-сквер и, пересел на экспресс. Здесь было светлее, чем в прежнем вагоне. Герман закрыл глаза. Он больше не мог смотреть на пассажиров, лампы, рекламу. Раввин разгадал все тайны Германа, духовно раздел его. Без конспирации его любовь превратилась в позор, обузу, насилие… Но избежать этого Герману уже не удастся, если только не бросить всех и вся в эту холодную зимнюю ночь и не исчезнуть…
Герман вышел на станции в Бронксе и направился к переулку, где жили Шифра-Пуа и Маша. Он сразу узнал машину раввина. Тот заехал на своем «кадиллаке» на заснеженную улицу, почти полностью перегородив ее. В окнах Шифры-Пуи было светло. В доме, должно быть, зажгли лампы. Юношеский стыд охватил Германа. Он по-детски представил, как вваливается со своим бледным лицом, красным замерзшим носом, в потрепанной одежде в ярко освещенную квартиру. На крыльце Герман принялся отряхивать снег и тереть щеки, чтобы на них появился румянец. В темноте он поправил галстук и вытер мокрый лоб и волосы платком. Что ж, надо испить эту горечь до дна…
Герман только теперь понял, что раввин не нашел никаких ошибок в его статье. Ему нужен был только повод вмешаться в жалкую личную жизнь Германа. Многие избегали раввина, потому что он вел себя так со всеми.
Герман открыл дверь и увидел на комоде вазу с огромным букетом роз. На накрытом столе между печеньем и апельсинами стояла большая бутылка шампанского. Раввин и Маша чокались. Они не слышали, как вошел Герман. Маша, по-видимому, была уже навеселе, она громко говорила и смеялась. На ней было нарядное платье. Раввин говорил громким голосом. Шифра-Пуа, должно быть, жарила драники для гостя на кухне. Герман услышал шипение сковородки и почувствовал запах масла и тертой картошки. Раввин добился своего. Он обожал поражать бедняков своей роскошной машиной, цветами и дорогими подарками. На нем был светлый костюм. Он выглядел невероятно высоким и широкоплечим в тесной квартирке с низким потолком.
Увидев Германа, раввин устремился к нему, преодолев расстояние одним огромным скачком. Он хлопнул в ладоши и торжественно воскликнул:
— Мазл-тов, жених!
Маша отставила бокал:
— Вот и он!
Она принялась тыкать в него пальцем, подмигивать и качаться. Потом подошла к Герману и воскликнула:
— Не стой в дверях. Это твой дом, твоя жена… Здесь все твое!
И набросилась на Германа с поцелуями.
Глава восьмая
I
Уже второй день шел снег. В доме Шифры-Пуи не работало отопление. Негр, живший в подвале и работавший кочегаром, лежал пьяный. Топка сломалась, чинить ее было некому, не было денег, чтобы нанять рабочих. Хозяин куда-то уехал или обанкротился.
Шифра-Пуа ходила по дому в рваном тулупе, который она привезла из Германии, и в сапогах, повязав на голову шерстяной платок. От холода и печали ее лицо пожелтело, а может быть, у нее были камни в желчном пузыре. Она надела на нос очки и не выпускала из рук молитвенник. Шифра-Пуа то ли молилась, то ли проклинала антисемитов и мошенников-предпринимателей, из-за которых квартиранты замерзают зимой. Ее губы приобрели синий оттенок, она произносила стих из Писания и затем восклицала:
— За что нам в Америке такие напасти? Здесь немногим лучше, чем в лагерях. Не хватает только немцев, чтобы бить нас и гнать на работу…
Маша, которая в тот день не пошла на работу, потому что готовилась к вечеринке у раввина, прикрикнула на мать:
— Мама, тебе должно быть стыдно! Было бы у тебя в Штуттгофе то, что есть здесь, ты бы с ума сошла от радости.
— Откуда взять силы? Там мы надеялись, и надежда нас поддерживала. А здесь на что надеяться? У меня руки и ноги замерзли. Может, развести огонь в жаровне? У меня кровь стынет.
— Откуда в Америке взять жаровню? Мы уедем отсюда. Вот придет весна.
— Я до весны не протяну…
— Старая ведьма, ты нас всех переживешь! — закричала Маша.
Вечеринка, на которую рабби Лемперт пригласил Машу вместе с Германом, доводила ее до безумия. Вначале Маша отказалась идти, полагая, что это затея Леона Торчинера, что это он уговорил раввина пригласить ее, чтобы опозорить. Он точно приготовил для нее какой-нибудь неприятный сюрприз. Машу переполняли подозрения. Все это — замысел Леона Торчинера: приезд раввина к ней домой, попытка напоить ее шампанским, предложение работы. Все эти трюки нужны для того, чтобы поссорить ее с Германом. Маша и раньше говорила, что раввин — тряпка, бесхарактерный человек, хвастун и лицемер.
Упрекая мать за злословие, Маша и сама кляла Леона Торчинера на чем свет стоит, называла его шарлатаном, жиголо и провокатором.
После ложной беременности и родовых схваток Маша стала очень пугливой. Ею все время овладевали разные страхи. Она не могла спать по ночам, даже когда принимала снотворное, а когда засыпала, ее будили кошмары. Покойники приходили к ней во сне, рвали ее на части, оставляли на теле синяки и кровоподтеки, укусы и шрамы от ногтей и зубов. Отец появлялся перед ней в саване и кричал ей в ухо стихи из Писания. Фантастические животные с витыми рогами, острыми клювами, обвешанные торбами, покрытые волдырями и нарывами, лаяли, рычали, кусали и брызгали слюной. Теперь месячные с обильными кровотечениями наступали у нее каждые две недели. Шифра-Пуа настаивала на том, чтобы она сходила к врачу, но Маша не верила врачам, утверждала, что они травят своих пациентов.
Неожиданно Маша решила все-таки сходить на вечеринку. Зачем бояться Леона Торчинера? Она получила от него развод по закону, с участием раввина. Никто не может заставить ее разговаривать с ним. Если Леон поздоровается с ней, она повернется к нему спиной. Если выкинет какой-нибудь фокус, Маша без всяких церемоний плюнет ему в лицо.
Герман в который раз наблюдал, как Маша меняет колею. Она начала увлеченно готовиться к вечеринке. Открывала шкафы, комоды, доставала платья, блузки, белье, всякие украшения и безделушки, которые она привезла из Германии. Она решила быстро укоротить платье. Маша шила, снова распарывала, курила одну сигарету за другой, вытаскивала огромные запасы чулок, нижних юбок, корсетов, кофточек. Она стала разговорчивой, рассказывала истории о том, как мужчины ухаживали за ней до войны, во время войны, после войны, в лагерях, в укрытиях, в офисах «Джойнта», куда приходили разные американские представители, журналисты и даже американские офицеры. Она призывала маму в свидетели, потом оставляла ненадолго работу и шла искать доказательства — старое письмо и фотографии из альбома.
Герман прекрасно понимал, что Маша стремится обратить на себя внимание на вечеринке и перещеголять своей элегантностью и стройной фигурой всех других приглашенных женщин. Герман заранее знал, что, несмотря на все метания и страхи, Маша решит идти на вечеринку. Он помнил также, что у нее все и всегда заканчивалось «драматично».
Неожиданно пар зашипел в батарее. Кто-то, по-видимому, все же починил отопление. В квартире стало жарко. Шифра-Пуа жаловалась, что пьяница-дворник наверняка пытается поджечь дом. Теперь придется бросить все пожитки и бежать на мороз. Запахло дымом и гарью. Маша делала все сразу: готовила ванну, завивала волосы, гладила одежду, пела песни на идише, польском, русском, иврите и немецком. Она удивительно быстро превратила старое платье в новое, подобрала к нему пару туфель на высоком каблуке и нашла огромную шаль, которую получила от кого-то в подарок в Германии.
К вечеру снег прекратился, на улице стоял трескучий мороз. Улочки Ист-Бродвея стали похожи на улицы Варшавы, Люблина, Рашкова…
Шифра-Пуа, которая все время ругала вечеринку на чем свет стоит, бормоча, что евреям запрещено устраивать балы после Катастрофы, стала давать Маше разные женские советы и поправлять ей прическу. Из-за множества дел Маша забыла поесть, и Шифра-Пуа приготовила для нее и Германа молочный рис. Жена раввина, миссис Лемперт, уже звонила Маше и объяснила ей, как добраться до угла Вест-Энд-авеню и Семьдесят какой-то улицы, где жил раввин. Шифра-Пуа потребовала, чтобы Маша надела свитер или теплое белье, потому что на улице лютый мороз, но Маша не хотела портить свой вид. Герман увидел, как она открывает кухонный шкаф и делает глоток из бутылки с коньяком, которую раввин принес ей во время своего первого визита.
Уже начинало темнеть, когда Герман и Маша вышли на улицу. Ледяной ветер подул Герману в спину и сорвал с головы шляпу. Герман поймал ее в воздухе. Машино нарядное платье развевалось на ветру, шуршало и надувалось, как шарик. Она ступила одним сапогом в сугроб, а когда попыталась его вытащить, то показалась нога в одном чулке. Волосы, которые она так долго причесывала и завивала, растрепались и побелели, как будто Маша состарилась в одно мгновенье. Она схватилась одной рукой за шляпку, а другой за колено и крикнула что-то Герману, но ветер унес ее слова.
Путь к линии «L», обычно занимавший несколько минут, превратился в целое путешествие. Они кое-как добрались до станции, но поезд только что ушел. Кассир, сидевший в будке, которую отапливал железный радиатор, сообщил, что следующего поезда придется подождать. Поезда задерживались из-за того, что рельсы занесло снегом. Маша дрожала и пританцовывала, чтобы согреть ноги. Ее лицо стало болезненно-бледным.
Прошло пятнадцать минут, а поезд все не приходил. Собралось много пассажиров — мужчины в резиновых сапогах с металлическими коробками для обеда, женщины в толстых куртках, с платками на головах. Они, наверное, работали в ночную смену. На лицах, на каждом по-своему, отражались тупость, жадность, обеспокоенность снежными заносами. Низкие лбы, гневные взгляды, широкие носы с раздутыми ноздрями, прямоугольные подбородки, мощные груди и бедра опровергали все теории и утопии. Котел эволюции находился в разгаре своего кипения. Один крик мог вызвать среди них панику. Немного пропаганды способно было подтолкнуть этих людей к погрому. Маша спросила:
— Что будет, если поезд не придет?
— Пойдем молиться в синагогу…
— Откуда такой сарказм? К своей крестьянке ты полетел бы на всех парусах…
Послышался свист, подошел поезд. Ветер на платформе завывал, свистел, гудел. Вагоны были наполовину пусты. Окна затянуло наледью. С неба падало что-то вроде града. В вагонах стоял холод, на полу было грязно, валялись испачканные газеты, виднелись следы блевотины. «Существует ли на свете что-либо отвратительнее этого вагона? — спрашивал себя Герман. — Здесь все тускло, никакой гармонии — грязный зеленый цвет стен, кирпично-красный пол, безумные цвета рекламы». Пьяный произносил речь, болтал о Гитлере и евреях. «Они напиваются, чтобы поносить евреев. Им не хватает ума ругать католиков или другие христианские религии, — говорил себе Герман. — Они, чего доброго, еще обожествят Гитлера».
Тем временем Маша пыталась поправить то, что помял ветер. Она вынула из сумочки зеркало и старалась разглядеть свое отражение в запотевшем стекле. Поплевала на кончики пальцев и принялась заново укладывать волосы, которые ветер раздует опять, как только они выйдут на углу Бродвея и Семьдесят какой-то улицы.
Пока поезд не заехал в туннель, Герман смотрел на улицу через незамерзшую часть окна. Газеты разлетались на ветру, торговец, очистив тротуар перед своей лавкой, сыпал на него смесь соли с песком. В снегу буксовала машина, ее колеса беспомощно крутились на месте. Герман вспомнил о своем решении стать евреем, снова ходить в синагогу, читать Талмуд, следовать еврейской традиции. Да, сколько раз он уже пытался плюнуть на мирскую, нееврейскую жизнь! Но каждый раз она заново одурачивала его. Как можно быть евреем без веры? Теперь он едет на вечеринку. Половину народа уничтожили и замучили, а другая половина устраивает вечеринки… Его охватила жалость к Маше. Она выглядела тощей, бледной, больной, а Герман, вместо того чтобы быть ей верным мужем, утешением и поддержкой после нацистских издевательств, впутал ее в странную историю. Он даже не может обеспечить ее деньгами.
Был уже поздний вечер, когда Герман и Маша вышли из поезда на углу Семьдесят Девятой улицы и Бродвея. С замерзшего Гудзона донесся резкий порыв ветра. Он попытался подхватить Машино платье, и она, как пьяная, повисла на Германе. Герман и сам был вынужден сопротивляться всем телом, чтобы не подняться в воздух… Глаза залепило снегом. Маша, кашляя, что-то прокричала, но Герман, словно глухой, не слышал ее. Шляпа рвалась прочь с невероятной силой, кто-то яростно тянул за полы пальто. Брюки резко бились о ноги. Герман почувствовал, что к нему возвращается боязнь зимы, как во время войны с нацистами, и гложущий страх перед разрушительными силами.
В этой вакханалии Герман чудесным образом разглядел номер дома раввина. Герман и Маша, едва дыша, вошли в вестибюль. Что за контраст! Здесь тепло и чисто. Картины в золоченых рамах висят на стенах. Ковры расстелены по паркету. Электрические лампы освещают вестибюль, словно сцену. Диваны и кресла предлагают отдых гостям…
Маша не сразу зашла в лифт. Она подошла к зеркалу, чтобы хоть отчасти возместить тот урон, который ураган причинил ее одежде и внешности.
— Если я это переживу, — сказала Маша, — я уже никогда не умру.
II
Маша поправила последний локон и направилась к лифту. Герман еще раз попытался разгладить галстук, торчащий из-под измятого воротника. В огромном зеркале он разглядел все недостатки своей фигуры и одежды. Плечи ссутулились. Он выглядел бледным и измученным. Шляпа потеряла форму. По-видимому, он похудел, потому что и пальто, и костюм висели на нем как на вешалке. «Да, теперь уже ничего не исправишь», — сказал он себе.
Лифтер не сразу решился пустить такую пару в лифт. Когда лифт остановился, он с подозрением дождался, пока чужаков впустят в названную ими квартиру.
Герман позвонил, но никто не открыл. Из-за дверей доносился шум и гул голосов, перекрываемый громовым голосом раввина.
Через некоторое время дверь открыла негритянка в белом фартуке и с белым чепцом на голове. За ней подошла жена рабби, Герман узнал ее по фотографии, которую ему показывал раввин. Она была высокой, со светлыми вьющимися волосами, голубыми глазами, курносым носом, этакая женщина-героиня, ростом выше своего мужа. На ней было длинное платье золотого цвета, она была обвешана украшениями. Все в этой женщине выглядело костлявым, острым, длинным, нееврейским. Раввинша, должно быть, была ирландкой… Она посмотрела сверху вниз на Германа, на Машу, и ее глаза засияли.
Тут же появился раввин, он закричал:
— Они все же пришли!
И протянул две руки: одну — Герману, другую — Маше. С Машей он даже расцеловался и принялся кричать:
— Она действительно красавица! Он заарканил самую красивую женщину в Америке. Beatrice, look at her![137]
— Давайте мне ваши пальто… Холодно, не правда ли? Я уже волновалась, что вы не приедете. Мой муж мне столько о вас рассказывал. It is wonderful, I am really happy that…[138]
Раввин обнял Машу и Германа и повел их в гостиную. Он расталкивал локтями тех, кто двигался ему навстречу и преграждал путь.
У Германа тут же потемнело в глазах. Сквозь туман он видел гладковыбритых мужчин с маленькими ермолками на густых шевелюрах, мужчин без ермолок, с эспаньолками и с окладистыми бородами. Он видел женщин в платьях и с волосами разных цветов. Здесь говорили по-английски, на иврите, на идише, даже по-французски, пахло духами, ликерами, рубленой печенкой и еще чем-то родным, но давно забытым.
Подошел негр и спросил новоприбывших гостей, что они будут пить. После некоторых колебаний раввин повел Машу к бару, забыв про Германа. Он положил руку Маше на талию, словно вел ее в танце. Герман толкался среди гостей, он хотел где-нибудь присесть, но не мог найти стул. Официантка принесла ему поднос с рыбой, деликатесами, яйцами и рогаликами. Герман попытался взять половинку яйца, но оно соскользнуло с зубочистки. Разговаривали так громко, что у Германа заложило уши. Мужчины хохотали во весь голос, женщины повизгивали и покатывались со смеху.
Герман никогда не был на американской вечеринке. Он рассчитывал, что гостей посадят за стол, когда подадут ужин, но не было ни мест для сидения, ни самой трапезы. Кто-то обратился к Герману по-английски, но в общем гомоне он не мог разобрать ни слова. Ему стало жарко, было нечем дышать. Куда подевалась Маша? Герман искал ее, но Машу словно поглотила общая суета. Герман остановился у картины и от нечего делать принялся ее рассматривать.
Он дошел до комнаты, в которой стояли стулья и шезлонги, она была набита книгами от пола до потолка. Там сидели мужчины и женщины с бокалами в руках. В стороне стоял свободный стул, Герман присел. Он взял книгу и стал ее пролистывать. Мужчины и женщины говорили о профессоре, получившем пять тысяч долларов на создание какой-то книги, и смеялись над ним и его писаниной. Звучали имена ученых, названия университетов, фондов, разных изданий по иудаике, социологии, истории и психологии.
«Что это за дамы? Откуда они так сведущи в разных науках? — удивлялся Герман. Он стыдился перед ними своего поношенного костюма, боялся, как бы кто-нибудь не заговорил с ним по-английски. — Я не принадлежу к этому миру, мне надо было остаться учеником ешивы», — твердил Герман в отчаянии, отодвигая стул подальше от группы гостей.
Как ни странно, Герман достал с полки «Диалоги» Платона. Он открыл посредине «Федон» и прочитал следующие слова: «Иным, наверное, и вовсе не приходит в голову, что те, кто по-настоящему занимаются философией, на самом деле размышляют только о том, что такое смерть и каково быть мертвым». Герман читал Платона в университете, но уже ничего не помнил. Он принялся листать книгу назад и прочитал в «Апологии Сократа»: «Потому что я считаю, что это противоестественно, когда лучший человек страдает от худшего». Это действительно так? Неужели то, что нацисты уничтожили миллионы евреев, противоречит природе?
Негр подошел к двери и сказал что-то, чего Герман не расслышал или не понял. Гости встали и вышли.
Герман остался один. Он представил, что нацисты оккупировали Нью-Йорк и кто-то — наверное, все-таки раввин — замуровал его в этой библиотеке. Его снабжают едой через дырку в стене. Так он и прячется здесь, пока его душа возвращается к чистому познанию — темноте, которая не нуждается в свете, тишине, у которой нет желания говорить, знанию без знатока, покою без миротворца, бытию без страха, цели, ответственности… Да, но где Маша?
Кто-то распахнул дверь, и Герман увидел знакомого — маленького человека, одетого в смокинг. Его желтые смеющиеся глаза засветились при виде знакомого лица. Он сказал на идише:
— Кого я вижу! Ну, как говорится, мир тесен.
Герман встал.
— Вы меня не узнаете?
— Я здесь несколько потерялся…
— Пешелес! Носн Пешелес! Я был у вас в гостях пару недель назад…
— Да, точно!
И Герман протянул ему руку. Тот пожал Германову руку с силой, не соответствующей его маленькой фигуре. Должно быть, он хотел продемонстрировать свою мощь.
— Что вы тут сидите один? Вы пришли сюда читать книги? Я не знал, что вы знакомы с рабби Лемпертом. Хотя кто с ним незнаком? Почему вы не идете ужинать? В другой комнате подают ужин. Фуршет, каждый берет, что хочет.
— Да, я понимаю.
— Где ваша жена?
— Она где-то здесь. Я потерял ее.
И только Герман произнес эти слова, как он понял, что Пешелес говорит не о Маше, а о Ядвиге. Беда, которой Герман так боялся, настигла его. Пешелес взял Германа под руку:
— Пойдемте, найдем ее вместе. Моя жена не смогла приехать. Она заболела гриппом или еще Бог знает чем. Есть такие жены, которые заболевают, когда надо куда-то идти.
Пешелес повел Германа в большой зал. Гости стояли, держа тарелки в руках, ели и разговаривали. Другие присаживались на подоконники или опирались на что придется. Пешелес потащил Германа в столовую, где гости толпились вокруг длинного стола с едой, но в это мгновенье Герман увидел Машу, и не одну, а с мужчиной, тоже маленького роста, который держал ее под руку. Он был тоже одет в смокинг. Их встреча показалась Герману комичной. Маша рассмеялась, хлопнула в ладоши и вырвалась из рук мужчины. Герман освободился от Пешелеса. Маша раскраснелась, ее глаза нетрезво блестели. Она воскликнула:
— А вот и мой потерянный муж!
Она обхватила Германа за шею и принялась его целовать, словно он только что вернулся из дальних странствий. От нее пахло алкоголем. Оба маленьких человека издали нечто среднее между возгласом и криком.
— Это мой муж. Это Яша Котик, — сказала Маша и показала на человека в смокинге европейского покроя с блестящими лацканами и широкими полосами на брюках. Его черные волосы были зачесаны на пробор и напомажены. У него была моложавая фигура, но старое лицо: морщинистый лоб, подбородок в ямочках и складках, сгорбленный нос, рот, в котором при улыбке виднелись зубные коронки, и глаза навыкате. Под глазами были мешки. В его взгляде, улыбке, движениях было нечто насмешливое и хитрое. Когда Маша освободилась от него, он остался стоять с приподнятой рукой, словно готовый к тому, что Маша скоро снова за него схватится. Он выпятил губы, при этом на его лице появилось еще больше морщин.
— Вот как, твой муж, — сказал он с полувопросительной интонацией, по-актерски прищурив один глаз.
— Герман, это Яша Котик… Актер, о котором я тебе рассказывала… Мы были вместе в лагере… Я не знала, что он в Нью-Йорке.
— Кто-то даже рассказывал мне, что она уехала в Палестину, — обратился Яша Котик к Герману, стоя вполоборота и подмигивая. — Я полагал, что она где-нибудь у Стены Плача или у могилы праматери Рахили. Смотрю, а она стоит и пьет виски у рабби Лемперта в гостиной… Вот так Америка, черт бы побрал этого Колумба!
Он сложил большой и указательный пальцы в форме револьвера и изобразил выстрел. Все в нем двигалось с акробатической гибкостью. Лицо приобретало несколько выражений одновременно. Один глаз он поднимал со смешным удивлением, другой опускал, будто плача. Его ноздри раздувались. Герман много слышал о нем от Маши. Он шутил, роя собственную могилу, рассмешил нацистов и благодаря этому спасся. Позже он проделал то же самое с большевиками. Он преодолел бесчисленные опасности благодаря своей клоунаде, черному юмору и паясничеству. Маша хвасталась Герману, что Яша был влюблен в нее, но она его оттолкнула. Теперь он стоял и твердил Герману:
— Стало быть, вы муж, а она ваша жена, да? Где вы ее заполучили? Я ищу ее по всей Америке, полмира обошел, а вы так запросто женились на ней как ни в чем не бывало. Кто вам дал на это право, а? Это, уж простите меня, чистый империализм…
— Так и остался шутом, — сказала Маша. — Я слышала, что ты живешь в Аргентине.
— И в Аргентине тоже. Где я только не жил! Да будут благословенны самолеты: садишься, выпиваешь стаканчик и, пока суд да дело, ты уже в Южной Америке. Здесь в Пятидесятницу бегают купаться на Кони-Айленд, а там в это время дрожат от холода в неотапливаемых квартирах. Кому понравится молочная трапеза[139], когда на улице мороз? В Хануку плавишься от жары и ездишь в поисках прохлады на Мар-дель-Плата[140], но как зайдешь в казино и проиграешь пару песо, снова становится жарко. Что ты такого в нем нашла, что даже свадебку с ним сыграла? — обратился Яша Котик к Маше, пожимая одним плечом. — Что, так сказать, предположим, к примеру, есть у него такое, чего нет у меня? Очень хотелось бы знать!
— Остался паяцем, — сказала Маша. — Он серьезный человек, а ты шут гороховый.
— Вы хоть знаете, кого вы отхватили? — Яша Котик показал на Машу. — Это не женщина, а огонь. Из ада или из рая, этого я не могу точно сказать. Ее речи поддерживали в нас жизнь. Она смогла бы уговорить самого Сталина, если бы он почтил нас своим визитом в лагере. Куда пропал Мойше Файфер? — Яша Котик сменил тон. — Я думал, что ты осталась с ним.
— С ним? Что ты болтаешь? Ты пьян или хочешь поссорить меня с моим мужем? Я ничего о нем не знаю, как и он обо мне. Ты говоришь так, что можно подумать, будто мы были с ним близки. У него была жена, и все об этом знали. Если они оба живы, они наверняка вместе.
— Ну-ну, я ничего не сказал. Твой муж, должно быть, ревнивец. Не будьте ревнивым, пан… как вас зовут, а? Бродер! Пусть будет Бродер. В годы войны в нас было мало человеческого. Немцы делали из нас мыло, кошерное мыло. Для большевиков мы были навозом для революции. Что можно требовать от навоза? Если бы я издавал календарь, я бы эти годы просто выкинул…
— Он пьян как Лот! — заключила Маша.
III
Во время беседы Пешелес стоял в шаге от Германа. Он поднял брови от удивления и с таким выражением лица терпеливо ждал, как картежник, знающий, что хорошие карты от него никуда не денутся. На его лице застыла насмешка. В суматохе Герман ненадолго забыл о Пешелесе. Теперь он обратил на него внимание:
— Маша, это мистер Пешелес.
— Пешелес? Кажется, я где-то встречала Пешелеса. В России или в Польше, уже сама не помню где, — сказала Маша.
— У нас маленькая семья. Наверное, была бабушка Песя, или Пешеле. Я встретился с мистером Бродером на Кони-Айленде, в Бруклине… и не знал что… и все такое прочее…
Последние слова Пешелес почти выкрикнул. Маша вопросительно посмотрела на Германа. Наступила неловкая тишина. Яша Котик с умным и насмешливым видом почесал пробор ногтем мизинца:
— Кони-Айленд, да? Я там тоже был. Попробовал играть — как это называется — на Брайтоне. Театр был полон старых евреек. Откуда столько старух в Америке? Они уже оглохли и забыли идиш, просто утратили свой язык. Поди пошути, когда никто не слышит и не понимает. Менеджер, или как он там называется, пристает с разговорами об успехе. Какой может быть успех в доме престарелых? Вот не сойти мне с этого места, я уже сорок лет играю в еврейском театре, я начал ровно в одиннадцать лет. Когда мне не разрешили играть в Варшаве, я устроился в театр в Лодзи, в Вильне, в Эйшишках[141]. В гетто я тоже играл, но даже голодная публика лучше, чем публика, состоящая из покойников. Здесь, в Нью-Йорке, актеры попытались устроить мне проверку, попросили сыграть Куни-Лемела[142], а сами тем временем играли в карты. Я провалился, дикция-шмикция! Коротко и ясно. Нашелся еврей, владелец румынского ресторана в подвале, он его называет «ночной клуб», «кабаре». Там собираются бывшие извозчики и приводят с собой ирландских девок. Каждому не меньше семидесяти. У них старые жены и внуки-профессора. Он хочет услышать «Письмецо от матери»[143], а ей нравится «Когда ирландское лицо улыбается». Нарядили шлюх в соболя, а Яша Котик должен их развлекать. Мое искусство в том, что я плохо говорю по-английски и вставляю в речь слова на идише. Вот моя награда за то, что я не хотел в газовую камеру и не умер у товарища Сталина в Казахстане. Я благополучно заработал артрит в Америке, еще и аритмию в придачу. Чем вы занимаетесь, мистер Пешелес? Вы предприниматель?
— Какая разница? Я вашего не беру.
— Нет, берете.
— Мистер Пешелес торгует недвижимостью, — сказал Герман.
— Может, у вас найдется для меня дом? — спросил Яша Котик. — Я дам вам письменную гарантию, что ни кирпичика не съем.
— Что мы стоим? — отозвалась Маша. — Подходите, возьмем что-нибудь поесть. В самом деле, Яшенька, ты вовсе не изменился. Остался флюгером.
— А ты стала красивой. Невероятно красивой.
— Как долго вы женаты? — спросил Пешелес, указав на Германа.
Маша повела бровями:
— Достаточно, чтобы начать думать о разводе.
— Где вы живете? Тоже в Кони-Айленде?
— В каком Кони-Айленде? Что они заладили: Кони-Айленд? — насторожилась Маша.
«Ну, вот и катастрофа!» — сказал себе Герман. Ему пришло в голову, что страх перед этим неизбежным, роковым событием хуже самого события. Вот он стоит здесь и не падает в обморок. У него только горят уши и в горле пересохло. На сердце кошки скребут. Яша Котик прищурил один глаз, и на его лице появились морщины. Пешелес подошел поближе:
— Я в своем уме, миссис, как мне вас называть? Я был у него в гостях на Кони-Айленде. Как называется переулок? Между Мермейд- и Нептун-авеню… Я думал, что эта принявшая иудаизм женщина — ваша жена. А теперь оказывается, что у вас и здесь есть очень симпатичная супруга. Действительно, эти новенькие умеют неплохо устраиваться. У нас, у американцев, если ты женишься на другой, то ты, как говорится, попался. Платишь алименты, и все прочее. За это даже в тюрьму могут посадить. А что с той другой симпатичной женщиной? Как ее звать? Да, Тамара. Тамара Бродер. Я даже записал ее имя в записной книжке.
— Кто это Тамара? Твою жену звали Тамара. — Непонятно было, Маша спрашивала или утверждала.
— Моя погибшая жена в Америке, — ответил Герман. Он говорил, чувствуя судороги в животе. Колени дрожали. На спине выступил пот. Под ложечкой засосало…
«Я упаду в обморок? — спрашивал он себя. — Все что угодно, только не обморок!» — решил он и одновременно попросил об этом высшие силы.
Он стал оглядываться в поисках стула. «Уж если суждено быть убитым, — возникла у него мысль, — так лучше пусть раздавят, как клопа…»
— Твоя жена восстала из мертвых?
— Кажется, так.
— Это она приехала к дяде на Ист-Бродвей?
— Она.
— Ты же сказал, что она старая и уродливая.
— Это говорят все мужчины всем женщинам, — вмешался Яша Котик.
Он высунул кончик языка, принялся искусно вращать открытым глазом и подмигивать другим, прищуренным. Мистер Пешелес схватился за подбородок:
— Я уже сам не знаю, кто сошел с ума, я или все остальные. Я приехал к миссис Шраер на Кони-Айленд, и она говорит мне, что женщина, что живет этажом выше, приняла иудаизм, и вы ее муж, что вы пишете книги, вы писатель, раввин и все такое прочее. У меня слабость к «маленьким буквам», будь то идиш, иврит или турецкий. Она вас хвалила без умолку, и так и эдак. У меня есть библиотека, я собираю интересные вещи. Я рассчитывал у вас что-нибудь приобрести. А кто же такая Тамара?
— Не знаю, мистер Пешелес, что вам нужно и зачем вы вмешиваетесь в чужую жизнь, — сказал Герман со злостью. — Если я не соблюдаю американские законы, вызовите полицию…
Пока Герман говорил, звездочки поплыли у него перед глазами. Нет, не звездочки, а яркие золотые круги, темные в середине. Они двигались медленно. Герман помнил это ощущение еще с детских лет. Они, должно быть, все время прятались в его глазах. Они плыли, словно удерживаемые невидимыми нитями, от которых невозможно избавиться. Искра вспыхнула и уплыла в сторону, но тут же вернулась. «Можно лишиться чувств стоя», — думал Герман.
Мистер Пешелес отпрянул:
— Какую полицию? О чем вы говорите? Я же не, как говорится, засланный казачок. По мне, так заводите хоть целый гарем. Только мне дорогу не переходите, и все такое прочее. Я подумал, что могу вам чем-то помочь или не знаю что. Я знаю только, что вы беженец и что польская крестьянка хочет перейти в иудаизм в Америке, а это нелегко. Мне сказали, что вы ездите по Америке и продаете энциклопедии. Так совпало, что я поехал назавтра навестить в госпитале жену. У нее была операция по женской части. Я захожу и вижу вашу Тамару. Она лежала в той же палате. Ей вынули пулю из бедра, и так далее. Кажется, большой город Нью-Йорк, огромное государство, но здесь не спрячешься. Она сказала мне, что она ваша жена… может, она говорила в бреду…
Герман открыл рот для ответа, но подошел раввин. Он сделал огромный шаг, протянул руки и обнял за плечи и мистера Пешелеса, и Германа. Его лицо пылало от алкоголя. Он закричал:
— Я вас ищу, а вы все тут стоите! Вы знакомы, да? Мой друг Нэйтен Пешелес знает всех, и все знают его. Маша, ты самая красивая женщина на этой вечеринке! — Раввин сменил тон: — Никогда не знал, что в Европе остались такие красавицы. Тем более в наше время. И Яша Котик тоже здесь. Вы знакомы, да?
— Я познакомился с Машей раньше вас.
— О’кей, мой друг Герман скрывал ее от меня.
— Он скрывает не только ее, — процедил Пешелес.
— Вы так думаете? Раз так, должно быть, вы его хорошо знаете. Передо мной он прикидывался бедной овечкой. Я было подумал, что он евнух или я не знаю кто.
— Хотел бы я быть таким евнухом…
— Да? От мистера Пешелеса не скроешься, — рассмеялся раввин. — У него везде свои шпионы. Что вы о нем знаете? Мне тоже любопытно.
— Я не раскрываю таких тайн…
— Пойдемте поедим. Проходите в столовую. Встанем в очередь вместе со всеми.
— Извините, рабби, я сейчас вернусь, — сказал Герман.
— Что ты убегаешь? Донжуан и ешиботник…
— Я скоро вернусь…
— Одну секунду, — сказала Маша. — Я хочу его кое о чем спросить. Подожди, Яша! Простите, рабби…
Герман пошел, и Маша направила за ним. Им преградили путь, пришлось проталкиваться сквозь толпу.
— Не беги за мной! — попросил Герман. — Я скоро вернусь.
— Кто этот Пешелес? Кто такая Тамара?
Маша схватила Германа за рукав.
— Прошу тебя, оставь меня!
— Сейчас же ответь!
— Меня тошнит…
Герман вырвался от Маши и пошел искать уборную. Он наткнулся на кого-то, его толкнули в ответ. Какая-то женщина накричала на него, потому что он наступил ей на мозоль. Герман вышел в коридор и, как в тумане, увидел несколько дверей, но не мог понять, где именно находится уборная. Голова кружилась. Ноги подкашивались. Пол шатался под ним, как на корабле.
«Да, это конец!» — сказал себе Герман.
Дверь открылась, кто-то вышел из уборной. Герман вбежал внутрь, наткнулся на кого-то, пытаясь его обойти. Тот обругал Германа. В этой спешке ему все-таки удалось закрыть дверь на защелку.
Герман подбежал к унитазу, его вырвало. Пламенные круги поблекли. В ушах звенело, стучало в висках. Желудок сокращался, выплевывая кислоту, горечь и вонь, о существовании которых Герман и не подозревал. Каждый раз, когда ему казалось, что все уже позади, и он начинал вытирать рот туалетной бумагой, его снова начинало тошнить. Его рвало, он стонал и сгибался все ниже и ниже. Его вытошнило в последний раз, и он застыл, обессиленный и изможденный, чувствуя упадок сил и полное опустошение.
Кто-то стучал в дверь и пытался сорвать ее с петель. Герман снова принялся вытираться. Он запачкал кафельный пол и стену. Все это надо было убрать. Герман взглянул на себя в зеркало, оттуда на него смотрело мертвенно-бледное лицо. Он взял маленькое полотенце с крючка и вытер лацканы пиджака. Попробовал открыть окно, чтобы проветрить, но не хватило сил поднять раму. Герман сделал усилие, и замерзшее окно поддалось. На раме висели сосульки и снег. Он глубоко втянул свежий воздух и на мгновенье задержал его в легких. Он ясно ощутил, как холод возвращает его к жизни.
Кто-то снова принялся рваться в дверь с другой стороны и крутить ручку. Герман открыл и увидел Машу.
— Что ты ломаешь дверь?
— Что случилось? Позвать врача?
— Не надо врача. Поехали отсюда.
— Ты весь грязный.
Маша достала из сумочки платок. Вытерев Германа, она сказала:
— Сколько у тебя женщин? Три?
— Десять.
— Чтобы тебя так Бог опозорил, как ты опозорил меня…
IV
— Я еду домой, — сказал Герман.
— Поезжай, к твоей крестьянке, не ко мне, — ответила Маша. — Между нами все кончено.
— Кончено так кончено.
— Ублюдок, негодяй, шарлатан!
Маша вернулась в зал. Герман стал искать пальто, шляпу, калоши, но спросить было не у кого. Жена раввина, забравшая у Германа пальто и шляпу, куда-то исчезла. Рвота ослабила и опустошила его. Герман не ел с двух часов дня, угощение он едва попробовал.
Он бродил среди гостей в коридоре, остановил кого-то и спросил, куда повесили одежду, но тот пожал плечами.
Герман снова зашел в комнату — в библиотеку, где сидел прежде. Он увидел кресло и опустился в него. Кто-то оставил на столе полстакана коктейля и остатки сэндвича. Война лишила Германа брезгливости, он съел хлеб с резко пахнувшим сыром и запил коктейлем. У него тут же закружилась голова. Стул завертелся, как карусель.
«Что со мной? Я умираю?» — спросил себя Герман.
Перед глазами проносились точки, полосы, цветные пятна, которые обычно появляются, если надавить пальцами на веки. Да, это конец… Все скакало, мчалось, меняло форму. Это происходило то ли снаружи, то ли внутри, в мозгу у Германа. Он как будто ощущал движение молекул. Он сделал глоток, еще один, с надеждой превозмочь голод и жажду и оправиться от полуобморочного состояния.
Люди просовывали головы в дверь, но Герман их не замечал. Лица расплывались, мутнели, кто-то пытался заговорить с Германом, но его уши были словно наполнены водой. Его качало, как на море во время шторма. Он был в сознании, но работала только одна половина мозга. Другая половина сжалась и рассыпалась, как песок. Как ни странно, в этом хаосе был какой-то порядок, который невозможно передать словами. Несмотря на все это, Герман узнал Машу. Она, должно быть, искала его. Маша подошла к нему с бокалом в руке и спросила:
— Ты еще здесь? Не уехал?
Герману казалось, что ее слова доносятся издалека. Он удивлялся изменениям, которые произошли с его слухом, и собственным равнодушием к самому себе, своему здоровью и состоянию. Пусть ненадолго, но он был лишен телесных страданий. Герман погрузился в нирвану, которой так жаждал, с тех пор как начал размышлять, копаться в философии и религии. Собрав все силы, он ответил:
— Да, я еще здесь.
Маша пододвинула стул. Ее колени почти касались его коленей.
— Кто такая Тамара?
— Моя жена жива. Она в Америке.
— Мы расстаемся, но я заслужила того, чтобы хоть раз ты говорил со мной серьезно.
— Это правда.
— Пустые слова… Кто такой Пешелес?
— Сам не знаю.
— Я буду работать у раввина. — Маша сменила тон: — Он хочет сделать меня директором санатория. Будет платить семьдесят пять долларов в неделю.
— Что будешь делать с мамой?
— Для нее тоже найдется место.
Герман понимал значение слов, но все это казалось чужим, его это больше не волновало. Он прикрыл глаза, словно прислушиваясь к процессу освобождения собственного тела, как это называют хасиды. «Хорошо бы так было всегда!» — думал он. Маша помедлила немного.
— Тебе-то что? Ты этого хотел, все спланировал, порывался избавиться от меня и наконец добился своего. Я буду жить среди стариков и больных, это будет мой монастырь. Раз уж не существует монастырей для евреек, санаторий будет мне монастырем, до тех пор пока мама не умрет. После ее смерти я положу конец всей этой комедии. Тебе принести что-нибудь поесть? Все же мы были когда-то друзьями. Не твоя вина, что ты родился обманщиком…
Маша встала и вышла. Герман откинул голову на спинку стула, у него было одно желание — лечь, не важно, в кровать или в могилу… Он боялся лишь одного: как бы не испортить раввину праздник, не стать обузой для гостей. Сквозь дремоту он различал разговоры, смех, шаги, звон тарелок и бокалов.
Постепенно его мозг стал успокаиваться. Дом перестал качаться. Стул снова устойчиво стоял на полу. Логические связи в мозгу, которые начали было рваться, теперь восстанавливались. Остались только слабость в коленях и горький вкус во рту, вызванный рвотой. Герман даже почувствовал голод. Маша пошла принести ему еды, но не вернулась.
Герман вспомнил о мистере Пешелесе, о Яше Котике, и ему стало ясно, что если он выживет, то больше не сможет работать на раввина. Ему и так было невыносимо марать бумагу лживыми проповедями, двусмысленными высказываниями о спасении, победе Израиля, Божьей милости, еврейском предназначении… Да, это ночь уничтожения… Во всем этом хаосе просматривался план высших сил, руководящих делами человека. Раввин попытался между делом увести у него Машу. Он никогда не предложил бы семьдесят пять долларов в неделю женщине без специальности, да еще недавно приехавшей в Америку. Без сомнения, он не принял бы в санаторий ее мать, потому что это тоже стоит семьдесят пять долларов в неделю, если не больше.
Герману вдруг вспомнился рассказ Яши Котика о Мойшеле Файфере, с которым, как он думал, Маша и теперь была вместе. Как ни странно, но у Германа было предчувствие, что эта вечеринка раз и навсегда разрушит карточный домик, который он так неуклюже построил.
Герман ждал долго, но Маша не вернулась. «Кто знает, может, она пошла заявить в полицию», — фантазировал он. Герман представил, как приезжает полиция, его арестовывают, отправляют на Элис-Айленд[144] и оттуда депортируют на корабле в Польшу, к большевикам, в страну Майданека, Треблинки, Освенцима.
Дверь открылась, на пороге стоял мистер Пешелес. Он посмотрел на Германа искоса, с удивлением и иронией, и сказал:
— Вы сидите здесь? Вас уже обыскались.
— Кто?
— Раввин, раввинша и так далее. Маша — красивая женщина, пикантная. Где вы их находите? Вы выглядите, уж простите меня, как болван.
Герман не ответил.
— Как вы все это проделываете? Я бы тоже хотел знать.
Герман сделал над собой усилие и заговорил:
— Мистер Пешелес, не завидуйте мне.
— Почему нет? Женщина в Бруклине приняла ради вас иудаизм. Здесь у вас красавица-жена. Тамара тоже, как говорится, хоть куда. Я ничего плохого не имел в виду, но я рассказал рабби Лемперту о польке, перешедшей в иудаизм ради вас, и он совершенно, как говорят, смешался. Он все-таки раввин и должен играть роль праведного еврея. Он сказал мне, что вы пишете для него книгу и все такое прочее. А кто этот актер? Я с ним не знаком.
— И я с ним не знаком.
— Кажется, он приятель вашей жены… Мир странен, да? Чем дольше живу, тем больше в этом убеждаюсь. И все же будьте поосторожней, в Америке к этим делам подходят серьезно. Годами вас не трогают, а потом вдруг начинают расследование, и конец. Был тут один мафиозо, у него собирался весь цвет общества — губернаторы, сенаторы и я не знаю кто. Он был с ними запанибрата. Здесь политика неотделима от мафии. Вдруг он начинает доставлять неприятности, его сажают в тюрьму и собираются выслать в Италию. Он из местной мафии, но кто знает, из какой группировки. Я вас не сравниваю, Боже упаси, но у Дяди Сэма закон — это закон. Мой вам совет: по крайней мере, не оставайтесь в этом городе. Ту, что приняла иудаизм, вы можете легко перевезти в Филадельфию или в Балтимор. Раз уж вы, по вашим словам, коммивояжер, вы можете с тем же успехом ездить продавать книги в Нью-Йорк. И разберитесь с Тамарой. Она настрадалась, потеряла семью. Зачем водить ее за нос? Я пытался ее просватать, тут все и открылось. Она рассказала мне, что она ваша жена. Это, конечно, секрет, я никому не расскажу…
— Я не знал, что она жива.
— Она публиковала объявления в газетах через «Джойнт» или через «Хиас»[145]. Так она сказала. Вы, конечно, газет не читаете, да? Я догадался. Мне достаточно взглянуть на человека, чтобы понять, с кем я имею дело. Для моего ремесла это важно. Я смотрю на клиента и знаю, собирается ли он покупать или просто ваньку валяет, будет вносить плату или придется с ним расставаться. Как я это понимаю? Когда госпожа Шраер рассказала мне о вас, я подумал: пойдем-ка посмотрим на его товар. Я прихожу и вижу такую сцену: Тамара на кухне, другая — как ее зовут? — принявшая иудаизм — в гостиной, третья звонит по телефону. Чистый спектакль! Как бы вы это назвали? Случайностью? Такие случайности происходят со мной каждый день. Я, конечно, словно с неба сваливаюсь, но, как говорится, заезжий гость видит за версту. Я и с мистером Торчинером познакомился, он говорит, что он бывший муж вашей жены. Все сворачивается в один клубок. Почему она ушла от него? Он вполне симпатичный мужчина.
— Где вы с ним познакомились?
— Он здесь, на вечеринке. Раввин меня представил ему. Потом он подвел меня к вашей жене. В Европе если уж разводились, так разводились, а здесь разводятся и остаются приятелями. Однажды меня пригласили на вечеринку, я прихожу и встречаю там прелестную женщину. Коротко и ясно. Она оказалась бывшей женой хозяина. Нынешняя жена была там же, обе целуются в губы. Потом пришел друг бывшей жены, болван. Можете себе такое представить в Радоме или в Люблине? Его бы побили камнями. И потом никто никого не ревнует, сегодня ты, а завтра я. Моя мама, да покоится она в мире, говорила по этому поводу: «Такой вот компот!» Да, но вы, как я слышал, ученый человек, и все такое прочее. Когда и как вы так освоились? Я живу в Америке уже больше тридцати лет, но по сравнению с вами остаюсь местечковым евреем…
— Вы не знаете, где мне найти мое пальто? — спросил Герман. — Кто-то забрал его. Я хочу пойти домой, но не могу найти пальто.
— Даже так? Женщин вы находите без труда, а пальто найти не можете? Вы, надо полагать, тоже неплохой актер. Ничего, не украдут ваше пальто. Пальто, должно быть, сложили в спальне. В Нью-Йорке ни у кого нет места в коридоре, чтобы вешать одежду гостей. Но что за спешка? Вы же не уйдете без жены? Я слышал, она только что получила хорошую работу у нашего раввина. Вы курите?
— Иногда.
— Закурите. Это успокаивает нервы.
Мистер Пешелес вынул золотой портсигар и зажигалку, которая тоже выглядела как золотая. Сигареты, должно быть, были импортными, они выглядели короче американских, с позолоченными фильтрами. Он сказал:
— Кстати, зачем волноваться о будущем? Никто не знает, кому принадлежит будущее. Если не сегодня, то, значит, никогда. Что осталось от имущества европейских евреев? Горстка пепла…
Мистер Пешелес закурил и выпустил дым изо рта и из ноздрей. В одно мгновенье его лицо стало старым, печальным и изможденным. Под глазами появились мешки. Казалось, он размышлял о несчастье, которое знакомо только людям, его пережившим, и которому нет и не может быть утешения.
— Посмотрю, что там делается…
И мистер Пешелес показал пальцем на дверь.
V
Пешелес ушел. Герман сидел согнувшись и прислушивался к собственному телу. Физические силы возвращались к Герману, а вместе с ними возвращалась боль, не физическая боль, а духовное истощение, чувство стыда и отвращение к самому себе. Его снова стало мутить. Поскольку желудок был пуст, ему захотелось выплюнуть собственное нутро. Вспомнилось выражение: «Желчь в голову ударила». И правда, он был полон горечи, физической и духовной. Ему хотелось плюнуть себе в физиономию.
Герман вспомнил, что еще недавно он принял праведное решение вернуться к Богу, но, как это бывало со всеми остальными решениями, он следовал ему всего день-другой. Он разыграл комедию для себя и для Ядвиги, и все осталось, как прежде: вранье, притворство, мнимые путешествия, ложные клятвы. Чтобы вести такую безумную жизнь, он должен был постоянно прибегать ко лжи. И вот нарыв прорвался. Германа могут в любую минуту выслать из страны. Маша уходит от него. Тамара исповедалась какому-то проходимцу. Он, Герман, останется без куска хлеба. Убить себя? Даже на это ему не хватит смелости.
Пока Герман сидел и подводил жизненные итоги, ему пришло в голову, что лучшим временем в его жизни были те три с половиной года, которые он провел у Ядвиги на сеновале. Ему постоянно грозила опасность, он мучился из-за физического дискомфорта, но за эти почти тридцать месяцев он никому не причинил зла, никого не обманул. В каком-то смысле он отдыхал. Может быть, это и есть выход? Однако весь человеческий род не может прятаться на сеновале, кому-то нужно косить сено, кому-то нужно строить сеновал…
Герман вспомнил кантовское определение морали: поступать так, чтобы поступок становился правилом, аксиомой. Может ли побег и отдаление от мира стать аксиомой? Бред! Полный бред!.. Но в действительности все религии в той или иной мере предписывали уход от того, что современный человек называет реальностью. Смотреть в глаза реальности… А разве евреи эпохи Второго Храма, евреи из гетто, евреи Шулхан Аруха и нравоучительных книг не бежали от так называемой реальности? Разве они не закрывали глаза, чтобы не видеть женщин, не затыкали ушей, чтобы не слышать женский голос, не избегали театров, цирков, ресторанов, армии, парадов, политики, газет, светских книг и всего прочего, что не является жизненно необходимым? Разве не бегут от этой реальности миллионы монахов, монашек и последователей разных религий и сект? Разве стены домов, двери, одежда, которую мы носим, ставни на окнах не являются средством отдалиться, пусть ненадолго, от этой действительности? Разве сон — это не используемое всяким живым существом средство отдохнуть и спрятаться от реальности?
«Я не могу смотреть в грязную физиономию реальности. В этом правда, — говорил себе Герман. — Такие, как я, должны где-нибудь засесть: на сеновале, в синагоге, в укрытии. И не важно, верю я при этом или нет, надеюсь на спасение или нет, главное, я остаюсь внутри, даже заболевая, деградируя, сходя с ума. Я и так совершаю безумные поступки. Нет сомнения в том, что мне надо спрятаться. Вопрос только, где? В тюрьме было бы неплохо, если бы дали отдельную камеру. Тех, кому не устоять перед искушениями, нужно физически оградить от искушений. Деды делали это с помощью бороды и пейсов, с помощью бесчисленных законов, барьеров и запретов, которыми они сковывали себя, особой одежды, собственного языка — есть тысячи разных средств для отдаления от мира и изоляции. Еще Моисей понял, что еврей может существовать, только отгородившись от соседей. Суть Торы — во фразе „И по установлениям их не ходите“[146]. Валаам назвал евреев „народ, живущий отдельно“[147]. То, что справедливо для евреев, может оказаться справедливым и для всех других народов и культур.
Да, но куда бежать? Что именно надо делать? В моем положении что бы я ни сделал, я кого-нибудь погублю…»
Герман заметил Библию на полке рядом со своим стулом и взял ее в руки. Он так ослаб, что с трудом удержал книгу. Он пролистал Псалмы, вдруг ему захотелось помолиться и прочитать какой-нибудь псалом, как это делали в тяжелую минуту его отец, мать, дедушки и бабушки и кто знает, сколько поколений до него. Герман открыл книгу посредине, прочитанные слова оказались на удивление к месту: «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих; видящие меня на улице бегут от меня»[148]. Он произнес эти слова и удивился: как получается, что эти стихи подходят для любых обстоятельств, во все времена, в любом состоянии духа? Почему они никогда не устаревают и не теряют актуальность? Ведь лучшая литература утрачивает силу и блекнет со временем…
Было смешно сидеть на вечеринке и читать Псалмы, тем более что этим занимался человек, так сильно опозорившийся… Герман постоянно оглядывался на дверь, опасаясь, как бы кто не зашел. Он, отступник, грешник и лжец, теперь читал псалом, со знанием дела, даже с напевом, как набожный еврей, верящий, что Бог слышит его. Так, наверное, читали псалмы в гетто, у газовых камер, у печей, в которых сжигали евреев. Да, но разве из этого следовало, что Бога нет? Это означало только, что жизнь не создана для наслаждений. Жизнь должна быть трагедией, испытанием, проблемой выбора, хождением по канату над пропастью преступлений и страданий.
Герман пролистнул несколько страниц и увидел стих: «Доколе вы будете налегать на человека? Вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся»[149]. Да, доколе? Как долго? Как долго ему, Герману, играть в эту игру? Нацисты играли детскими черепами, а он, Герман, играет сердцами взрослых людей.
Его охватил стыд за то, что он держал святую книгу своими грязными руками. Его губы, постоянно лгущие, оскверняли эти правдивые слова…
Дверь распахнулась, и Герман не успел закрыть Библию. Маша, должно быть, еще выпила. Она ввалилась в комнату, неся наклонно тарелку. Ее лицо было бледным, глаза блестели от гнева и насмешки. Она неуверенно поставила тарелку на подлокотник кресла и воскликнула:
— Чем ты занимаешься?! Читаешь молитвы? Ты, подлый лицемер!
— Маша, садись.
— Почему ты решил, что я хочу сесть? Может, я хочу лечь? А вообще-то я сяду к тебе на колени.
— Нет, Маша, не здесь.
— Почему нет? Он, конечно, раввин, но его квартира не синагога. Во время войны и в синагоге не стеснялись. Загоняли еврейских девушек в синагогу и…
— Это делали нацисты.
— А кто такие нацисты? Они тоже люди. Им надо было того же, что и мне, Яше Котику и даже раввину. Если дать еврейским мальчикам волю, они бы наверняка занялись тем же самым. В Германии после войны они якшались с нацистками. Нацисток покупали за пачку американских сигарет, за плитку шоколада или просто за центы. Ты бы видел, как дочери гитлеровских арийцев спали с мальчиками из гетто, как целовались и миловались с ними. А некоторые даже выходили за них замуж. Что же ты меня пугаешь этим словом «нацисты»? Все нацисты. Весь род человеческий! Ты тоже нацист. Нацист и трус, боящийся собственной тени…
И Маша рассмеялась, но тут же снова посерьезнела и сказала:
— Я слишком много выпила. Там стояла бутылка, и я наливала. Ешь, если не хочешь подохнуть с голоду.
Она плюхнулась на стул и достала из сумочки сигареты, но не могла найти спички.
— Что ты на меня так смотришь? — спросила она. — Я не буду спать с раввином.
— Что у тебя было с Яшей Котиком?
— Мои вши спали с его вшами…
— Я этого больше не вынесу.
— Ну, ты свободен. Иди к своей польке и обратно не возвращайся. А кто такая Тамара? Ответь же наконец.
— Моя жена жива. Она в Нью-Йорке.
— Это правда или ты просто треплешься?
— Это чистая правда.
— Ее же расстреляли.
— Она жива.
— И дети тоже?
— Дети нет.
— Ну, я свободна. Есть такая грязь, куда даже Маша не хочет соваться. А девка знает про нее?
— Она приходила ко мне в гости…
— Когда? А вообще-то мне все равно. Я думала, приеду в Америку, избавлюсь от грязи, но тут же вляпалась в самую глубокую лужу. Может быть, я говорю с тобой сейчас в последний раз, так вот, хочу, чтобы ты знал, что ты — величайший лжец, подлейший аферист, которого я когда-либо встречала. Довольно с меня жуликов и мошенников. Что ты теперь будешь делать? Возьмешь свою жену в служанки? Неплохая идея. Служанка будет рожать детей, а хозяйка варить ей бульончик. А ты наверняка отыщешь себе новую жертву…
— Я уничтожен…
Герман подцепил вилкой кусок чего-то, что напоминало пудинг, но, поднеся его ко рту, тотчас потерял аппетит. Сам запах еды вызывал в нем тошноту. Он переставил тарелку на соседний столик. Каждое движение давалось ему с трудом. Все тело болело, как у человека, который в разгар болезни пытается притворяться здоровым. «Мне надо бежать, бежать, — твердил мысленно Герман. — Но куда?» Он обратился к Маше:
— Помоги мне уйти отсюда. Я куда-то дел свое пальто.
— Где живет твоя жена? Я бы хотела с ней познакомиться. Хотя бы взглянуть на нее.
— Где-то в меблированных комнатах.
— Дай мне адрес и телефон.
— Зачем? Ладно, дам.
— Подожди, я возьму карандаш и бумагу.
Маша вышла, и Герман остался один. Странно, что, когда раскрылись все его секреты, ситуация запуталась еще больше. Он протянул было руку за Библией, но передумал. В этой книге нет ответа на его вопрос. Он был похож на один из тех народов, которым Бог запретил размножаться, потому что они слишком погрязли в разврате и раскаяние уже не могло их спасти. У души и у тела, видимо, существуют неизлечимые болезни, рак, который невозможно прооперировать. Единственное лекарство — смерть… «Да, смерть — это лекарство, — сказал себе Герман, — единственно возможное лечение всех болезней. Смерть — это божественная терапия».
Герман долго просидел без единой мысли, его мозг был одновременно пуст и полон. Он всмотрелся в занавеску, которую только сейчас заметил, пеструю, со складками, с рисунком из цветов, листьев и птиц. Трудно было понять, зачем вкладывать столько труда и идей в ткань, которая не служит никакой серьезной цели, не помогает выбраться из жизненных сложностей. «Это женский способ бежать от мира, — подумал Герман. — Они играют в это, как дети в свои игрушки, чтобы не замечать ужасов бытия. Они разглядывают витрины и болтаются по галантереям до последнего дня. После них остаются неоконченные вязания и вышивки…»
Вошла Маша с пальто и шляпой Германа в руках:
— Вот, ваше высочество.
— Спасибо тебе.
— Уходи и больше не появляйся. Да, так какой адрес у твоей жены?
Герман дал ей Тамарин адрес и телефон. Маша сказала:
— Если услышишь, что я умерла, не ходи на похороны. Это мое последнее желание…
VI
Когда Герман вышел на улицу и увидел, какая стоит погода, ему стало смешно. Это был смех, который обычно сопровождает провал. С Гудзона дул ураганный ветер, он бился о стены домов и свистел.
Хотя Герман только что вышел из теплой квартиры, холод пронизал его в считанные секунды. Он так и не поел и чувствовал себя легким и пустым. Сейчас, в час ночи, он не мог ехать на Кони-Айленд и потом идти пешком от Стиллвел-авеню до своего дома, между Мермейд- и Нептун-авеню. Он стоял у входной двери и боялся пошевелиться, чтобы ветер не подхватил его и не потащил к замерзшей реке, на ледяном покрове которой виднелись трещины и проруби.
«Ну, мне пришел конец», — сказал себе Герман. Были бы у него хотя бы деньги на отель! Но в заднем кармане брюк лежало не больше трех долларов. Цена на комнаты в отелях поднялась, нигде не переночевать за такую сумму, даже в Боуэри.
Герман снова удивился Провидению, своему противнику за шахматной доской. Невозможно было найти более подходящего времени для того, чтобы поставить Герману мат. Но может, это еще не конец? Может быть, ему следует вернуться к раввину и попросить денег в долг? Договориться с Машей, чтобы она взяла его с собой домой? Многие из гостей приехали на машинах, они наверняка подбросят ее. «Нет, лучше сдохнуть!» — пробормотал Герман.
Он направился к Бродвею. Там оказалось не так ветрено, холод чувствовался не столь остро, было светлее, чем на набережной. Герман увидел кафетерий. Когда он перебегал дорогу, его чуть не сбило такси. Водитель обругал его. Герман покачал головой и махнул рукой в знак извинения.
Герман ввалился в кафетерий, окоченев от холода и едва переводя дыхание. Здесь, при свете и в тепле, заранее накрывали столы к завтраку. Время словно сместилось: народ читал утренние газеты, завтракал глазуньей с жареной картошкой, французскими гренками и вафлями с сиропом, овсянкой со сливками, молочной манной кашей и сосисками. От запахов у Германа сжалось сердце.
Несмотря на то что он опять перечил Богу и даже пытался отрицать Его существование, Герману пришлось мысленно воздать Ему хвалу. Если бы это кафе было закрыто, Герман лежал бы сейчас в снегу. Он выбрал столик у стены и положил туда пальто и шляпу. Вдруг он спохватился, что не взял у входа чек, и подошел к кассиру, чтобы объяснить, что произошло. Тот сказал:
— Да, я видел, как вы вошли. Вы выглядели совсем замерзшим.
«В мире осталось еще немного благородства», — сказал кто-то внутри Германа. Он взял поднос и только теперь почувствовал слабость. Он едва донес трясущийся поднос до стойки. Там он взял овсянку, яйца, рогалик и кофе. Весь завтрак обошелся ему в пятьдесят пять центов. Когда Герман шел к столу, ноги у него подкосились, он испугался, как бы не упасть под тяжестью подноса. Но как только он принялся за еду, энергия стала возвращаться к нему. С каждой минутой он чувствовал новый прилив жизненных сил. Аромат кофе опьянял его. Впервые в жизни он почувствовал, как неблагодарно есть, не совершая благословения. Все было кем-то тщательно продумано.
Герман чувствовал собственное унижение, смирение бедняка, согретого ложкой горячей еды. Сейчас у него было только одно желание: чтобы кафетерий оставался открытым до утра. Здесь бы он как-нибудь протянул всю ночь.
К столу подошел пуэрториканец, чтобы убрать посуду. Герман спросил его, когда они закрываются, и тот ответил:
— В два часа.
Стало быть, Герману оставался всего час, в два часа ночи его снова выгонят на снег и холод. Ему необходимо было составить план, принять решение! Он увидел телефонную будку. С собой у него была мелочь. Может быть, Тамара еще не спит? Может быть, он дозвонится до нее? Ему в любом случае надо было с ней поговорить. Сейчас она была единственной женщиной, которая не вступила с ним в конфликт. В его положении тратить целых десять центов было рискованно, но, несмотря на это, он вошел в будку и набрал номер Тамары. Ответила какая-то женщина, которая пошла позвать Тамару. Не прошло и минуты, как он услышал ее голос.
— Надеюсь, я тебя не разбудил? Это я, Герман.
— Да, Герман.
Оба немного помолчали.
— Ты уже спала, верно?
— Нет, я читала газету.
— Тамара, я застрял в кафетерии на Бродвее. Он закрывается в два. Мне некуда идти.
Тамара помедлила с минуту.
— А где твои жены?
— Они обе объявили мне войну.
— Что ты делаешь так поздно на Бродвее?
— Я был в гостях у раввина, по-русски это называется: на вечеринке.
— Знаю, знаю. Хочешь приехать ко мне, да? Здесь ужасно холодно. Я натянула свитер рукавами на ноги. В доме сквозняк, как в развалинах. Что за войну они тебе объявили? А вообще-то заходи. Я хотела тебе позвонить, мне надо с тобой кое о чем поговорить. Беда в том, что в доме закрывают входную дверь, а дворник лежит пьяный в подвале — как это называется? — в бейсменте. Можно звонить в дверь хоть два часа, он не откроет. Когда ты будешь здесь? Я сама тебе открою.
— Тамара, мне стыдно тебя беспокоить. Просто я остался без ночлега и без денег на отель.
— Теперь, забеременев, она затеяла скандал?
— Ее подстрекают со всех сторон. Не хочу упрекать тебя, но тебе не следовало открывать мистеру Пешелесу наши тайны.
Тамара вздохнула:
— Он пришел ко мне в больницу и засыпал меня тысячей вопросов. До сих пор не могу понять, как он меня нашел. Он уселся у моей кровати и пытал меня, как следователь. Даже пытался меня просватать. Сразу после операции. Что за подхалим! У меня больше нет сил на обман и выдумки. Он дал мне честное слово, что никому не расскажет.
— Да, я заварил такую кашу, что теперь все идет наперекосяк, — сказал Герман. — Лучше я поеду на Кони-Айленд.
— Сейчас, с Бродвея? Ты будешь ехать всю ночь. Нет, Герман, заходи. Я все равно не сплю по ночам, лежу до рассвета и глаз не сомкну.
Тамара начала что-то говорить, но девушка-оператор потребовала еще монету, а у Германа больше не осталось мелочи. Он сказал Тамаре, что придет, и повесил трубку. Он вышел на улицу и направился к метро на Семьдесят Девятой улице. Бродвей простирался по-ночному пустынный, фонари светили ярче, по-зимнему празднично, сказочно и таинственно.
Герман спустился в метро и принялся ждать поезда. Единственным пассажиром кроме него был огромный негр, он шел нетвердой походкой, видимо, был пьян. В такой мороз на нем не было пальто. Герман простоял пятнадцать минут, но поезд все не подходил. Пассажиров не прибавлялось. Лампы отбрасывали тусклый свет. Снег, рыхлый, как мука, покрыл рельсы, засыпал и выбелил платформу.
Герман уже пожалел о том, что позвонил Тамаре. Было бы лучше поехать на Кони-Айленд, там он, по крайней мере, поспал бы пару часов в тепле, если бы Ядвига оставила его в покое. Он сообразил, что Тамаре, для того чтобы услышать звонок в дверь, нужно будет одеться и ждать внизу, на холоде. Кто знает, как долго еще не будет поезда?
Рельсы загудели, и подошел поезд. В вагоне сидело несколько мужчин: пьяница, пытавшийся произнести речь; негр с метлой и коробкой фонарей, которыми пользуются дорожные рабочие; рабочий с металлической коробкой для обеда и деревянной палкой, которую, Бог весть зачем, он носил с собой. Все были в ботинках без калош, носы блестели, ногти грязные.
Ночное возбуждение царило в вагоне — нервозная взвинченная атмосфера, которая обычно возникает, когда день путают с ночью. Герману показалось, что стены, стекла, пол, рекламные плакаты выглядят усталыми и измученными от холода, суеты и тусклого освещения. В пронзительном свисте поезда слышалось тревожное предупреждение, будто машинист потерял управление и проехал на красный свет, а теперь осознал свою ошибку.
На Таймс-сквер Герман проделал долгий путь к линии, ведущей на Центральный вокзал, чтобы сесть на поезд, который идет до Восемнадцатой улицы.
Ему пришлось вновь долго дожидаться поезда вместе с пассажирами, которые показались ему людьми того же сорта, что и он сам: опустившиеся личности, выброшенные из семьи, полуночники, которых город не мог ни принять, ни выгнать. Их лица выражали унижение, обиду, осознание собственной вины. Каждый из них был в точности таким же растяпой-неудачником, как и он, Герман. Каждый исполнял эту роль по-своему, в соответствии с обстоятельствами своей бурной жизни. Никто из мужчин не был чисто выбрит. Одежда сидела на них неуклюже. Герман разглядывал окружающих, но те избегали его взгляда. Друг друга они тоже игнорировали. Нужда не объединяла их, а только отталкивала, даже рождала в них некую сонную озлобленность. Должно быть, у неудачников нет ничего общего, кроме жалоб на жизнь.
Герман вышел на Восемнадцатой улице и пошел по направлению к Девятнадцатой. Офисные здания выглядели темными и опустевшими. Трудно было поверить, что еще несколько часов назад все здесь кишело людьми и делами. Над крышами темнело затянутое тучами беззвездное небо. Космический холод властвовал во Вселенной. Ничего не оставалось, как только попробовать укрыться от него.
Герман поднялся по ступеням и увидел Тамару, стоявшую по ту сторону двери, в тусклом свете электрической лампы. Она была в пальто, из-под которого торчал подол ночной рубашки. Ее лицо казалось серым от бессонницы, лоб — в морщинах, волосы не причесаны. Не улыбаясь, она молча, как-то обыденно открыла дверь и повела его по лестнице, потому что лифт не работал.
— Ты давно ждешь? — спросил Герман.
— Какая разница? Я привыкла ждать.
Герману не верилось, что это его жена, мать его расстрелянных детей, та самая Тамара, с которой почти двадцать пять лет назад он познакомился на вечере, где обсуждалась тема: «Может ли Палестина решить еврейский вопрос?» На третьем этаже Тамара остановилась и сказала:
— Ой, мои ноги!
Герман и сам почувствовал необычную усталость в икрах. Кровь растекалась по жилам, как горячий свинец.
Тамара отдышалась и спросила:
— Она уже в больнице?
Герман задумался:
— Ядвига? Все взяли на себя соседи. Я ничего не знаю.
— Все-таки это твой ребенок.
Герман хотел ответить: «Ну и что?» — но промолчал. Теперь у него не осталось никаких других чувств, кроме желания лечь в постель и согреться.
VII
Герман проспал час и проснулся. Он не раздевался и лежал в кровати в пиджаке, брюках и носках. Тамара опять надела свитер на ноги. Поверх одеяла она положила свою поношенную хорьковую шубу и пальто Германа.
— Для меня, слава Богу, уничтожение евреев не закончилось, — жаловалась она Герману. — Оно в самом разгаре. Примерно так мы жили в Джамбуле. Ты мне не поверишь, Герман, я даже получаю от этого удовлетворение. Я не забываю, через что мы прошли. Если в комнате тепло, мне кажется, что я предаю своих детей и всех европейских евреев. Дядя постоянно твердит, что евреи обязаны соблюдать траур. Вечный траур. Весь народ должен сидеть на низких скамеечках и читать Книгу Иова.
— Без веры нельзя даже скорбеть.
— Уже из-за одного этого надо соблюдать траур.
— Ты говорила, что хотела мне позвонить. По какому поводу?
Тамара задумалась:
— Не знаю, как начать. Герман, я не могу, как ты, постоянно лгать. Дядя и тетя пристали ко мне, что и зачем. Если уж я рассказала правду этому странному мистеру Пешелесу, то как мне было скрывать ее от моей плоти и крови? Они для меня единственная родня на всем свете. Я не собиралась тебя оговаривать, Герман, мне стыдно, но я должна была им все рассказать. Я думала, они заклеймят тебя позором, это серьезное дело для таких набожных людей! Но мой дядя — мудрец, он даже не стал тебя обвинять, только вздохнул и сказал: «После операции обычно бывают рецидивы». Мне ли об этом не знать? Уже наутро после операции начались неприятности. Он хочет, чтобы мы развелись. У него есть для меня жених, и не один, а десять — раввины, родовитые евреи, все иммигранты. Они потеряли жен в Европе. Что тебе сказать? Я так же хочу замуж, как ты сейчас — танцевать на крыше. Но они привязались: либо ты разведешься с той и снова женишься на мне, либо я должна получить от тебя развод. Со своей точки зрения — и согласно общему мнению, — они правы, но мне эта мысль почему-то причиняет боль. Не могу объяснить тебе почему. Я думаю так: все мы уже не живем, мы мертвы, тогда какой смысл разводиться двум мертвецам? Прости, Герман, но для меня ты призрак, не обретший покой в могиле и вернувшийся на землю, чтобы дурачить себя и всех остальных. Мама, да покоится она в мире, рассказывала мне такую историю. По-видимому, существуют покойники, которые не знают о том, что они мертвы. Они притворяются, будто едят, пьют, даже играют свадьбы. Ты, Герман, покойник. Все беженцы что-то вроде этого, одни больше, другие меньше. Тот, кто годы и месяцы жил бок о бок со смертью, уже не принадлежит этому миру. Раз уж мы были мужем и женой и у нас были дети, а теперь мы блуждаем по этому выдуманному миру, зачем нам разводиться? Я уже больше ни с кем не смогу быть вместе…
— Тамара, покойника тоже можно посадить в тюрьму.
— Да? Никто тебя не посадит. И что ты так боишься тюрьмы? Там тебе будет вольготнее, чем здесь.
— Я не хочу, чтобы меня депортировали. В Польше я даже помереть не хочу.
— Тебя не депортируют. Я не побегу в полицию, чтобы тебя сдавать. Кто на тебя донесет? Твоя любовница?
— Тот же Пешелес.
— Зачем ему на тебя доносить? И какие у него доказательства? В Америке ты ни на ком не женился.
— Я дал Маше ксубу.
— И что она будет делать с ксубой? Если ей не нужна такая жизнь, она не доставит тебе неприятностей. Радуйся, что Маша ушла от тебя, судя по тому, что ты мне рассказал. Этой женщине нужны только наслаждения. Что ей до тебя? Так и должно было случиться. Лучше раньше, чем позже. Вот тебе мой совет: возвращайся к Ядвиге, помирись с ней. Если тебе нужен развод от меня, получишь его хоть завтра.
— Я остался без работы. Не могу больше писать для раввина. Это совершенно невозможно. Я задолжал за квартиру. У меня нет денег даже на ближайшее время.
— Герман, я хочу тебе кое-что сказать, только не сердись на меня.
— Что ты хочешь сказать?
— Не буду скрывать, я потеряла ту работу, но могу получить новую. «Джойнт» по-прежнему платит мне месячное пособие. У меня в сумке лежит пятьдесят долларов, можешь их взять.
— Нет, Тамара, я еще не пал так низко.
— Почему же это низко? Ты содержал меня годами. Ты не поверишь, Герман, но это было бы мне приятно. Не только дядя и тетя, ты для меня тоже родной человек. Ты отец Довидла и Йохведл. Когда у твоей нееврейки будет ребенок, он станет им братиком или сестричкой. Даже она мне не совсем чужая. Мы познакомились в Польше. Она знает, кто я. Она твоя жена. Между нами есть связь. В тот день она бросилась ко мне с поцелуями. Меня никто так не целовал уже Бог знает сколько времени.
— Тамара, ты великодушный человек. У тебя огромная душа. Но я не могу этим воспользоваться.
— Я не великодушный человек. Ты знаешь, что я маленький человек. Ты знаешь меня лучше, чем кто бы то ни было. Но даже маленький человек, когда он прошел через ад, не может оставаться таким, каким был. Что касается тебя, то рано или поздно ты найдешь себе занятие.
— Что? Я абсолютно ни на что не гожусь.
— Можешь стать раввином.
— Было бы честнее, если бы я крестился.
— Ты что-нибудь придумаешь. Может, станешь учителем.
— Я потерял все свои дипломы. И вообще, у меня нет к этому склонности.
Вдруг Тамара села, матрас под ней заскрипел.
— Герман, у меня идея.
— Какая идея? Не стягивай с меня одеяло!
— Хорошо, я лягу. Герман, такие, как ты, не способны сами справляться с жизненными трудностями. Честно признаться, я и сама никуда не гожусь, но руководить иногда бывает легче, чем делать самой. В Америке существует такое понятие — менеджер. Давай я буду твоим менеджером. Полностью доверься мне. Представь, что ты в лагере и должен выполнять приказы. Я буду говорить тебе, что делать, а ты выполняй. Я найду тебе работу. Ты в таком положении, из которого тебе самому не выбраться.
— Зачем тебе это? И как это будет выглядеть?
— Не твое дело. Я что-нибудь придумаю. Завтра я обеспечу тебя всем необходимым, а ты будь готов выполнять мои требования. Велю идти сортировать пуговицы — пойдешь сортировать пуговицы.
— Это же твоя работа.
— Она может стать и твоей.
— А что будет, если меня посадят?
— Я стану носить тебе передачи в тюрьму.
— По-моему, Тамара, это просто способ отдать мне твои несколько долларов.
— Нет, Герман. Я не буду от этого в убытке. С завтрашнего дня беру на себя все твои дела, какими бы они ни были. Я приехала недавно, но уже привыкла жить на чужбине. Я вижу, как тебе тяжело, но это все надуманно, это нервы.
Герман помолчал немного и спросил:
— Ты кто? Ангел?
— Может быть. Кто знает, как выглядят ангелы? Я жила в Джамбуле с двумя ангелами — раввиншей из Джикува и ее сыном Мойшей.
— Что с ними сталось? Умерли?
— Ангелы тоже умирают. Особенно в сталинском государстве.
— Да, кто-то меня к тебе направил. Я говорил себе, что это безумие — звонить так поздно ночью, но какая-то сила велела мне… Ладно, отдаюсь в твои руки. У меня больше нет сил…
— Раздевайся. Ты испортишь свой костюм.
Герман встал с кровати и снял пиджак, брюки и галстук, оставшись в одних носках и рубашке. В темноте он положил одежду на стул. Раздеваясь, он услышал шипение в батарее. Начали топить.
Он снова улегся в кровать, Тамара повернулась к нему. Герман то дремал, то прислушивался к ночным звукам. Время от времени он приоткрывал один глаз. Тьма рассеивалась. В коридоре послышались шорохи, шаги, хлопанье дверей. Ночь прошла. Соседи, жившие в квартире, видимо, рано вставали на работу. На оплату этих темных комнат тоже надо было зарабатывать. Потом Герман уснул. Когда он проснулся, в комнате горел свет. Тамара уже оделась. Она сказала Герману, что успела принять ванну. Она разглядывала Германа с деловитостью, которой он до этого никогда в ней не замечал.
— Ты еще помнишь о нашем уговоре? — спросила она.
— Да, помню.
— Иди прими душ. Вот полотенце.
Герман накинул пальто и вышел в коридор. Утром здесь шли споры, кому первому идти в ванную комнату, но теперь дверь в ванную была открыта. Герман заперся и взглянул на себя в зеркало. На него смотрело белое как мел лицо с ввалившимися щеками и красными бегающими глазами. Щеки поросли щетиной. Из шеи торчал острый кадык. Герман взял оставленный кем-то кусок мыла и прополоскал его под краном. Горячей воды уже не было, он помылся еле теплой. «Откуда в Тамаре такая доброта?» — удивлялся Герман. Он помнил ее вспыльчивой, упрямой, ревнивой, мстительной. Но после того как Герман променял ее на другую, Тамарино сердце смягчилось, теперь она была готова помочь ему выбраться из грязи. В чем причина? Никакой причины, никакой логики…
Герман вернулся в комнату и оделся. Тамара велела ему пешком спуститься на этаж ниже и оттуда уже вызвать лифт. Она не хотела, чтобы в доме узнали, что у нее ночевал мужчина. Герман вышел на улицу, утреннее солнце ослепило его. Солнечный свет отражался от снега. На Девятнадцатой улице было полно грузовиков. С них сгружали мешки, коробки и ящики. На Четвертой авеню огромные машины убирали снег. Тротуары кишели пешеходами. Голуби, пережившие мороз, копошились в снегу. По тротуару прыгали воробьи. Тамара повела Германа в кафетерий на Двадцать Третьей улице. Он почувствовал те же запахи, что и вчера на Бродвее, с примесью дезинфекции, которую используют для мытья кафельных полов. Тамара даже не спросила, что Герман закажет. Она посадила его за стол, принесла ему апельсиновый сок, рогалик, омлет и кофе. Тамара посмотрела на него искоса, строго, но в ее взгляде Герман почувствовал любовь. Она не могла жить только ради себя, ей нужно быть чьей-то женой, чьей-то матерью. Выполнять свою биологическую миссию — готовить еду, ухаживать за мужчиной, чтобы он опирался на нее, пусть даже он подлый предатель.
Тамара пошла за своим завтраком. Герман держал кофейную чашку обеими руками, он не пил, а грелся, все ниже опуская голову. Женщины уничтожили его, но они же проявляли к нему милосердие. «Нужно научиться жить без Маши, — уговаривал он себя. — Представить, что она умерла. Тамара права, нас уже нет в живых, мы кучка мертвецов в выдуманном мире…»
Глава девятая
I
«Может ли человек вынести столько несчастий? — спрашивал себя Герман и сам себе отвечал: — Может».
Зима прошла. Ядвига ходила с большим животом. Тамара уже выхлопотала для нее место в клинике. Соседи по дому заботились о ней, давали ей бесчисленные советы. Тамара звонила Ядвиге каждый день, разговаривала с ней по-польски. Попугайчик Войтуш пел и щебетал с утра до вечера. Самочка Марьяша снесла яичко. Хотя Ядвиге запретили заниматься физической работой, она продолжала стирать и убирать. Пол сверкал. Ядвига купила краску на Мермейд-авеню и с помощью соседки, бывшей малярши, покрасила стены. Маша и Шифра-Пуа готовили пасхальную трапезу для старых и больных жителей санатория в Нью-Джерси. Тамара помогала Ядвиге готовиться к Пасхе.
По дому ходили слухи, что Тамара — двоюродная сестра Германа. Соседкам было о чем поговорить и над чем покачать головой, но Америка — свободная страна. Если появляется негодяй, который находит женщин, способных терпеть его мерзкие выходки, кто может этому воспрепятствовать? Пожилые соседи по дому заговаривали с Тамарой, выспрашивали ее о концлагерях, России, большевиках. Почти все были настроены против коммунизма, но один коммунист все-таки нашелся, он был раньше уличным торговцем. Он утверждал, что в газетах пишут клевету о России, чтобы навредить стране рабочих, обвинял Тамару в том, что она все выдумывает. Все это — сплошные небылицы: лагеря, голод, черный рынок, аресты и расстрелы. Каждый раз, когда он слушал Тамарины рассказы, он восклицал:
— А я говорю вам, да будут благословенны руки Сталина!
— Почему же вы не едете к ним?
— Они сами доберутся сюда…
Его жена, еврейка, соблюдавшая на своей кухне кашрут, заставляла его — так он утверждал — в пятницу вечером произносить благословение на вино и даже ходить в синагогу. Незадолго до Пасхи в доме запахло мацой, борщом, для которого некоторые женщины сами мариновали свеклу, сладким вином, хреном и еще чем-то, пробравшимся сюда со старой родины и смешавшимся с запахами моря.
Как ни странно, Тамара нашла Герману занятие. Реб Авром-Нисон Ярославер и его жена Шева-Хадаса уезжали в Израиль. Реб Авром-Нисон даже намекнул, что, возможно, останется там. Он собрал несколько тысяч долларов и получил пенсию от государства. Ему хотелось, чтобы его похоронили в Израиле, а не среди христиан на американском кладбище в Нью-Йорке. Он давно уже собирался продать книжный магазин на Канал-стрит, но ему предлагали слишком низкую цену, просто унизительную для его книжной коллекции. Кроме того, он, возможно, не сможет обосноваться в Израиле. Тамара уговорила дядю поручить ведение дел ей и Герману. Каким бы ни был Герман, но в денежных делах он честен. Она, Тамара, останется в дядиной квартире и будет платить за нее.
Реб Авром-Нисон послал за Германом и показал ему товар — старые религиозные книги. Реб Авром-Нисон никогда не мог навести в магазине порядок, книги валялись в пыли, сложенные одна на другую, у многих были порваны переплеты и потерты обложки. Где-то был список книг, но он все время куда-то пропадал. По поводу цены он никогда не торговался, брал, сколько предлагали. Да и в чем они с Шевой-Хадасой нуждались? Плата за квартиру в старом здании на Ист-Бродвее была фиксированной.
Хотя реб Авром-Нисон знал о выходках Германа и сам подталкивал Тамару к разводу, он все же нашел Герману оправдание. Откуда взять веру таким молодым людям, когда даже он, реб Авром-Нисон, теперь полон сомнений? Как пережившим войну поверить во Всевышнего и Его милосердие? Даже великие мудрецы не выдержали бы таких испытаний. Реб Авром-Нисон был не согласен с теми ортодоксами, которые словно не замечают уничтожения евреев в Европе и ведут себя так, будто ничего не произошло.
Реб Авром-Нисон высказал все это Герману в долгом разговоре перед отъездом и намекнул, что уничтожение евреев Гитлером — это предвестие прихода Мессии. А если так, он хотел бы обосноваться в Святой земле, чтобы, когда произойдет воскрешение из мертвых, ему не надо было катиться по подземным пещерам в Израиль. Что касается магазина, реб Авром-Нисон не взял с Германа никакой расписки, чтобы тот мог брать из кассы столько, сколько ему понадобится…
Все это казалось Герману действием Провидения или какой-то иной, как бы она ни назвалась, силы, управляющей миром. Какую еще работу он мог бы желать?
С тех пор как Маша стала работать в санатории, Герман пребывал в замешательстве. События происходили не с ним, а рядом с ним. Он предавался размышлениям, не всегда понимая, о чем размышляет. Фантазии и сны наяву ни на минуту не оставляли Германа. Он страдал от галлюцинаций. Входил на станцию и видел, как Маша садится в поезд на противоположной платформе. В магазине звонил телефон, и он слышал в трубке Машин голос, и приходилось убеждать себя в том, что это совершенно другой человек. В большинстве случаев звонили молодые американцы с просьбой купить или забрать у них книги, оставшиеся после смерти отца. Герман не понимал, откуда они знают номер реб Аврома-Нисона, ведь тот никуда не давал объявлений.
Все это было для Германа одной большой загадкой: доверие к нему реб Аврома-Нисона, готовность Тамары ему помочь, ее забота о Ядвиге. С той ночи в Катскильских горах Тамара больше не прикасалась к Герману. Их отношения были исключительно дружескими.
В Тамаре, похоже, пробудились амбиции дочери предпринимателя. Вместе с Германом она составляла каталог книг, определяла цены, отправляла порванные тома к переплетчику для реставрации. Реб Авром-Нисон торговал только учеными книгами, а Тамара купила перед Пасхой Агаду, праздничные молитвенники, пасхальные блюда, ермолки разных видов и цветов, даже подсвечники и салфетки для мацы. Она стала продавать в магазине талесы и чехлы для них, тфилин, двуязычные молитвенники с переводом на английский, всевозможные наставления и хрестоматии для мальчиков, готовящихся к бар-мицве.
Ложь о торговле книгами, которую Герман так долго преподносил Ядвиге, чудесным образом превратилась в правду. Однажды утром он взял Ядвигу с собой в Даунтаун, чтобы показать ей магазин. Тамара проводила ее обратно домой, потому что Ядвига не хотела ехать в метро в одиночку, особенно теперь, на последних месяцах беременности.
Как странно было сидеть за пасхальным столом с Тамарой и Ядвигой и читать вслух Агаду! Обе женщины потребовали, чтобы Герман надел ермолку и провел всю церемонию целиком, с благословением на вино, петрушкой[150], харойсесом[151], соленой водой и преломлением мацы. Тамара даже задала четыре вопроса[152]. Для Германа — и для Тамары, наверное, тоже — все это было игрой, ностальгией. А что не игра? Герман так и не нашел ничего, что можно было бы считать истиной, даже в так называемых точных науках.
Герман давно уже создал свою личную философию, смысл которой сводился к тому, что в мире нельзя просто существовать, а можно только постоянно заниматься контрабандой. Все живое, от микроба до человека, лавирует между разрушительными силами. Подобно тому как спекулянты и спекулянтки из Цевкува во время Первой мировой войны набивали сапоги или рубашки табаком, вешали на себя всевозможный контрабандный товар, чтобы прокрасться с ним через границу, подобно тому как они нарушали законы и подкупали чиновников, каждая частица протоплазмы, каждый вирус крадется сквозь века — с того момента, как первая бактерия появилась в иле на берегу океана, и до того, как остынет Солнце и замерзнет последнее живое существо на Земле. Но чем бы ни закончилась биологическая драма, животные смиряются со своей участью, и только человек стремится к стабильности; в этом и заключается его несчастье. Евреи больше других народов приблизились к истине, потому что они лавируют с самого начала своей истории. Сначала они пробирались в Ханаан, потом в Египет. Аврааму пришлось назвать Сару своей сестрой[153]. Две тысячи лет изгнания, начиная с Александрии, Рима и Вавилона и заканчивая гетто в Варшаве, Лодзе, Вильне, были сплошным лавированием. Библия, Талмуд, нравоучительные книги учили евреев одному — как можно дальше держаться от жестокости и опасности, бежать искушений, скрываться от злых сил. Евреи не презирали дезертира, прячущегося в каком-нибудь подвале или на чердаке, пока армии великих держав сражались между собой.
Но Герман, современный еврей, пошел еще дальше: он потерял духовную почву. У него больше не было опоры в Торе. Он, новый Авраам, обманывает не только Авимелеха, но и Сару, и Агарь. Он больше не заключает союз с Богом, ему не нужны никакие обеты, не нужно, чтобы его семя было многочисленно, как песок морской. Все это кажется ему лишь большой игрой — проповеди, которые он писал для рабби Лемперта, книги, которые он теперь продает раввинам и ешиботникам, принятие иудаизма Ядвигой, Машин уход, Тамарина отзывчивость.
Герман прочитал Агоду и зевнул. Он поднял бокал и отмерил десять капель по числу казней египетских. Тамара хвалила Ядвигины кнейдлах. Какая-то рыба из Гудзона или из другой реки заплатила жизнью за оказанную ей честь: поедая рыбу, Герман, Тамара и Ядвига вспоминали о чудесах исхода из Египта. Курица не пожалела своей шеи в память о пасхальной жертве[154].
В Германии и даже здесь, в Америке, возникали партии неонацистов. Во имя Ленина и Сталина коммунисты устраивали погромы в Китае и Корее. В пивных Мюнхена те, кто недавно играл черепами еврейских детей, теперь потягивали пиво из высоких кружек и мурлыкали марш штурмовых отрядов. В Москве расстреляли последних еврейских писателей[155]. Еврейские коммунисты в Нью-Йорке, Париже, Буэнос-Айресе превозносили убийц и поносили вчерашних вождей. Истина? Она не здесь, а в Джамбуле, на клочке земли посреди раскаленной пустыни. Здесь даже идеи ворованные. Бог? Чей Бог? Еврейский? Бог фараона? Бог лягушек и вшей?[156]
Оба, Герман и Ядвига, упрашивали Тамару, чтобы она осталась ночевать, но Тамара уехала домой, пообещав вернуться завтра для подготовки второй трапезы. Она помогла Ядвиге помыть посуду и пожелала ей и Герману хорошего праздника.
Герман вошел в спальню и лег на кровать. Он не хотел думать о Маше, но мысли сами возвращались к ней. Чем она сейчас занимается? Вспоминает о нем? Она уже освободилась от тирании, которую называют любовью?
Зазвонил телефон. Герман вскочил и побежал, чтобы успеть поднять трубку, пока Маша не передумает. Он чуть не упал. Едва дыша, он крикнул:
— Алло!
Никто не ответил.
— Алло! Алло! Алло!
Он знал, что это Маша. Это ее старый трюк — звонить и молчать. Может, она просто хотела услышать его голос?
— Не будь идиоткой! Не молчи! — крикнул он.
Маша молчала.
— Это ты ушла от меня, а не я от тебя… — проговорил Герман, сам не понимая, что говорит.
Никто не ответил. Он подождал немного и сказал:
— Меня уже ничем не испугаешь.
II
После Пасхи книжный магазин реб Аврома-Нисона Ярославера опустел. Дни шли, а покупателей не было. Тамара снова ездила в Нью-Джерси сортировать пуговицы. Герман рылся в книгах, открывал то «Мидраш Танхума»[157], то «Кдушас Леви»[158], то «Мишна Брура»[159], то «Месилас Йешорим»[160]. Каждая книга повествовала о своем, но всякий раз основываясь на чужом мнении.
Раввин с рыжей бородой и в очках с толстыми стеклами тоже пришел покопаться в книгах. Он близоруко подносил пожелтевшие страницы к очкам, клал на страницы рыжую бороду и словно вдыхал текст, напечатанный шрифтом Раши[161]. Время от времени он вздыхал. Раввин уже успел рассказать Герману свою историю. Его жена и дети погибли от рук нацистов. Сам он доехал до Шанхая, где стал главой ешивы, в которой даже переиздавали комментарии Рашба[162] и Ритба[163]. Позднее японцы закрыли ешиву. Теперь у него есть молельня в Бруклине, но прихожане молятся только в субботу днем, а иногда и вообще не приходят. Тору не учат, вопросов не задают. Что он за раввин? Здесь священнослужители дают объявления в газетах. Приходится налаживать контакты с репортерами и даже платить им. Раввины и раввинши приглашают в гости безбородых писак, чтобы те поместили заметку о них в своей газетенке. Если не можешь пробиться, остаешься прозябать в своем углу. Но, слава Богу, здесь свободное государство. Просто тоскливо без общины, однако не стоит предъявлять претензии Владыке мира.
Раввин спросил Германа:
— Вы, должно быть, ученый-талмудист, да?
— Я учился.
— Тогда вы знаете, что «все, что сделал Бог, к лучшему»[164].
— Что хорошего получилось из гитлеризма?
— А что нам известно? Когда ребенку дают касторку, он плачет и не хочет ее пить, но отец знает, что нужно принять касторку, чтобы облегчить больной желудочек. Иначе малыш, не дай Бог, действительно заболеет. Все страдания — это испытание и очищение.
— Зачем очищение маленьким детям?
— Мы не в силах познать Всевышнего. Если бы мы понимали Бога, мы бы сами стали богом.
Раввин нашел книгу комментариев и хотел ее купить, но Тамара оценила ее слишком дорого. Раввин уже готов был согласиться, он стал шарить по карманам и обнаружил, что оставил дома бумажник. А может быть, его украли? В Нью-Йорке много воров. Раввин принялся почесываться под арбоканфесом, у него даже не было денег на метро. Герман отдал ему книгу в долг и добавил пару центов на метро. Раввин сказал:
— У вас еврейское сердце.
Как только раввин вышел, появилась коротко стриженная девушка. Светлые волосы на ее голове стояли ежиком. На плече висел огромный портфель. Брови срослись на переносице, глаза светлые. У нее были короткий нос и полные ненакрашенные губы. Ее костюм был похож на мужской, шарфик, пропущенный под воротником блузки, напоминал галстук, на ногах — ботинки на низком каблуке. «Точно лесбиянка», — подумал Герман. Голос девушки звучал странно, не мужской, но и не женский. Она спросила по-английски:
— Какие книги по каббале у вас есть?
Герман принялся смотреть в каталоге.
— «Пардес римоним» рабби Моше Кордоверо[165].
— Это у меня есть.
— «Эц хаим» рабби Ицхака Лурии[166].
— Это у меня тоже есть.
— «Калах Писхей Хохма» рабби Моше-Хаима Луцатто[167].
— Что это такое?
— Введение в каббалу.
— Вот это то, что мне нужно.
— Вы изучаете каббалу?
— Я пишу об этом работу.
— У меня есть еще одно введение в каббалу — «Шефа таль»[168].
— Дайте мне все, что у вас есть.
Герман принялся искать книги. Девушка закурила сигарету. Даже ее манера курить была мужской. Она держала сигарету криво и выдыхала дым через нос. Ее взгляд был полон мужской энергии и твердой решительности женщины, которая взяла на себя роль мужчины. Герман нашел огромный том «Шефа таль», но «Калах Писхей Хохма» куда-то подевалась. Герман спросил:
— Вы знаете древнееврейский?
— Немного знаю, если нужно, пользуюсь словарями.
— Вы пишете диссертацию?
— Да, но хочу, чтобы получилось нечто большее, нежели просто диссертация. По-английски практически нет работ о каббале. А то, что есть, никуда не годится.
— Садитесь, я еще поищу.
В магазине стоял стул, и незнакомка уселась на край. Герман заметил, что у нее стройные ноги, узкая кость, колени не круглые, а по-девичьи (или по-юношески) угловатые.
— Как это вы заинтересовались каббалой? — спросил Герман.
— Через Вильяма Блейка[169].
— Ваши родители живут в Нью-Йорке?
— Моя мама умерла. Отец — полковник американской армии, он сейчас в Корее.
— Это и есть Америка…
Герман нашел «Калах Писхей Хохма».
Девушка открыла книгу и прочитала заголовок. Герман заметил, что она не сделала ни одной ошибки в произношении. Она спросила о цене и дала Герману десятидолларовую банкноту. Герман немного поколебался:
— Я пойду разменяю. Сегодня вы мой первый покупатель.
— Может, у вас еще что-нибудь есть? Меня интересует хасидизм…
Герман продал ей книгу «Мей а-Шилоах»[170]. Цена приблизилась к десяти долларам, нужно было дать пятьдесят центов сдачи. Герман начал заворачивать книги в бумагу, но она сказала:
— Извините меня, но так книги не запаковывают.
Она забрала у Германа бумагу, и он обратил внимание на ее длинные пальцы с острыми ногтями. На пальцах виднелись пятна от чернил, как у гимназистки.
— Где вы выучили древнееврейский?
— У учителя. Потом в университете. Мой отец христианин, а мама была еврейкой. Ее отец был главой общины в Чаттануге. По галахе я еврейка[171].
— Да, все считается по матери.
— Вы приехали из Восточной Европы, да?
Герман рассказал ей о своем происхождении. Она спросила, как он спасся, и он рассказал ей правду.
— Когда вы закрываетесь?
— Обычно в шесть, но после Пасхи покупатели редко заходят.
— Закрывайте, пойдемте выпьем кофе. Может быть, вы дадите мне совет? В этих книгах такой хаос… Одной и той же вещи они дают самые разные названия, и у каждого автора своя терминология. Здесь есть что-нибудь поблизости?
— Рядом есть молочный ресторан.
— Сходим туда. Или может, вам нужно домой?
— Нет, не нужно…
— Боже, я вам даже не представилась. Меня зовут Нэнси Избель. А как вас зовут?
— Герман Бродер.
— У вас есть семья?
— Я женился на девушке, которая меня спрятала.
— На христианке, да?
— Она стала еврейкой.
— В чем именно разница между каббалой и хасидизмом?
Герман не ответил. Разговаривая с девушкой, он закрыл магазин. Она спросила:
— Еврейские книги иногда воруют?
— Боюсь, как бы еще не подложили…
Она улыбнулась, ее лицо казалось теперь молодым и девичьим. Они отправились в молочный ресторан. По дороге она рассказала Герману свою историю. Родители постоянно ссорились и разошлись. Ее, Нэнси, воспитала мать, которая старалась — видимо, назло отцу — обучить ее еврейским традициям. Нэнси ходила в воскресную школу при реформистской синагоге. К ним домой приходил учитель древнееврейского. Мама унаследовала состояние от своих родителей. Сама Нэнси всегда хотела быть еврейкой. Когда она еще ходила в колледж, она собирала библиотеку о евреях и еврейской культуре. Нэнси изучала Мартина Бубера[172], «Море невухим»[173] в английском переводе, талмудическую Агаду. В колледже она выбрала курс иврита. В Колумбийском университете, куда она поступила после окончания колледжа, она увлеклась еврейской философией. Отец? Нет, он так и не женился, стал профессиональным военным. А она? Ей есть что рассказать. Она вышла замуж и развелась. За еврея? Нет, за христианина, профессора астрономии, но не сложилось. Давно она развелась? Три года назад…
Было время, когда Германа не переставали удивлять и даже шокировать американские истории, но постепенно он привык к американскому образу жизни. Америка — не плавильный котел, а лаборатория бесчисленных новых комбинаций. Колесо истории вращается здесь быстрее. То, что в Старом Свете происходит посредством войн и революций, здесь воплощается в жизнь через бизнес, любовные связи, свадьбы, разводы, университеты, чиновников и путешествия. Не требуется переселения народов, победы на поле битвы, резни и преследований, чтобы Нэнси Избель заинтересовалась каббалой…
Герман попробовал молочный суп и заговорил о том, что хасидизм — это продолжение лурианской каббалы[174], хотя и популяризированной и приспособленной к польскому контексту. Нэнси слышала о хасидах, обосновавшихся в Вильямсбурге, ей хотелось сходить к ним и поговорить с раввинами. Но пустят ли они к себе женщину? Они говорят по-английски? Знает ли Герман, где именно они живут? Герман спросил:
— Зачем вам нужно столько знать о еврейской культуре? Вы же видели, что произошло с евреями в Европе.
— Для меня это не аргумент.
В разговоре с Нэнси Герман на время забыл о своей тоске по Маше. Вскоре он рассказал о возвращении Тамары, после того как он годами считал, что она мертва. Нэнси посмотрела на него строго и с удивлением:
— То есть у вас две жены?
— Да, две.
— Двоеженство?
— Да, двоеженство.
— Странно, я хотела пойти в другой книжный магазин, но меня всегда тянет к авантюристам. Ноги сами привели меня сюда. Что вы думаете делать?
— Я из числа тех, кто ничего не делает.
— Почему же?
— Потому что я уже все испробовал, ничего не помогло.
— Вы говорите об адаптации в обществе?
— Обо всем сразу.
— Что же вы собираетесь делать?
— Скрываться по возможности.
— Где?
— На сеновале.
— При одном запахе сена мне хочется чихать. Это ваша интерпретация каббалы?
— Согласно каббале, этот мир — худший из миров. Каббалисты называют его «лоно великой бездны», то есть «женщина великой бездны».[175]
— Почему именно женщина?
— Потому что она не видит бездны.
— Она видит, видит. В Европе уничтожили столько же женщин, сколько и мужчин.
Нэнси хотела оплатить счет, но Герман не позволил. Он стал вырывать у нее чек, несколько секунд они боролись, и Нэнси поцарапала ему указательный палец ногтем. Она поспешно выложила пятьдесят центов чаевых.
Когда они вышли на улицу, был уже вечер. Нэнси пожала Герману руку:
— Вы первый двоеженец в моей жизни…
III
Невероятно! Нэнси оставила машину где-то здесь, недалеко от дома, где жил реб Авром-Нисон Ярославер и куда теперь переехала Тамара. Герман обратился к ней:
— Вы первая женщина в моей жизни, которая водит машину.
— Я вожу машину с пятнадцати лет. Конечно, начала не здесь, не в Нью-Йорке…
Она села за руль и закурила. Герман сел на соседнее сиденье и сказал:
— Мы поедем в Вильямсбург. Это недалеко, за мостом. Может, что-нибудь и найдем…
Нэнси вела машину быстро, легко и, видимо, без всякого страха, словно не осознавая того, что машина может сбить человека и погубить тех, кто сидит в ней. Она обгоняла идущие впереди машины, при этом курила и разговаривала.
— Что такое вера? — твердила она. — Я не могу сформулировать. Как можно верить без доказательств существования чего-либо? И как можно жертвовать жизнью за такую веру?
— Жизнью жертвовали даже за Гитлера.
— Не за Гитлера, а за Германию.
— Зачем нужна Германия, если ты мертв?
— Рисковать жизнью не означает верить.
— Порой люди отправлялись на верную смерть.
— Это просто самоубийство. Как вы думаете, где нам искать раввина? Человеческий мозг — величайшая загадка. Возьмите тех же каббалистов. Они говорят тысячи вещей о Боге и мирах, которых никто никогда не видел. Они вдаются в детали, как будто сами летали на небо и посещали все сферы. На самом деле они просто сидели в синагогах или в пещерах и фантазировали.
— Если так, почему вы ими интересуетесь?
— Чисто с психологической точки зрения. Эй, ты, сукин сын!.. Руки бы поотрывать таким водителям!.. Во мне еще теплится надежда на то, что кто-нибудь из этих мистиков обнаружит истину. Так же, как древние греки предвосхитили существование атомов.
— Нет уже атомов.
— Как это нет? Учение об атомах по-прежнему является частью химии. Вы женились исключительно из благодарности?
— Из любви, которая происходит от благодарности.
— И вы довольны, да? Я вышла замуж, потому что мой муж научил меня пользоваться спектроскопом. Я была уверена в том, что мы будем спать днем, а ночью наблюдать за Сириусом или за Луной. Но я нашла у него огромную коллекцию порнографических фотографий, он стал подталкивать меня к роману с его лучшим другом и писал плохие стихи в придачу. Можете себе представить?
— Почему нет?
— А почему да? Кажется, это синагога.
Машина остановилась у ешивы. Нэнси и Герман вышли.
Герман открыл дверь. В полуосвещенном зале, который был синагогой и классной комнатой одновременно, молодые люди сидели над Талмудом. Одни в ермолках, другие в шляпах. Одни с бородой и пейсами, другие без бороды и без пейсов. Некоторые, качаясь, читали нараспев, другие украдкой поглядывали на вошедших.
Нэнси уставилась на них:
— Что они изучают?
— Талмуд.
— Что, например?
— Можно ли есть яйцо, которое курица снесла в праздник.
— Я не вижу раввина.
— Это не хасидская молельня.
— Пойдемте поищем раввина.
Нэнси плутала по переулкам, но раввина они так и не нашли. Проехав весь хасидский район, она сказала:
— Если хотите, я отвезу вас домой.
— Зачем вам это?
— А что еще мне делать? Пойти в кино на фильм про гангстеров? Порой мой телефон звонит не переставая, а иногда молчит целыми днями. Я подхожу к нему и поднимаю трубку, чтобы проверить, работает ли аппарат. Так же и с письмами, со всем так. Как вы начали продавать книги?
— Этот магазин принадлежит дяде моей жены.
— Крестьянки?
— Той, что приехала из России.
— У вас, приезжих, все так запутано. Вы хотели заниматься торговлей книгами?
— В действительности я хотел где-нибудь спрятаться.
— Где, например?
— На заброшенной ферме в Орегоне или Висконсине. Жить без телефона и без соседей, не получать почту, есть картошку с молоком и больше ничего.
— Как долго бы вы там выдержали? Я годами мечтала об острове, но островов больше не существует. Нет таких ферм, которые вы себе воображаете. И наверное, никогда не было. Когда я вышла замуж за своего мужа, мы болтали с ним об обсерватории на вершине горы, но это оказалось пустой выдумкой. Мой муж постоянно устраивал вечеринки. Профессора напивались, как крестьяне в шинке. Допустим, есть такая ферма. Как бы вы там жили со своей женой, если у нее совсем нет образования?
— В моих мечтах это другая женщина.
— М-да, я пошла искать каббалиста, а нашла современного человека с полным набором комплексов и капризов. От кого вы хотите скрыться?
— От нацистов, большевиков и других убийц. Я иду по улице и знаю, что рядом со мной по тротуару ходят эсесовцы. Один из них, возможно, застрелил моих детей. Другие прохожие жаждут революции, войны, такого погрома, сякого погрома. По глазам видно, что они вынашивают планы мести реакционерам, прогрессистам, евреям, белым, черным. В разгар этой вакханалии грабежей и убийств они не перестают болтать о светлом будущем. Для меня весь мир превратился в огромную скотобойню. Скоро, скоро последуют новые убийства. И пока на одном конце города будут резать людей, на другом будут петь гимны человеческому роду, венцу творения…
— Такова, к сожалению, человеческая история.
— Я хочу спрятаться от человеческой истории.
— Вы не спрячетесь от нее ни в Орегоне, ни в Висконсине. Вы и сами это знаете. Как толкует каббала мировое зло?
— Бог сжал свой свет, чтобы у человека был свободный выбор.
— Зачем?
— Чтобы человек пришел к добру по собственной воле, так сказать, собственными силами.
— Зачем Богу вообще понадобился человек?
— Чтобы у Бога было к кому проявлять свою милость. Раз Он милосерден, Ему нужен кто-то, кого можно облагодетельствовать.
— То есть Он создает бедняков, чтобы раздавать им милостыню.
— Видимо, так.
— От такого Бога не спрячешься. Я, конечно, не верю ни в Бога, ни в каббалу, ни в какое-либо другое мистическое учение или в философию. Когда-то я играла с марксизмом, но уже давно ушла от этого. Единственная движущая сила в моей жизни — это любопытство. Что ж, подождем, посмотрим, что еще выдумает человеческий мозг.
Оба долго молчали. У Германа появилось ощущение, что машина плутает по улицам. Нэнси свернула в полутемный переулок с мостовой, покрытой не то гравием, не то разбитым асфальтом, с низкими зданиями, по которым трудно понять, что это — фабрики или склады. Здесь стояла загородная тишина. Пахло маслом и дымом. Раньше времени началась летняя жара. Показался кабак, в полутьме у барной стойки горбились темные люди, они разговаривали пьяными голосами и качались. Потом вновь стало тихо и темно.
Через некоторое время машина выехала на набережную моря или канала. Над грузовыми судами качались фонари. Откуда-то светили прожектора. Из дыр в толстых бортах лилась грязная вода. Герман читал названия кораблей, они звучали по-португальски, по-персидски, по-турецки. Полуголые матросы бродили по палубам. Один красил борт, другой драил палубу, третий плевал в море. Желтая вода внизу, полная мусора, билась о набережную и пенилась. Ночная печаль, раскаленная, тропическая, разлилась над мачтами, кранами, трубами. Картина была нереальной, все казалось Герману сном или театральной декорацией. «Что за безумие рожать ребенка в этом мире?» — думал Герман.
Нэнси Избель тут же воскликнула, словно прочитав его мысли:
— Я забыла вас спросить: у вас есть дети от второй жены?
— Она на последних месяцах беременности.
— Вот как…
Герман осмотрелся, машина ехала по Нептун-авеню. Нэнси подвезла его точно к дому. Некоторые соседи еще сидели на улице на лавочках. Герман сказал:
— Большое вам спасибо.
— Я еще приду покопаться у вас в магазине. Может быть, даже завтра.
— Конечно, приходите. Будете желанным гостем. Большое спасибо.
Герман вышел, и машина рванула с места. Соседи умолкли, они глядели на Германа с осуждением, удивлением и ненавистью. В этом доме он был отрицательным персонажем, из тех, что иногда появлялись в еврейских пьесах.
Ни с кем не здороваясь, Герман поднялся по лестнице. Он открыл ключом дверь в темную квартиру и вошел в спальню. Ядвига лежала с открытыми глазами. Она сказала:
— Марьяша улетела.
Что-то оборвалось у Германа внутри.
— Как?
— Я приоткрыла окно, и она вылетела.
— Я тебя предупреждал, что…
— Это знак того, что я умру при родах, — сказала Ядвига.
— Крестьянка остается крестьянкой.
— Скоро сможешь жениться на своей любовнице.
Герман прекрасно знал, что попугаи не живут на свободе. Марьяша погибнет в первую же холодную ночь, умрет от голода, или другие птицы ее заклюют. Герман пошел на кухню. Уличный фонарь освещал клетку. Войтуш сидел один на жердочке, где обычно ночевал вместе с Марьяшей. Услышав шаги Германа, он засвистел. «Наверное, он тоскует», — сказал себе Герман. Он слышал о том, что, если один попугай теряется, другой перестает есть, объявляет что-то вроде голодовки против Творца. Эти создания тоже страдают от любви.
Герман разделся и лег в постель. Ему было тяжело спать вместе с Ядвигой. В мыслях он сравнивал себя с убийцей, которого приговорили к положению в гроб вместе с его жертвой. Герман боялся дотрагиваться до ее живота, который день ото дня все вздувался и округлялся. Во всем этом хаосе некая сила превращала семя в эмбрион, кто знает, с каким количеством органов, с миллионом нервов, с бесчисленными наследственными особенностями, выработанными поколениями палачей и жертв.
Герман лег на край кровати. В воображении он увидел Марьяшу, сидящую где-то на крыше, без Войтуша, без еды, без воды, обреченную на смерть, полную горя, древнего, как сама жизнь…
IV
Герман уснул, ему снилась Маша. Зазвонил телефон, и он вскочил с постели. Ядвига храпела. Он побежал в соседнюю комнату, в темноте ударился о что-то коленом. Поднял трубку, крикнул «Алло!», но никто не ответил. Он сказал:
— Если ты сейчас же не ответишь, я повешу трубку.
И услышал Машин голос:
— Подожди.
Это слово было произнесено сдавленным голосом, Маша словно подавилась им. Потом ее речь стала четче:
— Я здесь, на Кони-Айленде. Приходи.
— Что ты делаешь на Кони-Айленде? Где ты?
— В «Манхеттен-Бич Отель». Я звоню тебе целый вечер. Где ты ходишь, а? Решила позвонить еще раз, пока не заснула.
— Что ты делаешь в «Манхеттен-Бич Отель»? Ты одна?
— С кем мне быть? Я приехала к тебе.
— А где мама?
— В санатории, в Нью-Джерси.
— Я не понимаю.
— Я ее устроила туда. Буду платить, как и все остальные. Раввин выбьет для нее пособие или что-то в этом роде. Я ему все рассказала. Я ему сказала, что не могу без тебя и что мама — единственное препятствие. Он пытался меня отговорить, но логикой тут не поможешь.
— Ты знаешь, что Ядвига на сносях.
— О ней он тоже позаботится. Он великий человек, хотя и сумасшедший. В его ногте больше сердечности, чем в тебе. Если бы я его полюбила, я была бы самой счастливой женщиной на свете. Но я не могу. Когда он до меня дотрагивается, меня трясет от отвращения. Он еще поговорит с тобой. Он хочет, чтобы ты закончил начатую работу. Он любит меня и готов развестись со своей женой ради меня, но он понимает и мои чувства. Я бы никогда не поверила, что американский раввин может быть таким, он просто святой.
Герман помедлил с ответом.
— Все это ты могла бы мне сказать, оставаясь там, — сказал он с дрожью в голосе.
— Если ты не хочешь, я не буду тебя вынуждать. Я поклялась, что, если в этот раз ты оттолкнешь меня, я больше никогда не увижусь с тобой и никогда слова тебе не скажу. Для меня ты будешь мертв, хуже, чем мертв. У всего есть свой предел, и это конец. Отвечай четко и ясно!
В Машином голосе были дрожь и надрыв, которых он раньше не замечал. Герман и сам исполнился страхом и возбуждением.
— Ты отказалась от работы?
— Я от всего отказалась, упаковала рюкзак и приехала к тебе.
— Что будет с квартирой?
— Мы избавимся от всего. Я не хочу больше жить в Нью-Йорке. Раввин дал мне прекрасную рекомендацию. Теперь меня везде возьмут на работу. Я нисколько не преувеличиваю, но старики и больные с ума сходили по мне. За то недолгое время, что я ухаживала за ними, я буквально возвращала к жизни людей, которые были уже сломлены физически и духовно. Мне никогда не приходило в голову, что у меня такие способности. У раввина есть санаторий во Флориде, если я буду у него работать, то сразу стану получать по сто долларов в неделю. Раввин сам сказал, что я достойна большего. Если ты не хочешь во Флориду, у него есть санаторий в Калифорнии. Ты тоже сможешь работать на него. Это человек невероятной энергии, но при этом наивный как ребенок и несчастный. Добрый, как ангел небесный. Что ты на это скажешь, а?
— Я не могу ее оставить, у нее со дня на день начнутся схватки.
— Потом, когда у нее будет младенец, ты опять не сможешь. То, что я проделала сегодня, — моя последняя попытка. Завтра я улечу в Калифорнию, и больше ты обо мне не услышишь. Клянусь Богом и прахом моего папы.
— Подожди секунду!
— Чего мне ждать? Новых отговорок? Даю тебе час времени на сборы. Раввин обеспечит твоей гойке больницу и все необходимое. Он президент какой-то организации — я уже забыла, как она называется, — для бедных рожениц. Он все о тебе знает, до мельчайших подробностей. Я от него ничего не скрыла. Он был удивлен, но все понял. Он считает, что мы оба не в своем уме, но сумасшедшие существуют, это факт. А может, у тебя уже новая любовница?
— У меня нет новой любовницы, есть только книжный магазин.
— Что? У тебя? Магазин?
Герман вкратце рассказал ей обо всем.
— Ты вернулся к своей жене?
— Совсем нет. Но она ангел.
— Познакомь ее с раввином. Из двух ангелов может получиться новый Бог. Мы оба черти, но мы причиняем зло только самим себе.
— Сейчас, среди ночи, я не могу собрать вещи.
— Не бери ничего. Да и что у тебя есть? Раввин не то одолжил мне денег, не то выдал аванс. Зависит от того, что я буду делать. Мы стали близкими друзьями. Иди ко мне, мы больше никогда не разлучимся. Брось все, как Авраам в Пятикнижии[176].
— Это убьет ее.
— Это не убьет ее. Она здоровая крестьянка. Найдет себе другого и будет довольна. Ребенка можно отдать на усыновление, она получит тысячу долларов вдобавок. У раввина есть связи и в таких организациях. Звучит невероятно, но у него везде свои люди. Он любит помогать. Это его страсть. Если ты захочешь, мы заведем ребенка, еврейского ребенка, а не крестьянского внука. Но время разговоров и промедлений прошло. Сегодня мой Судный день. Ты приедешь сейчас же или никогда. Если Авраам не может принести в жертву Исаака, он сможет принести в жертву Измаила[177]. Может быть, потом мы заберем себе ее ребенка. Что ты скажешь?
— Что именно я должен сказать?
— Одевайся и приходи ко мне. Оставь ей записку, что ты уходишь от нее. Такие вещи происходят каждый день.
— Я боюсь Бога.
— Если боишься, оставайся с ней. Спокойной ночи навсегда!
— Подожди, Маша, подожди!
— Да или нет?
— Да.
— Хорошо, я дам тебе номер моей комнаты.
Герман повесил трубку. Он прислушался. Ядвига все еще храпела. Он замер у телефона. Только сейчас Герман понял, как сильно скучал по Маше. «Умри или убей», — процитировал он чьи-то слова. Он вспомнил формулировку закона: «Йиарег веаль йаавор»[178]… Но может, Ядвига не умрет?
На некоторое время Герман лишился мыслей, он стоял в немом бездействии, как человек, который сделал свой выбор. Потом мысль заработала. В ящике у него был электрический фонарик, он достал его и посветил на колесико телефона. Герман набрал номер реб Аврому-Нисона Ярославера. Ему надо было поговорить с Тамарой. Телефон звонил долго, наконец он услышал Тамарин заспанный голос. Герман сказал:
— Тамара, прости меня. Это я, Герман.
— Да, Герман. Что случилось?
— Я ухожу от Ядвиги.
— Что? Как это так?
— Я уезжаю с Машей. Не могу по-другому. Я знаю, что это ужасное преступление, но у меня нет выбора. У меня больше нет ни воли, ни совести. Это чистая правда.
Тамара ненадолго замолчала.
— Ты знаешь, что ты делаешь?
— Я знаю и делаю.
— У женщины, требующей такую жертву, нет сердца. Ты тоже жесток. И все же я не знала, что ты можешь настолько потерять себя.
— Но это так.
— Что будет с магазином?
— Все в твоих руках. Если можешь, прости. Если не можешь, я на тебя зла не держу. Из меня никудышный торговец.
— Нет, ты свихнулся.
— Называй, как хочешь. Ты же знаешь, что я работал на рабби Лемперта. Я писал для него. Он хочет помочь Ядвиге, я дам тебе его адрес и телефон. Свяжись с ним. Он и для тебя может многое сделать.
— Мне ничего ни от кого не нужно.
— Возьми листок бумаги и карандаш.
— Секунду.
Стало тихо. Герман держал трубку у уха и ждал. Ядвига перестала храпеть.
«Который час?» — спрашивал себя Герман. Обычно он хорошо чувствовал время и мог сказать, который час, с точностью до минуты. Но теперь он как будто потерял эту способность. Герман стоял пораженный своей затеей. «Ну, что происходит с любым преступником? — думал он. — Он теряет волю и начинает действовать, как робот».
Герман с нетерпением ждал того момента, когда встретится с Машей. «Собирать вещи? Какие вещи? Только бы она не подняла скандал!» Он как будто просил о помощи высшие силы, чье существование отрицал.
Тамара вернулась:
— Диктуй номер.
Герман дал ей адрес и телефон. Она сказала:
— Почему ты не можешь подождать хотя бы, пока она родит?
— Я не могу ждать.
— Герман, у тебя ключи от магазина. Если ты уезжаешь, мне надо будет заниматься торговлей. Приходи с утра и открой магазин. Я буду там в десять. Буду ждать тебя.
— Я приду.
— Ты сам эту кашу заварил, тебе и расхлебывать.
И Тамара положила трубку.
Герман стоял в темноте и прислушивался сам к себе. Потом он пошел на кухню взглянуть на часы. Странно, еще только пятнадцать минут третьего. Он уснул всего на час, а казалось, проспал всю ночь.
Герман стал искать рюкзак, чтобы взять с собой хотя бы рубашку и белье. Он осторожно открыл ящик и достал рубашки, белье, носовые платки. При этом у него было странное ощущение, будто Ядвига не спит, а только притворяется. Кто знает, может, она хочет избавиться от него? Может, ей уже все это надоело? А может, она поднимет скандал в последнюю минуту? Ну, будь что будет… Конец уже предопределен.
Дрожа, Герман запихивал в рюкзак то, что нашел в ящиках. Он вспомнил о рукописи для раввина. Где она?
Ядвига села на кровати:
— Что происходит, а?
— Я должен уйти.
— Куда? Ну, все равно.
И она снова легла. Герман услышал скрип кровати.
Рюкзак заполнился и потяжелел. Герман оделся в темноте. Он потел и сопел. Из карманов брюк выпала мелочь, но он и не пытался собрать ее. Он слышал внутренние голоса, словно в бреду. Он все время на что-то натыкался, но не обращал внимания на удары.
Герман обратился к Ядвиге:
— Я открою окно на кухне, может быть, Марьяша вернется.
— Войтуш тоже улетит.
— Они не летают в темноте.
Телефон зазвенел, и Герман подбежал к нему. Снова звонила Маша.
— Ты идешь или нет? — спросила она с яростью и нетерпением.
Герман ответил:
— Да, у меня нет выбора.
V
Герман боялся, что Ядвига будет препятствовать его уходу и что придется сопротивляться ей физически, но Ядвига молчала. Он прекрасно понимал, что она не спит и наблюдает за тем, как он уходит. Почему же она молчит? Герман пытался объяснить себе ее поведение, но впервые за их с Ядвигой совместную жизнь она вела себя непредсказуемо. Это выглядело так, будто она участвовала в заговоре против Германа и понимала что-то, что было ему неведомо. Или она просто дошла до предела отчаяния? Германа пугала эта неизвестность. Кто знает? В последний момент она может накинуться на него с ножом. Прежде чем уйти, он подошел к ее кровати и сказал:
— Ядвига, я ухожу.
Она не ответила.
— Все будет в порядке.
И Герман вышел из комнаты с чувством стыда за это нелепое обещание и с некоторым опасением, которого он раньше никогда не испытывал. Если бы она, по крайней мере, обругала его! Он сбежал по лестнице, ноги двигались тяжело. Герман быстро пересек Мермейд-авеню и вышел на Серф-авеню. Как тихо и темно было на Кони-Айленде в предрассветный час! Фонари погашены, места развлечений закрыты. Улица казалась по-деревенски пустой. Слышался плеск волн по ту сторону набережной. Пахло рыбой и морем. Герман разглядел звезды на небе. Люди перестали шуметь и заснули, а море без устали твердит свое. Герман увидел такси и подал ему знак. Все его состояние ограничивалось теми десятью долларами, которые он получил от Нэнси Избель. «Нет в мире большего негодяя, чем я», — сказал себе Герман. Он открыл окно такси, чтобы выветрить запах никотина. Дул прохладный ветерок, но лоб Германа был мокрым. Он глубоко вдохнул воздух, охладившийся за ночь, но все еще пропитанный дневной жарой. «Должно быть, так едет убийца кого-нибудь убивать», — промелькнула у Германа мысль. «Она мой враг, враг», — бормотал он. У него было странное чувство, что один раз он уже проделывал все это. Но когда? Что-то жгло его изнутри, и Герман сам не понимал, была ли это физическая жажда или страсть к Маше. Он еще раз глубоко вдохнул ночной влажный воздух.
Такси остановилось у отеля. Герман боялся, что у водителя не будет сдачи с десяти долларов. В вестибюле было светло и тихо. Служащий дремал, прислонившись к стене с ящичками и ключами. Герман беспокоился, что лифтер спросит его, куда он едет, и, возможно, не пустит посетителя так поздно ночью, но тот молча довез его до указанного этажа. Герман быстро нашел номер. Он постучал, и Маша тут же открыла. Она была в черной кружевной ночной рубашке и тапочках. Лампы были погашены. С улицы пробивался свет фонаря. Они обнялись и припали друг к другу без слов, раскрыв рты, словно два хищных зверя. Они с трудом добрались до кровати. Герману показалось — уже в который раз! — что Маша будит в нем такие силы, которых он никогда не чувствовал в себе раньше. Они занимались любовью и боролись друг с другом, молча и озлобленно, словно их страсть была вызвана местью…
Наступил день, но Герман почти не заметил этого. На мгновенье Маша вырвалась из его объятий и задернула шторы, а потом вернулась обратно, словно после долгой разлуки…
Они заснули, так и не сказав ни слова, если не считать страстных вскриков. Герман спал долго и крепко. Он проснулся с обновленным желанием и страхом, оставшимся в нем от забытого сна. Он помнил только неразбериху, крики, насмешки. Вскоре исчезли и эти смутные воспоминания. Он оглядел спящую Машу и увидел на ее лице выражение наивности и детскости, которое появляется иногда на лицах покойников. Она открыла глаза и удивленно посмотрела на него:
— Который час?
И ее лицо снова приобрело обычное выражение.
Через некоторое время они пошли в ванную мыться. Герману надо было побриться. К Маше постепенно возвращался дар речи.
— Первое, что мы должны сделать, — поехать ко мне домой. У меня там остались вещи. Надо будет избавиться от квартиры. Мама больше туда не вернется.
— Это может занять недели.
— Я сделаю все за несколько часов, а не недель. Нам нельзя там больше оставаться!
Хотя Герман уже насытился Машиным телом, он не мог понять, как смог выдержать столь долгую разлуку. За эти недели она немного поправилась и стала выглядеть моложе. Герман увидел ее в зеркале аптечного шкафчика, в Маше появилось обаяние зрелой женщины. Он услышал ее голос:
— Гойка устроила сцену, да?
— Нет, промолчала.
— Раз уж мы не можем друг без друга, мы должны быть вместе.
— Да.
— Я буду работать в санатории, ты тоже будешь зарабатывать на жизнь. Я знаю, о чем ты думаешь, но нам надо уехать отсюда! А что ты говорил про магазин?
Герман рассказывал Маше обо всем, пока она мылась в ванной. Время от времени он замечал в ее взгляде какое-то отчуждение. Ему показалось, что за последнее время она стала практичнее и начала лучше разбираться в жизни. Оба наскоро оделись и вышли на улицу. Они отправились к метро на Шипсхедбей. Залив, усеянный лодками, сверкал на солнце. Многие из них только что вернулись с открытого моря, куда они, должно быть, вышли засветло. Рыбы, несколько часов назад плававшие в море, теперь лежали с остекленевшими глазами, порванными ртами и пятнами крови под чешуей. Владельцы лодок — состоятельные или очень богатые люди — грузили рыбу на тележки, хвастаясь своим уловом. Сколько раз Герман наблюдал, как режут скот или ловят рыбу, и каждый раз снова думал об одном и том же: по отношению к животным мы все — нацисты. Уверенность в том, что человек может обходиться с животными так, как ему вздумается, скрывала в себе радикальную расовую теорию и принцип «кто сильней, тот и прав». Герман не раз собирался стать вегетарианцем, но Ядвига не хотела и слышать об этом. Довольно наголодались в деревне, а потом в лагере. В богатую Америку мы приехали не затем, чтобы снова голодать. Соседи научили Ядвигу тому, что ритуальный убой скота и кашрут — это основа еврейской веры. Курице оказывают уважение, когда несут ее к резнику, обескровливают, высаливают и варят в кошерной посуде… Ну, а то, что делает он, Герман, разве это не жестокость? Он убивает медленно…
По дороге к метро они зашли позавтракать в кафетерий. Герман сказал Маше, что не может сразу поехать к ней домой в Бронкс, он должен отдать Тамаре ключи от магазина. Маша выслушала его и тут же исполнилась подозрениями.
— Значит, у тебя встреча с твоей умершей женой?
— Кто-то должен открыть ей магазин.
— Пошли ей ключи по почте.
— Маша, я не могу так вести дела.
— Она отговорит тебя. Если ты сейчас же не поедешь со мной, все кончено!
— Ты сразу начинаешь угрожать мне разводом.
— Я не верю, что это Тамара.
— Поехали вместе. Я отдам ей ключи, и мы поедем дальше. Ты видела Тамарины фотографии, ты ее узнаешь.
— Я ничего не видела и ничего не знаю. Пара недель в санатории была бесконечным адом. Мама все время хотела ехать обратно в Бронкс, хотя в санатории у нее уютная комната, медсестры, врач и все, о чем больной человек может только мечтать. Там есть синагога, где мужчины и женщины молятся вместе. Зачем разделять пожилых людей? Каждый раз раввин, приезжая, привозил ей подарок. В раю не может быть лучше, но она постоянно сетовала, что я сдала ее в дом престарелых. Другие пожилые люди сразу заметили, что ей ничем не угодишь. К ней обращались, но она не отвечала. Там есть сад. Все остальные сидели в саду, читали газеты, играли в карты, а она закрылась у себя в комнате, как принцесса. Старые и больные люди меня в самом деле боготворили и огорчались, что моя собственная мама постоянно всем недовольна. Я пыталась уйти с головой в работу, но, лежа до полночи без сна, теряешь вкус к жизни. То, что я рассказала тебе о раввине, — это правда, он готов бросить жену ради меня. Одно мое слово, и он мой.
В метро Маша снова сделалась молчаливой. Она сидела с закрытыми глазами. Каждый раз, когда Герман начинал с ней говорить, она вздрагивала, словно он будил ее ото сна. Ее лицо, которое утром в ванной выглядело таким молодым, снова осунулось. Так же, как и у него, ее облик постоянно менялся. Герман заметил седую ниточку в ее волосах и вспомнил еврейское название седых волос — «похоронные листки». Он разглядывал Машу. Могут ли такие, как они, когда-либо найти успокоение? Она бросила на произвол судьбы мать, он — беременную жену. Они совершали скверные поступки, которым нет оправдания. Это она, Маша, спровоцировала нынешнюю драму. Все, что она делала, выходило криво, дико, ужасно. Должно быть, она получала извращенное удовольствие, занимаясь самокопанием и обвиняя себя и Германа в страшных вещах. Герман не переставая смотрел на часы. Он должен был встретиться с Тамарой у магазина ровно в десять, но было уже двадцать минут одиннадцатого, и поезд был еще далеко от Канал-стрит. В Нью-Йорке жара началась рано. Герман рассматривал других пассажиров в вагоне. Они наверняка знали, куда едут и зачем. Никто не испытывал, как Герман, постоянных затруднений.
Поезд подъехал к Канал-стрит, и Герман вскочил. Он пообещал Маше, что позвонит и приедет к ней в Бронкс как можно скорее. В спешке он прыгал через ступеньки. Он выскочил на улицу и побежал к магазину, но Тамары там не было. Видимо, она ушла домой. Герман открыл магазин с одной целью — позвонить в квартиру реб Аврома-Нисона Ярославера и объяснить Тамаре, что он опоздал. Он набрал номер, но Тамара не ответила. Кто-то вошел в магазин, и Герман узнал Нэнси Избель. Она сказала:
— Я проезжала мимо и как раз нашла место для парковки. Я хочу еще порыться в ваших книгах.
Герман хотел ей сказать, что скоро оставит торговлю в магазине, но решил не вдаваться в детали. Он хорошо понимал, что Нэнси приехала за ним, а не за книгами, и в который раз удивился тому, что женщины в нем находят. У Германа было только одно объяснение: все дело в печали, которая отражается на его лице, в его отказе мириться с мироустройством. Те, кого он притягивал, слеплены из того же теста, что и он сам, — люди из распавшихся семей, сироты, вдовы, богоискатели, смятенные души. Герман смотрел, как Нэнси листает книгу, он узнал сочинение Ишайи Горовца[179]. Она подняла брови, видимо пытаясь прочитать цитату из Гемары или Зогара, и спросила:
— Что это? Древнееврейский? Арамейский?
— Смесь того и другого.
— Вы плохо выглядите. Что произошло с вами этой ночью?
— Ничего особенного.
— Вчера я пришла домой и нашла письмо от моей тети в Вермонте. Она больна, при смерти. Я должна ехать к ней.
— Где она живет?
— Где-то на заброшенной ферме, недалеко от озера Шамплейн. Она старая дева, понятное дело.
— Почему она не вышла замуж?
— Она любила одного человека, но тот женился на другой. В семье моей матери только и делают, что ищут повод для трагедии, и всегда находят…
VI
Нэнси Избель снова нашла книгу, которая ее заинтересовала, и захотела ее купить. На этот раз она сняла с полки «Сефер Разиель[180]», а недостатка в деньгах она, по всей видимости, не испытывала. По материнской линии она происходила из богатой семьи. Герман попытался еще раз позвонить Тамаре, но никто не ответил. Должно быть, она поехала сортировать пуговицы. Герман прикинул, что Маша должна была уже доехать до дома, и позвонил ей. Телефон звонил долго, но никто не отвечал. Герман хотел уже положить трубку, когда он услышал Машин голос. Она что-то восклицала и рыдала. Вначале Маша выкрикивала отдельные слова, но Герман не мог понять, о чем она говорит. При этом она плакала и ругалась. Потом Герман услышал, как она стонет:
— Меня ограбили! У нас все украли! Ничего не оставили, кроме голых стен.
— Когда это случилось?
— Откуда мне знать? Воры, бандиты, убийцы, нацисты!.. Это все твоя вина!.. Твоя! О Боже, почему я не сгорела с другими евреями?
И Маша разразилась истерическим плачем.
— Ты сообщила в полицию?
— Чем поможет полиция? Они сами воры!
— Что я могу сделать?
— Где ты там? Приезжай сюда!.. Негодяй, убийца!..
И Маша повесила трубку. Герману показалось, что он все еще слышит ее плач. Нэнси Избель прислушалась:
— Что-то случилось?
— Я должен сейчас же закрыть магазин и ехать в Бронкс.
— Как вы поедете? Давайте я отвезу вас на машине.
В последний момент в лавку зашел ешиботник, но Герман сказал ему, что магазин закрывается. Тот увидел в окне брошюру со стихом из Книги Притч и комментарием Виленского гаона. Он не хотел отступать, и Герман продал ему книжечку за пятьдесят центов. Машина Нэнси Избель стояла недалеко от лавки. Она взяла «Книгу ангела Разиеля» и хотела заплатить, но Герман отказался брать с нее деньги. Нэнси попыталась засунуть ему в карман два доллара, но Герман вынудил ее взять их обратно. Через несколько минут езды Нэнси сказала:
— Я от природы любопытный человек, поэтому я спрошу: почему вы упомянули полицию?
— Моих знакомых ограбили. В Бронксе, куда мы едем.
— Да, в Нью-Йорке полно воров. У них не было страховки?
— Наверное, нет.
— Кто они? Ваши родственники?
— Мать и дочь. Мать в санатории, а дочь только что вернулась оттуда.
— Беженцы, да?
— Жертвы нацистов.
— Может быть, я могу помочь?
— Как? Нет, вы ничем не поможете. Вы помогаете мне тем, что подвозите меня на машине.
— Мне это приятно. Вы для меня — первый человек, знающий еврейскую культуру, так сказать, изнутри. Профессора и даже некоторые реформистские раввины, с которыми я встречалась, понимают эти проблемы поверхностно. Для них это не более чем материал для получения докторской степени. Я невежда, но, по крайней мере, я восприимчива. Каждая новая идея, новая перспектива вызывают во мне бурю, даже если я в это не верю. Вчера я читала ваши книги до поздней ночи. В оригинале все звучит совсем иначе, можно ощутить авторское вдохновение. Возьмите слова «Эйн соф»[181], их невозможно перевести. А такое выражение, как «Швират а-келим»[182]. Удивительно! Что у них украли?
— О, наверное, пару платьев, белье.
— У меня целая гора платьев и слишком много белья. Раз в две недели я выбрасываю целые мешки или звоню в Армию спасения[183], они присылают курьера. Если бы ваши знакомые, кем бы они ни были, согласились, я бы им отдала немало вещей.
— Они не возьмут. Это гордые люди.
— Гордым людям тоже нужна одежда. Что это за мир? Если всё идет от Бога, является эманациями, так сказать, Его существа, Его света, кто тогда эти низкие твари, которые врываются в дом к бедняку и крадут его жалкое имущество? Во мне кровь закипает, когда я думаю об этом. Да, а нацисты? Они могут быть частью божества?
— Они могут быть Его отсутствием, темной стороной, пустотой, которую Ему пришлось допустить, чтобы сотворить мир.
— Зло больше, чем пустота. Человек, отнимающий ребенка у матери и сжигающий его в печи, — это не просто отсутствие света.
— Ну, мы не знаем.
— Зачем делать обобщения, если мы ни о чем не знаем? Вы завтра придете в магазин?
— Я в этом не уверен.
— Вы бросаете дело?
— Кто-то другой будет им заниматься.
— Вы остаетесь в Нью-Йорке?
— Боюсь, что нет.
— Вы загадочная персона. Простите, что я с вами так по-свойски, но если ваша жена, по вашим словам, на сносях, то как вы собираетесь уезжать из Нью-Йорка?
— Все возможно.
— Ну, да это ваше дело. Я дам вам свой телефон. Если этим людям нужна помощь, позвоните мне. Но уже после того, как я съезжу к своей тете. Эта поездка очень тяжела для меня. Я трусиха и не выношу болезни и смерти. И еще я боюсь, меня уже сейчас пугает мысль о том, что мне придется провести у ее тела Бог знает сколько времени. В нашей семье все умирают. Может быть, то же происходит и в других семьях? Каждая смерть оказывается для меня личной трагедией, даже смерть тех, кого я практически не знала. Мой отец сейчас тоже находится в опасном месте, в последнее время меня не покидает жуткое предчувствие, что придет телеграмма о его смерти. Там постоянно какие-то эпидемии. Вот моя визитная карточка.
Машина остановилась на светофоре. Герман поблагодарил и положил визитную карточку в нагрудный карман.
— Почему вы развелись с мужем?
Нэнси Избель встрепенулась. Загорелся зеленый, и машина торопливо рванулась с места, выскочив из своего ряда.
— О, мы полные противоположности. Говорят, противоположности сходятся, но это просто штамп. При всей учености он очень поверхностный человек. У него была одна цель в жизни — наслаждение. Я тоже стремлюсь к наслаждению, но не нахожу его в том, чтобы сплетничать о профессорах и их женах. Наступил период, когда его разум превратился в книгу, которую я знала наизусть. Прежде чем он открывал рот, я знала, что он собирается сказать и как именно он это скажет. Вначале он сильно любил меня, хотел постоянно проводить со мной время, но потом мы стали отдаляться друг от друга. Мы сидели с ним в кино, он брал меня за руку, и при этом я находилась на расстоянии в сотни световых лет от него, как и подобает жене астронома. Это невозможно описать. Он, конечно, тоже это чувствовал, такие чувства обычно бывают взаимными. Когда-то мы очень быстро решили пожениться и так же быстро подали на развод. Я не требовала от него алиментов. Мы уехали в Рино[184], и через шесть недель все было кончено[185]. Он женился во второй раз и завел двоих детей. Однажды я случайно встретила его в ресторане, но мы не поздоровались, как будто не были знакомы. Фактически наши души никогда не были близки.
— Так вы верите в существование души?
— Это слово принято использовать. Что такое душа? Когда я начала изучать каббалу и другие мистические учения — Бхагавад-гиту[186], Якоба Беме[187], Сведенборга[188], — я воодушевилась, но теперь мне стало ясно, что я слишком увлеклась фантазерством. Кто такой брахман?[189] Как появилась бесконечность? Если мы знаем заранее, что ответить на этот вопрос невозможно, бессмысленно его задавать. А если ответ все-таки существует, то он будет таким, какой наш мозг не в состоянии воспринять. Например, нельзя заниматься математикой с помощью желудка или почек, сколько их ни напрягай. Какой-то ответ существует, но, возможно, само слово «ответ» в данном случае не подходит. Как ответить на то, что произошло в Европе? Это невозможно. Даже человек часто оказывается для нас загадкой. Вот вы говорите, что уезжаете и больше не вернетесь в свой магазин. Вы, конечно, как-то связаны с теми, кого обокрали. При этом у вас есть жена, спасшая вашу жизнь, и здесь, в Америке, она чувствует себя беспомощной. Вы не выглядите мерзавцем, который мог бы так поступить, однако…
— Есть моменты в жизни, когда человек теряет волю.
— Это могло бы послужить оправданием для всех преступлений.
— И все же это действительно так.
Оба замолчали. Так они и сидели молча, пока машина не въехала в переулок в Ист-Бронксе. Герман попрощался с Нэнси Избель и поблагодарил ее несколько раз. Она спросила:
— Мы видимся в последний раз?
— У меня есть ваш адрес и телефон, так что всегда есть вероятность…
— Я возьму ваши книги в Вермонт, но, если они вам не помогли, мне они тоже не помогут.
— Никогда не знаешь заранее.
Герман вышел. Нэнси тут же уехала. Машина сорвалась с места и быстро растворилась среди других машин. Герман поднялся по лестнице, открыл дверь и увидел Машу. Она стояла посреди комнаты. Все шкафы были открыты, ящики перевернуты, с окон сдернуты занавески. Квартира выглядела как во время переезда, когда все вещи уже вывезены и остается только забрать мебель. Воры забрали все без разбора. Герману бросилось в глаза, что они унесли даже лампы. Он боялся, что застанет Машу в истерике, но она, видимо, уже успокоилась.
— Это не воры, — сказала она, — это соседи все унесли. Оно и к лучшему. Теперь здесь ничего не осталось. Я закончила все дела в этом проклятом городе. Абсолютно все.
— Что делать с мебелью?
— Я вызвала скупщика, хотела продать ему пару вещей, а он попросил оплатить ему перевозку мебели. Так он долго будет ждать. Мама права, для нас война еще не закончилась.
Герман вошел в свою комнату и увидел, что книги остались нетронутыми. Часть из них принадлежала рабби Лемперту, остальные — Герману. В комнате валялись рукописи. Герман нашел на полу лист бумаги с текстом для раввина. На листе было написано: «Необходимо помнить, что десять заповедей — это утопия, человеческий род до сегодняшнего дня не понял, как воплотить их в жизнь».
VII
Маша закрыла входную дверь, чтобы соседи не могли войти и продолжить воровство, и пошла в комнату Германа. Она села на кровать, с которой украли и подушку, и одеяло, на ее лице появилась странная улыбка. Это была улыбка ребенка, радующегося всякому изменению в доме, каждому нарушению повседневной рутины. Маша закурила, лицо ее выражало любопытство и удивление.
— Это и в самом деле произошло? Я не верила, что способна на это, но случилось то, чему суждено было случиться. Я не верила, что ты оставишь польку. Мы обсуждали это годами, и чем дальше, тем больше это казалось фантастикой. И вдруг я решилась.
— А что бы ты сделала, если бы я не согласился?
— Я знала, что если поставить тебе ультиматум: с ней или со мной, то ты выберешь меня.
— Что ты сказала матери?
— Правду.
— И что она ответила?
— Да ничего, ничего. Вечные фразы: это меня убьет, ты хочешь от меня избавиться и тому подобное. Для меня все временно. Это даже не философия, а сама суть моей жизни. У меня были все шансы превратиться в пепел или быть похороненной где-нибудь в России. Маме опять же я больше ничего не могу дать, разве что постоянно с ней ссориться. Это не просто кража. Это знак того, что мы не можем здесь больше оставаться. В Торе написано: я вышел голым из чрева матери и голым вернусь обратно. Что имеется в виду под этим «обратно»? Мы же не возвращаемся в живот матери.
— Земля — наша мать.
— Да, верно, но прежде чем вернуться обратно, мы проживаем жизнь. Мы должны решить, куда мы едем и когда. Мы можем лететь, ехать на поезде или на автобусе. На автобусе будет дешевле, но до Калифорнии ехать долго, целую неделю, мы приедем туда еле живыми. Мне кажется, что нам нужно поехать в Майами. Дорога отнимет чуть больше суток, у раввина там есть санаторий. Я могу сразу начать работать. Сейчас, весной, там все очень дешево, жарко, но не опасно для здоровья. Как говорит мама, в аду будет жарче.
— Во сколько автобус?
— А, я позвоню. Телефон они не украли. Они не тронули старый чемодан, а это все, что нам нужно. Мне кажется, что я вернулась в старые времена. Так я шаталась по Европе. У меня даже чемодана не было, только узелок — рубашка и кусок хлеба, завернутый в платок. С ним я и проехала от Средней Азии до Мюнхена. Не смотри так растерянно! Найдешь себе занятие. Не хочешь писать для раввина, можешь работать учителем. Старым людям нужно, чтобы с ними разобрали недельный раздел или пару стихов из Торы. Тридцать долларов в неделю я тебе обещаю. А я буду зарабатывать сотню в неделю, мы будем жить, как короли.
— Ну, все решено.
— Я бы так и так не стала брать с собой весь этот скарб. Я как раз не знала, что со всем этим делать. Это чудо, что нас обокрали!
И на мгновенье Машины зеленые глаза засмеялись. Солнце освещало ее лицо, волосы блестели. Дерево под окном, стоявшее всю зиму в снегу, уже оделось яркими листьями. Герман посмотрел на него с тоской и удивлением. Это дерево, росшее во дворике среди металлолома, жестянок и никогда не убираемого мусора, стало для него символом творения, его, Германа, любви к Маше. Каждую зиму Герману казалось, что дерево засыхает и умирает. Ветер ломает на нем ветки. Бездомные собаки гадят на его корни, которые со временем не становятся толще, а истончаются и искривляются. Окрестные дети вырезают свои инициалы, сердечки и всякие ругательства на его коре. Но наступает лето, и дерево расцветает. Птицы щебечут в его кроне. Дерево выполняет свое предназначение, не заботясь о том, что любой топор, пила или окурок, которые Маша часто выбрасывала в окно, могут положить конец его существованию. Хорошо бы и человек мог существовать так же! Но он, Герман, обременен грехом, заботами, стыдом и страхом. «Чем сейчас занимается Ядвига? — спрашивал он себя. — Что говорят соседи?» Кто знает? Может быть, они сообщили в полицию, и Герман уже сегодня может оказаться в тюрьме. Его, не церемонясь, депортируют в Польшу… Он обратился к Маше:
— У раввина есть санаторий в Мексике?
— Почему в Мексике? Подожди, я выйду на улицу. Я отдала пару платьев в химчистку, и, если бы не они, я бы осталась совсем без одежды. Твое белье я тоже отдала китайцам[190]. Вернусь через пятнадцать минут. У меня на счете есть несколько долларов, я их сниму…
Маша искоса, с улыбкой посмотрела на Германа и подмигнула ему.
— Не уходи надолго, — попросил Герман.
— В чем дело? Ты будешь скучать? Если бы я не приняла это решение, ты бы навсегда остался с полькой. А что с другой твоей женой? Ты отдал ей ключи?
— Мы не встретились с ней.
— Расскажешь по дороге. Я тебе не верю, совсем не верю. Может быть, у тебя и есть где-то Тамара, но это не та Тамара. Отец Небесный, с тобой я совсем потеряла чувство реальности. Все стало еще абсурднее, чем в Польше или даже в России. Леон — тоже лгун, но другого сорта. Он хвастался, его ложь меня не трогала, а твои выдумки доведут меня до безумия.
— Потому что это правда.
— Пусть так. Я скоро вернусь.
Маша вышла. Герман услышал, как она захлопнула дверь. Он принялся рыться в книгах и нашел словарь, который может ему понадобиться, если он будет дальше работать на раввина. В ящике лежали блокноты и старая перьевая ручка, которую воры, должно быть, не заметили. Герман открыл рюкзак и попытался засунуть в него книгу, но с книгой его было не закрыть. Герману захотелось позвонить Ядвиге, но он боялся звука ее голоса, криков и плача. «Да, это убийство, настоящее убийство!» — пробормотал он. Герман вытянулся на кровати, он лежал плашмя (подушку украли), без мыслей. Голова была пуста. «Пусть мне будет казаться, что я умер, а этот матрас — могила. Мертвый я уже ничего не смогу исправить. Мне нужно лежать и ждать того, что сделают со мной в аду…» Герман задремал, ему снились сны. Проснувшись, он увидел, что Маша еще не вернулась. «Где это она? — удивился он. — Что-то случилось?» Внезапно Герман услышал шум на лестнице, шаги и голоса. Это Маша? Казалось, что по лестнице тащили что-то тяжелое. Он встал и открыл входную дверь. То, что Герман увидел, было похоже на кошмарный сон. Мужчина с женщиной вели под руки Шифру-Пую, скорее даже несли, нежели вели. Ее лицо казалось желтым, больным, изменившимся. Герман с трудом узнал ее. Он всматривался, как близорукий. «Это точно сон», — решил Герман. Мужчина воскликнул:
— Она уснула в такси! Вы ее сын, да?
— А где Маша? — спросила женщина.
— Она скоро придет.
— Позовите врача!
Герман спустился на несколько ступенек, которые отделяли его от Шифры-Пуи. Она смотрела на него застывшим строгим взглядом, пока Герман пытался взять ее под руку и помочь подняться по лестнице. Он спросил:
— Позвать врача?
Шифра-Пуа вздрогнула и отрицательно покачала головой.
Герман, пятясь, вошел в квартиру. Таксист подал ему сумку Шифры-Пуи и корзину, которую Герман сразу не заметил. Должно быть, тот держал ее за спиной. Таксист потребовал расплатиться, и Герман заплатил ему из своих денег. Шифру-Пую повели в темную спальню. Герман нажал на выключатель, но воры и здесь вывинтили лампочки. Таксист спросил, почему не зажигается свет, а женщина ушла за лампочкой к себе в квартиру. Шифра-Пуа начала жалобно:
— Почему так темно? Где Маша? Горе мне, горе!
Соседка вернулась с лампочкой в руках. Таксист оставил Шифру-Пую на Германа и уехал. Шифра-Пуа дрожала, Герман держал ее за руку и за плечо, а соседка тем временем вкручивала лампочку. Шифра-Пуа взглянула на кровать и спросила почти здоровым голосом:
— А где белье?
— Пойду принесу подушку и простынь, — сказала соседка.
— Прилягте пока так.
Герман подвел Шифру-Пую к кровати. Он почувствовал под руками вибрацию ее дергающегося тела. В последнее мгновенье она повисла на Германе, тот поднял ее и положил на матрас. Соседка уже вышла. Шифра-Пуа стонала, ее лицо позеленело и сморщилось. Она лежала на боку, словно лишившись чувств от боли. Соседка вернулась с подушкой и простыней.
— Нужно срочно вызвать «скорую».
В этот момент с лестницы послышались шаги. Вошла Маша. В одной руке она держала платья на вешалке, в другой — мешок с бельем. Прежде чем она вошла в комнату, Герман крикнул в открытую дверь:
— Мама здесь!
Маша остановилась:
— Пешком пришла?
— Она больна.
Маша сунула Герману платья и белье. Он положил все на стол. Герман услышал, как Маша ругает мать, кричит на нее. Он прекрасно понимал, что нужно позвать врача, но не знал, как это сделать по телефону. Соседка вышла из спальни. Герман вернулся к себе в комнату, он стоял тихо и слушал, как женщина твердит в телефон:
— Полицию? Откуда я вам возьму полицию? Женщина может умереть!
— Врача, врача! Она умирает, умирает! — крикнула Маша. — Герман, где ты?
— Я здесь. Что делать?
— Она умрет. Она убила себя, сволочь… Все как назло!..
И Маша разразилась рыданиями, такими же, что Герман слышал в телефонной трубке, когда Маша сообщила ему об ограблении. Она причитала не своим голосом, по-кошачьи, невероятно примитивно, словно от горя превратилась в хищное животное. Ее лицо скривилось, она рвала на себе волосы, топала ногами, подскакивала к Герману, будто нападая на него. Герман попятился назад. Соседка в оцепенении прижимала к груди телефонную трубку. Маша завыла:
— Ты хотел этого! Вы оба этого хотели!.. Враги! Кровожадные враги!..
Маша закашлялась и согнулась, словно вот-вот упадет. Соседка выронила трубку, схватила Машу за плечи и начала трясти, как поступают с подавившимся ребенком, чтобы тот не задохнулся.
— Убийца!
Маша не кричала, а, скорее, рычала.
Глава десятая
I
Всё произошло быстро. Врач, тот самый, что осматривал Машу во время ее ложной беременности, сделал Шифре-Пуе укол. Потом приехала «скорая помощь», и ее забрали в больницу. Маша поехала с ней. Через несколько минут кто-то постучал в дверь. Это был полицейский. Герман сообщил ему, что Шифру-Пую уже увезли в больницу, но оказалось, что его приход связан с ограблением. Вора-пуэрториканца, по-видимому, нашли. Надо было пойти опознать украденное. Полицейский спросил у Германа его имя, адрес, хотел выяснить его связь с живущей в квартире семьей. Он занес всю эту информацию в протокол. Герман говорил, заикаясь. Он был бледен. Полицейский поглядел на него с подозрением и спросил, когда он приехал в Америку и есть ли у него гражданство. Наступил вечер, во всей квартире, кроме спальни, не было света. Соседка предусмотрительно забрала подушку и простыни. Герман ждал Машиного звонка из больницы, но прошло два часа, а телефон молчал. Шифра-Пуа уже умерла? Или лежит в агонии? «Во всем виноват я, — говорил себе Герман. — Маша права. Я убийца…»
Он выкрутил лампочку в спальне и хотел отнести ее к себе в комнату, но наткнулся на косяк и услышал, как зазвенела нить накала. Он вкрутил лампочку в светильник у своей кровати, но она уже не работала. Герман пошел на кухню поискать спички и свечку, но ничего не нашел. Он стоял у окна и смотрел на ночное небо. Дерево, каждый листок которого еще недавно светился на солнце, теперь застыло в темноте. Одна-единственная звезда сверкала на пламенеющем небе. Кошка прошла по двору осторожными шажками и залезла в дыру между грудой металлолома и мусорными баками. Откуда-то издали доносились крики, скрежет и приглушенный гул железной дороги. И хотя Герман годами жил с ощущением отчаяния, на сей раз его охватила такая тоска, которой он — так ему казалось — раньше никогда не испытывал. Теперь ему повсюду будет мерещиться Машин крик: «Убийца!» Любовь или страсть, которую они испытывали друг к другу, больше никогда не станет такой, как прежде. Побег Шифры-Пуи вслед за дочерью в Нью-Йорк и связанная с ним болезнь несли в себе протест и проклятие, от которых невозможно избавиться. Герман больше не мог оставаться в этой пустой обворованной темной квартире. К нему вернулись детские страхи. Воры могут возвратиться. Или родственники арестованного пуэрториканца могут прийти мстить. Если Шифра-Пуа умерла, ее дух может потревожить Германа. Он так и не смог перестать верить в чертей, бесов, призраков и привидения. Или может, он просто боялся их. Герман часто отчетливо ощущал, как они следуют за ним по пятам, подстерегают его повсюду, вытворяют свои фокусы. Иначе его жизнь не была бы такой запутанной. Герману показалось, что звонит телефон, он бросился к аппарату, но никто не ответил. Он открыл входную дверь — за ней никого не было.
«Может, еще есть надежда на спасение?» — спросил себя Герман. Но в чем именно заключается спасение? Вернуться к Ядвиге? Уговорить Тамару уехать вместе с ним? Нет, возвращаться некуда. Ядвигины роды и обязанность воспитывать ребенка пугали его не меньше, чем смерть Шифры-Пуи и горечь утраты. К Тамаре Герман не испытывал никакого влечения. Нэнси Избель? Бред!
«Мне нельзя оставаться здесь в темноте, нужно пойти купить лампочек», — решил Герман. Он с утра ничего не ел. Герман вышел, захлопнул за собой дверь и тут же понял, что у него нет ключей от квартиры. Он пошарил в карманах, заранее уверенный в том, что ключей не найдет. Герман всегда носил ключ с собой, но в этот раз он оставил или забыл его где-то. «Похоже, я совсем свихнулся!» — произнес он вслух. Внутри зазвонил телефон. Герман принялся толкать дверь, пытаясь выломать ее, но замок не поддавался. Телефон звонил не переставая. Герман толкнул дверь что было силы, но она не открывалась. Телефон все звонил. «Это Маша, Маша!» — кричал голос у Германа внутри. Он не мог даже вспомнить, в какую больницу увезли Шифру-Пую. «Я идиот, подлец, хуже не бывает! — обвинял себя Герман. — Надо было ждать ее звонка». Он обливался потом. «Может, кто-то из соседей знает, куда увезли Шифру-Пую? Может, у кого-нибудь есть ключ?» Но тут же он осознал, что спрашивать соседей о ключах равносильно тому, чтобы высказать им подозрения, что они сами и обокрали квартиру. «Я не хочу жить! Довольно! Предостаточно!»
Телефон перестал звонить, но Герман не отходил от двери. «Как бы ее вышибить?» — спрашивал он себя. У него было предчувствие, что телефон вскоре зазвонит снова. Он был почти уверен в этом. Герман подождал пять минут, но телефон молчал. «Грош цена моей интуиции, как и мне самому», — издевался он сам над собой. Он спустился по лестнице и открыл дверь на улицу. В этот момент наверху зазвонил телефон.
«Да, возвращаться бессмысленно, — думал Герман, двигаясь по направлению к авеню. — Все неприятности, несчастья, беды разом навалились на меня, — жаловался он силам, в которых нет ни капли сочувствия. — Что ж, пришло время расплаты. Больше милости ждать неоткуда! Единственное, что мне ясно, — лампочек покупать не нужно». Он начал тосковать по квартире, из которой только что сбежал. Теперь он понимал, что ему надо было делать: оставаться на месте, пока Маша не даст о себе знать. И потом, в холодильнике могла остаться еда. Американские грабители не будут воровать кусок сыра или чашку с рисовым пудингом. «Я все делаю наоборот! — проклинал Герман себя. — Сам себе устраиваю саботаж…»
Он вышел на проспект и увидел кафетерий, где Маша работала кассиршей, прежде чем уехала в санаторий рабби Лемперта. «Пойти туда? Вдруг кто-нибудь мне поможет?» Герман уже не хотел есть. Он не просто не испытывал чувства голода, но чувствовал себя так, словно переел, положил в желудок больше пищи, чем тот способен переварить.
Тем не менее он вошел в кафетерий. «Возьму чашку кофе и пойду обратно ждать Машиного возвращения, — решил Герман. — Рано или поздно она вернется…» Только теперь он сообразил, что оставил в Машиной квартире рюкзак. Он подошел к стойке, чтобы заказать кофе, и вдруг нащупал ключ в кармане пиджака. Это был ключ не от Машиной квартиры, а от книжной лавки реб Аврома-Нисона Ярославера. Герман вспомнил, что должен был отдать ключ Тамаре в десять утра, но та не пришла. Это произошло сегодня? Вчера? День тянется на удивление долго, невероятно долго…
Вместо того чтобы заказать кофе, он пошел звонить Тамаре, но все три кабинки были заняты. Герман терпеливо ждал: не будут же эти люди разговаривать вечно. «У каждой вещи есть конец, даже вечность не длится вечно, — промелькнуло в голове у Германа. — Потому что, если Вселенная не имеет начала во времени, значит, она существует вечно…» Он улыбнулся. «Старый софизм! Снова загадки и парадоксы Зенона…[191] Мозг никогда от них не избавится». Один из звонивших закончил разговор и повесил трубку. Герман тут же занял его место в кабинке. Он позвонил Тамаре, но никто не ответил. Где она ходит? Может, завела любовника? Или умерла? Герман получил назад десятицентовую монету и неожиданно для себя набрал номер своей квартиры в Бруклине. Сейчас он услышит родной голос, пусть даже проклинающий его. Одиночество стало невыносимым для Германа, но Ядвиги тоже не было дома. Десять раз прозвенел звонок, но никто не отозвался. Где она? Повесилась? Может, ушла к соседям рассказывать о своей несчастной судьбе? Герман снова получил назад десятицентовую монету и, отдавая себе отчет в том, что не надо этого делать, что это абсурд, с какой стороны ни посмотри, принялся искать в нагрудном кармане клочок бумаги, на котором Нэнси Избель записала свой номер. Нет, Герман не потерял его. Он снова опустил монету в телефон и набрал номер, совершенно уверенный в том, что Нэнси окажется дома и ответит на звонок.
Так и случилось. Он тут же услышал и узнал голос Нэнси.
— Вам это покажется странным, но говорит Герман Бродер из книжного магазина на Канал-стрит.
— Да? Почему странным? Я сижу и думаю о вас. Просматриваю ваши книги и…
— Я полагал, что вы уже уехали к тете, — сказал Герман с дрожью в голосе, не зная, к чему приведут его слова.
— Нет, я уезжаю завтра.
— У меня сегодня какой-то безумный день… абсолютно невероятный! — сказал Герман. — Мы виделись утром, а мне кажется, что встреча произошла вчера или когда-то давно… Вы привезли меня по адресу, где было ограбление, и вдруг приехала женщина, хозяйка, с которой случился инфаркт. Ее увезли в больницу на — как это называется? — «скорой помощи». Ее дочь поехала вместе с ней. Воры украли лампочки, в квартире темно, я вышел из дому купить лампочки, и тут выяснилось, что у меня нет ключей. Разве это не безумие?
— Ничуть, — ответила Нэнси. — Люди болеют, и люди забывают ключи. Где вы находитесь?
— В кафетерии на Тремонт-авеню.
— Возле какой улицы?
Герман объяснил ей.
— Если вы не против, я приеду к вам.
— Зачем вам это?
— Да просто так. Потому что я сижу дома и мне скучно… Эта история с моей тетей совсем вывела меня из равновесия. В какую больницу увезли эту женщину?
— Этого я тоже не знаю.
— Ну, это нетрудно узнать. Обычно я беспомощна в том, что касается меня самой, но для других всегда могу найти выход. Хочу вам сказать, что я изучала юриспруденцию и должна была стать адвокатом. У меня бы это получилось, но под конец я потеряла интерес к профессии. Какое мне дело до бизнеса американских фирм и корпораций? Впрочем, недоучившийся адвокат — это тоже адвокат. Нужно просто позвонить в несколько больниц в Бронксе. Скорее всего, ее отвезли в какую-то больницу поблизости. У нее есть врач?
— Да, там был врач, но я не знаю его имени.
— Мы всё узнаем сегодня вечером. Я возьму машину и приеду к вам. Скажите мне еще раз название кафетерия.
Герман повторил название.
— Ждите меня. Когда вы рассказали мне сегодня о семье, которую обворовали, у меня было предчувствие, что я познакомлюсь с ними. Украли действительно все?
— Даже постельное белье.
— Может, привезти подушку и одеяло? У меня и правда всего в избытке.
— Нет, не нужно.
— Я все равно привезу постельные принадлежности. Когда-то я жила здесь с подругой, она вышла замуж и оставила мне все свои вещи. Я уже много раз собиралась их выбросить, но все руки не доходили. Ждите меня!
II
Герман прекрасно понимал, что ему не надо этого делать, но через пятнадцать минут после разговора с Нэнси Избель он снова позвонил Маше. И тут же услышал Машин голос. По тому, как Маша произнесла одно только слово «алло!», Герман сразу понял, что Шифры-Пуи больше нет. В Машином голосе слышался угасший интерес к реальности — полная противоположность тому драматизму, с которым она всегда говорила о самых простых вещах. Он спросил, снова как будто не по своей воле:
— Как там мама?
— Нет больше мамы, — ответила Маша.
Оба замолчали. Потом Маша спросила:
— Где ты? Я думала, ты будешь ждать меня дома.
— Боже мой! Когда это произошло?
— Недавно. Она не доехала до больницы. Ее последние слова были: «Где Герман?».
Они вновь замолчали. Потом Маша снова спросила:
— Где ты? Возвращайся скорее!
— Один знакомый пообещал привезти постельное белье, — проговорил Герман, удивленный и испуганный собственными словами.
— Что еще за белье? Иди домой!
— Хорошо, Маша.
Герман вышел из кафетерия, забыв отдать кассиру чек. Тот закричал вслед и рванулся догонять его. Герман бросил ему чек.
По дороге к Маше Герман понял, что поступил отвратительно. Нэнси Избель приедет в кафетерий и не найдет его, но сейчас Герман не мог оставить Машу одну. «И так все вкривь и вкось, — говорил он себе. — У меня гениально получается сводить с ума себя и окружающих».
Ночь была теплой, но Герман замерз. «Вот так умирают? — удивлялся кто-то внутри него. — Так просто и обыденно?» Германа трясло, он даже поднял воротник. Когда он дошел до переулка, его охватил страх. Ему было страшно подниматься по лестнице.
Герман рассчитывал застать у Маши соседей, но сквозь открытую дверь он увидел, что в квартире никого нет. Свет по-прежнему не горел. Герман вошел на кухню и увидел Машин силуэт. Герман подошел к ней, они молча стояли рядом.
— Я спустился купить лампочек, — сказал Герман, — но забыл ключ…
— Закрой дверь. Сейчас мне не нужны гости, — почти прошептала Маша.
Герман закрыл дверь с неловким ощущением того, что однажды он уже это переживал. Но когда? Во сне? В своих фантазиях? «Да, скорее всего, мне это снилась сегодня ночью», — решил он. Герман взял Машу за руку, рука была холодной.
— Может, у тебя есть свечи? — спросил он.
— Зачем? Нет, не надо.
Герман повел ее к себе в комнату, и она пошла за ним. Там было немного светлее, чем в других местах. Он уселся на стул, а Маша присела на краешек кровати. Герман спросил:
— Кто-нибудь уже знает?
— Кто? Никто не знает.
— Позвонить раввину?
Маша не ответила. Герман подумал было, что в своей скорби она пропустила его слова мимо ушей, но вдруг она сказала:
— Герман, я этого не вынесу!
— С такими делами связаны формальности, да и деньги нужны.
— Да, я знаю.
— Где раввин? Еще в санатории?
— Я оставила его там, но ему нужно было куда-то лететь, уже не помню куда.
— Попробую позвонить ему домой. У тебя есть спички?
— Где моя сумка?
— Если ты принесла ее домой, я ее найду.
Герман встал и пошел искать Машину сумку. Он передвигался на ощупь, как слепой, искал на столе, на стульях в кухне, хотел пойти в спальню, но испугался. Может быть, Маша оставила сумку в больнице? Герман вернулся к Маше.
— Не могу найти твою сумку.
— Она где-то здесь, я доставала из нее сигареты.
— Я позвоню раввину. Мне нужна спичка или свеча.
— Подожди!
Маша встала. Оба принялись шарить в темноте. Упал стул, и Маша поставила его обратно. Глаза Германа стали привыкать к потемкам. Он вошел в ванную и по привычке нажал на выключатель. Стало светло, он увидел Машину сумку на крышке бельевой корзины. Видимо, воры забыли выкрутить лампочку на аптечном шкафчике.
Герман взял Машину сумку, удивленный ее тяжестью, и уже издали прокричал, что в ванной светло и что он нашел сумку. Он посмотрел на себя в зеркало. Бледное лицо, впалые щеки, густо поросшие щетиной. Воротник пропотел и измялся. Герман взглянул на часы, но он забыл их завести, и они остановились несколько часов назад.
Маша подошла к открытой двери. Бледная, изменившаяся в лице, с взлохмаченными волосами, она часто моргала. Герман подал ей сумку. Он почему-то стеснялся ее и разговаривал несколько отстраненно, как религиозный еврей, которому запрещено смотреть на женщин.
— Надо выкрутить эту лампу и ввернуть ее рядом с телефоном, — сказал Герман.
— Зачем?
И Маша пошла обратно.
На сей раз Герман аккуратно выкрутил лампочку, прижал ее к груди и пошел осторожно, чтобы не испортить во второй раз. Он испытывал чувство благодарности к Маше за то, что она не кричит, не плачет, не бьется в истерике. Герман ввернул лампочку в торшер у телефона и на мгновенье почувствовал удовлетворение, когда свет снова загорелся. Он позвонил раввину, ответила женщина:
— Рабби Лемперт только что улетел в Калифорнию.
— Может быть, вы знаете, когда он вернется?
— Не раньше чем через неделю.
Герман прекрасно понял, что это для него значит. Раввин мог бы взять на себя все хлопоты и, возможно, освободить Машу от расходов. У самого Германа было с собой каких-то шесть долларов. Немного помедлив, Герман сказал:
— Не могли бы вы дать мне его адрес?
Женщина категорично ответила:
— Нет, не могу.
Герман погасил лампу, сам не зная, зачем он это делает, и вернулся в комнату. Там сидела Маша с сумкой на коленях.
— Раввин улетел в Калифорнию.
— Да? Ну тогда…
— С чего начать? — спросил Герман и у Маши, и у себя самого.
Маша когда-то упоминала, что ни мама, ни она сама не принадлежат ни к какой общине или конгрегации, предоставляющей своим членам места на кладбище. Значит, придется платить: за место и за памятник. Герману надо будет идти в общину, выпрашивать скидку, брать деньги в долг, искать поручителей. Но здесь его никто не знает. И какой адрес указывать? Герман позавидовал Шифре-Пуе: она уже освободилась от всех проблем.
Герман сидел, погруженный в полную темноту, и внешнюю, и внутреннюю. Теперь он пенял на Машу за то, что она вернулась к нему именно сейчас. Она была в сговоре с его судьбой, умным шахматистом, поставившим Герману мат… Герман снова подумал о животных. Их жизнь лишена сложностей, умирая, они никого не обременяют. Гомо сапиенс, якобы венец творения, все превращает в одну большую проблему — жизнь, смерть, любовь. Постоянно приумножает боль и страдания.
И тут Герман вспомнил о Нэнси Избель. Она уже в кафетерии? Ждет ли она его? Что она подумает, когда придет в кафетерий и не найдет Германа? «Было бы лучше всего сразу покончить с этим, — промелькнула у Германа мысль. — Но как?» Герман сказал:
— Маша, я не хочу больше жить!
Маша немного помедлила.
— Однажды ты пообещал мне, что мы умрем вместе.
— Время пришло.
— Если ты не просто так болтаешь, если ты серьезно, у меня много снотворного, хватит на двоих.
— Да, давай сделаем это.
— Оно в моей сумке. Все, что нам понадобится, — это стакан воды.
— Вода у нас есть.
Герман произнес эти слова, сдерживая дрожь. Он осознал, что больше ему не о чем сожалеть. Как бы низко он ни падал, им всегда владели амбиции и желание, чтобы его уважали, оно было сильнее любых других стремлений и инстинктов. «Да, это конец», — сказал себе Герман, сам не понимая, что это означает для него — тяжелейшую боль или желанное освобождение. Он был готов проглотить все таблетки, которые Маша даст ему. Его смущал только способ и быстрота, с которой все это происходило.
Герман услышал — и даже увидел, как Маша открыла сумку и принялась копаться внутри. Он различил шуршанье, бряканье, звяканье ключей, монет, помады. «Я всегда знал, что она мой ангел смерти», — пронеслась у Германа мысль. Он услышал, как сам произнес:
— Прежде чем мы умрем, я хотел бы узнать правду.
— Какую правду?
— Ты была мне верна, пока мы были вместе?
— Ну… а ты — мне?
— Если ты скажешь мне правду, и я скажу тебе правду.
— Я скажу тебе правду.
— В чем правда?
— Подожди, я возьму сигарету.
Маша вынула из пачки сигарету. Она двигалась медленно. Герман услышал, как она размяла сигарету между большим и указательным пальцем. Маша чиркнула спичкой, в свете пламени ее глаза смотрели на Германа искоса, с напряжением и любопытством. Она закурила и задула огонек. Догорая, спичка обожгла ей ноготь. Маша сказала:
— Что ж, я слушаю.
Герман с трудом выговаривал слова. Его горло как будто свело.
— Я спал с Тамарой. Это все.
— Когда? Ах, вот как…
— Она жила в отеле в Катскильских горах. Я приезжал к ней в гости.
— Ты никогда не ездил в Катскильские горы.
— Я сказал тебе, что еду с раввином в Атлантик-сити, на конференцию перед Судным днем.
Наступила тишина, и Герман сказал:
— Теперь ты скажи мне правду.
Маша издала смешок:
— То, что ты делал со своей женой, делала и я с моим мужем.
— Значит, он говорил правду.
— На этот раз да.
— Зачем ты это сделала? — спросил Герман.
— Я пришла просить развод, и это было его условием. Он сказал мне: если ты его любишь, это твой шанс.
— Ты поклялась самым святым, что это ложь.
— Я соврала.
Они сидели в тишине, погруженные каждый в свои мысли. Герман сказал:
— Теперь и умирать не стоит.
— Что ты хочешь делать? Бросишь меня?
Герман не ответил. Он всматривался внутрь себя, в свою собственную темноту. «Если уж падать, то в самую бездну», — твердило что-то внутри него. Он сказал:
— Маша, я должен уехать сегодня вечером.
— Куда? Ладно, уезжай.
— Поехали со мной.
— О чем ты? Даже нацисты иногда позволяли хоронить своих жертв.
— Я не могу больше здесь оставаться.
— Что именно я должна делать?
— Бери сумку и пошли.
— Куда?
— Куда глаза глядят.
— Я буду проклята до десятого колена.
— Кто тебя проклянет? Мы и так прокляты.
— Подожди хотя бы до завершения похорон.
На последнем слове Маша осеклась. Герман поднялся:
— Я ухожу сейчас. Не могу оставаться здесь ни минуты.
— Это твое последнее слово?
— Это мое последнее слово.
— Подожди, я пойду с тобой. Ты, наверное, прав. Мы не должны обременять наших прекрасных соседей. Умрем в дороге. Я зайду на минуту в ванную.
Маша встала. Герман заметил, что она волочит ноги и стучит каблуками по полу. Он открыл ее сумку, обыскал ее, но никакого снотворного в ней не нашел. Герман взглянул в окно: дерево стояло в оцепенении. Герман попрощался с ним: «Спокойной ночи, дерево». Казалось, он пытался в последний раз нарушить покой дерева, раскрыть его молчаливую загадку. «Если бы мы знали, кто оно, нам бы было обо всем известно». Герман почувствовал дрожь в коленях и особую радость, которая сопутствует свободе. «Мы только недолго поиграем, — подумал он. — Таблетки не испортятся». Герман взял в одну руку свой рюкзак, а в другую — Машину сумку.
«Что она так долго собирается?» — удивился Герман. Он услышал плеск воды. Видимо, Маша мылась. Герман стоял тихо, парализованный собственным страхом и Машиной готовность следовать за ним. «Раввину и Леону Торчинеру будет о чем поговорить и над чем поломать голову, — думал Герман. — Они будут полностью удовлетворены…»
Маша вышла из ванной:
— Герман, ты где?
— Здесь.
— Герман, я не могу оставить маму, — сказала Маша голосом, срывающимся на плач.
— Что? Ты все равно оставишь ее.
— Нет, Герман. Я хочу лечь в могилу рядом с ней.
— Слова, пустые слова.
— Нет, Герман. Я не хочу лежать на дороге, среди чужих.
— Будешь лежать рядом со мной.
— Ты чужой.
— Ну, как хочешь, я должен идти.
— Подожди секунду. Раз так, возвращайся к своей крестьянке. Не оставляй своего ребенка на произвол судьбы.
— Со мной ему будет еще хуже. Прощай, Маша.
— Не спеши! Я это сделала только потому, что надеялась, что это нас объединит.
Послышался звук машины, поблизости, прямо под окном. Герман сразу понял, что это была Нэнси Избель. Сегодня она подвозила его к этому дому. Герман сказал:
— Маша, это женщина, которая привезла белье.
— Какая женщина? Какое белье?
— Она была в лавке и услышала об ограблении. У нее есть лишнее белье.
— Кто она? Новая любовница?
— Нет, нет. Я спущусь к ней.
— Подожди, я пойду с тобой.
Маша схватила Германа за руку так сильно, что ему стало больно.
— Я этого не допущу!
— Тогда пошли вместе.
Герман пошел и потащил Машу за собой. Она кричала:
— Подожди, я потеряла туфлю!
Герман подождал, пока Маша снова надевала туфлю. Он услышал, как она давится рыданиями. Спустившись на пару ступенек с рюкзаком и Машиной сумкой, он увидел Нэнси Избель. Она вышла из машины. При тусклом свете фонаря, горевшего на углу переулка, Герман заметил, что ее облик изменился, но в чем именно заключалась эта перемена, он не мог сказать. Герман позвал:
— Мисс Избель, простите, что я не дождался вас в кафетерии. Я потом все объясню. Женщина, которая живет здесь, и я сам должны немедленно уехать из Нью-Йорка. Не могли бы вы нас подвезти? Так уж сложилось.
— Вы же говорили, что ее мама больна.
— Нам все равно нужно уехать.
— Ну, конечно. Я привезла вам белье и пару лампочек. Я хотела поехать в Вермонт, отсюда ближе, чем из Даунтауна. Все равно мне не спать сегодня ночью. Я ждала в кафетерии три четверти часа и решила, что… Куда вы хотите ехать?
— Выехать из города, это все.
— Ну, конечно.
Подошла Маша.
— Маша, это мисс Избель. Это Маша Блох.
— How do you do?[192] — сказала Нэнси Избель, но Маша стояла молча, опустив голову. Нэнси Избель отступила на шаг. — Не принимайте поспешных решений.
— Все решено.
— Если хотите, можете остаться на ферме моей тети. После ее смерти все будет принадлежать мне. Там есть большой дом, хотя и без удобств. Одна пожилая пара присматривала раньше за домом, но мужчина умер совсем недавно. Ближайшие соседи живут в трех милях…
Герман хотел сказать, что это Божий промысел, но не решился произнести имя Бога своими нечистыми губами. Он, Герман, преступал Божьи заветы: предавал живых, мертвых, даже еще не родившихся. Но высшая сила послала ему то, в чем он нуждался, — женщину, которую он любит, укромное место, сеновал, изоляцию от общества, необходимую всем, кто не способен жить внутри него.
Нэнси Избель открыла переднюю дверь машины:
— Можно сесть втроем…
— Маша, садись посредине, — сказал Герман.
Маша подняла голову:
— Герман, отдай мне сумку!
— Ты не едешь?
Маша протянула руку. Некоторое время обе руки, Германа и Маши, держали кожаную сумку и тянули ее в разные стороны. Потом Герман разжал пальцы, и Маша пробормотала:
— Спасибо.
Эпилог
В канун Пятидесятницы Ядвига родила девочку. Раввин заранее решил, что, если будет мальчик, его назовут в честь Машиного отца Меером, а если девочка, то ее назовут Машей. Раввин позаботился обо всем: о местах на кладбище для Шифры-Пуи и Маши, о родильной палате для Ядвиги. Он давно уже купил ребенку колыбельку, подушечки, одежду, даже погремушки. Реб Авром-Нисон и Шева-Хадаса решили остаться в Израиле. Тамара поселилась в дядиной квартире и унаследовала книжный магазин на Канал-стрит.
Поскольку Ядвига не могла оставаться с ребенком одна, Тамара уговорила ее переехать к ней. Ребенок Германа был для Тамары не чужим. Если бы Довидл и Йохведл были живы, девочка была бы им сводной сестрой. Ядвига была единственной во всем Нью-Йорке, кто давно знал Тамару и помнил ее детей. И потом, поскольку Тамаре надо быть в магазине целый день, нужен кто-то, кто занимался бы хозяйством и готовил еду.
Исчезновение Германа и отравление Маши снотворным осталось загадкой.
В предсмертной записке Маша написала обычные слова: в ее смерти никто не виновен. И пожелание, чтобы ее похоронили рядом с матерью. Обеих, мать и дочь, чуть было не похоронили в общей могиле, на кладбище для неопознанных и бедных. Раввин был тогда в Калифорнии. Целых три дня никто не знал о происшедшем. Как ни странно, на вторую ночь Маша явилась во сне актеру Яше Котику и рассказала, что умерла. Наутро Яша позвонил Леону Торчинеру…
Раввин стал часто бывать у Тамары. Он приезжал к ней домой навещать маленькую Машу, иногда он ставил машину у Тамариного магазина и заходил порыться в книгах. Раввин приводил к ней покупателей и дарителей книг. Тамара не знала раввина раньше и не могла заметить тех изменений, которые с ним произошли, но Леон Торчинер заверил Тамару, что раввин постарел на десять лет. Яша Котик, который оказался любителем Цейне-Рейне[193] и народных книжек, сказал Тамаре в своей шутливой манере, что от большого горя раввин перестал красить волосы. Раввин заранее заказал для матери и для дочери дорогое надгробие в мастерской на Канал-стрит, в одном квартале от Тамариного книжного магазина.
Однажды вечером, через несколько дней после Девятого ава, когда Тамара сидела за прилавком и читала газету, в магазин вошла молодая коротко стриженная женщина, в костюме мужского покроя и туфлях на низком каблуке. У нее на плече висела огромная сумка, в руках был портфель. Она немного порылась в книгах, потом сказала:
— Вас зовут Тамара?
Тамара встрепенулась:
— Да, кто вы?
— Кто родился, девочка или мальчик?
Тамара с удивлением смотрела на нее:
— Вы были знакомы с Германом?
— Да.
— Когда? Как?
— Я купила у него здесь несколько книг.
— Вы знаете иврит?
— Немного.
— Может быть, вы знаете, куда он пропал?
— Герман провел у моей тети в Вермонте полторы недели, а потом исчез.
— Что он делал у вашей тети?
— Моя тетя была больна, при смерти, но живет до сих пор. Он хотел остаться у нее. Тетя дала бы ему работу, но в один прекрасный вечер он уехал. Больше мы о нем не слышали.
— Может быть, у вас есть предположения, куда он мог уехать?
— Никаких предположений.
— У его жены родилась девочка, они обе живут у меня.
— А что случилось с другой?
— С какой другой?
— Из Бронкса.
Тамара побледнела:
— Он рассказал вам обо всех секретах.
— Да, рассказал.
— Та из Бронкса покончила с собой.
— Как? Когда?
Тамаре пришло в голову, что надо было бы сообщить в полицию об этой женщине. Но как вызвать полицию в ее присутствии? И чем поможет полиция?
Обе женщины немного поговорили. Посетительница сказала:
— Лучше места, чем на ферме у моей тети, такому человеку не найти во всей Америке. У него там было все: здоровая еда, библиотека со старыми книгами, даже его любимый сеновал. Моя тетя очень к нему привязалась. Он не раз повторял, как он счастлив. И вдруг уехал. Почему? И куда? Разве что в замогильный покой.
Глоссарий
Агода (Пасхальная) — сборник, который читают во время Пейсаха за праздничным столом. Агаду часто издавали с иллюстрациями.
Агада — повествовательная, негалахическая часть Талмуда.
Арбоканфес («четырехугольник», др.-евр.) — ритуальный элемент мужского костюма, четырехугольный кусок материи, к углам которого прикреплены цицес. Арбоканфес носят не снимая. Заповедь состоит именно в постоянном ношении цицес, а арбоканфес нужен для того, чтобы было к чему их прикрепить.
Галаха — религиозный закон.
Гемара — комментарий (III–V вв. н. э.) на Мишну, устное учение, кодифицированное в конце II в. н. э. Гемара вместе с Мишной составляют Талмуд.
Гой — нееврей, иноверец.
Девятое ава (Тишебов) — день разрушения первого и второго Иерусалимского Храмов. Отмечается обрядами траура: суточным постом, отказом от кожаной обуви, в некоторых общинах посещением кладбища.
Дни трепета (Йомим-нороим) — десять дней между Новолетием и Судным днем, время покаяния.
Ешиботник — учащийся ешивы. Слово «ешиботник» происходит от русского названия ешивы — «ешибот».
Ешива — высшая талмудическая школа.
Зогар (букв. «сияние», ивр.) — основной памятник еврейского мистицизма, содержащий своего рода энциклопедию каббалы в форме комментария на Пятикнижие. Традиция приписывает авторство книги Зогар рабби Шимону бен Иохаю (II в.). В настоящее время автором Зогара считается испанский каббалист Моше де-Леон (XIII в.).
Каббала — мистическая традиция в иудаизме.
Кадиш — славословие Всевышнего на арамейском языке, произносимое несколько раз во время публичной молитвы. После смерти родителей сын в течение одиннадцати месяцев и одного дня произносит кадиш, участвуя в публичном богослужении, а затем делает это каждый раз в йорцайт (годовщину смерти). В силу этого сына часто иносказательно называют «кадиш».
Кошерный — разрешенный галахой для использования в пищу.
Кущи (Сукес) — осенний праздник в память о пребывании евреев во время Исхода в пустыне. Длится восемь дней. В течение этого праздника полагается жить или хотя бы устраивать трапезы в специальной куще, сукке.
Мезуза («дверной косяк», др.-евр.) — прямоугольный кусочек пергамента, на котором помещены стихи из Дварим (Втор.), 6:4–9, 11:13–21. Этот пергамент сворачивается в свиток и помещается в специальную коробочку, которая прикрепляется к косяку каждого дверного проема в доме.
Мидраш — жанр еврейской позднеантичной и раннесредневековой литературы, основанный на внеконтекстном толковании библейских стихов.
Мишна — см. Талмуд.
Недельный раздел — часть текста Пятикнижия, публично прочитываемая в синагоге по свитку Торы. Пятикнижие разбито на недельные разделы таким образом, чтобы за год прочитать его целиком. Название недельного раздела образовано из одного из первых в нем слов и служит также названием недели, на которую приходится чтение этого раздела.
Новолетие (Рош а-Шоне) — начало года по еврейскому календарю, религиозный праздник, выпадает на начало осени.
Пасха (Пейсах) — праздник, посвященный исходу из Египта. Важнейшим ритуалом этого праздника является сейдер (ритуальная трапеза), во время которого читают Пасхальную Агоду — специальный сборник, состоящий из рассказов об Исходе, комментариев и молитв. В течение Пейсаха, который длится восемь дней, запрещено есть и даже держать в доме квасное, то есть хлеб, крупы и другие продукты из зерна. Вместо хлеба едят пресные лепешки, мацу.
Пятидесятница (Швуес) — праздник, посвященный дарованию Торы на горе Синай. Приходится на начало лета.
Рабби — 1) законоучитель эпохи Талмуда; 2) от англ. Rabbi — реформистский раввин в США.
Реб — форма вежливого обращения к женатому мужчине, аналогичная русскому «господин».
Резник (шойхет) — специалист, который осуществляет забой скота и птицы согласно иудейскому религиозному закону.
Симхес-Тойре («Радость Торы», ивр.) — праздник в честь окончания годового цикла чтения Пятикнижия и начала нового цикла. Завершает собой череду осенних праздников.
Суббота (шаббат, шабес) — важнейший еврейский праздник, седьмой день недели, в который еврей должен пребывать в покое и не осуществлять никакого воздействия на материальный мир.
Судный день (Йом Кипер) — важнейший религиозный праздник, день покаяния и примирения общины в целом и каждого человека в отдельности с Богом. Отмечается специальной литургией и суточным постом. Празднуется через десять дней после Новолетия.
Талес — молитвенное покрывало, накидываемое поверх одежды мужчинами во время утренней молитвы. К углам талеса в соответствии с заповедью привязаны четыре кисти, называемые «цицес». У ашкеназов мужчина начинает использовать талес только после женитьбы.
Талмуд — собрание устного учения, сформировавшегося во II в. до н. э. — V в. н. э. Состоит из более древней части — Мишны и комментария на Мишну — Гемары. Талмуд содержит в себе как галахические, так и чисто повествовательные, агадические фрагменты. Наряду с Танахом (Библией) является основным источником иудаизма.
Тфилин — кожаные коробочки с вложенными в них четырьмя библейскими цитатами (Шмот [Исх.], 13:10 и 13:11–16, Дварим [Втор.], 6:4–9 и 11:13–21), написанными на пергаменте. Тфилин совершеннолетний мужчина должен повязывать на левую руку и лоб во время утренней молитвы.
Ханука — зимний веселый праздник в честь нового освящения Храма после того, как он был осквернен греко-сирийцами. Во время Хануки зажигают специальный светильник с восемью лампадками как напоминание о чуде: масла, достаточного всего на один день, хватило для горения в храмовом светильнике, меноре, на восемь дней.
Хасидизм — направление в иудаизме, возникшее в XVIII в. и захватившее существенную часть еврейского мира Восточной Европы. Хасидизм до сих пор остается влиятельным течением в ортодоксальных кругах. Для хасидов характерна фанатичная приверженность своим духовным лидерам — цадикам.
Цадик — духовный лидер того или иного направления в хасидизме.
Цицес — специальные кисти, прикрепляемые к углам талеса и арбоканфеса. Их ношение является заповедью.
Шмини Ацерес (букв. «Восьмой день праздничного собрания», ивр.) — последний, восьмой день праздника Кущей.
Шулхан Арух (букв. «Накрытый стол», ивр.) — галахический кодекс, составленный в середине XVI в. Иосифом Каро (1488–1575). Наиболее авторитетный источник практической галахи, регулирующий жизнь общины и отдельного человека.
Издано при поддержке Благотворительного фонда семьи Розенблатт в рамках Издательской программы семьи Ремпель.
This Publication is supported by The Rosenblatt Family Trust
The Wandering Stars Book Series was inaugurated and is named in honor of The Rempel Family.
Благотворительный фонд Розенблатт посвящает эту книгу
памяти мучеников еврейского народа и — прежде всего — памяти погибших во мраке Катастрофы.
Многие из них и по сей день остаются безымянными и безличными, и некому прочитать о них кадиш, — но мы их не забудем.
Их история, культура, обычаи, вера, ценности запечатлены в литературных произведениях, которые теперь становятся доступными читающей по-русски публике, — и благодаря этому они пребывают рядом с нами.
Хочется верить, что память о них будет для нас благословением.
The Rosenblatt Family Trust Dedicates This Volume
To the memory of the martyrs of the Jewish people, and most especially to those who perished in the darkness of the Holocaust.
Although some remain to us nameless and faceless — and too many have no one to say Kaddish for them — we will not forget them.
Their history, culture, customs, beliefs, and values are embedded in the stories and accounts that are being made accessible now to a Russian speaking audience.
In this way, they are profoundly touching our lives today, giving substance to our hope that their memory serve as a blessing.
Примечания
1
Извините (англ.).
(обратно)2
Клецки из толченой мацы.
(обратно)3
Во многой мудрости много печали (Когелет [Еккл.], 1:18).
(обратно)4
Зигмунд Фрейд (1856–1939), Карл Густав Юнг (1875–1961), Альфред Адлер (1870–1937) — классики психоанализа.
(обратно)5
Районы Нью-Йорка, населенные преимущественно ортодоксальными евреями.
(обратно)6
Персонаж библейской Книги Эстер (Есфирь), временщик при дворе персидского царя, злодей и ненавистник евреев. Добивался всеобщего себе поклонения.
(обратно)7
В период Дней трепета, от Новолетия до Судного дня, в синагогах читают слихес, специальные покаянные молитвы. Так как в этот период синагоги часто посещают не только постоянные прихожане, но и те, кто бывает там редко, то каждая синагога извещает о расписании чтения слихес, молитв и проповедей с помощью специальных объявлений.
(обратно)8
9 апреля 1947 г. И.В. Сталин дал интервью американскому журналисту Стассену, в котором заявил о возможности экономического сотрудничества между СССР и США.
(обратно)9
Весной 1940 г. в Катыни (под Смоленском) войсками НКВД было расстреляно свыше 20 тыс. польских военнопленных.
(обратно)10
1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война.
(обратно)11
Судя по описанию передовицы, речь идет об издающейся в Нью-Йорке на идише газете «Форвертс» («Вперед)». Самая многотиражная из американских еврейских газет, она придерживалась социал-демократической ориентации. Башевис Зингер постоянно писал для «Форвертса».
(обратно)12
Открытый университет в Варшаве.
(обратно)13
Отец Авраама; согласно мидрашам, был скульптором и изготавливал идолов.
(обратно)14
Честь, которую цадик оказывает близким к нему хасидам.
(обратно)15
Влиятельный польский цадик.
(обратно)16
Так ортодоксальные евреи называли современную одежду.
(обратно)17
Ортодоксальная школа для девочек.
(обратно)18
Хони Амеагель — легендарный мудрец эпохи Второго храма, согласно Талмуду проспал 70 лет.
(обратно)19
Еврейская благотворительная организация.
(обратно)20
Сердце знает горе души своей (Мишлей [Притчи], 12:10).
(обратно)21
Баал-Шем-Тов (букв. Добрый знахарь) — прозвище ребе Исроэла бен Элие-зера (ок. 1700–1760), основателя хасидизма.
(обратно)22
Философ Бенедикт (Барух) Спиноза (1632–1677) был культовой фигурой для еврейских интеллектуалов в первой половине XX в. Сравнение пантеизма Спинозы с хасидской доктриной — популярная, хотя и весьма поверхностная идея.
(обратно)23
В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине Мегиддонской (Захария, 12:11).
(обратно)24
Ганс Файхингер (1852–1933) — немецкий философ, продолжатель традиций европейского пессимизма XIX в., создатель фикционализма, так называемой философии «Как если бы».
(обратно)25
Пригород Нью-Йорка.
(обратно)26
Гаон — почетный титул выдающихся талмудистов. Амшинов — династия хасидских цадиков.
(обратно)27
Мост через Вислу, ведущий в Прагу, предместье Варшавы.
(обратно)28
Ортодоксальные еврейки прячут волосы под париком.
(обратно)29
В субботу запрещено писать.
(обратно)30
Сокращение от «Криат Шма» (букв. чтение молитвы «Шма») — так на идише называется произнесение молитвы «Шма (Слушай)». Ее открывает иудейский символ веры: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь — един» (Дварим [Втор.], 6:4). «Шма» входит в состав утренней и вечерней литургии, ее произносят также перед отходом ко сну.
(обратно)31
Дагеш — диакритический знак, обозначающий удвоение согласного в иврите.
(обратно)32
Намек на эпизод из Пасхальной Агады, повествующий о мудрецах, отмечавших Пасху в Бней-Браке в эпоху римских гонений.
(обратно)33
Ревизионизм — праворадикальное течение в политическом сионизме, отрицавшее социалистическую тенденцию в еврейском национальном движении.
(обратно)34
Ритуальное омовение рук перед трапезой.
(обратно)35
Высший из ангелов в иудейской ангелологии.
(обратно)36
Один из архангелов в иудейской ангелологии.
(обратно)37
Серафимы, херувимы, офанимы и арелимы — чины ангельской иерархии.
(обратно)38
Неплохо (англ.).
(обратно)39
Открывающий глубины (ивр.) — прозвище Натана-Неты бар Шломо Шапиро из Кракова (1585–1633), выдающегося талмудиста и каббалиста. Получил это прозвище от названия своего наиболее известного каббалистического сочинения. Многие его работы сохраняются в рукописи и не изданы до сих пор.
(обратно)40
В XVII–XVIII вв. польские студенты нападали на улицах на евреев, иногда врывались в еврейские кварталы и учиняли там погромы (в Познани, Львове, Вильне и др.). Чтобы предохранить себя от «школьных набегов», еврейские общины больших городов платили ежегодную дань начальникам местных католических коллегий.
(обратно)41
Имеется в виду истребление евреев на Украине во время восстания под предводительством Хмельницкого в 1648 г.
(обратно)42
В 1768 г. во время восстания на Украине был захвачен город Умань. Восставшие, на чью сторону перешел сотник Гонта со своим отрядом, уничтожили в Умани около 10 тыс. евреев.
(обратно)43
Исайя, 58:7.
(обратно)44
Запрет на многоженство и развод с женой без ее согласия.
(обратно)45
Исайя, 2:9.
(обратно)46
Берешит (Бытие), 8:21.
(обратно)47
Каламбур, основанный на том, что фамилия Лембергер происходит от слова «Лемберг», австрийского названия Львова, центра Восточной Галиции, а фамилия Краковер — от Кракова, центра Западной Галиции.
(обратно)48
Дорогая (англ.).
(обратно)49
Исроэл Салантер (1810–1883) — литовский раввин, основатель движения мусар, подчеркивающего моральный аспект иудаизма. Оригинал перефразированного изречения звучит так: «Физические потребности моего ближнего — это потребности моей души».
(обратно)50
Традиционные субботние блюда. Чолнт — тушеное мясо с картошкой и фасолью, кугл — запеканка.
(обратно)51
Дни трепета.
(обратно)52
В течение трех недель, предшествующих посту Девятого ава, принято отказываться от употребления вина и мяса, не покупать обновы и т. д.
(обратно)53
Запрет на совместное употребление в пищу мясных и молочных продуктов предполагает также разделение посуды для приготовления соответствующих продуктов.
(обратно)54
Сальные свечи делали из холева, некошерной части жира кошерных животных. Соответственно попадание капли такого жира на посуду делает ее некошерной. Понятно, что в Нью-Йорке никто не пользовался сальными свечами, поэтому вопрос имеет не содержательный, а традиционный характер.
(обратно)55
Некоторые внутренние болезни и особенности строения, в том числе отсутствие желчного пузыря, делают курицу некошерной.
(обратно)56
Беспомощный, букв. «теряющий советы».
(обратно)57
Ицхак Лурия Ашкенази (1534–1572) — выдающийся каббалист, основатель нового мистического учения. Идеи лурианской каббалы существенным образом повлияли на хасидизм. В этом романе и других произведениях Башевиса Зингера широко представлены концепты лурианской каббалы.
(обратно)58
Ребе Нахман из Брацлава (1772–1810) — хасидский цадик, мистик, религиозный писатель. Особую популярность приобрели его «Сказочные рассказы». Башевис Зингер написал биографический очерк о ребе Нахмане для газеты «Форвертс».
(обратно)59
Придите, воспоем Господу, воскликнем Твердыне спасения нашего (Тегилим [Пс.], 95:1).
(обратно)60
Иер., 3:14.
(обратно)61
Плод цитрона, необходимый атрибут праздника Кущей. Этроги привозили в Восточную Европу издалека, и стоили они дорого. Это обстоятельство, а также то, что для праздника нужен неповрежденный плод, заставляло хранить этрог в специальной шкатулке.
(обратно)62
Купальня, погружение в которую предписано для достижения ритуальной чистоты.
(обратно)63
Имеется в виду русская печь, в которой чолнт остается горячим.
(обратно)64
Мир вам (ивр.).
(обратно)65
Жена доблестная (ивр.). Текст этого гимна представляет собой 31 главу библейской книги Мишлей (Притчи).
(обратно)66
Добрыдень — жанр еврейской народной музыки, пьеса, которой величают почетных гостей, приехавших на свадьбу.
(обратно)67
Занимайся своими делами! (англ.)
(обратно)68
Это правда? (англ.)
(обратно)69
Диакритический знак в иврите, обозначает звук «у».
(обратно)70
Эдуард VIII (1894–1972) — британский король, вступил на престол в 1936 г., но в тот же год отрекся от престола в пользу брата, чтобы иметь возможность вступить в брак с любимой женщиной, разведенной американкой Эллис Симпсон.
(обратно)71
Ксуба — брачный договор.
(обратно)72
Минимальный срок между разводом и новым браком согласно иудейскому закону.
(обратно)73
Кейвер-овес (букв. «могилы отцов», ивр.) — время перед Новолетием и Судным днем, когда принято посещать могилы родственников.
(обратно)74
Так нацисты помечали заключенных в Освенциме.
(обратно)75
Кол-нидрей (Все обеты, ивр.) — первая молитва Судного дня.
(обратно)76
Букв. «искупительная жетва» (ивр.). Обряд, предшествующий Судному дню. Мужчина вращает над головой петуха, а женщина — курицу, произнося при этом специальную молитву, в которой просит Всевышнего принять эту птицу в качестве искупительной жертвы. Затем курицу относят к резнику.
(обратно)77
Традиционное благопожелание на Новолетие и Судный день.
(обратно)78
Кошерное мясо должно быть полностью обескровлено, в том числе за счет высаливания.
(обратно)79
В США многие нерелигиозные евреи тем не менее приходят в Судный день в синагогу.
(обратно)80
Анафема, отлучение от общины.
(обратно)81
Хупа — свадебный балдахин.
(обратно)82
Знак окончания суток и праздника.
(обратно)83
Свет сияет на праведника, и на правых сердцем — веселие (Тегилим [Пс.], 97:11).
(обратно)84
Жанр раввинистической письменности, сборник, содержащий решения какого-либо раввина по галахическим вопросам.
(обратно)85
Крохмальная, Смоча — бедняцкие улицы в еврейских районах Варшавы.
(обратно)86
Район трущоб с криминальной репутацией.
(обратно)87
Традиционная брачная формула.
(обратно)88
Трактат Кидушин, V.5. Приведенный отрывок обладает типичной для Талмуда структурой: сначала идет текст Мишны, как набора определенных правил, а затем, в тексте Гемары, происходит обсуждение этой Мишны мудрецами.
(обратно)89
Шамай и Гилель — мудрецы, жившие в I в. до н. э. По многим вопросам полемизировали. Закон следует за точкой зрения Гилеля.
(обратно)90
Акуфес — ашкеназское произношение «акафот». Акафот — обряд праздника Симхат Тора (Симхес-Тойре), когда прихожане обходят биму, возвышение в центре молельного зала синагоги, со свитками Торы.
(обратно)91
Акроним слов «рабейну Шломо Ицхаки (наставник наш Шломо сын Ицхака)» (1040–1105) — крупнейший комментатор Библии и Талмуда, жил в Труа, Франция.
(обратно)92
Комментаторы Талмуда, жившие в XII–XIII вв. в Германии и Франции, последователи Раши.
(обратно)93
Выражение, означающее изощренную казуистику.
(обратно)94
Акронимы крупнейших комментаторов Талмуда: Шмуэля Эдельса (1555–1631, Польша), Меера из Ротенбурга (1215–1293, Германия), Шломо Лурии (1510–1573, Польша).
(обратно)95
Дрейдл — ханукальный волчок, в который дети играют на Хануку.
(обратно)96
И поселился (ивр.) — недельный раздел из Берешит (Бытие), чтение которого совпадает с Ханукой
(обратно)97
И забыл его (ивр.).
(обратно)98
Шуточное прочтение слова «вайишкахейгу» как аббревиатуры фразы на идише «Войцех шпилт кортн аф хануке» — «Войцех играет в карты на Хануку». Намек на то, что в Хануку было принято играть в карты.
(обратно)99
Йосеф бар Меер Теомим (1727–1793) — автор популярного комментария на Шулхан Арух.
(обратно)100
Арье-Лейб бен Ашер Гинзбург — выдающийся галахист XVIII в.
(обратно)101
Вопрос связан с запретом на использование одной и той же посуды для мясной и молочной пищи.
(обратно)102
Паревное — не мясное и не молочное, например овощи.
(обратно)103
Прозелит считает своими родителями библейского патриарха Авраама и его жену Сару.
(обратно)104
Занимайся своим делом (англ.).
(обратно)105
Различные диалекты идиша значительно различаются фонетикой. Литваки — евреи из Литвы и Белоруссии.
(обратно)106
Но (англ.).
(обратно)107
На луне? (англ.).
(обратно)108
В России (англ.).
(обратно)109
На связи (англ.).
(обратно)110
На улице (англ.).
(обратно)111
Кладбище (англ.).
(обратно)112
Чтение Псалмов традиционно считается средством, помогающим тяжелобольному.
(обратно)113
Согласно традиционным представлениям, грешника в аду все время швыряют из огня на лед и обратно.
(обратно)114
Иосиф вырвался из рук домогавшейся его жены Потифара, оставив свою одежду в ее руках (Берешит [Бытие], 39:12).
(обратно)115
И увидел народ, и дрогнули они, и встали поодаль (Шмот [Исх.], 20:15).
(обратно)116
Ребе Менахем-Мендл из Коцка (ум. в 1859 г.) — лидер одного из наиболее влиятельных направлений в польском хасидизме.
(обратно)117
Меер бен Яков Шифф (1608–1644, Франкфурт-на-Майне) — выдающийся талмудист.
(обратно)118
Патриарх Иаков — прародитель евреев, а его брат-близнец Исав считался прародителем христианских народов.
(обратно)119
Рабочие Сиона (ивр.) — партия сионистов-социалистов.
(обратно)120
Мезуза считалась оберегом, препятствующим проникновению в дом чертей, нечистых духов и т. п.
(обратно)121
Занята (англ.).
(обратно)122
Недвижимость (англ.).
(обратно)123
Иносказательное обозначение комментариев к Торе и вообще раввинистической литературы, так как комментарии печатают специальным курсивом.
(обратно)124
Но (англ.).
(обратно)125
Реклама (англ.).
(обратно)126
И все (англ.).
(обратно)127
Традиционная почесть.
(обратно)128
Это господин Герман Бродер? — Да (англ.).
(обратно)129
Конечно, конечно (англ.)
(обратно)130
Чертовски глуп (англ.).
(обратно)131
Желание человека — закон (ивр.).
(обратно)132
Страницы (англ.).
(обратно)133
Исследование (англ.).
(обратно)134
Занят (англ.).
(обратно)135
Альфонсо-Габриэль «Аль» Капоне — знаменитый чикагский гангстер. Голландец Шульц — прозвище гангстера Артура Флегенгеймера.
(обратно)136
Просто так (англ.).
(обратно)137
Беатрис, посмотри на нее! (англ.)
(обратно)138
Это замечательно, я действительно счастлива, что… (англ.)
(обратно)139
Традиционная трапеза в праздник Пятидесятницы.
(обратно)140
Ближайший к Буэнос-Айресу город на побережье Атлантического океана.
(обратно)141
Местечко в Литве.
(обратно)142
Комический персонаж в популярной комедии Аврома Гольдфадена «Два Куни-Лемела».
(обратно)143
Популярная еврейская песня.
(обратно)144
Остров в гавани Нью-Йорка, где находился карантин для иммигрантов.
(обратно)145
Американская еврейская благотворительная организация, созданная для помощи иммигрантам.
(обратно)146
Ваикра (Левит), 18:3.
(обратно)147
Бемидбар (Числа), 23:9.
(обратно)148
Тегилим (Пс.), 31:10–12.
(обратно)149
Тегилим (Пс.), 62:4
(обратно)150
Петрушка названа как необходимый элемент пасхального седера — свежие овощи (карпас).
(обратно)151
Смесь тертого яблока, изюма и орехов, необходимый элемент пасхального седера.
(обратно)152
Четыре ритуальных вопроса, начинающихся словами «Чем эта ночь отличается от всех ночей?..», входят в состав Пасхальной Агады. Обычно их задает самый младший за столом.
(обратно)153
Авраам, боясь того, что его убьют из-за Сары, дважды выдал ее за свою сестру: один раз в Египте, другой — у Авимелеха, царя города Герара.
(обратно)154
На пасхальном столе находится кусочек курицы как напоминание о пасхальной храмовой жертве.
(обратно)155
Выдающиеся советские еврейские писатели были расстреляны по делу Еврейского антифашистского комитета в Москве 12 августа 1952 г.
(обратно)156
Лягушки и вши — две из десяти казней египетских.
(обратно)157
Сборник раннесредневековых мидрашей, приписываемый рабби Танхуме.
(обратно)158
«Святость Леви» (ивр.) — основной труд хасидского цадика ребе Леви-Ицхака из Бердичева (1740–1809).
(обратно)159
«Ясный закон» (ивр.) — комментарий на Шулхан Арух, составленный выдающимся талмудистом Исраэлем-Меером Каганом, более известным как Хафец Хаим (1838–1933, Россия, Польша).
(обратно)160
«Путь праведных» (ивр.) — сочинение по этике философа и мистика Моше-Хаима Луцатто (1701–1747, Италия).
(обратно)161
Шрифт Раши — разновидность еврейского курсива, возникшая в Средние века и использовавшаяся для публикации комментариев.
(обратно)162
Акроним Шломо бен Адерета (1235–1310, Испания), раввина, автора галахических сочинений.
(обратно)163
Акроним Йом-Това бен Авраама Ашвили (1250–1330, Испания), выдающегося комментатора Талмуда.
(обратно)164
Цитата из Вавилонского Талмуда, (Брахот, 62,2).
(обратно)165
«Гранатовый сад» (ивр.) — сочинение выдающегося каббалиста Моше Кордоверо (1522–1570).
(обратно)166
«Древо жизни» (ивр.) — сочинение Хаима Виталя, ученика выдающегося каббалиста Ицхака Лурии (1534–1572), в котором Виталь излагает основные идеи своего учителя.
(обратно)167
«138 врат мудрости» (ивр.) — систематическое изложение каббалистической доктрины, составленное М.-Х. Луцатто.
(обратно)168
«Текущая роса» (ивр.) — сочинение Шабтая-Шефтеля бен Акивы Горовица (1565–1619, Прага), врача и каббалиста.
(обратно)169
Вильям Блейк (1757–1827) — английский поэт и художник, мистик и визионер.
(обратно)170
«Воды Шилоаха» (ивр.) — комментарий на Пятикнижие хасидского цадика ребе Мордхе-Йойсефа из Избицы (1800–1854). Эта книга, содержащая множество неортодоксальных и провокативных суждений, многими раввинами была сочтена еретической. Самый скандальный момент в ней — это комментарий на эпизод с Пинхасом. В Пятикнижии рассказано о том, что евреи начали «блудодействовать» с язычницами и вместе с ними поклоняться идолам. Тогда Пинхас, внук Аарона-первосвященника, пронзил копьем еврея Зимри и Козби, его возлюбленную-мидианитянку. После этого в израильском стане прекратилась чума, а Моисей предрек, что священство останется у потомков Пинхаса (Бемидбар [Числа], 25:6-15). В «Мей а-Шилоах» сказано, что Зимри поступил с Козби по закону, поскольку знал, что она суждена ему в жены с сотворения мира. Пинхас же пронзил Зимри копьем, поскольку не знал об этом, а Моисей его оправдал, так как приходился Пинхасу дядей. Упоминание этой книги намекает на брак Германа и Ядвиги, а также на влечение, которое к Герману испытывает Нэнси.
(обратно)171
С точки зрения иудаизма принадлежность к еврейству определяется еврейским происхождением матери.
(обратно)172
Мартин (Мордехай) Бубер (1878–1965) — еврейский религиозный философ-экзистенциалист и писатель.
(обратно)173
«Путеводитель растерянных» (ивр.) — философское сочинение крупнейшего еврейского мыслителя Средневековья Моше бен Маймона, известного в европейской традиции как Маймонид (1135–1204).
(обратно)174
Направление в еврейском мистицизме, основанное Ицхаком Лурией и популяризированное хасидизмом.
(обратно)175
Каббалистический термин, обозначающий тварный мир, как мир, отделенный от Божественного света.
(обратно)176
Авраам по Божьему повелению немедленно отправляется в Ханаан.
(обратно)177
Авраам был готов по Божьему велению принести в жертву Исаака, но Бог заменил Исаака на агнца. Авраам выгнал в пустыню наложницу Агарь с их сыном Измаилом, то есть отказался от Измаила. Маша обыгрывает два этих библейских сюжета, сравнивая Ядвигу с Агарью, а ее будущего ребенка — с Измаилом.
(обратно)178
Умри, но не преступи (ивр.). Закон, сформулированный в Талмуде, трактат Сангедрин, 74. «Сказал раби Йоханан: „Пришли мудрецы к единому мнению. Все запреты Торы, если говорят еврею: „Нарушь их или умрешь“, пусть нарушит и не умрет. Исключение составляют запрет идолопоклонства, запретные половые связи и запрет убийства. Еврей обязан погибнуть, но не преступить их“».
(обратно)179
Ишайа Горовиц (1555–1630) — каббалист и талмудист, автор популярного сочинения «Шней лухот а-брит» («Две скрижали Завета»), посвященного обсуждению законов повседневной жизни с точки зрения каббалы. Очевидно, здесь имеется в виду именно это сочинение.
(обратно)180
«Книга ангела Разиэля» — средневековое сочинение по практической каббале, руководство по составлению амулетов, заклинаний и т. д.
(обратно)181
Бесконечность (ивр.).
(обратно)182
Разбиение сосудов (ивр.).
(обратно)183
Протестантская благотворительная организация.
(обратно)184
Город в штате Невада.
(обратно)185
По законам штата Невада для процедуры развода достаточно прожить в Неваде шесть недель, поэтому город Рино стал «столицей разводов».
(обратно)186
Главная религиозно-философская книга индуизма.
(обратно)187
Якоб Беме (1575–1624) — немецкий мистик и теософ.
(обратно)188
Эммануэль Сведенборг (1688–1772) — шведский ученый, мистик и теософ.
(обратно)189
В индуизме понятие, обозначающее абсолют, первооснову всего.
(обратно)190
Китайцы традиционно владели в Нью-Йорке прачечными.
(обратно)191
Зенон Элейский (490–430 до н. э.) — греческий философ, стремившийся своими апориями доказать невозможность понятий движения, пространства и множества.
(обратно)192
Здравствуйте! (англ.)
(обратно)193
«Идите и поглядите» (ивр.) — пересказ на идише Пятикнижия вместе с наиболее популярными комментариями и мидрашами, выполненный около 1600 г.
(обратно)


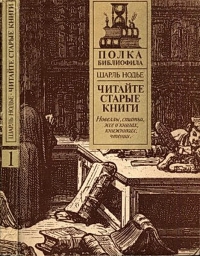
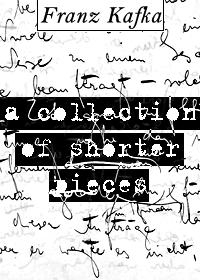
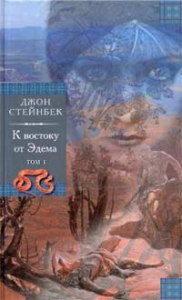
Комментарии к книге «Враги. История любви», Исаак Башевис-Зингер
Всего 0 комментариев