О. Генри НА ВЫБОР (Сборник)
«Роза южных штатов»
Перевод Л. Каневского.
Когда акционерная компания в Тумз-Сити штат Джорджия вознамерилась выпускать журнал под названием «Роза Южных штатов», его владельцы остановили свой выбор только на одном кандидате на пост главного редактора. Только полковник Акила Телфэр был таким человеком, достойным занять эту должность. У него для этого были все необходимые качества — знания, хорошая семья, высокая репутация, крепкие традиции Юга, он был по призванию, в силу логики, самым подходящим главным редактором.
Комитет патриотов — граждан Джорджии, который сформировал по подписке первоначальный капитал — 100 000 долларов, в полном составе приехал в резиденцию полковника Телфэра, сильно опасаясь, как бы его возможный отказ не повредил такому предприятию, да и делу всего Юга.
Полковник встретил комитетчиков в большой библиотеке, где он проводил почти все свои дни. Эта библиотека перешла к нему от отца. В ней было собрано десять тысяч томов, некоторые из них вышли в свет еще в 1861 году. Когда прибыла депутация, полковник Телфэр, сидя за своим массивным столом, читал «Анатомию меланхолии» Бертона, он вышел из-за стола и церемонно пожал руку каждому члену комитета. Если вы знакомы с журналом «Роза Южных штатов», то, вероятно, еще помните портрет полковника, который появлялся в нем время от времени. Разве можно забыть его длинные, аккуратно расчесанные седые волосы, широкий, похожий на клюв, чуть искривленный влево нос, проницательные глаза под все еще черными бровями, классических очертаний рот под седыми, повисшими усами, поредевшими на концах?
Комитет в торжественном тоне предложил ему должность управляющего редактора, наметил в общих чертах ту область, которую был призван освещать на своих страницах журнал, и назвал вполне приличную сумму полагающегося полковнику жалованья. Земли полковника истощались с каждым годом все больше, были изрядно уже изрыты оврагами с красноземом. К тому же, кто станет отказываться от такой высокой чести?
В своей сорокаминутной речи, в которой он выражал свое согласие, полковник Телфэр дал краткий обзор английской литературы от Чосера до Маколея, еще раз провел битву при Чанселорсвилле и заявил, что с Божьей помощью будет руководить «Розой Южных штатов». Так чтобы тонкие запахи и красоты Юга пропитали весь мир, чтобы эти креатуры с Севера заткнулись и позабыли о своем навязшем в зубах утверждении, что никаких проблесков гениальности не может быть в мозгах и ничего доброго в сердцах народа, собственность которого они уничтожили, а права значительно урезали.
Офис для нового журнала был должным образом оборудован с необходимыми перегородками на втором этаже здания Первого Национального банка и теперь полковнику предстояло сделать так, чтобы «Роза Южных штатов» цвела и пахла, распространяя повсюду пропитанный бальзамом воздух этой земли цветов.
Главный редактор полковник Телфэр подобрал себе заместителей и внештатных сотрудников, что не могло не вызвать удивления. Первый сорт! Каждый что тебе соблазнительный персик! Можно сказать, целый ящик отборных персиков из штата Джорджия. Первый заместитель — Толливер Ли Фэрфэкс, отец которого был убит при кавалерийской атаке. Второй заместитель — Китс Анфэнк, племянник одного из Рейдеров Моргана. Обозреватель книжных новинок — Джексон Рокинхэм, самый молодой солдат в армии конфедератов, можно сказать, появился на поле сражения с саблей в одной руке, а с бутылочкой молока в другой. Редактор отдела искусств — Ронсвэллс Сайкс — третий кузен племянника Джефферсона Дэвиса. Машинистка и стенографистка полковника — мисс Лавиния Терюн, тетку которой когда-то поцеловал Стонуолл Джексон. Главный рассыльный Томми Уэбстер получил свою работу после того, как прочитал наизусть все поэмы отца Райана на церемонии начала учебного года в средней школе Тумз-Сити. Девушки, заворачивающие журнал в бумагу и рассылающие его по адресам подписчиков, — все члены старинных южных семей, попавших в стеснительные обстоятельства. Кассиром стал малый по имени Хоукинс из Анн-Арбора штат Мичиган, у которого были рекомендации и гарантийное письмо от одной компании, составленное ее владельцами. Даже акционерные компании штата Джорджия порой понимают, что мертвых все равно приходится хоронить живым.
Ну, сэр, можете верить или не верить, но «Роза Южных штатов» стала процветать задолго до того, как о ней услыхали, кроме тех, конечно, кто все видел собственными глазами в Тумз-Сити. Тогда Хоукинс слез со своего высокого стула и сделал всех акционерами компании. Даже в захолустном Анн-Арборе он делал все свои деловые предложения так громогласно, что их слышали, по крайней мере, в Детройте. Тогда был найден менеджер по рекламе, из Боригард Фитцхью бэнкс, — молодой человек с галстуком цвета лаванды, прадедушка которого был прославленной «Наволочкой» ку-клукс-клана.
Несмотря на все это, «Роза Южных штатов» выходила регулярно, каждый месяц. И хотя в каждом номере помещались фото либо Тадж-Махала или Люксембургских садов, Карменситы или Фолетты, кое-кто покупал журнал и даже подписывался на него. Чтобы увеличить тираж, главный редактор полковник Телфэр опубликовал вид с трех различных углов старого дома Эндрю Джексона, под названием «Эрмитаж», на всю страницу гравюру второй битвы при Манасси под названием «Защити тыл!» и биографию Прекрасной Бойд объемом пять тысяч слов, и все это в одном номере. Число подписчиков в этот месяц увеличилось на 118 человек. В том же номере были еще напечатаны поэмы Леонины Вашти Арико (псевдоним) — племянницы одного из акционеров компании. И еще статья корреспондента светской хроники, в которой тот описывал потрясающее чаепитие, устроенное состоятельными бостонцами и англичанами, причем очень много чая было пролито на скатерти из-за внезапного появления гостей в маскарадных костюмах индейцев.
Однажды один запыхавшийся человек, дыхание которого могло затуманить большое зеркало, вошел в офис «Розы Южных штатов». Это был крупный мужчина, похожий на агента по продаже недвижимости, с повязанным собственными руками галстуком и манерами, которые он, по-видимому, позаимствовал одновременно у У. Д. Брайана, Хэккеншмидта и Хетти Грина.
Его провели в святая святых полковника, кабинет главного редактора. Полковник Телфэр поднялся и отвесил учтивый поклон на манер принца Альберта.
— Я — Тэкер, — сказал вошедший, усаживаясь на стул редактора. — Т. Т. Тэкер, из Нью-Йорка.
Он торопливо выложил на стол полковника несколько карт, пухлый конверт из манильской плотной бумаги и письмо от владельцев акционерной компании. В письме они представляли мистера Тэкера и вежливо просили полковника Телфэра все ему объяснить и предоставить любую информацию о его журнале, которую тот у него попросит.
— Я какое-то время переписывался с секретарем владельцев журнала, — торопливо объяснил Тэкер. — Я и сам профессиональный журналист и умею повышать тираж, как никто другой, можете мне поверить. Могу гарантировать увеличение тиража от десяти до ста тысяч экземпляров любого издания, которое только не печатается на мертвом языке. Я остановил свой взор на «Розе Южных штатов» с того времени, как вышел первый номер. Я знаю как свои пять пальцев весь этот издательский бизнес, от редактуры до помещения рекламных объявлений. Так вот, я приехал сюда, чтобы вложить в журнал кучу денег, если только я себе все верно представляю. Но меня должны попросить об этом. Секретарь говорит, что, мол, нечего выбрасывать деньги на ветер. Я не вижу, почему журнал, выходящий на Юге, если им только умело руководить, не может получить большого тиража и на Севере.
Полковник Телфэр подался вперед на своем стуле, протирая очки в золотой оправе.
— Мистер Тэкер, — сказал он вежливо, но твердо. — «Роза Южных штатов» — это такое издание, которое посвящено укреплению гения Юга и призвано предоставить ему возможность заговорить в полный голос. Вы не могли не заметить на его обложке девиз: «О Юге, за Юг и во имя Юга!»
— Но ведь вы, надеюсь, не против определенного его тиража на Севере? — спросил Тэкер.
— Как мне кажется, — продолжал полковник — главный редактор, — что подписка любого человека на журнал — это общепринятая практика. Честно говоря, я не знаю. Я не имею ничего общего с бизнесом журнала. Меня пригласили осуществлять над ним редакторский надзор, я посвятил ему все свои довольно скромные литературные таланты и ту эрудицию, которую я за эти годы накопил.
— Вы, конечно, правы, — сказал Тэкер, — но доллар — он везде доллар: на Севере, на Юге, на Западе, повсюду, где вы покупаете камбалу, земляной орех или мускусную дыню сорта «Рокки форд». Знаете, я искал ноябрьский номер журнала. Вон он, лежит на вашем столе. Давайте пройдемся по нему вместе с вами?
Ну, ваша передовица достаточно хороша. Хорошее описание «хлопкового пояса» с множеством фотографий — всегда залог успеха. Знаете, Нью-Йорк постоянно проявляет свой повышенный интерес к урожаю хлопка. А вот сенсационный отчет о вражде между Хэтфильдом и Маккоем, который составила школьница, племянница губернатора штата Кентукки. Неплохая идея! Это было так давно, что большинство людей об этом забыли. А вот и поэма, занявшая целых три страницы, под заголовком «Нога тирана» Лореллы Ласеллс. Я пересмотрел немало рукописей и ни на одном отказе не увидел ее имени.
— Мисс Ласеллс, — сказал главный редактор, — одна из самых широко признанных южных поэтесс. Она тесно связана с семьей Ласеллсов в штате Алабама, она собственными руками сшила шелковое знамя конфедератов и лично подарила губернатору этого штата на его инаугурацию.
— Но почему в таком случае, — не сдавался Тэкер, — эта поэма проиллюстрирована фотографией железнодорожного депо «М. энд О.» в Тускалузе?
— На иллюстрации изображена угловая часть забора, окружающего старый земельный участок, на котором родилась мисс Ласеллс.
— Очень интересно, — сказал Тэкер. — Я прочитал поэму, но так и не понял, о чем она? О железнодорожном депо или о схватке с бегущими быками? Ну а этот коротенький рассказик под названием «Искушение Рози» Фосдайк Пиготт? Он просто ужасен. Кто такой этот Пиготт?
— Мистер Пиготт, — объяснил главный редактор, — брат главного акционера журнала.
— Ну да ладно, мир от этого не перевернулся. Пиготт — проходняк, — сказал Тэкер. — Статьи об исследовании Арктики и о ловле тарпанов сами по себе неплохи. Теперь по поводу вот этого материала о пивных заводах в Атланте, Новом Орлеане, Нэшвилле и Саванне. Что в нем такого, кроме статистики, объемов производства пива и его качестве? В чем тут изюминка?
— Если я правильно понимаю ваш образный язык, — спокойно ответил полковник Телфэр, — дело заключается в следующем: статью, о которой вы говорите, мне передали владельцы журнала вместе с распоряжением ее напечатать. Ее литературные достоинства мне не понравились. Но в определенной мере я вынужден в некоторых вопросах идти навстречу пожеланиям джентльменов, которые заинтересованы в финансовом успехе «Розы».
— Понятно, — сказал Тэкер. — Пойдем дальше. Вот две страницы избранных отрывков из поэмы «Лалла Рук» Томаса Мура. Из какой же федеральной тюрьмы он сбежал, этот Мур, и что скрывается за инициалами Ф. Ф. В. семьи, которая стала для него гандикапом?
— Мур был ирландским поэтом и умер в тысяча восемьсот пятьдесят втором году, — объяснил полковник Телфэр, сожалея о невежестве посетителя. — Он считается классиком. Я подумывал о напечатании его перевода «Анакреона» в виде поэтической серии в моем журнале.
— Позаботьтесь об авторских правах, — резко бросил Тэкер. — А кто такая Бесси Бельклэр, которая печатает свое эссе, посвященное недавно открытой водоочистительной станции в Миллетджевилле?
— Ее имя, сэр, — сказал полковник Телфэр, — это боевой псевдоним мисс Элвиры Симпкинс. Я лично не имею чести знать эту леди, но ее сочинение мне прислал конгрессмен Брауэр от ее родного штата. Мать конгрессмена Брауэра приходилась родственницей Полксам из Теннесси.
— Послушайте, полковник, — сказал Тэкен, отбрасывая в сторону журнал. — Нет, так не пойдет. Нельзя успешно издавать журнал, предназначенный для какой-то определенной части страны. Мы должны обращаться с призывом ко всем, ко всему миру! Вы только посмотрите, сколько выходящих на Севере публикаций обращают особое внимание на положение на Юге, как они поощряют южных писателей. И вы должны идти дальше в этом направлении, привлекать все больше авторов. Но нужно, конечно, приобретать материалы только исходя из их качества, не обращать внимания на родовитость того или иного автора. Ну, могу поставить кварту чернил против того, что этот южный печатный орган, которым вы руководите, никогда не напечатал ни строчки о том, что творится к северу от географической линии Мейсон — Хамлинг? Разве я не прав?
— Я всегда сознательно и старательно отвергал все материалы, поступавшие ко мне из этой части страны, если я только верно понимаю ваш образный язык, — ответил полковник.
— Хорошо. Сейчас я вам кое-что покажу.
Тэкер потянулся к своему пухлому конверту из плотной манильской бумаги и, вытащив из нее несколько рукописей, положил их на стол главного редактора.
— Вот вам верный указатель, — сказал он, — я за него заплатил свои деньги и привез с собой.
Он стал вкладывать назад в конверт рукописи, предварительно показывая первые странички каждой полковнику.
— Здесь — четыре коротких рассказа, написанные самыми знаменитыми авторами в Соединенных Штатах. Трое из них живут в Нью-Йорке, а один в пригороде. Есть статья Тома Вампсона, специально посвященная венскому воспитательному обществу. Есть итальянский сериал о капитане Джеке, нет, это еще один опус Кроуфорда. Вот три отдельных очерка Сниффингса о городских правительствах и вот настоящий «гвоздь» — называется «Что носят женщины в своих плоских чемоданчиках»: одна сотрудница чикагской газеты завербовалась в служанки на пять лет к одной знатной леди, чтобы добыть такую информацию. А вот синопсис предыдущих глав нового сериала Холла Кейна, который выйдет в июне месяце. А вот пара фунтов стихов высшего общества, которые я взял из очень интеллектуальных журналов по рейтингу. Такой материал нужен всем, именно это хотят читать все люди. А вот «чтиво» с фотографиями. На них изображен Джордж Б. Макклин в разном возрасте: когда ему четыре годика, двенадцать, двадцать, двадцать два и тридцать лет. Он будет непременно избран мэром Нью-Йорка. Это — точный прогноз. Большая сенсация по всей стране. Он…
— Прошу прощения, — прервал его полковник Телфэр, цепенея на своем стуле. — Как его зовут?
— А, понимаю, — расплылся Тэкер в широкой улыбке. — Да, он сын генерала. Нет, эту рукопись мы отложим. Простите меня, полковник, но должен «выстрелить» журнал, а не первое орудие в форте Самтер. Ну а вот эта вещица непременно увидит у вас скоро свет. Оригинальная поэма Джеймса Уиткомба Рилли. Лично его! Вы, конечно, представляете, что это значит для журнала? Я не стану называть вам ту сумму, которую мне пришлось за нее выложить, но я скажу вам следующее: Рилли способен заработать гораздо больше денег, когда пишет авторучкой, гораздо больше, чем мы с вами, когда пишем обычной, с чернильницей. Я прочитаю вам всего пару строф:
Па мой — без дела целый день, Он лишь читает дребедень, И просит только нас обоих, Чтоб мы оставили его в покое. Я делаю все, что захочу, Когда шалю, лишь хохочу, Когда ругательства произношу я вслух, Па мой говорит, что я неслух! Па улыбается нашей кошке, А ма лишь злится понемножку. Он не дает мне гладить Джесси, Чем это вызвано на свете? А тем, что па мой никогда Не гладил серого кота!А вот вторая:
Как только все гаснет в доме, Крадусь я тут под балконом, Кровать пуста, я к ма иду, Сказать ей, как ее люблю. Я буду обнимать ее и целовать, Глаз в темноте не разобрать, Но когда всем надо спать, Она — все плакать и кричать. Я удивляюсь, сколько слез Ма моя так часто льет? А почему? А потому, Что па уж до ней не льнет!— Ну, как материальчик? — продолжал Тэкер. — Что скажете?
— Не скажу, что я незнаком с творчеством мистера Рилли, — с нажимом сказал полковник. — Кажется, он живет в Индиане. В последние десять лет он превратился в своеобразного литературного отшельника, но я знаком почти со всеми его книгами, собранными на Кедровых высотах. Я также придерживаюсь мнения, что журнал должен печатать поэзию в разумных объемах. Многие самые сладкоголосые трубадуры нашего Юга внесли свой творческий вклад на страницах «Розы Южных штатов».
Я лично подумывал о переводе с оригинала знаменитого итальянского поэта Тассо, чтобы опубликовать его на страницах нашего журнала. А вы когда-нибудь пивали из кладезя его бессмертных поэтических строк, мистер Тэкер?
— Нет, даже из кладезя полу-Тассо, — честно признался Тэкер. — Давайте-ка лучше перейдем к делу, полковник Телфэр. Я уже вложил кое-какие деньги в это ваше рискованное предприятие. Вот эта куча рукописей обошлась мне в четыре тысячи долларов. Мой план — опубликовать несколько из них в ближайшем номере. Думаю, у вас осталось времени менее месяца, чтобы понять, как это скажется на увеличении тиража. Я твердо верю, если мы станем печатать лучшие материалы с Севера, Юга, Востока и Запада, то сможем как следует развернуться с журналом. Вот перед вами письмо от владельца компании, в котором он предлагает вам сотрудничать со мной в деле осуществления такого грандиозного плана. Давайте выбросим часть всей этой дряни, которую вы публиковали только потому, что авторы являются родственниками Скупдуддлс из графства Скупдуддлс. Ну, вы согласны?
— До тех пор, покуда я исполняю обязанности главного редактора журнала, я буду им оставаться, — сказал с достоинством полковник. — Но я также готов выполнить пожелания его владельцев, если это не означает сделку с совестью.
— Ну, вот это настоящий разговор, — подхватил Тэкер. — Ну, какая часть привезенных мной материалов может увидеть свет в январском номере? Нужно начинать немедленно, не терять зря времени.
— В январском номере еще остается свободное место, — сказал главный редактор, — как раз на материал около восьми тысяч слов, грубо говоря.
— Потрясающе! — воскликнул Тэкер. — Не густо, конечно, но таким образом мы дадим читателям возможность отдохнуть от земляного ореха, губернаторов и Геттисберга. Я сам выберу самое интересное из того, что привез с собой, чтобы заполнить свободную журнальную площадь. Договорились? Придется смотаться в Нью-Йорк и вернуться сюда через пару недель.
Полковник Телфэр медленно стал снимать с носа свои очки с широкой черной ленточкой.
— Но свободное место в январском номере, — размеренно произнес полковник, — я оставил намеренно и что там печатать, я пока не решил. Совсем недавно в «Розу Южных штатов» был прислан материал, который, по-видимому, стал венцом просто замечательных литературных усилий. Такого я еще никогда не видел перед своими глазами. Только мастер высочайшего разума и громадного таланта способен на такое! И по размерам он как раз подходит для свободного пространства.
Тэкер тут же встревожился.
— Ну и что это за материал? — спросил он. — Восемь тысяч слов? Что-то очень подозрительно. Вероятно, в этом приняли участие самые старинные семьи. Может, нам это грозит новым отделением?
— Автор статьи, — продолжал главный редактор, проигнорировав историческую аллюзию Тэкера, — автор, имеющий определенную репутацию. И в других областях он тоже отличился. Я не вправе называть его имя, по крайней мере, до тех пор, покуда не приму окончательного решения, что делать с его материалом.
— Ну так что же, — сказал Тэкер, явно нервничая, — что он из себя представляет? Рассказ с продолжением, отчет о торжественном открытии новой насосной станции в городе Уитмир в Южной Калифорнии или сокращенный список телохранителей генерала Ли?
— Вам угодно насмешничать, — спокойно сказал полковник Телфэр. — Статья принадлежит перу мыслителя, философа, ученого, профессионального оратора высшей пробы, испытывающего неукротимую любовь ко всему человечеству.
— Вероятно, ее состряпал какой-то синдикат, — сказал Тэкер. — Но, честно говоря, вы, полковник, почему-то совсем не спешите со своим решением. Я, право, не знаю, кто сегодня читает восемь тысяч слов напечатанного материала в наши дни, кроме отчетов о брифингах Верховного суда да стенограммы судебных разбирательств об убийствах. Кстати, у вас часом нет копии речи на суде Дэниэля Фэбстера?
Полковник Телфэр заерзал на своем стуле и устремил проницательный взор из-под кустистых бровей на этого журнального импресарио.
— Мистер Тэкер, — с серьезным видом сказал он, — мне не хотелось бы смешивать ваше грубое чувство юмора с теми заботами, которые связаны с вашими капиталовложениями в этот бизнес. И посему я вынужден попросить вас оставить при себе ваши неуместные шутки и оскорбительные комментарии в отношении Юга и южан. Подобное просто нетерпимо в офисе «Розы Южных штатов». Прежде чем вы вновь приступите к вашим завуалированным инсинуациям в отношении того, что я, главный редактор журнала, не могу быть компетентным судьей присылаемых на его рассмотрение материалов, я попрошу вас представить свидетельства или доказательства того, что вы превосходите меня в любой форме в методе подхода к материалам, их рассмотрения и оценки.
— Ах, что вы, полковник, что вы, — добродушно сказал Тэкер, — я совсем не собирался упрекать вас в подобном. Ваши слова — словно осуждение, прозвучавшее в устах четвертого помощника генерального прокурора. Давайте-ка лучше вернемся к делу. Так что же там, короче говоря, в этих восьми тысячах слов?
— Статья, — продолжал полковник Телфэр, кивком головы принимая извинение, — охватывает широкую область знаний. В ней рассматриваются теории и такие сложные вопросы, которые были головоломками для всего мира на протяжении веков, все они там решаются, решаются точно, конкретно. В ней перечисляется все зло, все беды нашего мира, указывается, как все это можно искоренить, после чего приводятся детальные рекомендации, как можно добиться добра и справедливости.
Вряд ли вы найдете какую-либо сторону жизни, чтобы в ней она не подвергалась мудрой, взвешенной и спокойной дискуссии. Проведение великой политики правительствами, обязанности частных лиц, граждан, их обязательства в семейной жизни, вопросы этики, нравственности — все эти предметы рассматриваются с поразительной мудростью, уверенно, убедительно, и, должен признать, вызывают мое искреннее восхищение.
— Да, вероятно, классная штука! — сказал Тэкер, на которого вдохновенные слова полковника произвели должное впечатление.
— Да, это великий вклад в мировую мудрость, — продолжил полковник. — Но меня гложет единственное сомнение, которое нивелирует тот поразительный выигрыш, что получит «Роза Южных штатов» после такой публикации: у меня пока нет достаточной информации об авторе, чтобы я с легкой душой дал «добро» на публикацию его творения в моем журнале и создал таким образом ему паблисити.
— Кажется, вы говорили, что он — выдающийся человек, — напомнил ему Тэкер.
— Да, это так на самом деле. И не только в литературе, но и во многих других, совершенно различных областях. Но я всегда очень строг, когда принимаю материал к публикации. Все мои авторы — люди безукоризненной репутации и достойных связей, этот факт можно проверить в любую минуту. Как я уже сказал, я придерживаю эту статью до тех пор, покуда ко мне не поступит больше информации о ее авторе. Я до сих пор не знаю, буду ли я ее вообще печатать. Если не стану, то буду очень рад, мистер Тэкер, заменить ее тем материалом, который предлагаете мне вы, и поставить его на место этой статьи.
Тэкер, казалось, недоумевал.
— Что-то я никак не могу понять суть этого вдохновенного труда, — признался Тэкер. — Он мне напоминает, скорее, «темную лошадку», чем Пегаса.
— Это — чисто человеческий документ, — уже доверительно продолжал полковник-редактор, — составленный человеком выдающихся достижений, человеком, который, на мой взгляд, оказывает на весь мир и на его будущее куда большее влияние, чем любой другой человек, живущий ныне на нашей земле.
Тэкер взволнованно вскочил на ноги.
— Ничего себе! Круто! — воскликнул он — Может, вам удалось раскопать мемуары Джона Д. Рокфеллера? Тогда говорите сразу, нечего тянуть.
— Нет, сэр, — сказал полковник Телфэр, — я говорю о великом разуме и высокой литературе, а не имею в виду менее достойные хитросплетения бизнеса.
— В таком случае, не понимаю, почему бы не опубликовать эту статью, — нетерпеливо вопрошал Тэкер, — если автор хорошо известный человек и у него есть отличный материал?
Полковник Телфэр тяжело вздохнул.
— Мистер Тэкер, — сказал он, — я не раз подвергался искушению. Еще никогда в «Розе Южных штатов» не появлялась публикация, которая не принадлежала бы перу их славных сыновей или дочерей. Я слишком мало знаю об авторе этой статьи. Только то, что он получил известность в той части страны, которая всегда наполняла враждебностью мой мозг и сердце. Но я признаю его гениальность, и, как я уже вам сказал, сейчас я провожу расследование, связанное с этой личностью. Может, оно и не принесет успеха, но я все равно буду продолжать его. И до окончания моих поисков вопрос о свободном журнальном пространстве в нашем январском номере остается открытым.
Тэкер встал, чтобы выйти из кабинета.
— Ну, ладно, полковник, — сказал он как можно более сердечно. — Вам обо всем судить. Если у вас в руках на самом деле сенсация, которая всех переполошит, то оставьте ее вместо моих материалов. Увидимся через две недели. Желаю удачи!
Когда через две недели Тэкер вышел из тряского «пульмана» в Тумз-Сити, то чуть позже узнал, что январский номер журнала уже сверстан и все свободное пространство занято.
Та свободная площадь, которая зияла пустотой, была заполнена статьей с таким заголовком:
Второе послание конгрессу
Эксклюзивно для «Розы Южных штатов»
составлено
членом знаменитой семьи Баллока из штата Джорджия
ТЕОДОРОМ РУЗВЕЛЬТОМ
Третий ингредиент
Перевод М. Лорие.
Так называемый «Меблированный дом Валламброза» — не настоящий меблированный дом. Он состоит из двух старинных буро-каменных особняков, слитых воедино. Нижний этаж с одной стороны оживляют шляпки и шарфы в витрине модистки, с другой — омрачают устрашающая выставка и вероломные обещания дантиста «Лечение без боли». В «Валламброзе» можно снять комнату за два доллара в неделю, а можно и за двадцать. Население ее составляют стенографистки, музыканты, биржевые маклеры, продавщицы, репортеры, начинающие художники, процветающие жулики и прочие лица, свешивающиеся через перила лестницы всякий раз, как у парадной двери раздается звонок.
Мы поведем речь только о двух обитателях «Валламброзы» при всем нашем уважении к их многочисленным соседям.
Когда однажды в шесть часов вечера Хетти Пеппер возвращалась в свою комнату в «Валламброзе» (третий этаж, окно во двор, три доллара пятьдесят центов в неделю), нос и подбородок ее были заострены больше обычного. Утонченные черты лица — типичный признак человека, получившего расчет в универсальном магазине, где он проработал четыре года, и оставшегося с пятнадцатью центами в кармане.
Пока Хетти поднимается на третий этаж, мы успеем вкратце рассказать ее биографию.
Четыре года назад Хетти вошла в «Лучший универсальный магазин» вместе с семьюдесятью пятью другими девушками, желавшими получить место в отделении дамских блузок. Фаланга претенденток являла собой ошеломляющую выставку красавиц с общим количеством белокурых волос, которых хватило бы не на одну леди Годиву, а на целую сотню.
Деловитый, хладнокровный, безличный, плешивый молодой человек, который должен был отобрать шесть девушек из этой толпы чающих, почувствовал, что захлебывается в море дешевых духов, под пышными белыми облаками с ручной вышивкой. И вдруг на горизонте показался парус. Хетти Пеппер, некрасивая, с презрительным взглядом маленьких зеленых глаз, с шоколадными волосами, в скромном полотняном костюме и вполне разумной шляпке, предстала перед ним, не скрывая от мира ни одного из своих двадцати девяти лет.
«Вы приняты!» — крикнул плешивый молодой человек, и это было его спасением. Вот так и случилось, что Хетти начала работать в «Лучшем магазине». Рассказ о том, как она стала, наконец, получать восемь долларов в неделю, был бы компиляцией из биографий Геркулеса, Жанны д'Арк, Уны, Иова и Красной Шапочки. Сколько ей платили вначале — этого вы от меня не узнаете. Сейчас вокруг этих вопросов разгораются страсти, и я вовсе не хочу, чтобы какой-нибудь миллионер, владелец подобного магазина, взобрался по пожарной лестнице к окну моего чердачного будуара и начал швырять в меня камни.
История увольнения Хетти из «Лучшего магазина» так похожа на историю ее поступления туда, что я боюсь показаться однообразным.
В каждом отделении магазина имеется заведующий — вездесущий, всезнающий и всеядный человек в красном галстуке и с записной книжкой. Судьбы всех девушек данного отделения, живущих на (см. данные Бюро торговой статистики) долларов в неделю, целиком в его руках.
В отделении, где работала Хетти, заведующим был деловитый, хладнокровный, безличный, плешивый молодой человек. Когда он ходил по своим владениям, ему казалось, что он плывет по морю дешевых духов, среди пышных белых облаков с машинной вышивкой. Обилие сладкого ведет к пресыщению. Некрасивое лицо Хетти Пеппер, ее изумрудные глаза и шоколадные волосы казались ему желанным зеленым оазисом в пустыне приторной красоты. В укромном углу за прилавком он нежно ущипнул ее руку на три дюйма выше локтя, но тут же отлетел на три фута, отброшенный ее мускулистой и не слишком лилейной ручкой. Теперь вы знаете, почему тридцать минут спустя Хетти Пеппер пришлось покинуть «Лучший магазин» с тремя медяками в кармане. Сегодня утром фунт говяжьей грудинки стоит шесть центов. Но в тот день, когда Хетти Пеппер была освобождена от работы в универсальном магазине, он стоил семь с половиной центов. Только благодаря этому и стал возможен наш рассказ. Иначе на оставшиеся четыре цента можно было бы…
Но сюжет почти всех хороших рассказов в мире построен на неустранимых препятствиях, поэтому не придирайтесь, пожалуйста.
Купив говяжьей грудинки, Хетти поднималась в свою комнату (окно во двор, три доллара пятьдесят центов в неделю). Порция вкусного, горячего тушеного мяса на ужин, крепкий сон — и утром она будет готова снова искать подвигов Геркулеса, Жанны д'Арк, Уны, Иова и Красной Шапочки.
В своей комнате она достала, из крошечного шкафчика глиняный сотейник и стала шарить во всех кульках и пакетах в поисках картошки и лука. В результате этих поисков нос и подбородок ее заострились еще больше.
Ни картошки, ни лука! Но разве можно приготовить тушеное мясо из одного мяса? Можно приготовить устричный суп без устриц, черепаший суп без черепах, кофейный торт без кофе, но приготовить тушеное мясо без картофеля и лука совершенно невозможно.
Правда, в крайнем случае и одна говяжья грудинка может спасти от голодной смерти. Положить соли, перцу и столовую ложку муки, предварительно размешав ее в небольшом количестве холодной воды, и сойдет. Будет не так вкусно, как омары по-ньюбургски, и не так роскошно, как праздничный пирог, но — сойдет.
Хетти взяла сотейник и отправилась в конец коридора. Согласно рекламе «Валламброзы», там находился водопровод, но, между нами говоря, он проводил воду не всегда и лишь скупыми каплями; впрочем, техническим подробностям здесь не место. Там же была раковина, около которой часто встречались валламброзки, приходившие сюда выплеснуть кофейную гущу и поглазеть на чужие кимоно.
У этой раковины Хетти увидела девушку с густыми темно-золотистыми волосами и жалобным выражением глаз, которая мыла под краном две большие ирландские картофелины. Мало кто знал «Валламброзу» так хорошо, как Хетти. Кимоно были ее энциклопедией, ее справочником, ее агентурным бюро, где она черпала сведения о всех прибывающих и выбывающих. От одного розового кимоно с зеленой каймой она давно узнала, что девушка с двумя картофелинами — художница, рисует миниатюры, а живет под самой крышей в мансарде, или, как принято выражаться, в студии. Хетти не очень точно знала, что такое миниатюра, но была уверена, что это не дом, потому что маляры, хоть и носят забрызганные краской комбинезоны и на улице всегда норовят заехать своей лестницей вам в лицо, у себя дома, как известно, поглощают огромное количество пищи.
Картофельная девушка была тоненькая и маленькая и обращалась со своими картофелинами, как старый холостяк с младенцем, у которого режутся зубки. В правой руке она держала тупой сапожный нож, которым и начала чистить одну из картофелин.
Хетти заговорила с ней самым официальным тоном, но было ясно, что уже со второй фразы она готова сменить его на веселый и дружеский.
— Простите, что я вмешиваюсь не в свое дело, — сказала она, — но если так чистить картошку, очень много пропадает. Это молодая картошка, ее надо скоблить. Дайте я покажу.
Она взяла картофелину и нож и начала показывать.
— О, благодарю вас, — пролепетала художница. — Я не знала. Мне и самой было жалко так много срезать. Но я думала, что картофель всегда нужно чистить. Ведь знаете, когда сидишь на одной картошке, очистки тоже имеют значение.
— Послушайте, дорогая, — сказала Хетти, и нож ее замер в воздухе, — вам что, тоже не сладко приходится?
Миниатюрная художница улыбнулась голодной улыбкой.
— Да, пожалуй. Спрос на искусство, во всяком случае, на то, которым я занимаюсь, что-то не очень велик. У меня на обед только вот этот картофель. Но это не так уж плохо, если есть его горячим, с солью, и немножко масла.
— Дитя мое, — сказала Хетти, и мимолетная улыбка смягчила ее суровые черты, — сама судьба свела нас. Я тоже оказалась на бобах. Но дома у меня есть кусок мяса величиной с комнатную собачку. А картошку я пыталась достать всеми способами, разве только Богу не молилась. Давайте объединим наши интендантские склады и сделаем жаркое. Готовить будем у меня. Теперь бы еще луку достать! Как вы думаете, милая, не завалилось ли у вас с прошлой зимы немного мелочи за подкладку котикового манто? Я бы сбегала за луком на угол к старику Джузеппе. Жаркое без лука хуже, чем званый чай без сластей.
— Зовите меня Сесилия, — сказала художница. — Нет, я уже три дня как истратила последний цент.
— Значит, лук придется отставить, — сказала Хетти. — Я бы заняла луковицу у сторожихи, да не хочется мне, чтобы они сразу догадались, что я без работы. А хорошо бы нам иметь луковку!
В комнате продавщицы они занялись приготовлением ужина. Роль Сесилии сводилась к тому, что она беспомощно сидела на кушетке и воркующим голоском просила, чтобы ей разрешили хоть чем-нибудь помочь.
Хетти залила мясо холодной соленой водой и поставила на единственную горелку газовой плитки.
— Хорошо бы иметь луковку! — сказала она, кончая скоблить картофель.
На стене, напротив кушетки, был приколот яркий, кричащий плакат, рекламирующий новый паром железнодорожной линии, построенный с целью сократить путь между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком на одну восьмую минуты.
Оглянувшись посреди своего монолога, Хетти увидела, что по щекам ее гостьи струятся слезы, а глаза устремлены на идеализированное изображение несущегося по пенистым волнам парохода.
— В чем дело, Сесилия, милая? — сказала Хетти, прерывая работу. — Очень уж скверная картинка? Я плохой критик, но мне казалось, что она немножко оживляет комнату. Конечно, художница-маникюристка сразу может сказать, что это гадость. Если хотите, я ее сниму… Ах, боже мой, если б у нас был лук!
Но миниатюрная миниатюристка отвернулась и зарыдала, уткнувшись носиком в жесткий валик кушетки.
Здесь таилось что-то более глубокое, чем чувство художника, оскорбленного видом скверной литографии.
Хетти поняла. Она уже давно примирилась со своей ролью. Как мало у нас слов для описания свойств человека! Чем ближе к природе слова, которые слетают с наших губ, тем лучше мы понимаем друг друга. Выражаясь фигурально, можно сказать, что среди людей есть Головы, есть Руки, есть Ноги, есть Мускулы, есть Спины, несущие тяжелую ношу.
Хетти была Плечом. Плечо у нее было костлявое, острое, но всю ее жизнь люди склоняли на это плечо свои головы (как метафорически, так и буквально) и оставляли на нем все свои горести или половину их. Подходя к жизни с анатомической точки зрения, которая не хуже всякой другой, можно сказать, что Хетти на роду было написано стать Плечом. Едва ли были у кого-нибудь более располагающие к доверию ключицы.
Хетти было только тридцать три года, и она еще не перестала ощущать легкую боль всякий раз, как юная хорошенькая головка склонялась к ней в поисках утешения. Но один взгляд в зеркало неизменно помогал ей, как лучшее болеутоляющее средство. Так и теперь она строго глянула в потрескавшееся старое зеркало над газовой плиткой, немного убавила огонь под булькающим в сотейнике мясом с картошкой и, подойдя к кушетке, прижала головку Сесилии к своему плечу-исповедальне.
— Ну, моя хорошая, — сказала она, — выкладывайте все как было. Я теперь вижу, это вас не искусство расстроило. Вы познакомились с ним на пароме, так ведь? Да успокойтесь же, Сесилия, милая, и расскажите все своей… своей тете Хетти.
Но молодость и печаль должны сначала излить избыток вздохов и слез, что подгоняют барку романтики к желанным островам. Вскоре, однако, прильнув к жилистой решетке исповедальни, кающаяся грешница — или благословенная причастница священного огня? — просто и безыскусственно повела свой рассказ.
— Это было всего три дня назад. Я возвращалась на пароме из Джерси-Сити. Старый мистер Шрум, торговец картинами, сказал мне, что один богач в Ньюарке хочет заказать миниатюру, портрет своей дочери. Я поехала к нему, показала кое-какие свои работы. Когда я сказала, что миниатюра будет стоить пятьдесят долларов, он расхохотался, как гиена. Сказал, что портрет углем в двадцать раз больше моей миниатюры обойдется ему всего в восемь долларов.
У меня оставалось денег только на обратный билет в Нью-Йорк. Настроение было такое, что не хотелось больше жить. Вероятно, это видно было по моему лицу, потому что, когда я заметила, что он сидит напротив и смотрит на меня, мне показалось, что он все понимает. Он был красивый, но самое главное — у него было доброе лицо. Когда чувствуешь себя усталой, или несчастной, или во всем разуверишься, доброта важнее всего.
Когда мне стало так тяжело, что не было уже сил бороться, я встала и медленно вышла через заднюю дверь каюты. На палубе никого не было. Я быстро перелезла через поручни и бросилась в воду. Ах, друг мой Хетти, вода была такая холодная!
На одно мгновение мне захотелось вернуться в нашу «Валламброзу» и снова голодать и надеяться. А потом я вся онемела, и мне стало все равно. А потом я почувствовала, что в воде рядом со мной кто-то есть и поддерживает меня. Он, оказывается, вышел следом за мной и прыгнул в воду, чтобы спасти меня.
Нам бросили какую-то штуку вроде большой белой баранки, и он заставил меня продеть в нее руки. Потом паром дал задний ход, и нас втащили на палубу. Ах, Хетти, мне было так стыдно — ведь топиться грешно, да к тому же у меня волосы намокли и растрепались и выглядела я как пугало.
К нам подошло несколько мужчин в синем, и он дал им свою карточку, и я слышала, как он объяснил им, что я уронила сумочку у самого края парома и, перегнувшись за ней через поручни, упала в воду. И тут я вспомнила, что читала в газетах, что самоубийц сажают в тюрьму вместе с убийцами, и мне стало очень страшно.
Потом какие-то женщины увели меня в кочегарку, помогли мне обсушиться и причесали меня. Когда мы причалили, он подошел и посадил меня в кеб. Он сам промок до нитки, но смеялся, словно считал все это веселой шуткой. Он просил меня сказать ему мое имя и адрес, но я не сказала — уж очень мне было стыдно.
— Вы поступили глупо, дорогая, — ласково сказала Хетти. — Подождите, я чуточку прибавлю огня. Эх, если бы у нас была хоть одна луковица!
— Тогда он приподнял шляпу, — продолжала Сесилия, — и сказал: «Очень хорошо, но я вас все-таки найду. Я намерен получить награду за спасение утопающих». И он дал кебмену денег и велел отвезти меня, куда я скажу, и ушел. И вот прошло уже три дня, — простонала миниатюристка, — а он еще не нашел меня!
— Потерпите, — сказала Хетти. — Ведь Нью-Йорк — большой город. Подумайте, сколько ему нужно пересмотреть вымокших, растрепанных девушек, прежде чем он сможет вас узнать. Мясо наше отлично тушится, на вот луку, луку бы в него! На худой конец, я бы даже чесноку положила.
Мясо с картофелем весело булькало, распространяя соблазнительный аромат, в котором, однако, явно не хватало чего-то очень нужного, и это вызывало смутную тоску, неотвязное желание раздобыть недостающий ингредиент.
— Я чуть не утонула в этой ужасной реке, — сказала Сесилия, вздрогнув.
— Воды маловато, — сказала Хетти. — В жарком то есть. Сейчас схожу принесу.
— А как хорошо пахнет! — сказала художница.
— Это Северная-то река хорошо пахнет? — возразила Хетти. — От нее всегда воняет мыловаренным заводом и мокрыми сеттерами… Ах, вы про жаркое? Да, все бы хорошо, вот только бы еще луку! А как вам показалось, деньги у него есть?
— Главное, мне показалось, что он добрый, — сказала Сесилия. — Я уверена, что он богат, но это совсем не важно. Когда он платил кебмену, я заметила, что у него в бумажнике были сотни, тысячи долларов. А когда я высунулась из кеба, то увидела, что он сел в автомобиль и шофер дал ему свою медвежью доху, потому что он весь промок. И это было только три дня назад!..
— Какая глупость! — коротко отрезала Хетти.
— Но ведь шофер не промок, — пролепетала Сесилия. — И он очень хорошо повел машину.
— Я говорю, вы сделали глупость, — сказала Хетти, — что не дали ему адреса.
— Я никогда не даю свой адрес шоферам, — надменно сказала Сесилия.
— А как он нам нужен! — удрученно произнесла Хетти.
— Зачем?
— Да в жаркое, конечно. Это я все насчет лука.
Хетти взяла кувшин и отправилась к крану в конце коридора.
Когда она подошла к лестнице, с верхнего этажа как раз спускался какой-то молодой человек. Одет он был прилично, но казался больным и измученным. В его мутных глазах читалось страдание — физическое или душевное. В руке он держал луковицу, розовую, гладкую, крепкую, блестящую луковицу величиною с девяностовосьмицентовый будильник.
Хетти остановилась. Молодой человек тоже. Во взгляде и позе продавщицы было что-то от Жанны д'Арк, от Геркулеса, от Уны — роли Иова и Красной Шапочки сейчас не годились. Молодой человек остановился на последней ступеньке и отчаянно закашлялся. Сам не зная почему, он почувствовал, что его загнали в ловушку, атаковали, взяли штурмом, обложили данью, ограбили, оштрафовали, запугали, уговорили. Всему виною были глаза Хетти. Глянув в них, он увидел, как взвился на верхушку мачты черный пиратский флаг и ражий матрос с ножом в зубах взобрался с быстротой обезьяны по вантам и укрепил его там. Но молодой человек еще не знал, что причиной, почему он едва не был пущен ко дну, и даже без переговоров, был его драгоценный груз.
— Прошу прощения, — сказала Хетти настолько сладко, насколько позволял ее кислый голос. — Не нашли ли вы эту луковицу здесь, на лестнице? У меня разорвался пакет с покупками, я как раз вышла поискать ее.
Молодой человек кашлял, не смолкая, добрых полминуты. За это время он, очевидно, набрался мужества, чтобы отстаивать свою собственность. Крепко зажав в руке свое слезоточивое сокровище, он дал решительный отпор свирепому грабителю, покушавшемуся на него.
— Нет, — сказал он в нос, — я не нашел ее на лестнице. Мне дал ее Джек Бивенс, который живет на верхнем этаже. Если не верите, подите спросите его. Я подожду здесь.
— Я знаю Джека Бивенса, — нелюбезно сказала Хетти. — Он пишет книги и вообще всякую чепуху для тряпичников. Весь дом слышит, как его ругает почтальон, когда приносит ему обратно толстые конверты. Скажите, вы тоже живете в «Валламброзе»?
— Нет, — ответил молодой человек, — я иногда захожу к Бивенсу. Мы с ним друзья. Я живу в двух кварталах отсюда.
— Простите, а что вы собираетесь делать с этой луковицей?
— Собираюсь ее съесть.
— Сырую?
— Да, как только приду домой.
— У вас там что же, больше нет никакой еды?
Молодой человек на минуту задумался.
— Да, — признался он. — У меня дома нет больше ни крошки. У старика Джека тоже, кажется, неважно с припасами. Ему ужасно не хотелось расставаться с этой луковицей, но я так пристал к нему, что он сдался.
— Приятель, — сказала Хетти, не сводя с него умудренного жизнью взгляда и положив костлявый, но выразительный палец ему на рукав, — у вас, видно, тоже неприятности, да?
— Сколько угодно, — быстро ответил владелец лука. — Но эта луковица моя собственность и досталась мне честным путем. Простите, пожалуйста, но я спешу.
— Знаете что? — сказала Хетти, слегка побледнев от волнения. — Сырой лук — это совсем невкусно. И тушеное мясо без лука — тоже. Раз вы друг Джека Бивенса, вы, наверно, порядочный человек. У меня в комнате, в том конце коридора, сидит одна девушка, моя подруга. Нам обеим не повезло, и у нас на двоих — только кусок мяса и немного картошки. Все это уже тушится, но в нем нет души. Чего-то не хватает. В жизни есть некоторые вещи, которые непременно должны существовать вместе. Ну, например, розовый муслин и зеленые розы, или грудинка и яйца, или ирландцы и беспорядки. И еще — тушеное мясо с картошкой и лук. И еще люди, которым приходится туго, и другие люди в таком же положении.
Молодой человек опять раскашлялся, и надолго. Одной рукой он прижимал к груди свою луковицу.
— Разумеется, разумеется, — проговорил он, наконец. — Но я уже сказал вам, что спешу…
Хетти крепко вцепилась в его рукав.
— Не ешьте сырой лук, дорогой мой. Внесите свою долю в обед, и вы отведаете такого жаркого, какое вам не часто доводилось пробовать. Неужели две женщины должны свалить с ног молодого джентльмена и затащить его в комнату силой, чтобы он оказал им честь пообедать с ними? Ничего вам плохого не сделают. Решайтесь, и пошли.
Бледное лицо молодого человека осветилось улыбкой.
— Ну что же, — сказал он, оживляясь. — Если луковица может служить рекомендацией, я с удовольствием приму приглашение.
— Может, может, — сказала Хетти. — И рекомендацией и приправой. Вы только постойте минутку за дверью, я спрошу мою подругу, согласна ли она. И, пожалуйста, не удирайте никуда со своим рекомендательным письмом.
Хетти вошла в свою комнату и закрыла дверь. Молодой человек остался в коридоре.
— Сесилия, дорогая, — сказала продавщица, смазав, как умела, свой скрипучий голос, — там, за дверью, есть лук. И при нем молодой человек. Я пригласила его обедать. Вы как, не против?
— Ах, боже мой! — сказала Сесилия, поднимаясь и поправляя прическу. Глаза ее с грустью обратились на плакат с паромом.
— Нет, нет, — сказала Хетти, — это не он. На этот раз все очень просто. Вы, кажется, сказали, что у вашего героя имеются деньги и автомобили? А этот — голодранец. У него только и еды, что одна луковица. Но разговор у него приятный, и он не нахал. Скорее всего, он был джентльменом, а теперь оказался на мели. А ведь лук-то нам нужен! Ну как, привести его? Я ручаюсь за его поведение.
— Хетти, милая, — вздохнула Сесилия, — я так голодна! Не все ли равно, принц он или бродяга? Давайте его сюда, если у него есть что-нибудь съестное.
Хетти вышла в коридор. Луковый человек исчез. У Хетти замерло сердце, и серая тень покрыла ее лицо, кроме скул и кончика носа. А потом жизнь снова вернулась к ней — она увидела, что он стоит в дальнем конце коридора, высунувшись из окна, выходящего на улицу. Она поспешила туда. Он кричал, обращаясь к кому-то внизу. Уличный шум заглушил ее шаги. Она заглянула через его плечо и увидела, к кому он обращается, и расслышала его слова. Он обернулся и увидел ее.
Глаза Хетти вонзились в него, как стальные буравчики.
— Не лгите, — сказала она спокойно. — Что вы собирались делать с этим луком?
Молодой человек подавил приступ кашля и смело посмотрел ей в лицо. Было ясно, что он не намерен терпеть дальнейшие издевательства.
— Я собирался его съесть, — сказал он громко и раздельно, — как уже и сообщил вам раньше.
— И у вас дома больше нечего есть?
— Ни крошки.
— А чем вы вообще занимаетесь?
— Сейчас ничем особенным.
— Так почему же, — сказала Хетти на самых резких нотах, — почему вы высовываетесь из окон и отдаете распоряжения шоферам в зеленых автомобилях?
Молодой человек вспыхнул, и его мутные глаза засверкали.
— Потому, сударыня, — заговорил он, все ускоряя темп, — что я плачу жалованье этому шоферу и автомобиль этот принадлежит мне, так же как и этот лук, да, так же как этот лук!
Он помахал своей луковицей перед самым носом у Хетти. Продавщица не двинулась с места.
— Так почему же вы едите лук, — спросила она убийственно презрительным тоном, — и ничего больше?
— Я этого не говорил, — горячо возразил молодой человек. — Я сказал, что у меня дома нет больше ничего съестного. Я не держу гастрономического магазина.
— Так почему же, — неумолимо продолжала Хетти, — вы собирались есть сырой лук?
— Моя мать, — сказал молодой человек, — всегда давала мне сырой лук против простуды. Простите, что упоминаю о физическом недомогании, но вы могли заметить, что я очень, очень сильно простужен. Я собирался съесть эту луковицу и лечь в постель. И не понимаю, чего ради я стою здесь и оправдываюсь перед вами.
— Где это вы простудились? — подозрительно спросила Хетти.
Молодой человек, казалось, достиг высшей точки раздражения. Спуститься с нее он мог двумя путями: дать волю своему гневу или признать комичность ситуации. Он выбрал правильный путь, и пустой коридор огласился его хриплым смехом.
— Нет, вы просто прелесть, — сказал он. — И я не осуждаю вас за такую осторожность. Так и быть, объясню вам. Я промок. На днях я переезжал на пароме Северную реку, и какая-то девушка бросилась в воду. Я, конечно…
Хетти перебила его, протянув руку.
— Отдайте лук, — сказала она.
Молодой человек стиснул зубы.
— Отдайте лук, — повторила она.
Он улыбнулся и положил луковицу ей на ладонь.
Тогда на лице Хетти появилась редко озарявшая его меланхолическая улыбка. Она взяла молодого человека под руку, а другой рукой указала на дверь своей комнаты.
— Дорогой мой, — сказала она, — идите туда. Маленькая дурочка, которую вы выудили из реки, ждет вас. Идите, идите. Даю вам три минуты, а потом приду сама. Картошка там и ждет. Входи, Лук.
Когда он, постучав, вошел в дверь, Хетти очистила луковицу и стала мыть ее под краном. Она бросила хмурый взгляд на хмурые крыши за окном, и улыбка медленно сползла с ее лица.
— А все-таки, — мрачно сказала она самой себе, — все-таки мясо-то достали мы.
Как скрывался Чёрный Билл
Перевод Т. Озерской.
Худой, жилистый, краснолицый человек с крючковатым носом и маленькими горящими глазками, блеск которых несколько смягчали белесые ресницы, сидел на краю железнодорожной платформы на станции Лос-Пиньос, болтая ногами. Рядом с ним сидел другой человек — толстый, обтрепанный, унылый, — должно быть, его приятель. У обоих был такой вид, словно грубые швы изнанки жизни давно уже натерли им мозоли по всему телу.
— Года четыре не видались, верно, Огарок? — сказал обтрепанный. — Где тебя носило?
— В Техасе, — сказал краснолицый. — На Аляске слишком холодно — это не для меня. А в Техасе тепло, как выяснилось. Один раз было даже довольно жарко. Сейчас расскажу.
Как-то утром я соскочил с экспресса, когда он остановился у водокачки, и разрешил ему следовать дальше без меня. Оказалось, что я попал в страну ранчо. Домов там еще больше, чем в Нью-Йорке, только их строят не в двух дюймах, а в двадцати милях друг от друга, так что нельзя учуять носом, что у соседей на обед.
Дороги я не нашел и потащился напрямик, куда глаза глядят. Трава там по колено, а мескитовые рощи издали совсем как персиковые сады, — так и кажется, что забрел в чужую усадьбу и сейчас налетят на тебя бульдоги и начнут хватать за пятки. Однако я отмахал миль двадцать, прежде чем набрел на усадьбу. Небольшой такой домик — величиной с платформу надземной железной дороги.
Невысокий человек в белой рубахе и коричневом комбинезоне с розовым платком вокруг шеи сворачивал самокрутки под деревом у входа в дом.
— Привет, — говорю я ему, — может ли в некотором роде чужестранец прохладиться, подкрепиться, найти приют или даже какую-нибудь работенку в вашем доме?
— Заходите, — говорит он самым любезным тоном. — Присядьте, пожалуйста, на этот табурет. Я и не слышал, как вы подъехали.
— Я еще не подъехал, — говорю я. — Я пока подошел. Неприятно затруднять вас, но если бы вы раздобыли ведра два воды…
— Да, вы изрядно запылились, — говорит он, — только наши купальные приспособления…
— Я хочу напиться, — говорю я. — Пыль, которая у меня снаружи, не имеет особого значения.
Он налил мне ковш воды из большого красного кувшина и спрашивает:
— Так вам нужна работа?
— Временно, — говорю я. — Здесь, кажется, довольно тихое местечко?
— Вы не ошиблись, — говорит он. — Порой неделями ни одной живой души не увидишь. Так я слышал. Сам я всего месяц, как обосновался здесь. Купил это ранчо у одного старожила, который решил перебраться дальше на Запад.
— Мне это подходит, — говорю я. — Человеку иной раз полезно пожить в таком тихом углу. Но мне нужна работа. Я умею сбивать коктейли, шельмовать с рудой, читать лекции, выпускать акции, немного играю на пианино и боксирую в среднем весе.
— Так… — говорит этот недоросток. — А не можете ли вы пасти овец?
— Не могу ли я спасти овец? — удивился я.
— Да нет, не спасти, а пасти, — говорит он. — Ну, стеречь стадо.
— А, — говорю я, — понимаю! Сгонять их в кучу, как овчарка, и лаять, чтоб не разбежались! Что ж, могу. Мне, по правде сказать, еще не приходилось пастушествовать, но я не раз наблюдал из окна вагона, как овечки жуют на лугу ромашки, и вид у них был не особенно кровожадный.
— Мне нужен пастух, — говорит этот овцевод. — А на мексиканцев я не очень-то полагаюсь. У меня два стада. Можете хоть завтра с утра выгнать на пастбище моих баранов — их всего восемьсот штук. Жалованье — двенадцать долларов в месяц, харчи мои. Жить будете там же на выгоне, в палатке. Стряпать вам придется самому, а дрова и воду будут доставлять. Работа не тяжелая.
— По рукам, — говорю я. — Берусь за эту работу, если даже придется украсить голову венком, облачиться в балахон, взять в руки жезл и наигрывать на дудочке, как делают это пастухи на картинках.
И вот на следующее утро хозяин ранчо помогает мне выгнать из корраля стадо баранов и доставить их на пастбище в прерии, мили за две от усадьбы, где они принимаются мирно пощипывать травку на склоне холма. Хозяин дает мне пропасть всяких наставлений: следить, чтобы отдельные скопления баранов не отбивались от главного стада, и в полдень гнать их всех на водопой.
— Вечером я привезу вашу палатку, все оборудование и провиант, — говорит он мне.
— Роскошно, — говорю я. — И не забудьте захватить провиант. Да заодно и оборудование. А главное, не упустите из виду палатку. Ваша фамилия, если не ошибаюсь, Золликоффер?
— Меня зовут, — говорит он, — Генри Огден.
— Чудесно, мистер Огден, — говорю я. — А меня — мистер Персиваль Сент-Клер.
Пять дней я пас овец на ранчо Чикито, а потом почувствовал, что сам начинаю обрастать шерстью, как овца. Это обращение к природе явно обращалось против меня. Я был одинок, как коза Робинзона Крузо. Ей-богу, я встречал на своем веку более интересных собеседников, чем вверенные моему попечению бараны. Соберешь их вечером, запрешь в загон, а потом напечешь кукурузных лепешек, нажаришь баранины, сваришь кофе и лежишь в своей палатке величиной с салфетку да слушаешь, как воют койоты и кричат козодои.
На пятый день к вечеру, загнав моих драгоценных, но малообщительных баранов, я отправился в усадьбу, отворил дверь в дом и шагнул за порог.
— Мистер Огден, — говорю я. — Нам с вами необходимо начать общаться. Овцы, конечно, хорошая штука — они оживляют пейзаж, и опять же с них можно настричь шерсти на некоторое количество восьмидолларовых мужских костюмов, но что касается застольной беседы или чтобы скоротать вечерок у камелька, так с ними помрешь с тоски, как на великосветском файвоклоке. Если у вас есть колода карт, или литературное лото, или триктрак, тащите их сюда, и мы с вами займемся умственной деятельностью. Я сейчас готов взяться за любую мозговую работу — вплоть до вышибания кому-нибудь мозгов.
Этот Генри Огден был овцевод особого сорта. Он носил кольца и большие золотые часы и тщательно завязывал галстук. И физиономия у него всегда была спокойная, а очки на носу так и блестели. Я видел в Мэскоги, как повесили бандита за убийство шестерых людей. Так мой хозяин был похож на него как две капли воды. Однако я знавал еще одного священника в Арканзасе, которого можно было бы принять за его родного брата. Но мне-то, в общем, было наплевать. Я жаждал общения — с праведником ли, с грешником — все одно, лишь бы он говорил, а не блеял.
— Я понимаю, Сент-Клер, — отвечает Огден, откладывая в сторону книгу. — Вам, конечно, скучновато там одному с непривычки. Моя жизнь, признаться, тоже довольно однообразна. Хорошо ли вы заперли овец? Вы уверены, что они не разбегутся?
— Они заперты так же прочно, — говорю я, — как присяжные, удалившиеся на совещание по делу об убийстве миллионера. И я буду на месте раньше, чем у них возникнет потребность в услугах сиделки.
Тут Огден извлек откуда-то колоду карт, и мы с ним сразились в казино. После пяти дней и пяти ночей заточения в овечьем лагере я почувствовал себя как гуляка на Бродвее. Когда мне шла карта, я радовался так, словно заработал миллион на бирже, а когда Огден разошелся и рассказал анекдот про даму в спальном вагоне, я хохотал добрых пять минут.
Все в жизни относительно, вот что я скажу. Человек может столько насмотреться всякой всячины, что уже не повернет головы, чтобы поглядеть, как горит трехмиллионный особняк, или возвращается с гастролей Джо Вебер, или волнуется Адриатическое море. Но дайте ему только попасти немножко овец, и он будет кататься со смеху, едва кто-нибудь запоет «Могильный звон, могильный звон!» — и получать искреннее удовольствие от игры в карты с дамами.
Словом, дальше — больше. Огден вытаскивает бутылку бурбонского, и мы окончательно предаем забвению наших овец.
— Вы помните, — говорит Огден, — примерно месяц назад в газетах писали о нападении на скорый Канзас — Техас? Было похищено пятнадцать тысяч долларов кредитными билетами, а проводник почтового вагона ранен в плечо. И говорят, все это дело рук одного человека.
— Что-то припоминаю, — говорю я. — Но такие вещи случаются настолько часто, что мозг рядового техасца не в состоянии удержать их в памяти. И что ж, преступник был застигнут на месте преступления? Или изловлен, схвачен, предан в руки правосудия?
— Он удрал, — говорит Огден. — А сегодня я прочел в газете, что полиция напала на его след где-то в наших краях. Все похищенные банкноты были, оказывается, одной серии — первого выпуска Второго Национального банка города Эспинозы. Проследили, где грабитель менял эти банкноты, и след привел сюда.
Огден наливает себе еще бурбонского и пододвигает бутылку мне.
— Что ж, — говорю я, отхлебнув глоточек этого царского напитка, — для железнодорожного налетчика не так уж глупо придумано — укрыться на время в здешней глуши. Овечья ферма, пожалуй, самое подходящее для этого место. Кому придет в голову искать такого отпетого бандита среди певчих птичек, барашков и полевых цветочков? А что, — говорю я, скосив глаза на Огдена и как бы приглядываясь к нему, — в газетах не было дано примет этого единоборца? Что-нибудь насчет объема, веса, линейных измерений, покроя жилета или количества запломбированных зубов?
— Нет, — говорит Огден. — Он был в маске, и никто не мог его хорошенько рассмотреть. Но установлено, что это известный железнодорожный налетчик по кличке Черный Билл, потому что тот всегда работает один и, кроме того, в почтовом вагоне нашли платок с его меткой.
— Я одобряю Черного Билла, — говорю я. — Он правильно сделал, что спрятался на овечьем ранчо. Думаю, им его не найти.
— Объявили награду в тысячу долларов за его поимку, — говорит Огден.
— На черта мне эти деньги, — говорю я, глядя мистеру овцеводу прямо в глаза. — Хватит с меня и двенадцати долларов в месяц, которые я у вас получаю. Я нуждаюсь в отдыхе. Мне бы только наскрести деньжат, чтоб оплатить билет до Тексарканы, где проживает моя вдовствующая матушка. Если Черный Билл, — говорю я, многозначительно глядя на Огдена, — этак месяц назад подался в эти края… и купил себе небольшое овечье ранчо и…
— Стойте, — говорит Огден и с довольно-таки свирепой рожей подымается со стула, — это что за намеки?
— Никаких намеков, — говорю я. — Я беру чисто гипотонический случай. Если бы, — говорю я, — Черный Билл забрел сюда и купил себе овечье ранчо и нанял бы меня нянчить его овец и играть им на дудочке, да поступал бы при этом со мной честно и по-товарищески, вот как вы, — ему бы не пришлось меня опасаться. Человек для меня всегда человек, какие бы ни случались у него осложнения с железнодорожными поездами или с овцами. Теперь вы знаете, чего от меня ждать.
Лицо у Огдена стало черней кофейной гущи. Секунд девять он молчал, а потом рассмеялся.
— Вот вы какой, Сент-Клер, — говорит он. — Что ж, будь я Черным Биллом, я бы не побоялся довериться вам. А теперь давайте перекинемся в картишки… если, конечно, вам не претит играть с налетчиком.
— Я уже выразил вам свои чувства в словесной форме, — говорю я, — и притом без всякой задней мысли.
Тасуя карты после первой сдачи, я, как бы невзначай, спрашиваю Огдена, откуда он.
— О, — говорит Огден, — я с Миссисипи.
— Хорошенькое местечко, — говорю я. — Мне не раз приходилось там останавливаться. Только простыни немного сыроваты и насчет жратвы не густо. Верно, да? А я вот, — говорю я ему, — с побережья Тихого океана. Может, бывали когда?
— Сплошные сквозняки, — говорит Огден. — Но если вам случится попасть на Средний Запад, сошлитесь на меня, и вам нальют кофе через ситечко и положат грелку в постель.
— Ладно, — говорю я. — Я ведь не хотел выведать у вас номер вашего личного телефона или девичью фамилию вашей тетушки, которая умыкнула пресвитерианского священника из Кэмберленда. Мне-то что. Я стараюсь только втолковать вам, что в руках у вашего овчара вы в полной безопасности. Ну, бросьте нервничать, червы пиками не кроют.
— Втемяшится же человеку, — говорит Огден и опять смеется. — А не кажется ли вам, что, будь я Черный Билл и явись у меня мысль, что вы меня подозреваете, я давно угостил бы вас пулей из винчестера и тем успокоил бы свои нервы, если бы они у меня расшалились?
— Не кажется, — говорю я. — Тот, у кого хватило духу в одиночку ограбить поезд, никогда такой штуки не выкинет. Я не зря пошатался по свету — знаю, что у них там насчет дружбы крепко. Не то чтобы я, мистер Огден, — говорю я ему, — состоя при вас овечьим пастухом, набивался вам в друзья. Но при менее малоблагоприятных обстоятельствах мы, может, и сошлись бы поближе.
— Забудьте на время овец, прошу вас, — говорит Огден, — и снимите — мне сдавать.
Дня четыре спустя, когда мои барашки мирно полдничали у речки, а я был погружен в превратности приготовления кофе, передо мной появилась некая загадочная личность, стремившаяся изобразить из себя то, что ей хотелось изобразить. Она неслышно подкралась по траве, верхом на лошади. По одеянию это было нечто среднее между сыщиком из Канзаса, собачником из Батон-Ружа и небезызвестным вам разведчиком Буффало Биллом. Глаза и подбородок этого субъекта не свидетельствовали о боевом опыте, и я смекнул, что это всего-навсего ищейка.
— Пасешь овец? — спрашивает он меня.
— Увы, — говорю я, — перед лицом такой несокрушимой проницательности, как ваша, у меня не хватает нахальства утверждать, что я тут реставрирую старинную бронзу или смазываю велосипедные колеса.
— Что-то ты, сдается мне, не похож на пастуха: и одет не так и говоришь не так.
— А вы зато говорите так, что очень похожи на то, что мне сдается.
Тут он спросил меня, у кого я работаю, и я показал ему на ранчо Чикито в тени небольшого холма, милях в двух от моего выгона. После этого он сообщил мне, что я разговариваю с помощником шерифа.
— Где-то в этих краях скрывается железнодорожный налетчик по кличке Черный Билл, — рапортует мне эта ищейка. — Его уже проследили до Сан-Антонио, а может, и дальше. Ты здесь не видал ли каких пришлых людей за истекший месяц, или, может, слыхал, что появился кто?
— Нет, — отвечаю я, — если не считать того, который появился, говорят, в мексиканском поселке на ранчо Люмис, на Фрио.
— Что тебе известно про него? — спрашивает шериф.
— Ему три дня от роду, — говорю я.
— А каков с виду человек, у которого ты работаешь? — допытывается он. — Старик Джордж Рэми все еще хозяйничает на своем ранчо? Он тут уже лет десять разводит овец, да что-то ему никогда не везло.
— Старик продал ранчо и подался на Запад, — сообщил я. — Другой любитель овец купил у него это хозяйство с месяц назад.
— А каков он с виду? — снова спрашивает тот.
— О, — говорю я, — он-то? Такой здоровенный, толстенный датчанин с усищами и в синих очках. Не поручусь, что он сумеет отличить овцу от суслика. Похоже, что старина Джордж крепко обставил его на этом деле.
Подкрепившись еще целой кучей столь же ценных сведений и львиной долей моего обеда, шериф отъехал прочь.
В тот же вечер я докладываю об этом посещении Огдену.
— Они оплетают Черного Билла цепкими щупальцами спрута, — говорю я. И рассказываю ему о шерифе и о том, как я расписал его этому шерифу, и что тот сказал.
— Э, что нам до Черного Билла, — говорит Огден. — У нас и своих забот довольно. Достаньте-ка из шкафа бутылочку, и выпьем за его здоровье. Если, — добавляет он со смешком, — вы не слишком предубеждены против железнодорожных налетчиков.
— Я готов выпить, — говорю я, — за всякого, кто умеет постоять за друга. А Черный Билл, — говорю я, — как раз, мне кажется, из таких. Итак, за Черного Билла и за удачу.
И мы выпили.
А недельки через две подошло время стрижки овец. Мне надо было пригнать их в усадьбу, где кучка кудлатых мексиканцев должна была наброситься на них с садовыми ножницами и остричь их наголо. И вот вечером, накануне прибытия парикмахеров, я погнал своих недожаренных баранов по зеленому лужку, по крутому бережку и доставил прямо в усадьбу. Там я запер их в корраль и пожелал им спокойной ночи.
После этого я направился к дому. Г. Огден, эсквайр, спал, растянувшись на своей узенькой походной койке. Как видно, его свалила с ног антибессонница или одолело противободрствование или еще какой-нибудь недуг, возникающий от тесного соприкосновения с овцами. Рот у него был разинут, жилет расстегнут, и он сопел, как старый велосипедный насос. Вид его навел меня на некоторые размышления.
«Великий Цезарь, — подумалось мне, — спи, захлопнув рот, и ветер внутрь тебя не попадет. Тобою кто-нибудь замажет щели, чтоб червяки чего-нибудь не съели».
Спящий мужчина — это зрелище, от которого могут прослезиться ангелы. Чего стоят сейчас его мозги, бицепсы, чековая книжка, апломб, протекции и семейные связи? Он — игрушка в руках врага, а тем паче — друга. И так же привлекателен, как наемная кляча, когда она стоит, привалясь к стене оперного театра в половине первого ночи и грезит просторами аравийских пустынь. Вот спящая женщина — совсем другое дело. Плевать нам на то, как она выглядит, лишь бы подольше находилась в этом состоянии.
Ну, выпил я две порции бурбонского — свою и Огдена и расположился с приятностью провести время, пока он почивает. На столе у него нашлись кое-какие книжицы на разные местные темы — о Японии, об осушке болот, о физическом воспитании — и немного табаку, что было особенно кстати.
Покурив и насытив свой слух вулканическим храпом Генри Огдена, я невзначай глянул в окно в направлении загона для стрижки овец, где что-то вроде тропки ответвлялось от чего-то вроде дороги, пересекавшей вдали что-то вроде ручья.
Вижу — пять всадников направляются к дому. У каждого — поперек седла ружье. Один из них — тот самый шериф, который тогда навестил меня на выгоне.
Они приближаются с опаской, расчлененным строем, в полной боевой готовности. Присматриваюсь и определяю, который из них атаман этой конной шайки блюстителей закона и порядка.
— Добрый вечер, джентльмены, — говорю я. — Не угодно ли вам спешиться и привязать ваших коней?
Атаман подъезжает ко мне вплотную и вращает стволом своего ружья так, словно хочет поймать на мушку сразу весь мой фасад.
— Замри на месте, — говорит он, — и пальцем не шевельни, пока я не удовлетворю своего желания некоторым образом с тобой побеседовать.
— Замру, — говорю я, — слава богу, я не глухонемой — зачем мне шевелить пальцами и оказывать неповиновение вашим предписаниям?
— Мы ищем, — сообщает он мне, — Черного Билла, который в мае месяце задержал экспресс на Канзас — Техасской и ограбил его на пятнадцать тысяч долларов. Сейчас мы обыскиваем всех подряд на всех ранчо. Как тебя зовут и что ты здесь делаешь?
— Капитан, — говорю я, — моя профессия — Персиваль Сент-Клер, а зовусь я овчаром. Сегодня я загнал в этот корраль своих телят… то бишь овчат. Ищеи… то есть брадобреи, прибудут завтра, чтобы причесать их, в смысле обкорнать.
— Где хозяин ранчо? — спрашивает атаман шайки.
— Обождите минутку, — говорю я. — Не было ли назначено какой-то награды за поимку этого закоренелого преступника, о котором вы изволили упомянуть в вашем предисловии?
— За поимку и изобличение преступника назначена награда в тысячу долларов, — говорит тот. — За сообщение сведений о нем никакого вознаграждения никак не предусмотрено.
— Похоже, не сегодня-завтра соберется дождик, — говорю я, глядя со скучающим видом в лазурно-голубое небо.
— Если тебе известно тайное убежище, дислокация или псевдомины Черного Билла, — говорит он на самом свирепом полицейском жаргоне, — ты ответишь перед законом за недонесение и укрывательство.
— Слышал я от одного прохожего, — говорю я скороговоркой нудным голосом, — что в одной лавчонке в Нуэсесе один мексиканец говорил одному ковбою, которого зовут Джек, что двоюродный брат одного овцевода недели две тому назад видел Черного Билла в Матаморасе.
— Слушай ты, мистер Язык-на-Привязи! — говорит капитан, оглядывая меня с головы до пят и прикидывая, сколько можно выторговать. — Если ты подскажешь нам, где захватить Черного Билла, я заплачу тебе сто долларов из моего собственного… из наших собственных карманов. Ты видишь, я щедр, — говорит он. — Тебе ведь ровно ничего не причитается. Ну, как?
— Деньги на бочку? — спрашиваю я.
Капитан посовещался со своими молодчиками. Они вывернули карманы для проверки содержимого. Совместными усилиями наскребли сумму в сто два доллара тридцать центов и кучку жевательного табаку на тридцать один доллар.
— Приблизься, о мой капитан, — сказал я, — и внемли!
Он так и сделал.
— Я очень беден, и общественное положение мое более чем скромно, — начал я. — За двенадцать долларов в месяц я тружусь в поте лица, стараясь держать вместе кучу животных, единственное стремление которых — разбежаться во все стороны. И хотя я еще и не в таком упадке, как штат Южная Дакота, тем не менее это занятие — страшное падение для человека, который до сей поры сталкивался с овцами только в форме бараньих отбивных. Я скатился так низко по воле необузданного честолюбия, рома и особого сорта коктейля, который подают на всех вокзалах Пенсильванской железной дороги от Скрантона до Цинциннати: немного джина и французского вермута, один лимон плюс хорошая порция апельсинной горькой. Попадете в те края — не упустите случая испробовать на себе. И все же, — продолжал я, — мне еще не приходилось предавать друга. Когда мои друзья купались в золоте, я стоял за них горой и никогда не покидал их, если меня постигала беда.
— Но, — продолжал я, — какая тут к черту дружба? Двенадцать долларов в месяц — это же в лучшем случае шапочное знакомство. Разве истинная дружба может питаться красными бобами и кукурузным хлебом? Я бедный человек, у меня вдовствующая мама в Тексаркане. Вы найдете Черного Билла, — говорю им я, — в этом доме. Он дрыхнет на своей койке в первой комнате направо. Это именно тот человек, который вам нужен. Я смекнул это из разных его слов и разговоров. Пожалуй, отчасти он все же был мне другом, и будь я тот человек, каким я был когда-то, все сокровища рудников Голдонды не заставили бы меня предать его. Но, — говорю я, — бобы всегда были наполовину червивые и к концу недели я вечно сидел без топлива.
— Входите осторожнее, джентльмены, — предупреждаю их я. — Он временами бывает очень несдержан, и, принимая во внимание его прежнюю профессию, как бы вам не нарваться на какую-нибудь грубость с его стороны, если вы захватите его врасплох.
Тут все ополчение спешивается, привязывает лошадей, снимает с передков орудия и всю прочую амуницию и на цыпочках вступает в дом. А я крадусь за ними, как Далила, когда она вела Вилли Стимлена к Самсону.
Начальник отряда трясет Огдена за плечо, и тот просыпается. Он вскакивает, и еще два охотника за наградами наваливаются на него. Огден хоть мал и худ, а парень крепкий и так лихо отбивается, несмотря на их численный перевес, что я только глазами хлопаю.
— Что это значит? — спрашивает он, когда им наконец удается одолеть его.
— Вы попались, мистер Черный Билл, — говорит капитан, — только и всего.
— Это грубое насилие, — говорит Огден, окончательно взбесившись.
— Конечно, это было насилие, — говорит поборник мира и добра. — Поезд-то шел себе и шел, ничем вам не мешал, а вы позволили себе запрещенные законом шалости с казенными пакетами.
И он садится Генри Огдену на солнечное сплетение и начинает аккуратно и симптоматически обшаривать его карманы.
— Вы у меня попотеете за это, — говорит Огден, изрядно вспотев сам. — Я ведь могу доказать, кто я такой.
— Это я и сам могу, — говорит капитан и вытаскивает у него из кармана пачку новеньких банкнот выпуска Второго Национального банка города Эспинозы. — Едва ли ваша визитная карточка перекричит денежные знаки, когда станут устанавливать индентичность вашей личности. Ну, пошли! Поедете с нами замаливать свои грехи.
Огден подымается и повязывает галстук. После того как у него нашли эти банкноты, он уже молчит, как воды в рот набрал.
— А ведь ловко придумано! — с восхищением отмечает капитан. — Забрался сюда, в этакую глушь, где, как говорится, ни одна душа живой ногой не ступала, и купил себе овечье ранчо! Хитро укрылся, я такого еще сроду не видывал, — говорит он.
Один из его молодчиков направляется в корраль и выгоняет оттуда второго пастуха — мексиканца, по прозванию Джон-Смешки. Тот седлает лошадь Огдена, и вся шерифская шайка с ружьями на изготовку окружает своего пленника, чтобы доставить его в город.
Огден, прежде чем тронуться в путь, поручает свое ранчо Джону-Смешки и отдает всякие распоряжения насчет стрижки и пасения овец, словно рассчитывает вскорости вернуться обратно. А часа через два некто Персиваль Сент-Клер, бывший овчар с ранчо Чикито, отбывает в южном направлении на другой лошади, уведенной с того же ранчо, и в кармане у него лежит сто девять долларов — цена крови и остаток жалованья.
Краснолицый человек умолк и прислушался. Где-то вдали за пологими холмами раздался свисток приближающегося товарного поезда.
Толстый, унылый человек, сидевший рядом, сердито засопел и медленно, осуждающе покачал нечесаной головой.
— В чем дело, Окурок? — спросил краснолицый. — Опять хандришь?
— Нет, не хандрю, — сказал унылый и снова засопел. — А только этот твой рассказ мне что-то не нравится. Мы с тобой были приятелями пятнадцать лет с разнообразными промежутками, но я еще не видал и не слыхал, чтобы ты выдал кого-нибудь полиции, — нет, этого за тобой не водилось. А с этим парнем ты делил его хлеб насущный и играл с ним в карты — если казино можно назвать игрой, — а потом взял и выдал его полиции. Да еще деньги за это получил. Нет, никогда я от тебя такого не ожидал.
— Этот Генри Огден, — сказал краснолицый, — очень быстро оправдался, как я слышал, с помощью адвоката, алиби и прочих юридических уголовностей. Ничего ему не сталось. Он оказал мне немало одолжений, и я совсем не рад был выдавать его полиции.
— А как же эти деньги, что нашли у него в кармане? — спросил унылый.
— Это я их туда положил, — сказал краснолицый, — пока он спал. Как только увидел, что они едут. Черный Билл — это был я. Смотри, Окурок, товарный! Мы заберемся на буфера, пока он будет стоять у водокачки.
Разные школы
Перевод М. Урнова.
I
Старый Джером Уоррен жил в стотысячедолларовом доме № 35 по Восточной Пятьдесят и так далее улице. Он был маклером в деловой части города и так богат, что каждое утро мог позволить себе — для укрепления здоровья — пройти пешком несколько кварталов по направлению к своей конторе, а затем уже взять извозчика.
У него был приемный сын, сын его старого друга, по имени Гилберт — отличный типаж для Сирилла Скотта[1]. Гилберт был художником и завоевывал успех с такой быстротой, с какой успевал выдавливать краски из тюбиков. Другим членом семейства старого Джерома была Барбара Росс, племянница его покойной жены. Человек рожден для забот; поскольку у старого Джерома не было своей семьи, он взвалил на свои плечи чужое бремя.
Гилберт и Барбара жили в полном согласии. Все окружающие молчаливо порешили, что недалек тот счастливый день, когда эта пара станет перед аналоем и пообещает священнику порастрясти денежки старого Джерома. Но в этом месте в ход событий следует внести некоторые осложнения.
Тридцать лет назад, когда старый Джером был молодым Джеромом, у него был брат, которого звали Диком. Дик отправился на Запад искать богатства — своего или чужого. О нем долго ничего не было слышно, но, наконец, старый Джером получил от него письмо. Написано оно было коряво, на линованной бумаге, от которой пахло солониной и кофейной гущей. Почерк страдал астмой, а орфография — пляской святого Витта.
Оказалось, что Дику не удалось подстеречь Фортуну на большой дороге и заставить ее раскошелиться, — его самого обобрали дочиста. Судя по письму, песенка его была спета: здоровье у него пришло в такое расстройство, что даже виски не помогало. Тридцать лет он искал золота, но единственным результатом его трудов была дочка девятнадцати лет, как и значилось в накладной, каковую дочку он, оплатив все дорожные издержки, отправлял теперь на Восток в адрес старого Джерома, чтобы тот кормил ее, одевал, воспитывал, утешал и холил, пока смерть или брак не разлучат их.
Старый Джером был человек-помост. Всякий знает, что мир держится на плечах Атласа, что Атлас стоит на железной решетке, а железная решетка установлена на спине черепахи. Черепахе тоже надо стоять на чем-нибудь — она и стоит на помосте, сколоченном из таких людей, как старый Джером.
Я не знаю, ожидает ли человека бессмертие. Но если нет, я хотел бы знать, когда люди, подобные старому Джерому, получают то, что им причитается?
Они встретили Неваду Уоррен на вокзале. Она была небольшого роста, сильно загоревшая и так и сияла здоровьем и красотой; она вела себя совершенно непринужденно, но даже коммивояжер сигарной фабрики подумал бы, прежде чем подмигнуть ей. Глядя на нее, вы невольно представляли ее себе в короткой юбке и кожаных гетрах, стреляющей по стеклянным шарам или укрощающей мустангов. Но она была в простой белой блузке и черной юбке, и вы не знали, что и подумать. Она без малейшего усилия несла тяжелый саквояж, который носильщики тщетно пытались вырвать у нее.
— Мы будем с вами дружить, это непременно, — сказала Барбара, клюнув Неваду в крепкую загорелую щеку.
— Надеюсь, — сказала Невада.
— Милая племянница, малютка моя! — сказал старый Джером. — Добро пожаловать в мой дом, живи у меня, как у родного отца.
— Спасибо, — сказала Невада.
— Вы мне позволите называть вас кузиной? — обратился к ней Гилберт со своей очаровательной улыбкой.
— Возьмите, пожалуйста, саквояж, — сказала Невада. — Он весит миллион фунтов. В нем, — пояснила она Барбаре, — образцы из шести папиных рудников. По моим подсчетам, они стоят около девяти центов за тысячу тонн, но я обещала ему захватить их с собой.
II
Обычное осложнение между одним мужчиной и двумя женщинами, или одной женщиной и двумя мужчинами, или женщиной, мужчиной и аристократом — словом, любую из этих проблем — принято называть треугольником. Но эти треугольники следует определить точнее. Они всегда равнобедренные и никогда не бывают равносторонними. И вот, по приезде Невады Уоррен, она, Гилберт и Барбара Росс образовали такой фигуральный треугольник, причем Барбара заняла в нем место гипотенузы.
Однажды утром, перед тем как отправиться в свою мухоловку в деловой части города, старый Джером долго сидел после завтрака над скучнейшей из всех утренних газет Нью-Йорка. Он душевно полюбил Неваду, обнаружив в ней и независимость характера и доверчивую искренность, отличавшие его покойного брата.
Горничная принесла для мисс Невады Уоррен письмо.
— Вот, пожалуйста, его доставил мальчик-посыльный, — сказала она. — Он ждет ответа.
Невада насвистывала сквозь зубы испанский вальс и наблюдала за проезжающими по улице экипажами и автомобилями. Она взяла конверт и, еще не распечатав его, догадалась по маленькой золотой палитре в его левом верхнем углу, что письмо от Гилберта.
Разорвав конверт, она некоторое время внимательно изучала его содержимое; затем с серьезным видом подошла к дяде и стала возле него.
— Дядя Джером, Гилберт хороший человек, правда?
— Почему ты спрашиваешь, дитя мое? — сказал старый Джером, громко шелестя газетой. — Конечно, хороший. Я сам его воспитал.
— Он ведь никому не станет писать ничего такого, что было бы не совсем… я хочу сказать, чего нельзя было бы знать и прочесть каждому?
— Попробовал бы он только, — сказал дядя и оторвал от своей газеты порядочный кусок. — Но почему ты об этом…
— Прочитайте, дядя, эту записку — он только что прислал мне ее — и скажите, как, по-вашему, все ли в ней в порядке и как полагается? Я ведь плохо знаю, как и что принято у вас в городе.
Старый Джером швырнул газету на пол и наступил на нее обеими ногами. Он схватил записку Гилберта, внимательно прочитал ее дважды, а потом и в третий раз.
— Ах, детка, — проговорил он, — ты чуть было не расстроила меня, хоть я и был уверен в моем мальчике. Он точная копия своего отца, а его отец был чистый брильянт в золотой оправе. Он спрашивает только, можете ли вы с Барбарой сегодня в четыре часа дня поехать с ним в автомобиле на Лонг-Айленд? Я не нахожу в записке ничего предосудительного, за исключением бумаги. Терпеть не могу этот голубой оттенок.
— Удобно будет, если я поеду?
— Да, да, дитя мое, конечно. Почему нет? Право, мне очень приятны твоя осторожность и чистосердечие. Поезжай, непременно поезжай.
— Я не знала, как мне поступить, — застенчиво проговорила Невада, — и подумала: спрошу-ка я лучше у дяди. А вы, дядя, не можете поехать с нами?
— Я? Нет, нет, нет! Я разок прокатился в машине, которой правил этот мальчишка. С меня довольно! Но ты и Барбара можете ехать, это вполне прилично. Да, да. А я не поеду. Нет, нет и нет!
Невада порхнула к двери и сказала горничной:
— Поедем, будьте уверены. За мисс Барбару я отвечаю. Скажите посыльному, чтобы он так и передал мистеру Уоррену: «Поедем, будьте уверены».
— Невада! — позвал старый Джером. — Извини меня, моя милая, но не лучше ли ответить запиской? Черкни ему несколько слов.
— Не стану я разводить эту канитель, — весело сказала Невада. — Гилберт поймет и так — он все понимает. Ни разу в жизни я не ездила в автомобиле; но я проплыла в каноэ по ущелью Пропавшей Лошади на Чертовой речке. Еще посмотрим, где больше риска!
III
Предполагается, что прошло два месяца.
Барбара сидела в кабинете стотысячедолларового дома. Для нее это было самое подходящее место. На свете много уготовано мест, куда мужчины и женщины могут удалиться с намерением избавить себя от разных хлопот. Для этой цели имеются монастыри, кладбища, курорты, исповедальни, кельи отшельников, конторы адвокатов, салоны красоты, дирижабли и кабинеты; лучше всего кабинеты.
Обычно проходит много времени, прежде чем гипотенуза начнет понимать, что она самая длинная сторона треугольника. Но нет того положения, которое может длиться вечно.
Барбара была одна. Дядя Джером и Невада уехали в театр. Барбара ехать отказалась. Ей хотелось остаться дома и заняться чем-нибудь в уединенной комнате для занятий. Если бы вы, мисс, были блестящей нью-йоркской барышней и каждый день видели, как смуглая, ловкая чародейка с Запада накидывает лассо на молодого человека, которого вы держали на примете для себя, вы тоже потеряли бы вкус к дешевому блеску музыкальной комедии.
Барбара сидела за дубовым письменным столом. Ее правая рука покоилась на столе, а пальцы этой руки беспокойно теребили запечатанное письмо. Письмо было адресовано Неваде Уоррен; в левом верхнем углу конверта помещалась маленькая золотая палитра Гилберта. Письмо доставили в девять часов, когда Невада уже уехала.
Барбара отдала бы свое жемчужное колье, только бы знать, что в нем написано. Но вскрыть конверт с помощью пара, ручки, шпильки или каким-нибудь иным из общепринятых способов она не решалась — не позволяло ее положение в обществе. Она смотрела письмо на свет и изо всех сил сжимала конверт, пытаясь прочесть хотя бы несколько строк, но ничего у нее не вышло — Гилберт знал толк в канцелярских принадлежностях.
В одиннадцать тридцать театралы вернулись. Была прелестная зимняя ночь. Пока они шли от экипажа до дверей, их густо обсыпало крупными снежными хлопьями, косо летевшими с востока. Старый Джером добродушно ругал извозчиков и толчею на улицах. Невада, разрумянившаяся, как роза, поблескивая сапфировыми глазами, рассказывала о ночных бурях, которые бушевали в горах вокруг папиной хижины. В продолжение этих зимних апостроф Барбара спала, чувствуя холод в сердце, и тихо всхрапывала — ничего лучшего она не могла придумать. Старый Джером сразу поднялся, к себе наверх — к своим грелкам и хинину. Невада впорхнула в кабинет, единственную ярко освещенную комнату, опустилась в кресло и, приступив к бесконечной процедуре расстегивания длинных — до локтя — перчаток, начала давать устные показания относительно виденного ею «зрелища».
— Да, мистер Филдс бывает смешон… иногда, — сказала Барбара. — Тут для тебя есть письмо, дорогая, его принес посыльный, как только вы уехали.
— От кого? — спросила Невада, дернув за пуговицу.
— Могу только догадываться, — с улыбкой сказала Барбара. — На конверте, в уголке, имеется такая финтифлюшка, которую Гилберт называет палитрой, а мне она больше напоминает золоченое сердечко на любовной записке школьницы.
— Интересно, о чем он мне пишет? — равнодушно заметила Невада.
— Все мы, женщины, одинаковы, — сказала Барбара. — Гадаем о содержании письма по штемпелю, как последнее средство используем ножницы и читаем письмо снизу вверх. Вот оно!
Она подняла руку с письмом, собираясь бросить его через стол Неваде.
— Шакал их укуси! — воскликнула Невада. — Надоели мне эти бесконечные пуговицы. Кожаные штаны и то лучше. Барбара, прошу тебя, сдери, пожалуйста, шкурку с этого письма и прочти его.
— Неужели ты хочешь, милая, чтобы я распечатала письмо, присланное Гилбертом на твое имя? Оно написано для тебя, и, разумеется, тебе не понравится, если кто-нибудь другой прочитает его!
Невада подняла от перчаток свои смелые, спокойные, сапфировые глаза.
— Никто не напишет мне ничего такого, чего нельзя было бы прочитать всем, — сказала она. — Живей, Барбара! Возможно, Гилберт хочет, чтобы завтра мы опять поехали кататься в его автомобиле?
«Любопытство сгубило кошку» — так гласит народная мудрость. Любопытство еще и не таких бед может натворить. А если чувства, которые считаются чисто женскими, враждебны кошачьей жизни, то ревность вскоре оставит целый свет без кошек.
С несколько скучающим, снисходительным видом Барбара вскрыла письмо.
— Ну, что ж, дорогая, — проговорила она, — если ты так хочешь, я прочитаю его тебе.
Она бросила конверт и торопливо пробежала письмо глазами; прочитала его еще раз и бросила быстрый, хитрый взгляд на Неваду, для которой весь мир в эту минуту, казалось, свелся к перчаткам, а письма молодых, но идущих в гору художников имели не больше значения, чем послания с Марса.
Четверть минуты Барбара смотрела на Неваду как-то особенно пристально; затем чуть заметная улыбка, от которой рот ее приоткрылся всего на одну шестнадцатую дюйма, а глаза сузились не более, чем на двадцатую, сверкнула на ее лице, как вдохновенная мысль.
Спокон веков ни одна женщина не составляла тайны для другой женщины. С быстротой света каждая из них проникает в сердце и ум другой женщины, срывает со слов своей сестры хитроумные покровы, читает самые сокровенные ее желания, снимает шелуху софистики с коварнейших ее замыслов, как волосы с гребня, и, сардонически повертев ее между пальцами, пускает по ветру изначального сомнения.
Много-много лет назад сын Евы позвонил у дверей фамильной резиденции в Рай-парке. Он держал под руку неизвестную даму, которую и представил матери. Ева отозвала свою невестку в сторону и подняла классическую бровь.
— Из земли Нод, — сказала новобрачная, томно кокетничая пальмовым листом. — Вы, конечно, бывали там?
— Давненько не была, — ответила Ева с полной невозмутимостью. — Вам не кажется, что яблочный соус, который там подают, отвратителен? Ваша туника из листьев шелковицы довольно привлекательна, милочка; но, конечно, настоящего фигового товара там не достанешь. Пройдем сюда, за этот сиреневый куст, пока джентльмены выпьют по рюмочке сельдереевки. Мне кажется, что дырки, которые прогрызли в вашем наряде гусеницы, слишком оголяют вам спину.
Таким-то образом в упомянутое время и в указанном месте, как гласит предание, был заключен союз между единственными двумя дамами в мире, которые попали в биографический справочник тогдашнего светского общества. И тогда же было решено, что женщина навеки пребудет для другой женщины прозрачной, как стекло, — хотя его предстояло еще изобрести, — и компенсирует себя тем, что составит тайну для мужчины.
Барбара как будто колебалась.
— Ах, Невада, — проговорила она что-то уж очень смущенно, — зачем ты настаивала, чтобы я распечатала письмо. Я… я так и знала, что оно написано не для посторонних глаз.
Невада забыла на минуту о перчатках.
— Если так, читай его вслух, — сказала она. — Ты ведь уже прочла, так теперь все равно. Если мистер Уоррен действительно написал мне что-нибудь такое, чего другим не следует знать, пусть знают об этом все.
— Ну-у, — проговорила Барбара, — здесь вот что сказано: «Милая моя Невада, приходите сегодня ко мне в студию в двенадцать часов ночи. Приходите непременно».
Барбара поднялась и уронила записку Неваде на колени.
— Мне страшно неприятно, что я узнала об этом, — сказала она. — На Гилберта это не похоже. Тут какое-то недоразумение. Будем считать, что я ничего не знаю, хорошо, милая? Ну, я пойду, ужас как болит голова. Нет, серьезно, не понимаю я этой записки. Может быть, Гилберт слишком хорошо пообедал и позже все разъяснится. Спокойной ночи!
IV
Невада подошла на цыпочках к холлу и услышала, как наверху захлопнулась за Барбарой дверь. Бронзовые часы в кабинете показывали, что до полуночи оставалось пятнадцать минут. Она быстро побежала к парадной двери, открыла ее и вышла в метель. Студия Гилберта находилась за шесть кварталов.
Проносясь по воздушной переправе, белое безмолвное войско метели атаковало город со стороны угрюмой Восточной реки. Снега намело уже на целый фут, сугробы громоздились, как лестницы у стен осажденного города. Авеню была тиха, как улица в Помпее. Порой мимо пролетали экипажи, как белокрылые чайки над освещенным луной океаном; реже автомобили — продолжим сравнения — со свистом рассекали пенные волны, как подводные лодки, пустившиеся в увлекательное и опасное плавание.
Невада мелькала в снежных хлопьях, как над морем буревестник, гонимый ветром. Она посмотрела вверх, на разорванную цепь зданий, покрытых шапками облаков и окрашенных ночными огнями и застывшими испарениями в серые, тускло-коричневые, пепельные, бледно-лиловые, серовато-коричневые и небесно-голубые тона. Они так напоминали горы ее родного Запада, что она почувствовала удовольствие, какое редко испытывала в стотысячедолларовом доме.
Стоявший на углу полисмен одним своим взглядом заставил ее вздрогнуть.
— Хелло, красотка! — сказал он. — Поздновато гуляешь, а?
— Я… я в аптеку, — проговорила Невада и поспешила пройти мимо.
Такая отговорка заменяет пропуск самым искушенным в житейских делах. Подтверждает ли это, что женщина не способна к развитию, или что она вышла из адамова ребра с полным запасом сообразительности и коварства?
Когда Невада свернула на восток, ветер ударил ей прямо в лицо и сократил скорость ее продвижения наполовину. Она оставляла на снегу зигзагообразные следы; но она была гибка, как молодое деревце, и так же грациозно кланялась ветру. Вдруг перед ней замаячило здание, в котором находилась студия Гилберта, — желанная веха, точно утес над знакомым каньоном. В обители бизнеса и враждебного ему соседа — искусства — было темно и тихо. Лифт кончал работать в десять часов.
Невада одолела восемь пролетов Стигийской лестницы и смело постучала в дверь под номером «89». Она бывала здесь много раз с Барбарой и дядей Джеромом.
Гилберт отворил дверь. В руке у него был карандаш, над глазами зеленый щиток, во рту трубка. Трубка упала на пол.
— Опоздала? — спросила Невада. — Я спешила как только могла. Мы с дядей были в театре. Вот я, Гилберт!
Гилберт разыграл эпизод Пигмалиона и Галатеи. Из статуи оцепенения он превратился в молодого человека, которому надо решить трудную задачу. Он впустил Неваду в комнату, взял веник и стал смахивать снег с ее одежды. Большая лампа с зеленым абажуром висела над мольбертом, где Гилберт только что делал набросок карандашом.
— Вы звали меня, и я пришла, — просто сказала Невада. — Я получила ваше письмо. Что случилось?
— Вы прочли мое письмо? — спросил Гилберт, жадно глотая воздух.
— Барбара прочла. Потом я его тоже видела. В нем было сказано: «Приходите ко мне в студию в двенадцать часов ночи. Приходите непременно». Я решила, конечно, что вы больны, но что-то непохоже.
— Ага! — некстати произнес Гилберт. — Я скажу вам, Невада, зачем я просил вас прийти. Я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж — сегодня же, сейчас. Метель нам не помеха. Вы согласны?
— Вы давно могли заметить, что я согласна. А метель мне даже очень нравится. Терпеть не могу эти пышные свадьбы в церкви и при дневном освещении. Вот не думала я, что у вас хватит духу сделать мне такое предложение. Давайте огорошим их — дело-то касается нас и никого больше! Правда ведь?
— Будьте уверены! — ответил Гилберт. «Где я слыхал это выражение?» — подумал он про себя. — Одну минуту, Невада. Я только позвоню по телефону.
Он закрылся в маленьком кабинете и вызвал молнии небесные, сконденсированные в малоромантичные цифры и буквы.
— Это ты, Джек? Ну и соня ты, черт тебя подери! Да проснись же! Это я, ну я же, брось придираться к словам! Я женюсь, сию минуту. Ну да. Буди сестру… какие могут быть возражения. Тащи ее с собой! Для меня ты обязан это сделать! Напомни Агнесе, что я спас ее, когда она тонула в озере Ронконкома… Я понимаю, нетактично напоминать ей об этом, но она должна приехать вместе с тобой. Да, да! Невада здесь, ждет. Мы помолвлены довольно давно. Родственники не согласны, понимаешь, вот и приходится действовать таким образом. Ждем вас. Не дай Агнесе заговорить себя — тащи ее, и все тут! Сделаешь?! Молодец, старина! Заказываю для вас извозчика, скажу, чтоб гнал во всю прыть. Черт тебя побери, Джек, славный ты малый!
Гилберт вернулся в комнату, где его ждала Невада.
— Мой старый друг, Джек Пейтон, и его сестра должны были явиться сюда без четверти двенадцать, — пояснил он. — Но Джек вечно копается. Я позвонил, чтобы они поторапливались. Они приедут через несколько минут. Я счастливейший человек в мире. Невада! Что вы сделали с моим письмом?
— Я засунула его вот сюда, — сказала Невада, вытаскивая письмо из-за лифа вечернего платья.
Гилберт вынул записку из конверта и внимательно прочитал ее. Затем он в раздумье взглянул на Неваду.
— Вам не показалось несколько странным, что я просил вас прийти ко мне в студию в полночь? — спросил он.
— Не-ет, — сказала Невада, широко раскрыв глаза. — Почему же, если я была вам нужна. У нас, на Западе, когда приятель шлет вам срочный вызов — кажется, у вас это так называется? — сначала спешат к нему, а потом, когда сделают все, что нужно, начинаются разговоры. И там тоже в таких случаях обычно идет снег. Я не нашла здесь ничего особенного.
Гилберт кинулся в соседнюю комнату и вернулся, нагруженный верхней одеждой, гарантирующей от ветра, дождя и снега.
— Наденьте этот плащ, — сказал он, подавая его Неваде. — Нам придется проехать четверть мили. Старина Джек и его сестра явятся сюда через несколько минут. — Он стал натягивать на себя пальто. — Ах да, Невада! — сказал он. — Просмотрите-ка заголовки на первой странице вечерней газеты, вон она лежит на столе. Пишут про вашу местность на Западе, я уверен, вам будет интересно.
Он ждал целую минуту, делая вид, что никак не может попасть в рукав, потом обернулся. Невада не сдвинулась с места. Она смотрела ему прямо в лицо странным, задумчивым взглядом. Ее щеки, разрумянившиеся от ветра и снега, запылали еще ярче; но она не опускала глаз.
— Я собиралась сказать вам, — проговорила она, — во всяком случае, прежде, чем вы… прежде, чем мы… прежде… ну, в общем заранее… Папа совсем не посылал меня в школу. Я не могу ни прочесть, ни написать ни одного распроклятого слова. И если вы…
На лестнице послышались неуверенные шаги Джека сонливого и Агнесы благодарной.
V
После обряда, когда мистер и миссис Гилберт Уоррен быстро и плавно катили домой в закрытой карете, Гилберт сказал:
— Невада, ты хочешь знать, что я написал в письме, которое ты получила сегодня вечером?
— Валяй, говори! — сказала новобрачная.
— Вот что там было написано, слово в слово: «Моя дорогая мисс Уоррен, вы были правы. Это была гортензия, а не сирень».
— Ну и прекрасно, — сказала Невада. — Но это дело прошлое. И что ни говори, а Барбара подшутила сама над собой.
О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым
Перевод под ред. В. Азова.
Вот как вам следует идти, если вы хотите попасть в главную контору фирмы «Картерет и Картерет: принадлежности для мельниц и приводные ремни».
Идите по тропе Бродвей; пересеките Среднюю Черту, Хлебную Черту, Мертвую Черту и войдите в Большое Ущелье Племени Биржевиков. Затем поверните налево, потом направо, отскочите с пути ручной тележки, ловко увернитесь от дышла тяжелого фургона, запряженного четверкой, сделайте ряд прыжков и взберитесь наверх, — топ, топ, топ, — на гранитный уступ двадцатиэтажной горы, — синтеза из камня и железа. В двенадцатом этаже находится контора фирмы Картерет и Картерет. Завод же, где производятся принадлежности для мельниц и приводные ремни, находится в Бруклине. Но эти предметы — не говоря уж о Бруклине — вряд ли представляют для вас интерес, и потому будем держаться в рамках пьесы в одном действии и одной картине; это сбережет труд читателя и сократит расходы издателя. Поэтому, если вас не устрашают ни четыре печатных страницы, ни Персиваль, мальчик-рассыльный в конторе Картерет и Картерет, можете усесться на стул из лакированного дерева в кабинете владельцев конторы; здесь перед вами будет разыграно лицедейство: «О Старом Негре, Больших Карманных Часах и Вопросе, Который Остался Открытым».
Но сначала сюда примешается биография — впрочем, очищенная до самой сердцевины. Я стою за новый сорт пилюль из хины в сахаре; по-моему, пусть уж лучше горечь будет снаружи.
Картереты принадлежат к старинной семье из Виргинии. В очень отдаленные времена мужчины этой семьи носили кружевное жабо и шпаги, владели плантациями и имели рабов. Но война значительно уменьшила размеры их вотчины.
Раскапывая историю Картеретов, я не заведу вас дальше 1620 года. В этом году переселились в Новый Свет два первых американских Картерета, но они избрали разные способы передвижения. Один брат, по имени Джон, прибыл на «Мэйфлауере» и стал одним из отцов-пилигримов. Вы видели его изображение на обложке специальных номеров иллюстрированных журналов, выпускаемых в День Благодарения; он охотится с мушкетом за индейками по снегу. Другой брат, Бланкфорд Картерет, переехал через Атлантическую лужицу на собственной бригантине, пристал к берегу Виргинии и сделался аристократом. Джон стал известен своей набожностью и умением вести дела; Бланкфорд прославился своей гордостью, лимонадом, который приготовлялся у него в доме, своей меткостью в стрельбе и обширными, обработанными рабами плантациями.
Затем настала гражданская война. (Эту историческую вставку придется передать в сильно конденсированном виде). Стонуолл Джексон погиб от пули; Ли сдался; Грант отправился путешествовать по свету; хлопок упал до девяти центов; были изобретены виски «Олд Кро» и вагоны Джима Кро. 79-й Массачусетский добровольческий полк вернул 97-му полку алабамских зуавов боевое знамя, участвовавшее в битве при Лендиз Лэн; куплено оно было в Челси, в магазине подержанных вещей Кшепшицюльского; Джорджия преподнесла президенту арбуз весом в шестьдесят фунтов — и вот мы дошли до того времени, когда начинается наш рассказ.
Картереты-янки поселились в Нью-Йорке и занялись делами задолго до войны. Поскольку дело шло о приводных ремнях и мельничных принадлежностях, фирма эта была таким же полным надменности, затхлым и солидным учреждением, как те торговые дома, торгующие ост-индским чаем, про которые вы читали у Диккенса.
Во время войны и после нее Бланкфорд Картерет, аристократ, лишился своих плантаций, лимонадов, искусства в стрельбе и жизни. Его наследники не унаследовали от него почти ничего, кроме семейной гордости. Поэтому Бланкфорд Картерет-пятый, будучи пятнадцатилетним юношей, получил приглашение от ременно-мельничной ветви семьи приехать на Север и поучиться делу, вместо того чтобы охотиться на лисиц и хвастаться, сидя на остатках имения, своими славными предками. Мальчик с радостью ухватился за это предложение; в двадцать пять лет он уже заседал в конторе фирмы в качестве равноправного компаньона Джона-пятого, потомка индейско-мушкетной ветви. Тут рассказ наш снова начинается.
Молодые люди были приблизительно одного возраста; у обоих была легкость движений, уменье свободно держаться в обществе; у обоих было выражение, говорившее о деятельном уме и деятельном теле. Оба были гладко выбриты, одеты в костюмы из синего шевиота, носили соломенные шляпы, жемчужные булавки в галстуках, как все прочие молодые нью-йоркцы, про которых вы не можете сказать — миллионеры они или конторщики.
Однажды, в четыре часа дня, Бланкфорд Картерет, сидя в своем кабинете, вскрыл конверт, только что положенный ему на стол одним из клерков.
Прочитав его, он целую минуту смеялся. Джон, сидевший за своим столом, вопросительно взглянул на него.
— Это от мамы, — сказал Бланкфорд. — Я сейчас прочту тебе самое забавное место. Сначала она, как полагается, сообщает мне все местные новости, а затем просит меня беречься насморка и оперетки. Затем идет какая-то очень важная статистика насчет телят и поросят и виды на урожай пшеницы. А тут уже я читаю:
«А теперь представь себе! Старый дядя Джек, которому в среду минуло семьдесят шесть лет, задумал попутешествовать. Понадобилось ему во что бы то ни стало поехать в Нью-Йорк и повидать своего „молодого мастера Бланкфорда“. Хотя он и стар, но у него есть практическая сметка, и потому я отпустила его. Я никак не могла ему отказать, — он, видимо, сосредоточил все свои желания и надежды на этом единственном своем выезде в свет. Ведь он, как ты знаешь, родился у нас на плантации и ни разу в жизни не выезжал дальше, как за десять миль отсюда. И он все время был при твоем отце в продолжении войны; он всегда был чрезвычайно преданным. Он часто видел у меня золотые часы, — часы, которые принадлежали твоему отцу, а раньше и отцу твоего отца. Я говорила ему, что они будут твоими, и он умолял меня позволить ему отвезти их и собственноручно передать тебе.
Я дала ему часы, тщательно уложив их в кожаный футляр. Он везет их, а сам горд и важен, точно королевский посол. Я дала ему денег на билет туда и обратно и на двухнедельное пребывание в столице. Прошу тебя, позаботься о том, чтобы найти ему удобное пристанище; впрочем, за Джеком особенно присматривать не придется, — он сам о себе позаботится. Но я в газетах читала, что даже африканским епископам и разным темнокожим властителям нелегко бывает найти кров и пищу в столице янки. Может быть, это так и следует, но я не понимаю, почему бы Джек не мог остановиться в лучшей гостинице? Вероятно, такие уж у вас там правила?
Я дала ему точные инструкции насчет того, как отыскать тебя; чемодан его я уложила собственноручно. Он тебе не доставит хлопот, но все-таки, прошу тебя, позаботься, чтобы ему было удобно. Прими часы, которые он тебе привезет, — это почти знак отличия. Их носили истинные Картереты; ты не найдешь на них ни одного пятнышка и ни одной неисправности в колесиках. Мысль, что он сам привезет их тебе, — высшая радость в жизни старого Джека. Мне хотелось доставить ему это маленькое развлечение и дать ему эту радость, пока не поздно. Ты часто слыхал от нас, как Джек, сам будучи серьезно ранен, во время битвы при Чанслорсвилле, прополз по обагренной кровью траве к тому месту, где лежал твой отец с пулей в груди; он вынул часы у него из кармана, чтобы они не достались „янкам“.
Итак, сын мой, когда приедет старик, смотри на него, как на дряхлого, но достойного вестника минувшего, как на вестника из родного дома.
Ты так давно покинул нас и так долго жил среди людей, на которых мы всегда смотрели, как на чужих. Я боюсь, что Джек не узнает тебя при встрече. Впрочем, у старика много проницательности, и я думаю, что он виргинского Картерета узнает с первого же взгляда. Не могу себе представить, чтобы мой мальчик мог измениться, даже после десяти лет, проведенных в стране янки. Как бы то ни было, но ты-то уж узнаешь Джека сразу. Я положила ему в чемодан восемнадцать воротничков. Если ему придется еще прикупить, то помни, что его номер пятнадцать с половиной. Пожалуйста, присмотри, чтобы он не ошибся. Он тебе никаких хлопот не доставит.
Если ты не слишком занят, я попросила бы тебя найти ему такой пансион, где можно получить хороший хлеб; не позволяй ему также разуваться на улице или у тебя в конторе. У него правая нога немного пухнет, а он любит удобства.
Если у тебя найдется время, пересчитай его носовые платки, когда их принесут из стирки. Я купила ему дюжину новых перед отъездом. Вероятно, он прибудет почти одновременно с этим письмом. Я велела ему отправиться прямо к тебе в контору, как только он приедет».
Не успел Бланкфорд кончить письмо, как случилось нечто (это рекомендуется проделывать в рассказах, а на сцене так это уж обязательно).
Вошел Персиваль, мальчик-рассыльный, выражая, как всегда, всем своим видом, что он глубоко презирает все мельничные принадлежности и приводные ремни всего мира; он доложил, что один цветной джентльмен желает видеть мистера Бланкфорда Картерета.
— Просите сюда, — сказал Бланкфорд, вставая.
Но Джон Картерет повернулся на стуле и сказал Персивалю:
— Попросите его подождать несколько минут. Мы скажем, когда ему можно будет войти.
И с этими словами он повернулся к своему двоюродному брату, улыбаясь широкой, медленной улыбкой, которая являлась наследием всех Картеретов.
— Бланк, — сказал он, — меня просто пожирает любопытство. Я хочу наконец понять разницу, которая, по мнению всех вас, гордых южан, существует между вами и жителями Севера. Разумеется, я знаю, что вы считаете себя сделанными из более тонкого теста, но почему — это я не понимаю. Я никогда не мог понять, какая между нами разница.
— Ну, Джон, — сказал, смеясь, Бланкфорд, — то, чего ты не понимаешь, — это именно и есть разница, разумеется. Я думаю, что мы приобрели такой важный тон сеньоров и сознание своего превосходства благодаря тому, что жили при настоящем феодальном строе.
— Но теперь вы уже больше не феодалы, — продолжал Джон. — С тех пор как мы вздули вас и сперли у вас хлопок и мулов, вам приходится работать не хуже нас, «проклятых янки», как вы нас называете. А все-таки вы остались такими же надменными, презрительными аристократами, как и до войны. Значит, ваше богатство было тут ни при чем.
— А может быть, виноват климат, — шутливо сказал Бланкфорд, — или же нас испортили наши негры. Ну, я позову сейчас старика Джека. Мне хочется повидать этого старого негодяя.
— Подожди одну минуточку, — сказал Джон. — У меня есть маленькая теория, которую мне хочется проверить. У нас с тобой есть сходство в общем облике. Старый Джек не видал тебя с тех пор, как тебе минуло пятнадцать лет. Позовем его сюда, и пусть он сам решит, кому он привез часы. Следовало бы ожидать, что этот негр без труда узнает своего молодого «мастера». Пресловутый аристократизм и превосходство, присущее всякому южанину, должно сразу выразиться. Не может же он ошибиться и передать часы какому-то янки. Проигравший платит сегодня за обед и покупает две дюжины воротничков номер пятнадцать с половиной для Джека. Идет пари?
Бланкфорд охотно согласился. Позвали Персиваля и велели ему пригласить цветного джентльмена в кабинет.
Дядя Джек осторожно вошел в комнату. Это был маленький старичок, черный как сажа; он был весь в морщинах и совершенно лысый, если не считать бахромы из седых, похожих на шерсть волос; бахрома эта, шедшая вокруг всей головы и около ушей, была весьма прилично и коротко подстрижена. Он вовсе не походил на театрального «дядю Тома»: черный сюртук его был сшит почти что на него, сапоги у него блестели, а соломенную шляпу украшала яркая лента. В правой руке он держал какой-то предмет, который он тщательно закрывал сжатыми пальцами.
Дядя Джек прошел немного вперед и остановился недалеко от двери. Шагах в десяти друг от друга, на вращающихся креслах, сидели за своими письменными столами два молодых человека. Дружески, но молча глядели они на него. Он несколько раз переводил взгляд с одного на другого; он чувствовал, что находится в присутствии, во всяком случае, одного из членов того почитаемого им семейства, в чьем доме он начал и, вероятно, кончит свою жизнь.
У одного из молодых людей было приятное, но надменное выражение; у другого — характерный для этой семьи длинный, прямой нос. У обоих были проницательные черные глаза, прямые брови и тонкий улыбающийся рот, которыми отличались и Картерет с «Мэйфлауера», и Картерет с бригантины. Раньше старый Джек думал, что он узнает своего молодого мастера из тысячи северян; но тут он оказался в затруднении. Оставалось одно — прибегнуть к хитрости.
— Здравствуйте, масса Бланкфорд, здравствуйте, сэр, — сказал он, глядя в пространство между обоими молодыми людьми.
— Здравствуйте, дядя Джек, — приветливо ответили оба в унисон. — Садитесь. Ну что, привезли часы?
Дядя Джек выбрал твердый стул, сел на краешек его на почтительном расстоянии и осторожно положил шляпу на пол. Он крепко сжал в руке часы в кожаном футляре. Не для того он рисковал жизнью на поле сражения, спасая эти часы «старого господина» от неприятеля, чтобы теперь добровольно отдать их в руки врага.
— Да, сэр; они у меня в руке, сэр; я вам их передам сию же минуту. Мамаша ваша, она мне велела передать их массе Бланкфорду в собственные руки и сказать ему, чтобы он носил их и помнил о чести и гордости семьи. Да, сэр, далеконько пришлось ехать старому негру — десять тысяч миль, пожалуй, будет до родной Виргинии, сэр. А вы очень выросли, масса Бланкфорд. Я бы вас и не узнал, кабы вы не были так похожи на старого барина, сэр.
Старик с тонкой дипломатичностью блуждал взглядом по пустому пространству между двоюродными братьями. Слова его могли с одинаковым успехом относиться к обоим. Он ждал какого-нибудь знака.
Бланкфорд и Джон переглянулись.
— Вы, верно, уж получили мамашино письмо, — продолжал дядя Джек. — Она говорила, что пишет вам, что я собираюсь в эти края.
— Как же, как же, дядя Джек! — быстро ответил Джон. — Мы с братом только что получили известие о вашем приезде. Ведь мы оба — Картереты, как вам известно.
— Хотя один из нас, — сказал Бланкфорд, — родился и воспитывался на Севере.
— Итак, если вы дадите часы… — сказал Джон.
— Мы с братом… — сказал Бланкфорд.
— Позаботимся о том… — сказал Джон.
— Чтобы найти вам хорошее помещение, — сказал Бланкфорд.
Но старый Джек нашелся и весьма умно разразился продолжительным, резким, похожим на кудахтанье хохотом. Он похлопал себя по коленям, затем поднял с полу шляпу и начал мять края ее, точно в припадке восторга от шутки, которую затеяли с ним сыграть. Этот припадок хохота служил ему ширмой, благодаря которой он мог, вращая глазами, кидать взгляды в пространство между, над и за своими мучителями.
— Понимаю! — довольно усмехнулся он, когда кончил. — Вы оба, сэр, шутите над бедным старым негром. Но вам не одурачить старого Джека. Я узнал вас, масса Бланкфорд, как только взглянул на вас. Вы были маленький такой, худенький мальчик — лет четырнадцать вам было, — когда вы уехали из дому на Север; но я узнал вас, как только глаза мои вас увидели. Вы прямо вылитый старый господин. Другой джентльмен очень на вас похож, сэр, но Джек не обманывается, когда видит кого-нибудь из старых виргинцев. Нет, сэр, — не обманывается.
Оба Картерета совершенно одновременно улыбнулись и протянули руку за часами.
С морщинистого черного лица Джека слетело веселое выражение. Он знал, что его дразнят. Что касается целости и сохранности семейного сокровища, конечно, совершенно безразлично, в чьи руки он передаст его. Но ему казалось, что тут дело шло не только о том, чтобы поддержать собственную честь и доказать свою верность; нужно было также поддержать и честь виргинских Картеретов. Живя на Юге, он слышал во время войны про вторую ветвь этой семьи, которая жила на Севере и сражалась «на той стороне»; это всегда огорчало его. Он всю жизнь не покидал своего господина: ни во времена роскошной жизни, ни тогда, когда война разорила Картерета и превратила его почти в нищего. А теперь он привез сюда часы — последнюю реликвию и единственное оставшееся о нем воспоминание; «старая госпожа» благословила его и всецело доверила ему это сокровище; он пропутешествовал целых десять тысяч миль (так ему казалось), чтобы вручить часы тому, кто должен был носить их, заводить, любовно беречь и прислушиваться к их тиканью, повествующему о незапятнанной жизни прошлых Картеретов — виргинских Картеретов.
О янки у него было особое представление; они казались ему тиранами, — «хамским отродьем» в синих мундирах, — которые все предавали огню и мечу. Он много раз видел, как к сонному южному небу поднимался дым от пожаров многих домов, почти столь же величественных, как Картерет-холл. И вот теперь перед ним находится один из этих янки, и он не может отличить его от своего «молодого мастера», а ведь он и приехал-то лишь за тем, чтобы повидать его и вручить ему эмблему его высокого происхождения. Так «рука в белом бархате, таинственная и чудесная» вложила меч Эскалибур в десницу Артура. Старый негр видел перед собой двух молодых людей, веселых, добродушных, любезных и приветливых; любой из них мог быть тем, кого он искал. Расстроенный, растерявшийся, глубоко огорченный собственным недостатком проницательности, старый Джек отказался от своих уверток во имя преданности. Его правая ладонь, сжимавшая кожаный футляр с часами, взмокла от пота. Он испытывал унижение и стыд. Его выпуклые, желто-белые глаза теперь уже не в шутку устремили пристальный взгляд свой на обоих молодых людей. Но, несмотря на самый внимательный осмотр, он увидел между ними лишь одну разницу: у одного был узкий черный галстук и булавка с белой жемчужиной; у второго — узкий синий галстук, заколотый черной жемчужиной.
Но тут, к великой радости старого Джека, произошла диверсия. В двери властно постучалась Драма и обратила Комедию в бегство.
Персиваль, ненавистник всяких мельничных принадлежностей, влетел с чьей-то визитной карточкой и передал ее Синему Галстуку с таким видом, точно это был вызов на дуэль.
— «Оливия де Ормонд», — прочел Синий Галстук имя на карточке. Он вопросительно взглянул на двоюродного брата.
— Отчего бы нам не попросить ее сюда, — сказал Черный Галстук, — и не покончить, так или иначе, с этим делом?
— Дядя Джек, — сказал один из молодых людей, — будьте добры, присядьте ненадолго на тот стул, вон там, в углу. Сейчас придет сюда дама по делу. Мы займемся вами потом.
Дама, которую Персиваль ввел в кабинет, была молода и обладала капризной, определенной, свежей, сознательной и преднамеренной красотой. Одета она была с той дорого стоящей простотой, в сравнении с которой всякие кружева да оборки кажутся лишь жалкими лохмотьями. Впрочем, ее огромное страусовое перо служило султаном, по которому ее, как и веселого носителя наваррского шлема, можно было узнать издали даже среди целой армии прелестниц.
Мисс де Ормонд приняла предложенное ей вращающееся кресло у стола Синего Галстука. Затем молодые люди придвинули поближе два кожаных кресла, сели и заговорили о погоде.
— Да, — сказала она, — я заметила, что становится теплее. Но я не хочу отнимать у вас время в деловые часы. Впрочем, — добавила она, — мы можем поговорить и о деле.
Она говорила, обращаясь к Синему Галстуку, и при этом очаровательно улыбалась.
— Отлично, — сказал он. — Вы ничего не имеете против того, чтобы мой кузен присутствовал при разговоре, надеюсь? У нас обыкновенно не бывает тайн друг от друга, особенно в делах.
— О, нисколько, — зачирикала мисс де Ормонд. — Я даже предпочитаю, чтобы он слушал. Во всяком случае, он является важным свидетелем; ведь он был тут, когда вы… когда это случилось. Я предполагала, что вы не прочь будете переговорить, пока еще… пока еще не возбуждено дело, — так, кажется, говорят юристы?
— Имеется ли у вас наготове какое-нибудь конкретное предложение? — спросил Синий Галстук.
Мисс де Ормонд задумчиво поглядела на носки своих шевровых туфелек.
— Мне было сделано предложение, предложение руки и сердца, — сказала она. — Если оно не будет взято обратно, то другое предложение само собой отпадает. Давайте поговорим сначала насчет первого.
— Ну, что касается… — начал Синий Галстук.
— Прости меня, друг мой, — перебил Черный Галстук, — и разреши мне вмешаться. — И он с добродушным видом повернулся к молодой женщине.
— Ну-с, давайте-ка припомним слегка обстоятельства дела, — веселым тоном сказал он. — Мы все трое, в обществе многих общих знакомых, неоднократно кутили вместе, ловили мух…
— Мне кажется, что тогда в воздухе носилось нечто значительно более крупное, чем мухи… — сказала мисс де-Ормонд.
— Согласен, — так же невозмутимо и добродушно продолжал Черный Галстук. — Вам показалось, что это голуби. Два месяца назад человек шесть из нашей компании поехали кататься на автомобиле с намерением провести день на лоне природы. Мы остановились в придорожной гостинице, чтобы пообедать. Там мой родственник сделал вам предложение. Разумеется, он это сделал, находясь под влиянием ваших чар и вашей красоты — качеств, которых никто не может отрицать у вас.
— Жаль, что не вы пишете обо мне рекламные статьи, — сказала красавица, ослепительно улыбнувшись.
— Вы — на сцене, мисс де Ормонд, — продолжал Черный Галстук. — Без сомнения, вы имели множество поклонников; быть может, вы получали предложения и от других. Вы должны также помнить, что мы все в тот день кутили и веселились. Не одна бутылка была распита. Что мой родственник сделал вам предложение — этого мы отрицать не можем. Но разве вам до сих пор не случалось замечать, что подобные вещи теряют, с обоюдного согласия, все свое значение на следующее утро при свете солнца? Ведь существует же между «веселящейся братией» — я беру это слово отнюдь не в дурном смысле — известный кодекс правил, согласно которому всякие выходки после обильных возлияний на другой день забываются?
— О да, — сказала мисс де Ормонд. — Я это отлично знаю. И я всегда так и действовала. Но так как это дело, по-видимому, защищаете вы, — с молчаливого согласия ответчика, — я вам скажу еще кое-что вдобавок. У меня есть письма от него, в которых он повторяет свое предложение. И они с подписью.
— Понимаю, — серьезным тоном сказал Черный Галстук. — Сколько вы хотите за эти письма?
— Меня дешево не купить, — сказала мисс де Ормонд. — Но я била на другое. Вы оба принадлежите к аристократической семье. Ну что же, хотя я и на сцене, однако никто ничего не может про меня сказать. А деньги для меня были лишь второстепенным соображением. Я не за деньгами гналась. Я… я верила ему… и… и… он мне нравился.
Она кинула на Синий Галстук томный, чарующий взгляд из-под длинных ресниц.
— А цена? — неумолимо продолжал Черный Галстук.
— Десять тысяч долларов, — нежно сказала дама.
— Или…
— Или выполнение обещания жениться.
— Кажется, пора, — перебил Синий Галстук, — дать и мне вставить слово. Мы с тобой, брат, принадлежим к семье, которая всегда высоко держала голову. Ты воспитывался в местности, совершенно непохожей на ту, где всегда жила наша ветвь. Но все же мы оба Картереты, даже если у нас и есть различие во взглядах и в образе действий. Как ты, конечно, помнишь, одна из традиций нашей семьи та, что все Картереты всегда по-рыцарски поступали с дамами и никто из них ни разу не нарушал данного слова.
И Синий Галстук с открытой душой и полной готовностью повернулся к мисс де Ормонд.
— Оливия, — сказал он, — назначьте день свадьбы.
Но не успела она ответить, как опять вмешался Черный Галстук.
— От Плимут Рока до Норфолк Би[2] — путь немалый, — сказал он. — Между этими двумя пунктами мы находим различия, созданные тремя веками. За это время старый порядок изменился. Мы больше не сжигаем ведьм и не пытаем рабов. И мы теперь уже больше не расстилаем плащей, чтобы дама могла пройти через лужицу; но мы также и не окунаем их с головой в воду за малейшую провинность. Наш век — век здравого рассудка, применения к обстоятельствам и чувства меры. Все мы — дамы, кавалеры, женщины, мужчины, северяне, южане, лорды, проходимцы, актеры, уличные разносчики, сенаторы, поденщики, политические деятели — начинаем приходить к лучшему пониманию вещей. «Рыцарство» — одно из тех слов, которые постоянно меняют свое значение. Семейная гордость может выражаться разными способами; одни поддерживают ее тем, что берегут свое заплесневшее высокомерие в заросших паутиной хоромах где-нибудь в колониях, а другие — тем, что сразу платят свои долги.
Ну-с, а теперь я думаю, что я вам уже надоел со своими монологами. Я кое-что смыслю в делах, знаю немного жизнь, и я почему-то уверен, брат, что наши прадеды, первые Картереты, одобрили бы мое отношение к этому вопросу.
Черный Галстук повернул свой вращающийся стул к столу, что-то написал в чековой книжке, вырвал чек; звук отрываемой по пунктиру бумажки резко нарушил молчание, воцарившееся в комнате. Черный Галстук положил чек так, чтобы мисс де Ормонд легко могла взять его.
— Дело — делом, — сказал он. — Мы живем в деловой век. Вот чек на десять тысяч долларов. Ну, мисс де Ормонд, как вы решаете: флердоранж или наличными?
Мисс де Ормонд небрежно взяла чек равнодушно сложила его и сунула в перчатку.
— Больше ничего не нужно, — спокойно сказала она. — Я отлично знала, что лучше будет, если я зайду и заранее переговорю с вами. Вы, по-видимому, народ порядочный. Но ведь у всякой девушки есть самолюбие. Я слыхала, что один из вас — южанин. Кто же именно? Любопытно было бы знать.
Она встала, нежно улыбнулась и прошла к двери. Затем, сверкнув белыми зубами и взмахнув пером, она исчезла.
Родственники успели совершенно позабыть о дяде Джеке. Но тут они услышали, как он, шаркая ногами, зашагал по ковру по направлению к ним.
— Масса Бланкфорд, — сказал он, — вот вам ваши часы.
И с этими словами он без малейшего колебания вручил старинный хронометр его законному владельцу.
Спрос и предложение
Перевод Л. Беспаловой.
Заведение Финча — 9 футов на 12, Третья авеню, — обещает «чистку шляп электричеством в присутствии заказчика». Если вам случилось попасть ему в лапы, вы его клиент навеки. Мне неведомы производственные тайны Финча, но отныне вам придется чистить шляпу каждые четыре дня.
Финчу, жилистому, нерасторопному субъекту с испитым лицом, можно дать от двадцати до сорока. Поглядеть на него — кажется, он с младых ногтей только тем и занимался, что чистил шляпы. Когда у него нет посетителей, он охотно болтает со мной, и я чищу шляпу чаще, чем требуется, в надежде, что Финч приподнимет завесу над тайнами местных потогонных мастерских.
Как-то я заглянул к Финчу и застал его одного. Он тут же принялся умащать мой головной убор панамского производства своим загадочным составом, притягивающим пыль и грязь, как магнит.
— Говорят, индейцы плетут шляпы под водой, — сказал я для затравки.
— Ерунда, — сказал Финч. — Так долго под водой не пробыть ни индейцу, ни белому. Послушайте, вы интересуетесь политикой? Я на днях прочел в газете, что приняли один закон, его еще называют закон спроса и предложения.
Я, как мог, постарался ему втолковать, что речь идет не о законодательном акте, а о законе политической экономии.
— Вот оно как, — сказал Финч. — Я об этом законе много чего слышал года два тому назад, но все больше с одного боку.
— Верно, — подтвердил я. — У ораторов этот закон не сходит с языка. Похоже, они жить без него не могут. Вам, наверное, доводилось слышать, как наши разбойники с большой платформы разглагольствуют о нем тут, в Ист-Сайде.
— Лично мне, — сказал Финч, — об этом законе рассказал король, белый король, он правил индейским племенем в Южной Америке.
Сообщение Финча меня заинтриговало, но не удивило. Большой город — это своего рода материнские колени для тех, кто забрел далеко от дома и нашел, что выбранный путь слишком тернист для их неокрепших ног. В сумерках они возвращаются домой и садятся у порога. Я знаком с пианистом из третьеразрядного кафе, который охотился на львов в Африке, с посыльным, сражавшимся в рядах британской армии против зулусов, с извозчиком, чью левую руку патагонские людоеды уже готовились сунуть в похлебку, предварительно раздробив ее, как клешню краба, в ту самую минуту, когда на горизонте замаячило судно, несшее страдальцу избавление. Поэтому сообщение о том, что у чистильщика шляп числится в друзьях король, не потрясло меня.
— Ленту новую? — спросил Финч, и губы его раздвинула унылая, безжизненная улыбка.
— Да, — сказал я. — И на полдюйма шире.
Я менял ленту всего пять дней назад.
— Встречаю я как-то одного человечка, — начал Финч свой рассказ, — коричневый такой, все равно что табак, из всех карманов деньги торчат, заправляется свиными клецками у Шлагеля. Было это два года тому назад, я еще тогда брандспойт возил при 98-й части. И заводит он речь о золоте. Говорит, в одной, значит, южной стране, Хватималой называется, в горах золота полным-полно. Индейцы, говорит, намывают его в многочисленных количествах из ручьев.
— Скажешь тоже, — говорю, — Джеронимо[3], индейцы! Нет на юге никаких индейцев, кроме «лосей» из деловых клубов и закупщиков мануфактуры… Индейцев всех загнали в резервации, но, надо сказать, допуск к ним есть.
— И рассказ мой тоже будет с допуском, — говорит он. — Только это не те индейцы, что при Буффало Билле, эти на собственных землях противозаконно живут, и они будут породовитее. Называются они финки и аптеки, они там стародавние жители, они в Хватимале в те времена еще жили, когда Мексикой Толстосума правил. Они намывают золото из горных ручьев, говорит коричневый человечек, сыплют его в гусиные перья, из перьев в красные кувшины, ну а как насыплют кувшины доверху, пакуют золото в кожаные мешки, в каждый мешок по арробе, и в арробе той целых двадцать пять фунтов, а там уж тащат мешки в каменный дом, и над дверью того дома картинка высечена — идол с завитыми волосами играет на флейте.
— И куда ж они девают эту небывалую прибыль? — спрашиваю.
— А никуда, — говорит человечек. — Это, знаете, тот самый случай, когда «Зло двигается по земле, и скорости его не вынести. Где золота невпроворот, там не ищите справедливости»[4].
Выдоил я коричневого человечка досуха, пожал ему руку и сказал, мол, извините, только веры к вам у меня нет. А ровнехонько через месяц я высадился на хватимальский берег и при себе имел тысячу триста долларов, за пять лет скопленных. Индейские вкусы, думалось, мне известны, так что товару я набрал самого что ни есть подходящего. Четырех мулов навьючил красными шерстяными одеялами, железными ведрами, цветными гребнями для дам, стеклянными ожерельями и безопасными лезвиями. Нанял черномазого погонщика, сговорились, что он и мулов будет нахлестывать, и индейцев понимать. Ну, мулов-то он понимал вполне, а вот английский нахлестывал уж больно люто. Имечко его лязгало, как ключ, когда его не той стороной в замок сунешь, но я его Мак-Клинтоком кликал, выходило похоже. Так вот, золотая эта деревушка ютилась в горах, и было до нее миль сорок ходу, мы ее проискали девять дней. А на десятый Мак-Клинток перегнал всех мулов и меня в том числе по сыромятной кожи мосту через пропасть глубиной тысяч этак в пять футов. Копыта моих мулов барабанили по мосту точь-в-точь как барабанщики в театре перед тем, как Джордж М. Коэн на сцену выходит. Дома в той деревушке были слеплены из камня и грязи, а улиц и вовсе не предвиделось. Из дверей мигом повысовывались какие-то желто-бурые типчики, глаза таращат — ни дать ни взять эскулапы в томатном соусе. И тут из самого большого дома, с галерейкой на все стороны, выходит белый крупный такой мужчина, цветом в свеклу, в шикарных дубленых одеждах из оленьей кожи, на шее золотая цепка, во рту — сигара. Мне встречались сенаторы такого обличья и статей, а еще метрдотели и полицейские.
И вот подходит он и приглядывается к нам, пока Мак-Клинток разгрузкой занимается, а потом закуривает и, пока курит, делает перевод головному мулу.
— Привет, Непрошенский! — говорит мне этот шикарный мужчина. — Ты чего встрял в мою игру? Что-то я не приметил, чтоб ты покупал фишки. И кто это тебе вручил ключи от города?
— Я всего лишь бедный путешественник, — говорю, — да еще на муломочном транспорте. Так что вы уж извините меня великодушно. А вы тут кайлом работаете или песок промываете?
— Обособляйся-ка ты от своего мнимоходца, — говорит он, — и входи в дом.
Он поднимает палец, и к нему опрометью кидается индеец.
— Вот этот малый позаботится о твоей экспедиции, — говорит он, — а я позабочусь о тебе.
И ведет меня в тот самый большой дом, выставляет стулья и выпивку молочного такого колера. Шикарней комнаты я не видывал. Каменные стены сплошняком занавешены шелковыми шалями, на полу желтые и красные дорожки, красные кувшины, шкуры ангорских коз, а уж бамбуковой мебелью, что там находилась, можно было б заставить полдюжины приморских домишек и еще б осталось.
— Прежде всего, — говорит он, — тебе, очевидно, желательно узнать, кто я такой. Я — единоличный арендатор и владетель здешнего индейского племени. Индейцы меня прозвали Великий Акула, что значит Король, или Набольшой. У меня тут больше силы, чем у пресс-атташе, гидравлического пресса и престидижитатора, вместе взятых. Я для них Палка-Погонялка, и сучков-узлов на мне не меньше, чем выдает в рекордный пробег машина «Лузитании». Да, да, и мы газеты почитываем, — говорит он. — А теперь предъяви ты свои полномочия, — продолжает, — и мы откроем заседание.
— Ладно, — говорю. — Я известен под именем У. Д. Финч. Занятие — капиталист. Адрес — 541 Восточная Тридцать вторая…
— Нью-Йорк, — прерывает меня Набольшой. — Так-так, — говорит он, ухмыляясь. — Вижу, фортуна не впервой оборачивается к тебе задом. Сужу по тому, как ты щедр на рекламу. А теперь объясни, что означает «капиталист»?
Я ему как на духу выложил, для чего я сюда пришел и каким манером дошел до того, что пришел.
— Золотой песок? — говорит он, и такой у него вид удивленный, ну чисто как у младенца, которому на перемазанный патокой палец налипло перышко. — Уморил ты меня! Ведь тут золотых приисков сроду не было. И ты вложил весь свой капитал в чужие россказни? Ну и ну! Здешние людишки — они из вымершего племени пече — наивны, как дети. Им ничего не известно о покупательной способности золота. Похоже, тебя надули, — говорит он.
— Возможно, — говорю, — только сдается мне, что человечек тот не врал.
— У. Д., — говорит вдруг король, — мне не хочется кривить душой. Не часто доводится поговорить с белым человеком, так что за твои деньги я тебе устрою наглядную демонстрацию. Может статься, что у моих избирателей и припрятан гран-другой песку под одежонкой. Доставай-ка завтра свои товары и погляди сам, как у тебя пойдет торговля. А теперь хочу представиться тебе неофициально. Меня зовут Шейн, Патрик Шейн. И владею я этими индейскими людишками по праву победителя, а победу над ними я одержал благодаря моей отваге и единоличному превосходству. Я сюда забрел четыре года назад и одолел их своими габаритами, цветом лица и нахрапом. Язык их я изучил за шесть недель, проще ничего нет: произносишь столько согласных, сколько хватает дыхания, а потом тычешь пальцем в то, что тебе требуется. Подавил я их своей импозантностью, а добил, — продолжает король Шейн, — при помощи экономической политики, ловкости рук, ну и, конечно, нашей новоанглийской морали и сквалыжества. Каждое воскресенье или, во всяком случае, когда по моим расчетам должно быть воскресенье, я читаю им проповедь в доме совета (а советы там даю я один) о законе спроса и предложения. Я превозношу предложение и поношу спрос. И всегда придерживаюсь одного текста. Ведь ты бы никогда не подумал, У. Д., — говорит Шейн, — что во мне так сильна поэтическая жилка?
— Не знаю, — говорю, — как-то язык не поворачивается назвать эту жилку поэтической.
— Свое поэтическое евангелие я заимствовал у Теннисона. Я его считаю всем поэтам поэтом. Вот, значит, как этот текст звучит:
«Нет, не ради восторгов люди явились на свет. Так же, как не за тем, чтоб гулять, как султаны в пряных садах»[5].Понимаешь, я учу их урезать спрос, учу ставить предложение выше спроса. Учу не желать ничего, кроме самого необходимого. Чуток баранины, чуток кофе, чуток фруктов — их привозят с побережья — вот и все, что им нужно для счастья. Я их вымуштровал лучше не надо. Одежду свою и шляпы они плетут из соломы и живут припеваючи. Великое дело, — заключает Шейн, — осчастливить народ таким простым и здоровым прижимом.
Так вот назавтра я с королевского разрешения велел Мак-Клинтоку разбросать два мешка товара по площади. Тут же к нашему прилавку понабежало видимо-невидимо индейцев. Я размахивал перед ними красными одеялами, сверкал сережками и кольцами, нацеплял на дам жемчужные ожерелья и гребешки, на мужчин красные подштанники. Все без толку. Они лупились, как оголодавшие идолы, и ровным счетом ничего не покупали. Я справился у Мак-Клинтока, в чем дело. Мак несколько раз зевнул, скрутил папиросу, поделился кое-какими сокровенными соображениями с мулом, потом снизошел до меня и сообщил, что у индейцев просто нет денег.
А тут на площадь является сам король Шейн, грузный, багровый и царственный, как всегда, на груди золотая цепка, во рту — сигара.
— Как торгуется, У. Д.? — спрашивает.
— Надо б лучше, да нельзя, — говорю. — Товар рвут из рук. Но у меня тут еще один товарец припасен, я решил его выбросить перед самым закрытием, хочу посмотреть, как они отнесутся к безопасным лезвиям. Я прихватил с собой два гросса, купил по случаю на распродаже подпорченного пожарами товара.
Шейн тут как захохочет, так зашелся, чуть не упал, спасибо, этот его не то мамелюк, не то секретарь подхватить успел.
— Ах ты, чертополох тебя подери, — говорит, — можно подумать, ты только что на свет родился, а, У. Д.? Ты что, не знаешь, что индейцы не бреются? Они свою растительность по волоску выдирают.
— Подумаешь, — говорю, — и бритвы мои то же самое делают, так что они особой разницы и не заметили б.
Шейн ушел, и его хохот было бы слышно за квартал, будь в этой деревушке кварталы.
— Передай им, — говорю я Мак-Клинтоку, — мне деньги не нужны, передай им — я принимаю золотой песок. Передай, я дам по шестнадцать долларов за унцию песка, ясное дело, товарами. Я только за песком сюда и явился.
Мак переводит, и толпа кидается врассыпную, будто на них спустили отряд полиции. И двух минут не прошло, а уж всех дядькиных племянников и теткиных племянниц как ветром сдуло.
В тот же вечер в королевском дворце мы с королем потолковали по душам.
— У них наверняка припрятано золотишко, — говорю я, — а иначе, с чего б они пустились наутек?
— Ничего у них нет, — говорит Шейн. — И далось тебе это золото. Ты что, начитался Эдварда Аллана По? Нету у них никакого золота.
— Они его сыплют в перья, — говорю я, — из перьев в кувшины, а из кувшинов в мешки, в каждом мешке двадцать пять фунтов весу. Мне точно сказали.
— У. Д., — хохочет-заливается Шейн и жует сигару, — не часто мне случается видеть белого человека, так что я, пожалуй, введу тебя в курс дела. Сдается мне, тебе отсюда живьем не выбраться. Так что я тебе выложу все начистоту. Поди-ка сюда.
Он приподнимает занавес шелкового волокна, и я вижу в углу груду мешков оленьей кожи.
— Здесь сорок мешков, — говорит Шейн, — в каждом по арробе золотого песку, круглым числом двести двадцать тысяч долларов. И все это золото мое. Оно принадлежит Великому Акуле. Индейцы сдают весь золотой песок мне. Двести двадцать тысяч долларов, — говорит Шейн, — тебе небось такие деньги и во сне не снились, лоточник ты несчастный. И все они мои.
— И много тебе от них толку? — говорю я издевательски и злопыхательски. — Выходит, ты государственная казна для этой шайки нищих деньгопроизводителей. И даже процентов не платишь, так что никто из твоих вкладчиков не может купить себе хотя бы технический алмаз огастовского (штат Мэн) производства ценой в двести долларов за четыре доллара восемьдесят пять центов?
— Послушай, — говорит Шейн, и на лбу у него выступает испарина. — Я тебе открыл душу, потому что ты завоевал мое расположение. Тебе случалось держать золотой песок не в тройском весе, а в весе эвердьюпойс, самом что ни на есть весомом весе, который насчитывает не двенадцать, а целых шестнадцать фунтов?
— Никогда, — говорю. — Не имею такой скверной привычки.
Тут Шейн падает на колени и заключает мешки с золотом в объятия.
— Обожаю золото, — говорит он. — Я бы, — говорит, — круглые сутки его не выпускал из рук. Нет у меня в жизни большей радости. Стоит мне войти в эту комнату, и я король и богач разом. Через год я буду миллионером. Богатство мое растет с каждым днем. Все индейцы, как один, по моему приказу намывают песок в ущелье. Счастливее меня, У. Д., нет человека на свете. Я же хочу только, чтоб золото мое было у меня под боком, чтоб богатство мое росло с каждым днем, а больше я от жизни ничего не прошу Теперь, — говорит, — ты понимаешь, почему мои индейцы не покупают твои товары. Им не на что их покупать. Золотой песок они без остатка выдают мне. Я их король. Я обучил их ничего не желать и ни о чем не мечтать. Так что прикрывай-ка ты свою лавочку.
— Нет, теперь я тебе скажу, кто ты такой, — говорю я. — Ты самый что ни на есть бесстыжий жмот. Ты проповедуешь предложение и знать ничего не хочешь о спросе. А предложение, — продолжаю я, — оно и есть предложение. Только и всего. Ну а со спросом дело другое, это силлогизм и понятие выше классом. Спрос учитывает права наших жен и детей, благотворительность и дружбу и даже уличных попрошаек. И понятия эти должны друг друга уравновешивать. И я тебя честно предупреждаю, мне есть еще чем тебя ошарашить по коммерческой линии, так что гляди в оба, как бы я не порушил твои косные мыслишки относительно политики и экономии.
Назавтра я с утра пораньше дал указание Мак-Клинтоку пригнать на площадь еще одну мулосилу с товарами. Народу опять набежало видимо-невидимо.
Я, ясное дело, достаю самые наилучшие ожерелья, браслеты, гребешки, сережки и велю дамам их примерить. Потом иду с козыря.
Вынимаю из последнего мешка полгросса ручных зеркал в прочных оловянных оправах и распределяю их между дамами. Так я познакомил племя пече с зеркалами.
Смотрю, по площади шествует Шейн.
— Ну, как торговля, не сыграла еще в ящик? — спрашивает он и утробно хохочет.
— Не только не сыграла в ящик, а как бы еще несколько ящиков товару выписать не пришлось, — говорю.
Тут по толпе прошел ропот. Женщины заглянули в магический кристалл, увидели, какие они красотки, и поделились этим открытием с мужчинами. Мужчины, ясное дело, давай ссылаться на нехватку денег и временные трудности перед выборами, но дамы и слушать ничего не хотели.
И тут настал мой час. Я прервал оживленный разговор Мак-Клинтока с мулами и наказал ему заняться переводом.
— Переведи им, — говорю, — что на золотой песок они могут купить эти украшения, достойные королей и королев земли. Передай им, что за желтый песок, который они намывают из ручья для Его Преподобия Акулея и Марципана вашего племени, можно приобрести все эти драгоценности и амулеты, которые их украсят, а также замаринуют и сохранят от злых духов. Передай им, что питтсбургские банки платят четыре процента по вкладам, деньги по желанию клиента высылаются почтой, а от этого богатей-не-зевай хранителя народного достояния — и спасибо не дождешься. И еще передай им, Мак, не ленись, повтори, да не раз, чтоб они не мешкая пустили песок в оборот. Говори с ними так, будто ты сроду терпеть не можешь Брайана.
Мак-Клинток благосклонно машет рукой одному из своих мулов и швыряет в толпу одну-другую верстатку петита.
Тогда какой-то гуттаперчевый индеец залезает вместе со своей дамой на большой камень, а вокруг шеи у нее в три ряда намотана моя облезлая бижутерия и бусы поддельного мрамора — и произносит речь: на слух смахивает, будто игральные кости в стакане трясут.
— Он говорить, — переводит Мак-Клинток, — людишки не понимать, что золотой песок ваши вещички покупать. Женщины беситься. Великий Акула говорить золотой песок он хранить злых духов отогнать.
— Злых духов от денег нипочем не отгонишь, — говорю я.
— Они говорить, — продолжает Мак-Клинток, — Акула их дурачить. Они много-много ругаться.
— Ладно, ладно, — говорю. — Пусть гонят золотой песок или монету, и я отдам им весь товар. Песок взвешивается на ваших глазах и принимается по шестнадцати долларов за унцию, больше здесь, на хватимальском берегу, никто им не даст.
В этом месте индейцы вдруг кидаются врассыпную, а я не могу понять, какая муха их укусила. Мы с Маком пакуем ручные зеркала и ожерелья, что они покидали, и отводим мулов в тот корраль, который нам отвели под гараж.
Сначала в наш корраль доносится шум и гам, потом через площадь на всех парах мчится Патрик Шейн, одежда на нем изорвана в клочья, а лицо так исцарапано, будто очень живучая кошка дралась с ним за свою жизнь.
— Они грабят сокровищницу, У. Д.! — вопит он. — Они хотят убить меня и тебя в придачу. Живо приведи мулов в боевую готовность. Надо сматываться, нельзя терять ни минуты.
— Выходит, они раскусили, — говорю я, — что такое закон спроса и предложения.
— Это все женский пол виноват, — говорит король. — А ведь как они мной восторгались, бывало.
— Тогда они еще не знали зеркал, — говорю я.
— Они схватились за топоры, — говорит Шейн. — Поторапливайся.
— Бери себе чалого мула, — говорю я. — В печенках ты у меня сидишь со своим законом спроса и предложения. А себе я возьму мышастого, он порезвее будет, у него скорость на два узла больше. Чалый, он шпатит, но может статься, что тебе и на нем удастся удрать, — говорю. — Вот если б ты предусмотрел справедливость в своей политической платформе, я, может, дал бы тебе мышастого.
Взгромоздились мы на наших мулов и не успели пересечь сыромятный мост, как на другой стороне показались индейцы и ну бросать в нас камни и ножи. Но мы мигом обрубили ремни со своего краю и двинули к побережью.
Тут в заведение Финча вошел грузный верзила в полицейской форме и облокотился о витрину. Финч дружески кивнул ему.
— У Кейси говорили, — сказал полицейский сиплым рокочущим басом, — что Союз чистильщиков шляп в воскресенье устраивает пикник в Берген-Бич? Верно?
— Ага, — сказал Финч. — Гулянье будет первый сорт.
— Дай пять билетов, — сказал полицейский и швырнул на прилавок пять долларов.
— Ишь ты, — сказал Финч, — что-то ты больно…
— Иди ты знаешь куда, — сказал полицейский. — Тебе надо их продать, так ведь? А раз так, значит, кому-то надо их купить. Жаль, что я не смогу туда выбраться.
Меня обрадовало, что Финч пользуется таким авторитетом в своем квартале.
Нас прервала девчушка лет семи с грязной рожицей и чистыми глазами, одетая в перепачканное кургузое платье.
— Мамка велела, — затараторила она, — чтоб ты дал восемьдесят центов для бакалейщика, девятнадцать для молочника и пять центов мне на мороженое, только про мороженое она не говорила, — заключила девчушка, заискивающе, но правдиво улыбаясь.
Финч достал деньги, пересчитал их дважды, и я заметил, что девчушке был выдан доллар и четыре цента.
— Закон спроса и предложения, — заметил Финч, — справедливый закон, — и точно рассчитанным движением надорвал шов на ленте моей шляпы, сильно сократив тем самым срок ее службы. — Только друг без друга они существовать не могут. Я знаю, — продолжал он, уныло улыбаясь, — что она спустит эти деньги на жвачку — она ее страсть как любит. Но что сталось бы с предложением, спрашиваю я вас, если б на него не было спроса?
— А как сложилась дальнейшая судьба короля? — полюбопытствовал я.
— Совсем забыл сказать, — ответил Финч. — Этот вот, что сейчас билеты у меня купил, он самый Шейн и есть. Он вместе со мной сюда вернулся и подался в полицейские.
Клад
Перевод М. Лорие.
Дураки бывают разные. Нет, попрошу не вставать с места, пока вас не вызвали.
Я бывал дураком всех разновидностей, кроме одной. Я расстроил свои дела патримониальные, подстроил матримониальные, играл в покер, в теннис и на скачках — избавлялся от денег всеми известными способами. Но одну из ролей, для которых требуется колпак с бубенчиками, я не играл никогда: я никогда не был Искателем Клада. Мало кого охватывает это сладостное безумие. А между тем из всех, кто идет по следам копыт царя Мидаса, именно кладоискателям выпадает на долю больше всего приятных надежд.
Должен признаться, — я отклоняюсь от темы, как всегда бывает с горе-писателями, — что я был дураком сентиментального оттенка. Я увидел Мэй Марту Мангэм — и пал к ее ногам. Ей было восемнадцать лет; кожа у нее была цвета белых клавишей у новенького рояля; она была прекрасна и обладала чарующей серьезностью и трогательным обаянием ангела, обреченного прожить свою жизнь в скучном городишке в сердце техасских прерий. В ней был огонь, в ней была прелесть — она смело могла бы срывать, точно малину, бесценные рубины с короны короля бельгийского или другого столь же легкомысленного венценосца; но она этого не знала, а я предпочитал не рисовать ей подобных картин.
Дело в том, что я хотел получить Мэй Марту Мангэм в полную собственность. Я хотел, чтобы она жила под моим кровом и прятала каждый день мою трубку и туфли в такие места, где их вечером никак не найдешь.
Отец Мэй Марты Мангэм скрывал свое лицо под густой бородой и очками. Этот человек жил исключительно ради жуков, бабочек и всяких насекомых — летающих, ползающих, жужжащих или забирающихся вам за шиворот и в масленку. Он был этимолог или что-то в этом роде. Все время он проводил в том, что ловил летучих рыбок из семейства июньских жуков, а затем втыкал в них булавки и называл их по-всякому.
Он и Мэй Марта составляли всю семью. Он высоко ценил ее как отличный экземпляр racibus humanus; она заботилась о том, чтобы он хоть изредка ел, и не надевал жилета задом наперед, и чтобы в его склянках всегда был спирт. Люди науки, говорят, отличаются рассеянностью.
Был еще один человек, кроме меня, который считал Мэй Марту привлекательным существом. Это был некий Гудло Банкс, юноша, только что окончивший колледж. Он знал все, что есть в книгах, — латынь, греческий, философию и в особенности высшую математику и самую высшую логику.
Если бы не его привычка засыпать своими познаниями и ученостью любого собеседника, он бы мне очень нравился. Но даже и так вы решили бы, что мы с ним друзья.
Мы бывали вместе, когда только могли: каждому из нас хотелось выведать у другого, что, по его наблюдениям, показывает флюгер относительно того, в какую сторону дует ветер от сердца Мэй Марты… метафора довольно тяжеловесная. Гудло Банкс нипочем не написал бы такой штуки. На то он и был моим соперником.
Гудло отличался по части книг, манер, культуры, гребли, интеллекта и костюмов. Мои же духовные запросы ограничивались бейсболом и диспутами в местном клубе; впрочем, я еще хорошо ездил верхом.
Но ни во время наших бесед вдвоем, ни во время наших посещений Мэй Марты или разговоров с ней мы не могли догадаться, кого же из нас она предпочитает. Видно, у Мэй Марты было природное, с колыбели, уменье не выдавать себя.
Как я уже говорил, старик Мангэм отличался рассеянностью. Лишь через долгое время он открыл, — верно, какая-нибудь бабочка ему насплетничала, — что двое молодых людей пытаются накрыть сеткой молодую особу — кажется, его дочь, в общем-то техническое усовершенствование, которое заботится о его удобствах.
Я никогда не воображал, что человек науки может оказаться при подобных обстоятельствах на высоте. Старик Мангэм без труда устно определил нас с Гудло и наклеил на нас этикетку, из которой явствовало, что мы принадлежим к самому низшему отряду позвоночных; и притом еще он проделал это по-английски, не прибегая к более сложной латыни, чем Orgetorix, Rex Helvetii — дальше этого я и сам не дошел в школе. Он еще добавил, что если когда-нибудь поймает нас вблизи своего дома, то присоединит нас к своей коллекции.
Мы с Гудло Банксом не показывались пять дней, в ожидании, что буря к тому времени утихнет. Когда же мы, наконец, решились зайти, то оказалось, что Мэй Марта и отец ее уехали. Уехали! Дом, который они снимали, был заперт. Вся их несложная обстановка, все вещи их также исчезли.
И ни словечка на прощание от Мэй Марты! На ветвях боярышника не виднелось белой записочки; на столбе калитки ничего не было начертано мелом; на почте не оказалось открытки — ничего, что могло бы дать ключ к разгадке.
Два месяца Гудло Банкс и я — порознь — всячески пробовали найти беглецов. Мы использовали нашу дружбу с кассиром на станции, со всеми, кто отпускал напрокат лошадей и экипажи, с кондукторами на железной дороге, с нашим единственным полицейским, мы пустили в ход все наше влияние на них — и все напрасно.
После этого мы стали еще более близкими друзьями и заклятыми врагами, чем раньше. Каждый вечер, окончив работу, мы сходились в задней комнате в трактире у Снайдера, играли в домино и подстраивали один другому ловушки, чтобы выведать, не узнал ли чего-нибудь кто-либо из нас. На то мы и были соперниками.
У Гудло Банкса была какая-то ироническая манера выставлять напоказ свою ученость, а меня засаживать в класс, где учат «Дженни плачет, бедняжка, умерла ее пташка». Ну, Гудло мне скорее нравился, а его высшее образование я ни во что не ставил; вдобавок я всегда считался человеком добродушным, и потому я сдерживался. Кроме того, я ведь хотел выведать, не известно ли ему что-нибудь про Мэй Марту, и ради этого терпел его общество.
Как-то раз, когда мы с ним обсуждали положение, он мне говорит:
— Даже если бы вы и нашли ее, Джим, какая вам от этого польза? Мисс Мангэм умная девушка. Быть может, ум ее не получил еще надлежащего развития, но ей предназначен более высокий удел, чем та жизнь, которую вы можете дать ей. Никогда еще мне не случалось беседовать ни с кем, кто лучше ее умел бы оценить прелесть древних поэтов и писателей и современных литературных течений, которые впитали их жизненную философию и распространили ее. Не кажется ли вам, что вы только теряете время, стараясь отыскать ее?
— А я представляю себе домашний очаг, — сказал я, — в виде дома в восемь комнат, в дубовой роще, у пруда, среди техасских прерий. В гостиной, — продолжал я, — будет рояль с пианолой, в загородке — для начала — три тысячи голов скота; запряженный тарантас всегда наготове для «хозяйки». А Мэй Марта тратит по своему усмотрению весь доход с ранчо и каждый день убирает мою трубку и туфли в такие места, где мне их никак нельзя будет найти вечером. Вот как оно будет. А на все ваши познания, течения и философию мне очень даже наплевать.
— Ей предназначен более высокий удел, — повторил Гудло Банкс.
— Что бы ей там ни было предназначено, — ответил я, — дело сейчас в том, что она была, да вся вышла. Но я собираюсь вскорости отыскать ее, и притом без помощи греческих философов и американских университетов.
— Игра закрыта, — сказал Гудло, выкладывая на стол костяшку домино. И мы стали пить пиво.
Вскоре после этого в город приехал один мой знакомый, молодой фермер, и принес мне сложенный вчетверо лист синей бумаги. Он рассказал мне, что только что умер его дед. Я проглотил слезы, и он продолжал. Оказывается, старик ревниво берег эту бумажку в течение двадцати лет. Он завещал ее своим родным в числе прочего своего имущества, состоявшего из двух мулов и гипотенузы не пригодной для обработки земли.
Бумага была старая, синяя, такую употребляли во время восстания аболиционистов против сецессионистов. На ней стояло число: 14 июня 1863 года, и в ней описывалось место, где был спрятан клад: десять вьюков золотых и серебряных монет ценностью в триста тысяч долларов. Старику Рэндлу — деду своего внука Сэма — эти сведения сообщил некий священник-испанец, который присутствовал при сокрытии клада и который умер за много лет… то есть, конечно, спустя много лет, в доме у старика Рэндла. Старик все записал под его диктовку.
— Отчего же ваш отец не занялся этим кладом? — спросил я молодого Рэндла.
— Он не успел и ослеп, — ответил тот.
— А почему вы сами до сих пор не отправились его искать?
— Да видите ли, я про эту бумажку всего десять лет, как узнал. А мне нужно было то пахать, то лес рубить, то корм скотине запасать; а потом, глядишь, и зима наступила. И так из года в год.
Все это показалось мне правдоподобным, и потому я сразу же вошел с Рэндлом в соглашение.
Инструкции в записке не отличались сложностью. Караван, нагруженный сокровищами, вышел в путь из старинного испанского миссионерского поселка в округе Долорес. Он направился по компасу прямо на юг и продвигался вперед, пока не дошел до реки Аламито. Перейдя ее вброд, владельцы сокровищ зарыли их на вершине небольшой горы, формой напоминавшей вьючное седло и расположенной между двумя другими, более высокими вершинами. Место, где был зарыт клад, отметили кучей камней. Все присутствовавшие при этом деле, за исключением священника, были убиты индейцами несколько дней спустя. Тайна являлась монополией. Это мне понравилось.
Рэндл выразил мнение, что нам нужно приобрести все принадлежности для жизни на открытом воздухе, нанять землемера, который прочертил бы нам правильную линию от бывшей испанской миссии, а затем прокутить все триста тысяч долларов в Форт-Уэрте. Но я, хотя и не был уж так образован, однако знал способ, как сократить и время и расходы.
Мы отправились в Земельное управление штата и заказали так называемый «рабочий» план со съемками всех участков от старой миссии до реки Аламито. На этом плане я провел линию прямо на юг, до реки. Длина границ каждого участка была точно указана. Это помогло нам найти нужную точку на реке, и нам ее «связали» с четко обозначенным углом большого угодья Лос-Анимос — дарованного еще королем Филиппом Испанским — на пятимильной карте.
Таким образом, нам не пришлось обращаться к услугам землемера, что сберегло нам много времени и денег.
И вот мы с Рэндлом достали фургон и пару лошадей, погрузили в него все необходимое и, проехав сто сорок девять миль, остановились в Чико — ближайшем городе от того места, куда мы направлялись. Там мы захватили с собой помощника местного землемера. Он отыскал нам угол угодья Лос-Анимос, отмерил пять тысяч семьсот двадцать варас на запад, согласно нашему плану, положил на этом месте камень, закусил с нами кофе и копченой грудинкой и сел на обратный дилижанс в Чико.
Я был почти уверен, что мы найдем эти триста тысяч долларов. Рэндл должен был получить только третью часть, так как все расходы взял на себя я. А я знал, что с этими-то двумястами тысяч долларов я сумею хоть из-под земли вырыть Мэй Марту Мангэм. Да, с такими деньгами у меня запорхают все бабочки на голубятне у старика Мангэма. Только бы мне найти этот клад!
Мы с Рэндлом расположились лагерем у реки. По ту сторону ее виднелся десяток невысоких гор, густо заросших кедровником, но ни одна из них не имела формы вьючного седла. Это нас не смутило. Внешность часто бывает обманчива. Может быть, седло, как и красота, существует лишь в воображении того, кто на него смотрит.
Мы с внуком клада осмотрели эти покрытые кедровником холмы с такой тщательностью, с какой дама ищет у себя блоху. Мы обследовали каждый склон, каждую вершину, окружность, впадину, всякий пригорок, угол, уступ на каждом из них на протяжении двух миль вверх и вниз по реке. На это у нас ушло четыре дня. После этого мы запрягли гнедого и саврасого и повезли остатки кофе и копченой грудинки обратно за сто сорок девять миль — домой, в Кончо-Сити.
На обратном пути Рэндл не переставая жевал табак. Я же все время погонял лошадей: я очень спешил.
В один из ближайших дней после нашего возвращения из безрезультатной поездки мы с Гудло опять сошлись в задней комнате у Снайдера, засели за домино и начали выуживать друг у друга новости. Я рассказал Гудло про свою экспедицию за кладом.
— Если бы мне только удалось найти эти триста тысяч долларов, — сказал я ему, — я уж обыскал бы весь свет и открыл бы, где находится Мэй Марта Мангэм.
— Ей предназначен более высокий удел, — сказал Гудло. — Я сам отыщу ее. Но расскажите, как это вы искали место, где кто-то так неосторожно закопал столько доходов.
Я рассказал ему все до мельчайших подробностей. Я показал ему план, на котором ясно были отмечены расстояния.
Он всмотрелся в него взглядом знатока и вдруг откинулся на спинку стула и разразился по моему адресу ироническим, покровительственным, высокообразованным хохотом.
— Ну и дурак же вы, Джим, — сказал он наконец, когда к нему вернулся дар речи.
— Ваш ход, — терпеливо сказал я, сжимая в руке двойную шестерку.
— Двадцать, — сказал Гудло и начертил мелом два крестика на столе.
— Почему же я дурак? — спросил я. — Мало ли где находили зарытые клады.
— Потому что, — сказал он, — когда вы вычисляли точку, где ваша линия должна пересечь реку, вы не приняли в расчет отклонения стрелки. А это отклонение должно равняться приблизительно девяти градусам к западу. Дайте-ка мне карандаш.
Гудло Банкс быстро подсчитал что-то на старом конверте.
— Расстояние с севера на юг, от испанской миссии до реки Аламито, — двадцать две мили. По вашим словам, эта линия была проведена с помощью карманного компаса. Если принять во внимание отклонение, то окажется, что пункт на реке Аламито, откуда вам следовало начать поиски, находится ровно на шесть миль и девятьсот сорок пять варас к западу от того места, где вы остановились. Ох и дурак же вы, Джим!
— Про какое это отклонение вы говорите? — сказал я. — Я думал, что числа никогда не врут.
— Отклонение магнитной стрелки, — сказал Гудло, — от истинного меридиана.
Он улыбнулся с выражением превосходства, которое так меня бесило, а затем я вдруг увидел у него на лице ту странную, горячую, всепоглощающую жадность, что охватывает искателей кладов.
— Иногда, — проговорил он тоном оракула, — эти старинные легенды о зарытых сокровищах не лишены основания. Не дадите ли вы мне просмотреть эту бумажку, в которой описано местонахождение вашего клада? Может быть, мы вместе…
В результате мы с Гудло Банксом, оставаясь соперниками в любви, стали товарищами по этому предприятию. Мы отправились в Чико на дилижансе из Хантерсберга, ближайшей к нему железнодорожной станции. В Чико мы наняли пару лошадей и крытый фургон на рессорах; достали и все принадлежности для лагерной жизни. Тот же самый землемер отмерил нам нужное расстояние, но уже с поправкой на Гудло и его отклонение.
После этого мы распростились с землемером и отправили его домой.
Когда мы приехали, была уже ночь. Я накормил лошадей, разложил костер на берегу реки и сварил ужин. Гудло готов был мне помочь, да его воспитание не подготовило его к таким чисто практическим занятиям.
Впрочем, пока я работал, он развлекал меня изложением великих мыслей, завещанных нам древними мудрецами. Он приводил длиннейшие цитаты из греческих писателей.
— Анакреон, — объяснил он. — Это было одно из любимых мест мисс Мангэм, когда я декламировал его.
— Ей предназначен более высокий удел, — сказал я, повторяя его фразу.
— Что может быть выше, — сказал Гудло, — чем жизнь в обществе классиков, в атмосфере учености и культуры? Вы часто издевались над образованностью. А сколько усилий пропало у вас даром из-за незнания элементарной математики! Когда бы вы еще нашли свой клад, если бы мои знания не осветили вам вашей ошибки?
— Сначала посмотрим, что нам скажут горки на том берегу, — отвечал я. — Я все-таки еще не вполне уверовал в ваши отклонения. Меня с детства приучили к мысли, что стрелка смотрит прямо на полюс.
Июньское утро выдалось ясное. Мы встали рано и позавтракали. Гудло был в восторге. Пока я поджаривал грудинку, он декламировал что-то из Китса и Келли, кажется, или Шелли. Мы собирались переправиться через реку, которая здесь была лишь мелким ручейком, чтобы осмотреть многочисленные заросшие кедром холмы с острыми вершинами на противоположном берегу.
— Любезный мой Улисс, — сказал Гудло, подходя ко мне, пока я мыл оловянные тарелки, и хлопая меня по плечу, — дайте-ка мне еще раз взглянуть на волшебный свиток. Если я не ошибаюсь, там есть указания, как добраться до вершины того холма, который напоминает формой вьючное седло. На что оно похоже, Джим? Я никогда не видал вьючного седла.
— Вот вам и ваше образование, — сказал я. — Я-то узнаю его, когда увижу.
Гудло стал рассматривать документ, оставленный стариком Рэндлом, и вдруг у него вырвалось отнюдь не университетское ругательное словцо.
— Подойдите сюда, — сказал он, держа бумагу на свет. — Смотрите, — добавил он, ткнув в нее пальцем.
На синей бумаге, — до тех пор я этого не замечал, — выступили белые буквы и цифры: «Молверн, 1898».
— Ну, так что же? — спросил я.
— Это водяной знак, — сказал Гудло. — Бумага эта была сделана в тысяча восемьсот девяносто восьмом году. На документе же стоит тысяча восемьсот шестьдесят третий год. Это несомненная подделка.
— Ну, не думаю, — сказал я. — Рэндлы — люди простые, необразованные, деревенские, на них можно положиться. Может быть, это бумажный фабрикант подстроил какое-нибудь жульничество.
Тут Гудло Банкс вышел из себя — насколько, разумеется, ему позволяла его образованность. Пенсне его слетело с носа, и он яростно воззрился на меня.
— Я вам часто говорил, что вы дурак, — сказал он. — Вы дали себя обмануть какой-то грубой скотине. И меня в обман ввели.
— Каким же это образом я ввел вас в обман?
— Своим невежеством, — сказал он. — Я два раза отметил в ваших планах грубые ошибки, которых вы, несомненно, избегли бы, поучись вы хоть в средней школе. К тому же, — продолжал он, — я понес из-за этого мошеннического предприятия расходы, которые мне не по карману. Но теперь я с ним покончил.
Я выпрямился и ткнул в него большой разливательной ложкой, только что вынутой из грязной воды.
— Гудло Банкс, — сказал я, — мне на ваше образование в высокой степени наплевать. Я и в других-то его еле выношу, а вашу ученость прямо презираю. Что она вам дала? Для вас это — проклятие, а на всех ваших знакомых она только тоску нагоняет. Прочь, — сказал я, — убирайтесь вы вон со всеми вашими водяными знаками да отклонениями. Мне от них ни холодно, ни жарко. Я от своего намерения все равно не отступлюсь.
Я указал ложкой за реку, на холм, имевший форму вьючного седла.
— Я осмотрю эту горку, — продолжал я, — поищу, нет ли там клада. Решайте сейчас, пойдете вы со мной или нет. Если вас может обескуражить какое-то отклонение или водяной знак, вы не настоящий искатель приключений. Решайте.
Вдали, на дороге, тянувшейся по берегу реки, показалось белое облако пыли. Это шел почтовый фургон из Гесперуса в Чико. Гудло замахал платком.
— Я бросаю это мошенническое дело, — кислым тоном сказал он. — Теперь только дурак может обращать внимание на эту бумажку. Впрочем, вы, Джим, всегда и были дураком. Предоставляю вас вашей судьбе.
Он собрал свои пожитки, влез в фургон, нервным жестом поправил пенсне и исчез в облаке пыли.
Вымыв посуду и привязав лошадей на новом месте, я переправился через обмелевшую реку и начал медленно пробираться сквозь кедровые заросли на вершину горы, имевшей форму вьючного седла.
Стоял роскошный июньский день. Никогда еще я не видал такого количества птиц, такого множества бабочек, стрекоз, кузнечиков и всяких крылатых и жалящих тварей.
Я обследовал гору, имевшую форму вьючного седла, от вершины до подошвы. На ней оказалось полное отсутствие каких-либо признаков клада. Не было ни кучи камней, ни давнишней зарубки на дереве, — ничего, что указывало бы на местонахождение трехсот тысяч долларов, о которых упоминалось в документе старика Рэндла.
Под вечер, когда спала жара, я спустился с холма. И вдруг, выйдя из кедровой рощи, я очутился в прелестной зеленой долине, по которой струилась небольшая речка, приток Аламито.
С глубоким изумлением я увидел здесь человека. Я его сначала принял за какого-то дикаря. У него была всклокоченная борода и лохматые волосы, и он гнался за гигантской бабочкой с блестящими крыльями.
«Может быть, это сумасшедший, сбежавший из желтого дома», — подумал я. Меня только удивляло, что он забрел сюда, так далеко от всяких центров науки и цивилизации.
Потом я сделал еще несколько шагов и увидел на берегу речки весь заросший виноградом домик. А на полянке с зеленой травой я увидел Мэй Марту Мангэм; она рвала полевые цветы.
Она выпрямилась и взглянула на меня. В первый раз, с тех пор как я познакомился с ней, я увидел, как порозовело ее лицо цвета белых клавишей у новенького рояля. Я молча направился к ней. Собранные ею цветы тихо посыпались у нее из рук на траву.
— Я знала, что вы придете, Джим, — звонким голосом проговорила она. — Отец не позволял мне писать, но я знала, что вы придете.
Что произошло потом, — это я предоставляю вам угадать; ведь там, на другом берегу реки, стоял мой фургон с парой лошадей.
Я часто задумывался над тем, какая польза человеку от чрезмерной образованности, если он не может употребить ее для собственной пользы. Если от нее выигрывают только другие, то какой же в ней смысл?
Ибо Мэй Марта Мангэм живет под моим кровом. Посреди дубовой рощи стоит дом из восьми комнат; есть и рояль с пианолой, а в загородке имеется некоторое количество телок, которое со временем вырастет в стадо из трех тысяч голов.
А когда я вечером приезжаю домой, то оказывается, что моя трубка и туфли так засунуты куда-то, что нет никакой возможности их отыскать.
Но разве это так уж важно?
Он долго ждал
Перевод Г. Конюшкова.
Отшельник с берегов Гудзона с необычным оживлением метался по своей пещере.
Пещера находилась на вершине или, вернее, в вершине невысокой скалы Катскилле. Казалось, эта скала сбежала к самому берегу реки, но, не имея билета на перевоз, так и осталась здесь. Живописные горы густо поросли лесом и буквально кишели неистовыми белками и дятлами, упорно пугавшими всех летних путников. Между зеленой оторочкой холма и пенным кружевом реки, как небрежно пристроченный белый шнурок, проходила шоссейная дорога. Незаметная тропинка ответвлялась от шоссе и вилась на вершину скалы к пещере отшельника. Вверх по течению в одной миле отсюда стояла гостиница «Кругозор», сюда на лето съезжались дачники; покинув свои прохладные, овеваемые электрическими вентиляторами апартаменты, они совершали путь по самому солнцепеку в трещащих моторных лодках.
Но наведите ваш бинокль на отшельника; рассмотрев его внимательными глазами, разве можно не почувствовать к нему симпатии?
Ему на вид лет сорок, у него длинные вьющиеся волосы, выразительные печальные глаза и темная раздвоенная борода; такие носили самозванные «чудесные исцелители», несколько лет назад собиравшие обильную жатву с доверчивых жителей Запада. Его одеяние было сшито из грубой джутовой мешковины, но было так хорошо скроено, что фасон сделал бы карьеру любому лондонскому портному. Его длинные холеные пальцы, его прекрасно очерченный нос и спокойные манеры резко отличали его от классических отшельников, которые питают отвращение к воде и закапывают деньги в глубине своих пещер, отмечая место клада грубыми знаками, высеченными на каменных стенах.
Собственно говоря, отшельник жил вовсе не в пещере. Пещера, скорее, служила придатком к его жилищу — хижине из грубых, обмазанных снаружи глиной бревен, но тем не менее покрытой прекрасной крышей из самого лучшего оцинкованного железа.
В самой хижине были каменные скамьи и неуклюжий книжный шкаф из неструганых досок, столом служила доска, положенная на две гранитных тумбы, — все жилище смахивало не то на храм друидов, не то на кабачок в подвале где-нибудь на Бродвее. Стены были увешаны шкурами диких зверей, купленными где-то в окрестностях Университетской площади в Нью-Йорке.
Задняя половина хижины сливалась с пещерой. Здесь на грубом каменном очаге отшельник готовил себе пищу. Вооруженный старым топором и безграничным терпением, он выбил ниши в каменных стенах пещеры. В них он хранил свои запасы муки, грудинки, сала, талька, керосина, дрожжей в порошке, соды, перца, соли и пальмовой эмульсии для смягчения кожи.
Отшельник отшельничал уже десять лет. Он составлял определенную статью дохода гостиницы «Кругозор»: для ее посетителей, после замечательного эхо у Хонтед-Глин, он был самой интересной достопримечательностью. Его известность распространялась далеко (но в силу топографических условий не особенно широко); его считали ученым с блестящими способностями, ушедшим от мира, после того как одна женщина отвергла его любовь. Каждую субботу из гостиницы «Кругозор» ему тайно доставлялась корзина с провизией. Он сам никогда не выходил за пределы ближайших окрестностей своего убежища. Навещавшие его посетители гостиницы рассказывали, что его познания, его остроумие, его блистательная философия были просто изумительны. В этом году дела гостиницы «Кругозор» шли бойко, поэтому в субботних корзинах у отшельника оказывались дополнительные банки консервов, а ростбиф был самого высшего качества.
Теперь, раз вы имеете представление о материальной стороне дела, перейдем к романтической…
Отшельник, очевидно, кого-то ждал. Он тщательно расчесывал свои длинные волосы и апостольскую бороду. И едва только девяностопятицентовый будильник возвестил с каменной полки о наступлении пяти часов, отшельник подобрал полы своего грубого одеяния, тщательно почистился щеткой, взял дубовый посох и медленно пошел в глубь густого леса, со всех сторон окружавшего его убежище.
Он ждал недолго. По чуть заметной тропинке, скользкой от покрывавшего ее хвойного ковра, с трудом поднималась Битрикс, самая юная и самая прекрасная из знаменитых сестер Тренхолм. Все на ней: от шляпки до легких парусиновых туфелек, переливалось различными оттенками синего цвета: от легкой синевы полевого колокольчика, чуть заметного при первом луче весеннего солнца, до глубоких синих теней летнего вечера, которых не удается передать ни одному художнику.
Битрикс воткнула конец своего небесно-голубого зонтика глубоко в хвойный ковер и вздохнула, отшельник спокойно сбросил колючку с одной обутой в сандалию ноги большим пальцем другой. Битрикс взглянула на него своими кобальтовыми глазами, — он почти окаменел.
— Как чудесно, — произнесла она тихим прерывающимся голосом, — быть отшельником и встречать женщин, карабкающихся на скалы только для того, чтобы поговорить с вами.
Отшельник скрестил руки и прислонился к дереву. Битрикс со вздохом опустилась на хвойный ковер, она напоминала теперь синичку, сидящую на своем гнезде. Отшельник смиренно последовал ее примеру, неуклюже спрятав ноги под свою грубую хламиду.
— Как чудесно быть горой, — произнес он с тяжеловесной легкостью, — и чувствовать на себе голубого ангела, который на сей раз не летит по воздуху.
— У мамы невралгия, — сказала Битрикс, — она легла, а то бы я не смогла прийти. Ужасно душно в этой отвратительной старой гостинице. Но у нас нет денег ехать куда-нибудь в другое место.
— Вчера поздно вечером, — сказал отшельник, — я взобрался на вершину вот этой высокой скалы, что прямо над нами. Оттуда мне были видны огни гостиницы, а ветер иногда доносил до меня звуки музыки. Я представил себе, что среди аромата цветов вы, опираясь на чью-нибудь руку, грациозно танцуете под звуки волшебного вальса. Подумайте, как остро ощущал я свое одиночество!
Самая юная, самая прелестная и самая бедная из знаменитых сестер Тренхолм вздохнула.
— Вы отчасти угадали, — печально произнесла она, — я грациозно опиралась на чьи-то руки! У мамы случился очередной приступ ревматизма в обеих руках, и я должна была целый час растирать их каким-то ужасным снадобьем. Надеюсь, вам бы не показалось, что оно благоухает, как цветы. Видите, на последнем танцевальном вечере было несколько джентльменов с Запада, а из города пришла яхта с молодыми людьми. Я отлично знаю, что мама может просидеть целых три часа у открытого окна, причем одна половина ее тела будет испытывать жару в восемьдесят пять градусов, а другая чуть ли не мороз, — мама при этом даже и не чихнет! Но стоит только молодым людям, которых она считает неподходящими, подойти ко мне, она сейчас же начинает пухнуть и вскрикивать от боли. И вот я должна отводить ее в комнату и растирать ей руки. Стоит только представить себе, как я ее бинтую, так только изумляешься, сколько квадратных дюймов помещается на поверхности ее рук. Я думаю, как чудесно быть отшельником! Это сутана или габардин? Вы ее сами сшили? Но уж переделывали, конечно, вы. А какое изумительное счастье носить сандалии вместо туфель! Подумайте, как мы должны мучиться, какие узкие туфли я покупаю и как жмут они мне пальцы. О, почему не бывает женщин-отшельниц!
Самая прелестная и самая юная из сестер Тренхолм вытянула стройные голубые ножки, оканчивающиеся двумя громадными шелковыми голубыми бантами, почти скрывающими изящные туфельки одного из сорока семи оттенков синего цвета. Отшельник инстинктивно спрятал еще глубже под грубое одеяние свои босые ноги.
— Я слышала о романе вашей жизни, — сказала мисс Тренхолм нежно. — Он напечатан на карточке меню в гостинице. Верно, она была такой очаровательной, такой прелестной.
— На карточке меню?! — пробормотал отшельник. — Но что мне до людских сплетен. Да, она была возвышенной и обаятельной. Тогда, — продолжал он, — тогда я думал, что мир не может вместить другой, равной ей. И вот я покинул мир и поселился здесь в горах, чтобы провести остаток дней в одиночестве, чтобы посвятить остающиеся мне годы только воспоминаниям о ней.
— Как это грандиозно! — воскликнула мисс Тренхолм. — Как изумительно грандиозно! Я думаю, что жизнь отшельника — это идеальная жизнь. Никаких кредиторов, никаких переодеваний к обеду, — как мне хочется стать отшельницей. Нет, на мою долю никогда не выпадет такого счастья. Если я не выйду замуж в этом сезоне, то я вполне уверена, что мама заставит меня чем-нибудь заняться, делать шляпы, что ли! И не потому, что я уже состарилась или стала безобразной, а просто потому, что у нас нет больше денег для этих фешенебельных мест. Но я не хочу выходить замуж, не хочу, пока не полюблю кого-нибудь! Вот поэтому я и хочу стать отшельницей. Ведь отшельники никогда не вступают в брак, правда?
— Вступают, сотнями вступают, — ответил отшельник, — если находят свой идеал!
— Но ведь они потому и отшельничают, — сказала самая юная и самая прекрасная, — что лишились своего идеала, разве не правда?
— Потому что они думают, что потеряли, — фатовски ответил отшельник. — Мудрость приходит к живущему в горной пещере так же, как к живущему в «шикарном» мире, — так, кажется, его называют на жаргоне.
— Если кто-нибудь из этого мира приносит ее к ним, — сказала мисс Тренхолм. — Да, меня окружают люди шикарного света. В этом-то и беда. Летом на взморье столько шикарных, что на нас обращают не больше внимания, чем на зыбь на воде. Вы знаете, нас в семье было четверо. А вот осталась одна я. Остальные все вышли замуж. И все ради денег. Мама так гордится моими сестрами. А они каждый раз на Рождество присылают ей изящные перочистки и иллюстрированные календари. Теперь на рынке осталась я одна! И вот мне даже запрещают смотреть на людей, если у них нет денег.
— Но… — начал отшельник.
— Но, конечно, — перебила самая прелестная, — конечно, все отшельники держат золото и дублоны в больших кубышках, закопанных где-нибудь у трех высоких дубов. Не правда ли?
— Я ничего не закапывал, — с глубоким сожалением произнес отшельник.
— Какая жалость! — отозвалась мисс Тренхолм. — Я всегда думала, что все отшельники обязательно закапывают деньги. Но, мне кажется, пора идти!
О! вне всякого сомнения, она была самой прелестной!
— Прелестная леди… — начал отшельник.
— Я Битрикс Тренхолм, многие зовут меня просто Трикс, — сказала она. — Вы должны зайти ко мне в гостиницу.
— Вот уже десять лет, как я не отходил от своей пещеры дальше, чем на расстояние брошенного камня, — сказал отшельник.
— Но вы должны навестить меня, — повторила она — Вечером, когда хотите, но только не в четверг!
Отшельник чуть заметно улыбнулся.
— До свиданья, — сказала она, поправляя свою светло-голубую юбку — Я буду ждать вас, но помните: только не в четверг!
Во сколько раз интереснее стали бы карточки меню в гостинице «Кругозор», если бы на них были добавлены такие строки: «Больше чем за десять лет жизни в полном одиночестве отшельник один-единственный раз покинул свою знаменитую пещеру. Он появился в гостинице, привлеченный неотразимым очарованием мисс Битрикс Тренхолм, самой юной и самой прелестной из всех сестер, принадлежавших к известному семейству Тренхолм. Ее блестящая свадьба с…»
— Да, — но с кем?!
Отшельник направился к своему убежищу. В дверях стоял Боб Бинкли, старый друг и сотоварищ тех далеких дней, когда он еще и не собирался покидать мир. Как орхидея в теплице, Боб сверкал в своем разноцветном наряде, — Боб миллионер, с крупным, толстым хитрым лицом, с бриллиантовыми кольцами, с шикарной цепочкой, с безукоризненно разглаженной грудью сорочки. Он был двумя годами старше отшельника, а казался моложе лет на пять.
— Несмотря на эту бороду и на парадный купальный халат, вы, безусловно, Хэмп Эллиоом! — воскликнул он. — Я прочел о вас на карточке меню. Вашу биографию можно найти между сыром и предупреждением, что «за несданные пальто и зонты гостиница не отвечает». Для чего вы все это делаете, Хемп? Целых десять лет. Но, черт возьми, эта борода!
— Вы все такой же, — сказал отшельник. — Заходите, садитесь вот сюда, на известковую плиту, она чуть помягче гранита.
— Ничего не могу понять, старина, — сказал Бинкли. — Я бы понял, если бы вы отказались от женщины ради десяти лет жизни, но от десяти лет ради женщины? Я знаю, конечно, что вас толкнуло. Это теперь все знают. Эдит Карр. Но она ведь натянула нос четверым или пятерым, кроме вас. Однако только вы единственный забрались в такую дыру. Другие обратились к виски, к Клондайку, к политике, этому similia similibus[6] средству. Сказать по правде, Хемп, Эдит Карр действительно была самой обаятельной женщиной на свете — благородная, гордая, надменная, она играла идеалами и всегда выигрывала. Она была, конечно, самой выдающейся женщиной.
— После того как я ушел от мира, — произнес отшельник, — я о ней ничего не слышал!
— Она вышла замуж за меня, — сказал Бинкли.
Отшельник прислонился к деревянной стене своей хижины и зашевелил пальцами ноги.
— Я знаю, что вы думаете об этом, — сказал Бинкли. — Но что же ей было делать? Ведь в семье было четыре сестры, да еще мать и этот старик Карр, — помните, как он вложил все деньги в эти дирижабли? Можно сказать, все полетело вниз и ничего не взлетело вверх. Я знаю Эдит так же, как и вы, хотя я и женился на ней. У меня тогда был миллион, но с тех пор я увеличил его до пяти-шести. Она ведь не за меня выходила… Ну, одним словом, у нее на руках была вся эта куча, нужно было о них подумать. Она вышла за меня через два месяца после того, как вы закопались в землю. Мне казалось, что я нравился ей тогда!
— А теперь? — спросил отшельник.
— Теперь мы друзья больше, чем когда-либо. Она взяла развод два года тому назад. Что же делать, я, конечно, не возражал. Да, да, Хемп, действительно забавное убежище вы себе здесь соорудили. Вы ведь всегда были мастером на выдумки. Кажется, вы-то и были единственным, поразившим сердце Эдит. Да, так, может быть, и было, но банкноты больше значат, мой мальчик, и ваши пещеры и бакенбарды теперь не помогут. Честное слово, Хемп, подумайте сами, разве вы не были непроходимым дураком?
Отшельник улыбнулся в свою спутанную бороду, — он всегда считал себя настолько выше этого грубого расчетливого Бинкли, что никогда не обижался на его ругательства. А теперь, теперь его занятия, его размышления в одиночестве высоко вознесли его над мелкой суетой мира. Этот небольшой горный кряж был для него почти Олимпом, с вершины которого он, улыбаясь, смотрел, как внизу в долинах суетились люди. Разве эти десять лет самоотречения, размышлений, служения идеалу, глубокого презрения ко всему продажному миру пропали даром? Разве не поднялась к нему из мира самая юная, самая прекрасная, прекраснее, чем Эдит, в семь раз прекраснее самой Рахили, за которую Иаков служил целых семь лет? Вот почему отшельник улыбнулся себе в бороду.
Когда Бинкли освободил его убежище от своего неприятного присутствия и первая яркая звезда зажглась над соснами, отшельник достал из своего буфета жестянку с порошком, заменяющим дрожжи. Он все еще улыбался себе в бороду.
В дверях послышался слабый шорох. Там стояла Эдит Карр, — за десять лет она стала еще красивее, еще грациознее, еще благороднее.
Она никогда не была слишком болтлива. И вот она смотрела на отшельника большими темными вдумчивыми глазами. Пораженный неожиданностью, он стоял так же неподвижно, как и она. Но совершенно инстинктивно он стал медленно вертеть в руках жестянку со своим порошком, пока ее красная этикетка не скрылась в складках одежды у него на груди.
— Я остановилась в гостинице, — тихим, но ясным голосом сказала Эдит. — Как только я услышала о вас, я сказала себе, что должна видеть вас. Я хочу просить у вас прощения. Я продала свое счастье за деньги. Правда, мне надо было думать о других, но это не оправдание для меня. Я хотела только увидеть вас и просить у вас прощения. Я слышала, что уже десять лет вы живете здесь, живете воспоминаниями обо мне. Я была слепа, Хэмптон, и не сумела понять, что все деньги мира ничто в сравнении с преданным любящим сердцем. Если бы… Но теперь, конечно, слишком поздно.
В этих словах чувствовался скрытый гордостью любящей женщины вопрос. Но через эту прозрачную маску отшельник ясно увидел, что его леди вернется к нему, — если он только пожелает. Перед ним его золотой венец, — если ему угодно принять его. Награда за десятилетнюю верность здесь, близко, стоит ему только протянуть руку.
И вот в течение целой минуты былое очарование вновь озаряло его. Но потом в нем поднялось чувство обиды за отвергнутую любовь, и он почувствовал отвращение к той, которая теперь ищет его любви. И вдруг, наконец, — странно только, почему «наконец», — его умственному взору явилось бледно-голубое видение, — самая прекрасная из всех сестер Тренхолм — видение явилось и исчезло.
— Слишком поздно, — глухо сказал он, прижимая к груди свою жестянку.
Она медленно прошла двадцать ярдов по тропинке и обернулась. Отшельник начал было открывать свою жестянку, но опять быстро спрятал ее в складках одеяния. Сквозь сумерки он увидел ее большие, сверкавшие печалью глаза. Но он неподвижно стоял на пороге своей лачуги, он даже не вздохнул.
В четверг вечером, как только поднялась луна, отшельника обуяла безумная жажда общества.
Снизу, из гостиницы, до его слуха долетали аккорды музыки, они звучали нежнее волшебной музыки эльфов. Ночь превратила Гудзон в необозримое море: огни, что едва мерцали на том берегу, казались ему не огнями бакенов, прозаически отмечающих фарватер, ему казалось, что это звезды, мерцающие за миллионы миль. Река перед гостиницей сверкала веселыми светляками, — но, может быть, это просто моторные лодки, отравляющие воздух запахом масла и газолина. Когда-то и он хорошо знал все это, когда-то и он участвовал в таких празднествах, когда-то и он плавал под красно-белым тентом. Вот уже десять лет, как он отвратил свое ухо от отдаленного эха мирской суеты. Но сегодня он чувствовал в этом какую-то фальшь.
Оркестр в казино играл вальс… Вальс! Что он за дурак, добровольно проплакать десять лет, вычеркнуть их из жизни из-за той, которая отвергла его ради такой призрачной радости, как богатство. Тум-ти-тум-ти-тум-ти, а как танцуется этот вальс? Но разве эти годы были напрасной жертвой, разве они не привели к нему самую яркую звезду, самую изумительную жемчужину мира, самую юную, самую прекрасную из…
— Но только не в четверг вечером, — настаивала она.
Может быть, сейчас она медленно и грациозно скользит под звуки этого вальса и какой-нибудь блестящий офицер или городской щеголь крепко обнимает ее за талию, а в это время он, прочитавший в ее глазах то, что вознаграждает за все десять потерянных лет, он сидит здесь, словно дикое животное в своей норе. Почему бы ему…
— Черт возьми, — неожиданно произнес он, — я все-таки пойду!
Он сбросил свою грубую тогу, сбросил все, что напоминало Марка Аврелия, вытащил из дальнего угла пещеры покрытый пылью чемодан и с трудом открыл крышку.
Свечей было достаточно, и скоро вся пещера озарилась их мерцающим светом. Платье, — оно было сшито десять лет тому назад, — ножницы, бритвы, шляпы, обувь, — все заброшенные наряды и принадлежности туалета были безжалостно извлечены из их покойного уединения и разбросаны в самом чудовищном беспорядке.
Ножницы быстро обрезали его бороду и дали возможность затупившейся бритве хоть как-нибудь выполнить свои обязанности. Но постричь волосы было выше его сил, он только расчесал и пригладил их как мог, щеткой. Милосердие запрещает нам описывать страдания и старания того, который так долго был далек от общества и магазинов модных вещей.
Наконец, отшельник направился в самый дальний угол пещеры и стал раскапывать мягкую землю длинной железной ложкой.
Из выкопанной ямки он вытащил небольшую жестянку, а из жестянки три тысячи долларов в казначейских билетах, плотно скатанных в трубочку и завернутых в промасленный шелк. Одно это может вполне убедить вас, что он был самый настоящий отшельник.
Но взгляните только, как он спешит, покидая свои горы! На нем длинный, доходящий до икр, помятый черный сюртук, узкие белые брюки, давно уже не видевшие портновского утюга, розовая сорочка, белый стоячий воротник, яркий синий галстук бабочкой и высокие, застегнутые на все пуговицы гетры. Но только подумайте, леди и джентльмены: прошло десять лет! Из-под соломенной шляпы выбивались длинные волосы. При всей вашей проницательности вы ни за что бы не догадались, кто он. Вы могли бы, пожалуй, подумать, что это актер, играющий Гамлета или еще какую-нибудь роль, но никогда вы не могли бы положа руку на сердце сказать: «Вот идет отшельник, десять лет проживший в пещере из-за отвергнутой любви, он покинул свою пещеру только ради другой женщины!»
Павильон для танцев тянулся над самой водой. Яркие фонари и холодные электрические шары бросали мягкий волшебный свет. Тут и там порхали леди и джентльмены. Слева от пыльной дороги, по которой спустился отшельник, находилась гостиница, рядом с ней — ресторан. Там тоже что-то происходило. Окна были ярко освещены, слышались звуки музыки, но эта музыка совершенно не походила на вальсы и тустепы, звучащие из казино.
В больших железных воротах с громадными гранитными столбами и чугунными кронштейнами показался негр.
— Что сегодня здесь происходит? — спросил отшельник.
— Сегодня четверг, сэр, — ответил слуга, — и в казино очередной танцевальный вечер. В ресторане сейчас идет обед.
Отшельник взглянул на стоящую на холме гостиницу, оттуда внезапно донесся торжественный аккорд чудесной гармонической музыки.
— А там, — спросил он, — почему там играют Мендельсона, что там происходит?
— Там, — ответил негр, — происходит свадьба. Мистер Бинкли, очень богатый джентльмен, женится на мисс Тренхолм, сэр, — на молодой леди, самой красивой из всех живущих здесь, сэр.
Пригодился
Перевод О. Поддячей.
Если б мне пожить еще немного, ну хоть тысячу лет, всего какую-нибудь тысячу лет, так за это время я бы подошел вплотную к истинной Поэзии — так, что мог бы коснуться подола ее платья.
Ко мне отовсюду сходятся люди: с кораблей, из степей и лесов, с дороги, из чердака и подвала, и в странных бессвязных речах лепечут мне о том, что они видели и о чем передумали. Дело ушей и пальцев воспользоваться их рассказами. Я боюсь только двух угрожающих мне несчастий — глухоты и писательских судорог. Рука пока еще тверда, так что вся вина падет на мой слух, если эти печатные слова окажутся не в том порядке, в каком они были сказаны мне Хэнком Мэджи, истинным борцом за счастье.
Биография отнимет у вас не больше минуты; я впервые узнал Хэнки, когда тот был старшим официантом в маленьком ресторанчике в кафе у Чэббса на Третьей авеню. Кроме него, там был еще только один официант.
Потом я проследил за ним по маленьким улицам большого города, после его экскурсии на Аляску, его путешествия в качестве повара при кладоизыскательной экспедиции в Марибею, после его неудачи при ловле жемчуга на реке Арканзасе. Обычно в промежутках между этими экскурсиями в страну приключений он на некоторое время возвращался к Чэббсу. Чэббс служил ему портом во время сильных штормов; зато когда вы там обедали и Хэнки отправлялся за бифштексом для вас, то вы не могли предвидеть, бросит ли он якорь в кухне или на Малайском архипелаге. Описывать его наружность не стоит; у него был мягкий голос и жесткое лицо, и достаточно было одного его взгляда, чтобы предотвратить малейший беспорядок среди посетителей Чэббса.
Однажды вечером, после того как Хэнки пропадал в течение нескольких месяцев, я увидел его на углу Тридцать третьей улицы и Третьей авеню. Не прошло и десяти минут, как мы уже сидели за круглым столиком в сторонке, и я насторожил уши. Я выпускаю описание своих хитрых подходов и подвохов, при помощи которых я старался выудить из Хэнки его россказни; в общем речь его была в таком роде:
— Кстати, о новых выборах, — сказал Хэнки, — разве вы знаете что-нибудь об индейцах? Нет? Я разумею не тех индейцев, которых мы встречали у Купера, у Бидля, в табачных магазинах; я разумею современного индейца, того, который получает награду за греческий в колледжах и скальпирует неприятелю полголовы во время футбола. Того индейца, который вечером ест макароны и пьет чай с дочерью профессора биологии, а когда снова попадет в отеческий викьюп, то напихивает свою утробу кузнечиками и жареной гремучей змеей.
Право, они недурные люди. Мне они больше нравятся, чем большинство иностранцев, переселившихся сюда за последние несколько сот лет. У индейца есть одна особенность: при смешивании с белой расой он подсовывает бледнолицему свои пороки, а все свои добродетели оставляет при себе. Добродетелей-то у него хватит, когда пороки разбушуются и надо их утихомирить. А эти импортированные иностранцы усваивают наши добродетели и остаются при своих собственных пороках; если так пойдет и дальше, так в один прекрасный день нам придется всю армию обратить в полицию.
Я вам расскажу, какую я совершил экскурсию в Мексику с чирокезом Большим Джеком Змеекормом; он кандидат Пенсильванского колледжа и позднейший образчик расы — в остроносых, подбитых резиновой набойкой мокасинах из патентованной кожи и в мадрасской охотничьей блузе с отложными манжетами. Мы с ним приятели. Я встретился с ним в Талекве, когда я был там во время восстания, и мы с ним стали закадычными друзьями. Он набрался в колледже каких только можно знаний и возвратился к своему народу, чтобы вывести его из Египта. Он был способный парень, писал статьи, и его приглашали к богатым бостонским господам и вообще в разные дома.
Была там в Мэскоджи одна чирокезская девушка, по которой Большой Джек сходил с ума. Он несколько раз водил меня к ней в гости. Ее звали Флоренса Голубое Перо; только не думайте, что это какое-нибудь черномазое чучело с кольцом в носу. Эта юная леди была белее вас, а по образованию — так куда мне до нее. Вы бы ее не отличили от барышень, которые ходят за покупками по шикарным магазинам на Третьей авеню. Мне она так понравилась, что я нет-нет и опять заходил к ней, один, без Большого Джека: в таких делах между приятелями это принято. Она воспитывалась в колледже в Мэскоджи и была по специальности… постойте, как это… эт… да, этнологом. Это такая наука, которая возвращается назад и следит за тем, как произошли разные человеческие расы, которые ведут начало от заливного из рыбы и через обезьяну восходят к О'Бриэнам. Большой Джек избрал себе такую же специальность и читал об этом доклады в разных потешных обществах: у каких-то там Чотоквасов да Чоктов, да всяких там. Я думаю, что они потому и понравились друг другу, что оба любили копаться во всякой плесени. А впрочем, кто их знает. Они-то называют это общностью интересов, а только это не всегда так. Вот, например, когда мы разговаривали с мисс Голубое Перо, так я ничего не понимал и с почтением слушал ее разглагольствования про то, что первые семьи обетованной земли приходились двоюродными братьями нашим предкам, которые строили укрепления на реке Огио. А когда я рассказывал ей про Бауэри и про Остров Конэй, или пел ей какие-нибудь негритянские песенки — я слышал, как негры на Ямайке пели их во время богослужений, — так это ее куда больше забавляло, чем всякие размышления Большого Джека о том, что коренные обитатели Америки впервые явились сюда и поселились в свайных постройках после разлива Тэнафли, в Нью-Джерси…
Я, бишь, хотел рассказать вам про Большого Джека.
Месяцев шесть спустя получаю от него письмо, в котором он пишет, что получил назначение от Несовершеннолетнего Вашингтонского Отдела Этнологических Изысканий отправиться в Мексику, с тем чтобы произвести там не то перевод каких-то раскопок, не то раскопки стенографических записей на каких-то развалинах, словом, что-то в этом роде. И если я отправлюсь вместе с ним, так он может втиснуть мои расходы в смету.
А я в то время долгонько застоялся у Чэббса с салфеткой под мышкой, ну и телеграфировал Большому Джеку «да»; он выслал мне билет, мы встретились с ним в Вашингтоне; у него для меня был целый короб новостей. Во-первых, то, что Голубое Перо вдруг исчезла из дома и совсем пропала с глаз.
— Сбежала? — спрашиваю.
— Исчезла, — отвечает Большой Джек. — Исчезла, как исчезает твоя тень, когда солнце зайдет за тучу. Ее видели на улице, а потом она завернула за угол, и никто ее больше не видал. Вся наша коммуна поднялась на поиски, но не удалось найти ни малейших следов.
— Плохо дело, плохо дело, — говорю. — Этакая, ведь, была славная девица, и всегда такая нарядная.
Большой Джек, по-видимому, принял это близко к сердцу. Он, должно быть, уж больно уважал мисс Голубое Перо. Я приметил, что он повадился обсуждать это дело вдвоем с кувшином виски. Это у него было слабое местечко, да и не только у него, а у многих мужчин. Я замечал, что когда девушка бросает мужчину, так он непременно ударится в пьянство, — либо до того, либо после того.
Из Вашингтона мы отправились по железной дороге в Новый Орлеан, а там сели на пароход, отправлявшийся в Белизу. Нас погнало приливом вниз по Каррибею и чуть не выбросило на берег в Юкатане, напротив маленького бесприютного городка под названием Бока-де-Кокойла. Подумать только, что если бы судно наскочило в темноте на этакое названьице!
— Лучше прожить пятьдесят лет в Европе, чем один раз просидеть циклон в бухте, — говорит Большой Джек Змеекорм.
Ну, как только мы заметили, что шквал перестал шквалить, так мы сейчас же попросили капитана переправить нас на берег.
— Одно из двух: или мы найдем тут одни щепки, когда вернемся, или сами превратимся в щепки, — говорит Большой Джек — То ли, другое ли, правительству все едино: послали человека, и ладно.
Бока-де-Кокойла — мертвый городишка. Тайред и Сайфон, про которые мы читали в Библии, после своего разрушения и то, наверно, выглядели как Сорок вторая улица или Бродвей, по сравнению с этой самой Бокой. Тут все еще было тысяча триста жителей, как это значилось по переписи 1597 года и как было выгравировано на стене каменного дома, где помещались присутственные места. Городские жители представляли собою смесь одних индейцев с другими; только некоторые из них были светлого цвета, чему я очень удивился. Город весь взгромоздился на берегу, а кругом него такой густой лес, что никакой судейский крючок не достал бы до обезьяны своими бумажками, — будь он всего в десяти ярдах. Мы удивлялись, почему этот город не соединили с Канзасом, но вскоре оказалось, что это все майор Бинг.
Майор Бинг — как сыр в масле катался. Он захватил в свои руки все концессии на кошениль, сарсапарель, кампешевое дерево и на все деревья, из которых делают краски, и даже концессии на продукты питания. Пять шестых текстильщиков из Бока и из Тингамы работали на него на паях. Это было ловко устроено. Когда приходилось бывать в провинциях, так мы, бывало, могли хоть похвастаться Морганом или кем другим, а теперь — куда там. Из-за этого полуострова весь край наш превратился в подводную лодку — и даже перископа не видать снаружи.
Майор Бинг распоряжался таким образом: он все народонаселение отправлял в лес собирать материал для производства. Принесут они ему, бывало, а он дает им пятую часть за труд. Другой раз они забастуют и просят у него шестую часть. Ну, тут майор всегда, бывало, уступал им.
У майора был бунгало так близко к морю, что когда прилив подымался на девять дюймов, так вода просачивалась через щели в кухонном полу. Мы с ним да с Большим Джеком Змеекормом с утра до ночи просиживали на крыльце и распивали ром. Он говорил, что прикопил триста тысяч долларов в банках в Новом Орлеане и что мы с Большим Джеком, если угодно, можем оставаться у него навсегда. Как-то раз Большой Джек вспомнил про Соединенные Штаты и пустился толковать про этнологию.
— Развалины, — говорит майор Бинг. — Да в лесу полно развалин. Не знаю, к какому времени они относятся, а только они тут были до меня.
Большой Джек спрашивает, какого культа придерживаются здешние туземцы.
Майор потер себе нос и говорит:
— Право, не могу сказать. Вероятно, они язычники, или ацтеки, или нонконформисты, или что-нибудь в этом роде. Тут есть и церковь — методистская, что ли, или какая другая, и священник; его зовут Скиддер. Он хвастает, что обратил народ в христианство. Мы с ним не ассимилируемся иначе, как по общественным делам. Я думаю, они и до сих пор еще поклоняются каким-нибудь богам или идолам. А Скиддер говорит, что они у него все в руках.
Через пять дней мы с Большим Джеком пошли продираться через лес и проложили прямую дорожку на добрых четыре мили. Потом видим — налево другая дорожка. Мы идем по ней милю, может быть, — и вдруг натыкаемся на красивейшие развалины из крепкого камня, а против них, на них и сквозь них растут деревья, виноград и кустарники. На них со всех сторон были вырезаны на камне какие-то забавные животные и люди, которых бы у нас здесь арестовали, если бы они в таком виде появились на сцене. Мы подошли к ним издалека.
Большой Джек, с тех пор как мы высадились в Боке, слишком много пил рому. Знаете, как пьют индейцы. Когда бледнолицые познакомили индейца с огненным напитком — у того даже часы сами собой остановились. Так вот, Джек привез с собой целую кварту.
— Хэнки, — говорит он, — мы исследуем древний храм. Может, это судьба, что буря заставила нас высадиться здесь. Несовершеннолетнему Отделу Этнологических Изысканий еще удастся воспользоваться превратностями ветра и прилива.
Мы вошли в заднюю дверь строения и наткнулись на что-то вроде алькова, только без ванны. Там стоял каменный умывальник, без мыла, без стока для воды; в отверстия в стене было вбито несколько гвоздей из твердого дерева, вот и все. Если б мы после этого богато обставленного помещения попали в меблированную комнату в Гарлеме, так нам бы показалось, что мы наслушались в концерте любителя-виолончелиста и вернулись в собственный дом на Восточной стороне.
Пока Большой Джек рассматривал какие-то иероглифы на стене (посмотреть на них, так можно подумать, что каменщики нетвердо на ногах стояли, когда их делали), я вошел в первую комнату. Размером она была, по крайней мере, тридцать на пятьдесят футов; каменный пол, шесть окошечек, точно четырехугольные замочные скважины, свету от них не было много.
Я оглянулся назад и вижу: фута на три от меня — Джек.
— Большой Джек, — говорю, — из всех…
А потом вижу, он что-то не в себе; я обошел вокруг него.
Он снял с себя одежду до пояса и как будто не слыхал меня. Я дотронулся до него и точно обо что-то ударился. Большой Джек превратился в камень. Я, должно быть, подвыпил.
— Окостенел! — громко крикнул я ему. — Я знал, что так и будет, если ты не бросишь пить.
А тут вдруг из спальни выходит Большой Джек, — он слышал, как я разговаривал с пустотой, — и мы вместе принялись разглядывать мистера Змеекорма № 2. Это был не то каменный истукан, не то бог, не то пересмотренный статут, или что-то в этаком роде, и он был так похож на Большого Джека, как зеленая горошина сама на себя. У него было точь в точь такое же лицо, такой же рост и цвет, только чуточку потверже. Он стоял на какой-то подставке или на пьедестале, и сразу видно, что он простоял там десять миллионов лет.
— Это мой двоюродный брат, — пропел Большой Джек, а потом вдруг сделался такой торжественный.
— Хэнки, — говорит, а сам одну руку положил мне на плечо, а другую на плечо статуи, — мы в священном храме моих предков.
— А что, брат, если наружность чего-нибудь стоит, так мы с тобой наткнулись на твоего двойника. Ну-ка, стань рядом с истуканом, посмотрим, какая между вами разница?
Никакой! Знаете, ведь индеец может, когда надо, сделать такое неподвижное лицо, как у чугунной собаки; и когда Большой Джек застыл, как каменный, так его было не отличить от этого другого.
— Тут какие-то буквы, — говорю, — на пьедестале, только я их не разберу. У этого народа весь алфавит состоит из а, е, и, о, у; больше всего там слышатся з, л, и, т.
У Большого Джэка на минуту этнология взяла перевес над ромом, и он принялся исследовать надпись.
— Хэнки, — говорит, — это статуя Тлотопаксла, одного из могущественнейших богов древних ацтеков.
— Рад с ним познакомиться, — говорю, — а только при настоящих обстоятельствах мне он напоминает одну шуточку, которую Шекспир отпустил по адресу Юлия Цезаря. Мы бы могли сказать про твоего приятеля: «Державный Как-Бишь-Вас, вы в камень обращены. Вотще теперь писать вам, звать вас к телефону».
— Хэнки, — говорит Большой Джек Змеекорм, а сам смотрит на меня как-то чудно, — ты веришь в перевоплощение?
— Для меня это такая же мудреная штука, как чистота на городских бойнях или новый сорт бостонских румян. Я не знаю.
— Я верю в то, что я — перевоплотившийся Тлотопаксль. Мои исследования привели меня к убеждению, что из всех северо-американских племен одни чирокезы могут похвалиться тем, что они происходят по прямой линии от гордого рода ацтеков. Это, — говорит, — была наша любимая теория, моя и Флоренсы Голубое Перо. А она… а что, если она…
Большой Джек сгреб меня за руку и выпучил на меня глаза. В ту минуту он был больше похож на своего соотечественника-индейца, убийцу, по прозванию Бешеный Конь.
— Ну, — говорю, — что, если она, что, если она, что, если она! Ты, — говорю, — пьян. Истукана принимаешь за живого человека и веришь в какое-то там, — как, бишь, его — перетолпощение. Давай-ка выпьем. Тут жутковато, точно в Бруклине, на фабрике искусственных конечностей, в полночь, когда газ спущен.
Тут я слышу, что кто-то идет; я втолкнул Большого Джека в опочивальню без кровати. Там в стене были просверлены дырочки, так что нам была видна вся передняя часть храма. После майор Бинг рассказывал мне, что древние жрецы при исполнении своих обязанностей приглядывали оттуда за молящимися.
Через несколько минут в храм вошла старая индианка с большим овальным глиняным блюдом, полным съестного. Она поставила его на четырехугольную каменную плиту перед кумиром, а сама упала перед ним на колени и несколько раз ударилась головой о землю, а потом пошла прочь.
Мы с Большим Джеком проголодались; мы вышли и посмотрели, что там такое. Тут была козлятина, рисовый каравай, индейские смоквы, маниоковый хлеб, печенные на солнце крабы и манго — все такие вещи, которых вы не получите у Чэббса.
Мы поели за милую душу — и выпили еще по чарочке рому.
— Сегодня, — говорю, — верно, день рождения старого Тэкумсэха, или как, бишь, ты его зовешь. А то, может, они его каждый день кормят. Я думал, что боги только пьют ванильный напиток на горе Катавампус.
Потом, пунктиром этаким на горизонте, — показались еще партии туземцев в коротких кимоно, которые выявляли их принадлежность к местным жителям, и нам с Большим Джеком опять пришлось притаиться в секретном будуаре отца Акслетрея. Они шли поодиночке, попарно, по трое, и каждый оставлял какое-нибудь приношение; тут хватило бы съестного для всех богов войны, да еще порядком осталось бы и на долю Гаагской мирной Конференции. Они несли кувшины с медом, связки бананов, бутылки вина, целые охапки черепах и прекрасные шарфы ценою долларов по сто за штуку, которые индейские женщины ткут из каких-то растительных волокон, вроде шелка. Все они падали ниц, корчились на полу перед этим бесчувственным идолом и опять скрывались в лесу.
— Интересно, кому достанется вся эта добыча? — заметил Большой Джек.
— Верно, — говорю, — тут есть и жрецы, или какие-нибудь депутаты от богов, или, может, где-нибудь поблизости работает распределительный комитет. Где есть бог, там вы всегда найдете охотников позаботиться о принесенных жертвах.
Тут мы еще пропустили по чарочке рома и вышли из гостиной на воздух, освежиться, так как там внутри была такая жара, точно в летних лагерях.
Пока мы стояли там на ветру и смотрели на тропинку, мы увидали молодую леди, которая шла по направлению к развалинам. Она была босиком, в белом платье и несла в руке пучок белых цветов. Когда она подошла ближе, мы увидали, что в ее черных волосах было воткнуто голубое перо. А когда она подошла еще ближе, то мы с Большим Джеком Змеекормом схватились друг за дружку, чтобы не попадать на землю; лицо у девушки было так же похоже на лицо Флоренсы Голубое Перо, как его собственное было похоже на короля Токсиколога.
Тут уж у Большого Джека хмель затопил все системы этнологии. Он втолкнул меня в храм, где была статуя, и говорит:
— Хватай ее, Хэнки. Мы перетащим ее в другую комнату. Я все время это чувствовал; я перетолпощенный бог Локомотор-атаксия, и Флоренса Голубое Перо была моей невестой тысячу лет тому назад. Она пришла за мною в этот храм, где я когда-то царствовал.
— Отлично, — говорю. — С ромом ведь не поспоришь. Бери его за ноги.
Мы подняли трехсотфунтового каменного истукана, перетащили его в заднюю комнату кафе, то, бишь, храма, и прислонили его к стене. Эта работа была потруднее, чем вытолкнуть троих живых на перекресток Бродвея в канун Нового года.
Потом Большой Джек выбежал оттуда, притащил две индейских шелковых шали и начал раздеваться.
— Вот так фунт! — сказал я. — До чего дошло. Крепкие напитки, оказывается, кой-что прибавляют, а кой-что убавляют — так сказать, и сложение и вычитание зараз. Тебя жара, что ли, разбирает или это в тебе заговорила твоя дикарская кровь?
Но Большой Джек был слишком возбужден и пьян, чтобы отвечать. Он покончил с раздеванием, когда по мангаттанским правилам было уж дальше некуда, а потом намотал на себя белые с красным шали и стал на постамент неподвижно, точно какой металлический божок. А я стал поглядывать в дырочку, что будет.
Через некоторое время входит девушка с пучком цветов в руке. Может быть, я уж совсем одурел, когда она подошла, но она была так похожа на Флоренсу Голубое Перо! «Уж не перепревратилась ли она тоже?» — думаю я про себя. Как бы мне увидеть, есть ли у нее родинка на левой… И в ту же минуту я подумал, что волосы у нее на одну восьмую тона темнее, чем у Флоренсы; а только хороша она была и так. Большой Джек, видно, не один выпил весь ром, который был выпит.
Девушка подошла футов на десять к истукану, встала на колени и повозила носом по полу, как все остальные. Потом она подошла ближе и положила пучок цветов на каменную плиту у ног Большого Джека. Хоть я и нализался рому, а подумал, что с ее стороны очень любезно было принести в жертву цветы, а не хозяйственные вещи и не кухонные припасы. Сам каменный бог, стоя на вершине горы из бакалейных товаров, которую они нагромоздили перед ним, должен был бы оценить это простое чувство.
Тут Большой Джек спокойно сходит с пьедестала и произносит несколько слов, вроде тех иероглифов, что вырезаны на стенах развалин. Девушка отскочила назад, глаза у нее широко раскрылись и стали точно каштаны, а только ее это не обескуражило.
А почему, спрашивается? Я скажу вам почему. Девушке не может показаться сверхъестественным, невероятным, странным и поразительным, чтобы ради нее ожил каменный идол. Если бы он сделал это для одной из курносых черных девиц, которые живут по другую сторону леса, тогда другое дело, а ради нее! Пари держу, что она подумала про себя: «Господи ты боже мой. Ну и долго же ты собирался! Я еще, пожалуй, не стану с тобой и разговаривать».
Но вместо этого они с Большим Джеком взялись за руки и пошли прочь из храма… Не успел я еще пропустить чарочку и выйти на сцену, как они ушли на двести ярдов, все по той дорожке, откуда пришла девушка. С этой природной декорацией, смотришь на них, точно в театре: она глядит на него снизу вверх, а он посматривает на нее ласково так, конечно, насколько индеец может глядеть ласково. Да мне-то не было никакой выгоды от этого пересовмещения.
— Эй! Стой! — заорал я Большому Джеку. — Мы должны в городе за простой, а ты не оставил мне ни цента! Брось-ка ты свою неаполитанскую рыбачку, да пойдем назад домой.
Но эта пара ни разу даже не обернулась и шла все дальше и дальше, пока, как говорится, лес не поглотил их. С того часа до сегодня я никогда не видал Большого Джека Змеекорма, даже не слыхал о нем. Не знаю, происходят ли чирокезы от аспиков, а только если происходят, то один из них вернулся обратно.
Все, что я мог сделать, это бежать скорей в Боку и пообчистить майора Бинга. Он оторвался от своих выигрышей для того, чтобы купить мне билет домой. И вот я опять попал на службу к Чэббсу, теперь уж буду сидеть крепко. Пойдемте, увидите, что у нас бифштексы не хуже, чем прежде.
Я недоумевал, что Хэнки Мэджи хотел показать своим рассказом, и спросил, есть ли у него какие-нибудь теории насчет перевоплощения, пресуществления и подобных этому тайн, которых он коснулся.
— Никаких, — сказал Хэнки уверенно. — Большой Джек был болен пьянством и образованием. От них индеец живо скапутится.
— А как же мисс Голубое Перо! — настаивал я.
— Подумайте, ведь эта леди, что похитила Большого Джека, отвела мне глаза, когда я в первый раз взглянул на нее, но только на минуту. А помните, я говорил вам, что Большой Джек сказал, будто мисс Флоренса Голубое Перо исчезла из дому около года тому назад? Ну так вот, четыре дня спустя она высадилась в чистенькой квартирке в пять комнат на Восточной Двадцать третьей улице, и с тех самых пор она сделалась миссис Мэджи.
Момент победы
Перевод Зин. Львовского.
Бен Грэнжер, двадцати девяти лет от роду, уже ветеран войны. Теперь нетрудно разгадать, какой именно войны. В то же время он — начальник почты и самый крупный торговец в Кадиксе, — это маленький городок, над которым постоянно веют ветерки с Мексиканского залива.
Бен помогал сбросить испанских донов с их насиженных мест на Больших Антильских островах, а затем, перешагнув через полсвета, он в роли не то капрала, не то воспитателя стал маршировать взад и вперед по раскаленным тропическим залам колледжа на открытом воздухе, в котором были вышколены Филиппины. Теперь же, переменив шашку на лавочный нож, он собирает команду своих старых товарищей в тени веранды перед своим домом, а не в непроходимых джунглях Минданао. Он всегда больше стоял за дело, чем за слова. Однако этот рассказ, который принадлежит ему, покажет нам, что ему были доступны и размышления о причинах, а также и анализ их.
— Какая причина, — сказал он мне как-то раз в лунный вечер, когда мы сидели вместе среди ящиков и бочек, — какая причина обычно заставляет людей идти на опасность, беспокойства, голод, битвы и тому подобные неприятности? Почему человек поступает так? Зачем он старается заткнуть за пояс своего ближнего, оказаться храбрее, сильнее, решительнее и отличиться больше, чем даже его лучший друг? В чем заключается его игра? Что он надеется извлечь из этого? Ясно, что он не делает это просто из любви к искусству или для того, чтобы подышать свежим воздухом. Вот, Билл, скажи мне: каково твое мнение относительно того, на что вообще рассчитывает обыкновенный человек в награду за свои старания в достижении честолюбивых планов и необычайные усилия в области торговых дел, законодательства, науки, войны, всякого спорта и театра во всех цивилизованных и варварских странах света?
— По правде сказать, Бен, — ответил я вдумчиво и серьезно, — я полагаю, что мы можем ограничить число мотивов у человека, ищущего славы, тремя: честолюбием, которое зиждится на жажде общественной похвалы; жадностью, которая интересуется материальной стороной успеха; и любовью к женщине, которую он уже или имеет, или желает получить.
Бен обдумывал мои слова в то время, как дрозд, сидящий на верхушке дерева около крыльца, прощебетал с дюжину трелей.
— Я полагаю, — сказал он, — что твое заключение исчерпывает вопрос в том случае, если следовать правилам прописной истины и исторических книжек. Но я имею в виду случай с моим приятелем Вилли Роббинсом. Если ты ничего не имеешь против, я расскажу тебе о нем до закрытия магазина.
Вилли принадлежал к нашей компании в Сан-Августино. Я служил в конторе у Бреди и Мургисона, оптовых торговцев сухой провизией и принадлежностями для сельского хозяйства. Мы с Вилли были членами одного и того же немецкого клуба, атлетического общества и военного собрания. Он был третьим участником нашей веселой компании из четырех, которая проводила вечера раза три в неделю где-нибудь в городе.
Вилли, в значительной степени, соответствовал своему имени[7]. Он весил около ста фунтов вместе со своим летним платьем, и у него всегда было такое вопросительное выражение лица, что казалось, вот-вот он обрастет пухом и перьями.
И вместе с тем молодых девушек нельзя было отгородить от него даже колючей проволокой. Всем известен этот сорт молодых людей — эта особая помесь безумца и ангела! Они кидаются стремглав и в то же время боятся ступить; но если им представляется случай ступить куда-нибудь по-настоящему, они никогда его не упустят. Он всегда оказывался тут как тут, когда наклевывалось какое-нибудь развлечение или «великое событие», как выражаются утренние газеты; в одно и то же время он казался счастливым, как король, и чувствовал себя не в своей тарелке, как сырая устрица, поданная со сладкими пикулями. Он всегда танцевал с таким видом, как будто у него связаны ноги. Лексикон его состоял приблизительно из трехсот пятидесяти слов, которых ему хватало на четырех немцев в неделю; из этого же запаса он черпал материал для разговоров во время двух званых ужинов и одного воскресного вечернего визита. Он казался мне какой-то помесью мальтийского котенка, растения «не-тронь-меня» и члена захудалого общества «Две сиротки».
Я дам тебе некоторое представление о его характере и внешнем виде, а затем приступлю к своему рассказу.
Вилли был арийцем по своей окраске и по манере держать себя. Его волосы имели молочный оттенок, а разговор был бессвязен донельзя. Глаза у него были голубые и того же оттенка, что и у фарфоровой собаки, стоящей на правой стороне камина у твоей тетки Эллен. Он очень просто относился к жизни, и я никогда не чувствовал к нему никакой неприязни.
Однажды он вздумал по уши влюбиться в Миру Аллисон, самую бойкую, веселую, остроумную, изящную и хорошенькую девушку в Сан-Августино. Я должен сказать тебе, что у нее были самые черные глаза, и самые блестящие кудри, и самая умопомрачительная… О нет, ты не попал в точку, — я не был ее жертвой. Я мог бы стать ею, но знал, что это бесцельно. Я остерегся и отступил вовремя. С самого начала победителем был Джое Гранберри. Он сразу отогнал всех остальных на пару миль.
Однажды вечером у жены полковника Спраггинса в Сан-Августино состоялась вечеринка. Для нас, кавалеров, была отведена комната наверху, где мы могли складывать шляпы и разные мелочи, также приглаживать волосы и надевать чистые воротнички, которые мы приносили с собой вложенными под подкладку шляпы. Словом, это была такая комната, которая имеется всюду, где заботятся о «светском тоне». Немного дальше по коридору находилась комната для других дел. Внизу же, в гостиной, где происходили танцы, расположились мы, то есть члены Сан-Августинского Общественного Клуба Танцоров и Весельчаков.
Вилли Роббинс и я случайно оказались в нашей гардеробной (кажется, так мы называли ее), когда Мира Аллиссон пробежала по коридору, направляясь из дамской уборной вниз. Вилли стоял перед зеркалом, поглощенный приглаживанием своей светлой шевелюры, которая, по всей видимости, причиняла ему массу хлопот. Мира всегда была полна жизни и проказ. Она остановилась и просунула голову в нашу дверь. Безусловно, она была очаровательна. Но я знал, каковы ее отношения к Джое Гранберри; знал это и Вилли; но он продолжал, как барашек за маткой, следовать за ней повсюду. У него была особая система упорства, противоречащая его светлым волосам и выцветшим глазам.
— Послушайте, Вилли! — сказала Мира. — Что вы там делаете перед зеркалом?
— Я стараюсь принять бравый вид! — ответил Вилли.
— Но вы никогда не сможете принять бравый вид! — возразила Мира с особым смехом, который показался мне самым раздражающим звуком, когда-либо мною слышанным, за исключением разве лязганья пустой кружки об мое седло.
Я взглянул на Вилли после того, как Мира ушла. У него было самое несчастное выражение лица; получилось впечатление, как будто ее замечание, если так можно выразиться, растерзало его душу. Я не заметил в ее словах ничего особенно оскорбительного для мужского самолюбия, но трудно себе представить, как был удручен мой приятель.
После того как мы, переменив воротнички, спустились вниз, Вилли ни разу не подошел к Мире. В конце концов он оказался слабохарактерным парнем, простоквашей, и я нисколько не удивился, что победа осталась за Джое Гранберри.
На следующий день было взорвано военное судно «Мэн», и очень скоро вслед за тем кто-то — не то Джо Бейли, не то Бен Тиллжан, а быть может, и само правительство — объявил Испании войну.
Все, находящиеся к югу от линии «Мэзон и Гамлин», знали, что Север сам по себе не может поколотить целую страну величиной с Испанию.
Поэтому северные янки начали взывать о помощи, а мы ответили на призыв: «Мы идем, отец Уильям! Нас сто тысяч человек, а быть может, и больше!» Так гласила наша песенка. Старые партийные разногласия, вызванные походом Шермана, и Ку-Клукс-Кланом, и девятицентовым хлопком, и трамваями Джима Кроу, исчезли сразу и бесследно. Мы превратились в единое государство, без Севера, с очень маленьким Востоком, с порядочным куском Запада и с Югом, который возвышался громадный, как первый иностранный отдельный ярлык на новеньком восьмидолларовом чемодане.
Конечно, собачья военная свора не была бы полной без лая ружей Сан-Августинской роты Д, принадлежавшей к Четырнадцатому Техасскому полку. Наш отряд, один из первых, высадился на Кубе и вселил страх в сердца неприятеля. Я не буду рассказывать тебе историю войны; я привожу эти факты только затем, чтобы сделать более понятным рассказ о Вилли Роббинсе; точно так же в свое время республиканская партия воспользовалась этим фактом для выборной агитации в 1898 году.
Если у кого-либо и когда-либо была «геройская» лихорадка, то это у Вилли Роббинса. С того момента, как он ступил ногой на землю кастильских тиранов, казалось, что он так же глотает опасность, как кот лакает сливки. Он привел в изумление всех участников нашего отряда, начиная с самого капитана. Можно было ожидать, что его будет соблазнять место ординарца при полковнике или же переписчика на пишущей машинке в канцелярии, — но ничуть не бывало! Он создал роль золотоволосого героя, который возвращается домой с победными лаврами, вместо того чтобы умереть у ног своего полковника, держа в руках важное донесение.
Наш отряд попал на тот участок Кубы, где происходила самая запутанная и наименее интересная часть похода. Каждый день мы рыскали вокруг в кустарниках и иногда схватывались с испанскими войсками, которые походили больше на добродушных мучеников, чем на что-нибудь другое. Война была забавной для нас, но для них не представляла никакого интереса. Нам всегда казалось, что это — до слез смешная комедия-фарс, и мало кто из нас искренне верил в то, что Сан-Августинский отряд в действительности сражается во имя поддержки Соединенных Штатов. А негодные маленькие сеньоры не получали достаточного жалованья, и им было совершенно безразлично: быть ли патриотами или изменниками. Иногда случалось, что кого-нибудь убивали. Это казалось мне напрасной тратой человеческой жизни. Как-то раз, когда я был в Нью-Йорке, мне пришлось побывать на Кони-Айленде и видеть, как опускающееся с холма приспособление, называемое «роллер-костер», сорвалось со своего блока и убило человека в коричневом костюме. Каждый раз, когда испанцы убивали кого-нибудь из наших, мне это казалось таким же прискорбным и ненужным фактом, как случай на Кони-Айленде.
Однако я совсем позабыл про Вилли Роббинса.
Он стремился к кровопролитиям, лаврам, отличиям, медалям, похвалам и всяким другим формам военной славы. Не было признаков, по которым мы могли бы судить, что он боится каких бы то ни было проявлений военных опасностей, кроме испанцев, пушечных ядер, консервов, пороха или непотизма. Бледноволосый, с глазами как голубой фарфор, он выступал и уничтожал испанцев так же, как ты бы стал уничтожать бутерброды с сардинками. Война и рассказы о войне его никогда не волновали. Он переносил с одинаковым хладнокровием стояние на карауле, москитов, военные сухари, голодовки и обстрелы. Я думаю, что, за исключением валета бубен и русской императрицы Екатерины, ни один блондин в истории не мог хоть сколько-нибудь с ним сравняться.
И вспоминаю, как однажды, когда мы сидели за обедом, маленький отряд испанцев появился у нас с тыла, обошел заросли сахарного тростника и застрелил Боба Тернера, фельдфебеля нашей роты. Следуя военным правилам, мы продолжали обычные приемы, стали во фронт, салютовали неприятелю, зарядили ружья и, став на колени, начали стрелять.
Это не был, конечно, техасский образ действий, но, будучи очень важным прибавлением и частью регулярной армии, Сан-Августинская рота должна была следовать всем регламентированным правилам военного искусства.
К тому времени, как мы вынули «тактику Эптопа», дошли до страницы пятьдесят седьмой, сказали «раз-два-три, раз-два-три», пару раз постреляли холостыми зарядами, испанские солдаты, вдоволь насмеявшись и накурившись, презрительно отступили назад.
Я направился прямо к капитану Флойду и сказал ему следующее:
— Я не думаю, Сэм, что эта война ведется честным образом. Вы знаете так же, как и я, что Боб Тернер был одним из лучших молодцов, которые когда-либо перекидывали ногу через седло, а теперь я нахожу, что в его смерти повинны эти начальники, которые отдают приказания по телеграфу из Вашингтона. Это неправильно. Зачем они действуют таким образом? Если они хотят, чтобы испанцы были побиты, почему они не пошлют против них Сан-Августинскую роту, отряд Джо Сили и кучку шерифов из Западного Техаса? Мы живо стерли бы их с лица земли. Мне никогда не импонировало, — сказал я, — ведение боя по правилам лорда Честерфилда. Я подам заявление о моей отставке и отправлюсь домой, если только еще кто-нибудь, с кем я лично знаком, пострадает снова в этой войне. Если вы можете заменить меня кем-нибудь, Сэм, — продолжал я, — я уеду в начале будущей недели. Я не желаю служить в армии, которая не обеспечивает ни одного шанса победы своим солдатам. А что касается моего жалованья, — сказал я, — то пусть казначей его себе оставит.
— Ладно, Бен, — ответил мне капитан, — ваше мнение на этот счет и оценка военной тактики, действий правительства, патриотизма и демократизма, может быть, и правильны, но я изучил систему международных отношений и этику законных избиений немного глубже вашего. Это тоже может быть. Вы можете подать мне заявление об отставке в начале будущей недели, если вам угодно. Но если вы так поступите, — сказал Сэм, — я прикажу капралу отвести вас к одному известняковому утесу у залива и всадить в вас свинец в таком количестве, которого вполне хватило бы для балласта подводного дирижабля. Я — капитан роты и в свое время присягнул в верности Соединенным Штатам, не принимая во внимание секционных, конгрессных и прочих разногласий. Нет ли у вас табаку? — закончил свою речь Сэм. — Мой промок в то время, как я утром плавал в заливе.
Причина, почему я привожу весь этот разговор non ех parte, та, что Вилли Роббинс стоял рядом с нами и слушал. Я был вторым сержантом, а он простым рядовым, но у нас никогда не было такой дисциплины и субординации, как в регулярной армии. Мы никогда не называли нашего капитана иначе, как «Сэмом», — за исключением тех случаев, когда вокруг толпилось множество генерал-майоров и адмиралов, для которых надо было поддерживать дисциплину.
Вилли Роббинс заговорил со мной резким голосом, совсем не подходившим к его светлым волосам и прежней характеристике.
— Тебя следовало бы расстрелять, Бен, за выражение подобных чувств. Человек, не желающий сражаться за свою родину, хуже, чем конокрад. Будь я капитаном, я посадил бы тебя на гауптвахту на тридцать дней на хлеб и на воду. Война, — сказал Вилли, — есть великая и замечательная вещь. Я не знал, что ты трус.
— Я не трус, — ответил я, — иначе я бы снял немного бледности с твоего мраморного лба. Я снисходителен к тебе, — сказал я, — так же точно, как и к испанцам, потому что ты всегда напоминал мне гриб, который в простонародье именуется поганкой. Ах ты, маленькая леди Шалотт, недопеченный дирижер котильонов, желторотый, недоношенный молокосос. Знаешь ли ты, о ком говоришь? Мы принадлежали с тобой к одной компании, — продолжал я, — и я ладил с тобой до сих пор только потому, что ты всегда казался таким тихим и непритязательным человеком. Я никак не пойму, с какой стати ты вдруг так преисполнился страсти к героизму и убийствам? В тебе произошел полнейший переворот. В чем дело?
— Ты никогда не поймешь меня, Бен, — ответил Вилли, улыбнувшись своей тонкой улыбкой, и повернулся с тем, чтобы уйти.
Но я схватил его за фалды мундира цвета хаки.
— Поворачивай назад, — сказал я, — ты меня вывел из себя, хотя я до сих пор считал, что не стоит обращать на тебя внимания. Ты хочешь отличиться в этом предприятии, и я полагаю, что мне известна причина твоего поведения. Ты так поступаешь или потому, что спятил с ума, или надеешься таким способом завоевать себе сердце одной девушки. В случае, если тут замешана девушка, я могу тебе кое-что показать.
Я бы так не поступил, если бы не был доведен буквально до белого каления. Я вытащил из кармана брюк номер сан-августинской газеты и показал ему один столбец. Это было описание свадьбы Миры Аллисон и Джое Гранберри.
Вилли засмеялся, и я увидел, что это его ничуть не задело.
— Все знали, — сказал он, — что это должно случиться. Я об этом слышал неделю тому назад. — И он снова засмеялся.
— В таком случае, — возразил я, — зачем гоняться сломя голову за славой? Не рассчитываешь ли ты, что тебя изберут в президенты? Или, быть может, ты принадлежишь к Клубу Самоубийц?
Тут капитан Сэм вмешался в наш разговор.
— Господа, перестаньте чесать языки и возвращайтесь восвояси! — сказал он. — Или мне придется препроводить вас обоих на гауптвахту. Проваливайте оба. Перед тем, как уйдете, сообщите мне, у кого из вас найдется немного жевательного табаку?
— Мы уходим, Сэм, — ответил я, — к тому же, теперь пора ужинать. Но что вы сами думаете относительно того, о чем мы говорили? Я заметил, что и вы немало гоняетесь за славой. Что такое честолюбие? Зачем человек ежедневно рискует своей жизнью? Разве вы уверены в том, что в конечном итоге он может получить нечто, искупающее все его старания? Я лично хочу вернуться домой. Мне безразлично, будет ли Куба плавать или пойдет ко дну, и я не дам щепотки табаку за то, будет ли править этими благословенными островами королева София-Христина или Чарли Кульберсон. Я желаю видеть свое имя исключительно в списке оставшихся в живых, и никаких других списков мне не нужно. Но я заметил, что вы, Сэм, множество раз бежали за колесницей изменчивой славы. Ну, скажите: зачем она вам нужна? Для чего вы геройствуете? Ради честолюбия, коммерции или какой-нибудь веснушчатой Фебы, ожидающей вас дома?
— Видите ли, Бен, — ответил Сэм с таким видом, будто он вытаскивал меч, находившийся между его колен, — как старший офицер, я мог бы вас предать военному суду за трусость и попытку к дезертирству. Но я так не поступлю. Я скажу вам, зачем я добиваюсь повышений и других военных отличий. Майор получает больше жалованья, чем капитан, а мне нужны деньги.
— Вот это правильно! — сказал я. — Вот это я понимаю. Ваши поиски славы основаны на самом глубоком патриотизме. Но вот чего я не могу понять, — продолжал я, — почему это Вилли Роббинс, родители которого люди со средствами и который был до сих пор такой тихоня и так же не желал обращать на себя внимания, как кошка, у которой на усах еще не обсохли сливки, — почему он вдруг обратился в храброго вояку с самыми боевыми наклонностями? Ведь в этом случае исключается девушка, так как она вышла замуж за другого. Я полагаю, — сказал я, — что это случай явного честолюбия. Возможно, он хочет, чтобы его имя, покрытое славой, перешло в потомство. Вот, должно быть, единственная причина!
Не перечисляя подробно его подвигов, можно констатировать, что Вилли, безусловно, удалась роль героя. Он проводил большую часть своего времени на коленях, умоляя нашего капитана посылать его в атаку и в самые опасные разведочные экспедиции. В каждом бою он шел всегда впереди всех и страшно полюбил драться с Донами Альфонсами врукопашную. Три или четыре пули попали в различные части его тела. Однажды он отправился на разведку с отрядом в восемь человек и взял в плен целую роту испанцев. Капитан Флойд был по горло занят посылкой донесений в главный штаб с описанием его храбрых поступков, вследствие чего Вилли начал набирать медали за разные разности, — за героизм, за стрельбу в цель, за доблестные поступки и за исполнительность, — словом, за все те маленькие таланты, которые так нравятся третьим помощникам секретарей военного министерства.
В конце концов капитана Флойда произвели в генерал-майоры, или в какие-то там командиры главного стада, или что-то в этом роде. Он гарцевал вокруг нас на белом коне, разукрашенный золотым шитьем и петушиными перьями, и со шляпой, как у тамплиера, и он не мог уже, согласно уставу, с нами разговаривать. А Вилли Роббинса произвели в капитаны нашей роты.
Может быть, вы думаете, что он после этого перестал стремиться к венцу славы? Ничего подобного! На мой взгляд, это он привел войну к победоносному концу. Восемнадцать человек из нас, — и все его друзья! — были убиты в боях, которые он затевал по собственному почину и которые мне казались совсем ненужными. Однажды ночью он взял с собой двенадцать человек и вброд перешел через маленький ручей, шириной приблизительно в сто девяносто ярдов, затем перелез через пару гор, пробрался через густой кустарник, тянувшийся на протяжении мили, перемахнул еще через пару каменоломен и, наконец, пришел в жалкую деревушку, где взял в плен генерала по имени Бенни Видус. С моей точки зрения, овчинка выделки не стоила, так как Бенни оказался черненьким человеком без манжет и башмаков, мечтавшим только о том, чтобы сдаться в плен.
Но это дело было для Вилли той рекламой, которой он так жаждал. Сан-августинские «Новости», а затем газеты Гальвестона, Сент-Луиса, Нью-Йорка и Канзаса напечатали его фотографию и посвятили ему целые столбцы. Старый Сан-Августино прямо помешался на своем «доблестном сыне». «Новости» поместили передовицу, в которой слезно умоляли правительство отозвать действующую регулярную армию и национальную гвардию и предоставить Вилли продолжать войну единолично. Там говорилось, что отказ в этом будет рассмотрен как доказательство того, что антагонизм между Севером и Югом теперь так же силен, как и прежде.
Если бы война не закончилась достаточно скоро, я не знаю, до каких пределов славы и золотых нашивок дошел бы Вилли, — но она закончилась. Прекращение враждебных действий произошло через три дня после производства Вилли в полковники; за эти дни он умудрился получить по почте еще три медали в заказных посылках и застрелить еще двух испанцев в то время, как, находясь в засаде, несчастные пили лимонад.
Как только война окончилась, наша рота вернулась в Сан-Августино. Больше ей некуда было деваться. И что же ты думаешь? По почте, телеграфом, специальной эстафетой и через негра, по имени Саул, приехавшего на сером муле в Сан-Антоне, город уведомил нас, что он собирается устроить в нашу честь величайший фестиваль, какой когда-либо знали окрестности, причем во главу угла одновременно были выдвинуты патриотические и кулинарные задачи.
Я сказал «в нашу честь», но все это пиршество предназначалось для Вилли Роббинса, бывшего рядового, исполнившего de facto свои обязанности капитана и, наконец, произведенного в полковники. Город сошел с ума по нем. Жители известили нас, что прием, который они нам окажут, низведет знаменитый карнавал в Новом Орлеане до степени five o'clock'a в церковном доме Бюри Сант-Эдлонде.
Наша рота прибыла домой, ни на час не запоздав против расписания. Весь город был около станции, оглашая воздух демократическими рузвельтовскими возгласами, которые когда то именовались «революционными». Были два духовых оркестра, мэр и воспитанницы школ, одетые в белое и пугавшие лошадей тем, что бросали в нас чирокезскими розами и… Впрочем, возможно, что тебе приходилось видеть празднества в подобных провинциальных городках.
Горожане пожелали, чтобы полковник Вилли проследовал до арсенала в коляске, в которую впрягутся именитые граждане и некоторые из членов мэрии, но герой остался со своей ротой и во главе ее продолжал маршировать по Сэм-Остен-авеню. Здания по обе стороны улицы были покрыты флагами и зрителями, и все кричали: «Роббинс!», или: «Здравствуй, Вилли!», когда мы проходили по четыре человека в ряд. Я никогда в жизни не видал человека, имеющего более бравый вид, чем Вилли. На его мундире хаки было, по крайней мере, семь или восемь медалей и знаков отличия, а загорел он до такой степени, что был одного цвета с седлом.
Нам сказали на станции, что мэрия будет иллюминована в половине восьмого и что главные речи начнутся в «Палас-отеле»; мисс Дельфина Томпсон должна была прочесть поэму, написанную Джемсом Уиткомбом Рианоль, а констебль Хукер обещал салютовать нам из девяти пушек, которые он случайно реквизировал в этот день.
После того как в арсенале всех нас распустили по домам, Вилли обратился ко мне со следующими словами:
— Не прогуляешься ли ты немного со мной?
— Ладно! — сказал я. — Если это только не так далеко, что мы вовремя услышим, когда прекратятся все эти возгласы и вообще вся сумятица. Я голоден и мечтаю о домашнем обеде. Но все равно я пойду с тобой.
Вилли повел меня боковыми улицами, пока мы не пришли к маленькому белому коттеджу, который, очевидно, был недавно построен и перед которым была разбита лужайка размером двадцать на тридцать футов, украшенная черепками и старыми досками от бочек.
— Остановись и скажи мне, в чем дело? — сказал я Вилли. — Разве ты не знаешь, что это за строение? Это гнездышко, построенное Джое Гранберри перед тем, как он женился на Мире Аллисон. Зачем ты идешь туда?
Но Вилли уже открыл калитку. Он прошел по усыпанной кирпичами дорожке до ступеней, и я последовал за ним. Мира сидела в качалке на веранде и шила. Ее волосы были наспех зачесаны назад и жгутом лежали на затылке. Я впервые заметил, что у нее веснушки. Джое стоял сбоку около веранды, без пиджака, без воротничка и небритый и старался проделать отверстие среди обломков кирпичей и жестянок, чтобы посадить маленькое фруктовое деревце. Он поднял голову и взглянул на нас, но не промолвил ни единого слова. Молчала также и Мира.
Вилли, безусловно, выглядел очень шикарно. Грудь его была покрыта медалями, а сбоку болталась сабля с золотой рукояткой. Никак нельзя было узнать в нем того маленького, белобрысого дурачка, который всегда был у девушек на побегушках и над которым те неизменно потешались. Он постоял с минуту, глядя на Миру со своей особенной, легкой улыбочкой, затем обратился к ней очень медленно, как будто отчеканивая каждое слово:
— О, я не знаю! Быть может, я бы и мог, если бы захотел!
Ничего больше не было сказано. После этого Вилли приподнял свою фуражку, и мы ушли.
Когда он произнес это, я вдруг вспомнил танцевальный вечер, затем Вилли, приглаживающего себе волосы, и Миру, просунувшую в дверь голову, чтобы подразнить его.
— Ну, до свидания, Бен. Я иду домой, сниму сапоги и немного отдохну.
— Что ты! — сказал я. — Что с тобой случилось? Разве мэрия не набита битком людьми, дожидающимися, чтобы приветствовать героя? А два духовых оркестра? а речи? а флаги? а угощение, которое затем тебе предстоит?
Вилли вздохнул.
— Ну, ладно, Бен! — сказал он. — Честное слово, я позабыл про все это.
— И поэтому-то я утверждаю, — сказал в заключение Бен Грэнжер, — что нельзя точно сказать, где начинается честолюбие, как нельзя сказать и того, где оно кончается.
Охотник за головами
Перевод под ред. В. Азова.
По окончании войны между Испанией и Джорджем Дьюи я отправился на Филиппинские острова. Я был военным корреспондентом одной газеты и писал отчеты о военных действиях, но военных действий на Филиппинах никаких не было. Как-то раз наш главный редактор написал мне, что телеграмма в восемьсот слов, в которой я описывал наши дела-делишки, отнюдь не может считаться важной военной новостью. Пришлось отказаться и ехать домой.
Во время обратного путешествия на торговом судне я долго раздумывал над странными явлениями, которые мне пришлось наблюдать на этом сказочно-жутком архипелаге, населенном людьми желто-коричневой расы. Все эти маневры и стычки малой войны нисколько меня не интересовали. Зато я был точно зачарован странно-чуждым, таинственным обликом этих людей, устремлявших на нас, из недр неведомого прошлого, свой ничего не выражающий взор.
В особенности заинтересовало меня, когда я был в Минданао, очаровательно-оригинальное племя дикарей-язычников, известное под названием «охотников за головами». Это свирепые, непреклонные, безжалостные карлики, которые никогда не показывались, но тайное присутствие которых вселяло ужас и бросало вас в дрожь в самый жаркий полдень; которые шаг за шагом преследовали свою жертву сквозь не занесенные еще на карту леса, через опасные горы и бездонные пропасти, необитаемые дебри, которые всегда были тут, вблизи, как занесенная над жертвой десница судьбы, но выдавали себя лишь еле уловимыми признаками, точно зверь, птица или ползущая змея — хрустом ветки, например, нарушавшим внезапно тишину пропитанного испарениями, тяжелого ночного воздуха, или неожиданным падением целого потока капель с густой непроницаемой листвы какого-нибудь дерева-великана, или шорохом прибрежного тростника. Какими забавными казались они мне — эти крохотные существа, упорно преследовавшие одну цель!
Как подумаешь, метод их очаровательно, до смешного прост и безошибочен.
Есть у человека хижина, в которой он живет, выполняя жребий, предназначенный ему судьбой. К косяку бамбуковой рамы у входа прибита корзина, сплетенная из зеленых ивовых ветвей. Время от времени, в зависимости от того, когда заговорит в нем честолюбие, тщеславие, скука, любовь или ревность, — он выползает и бесшумно отправляется по следу, захватив с собой тяжелый нож. И затем он с торжеством возвращается из своей экспедиции и приносит с собой отделенную от туловища окровавленную голову своей жертвы, которую он с вполне понятной радостью опускает в корзину у входа. Это может быть голова врага, или друга, или даже совершенно незнакомого человека, в зависимости от того, что побудило его пуститься в поход: ревность, желание уничтожить соперника или только инстинкт спортсмена.
Во всяком случае, он будет вознагражден за свои труды. Все жители деревни, проходя мимо, останавливаются и поздравляют его. Точно так же при других, более бесцветных формах жизни ваш сосед останавливается, чтобы полюбоваться бегониями в вашем палисаднике и похвалить их. Темнокожая девица, которой увлекается счастливый охотник, стоит тут же: грудь ее лихорадочно вздымается, и она кидает нежные, тигриные взгляды на это доказательство его любви к ней. Победитель сидит, жует бетель и самодовольно прислушивается к тихому шуму крови, капающей из перерезанных артерий. Временами он оскаливает зубы и хрюкает, точно носорог, — что должно означать смех, — при мысли о том, что похолодевшее, обезглавленное тело, составляющее придаток к нынешнему украшению его хижины, становится добычей коршунов, которые кружатся над лесными дебрями Минданао.
Воистину, меня прельщала веселая жизнь охотника за человеческими головами. Он свел искусство и философию к простейшему жизненному кодексу. Отрубить голову врага, положить ее в корзину у входа в свой замок и смотреть, как она лежит там — точно безжизненная вещь, лишенная могущества, всякой хитрости и возможности повредить… Да есть ли лучший способ разрушить коварные планы этого врага, опровергнуть все его доводы и доказать свое превосходство над его мудростью и ловкостью?
Капитаном судна, на котором я возвращался домой, был некий швед, которому часто взбредали на ум разные фантазии; на сей раз он вздумал изменить свой курс; он высадил меня, выразив мне при этом свое искреннее сочувствие, в маленьком городке, на тихоокеанском берегу, в одной из республик Центральной Америки, на несколько сот миль южнее того порта, куда он взялся меня доставить. Но мне надоели вечное передвижение и экзотические фантазии, и потому я не без удовольствия соскочил на твердый песок городка Мохада, сказав себе, что я здесь найду тот отдых, которого я так жаждал. В конце концов, куда лучше остаться здесь (так я думаю) и прислушиваться к убаюкивающему, успокоительному плеску волн и к шороху ветра в пальмах, чем сидеть на набитом конским волосом диване в родительском доме на Востоке, наполняя желудок смородинным сиропом и домашними печеньями; там вокруг меня будут вечно торчать самые скучные из всех родственников и слушать, развесив уши, мои слюнявые рассказы о колониальных приключениях.
Когда я в первый раз увидал Клоэ Грин, она стояла вся в белом в дверях дома своего отца; это был домик из высушенной глины, крытый черепицей. Она чистила тряпочкой серебряную чашку и казалась жемчужиной на фоне темного бархата. Она кинула мне довольно продолжительный (что было очень лестно), но вместе с тем уничтожающе-неодобрительный взгляд. После этого она вошла в дом, напевая какую-то веселую песенку, чтобы показать, как мало значения она придает моей особе.
Это было вполне понятно: дело в том, что доктор Стамфорд (самый легкомысленный из всех врачей на всем протяжении между Джоано и Вальпараисо) и я, мы шли по немощеной улице, описывая зигзаги, да еще фальшиво напевали при этом старый гимн на мотив негритянской песенки. Мы возвращались с завода искусственного льда — единственного места для кутежей во всей Мохаде; мы там играли на бильярде, причем раскупорили немало черных, покрытых белым инеем бутылок, которые мы за шнурки вытаскивали из холодных чанов, где их хранил старик Сандоваль.
Я сразу повернулся к доктору Стамфорду; винные пары у меня мгновенно улетучились, и я был трезв, как сторож, стоящий с булавой у входа в кафедральный собор. В этот миг я понял, что мы не что иное, как свиньи перед бисером.
— Ах ты, скотина, — сказал я, — ведь это наполовину твоя вина! А в остальном виновата эта проклятая страна! Лучше бы я уехал в свое родное захолустье и умер бы там после дикой оргии с смородинным сиропом и домашними булками. Тогда бы не было этого позора!
Громкий хохот Стамфорда разнесся по пустынной улице.
— И ты тоже! — крикнул он. — В один миг — скорее, чем пробку из бутылки вытащить! Н-да, она приятно запечатлевается на сетчатой оболочке глаза. Но смотри, не обожги пальцев! Вся Мохада скажет тебе, что счастливый смертный — это Луис Дево.
— Это мы еще посмотрим, — сказал я. — Узнаем, действительно ли он счастливый и действительно ли он смертный.
Я решил, не теряя времени, познакомиться с Луисом Дево. Это мне легко удалось: иностранная колония в Мохаде насчитывала не больше десятка членов. Все они ежедневно собирались в некоей полупочтенной гостинице, содержимой каким-то турком. Я решил сблизиться сначала с Дево, а затем уже предстать перед моей «жемчужиной на пороге»; я успел научиться немного тактике войны, и мне было известно, что не следует наносить удара, не произведя разведки сил неприятеля.
Какое-то мрачное разочарование — нечто близкое к панике охватило меня, когда я оценил его преимущества. Он оказался человеком в высшей степени уравновешенным, очаровательным, вполне знакомым со всеми светскими обычаями, чрезвычайно тактичным, крайне любезным и гостеприимным; к тому же, он обладал каким-то особым умением держать себя вежливо и свободно, с примесью небрежного высокомерного сознания своей силы. Я чуть не перешел границы приличий, стараясь вывернуть его наизнанку, чтобы отыскать в нем ту слабую струнку, которую я так жаждал найти. Но я ошибся в своих надеждах. Поневоле я пришел к горькому сознанию, что Луис Дево — настоящий джентльмен, достойный того, чтобы с ним сразиться не на живот, а на смерть; и я дал себе клятву сделать это. Он был одним из крупных местных негоциантов и занимался экспортом и импортом. Целый день он сидел в своей изысканно обставленной конторе, окруженный произведениями искусства и другими признаками его высокой умственной культуры.
По наружности это был стройный, не особенно высокий человек; его небольшая, красивой формы голова была покрыта густой шапкой темных волос, коротко подстриженных; густую, темную бороду свою он тоже подстригал клинышком. Манеры его можно было считать образцовыми.
Довольно скоро я стал частым и желанным гостем в доме у Гринов. Свою любовь к кутежам я стряхнул с себя, как пришедший в ветхость плащ. Я начал готовиться к борьбе со всей тщательностью тренирующегося борца и с самопожертвованием брамина.
Что касается Клоэ Грин, то я не стану утомлять вас сонетами, посвященными ее бровям. Это была чудесная, полная женственности девушка, крепкая и здоровая, как ноябрьское яблоко; таинственности в ней было не больше, чем в оконном стекле. У нее были свои забавные маленькие теории, которые она вывела из практики и в которых афоризмы Эпиктета сидели бы как в трико.
Кто знает, не обладал ли в конце концов этот старый болван мудростью?
У Клоэ был отец, его преподобие Гомер Грин, и перемежающаяся мамаша, которая иногда, в сумерки, безлично разливала чай. Его преподобие Гомер Грин был весь какой-то шершавый; у него была работа, которой он посвятил всю свою жизнь. Он писал толкование к Библии и дошел до Книги Царств. Так как я, по-видимому, являлся претендентом на руку его дочери, то я и оказался самым подходящим приемником для его авторских излияний. Он так вбил мне в голову родословное древо Израиля, что я иногда громко кричал во сне: «…а Аминадаб роди Радамеса, а Радамес роди Аиду» — и так далее, покуда он не перешел к следующей книге. Я как-то раз высчитал, что толкование его преподобия будет доведено до семи сосудов, о которых упоминается в Апокалипсисе, приблизительно на третий день после их вскрытия.
Луис Дево был так же, как и я, частым посетителем и близким другой Гринов. У них я чаще всего и встречался с ним; я никогда в жизни еще не ненавидел более приятного и интересного во всех отношениях человека.
К счастью или к несчастью, на меня смотрели как на «мальчика». Я был очень моложав; кроме того, у меня, кажется, был трогательный вид бездомного сироты, который всегда действует на материнские чувства, таящиеся в душе у каждой девушки; увы, он также вызывает папаш на разглагольствования и длинные изложения своих проклятых любимых теорий.
Клоэ называла меня «Томми»; она относилась ко мне как сестра и вышучивала все мои попытки ухаживать за ней. С Дево она была куда более сдержанна. Он напоминал героя романа; он мог бы подействовать на ее воображение и на самые глубокие ее чувства, если бы только сумел понравиться ей. Я был ближе, но зато меня не окружал романтический ореол. Передо мной стояла задача завоевать сердце Клоэ всеми средствами, которые дозволены истинному американцу: прямотой, смелостью и ежеминутной готовностью пожертвовать собой ради нее. Вот на что я надеялся, чтобы сломить ту стену дружбы, которая стояла между нами. Я хотел, — если только сумею, — покорить ее при свете дня, не прибегая к помощи лунного света, музыки и всяких годных лишь для иностранцев фокусов.
Ничто не указывало, чтобы Клоэ отдала свое сердце кому-либо из нас. Впрочем, она как-то раз намекнула мне на то, что ей нравится в мужчине. Это было безумно интересно, но приложить к практике полученные сведения нельзя было никак. Перед этим я изводил ее в двенадцатый раз перечислением и изложением моих чувств к ней.
— Томми, — сказала она, — я не хотела бы, чтобы человек доказывал свою любовь ко мне тем, что стал бы во главе армии и пошел бы завоевывать соседнее государство, стреляя в людей из пушек. Нет, Томми, для женщины играют роль вовсе не великие подвиги, совершаемые в мире. В те дни, когда рыцари в полном вооружении разъезжали по свету, ища, как бы сразиться с драконом, часто случалось, что сидевший дома паж получал руку прекрасной дамы, — и это лишь потому, что он был тут, под рукой, мог вовремя поднять упавшую перчатку или принести ей плащ, как только становилось свежо. Тот человек, которого я полюблю, — кто бы это ни был, — должен проявить свою любовь в мелочах. Если я хоть раз ему скажу, что я не люблю, когда мой спутник идет слева от меня, он не должен уже это забывать. Он должен также помнить, что я ненавижу яркие галстуки; что я предпочитаю сидеть спиной к свету; что я люблю засахаренные фиалки; что со мной нельзя разговаривать, когда я любуюсь отражением лунного света в воде, и что мне очень, очень часто хочется фиников с начинкой из грецких орехов.
— Это пустяки, — сказал я, нахмурив брови. — Любой хорошо вышколенный слуга окажется на высоте положения.
— Он должен также, — продолжала Клоэ, — напоминать мне, что я хочу, — в тех случаях, когда я сама не знаю, чего я хочу.
— Вы уже начинаете повышать свои требования, — сказал я. — По-видимому, вам нужен первоклассный ясновидящий.
— А если я говорю, что умираю от желания послушать сонату Бетховена, и при этом топаю ногой, он должен по этим признакам понять, что моя душа жаждет соленого миндаля; и он должен иметь наготове коробку миндаля в соли в кармане.
— Ну, — говорю я, — теперь я совсем стал в тупик Не могу понять, кем должна быть эта родственная вам душа — импресарио или кондитером?
Клоэ сверкнула своей жемчужной улыбкой.
— Сочтите почти половину моих слов за шутку, — продолжала она. — Но не относитесь слишком легко к мелочам, милый мальчик. Будьте рыцарем без страха и упрека, если вы не можете иначе, но пусть это никому не бросается в глаза. Большинство женщин — лишь большие дети, а большинство мужчин — лишь малые ребята. Старайтесь нам понравиться, но не пытайтесь подавлять нас. Если нам нужен герой, то мы сумеем превратить в него даже скромного кондитера, когда он в третий раз поймает на лету носовой платок, который мы уроним.
В этот вечер у меня сделался приступ злокачественной малярии. Это нечто вроде тропической лихорадки с разными ухищрениями и усовершенствованиями. Температура у больного вскакивает, забирается высоко-высоко, выше сорока, и сидит себе там, «лихорадочно» подсмеиваясь над хинным деревом и препаратами из угольного дегтя. Злокачественная малярия относится к области элементарной математики, а не медицины. Формула ее весьма проста: жизненная энергия + желание выжить + продолжительность болезни = результату.
Я улегся в постель в своей маленькой, крытой соломой хижине из двух комнат, где я так удобно устроился, и послал за ромом. Ром был вовсе не для меня. В пьяном виде Стамфорд был лучшим врачом на всем пространстве между Кордильерами и Тихим океаном. Он пришел, сел у моей кровати и начал поглощать ром, чтобы привести себя в соответствующее состояние.
— Мальчик мой, — сказал он, — невинная лилия моя, вернувшийся на путь истины Ромео, лекарства тебе не помогут. Но я дам тебе хины: она горькая и потому возбудит в тебе ненависть и злобу — два возбуждающих средства, которые повысят на десять процентов твои шансы на выздоровление. Ты крепок, как молодой бычок, и ты поправишься, если только лихорадка не нанесет тебе какого-нибудь удара врасплох.
В течение двух недель я лежал на спине и чувствовал себя как индусская вдова на пылающем погребальном костре. Старая Атаска, неученая сиделка-индианка, торчала у дверей как окаменелое олицетворение идеи «И к чему все это?». Она добросовестно исполняла свои обязанности, которые состояли преимущественно в одном — следить за тем, чтобы время протекало правильно и чтобы колеса его ни за что не задевали. Иногда я воображал, что все еще нахожусь на Филиппинах или — еще хуже, — что я соскальзываю с набитого конским волосом дивана в моем родном захолустье.
В один прекрасный день я приказал Атаске исчезнуть, а сам встал и тщательно оделся. Я измерил температуру и не без удовольствия увидел, что у меня 104°[8]. Я с большим вниманием совершил свой туалет; галстук я заботливо выбрал темного, не кричащего оттенка. Зеркало сказало мне, что я выгляжу неплохо, несмотря на болезнь. Лихорадка придавала блеск моим глазам; щеки и тело порозовели. И вдруг, пока я стоял и глядел на свое изображение, я вспомнил про Клоэ Грин — про то, что прошел целый миллион эонов с тех пор, как я с ней виделся; вспомнил я и про Луиса Дево и про то, сколько времени он выиграл, — и краска то исчезала, то появлялась у меня на лице.
Я направился прямо к дому Гринов. Мне казалось, что я не иду, а, скорее, плыву: я еле чувствовал землю под ногами. Я даже решил, что злокачественная малярия — очень хорошая вещь, если она может придать человеку столько силы.
Клоэ и Луис Дево сидели перед домом, под тентом. Она вскочила и протянула мне обе руки.
— Ах, как я рада, как я рада, что вы опять стали выходить! — воскликнула она, и слова ее казались мне жемчужинами, нанизанными в фразу. — Вы поправились, Томми, — или вам лучше, разумеется? Я хотела зайти навестить вас, но меня не пускали.
— О да, — небрежно сказал я, — это был пустяк. Маленькая лихорадка. Как видите, я уже выхожу.
Мы посидели втроем и разговаривали с полчаса. Вдруг Клоэ устремила вдаль, на океан, жалобный, полный тоски, взгляд. Я видел, что в ее синих, как море, глазах светится глубокая, безумная жажда чего-то. Дево — черт бы его побрал — тоже заметил это.
— В чем дело? — спросили мы одновременно.
— Пудинг из кокосовых орехов! — жалобно сказала Клоэ. — Мне давно хочется его, целых два дня, страшно хочется! Это уж не желание — это превратилось в навязчивую мысль.
— Сезон кокосовых орехов прошел, — сказал Дево этим своим голосом, который придавал жгучий интерес самым обыкновенным его словам. — Я думаю, что в Мохаде вряд ли найдется сейчас хоть один. Туземцы употребляют их, только когда они еще зеленые и молоко свежее. Все спелые орехи они продают на пароходы.
— А нельзя ли заменить пудинг омаром или кроликом по-уэльски? — спросил я с идиотски-любезным видом человека, только что перенесшего злокачественную малярию.
Клоэ чуть было не сделала недовольной гримасы, но у нее был такой хороший характер и такой очаровательный профиль, что гримаса так и не вышла.
Его преподобие Гомер Грин просунул в дверь свое отороченное горностаем лицо и присоединил свое толкование к нашей беседе.
— Иногда бывает, — сказал он, — что можно найти сухие орехи у старика Кампоса в маленькой лавочке на горе. Но было бы лучше, дочь моя, если бы ты сдерживала столь необычайные желания и с благодарностью принимала бы ту пищу, которую Господь посылает нам каждый день.
— Чушь! — сказал я.
— Как вы сказали? — резко спросил его преподобие.
— Я говорю, сушь страшная… дождя давно не было, — сказал я. — Может быть, — продолжал я заботливо, — кокосовый орех можно заменить грецкими орехами в пикулях или фрикасе из венгерских орешков?
Все посмотрели на меня: на лицах отразилось некоторое удивление.
Луис Дево встал и начал прощаться. Я следил за ним глазами, покуда он шел до угла своей медленной и величественной походкой. Вот он повернул за угол: ему нужно было пойти к себе, в свои обширные склады и магазины. Клоэ извинилась передо мной и вошла в дом; ей нужно было распорядиться насчет кое-каких мелочей для обеда, который всегда бывал у Гринов в семь часов. Она была великолепной хозяйкой. Я уже пробовал ее пудинги и хлеб и был в восторге от них.
Когда все ушли, я как-то случайно повернул голову и увидел корзину, сплетенную из зеленых ивовых ветвей, висевшую на гвоздике на косяке дверей. И вдруг на меня нахлынули воспоминания об охотниках за человеческими головами, и с такой силой, что в моих горевших от жара висках громко застучала кровь. Да, я вспомнил про этих свирепых, безжалостных карликов, которые никогда не показывались, но тайное присутствие которых вселяло ужас и бросало вас в дрожь в самый жаркий полдень… Время от времени, в зависимости от того, когда заговаривает в нем честолюбие, тщеславие, скука, любовь или ревность, один из них выползает и бесшумно отправляется по следу, захватив с собой тяжелый нож… И затем он с торжеством возвращается из своей экспедиции, и приносит с собою отделенную от туловища окровавленную голову своей жертвы… темнокожая девица, которой увлекается счастливый охотник, стоит тут же: грудь ее лихорадочно вздымается, и она кидает нежные, тигриные взгляды, на это доказательство его любви к ней…
Я потихоньку выбрался от Гринов и пошел к себе в хижину. Я схватил висевший на гвозде мачете[9], тяжелый, как большой нож мясника, и более острый, чем безопасная бритва. А затем я направился, внутренне смеясь, в великолепно обставленный кабинет месье Луиса Дево, узурпатора моих прав на руку Жемчужины Тихого океана.
Дево умел быстро соображать. Когда я открыл дверь в его комнату, он всего раз взглянул на мое лицо, затем на мачете в моей руке и точно испарился куда-то. Я побежал к черному ходу, пинком ноги открыл дверь и увидел, что он с быстротой лани мчится по дороге в лес, опушка которого виднелась ярдах в двухстах. Я тотчас же с криком погнался за ним. Я помню, что мне попадались на пути женщины и дети; они орали и кидались в сторону.
Дево бежал быстро, но я был сильнее его. Не успели мы пробежать около мили, как я почти настиг его. Он ловко увильнул от меня и кинулся в овраг, который переходил в небольшое ущелье. Я бросился туда за ним, ломая ветви, и не прошло и пяти минут, как я загнал его в угол, образуемый двумя отвесными скалами. Тут его инстинкт самосохранения придал ему смелости; так случается нередко и с затравленным зверем. Он повернулся ко мне, совершенно спокойный, с искаженной улыбкой на лице.
— Ну, Рэберн, — сказал он. Он сделал такое ужасное усилие, чтобы говорить непринужденно, что я весьма невежливо и грубо расхохотался ему в лицо. — Да ну же, Рэберн, — сказал он, — бросим эту ерунду. Конечно, я знаю, что виновата ваша болезнь и что вы не в своем уме; но возьмите же себя в руки — отдайте мне этот дурацкий нож Давайте, вернемся домой и переговорим обо всем.
— Я вернусь, — сказал я, — с вашей головой. Посмотрим, как она будет разглагольствовать, лежа в корзине у дверей.
— Да бросьте, — начал он меня уговаривать, — я вовсе не такого дурного мнения о вас и не могу допустить, что вы валяете дурака. Но даже причудам спятившего от лихорадки идиота должен быть предел. Что это за чушь про головы да про корзины? Возьмите себя в руки и бросьте эту дурацкую тяпку для тростника. Ну, что подумает о вас мисс Грин? — сказал он, стараясь ласково уговорить и умаслить меня, точно капризного ребенка.
— Слушайте, — сказал я, — наконец-то вы верно попали. Что она обо мне подумает? Слушайте! — повторил я. — Есть женщины, — сказал я, — которые смотрят на диваны с конским волосом и на смородинный сироп, как на дрянь. Для них даже размеренные модуляции ваших тщательно подстриженных речей звучат точно падение гнилых слив ночью с дерева. Это те девушки, которые ходят взад и вперед по деревне, презирая пустые корзинки, висящие у дверей молодых людей, которые хотят пленить их сердце. Сейчас ждет, — сказал я, — одна из таких девушек. Только дурак старается прельстить женщину тем, что ноет у нее на пороге или исполняет все ее капризы, как лакей. Все они — дочери Иродиады! Чтобы пленить их, нужно собственноручно положить к их ногам голову. А теперь, Луис Дево, подставьте шею. Не будьте трусом. Довольно с вас того, что вы болтун, годный лишь для дамской гостиной.
— Ну, ну, перестаньте, Рэберн, — в страхе сказал Дево. — Ведь вы узнаете меня, не правда ли?
— О да! — сказал я. — Я узнаю вас. Я узнаю вас. Я узнаю вас. Но корзинка пуста. И старики, и молодежь, и темнокожие девушки, и те, что белы, как жемчужины, — все ходят по деревне и видят, что она пуста. Станете ли вы сейчас на колени, или же мне придется с вами бороться? Непохоже это на вас — вы ведь не любите ничего грубого и неприличного. Но корзинка ждет вашей головы.
Тут он совсем обезумел. Мне пришлось ловить его: он попытался проскочить мимо меня, точно испуганный заяц. Я бросил его на землю и поставил ногу к нему на грудь; но он начал извиваться, точно червяк, хотя я несколько раз взывал к его чувству приличия и доказывал ему, что его долг по отношению к самому себе как к джентльмену обязывает его не поднимать скандала.
Но наконец я улучил минуту и занес свой мачете.
Работа оказалась трудной. Он бился, как цыпленок, пока я наносил ему удары: пришлось хватить его раз шесть-семь по шее, раньше чем отлетела голова; но наконец он затих. Я увязал его голову в свой носовой платок. Глаза его три раза открывались и закрывались, пока я прошел шагов сто. Я был весь красный от стекающей крови, но не все ли это было равно. Я с наслаждением щупал короткие густые темные волосы и тщательно подстриженную бороду.
Я дошел до дома Гринов и швырнул голову Луиса Дево в корзину, все еще висевшую на гвозде у дверей. Затем я сел на кресло под тентом и стал ждать. До захода солнца оставалось часа два. Клоэ вышла. Она, видимо, удивилась.
— Где это вы были, Томми? — спросила она. — Вас тут не было, когда я недавно выходила сюда.
— Загляните в корзинку, — сказал я, вставая.
Она посмотрела и испустила легкий крик — крик восторга, как я с удовольствием заметил.
— Ох, Томми! — сказала она. — Ведь я именно этого-то от вас и хотела! Немножко течет эта штука, но это неважно. Разве я вам не говорила? Мелочи играют большую роль. И вы вспомнили!
Мелочи! А ведь она держала в своем белом переднике окровавленную голову Луиса Дево. Струйки красной жидкости расплывались у ней на переднике, и капли стекали на пол. Лицо у нее было веселое, полное нежности.
«Мелочи, нечего сказать, — подумал я еще раз, — Филиппинские дикари правы. Вот что любят женщины!»
Клоэ приблизилась ко мне. Вокруг не было видно ни души. Она взглянула на меня своими синими, как море, глазами; эти глаза выражали теперь то, чего я никогда раньше в них не видел.
— Вы заботитесь обо мне, — сказала она. — Вы сами — тот человек, которого я вам описала. Вы думаете о мелочах, а именно мелочи и делают жизнь приятной. Тот, кого я люблю, должен помнить малейшее мое желание и доставлять мне маленькие удовольствия. Он должен принести мне персик в декабре, если я этого захочу, — и я буду любить его до июня. Мне вовсе не нужен рыцарь в латах, который убивает своего соперника или умерщвляет дракона ради меня. Вы мне очень нравитесь, Томми.
Я нагнулся и поцеловал ее. Но тут на лбу у меня выступила испарина, и я почувствовал слабость. С передника Клоэ начали исчезать красные пятна, а голова Луиса Дево превратилась в коричневый высохший кокосовый орех.
— К обеду будет кокосовый пудинг, Томми, мальчик, — весело сказала Клоэ. — Вы непременно должны прийти. А теперь мне нужно на кухню.
Она грациозно вспорхнула и исчезла.
Доктор Стамфорд торопливо приближался. Он схватил мой пульс с таким жестом, точно это была его собственность, которую я у него похитил.
— Второго такого идиота, как ты, не найти даже за стенами желтого дома! — сказал он, страшно рассердившись. — Почему ты встал с постели? И сколько глупостей ты тут натворил! Ничего удивительного, когда у тебя пульс стучит, точно молот!
— Какие глупости? — сказал я.
— За мной послал Дево, — сказал Стамфорд. — Он видел из своего окна, как ты вошел в лавку к старику Кампосу; потом ты погнался за ним на гору, с его собственным ярдом в руках; а затем ты вернулся в лавку, взял оттуда самый большой кокосовый орех и убежал с ним.
— В конце концов, играют роль именно мелочи, — сказал я.
— Сейчас для тебя играет роль только постель, — сказал он. — Пойдем со мной сейчас же, иначе я откажусь тебя лечить. Король идиотов этакий!
Таким образом, я в этот вечер остался без кокосового пудинга; зато я перестал всецело доверять методу дикарей — охотников за головами. Быть может, темнокожие девушки уже много веков ходят по деревне и грустно глядят на головы, лежащие в корзинах у входа в хижины, и сожалеют о том, что там не лежат совсем иные, менее кровавые трофеи!
Без вымысла
Перевод Г. Конюшкова.
Чтобы предубежденный читатель не отшвырнул сразу же эту книгу в самый дальний угол комнаты, я заранее предупреждаю, что это — не газетный рассказ. Вы не найдете здесь ни энергичного, всезнающего редактора, ни вундеркинда-репортера только что из деревни, ни сенсации, ни вымысла — ничего.
Но если вы разрешите мне избрать местом действия для первой сцены репортерскую комнату «Утреннего маяка», то в ответ на эту любезность я в точности сдержу все данные мною выше обещания.
В «Маяке» я работал внештатным сотрудником и надеялся, что меня переведут на постоянное жалованье. В конце длинного стола, заваленного газетными вырезками, отчетами о заседаниях конгресса и старыми подшивками, кто-то лопатой или граблями расчистил для меня местечко. Там я работал. Я писал обо всем, что нашептывал, трубил и кричал мне огромный город во время моих прилежных блужданий по его улицам. Заработок мой не был регулярным.
Однажды ко мне подошел и оперся на мой стол некто Трип. Он что-то делал в печатном отделе, — кажется, имел какое-то отношение к иллюстрациям; от него пахло химикалиями, руки были вечно измазаны и обожжены кислотами. Ему было лет двадцать пять, а на вид — все сорок Половину его лица скрывала короткая курчавая рыжая борода, похожая на коврик для вытирания ног, только без надписи «Добро пожаловать». У него был болезненный, жалкий, заискивающий вид, и он постоянно занимал деньги в сумме от двадцати пяти центов до одного доллара. Больше доллара он не просил никогда. Он так же хорошо знал предел своего кредита, как Национальный Химический банк знает, сколько H2O может обнаружиться в результате анализа некоторых обеспечений. Присев на краешек стола, Трип стаскивал руки, чтобы они не дрожали. Виски! Он всегда пытался держаться беспечно и развязно; это никого не могло обмануть, но помогало ему перехватывать взаймы, потому что очень уж жалкой была эта наигранность.
В тот день я выманил у ворчливого бухгалтера пять блестящих серебряных долларов в виде аванса за рассказ, который весьма неохотно был принят для воскресного номера. Поэтому если я и не состоял еще в мире со всей вселенной, то перемирие, во всяком случае, было заключено, и я с жаром приступил к описанию Бруклинского моста при лунном свете.
— Ну-с, Трип, — сказал я, взглянув на него не слишком приветливо, — как дела?
Вид у него был еще более несчастный, измученный, пришибленный и подобострастный, чем обычно. Когда человек доходит до такой степени унижения, он вызывает такую жалость, что хочется его ударить.
— У вас есть доллар? — спросил Трип, и его собачьи глаза заискивающе блеснули в узком промежутке между высоко растущей спутанной бородой и низко растущими спутанными волосами.
— Есть! — сказал я. — Да, есть, — еще громче и резче повторил я, — и не один, а целых пять. И могу вас уверить, мне стоило немалого труда вытянуть их из старика Аткинсона. Но я их вытянул, — продолжал я, — потому что мне нужно было — очень нужно — просто необходимо — получить именно пять долларов.
Предчувствие неминуемой потери одного из этих долларов заставляло меня говорить внушительно.
— Я не прошу взаймы, — сказал Трип. Я облегченно вздохнул. — Я думал, вам пригодится тема для хорошего рассказа, — продолжал он, — у меня есть для вас великолепная тема. Вы могли бы разогнать ее, по меньшей мере, на целую колонку. Получится прекрасный рассказ, если обыграть как надо. Материал стоил бы вам примерно один-два доллара. Для себя я ничего не хочу.
Я стал смягчаться. Предложение Трипа доказывало, что он ценит прошлые ссуды, хотя и не возвращает их. Догадайся он в ту минуту попросить у меня двадцать пять центов, он получил бы их немедленно.
— Что за рассказ? — спросил я и повертел в руке карандаш с видом заправского редактора.
— Слушайте, — ответил Трип. — Представьте себе: девушка. Красавица. Редкая красавица… Бутон розы, покрытый росой… фиалка на влажном мху… и прочее в этом роде. Она прожила двадцать лет на Лонг-Айленде и ни разу еще не была в Нью-Йорке. Я налетел на нее на Тридцать четвертой улице. Она только что переехала на пароме через Восточную реку. Говорю вам, она такая красавица, что ей не страшна конкуренция всех мировых запасов перекиси. Она остановила меня на улице и спросила, как ей найти Джорджа Брауна. Спросила, как найти в Нью-Йорке Джорджа Брауна. Что вы на это скажете?
Я разговорился с ней и узнал, что на будущей неделе она выходит замуж за молодого фермера Додда — Хайрэма Додда. Но, по-видимому, Джордж Браун еще сохранил первое место в ее девичьем сердце. Несколько лет назад этот Джордж начистил сапоги и отправился в Нью-Йорк искать счастья. Он забыл вернуться в Гринбург, и Хайрэм, как второй кандидат, занял его место. Но когда дошло до развязки, Ада — ее зовут Ада Лоури — оседлала коня, проскакала восемь миль до железнодорожной станции, села в первый утренний поезд и поехала в Нью-Йорк, искать Джорджа. Вот они, женщины! Джорджа нет, значит, вынь да положь ей Джорджа.
Вы понимаете, не мог же я оставить ее одну в этом Волчьем-городе-на-Гудзоне. Она, верно, рассчитывала, что первый встречный должен ей ответить: «Джордж Браун? Да-да-да… минуточку… такой коренастый парень с голубыми глазами? Вы его найдете на Сто двадцать пятой улице, рядом с бакалейной лавкой. Он — кассир в шорно-седельном магазине». Вот до чего она очаровательно наивна! Вы знаете прибрежные деревушки Лонг-Айленда, вроде этого Гринбурга, — две-три утиные фермы для развлечения, а для заработка — устрицы да человек десять дачников. Вот из такого места она и приехала. Но вы обязательно должны ее увидеть! Я ничем не мог ей помочь. По утрам у меня деньги не водятся. А у нее почти все ее карманные деньги ушли на железнодорожный билет. На оставшуюся четверть доллара она купила леденцов и ела их прямо из кулечка. Мне пришлось отвести ее в меблированные комнаты на Тридцать второй улице, где я сам когда-то жил, и заложить ее там за доллар. Старуха Мак-Гиннис берет доллар в день. Я провожу вас туда.
— Что вы плетете, Трип? — сказал я. — Вы ведь говорили, что у вас есть тема для рассказа. А каждый паром, пересекающий Восточную реку, привозит и увозит с Лонг-Айленда сотни девушек…
Ранние морщины на лице Трипа врезались еще глубже. Он серьезно глянул на меня из-под своих спутанных волос, разжал руки и, подчеркивая каждое слово движением трясущегося указательного пальца, сказал:
— Неужели вы не понимаете, какой изумительный рассказ из этого можно сделать? У вас отлично выйдет. Поромантичнее опишите девушку, нагородите всякой всячины о верной любви, можно малость подтрунить над простодушием жителей Лонг-Айленда — ну, вы-то лучше меня знаете, как это делается. Вы получите никак не меньше пятнадцати долларов. А вам рассказ обойдется в каких-нибудь четыре. У вас останется чистых одиннадцать долларов!
— Почему это он обойдется мне в четыре доллара? — спросил я подозрительно.
— Один доллар миссис Мак-Гиннис, — без запинки ответил Трип, — и два девушке, на обратный билет.
— А четвертое измерение? — осведомился я, быстро подсчитав кое-что в уме.
— Один доллар мне, — сказал. Трип. — На виски. Ну, идет?
Я загадочно улыбнулся и удобно пристроил на столе локти, делая вид, что возвращаюсь к прерванной работе. Но стряхнуть этот фамильярный, подобострастный, упорный, несчастный репейник в человеческом образе было не так-то легко. Лоб его вдруг покрылся блестящими бусинками пота.
— Неужели вы не понимаете, — сказал он с какой-то отчаянной решимостью, — что девушку нужно отправить домой сегодня же днем — не вечером, не завтра, а сегодня днем! Я сам ничего не могу сделать. Вы же знаете, я — действительный и почетный член Клуба Неимущих. Я ведь думал, что вы могли бы сделать из всего этого хороший рассказ и в конечном счете заработать. Но как бы там ни было, неужели вы не понимаете, что ее во что бы то ни стало нужно отправить сегодня, не дожидаясь вечера?
Тут я начал ощущать тяжелое, как свинец, гнетущее чувство, именуемое чувством долга. Почему это чувство ложится на нас как груз, как бремя? Я понял, что в этот день мне суждено лишиться большей части с таким трудом добытых денег ради того, чтобы выручить Аду Лоури. Но я дал себе клятву, что Трипу не видать доллара на виски. Пусть сыграет на мой счет роль странствующего рыцаря, но устроить попойку в честь моего легковерия и слабости ему не удастся. С какой-то холодной яростью я надел пальто и шляпу.
Покорный, униженный Трип, тщетно пытаясь угодить мне, повез меня на трамвае в своеобразный ломбард тетушки Мак-Гиннис. За проезд платил, конечно, я. Казалось, этот пропахший коллодием дон Кихот и самая мелкая монета никогда не имели друг с другом ничего общего.
Трип дернул звонок у подъезда мрачного кирпичного дома. От слабого звяканья колокольчика он побледнел и сжался, точно заяц, заслышавший собак. Я понял, как ему живется, если приближающиеся шаги квартирной хозяйки приводят его в такой ужас.
— Дайте один доллар, скорей! — прошептал он.
Дверь приоткрылась дюймов на шесть. В дверях стояла тетушка Мак-Гиннис, белоглазая — да, да, у нее были белые глаза — и желтолицая, одной рукой придерживая у горла засаленный розовый фланелевый капот. Трип молча сунул ей доллар, и нас впустили.
— Она в гостиной, — сказала Мак-Гиннис, поворачивая к нам спину своего капота.
В мрачной гостиной за треснутым круглым мраморным столом сидела девушка и, сладко плача, грызла леденцы. Она была безукоризненно красива. Слезы лишь усиливали блеск ее глаз. Когда она разгрызала леденец, можно было думать только о поэзии ее движений и завидовать бесчувственной конфете. Ева в возрасте пяти минут — вот с кем могла сравниться мисс Лоури в возрасте девятнадцати-двадцати лет. Трип представил меня, леденцы были на мгновение забыты, и она стала рассматривать меня с наивным интересом, как щенок (очень породистый) рассматривает жука или лягушку.
Трип стал у стола и оперся на него пальцами, словно адвокат или церемониймейстер. Но на этом сходство кончалось. Его поношенный пиджак был наглухо застегнут до самого ворота, чтобы скрыть отсутствие белья и галстука. Беспокойные глаза, сверкавшие в просвете между шевелюрой и бородой, напоминали шотландского терьера. Меня кольнул недостойный стыд при мысли, что я был представлен безутешной красавице как его друг. Но Трип, видимо, твердо решил вести церемонию по своему плану. Мне казалось, что в его позе, во всех его действиях сквозит стремление представить мне все происходящее как материал для газетного рассказа в надежде все-таки выудить у меня доллар на виски.
— Мой друг (я содрогнулся) мистер Чалмерс, — начал Трип, — скажет вам то же самое, что уже сказал вам я, мисс Лоури. Мистер Чалмерс — репортер и может все объяснить вам гораздо лучше меня. Поэтому-то я и привел его. (О Трип, тебе скорее нужен был Среброуст!) Он прекрасно во всем разбирается и может посоветовать, как вам лучше поступить.
Я не чувствовал особой уверенности в своей позиции, к тому же и стул, на который я сел, расшатался и поскрипывал.
— Э… э… мисс Лоури, — начал я, внутренне взбешенный вступлением Трипа. — Я весь к вашим услугам, но… э-э… мне неизвестны все обстоятельства дела, и я… гм…
— О! — сказала мисс Лоури, сверкнув улыбкой. — Дело не так уж плохо, обстоятельств-то никаких нет. В Нью-Йорк я сегодня приехала в первый раз, не считая того, что была здесь лет пяти от роду. Я никогда не думала, что это такой большой город. И я встретила мистера… мистера Сниппа на улице и спросила его об одном моем знакомом, а он привел меня сюда и попросил подождать.
— По-моему, мисс Лоури, — вмешался Трип, — вам лучше рассказать мистеру Чалмерсу все. Он — мой друг (я стал привыкать к этой кличке) и даст вам нужный совет.
— Ну, конечно, — обратилась ко мне Ада, грызя леденец, — но больше и рассказывать нечего, кроме разве того, что в четверг я выхожу замуж за Хайрэма Додда. Это уже решено. У него двести акров земли на самом берегу и один из самых доходных огородов на Лонг-Айленде. Но сегодня утром я велела оседлать мою лошадку, — у меня белая лошадка, ее зовут Танцор, — и поехала на станцию. Дома я сказала, что пробуду целый день у Сюзи Адамс; я это, конечно, выдумала, но это неважно. И вот я приехала поездом в Нью-Йорк и встретила на улице мистера… мистера Флиппа и спросила его, как мне найти Дж… Дж..
— Теперь, мисс Лоури, — громко и, как мне показалось, грубо перебил ее Трип, едва она запнулась, — скажите, нравится ли вам этот молодой фермер, этот Хайрэм Додд. Хороший ли он человек, хорошо ли к вам относится?
— Конечно, он мне нравится, — с жаром ответила мисс Лоури, — он очень хороший человек. И конечно, он хорошо ко мне относится. Ко мне все хорошо относятся!
Я был совершенно уверен в этом. Все мужчины всегда будут хорошо относиться к мисс Аде Лоури. Они будут из кожи лезть, соперничать, соревноваться и бороться за счастье держать над ее головой зонтик, нести ее чемодан, поднимать ее носовые платки или угощать ее содовой водой.
— Но вчера вечером, — продолжала мисс Лоури, — я подумала о Дж… о… о Джордже и… и я…
Золотистая головка уткнулась в скрещенные на столе руки. Какой чудесный весенний ливень! Она рыдала безудержно. Мне очень хотелось ее утешить. Но ведь я — не Джордж Я порадовался, что я и не Хайрэм… но и пожалел об этом.
Вскоре ливень прекратился. Она подняла голову, бодрая и чуть улыбающаяся. О! Из нее, несомненно, выйдет очаровательная жена — слезы только усиливают блеск и нежность ее глаз. Она сунула в рот леденец и стала рассказывать дальше.
— Я понимаю, что я ужасная деревенщина! — говорила она между вздохами и всхлипываниями. — Но что же мне делать? Джордж и я… мы любили друг друга с того времени, когда ему было восемь лет, а мне пять. Когда ему исполнилось девятнадцать — это было четыре года тому назад, — он уехал в Нью-Йорк. Он сказал, что станет полисменом, или президентом железнодорожной компании, или еще чем-нибудь таким, а потом приедет за мной. Но он словно в воду канул… А я… я очень любила его.
Новый поток слез был, казалось, неизбежен, но Трип бросился к шлюзам и вовремя запер их. Я отлично понимал его злодейскую игру. Во имя своих гнусных, корыстных целей он старался во что бы то ни стало создать газетный рассказ.
— Продолжайте, мистер Чалмерс, — сказал он. — Объясните даме, как ей следует поступить. Я так и говорил ей, — вы мастер на такие дела. Валяйте!
Я кашлянул и попытался заглушить свое раздражение против Трипа. Я понял, в чем мой долг. Меня хитро заманили в ловушку, и теперь я крепко в ней сидел. В сущности говоря, то, чего хотел Трип, было вполне справедливо. Девушку нужно вернуть в Гринбург сегодня же. Ее необходимо убедить, успокоить, научить, снабдить билетом и отправить без промедления. Я ненавидел Хайрэма и презирал Джорджа, но долг есть долг. Noblesse oblige и жалкие пять серебряных долларов не всегда оказываются в романтическом соответствии, но иногда их можно свести вместе. Мое дело — быть оракулом и вдобавок оплатить проезд. И я вошел одновременно в роли Соломона и агента Лонг-Айлендской железной дороги.
— Мисс Лоури, — сказал я, — жизнь — достаточно сложная штука. — Произнося эти слова, я невольно уловил в них что-то очень знакомое, но понадеялся, что мисс Лоури не слышала этой модной песенки. — Мы редко вступаем в брак с предметом нашей первой любви. Наши ранние увлечения, озаренные волшебным блеском юности, слишком воздушны, чтобы осуществиться. — Последние слова прозвучали банально и пошловато, но я все-таки продолжал: — Эти наши заветные мечты, пусть смутные и несбыточные, бросают чудный отблеск на всю нашу последующую жизнь. Но ведь жизнь — это не только мечты и грезы, это действительность. Нельзя жить одними воспоминаниями. И вот мне хочется спросить вас, мисс Лоури, как вы думаете, могли ли бы вы построить счастливую… то есть согласную, гармоничную жизнь с мистером… мистером Доддом, если во всем остальном, кроме романтических воспоминаний, он человек, так сказать, подходящий?
— О, Хайрэм очень славный, — ответила мисс Лоури. — Конечно, мы бы с ним прекрасно ладили. Он обещал мне автомобиль и моторную лодку. Но почему-то теперь, когда подошло время свадьбы, я ничего не могу с собой поделать… я все время думаю о Джордже. С ним, наверно, что-нибудь случилось, иначе он написал бы мне. В день его отъезда мы взяли молоток и зубило и разбили пополам десятицентовую монету. Я взяла одну половинку, а он — другую, и мы обещали быть верными друг другу и хранить их, пока не встретимся снова. Я храню свою половинку в коробочке с кольцами, в верхнем ящике комода. Глупо было, конечно, приехать сюда искать его. Я никогда не думала, что это такой большой город.
Здесь Трип перебил ее своим отрывистым скрипучим смехом. Он все еще старался состряпать какую-нибудь драму или рассказик, чтобы выцарапать вожделенный доллар.
— Эти деревенские парни о многом забывают, как только приедут в город и кой-чему здесь научатся. Скорее всего, ваш Джордж свихнулся или его зацапала другая девушка, а может быть, сгубило пьянство или скачки. Послушайте мистера Чалмерса, отправляйтесь домой, и все будет хорошо.
Стрелка часов приближалась к полудню; пора было действовать. Свирепо поглядывая на Трипа, я мягко и разумно стал уговаривать мисс Лоури немедленно возвратиться домой. Я убедил ее, что для ее будущего счастья отнюдь не представляется необходимым рассказывать Хайрэму о чудесах Нью-Йорка, да и вообще о поездке в огромный город, поглотивший незадачливого Джорджа.
Она сказала, что оставила свою лошадь (бедный Росинант!) привязанной к дереву у железнодорожной станции. Мы с Трипом посоветовали ей сесть на это терпеливое животное, как только она вернется на станцию, и скакать домой как можно быстрее. Дома она должна подробно рассказать, до чего интересно провела день у Сюзи Адамс. С Сюзи можно сговориться — я уверен в этом, — и все будет хорошо.
И тут я, не будучи неуязвим для ядовитых стрел красоты, сам начал увлекаться этим приключением. Мы втроем поспешили к парому; там я узнал, что билет до Гринбурга стоит всего один доллар восемьдесят центов. Я купил билет, а за двадцать центов — ярко-красную розу для мисс Лоури. Мы посадили ее на паром и смотрели, как она махала нам платочком, пока белый лоскуток не исчез вдали. А затем мы с Трипом спустились с облаков на сухую, бесплодную землю, осененную унылой тенью неприглядной действительности.
Чары красоты и романтики рассеялись. Я неприязненно посмотрел на Трипа: он показался мне еще более измученным, пришибленным, опустившимся, чем обычно. Я нащупал в кармане оставшиеся там два серебряных доллара и презрительно прищурился. Трип попытался слабо защищаться.
— Неужели же вы не можете сделать из этого рассказ? — хрипло спросил он. — Хоть какой ни на есть, ведь что-нибудь вы можете присочинить от себя?
— Ни одной строчки! — отрезал я. — Воображаю, как взглянул бы на меня Граймс, если бы я попытался всучить ему такую ерунду. Но девушку мы выручили, будем утешаться хоть этим.
— Мне очень жаль, — едва слышно сказал Трип, — мне очень жаль, что вы потратили так много денег. Мне казалось, что это прямо-таки находка, что из этого можно сделать замечательный рассказ, понимаете — рассказ, который имел бы бешеный успех.
— Забудем об этом, — сказал я, делая над собой похвальное усилие, чтобы казаться беспечным, — сядем в трамвай и поедем в редакцию.
Я приготовился дать отпор его невысказанному, но ясно ощутимому желанию. Нет! Ему не удастся вырвать, выклянчить, выжать из меня этот доллар. Довольно я валял дурака!
Дрожащими пальцами Трип расстегнул свой выцветший лоснящийся пиджак и достал из глубокого, похожего на пещеру кармана нечто, бывшее когда-то носовым платком. На жилете у него блеснула дешевая цепочка накладного серебра, а на цепочке болтался брелок. Я протянул руку и с любопытством его потрогал. Это была половина серебряной десятицентовой монеты, разрубленной зубилом.
— Что?! — спросил я, в упор глядя на Трипа.
— Да, да, — ответил он глухо, — Джордж Браун, он же Трип. А что толку?
Хотел бы я знать, кто, кроме Женского общества трезвости, осудит меня за то, что я тотчас вынул из кармана доллар и решительно протянул его Трипу.
Прагматизм чистейшей воды
Перевод под ред. М. Лорие.
Где искать мудрости? Вопрос этот стоит сейчас очень серьезно. Платон и Аристотель, Марк Аврелий и Эзоп — все мудрецы древности так или иначе скомпрометированы. Муравей, столько лет служивший хрестоматийным примером трудолюбия и ума, на поверку оказался суетливым идиотом, непроизводительно растрачивающим труд и время. Просветители из общества Шатоква пропагандируют на своих съездах не культуру, а игру в диаболо. Почтенные старцы пишут восторженные отзывы продавцам средств для ращения волос. В предсказаниях погоды, которые печатают газеты, встречаются опечатки. Университетские профессора превратились в…
Но воздержимся от личных выпадов.
Оттого, что мы будем сидеть в классах, рыться в энциклопедиях и в учебниках истории, мы не станем мудрее. «Знание пришло, а мудрость медлит». Мудрость — это роса, которая незаметно просачивается в нас, поит нас и способствует нашему росту. Знание — сильная струя воды, пущенная в нас из пожарного шланга. Она грозит подмыть наши корни.
Так давайте же лучше набираться мудрости. Если мы что-то знаем, так мы это знаем; но очень часто нам не хватает мудрости, чтобы это осознать, и тогда…
Но перейдем к рассказу.
Однажды на скамейке маленького городского парка я нашел журнал ценой в десять центов. Столько он, по крайней мере, запросил с меня, когда я опустился на скамью рядом с ним. Журнал был растрепанный, грязный, захватанный, в таких попадаются интересные рассказы. Однако он оказался всего лишь тетрадью для черновых записей.
— Я газетный репортер, — сказал я, чтобы нащупать почву. — Мне поручено написать что-нибудь о жизни тех несчастных, что проводят вечера в этом парке. Могу я вас спросить, чему вы, например, приписываете ваше падение…
Меня прервал смех такой заржавевший и неумелый, что мне стало ясно — он звучит впервые за много дней.
— Нет, нет, — сказал он. — Вы не репортер. Репортеры начинают разговор не так. Они притворяются, что сами бродяги, и рассказывают, что только что приехали зайцем из Сент-Луиса. Репортера я узнаю с первого взгляда. Мы, парковые бродяги, приучаемся разбираться в людях. Сидим здесь целыми днями и смотрим на прохожих. Я вам так определю каждого, кто проходит мимо моей скамьи, что вы диву дадитесь.
— Ну что ж, — сказал я. — Попробуйте. Как вы определите меня?
— Я бы сказал, — начал знаток человеческой природы после непростительной паузы, — что вы, скорее всего, занимаетесь подрядами, а может, служите в магазине или пишете вывески. В парк вы зашли докурить сигару и надеялись извлечь из меня небольшой бесплатный монолог. А впрочем, вы, может быть, штукатур или адвокат — уже темнеет, знаете ли, боюсь сказать точнее. А жена не позволяет вам курить дома.
Я мрачно нахмурился.
— Но опять же, — продолжал знаток рода человеческого, — жены у вас, пожалуй, нет.
— Нет, — сказал я, беспокойно вставая с места. — Нет, нет, нет. Но будет, клянусь стрелами Купидона. То есть если я…
Вероятно, голос мой замер, придушенный неуверенностью и отчаянием.
— Я вижу, у вас у самого есть в запасе история, — сказал запыленный субъект, и в тоне его мне послышалось нахальство. — Хотите — вот вам обратно ваши десять центов и выкладывайте. Меня тоже интересуют жизненные перипетии тех, кто проводит вечера в этом парке.
Это меня позабавило. Я посмотрел на своего оборванного соседа с большим интересом. У меня и правда была в запасе своя история. Почему бы и не рассказать ее? Ни с кем из знакомых я об этом не говорил. Я всегда был человеком сдержанным и замкнутым. Виной тому была либо душевная робость, либо чувствительность, а может, и то и другое. Я даже улыбнулся про себя, ощутив непонятное желание довериться этому незнакомому бродяге.
— Джек, — представился я.
— Мак, — представился он.
— Мак, — сказал я, — я вам все расскажу.
— Десять центов желаете получить авансом? — спросил он.
Я протянул ему доллар.
— Те десять центов, — сказал я, — пошли в счет гонорара за вашу историю.
— Не в бровь, а в глаз, — сказал он.
И, как это ни покажется невероятным влюбленным всего мира, которые поверяют свои горести только ночному ветру и полной луне, я открыл свою тайну этому оборванцу, менее всего, казалось бы, способному мне посочувствовать.
Я рассказал ему, что обожаю Милдред Телфэр — что это длится уже много дней, недель, месяцев. Рассказал о своем отчаянии, о мучительных днях и бессонных ночах, об угасающих надеждах и душевном смятении. Я даже описал этому ночному бродяге ее красоту, и царственную повадку, и уважение, которым она пользуется в обществе как старшая дочь старинного родовитого семейства, перед чьей гордостью бледнеет бахвальство миллионеров.
— Так чего ж вы зеваете? — спросил Мак, возвращая меня на землю.
Я объяснил ему, что я небогат, что доход мой так ничтожен, а страх так велик, что я не решаюсь даже заикнуться ей о своей любви. Я сказал, что при ней могу только краснеть и заикаться, а она смотрит на меня с волшебной, с ума сводящей насмешливой улыбкой.
— Она, выходит, вроде как профессионалка? — спросил Мак.
— Семейство Телфэр… — начал я заносчиво.
— Я это в рассуждении ее красоты, — объяснил он.
— Многие заслуженно ею восхищаются — ответил я осторожно.
— Сестры у нее есть?
— Есть одна.
— А еще знакомые девушки у вас есть?
— Ну конечно, — ответил я. — Много и еще несколько.
— Так вот, — продолжал он. — С другими девицами вы обращаться умеете? Ну там, строить им глазки, а когда и потрепать по щечке и ущипнуть? В общем, вы меня понимаете. А робость нападает на вас только с ней, с этой профессиональной красавицей, так?
— Вы, пожалуй, довольно верно обрисовали положение вещей, — согласился я.
— Так я и думал, — сказал Мак угрюмо. — Вот и со мной так же было. Я вам расскажу.
Я возмутился, но не подал виду. Что значат переживания этого бродяги, да и кого бы то ни было по сравнению с моими? Кроме того, я ему дал доллар и десять центов.
— Попробуйте мои мускулы, — неожиданно сказал мой собеседник, напружинив руку.
Я машинально послушался. На тренировках в гимнастическом зале к вам постоянно обращаются с такой просьбой. Рука его оказалась твердой, как чугун.
— Четыре года тому назад, — сказал Мак, — я мог уложить любого человека в Нью-Йорке, который не числился в профессиональных боксерах. Ваш случай — точная копия с моего. Я родился в Вест-Сайде, между Тридцатой улицей и Сороковой, номер дома я вам не скажу. Уже в десять лет я был отчаянным драчуном, а когда мне стукнуло двадцать, ни один любитель в городе не мог выдержать со мной и четырех раундов. Честное слово. Вы Билла Мак-Карти знаете? Нет? Он устраивал матчи для некоторых шикарных клубов. Так вот, я нокаутировал всех, с кем он меня сводил. Я был средневесом, но мог, если нужно, сбросить до полусреднего. Я боксировал по всему Вест-Сайду — на любительских состязаниях, бенефисах и частных встречах, и никому не удавалось меня победить.
Но представьте себе, в первый же раз, как я выступил против профессионала, я превратился в вареного рака. Сам не знаю, как это получилось, но только я струсил. Наверно, у меня слишком богатое воображение. Вся эта обстановка и публичность подействовала, нервы сдали. На ринге я не выиграл ни одной встречи. Всякие легковесы, всякий сброд записывались у моего менеджера, а потом подходили ко мне, хлопали легонько по руке и смотрели, как я валюсь наземь. Стоило мне увидеть публику и кучу людей во фраках в первых рядах, а на ринг выходил профессионал, как я становился слабее имбирного пива.
Понятно, на меня скоро перестали ставить и меня перестали выпускать против профессионалов, да и против порядочных любителей тоже. Но при этом, заметьте, я был не хуже большинства боксеров, и профессиональных и прочих. Губило меня это чувство оцепенения, омертвения какого-то, которое меня охватывало при виде противника-специалиста.
Так вот, сэр, когда я бросил это дело, меня стало тянуть к нему еще сильнее. Я ходил по городу и тузил частных лиц и всяких непрофессионалов просто для удовольствия. Я лупил фараонов в темных переулках, трамвайных кондукторов, извозчиков и ломовиков, — затевал ссору и лупил. Какого бы они ни были роста или веса, знали или не знали приемы, — я со всеми справлялся. Будь у меня на ринге та уверенность, с какой я действовал на улице, мой галстук был бы сейчас заколот булавкой с жемчугом, а носки на мне были бы шелковые, цвета гелиотроп.
Как-то вечером шел я по Бауэри, думал о разных разностях, а навстречу мне компания гуляк — в трущобы их понесло, поглядеть, как там люди живут. Было их человек шесть или семь, все во фраках и в цилиндрах. Один из них легонько спихнул меня с тротуара. У меня перед тем три дня не было ни одной потасовки. Я только сказал: «С превеликим удовольствием!» — и дал ему по уху.
Ну и пошло. Этот хлыщ работал так, что и в кинематографе лучше не увидишь. Улица была пустынная, фараона ни одного. Парень был знатоком своего дела, и все же на шестой минуте я его уложил.
Фрачники оттащили его к какому-то крылечку, прислонили и стали обмахивать. А один подошел ко мне и говорит:
— Молодой человек, вы знаете, что вы сделали?
— А, бросьте, — говорю, — ничего я не сделал, просто пощекотал немножко вашего приятеля. Везите его домой в университет, да скажите — пусть не валяет дурака, не изучает социологию где не надо.
— Милейший, — говорит он, — я не знаю, кто вы такой, но очень хотел бы узнать. Ведь вы нокаутировали Редди Бернса, чемпиона мира в среднем весе! Он приехал в Нью-Йорк только вчера вечером, договориться о встрече с Джимом Джеффрисом. Если вы…
Но когда я очнулся от обморока, оказалось, что я лежу на полу в аптеке, начиненный нашатырным спиртом. Знай я, что это Редди Бернс, я бы спрыгнул в водосточную канаву и прополз мимо него на карачках. Да если б я стоял на ринге и увидел, что он лезет под канат, я бы сквозь землю провалился.
— Вот что значит воображение, — закончил Мак. — И, как я уже говорил, ваш случай точно такой же. Вам никогда не выиграть. Перед профессионалами вы пасуете. Уж поверьте мне, скамейка в парке — вот чем кончится ваша романтическая история.
И Мак-пессимист хрипло рассмеялся.
— К сожалению, я не вижу здесь аналогии, — сказал я холодно. — С боксом я знаком очень поверхностно.
Оборванец для большей убедительности ткнул меня пальцем в рукав и объяснил свою притчу.
— Каждый из нас, — сказал он несколько даже назидательным тоном, — пялит буркалы на то, что ему нравится. Для вас это девица, с которой вы боитесь объясниться, для меня это была победа на ринге. И вы провалитесь так же, как я.
— Почему это вы думаете, что я провалюсь? — спросил я запальчиво.
— Потому, — отвечал он, — что вы боитесь выйти на ринг. Не решаетесь схватиться с профессионалом. Что ваш случай, что мой — одно и то же. Вы любитель, а раз так, значит, нечего вам лезть на ринг.
— Ну, мне пора, — сказал я, вставая, и с подчеркнутым вниманием посмотрел на часы.
Когда я отошел шагов на двадцать, парковый житель закричал мне вслед:
— Благодарю за доллар. И за десять центов. Но вы ее не добьетесь. Вы — в классе любителей.
«Так тебе и надо, — сказал я себе. — Не якшайся со всяким сбродом. Нет, какая наглость!»
Но пока я шел, слова его все время вертелись у меня в мозгу. Я, кажется, всерьез на него рассердился.
— Я ему докажу! — пригрозил я вслух. — Докажу, что тоже могу сразиться с Редди Бернсом, даже зная, с кем имею дело.
Я вбежал в телефонную будку и вызвал особняк Телфэров.
Мне ответил нежный, ласкающий голос. Мне ли было не знать его? Рука моя, державшая трубку, задрожала.
— Это вы? — сказал я, прибегая к дурацкой формуле всех, говорящих по телефону.
— Да, это я, — прозвучал в ответ низкий, хорошо поставленный голос, семейный признак всех Телфэров. — А кто говорит?
— Это я, — сказал я. — И мне нужно кое-что сообщить вам сейчас же, незамедлительно и без обиняков.
— Ой-ой-ой! — сказал голос. — Так это вы, мистер Арден!
— Конечно, — сказал я, — кто же еще? И давайте ближе к делу. — Последние слова прозвучали грубовато, но я не стал тратить времени на извинения. — Вы, разумеется, знаете, что я вас люблю и пребываю в этом идиотском состоянии уже давно. Довольно с меня этой канители… то есть я хочу сказать, что мне нужен ваш ответ немедленно. Согласны вы выйти за меня замуж? Да или нет? Пожалуйста, не вешайте трубку. Станция, не разъединяйте. Алло, алло! Да или нет?
Это был тот самый удар по уху, нанесенный Редди Бернсу. И я услышал ответ.
— Да, Фил, конечно, милый. Я не знала, что вы… то есть вы никогда не говорили… ой, приходите, пожалуйста, к нам, не могу я это сказать по телефону. Вы такой нетерпеливый. Но вы приходите, придете?
Приду ли!
Я с силой нажал звонок у подъезда Телфэров. Нечто в человеческом образе открыло дверь и загнало меня в гостиную.
«Ну и ладно, — подумал я, глядя в потолок. — Каждый может чему-нибудь научиться от каждого. Философская система у Мака, во всяком случае, вполне разумная. Сам он не сумел применить ее в жизни, а я ей воспользуюсь. Если хочешь попасть в класс профессионалов, нужно…»
И тут я перестал думать. Кто-то спускался по лестнице. У меня задрожали колени. Я понял, что испытывал Мак, когда на ринг выходил профессиональный боксер. Я беспомощно огляделся в поисках окна или двери, через которые можно было бы улизнуть. Если бы ко мне приближалась любая другая девушка, я еще мог бы…
Но тут дверь отворилась, и вошла Бесс, младшая сестра Милдред. Никогда еще я не замечал, какой это ангел красоты. Она подошла прямо ко мне… и…
Никогда еще я не замечал, какие у Элизабет Телфэр удивительные глаза и волосы.
— Фил, — сказала она низким, волнующим голосом всех Телфэров, — почему вы до сих пор молчали? А я все думала, что вам нравится моя сестра — до той минуты, когда вы позвонили мне по телефону.
Похоже, что мы с Маком навсегда останемся безнадежными любителями. Но если судить по тому, как дело обернулось в моем случае, так лучшего я и не желаю.
Чтиво
Перевод В. Муравьева.
I
Как-то прошлым летом поехал я в Питтсбург — ладно, кроме шуток, надо было — и поехал.
В моем пульмане народу вполне хватало — такого самого, какой ездит в пульманах. Большей частью дамы, в кружавчатых платьях бурого шелка на квадратных кокетках, вуалетки с мушками. Они не давали открывать окна. Мужчин тоже не меньше обычного, и по виду их сразу было ясно, что все они куда-нибудь едут и чем-нибудь занимаются. Есть такие знатоки людей: только глянут на соседа в поезде и тут же скажут вам, откуда он, кто таков, почем его покупают и почем, наоборот, продают; я так не умею. Я понимаю про спутника, только если поезд перехватят налетчики — или если мы с ним разом схватимся за последнее чистое полотенце в туалете спального вагона.
Вошел проводник и смахнул кучку сажи с подоконника на мое левое колено. Я застенчиво стряхнул кучку на пол. Стояла жуткая духота. Дама в вуалетке потребовала выключить еще два вентилятора и громко заметила, что мы здесь не в Швейцарии. Я вяло откинулся в кресле номер 7 и почти без любопытства поглядел на узкую, темную, лысоватую макушку, выглядывавшую из-за спинки кресла номер 9.
Вдруг номер 9 швырнул какую-то книжку, и она шлепнулась на пол между креслом и окном: это оказался роман «Дева-роза и Тревельян», боевик сезона. Придира — а может, и ханжа — повернулся с креслом к окну, и я сразу признал в нем Джона А. Пискада из Питтсбурга, коммивояжера по сбыту зеркальных стекол, старого знакомого, с которым не виделся два года.
За две минуты мы успели повернуться друг к другу, обменяться рукопожатием и покончить с погодой, конъюнктурой, здоровьем и местожительством. Надо было начинать о политике, но от этого бог уберег.
Жаль, что вы не знаете Джона А. Пискада. Он из того теста, которого на героев обычно не хватает. Собой невелик, ухмылка во весь рот, а глазом так и клеится к красному пятнышку на кончике вашего носа. Галстук он какой носил, такой всегда и носил; манжеты на запонках, башмаки на пуговицах. Он тверже и надежнее любого изделия Камбрийского сталепроката; и твердо верит, что как только в Питтсбурге всем велят поставить дымопоглотители, так святой Петр снидет с небес и усядется у начала Смитфилд-стрит, а филиал наверху препоручит младшему персоналу. Верит он еще, что «нашим» зеркальным стеклом только и торговать и что если ты дома, то веди себя прилично и соблюдай что положено. Я сошелся с ним в Городе Ежедневной Ночи и остался в неведении, что он думает про жизнь, любовь, литературу и прочую этику. Мы говорили о том о сем и расходились после бутылки Шато-Марго, тушеной баранины, оладьев, пудинга по-домашнему и кофе («Погоди-ка, эй! молоко отдельно»). Теперь настала пора разобраться с ним толком. А дела — что ж дела! — боссы посовещались, и дела пошли в гору, а сходит он в Коктауне.
II
— Да, кстати, — сказал Пискад, ткнув брошенную книгу правым носком, — вам попадалось какое-нибудь такое чтиво в этом роде? Ну, где герой такой американистый — иногда даже из Чикаго — и без ума от принцессы европейских кровей, а она странствует под чужим именем — и вот он за ней, как пришитый, аж до самого ее королевства-княжества? Наверняка попадалась, все они как две капли воды. То у них орудует ловкач — вашингтонский репортер, то — Ван Какойтотам из Нью-Йорка, то чикагский хлеботорговец с пятьюдесятью миллионами в кармане. И все они всегда готовы породниться с любыми иностранными монархами, от которых королевы и принцессы ездят к нам попрыгать на плюшевых сиденьях Трансконтинентального экспресса. Зачем бы еще им сюда ехать?
И вот, я говорю, этот хват ударяет за такой сидячей королевной и узнает, кто она есть. Так это вечерком прогуляется с ней по корсо или там штрассе — и шпарит на десять страниц. Она ему — что они, мол, неровня, а он в ответ давай звонить, что в Америке все кругом некоронованные принцы. Бери его тары-бары, положи на музыку, потом попробуй без музыки — и выйдет как раз песенка Джорджа Коэна.
Да чего там, хоть одну-то книженцию читали, вот и всюду так же: королевские швейцары-телохранители под руку ему не попадайся, как котят валяет. И фехтовать тоже мастак. Ладно, я вообще-то видел одного из Чикаго: силен был пароходы фрахтовать, но фехтовать, не дай бог, не пробовал. А этот, значит, скок на приступочку королевской там аркады замка Шутценфриценшвайн: рапира в руке так и блещет, а из шести взводов предателей и убийц того самого законного короля сам собой ромштекс получается. Ну там, дуэль-другая с канцлерами, эрцгерцоги опять же австрийские вчетвером норовят королевство под бензоколонку разделать, но куда им против него.
Это ладно, а главное — когда принцессы жених граф Феодор зажал его между мостом и заброшенной часовней и наставил на него пищаль, замахнулся ятаганом и науськал кровожадных сибирских овчарок. Вот где жизнь-то, вот почему роман идет двадцать девятым изданием, прежде чем издатель раскачался выплатить автору аванс.
Ну, американцу пальто не жалко, он его на овчарок, по пищали трах кулаком, на ятаган как ятагаркнет — а графу перепадает прямой короткий в левый глаз, с приветом от Малыша Мак-Коя. Конечно, не всегда так сразу, читателю за свои деньги полагается и настоящая драка. Граф на этот случай, оказывается, тоже не дурак подраться, может за себя постоять: но тот его разделывает, как Корбетт Салливана на первенство мира, такой бокс идет, читай — не хочу. А под конец книги маклер с принцессой уединяются под липами в исторической аллейке имени сыра Рокфора. Всё, на этом про любовь кончается, куда ж дальше. Правда, я заметил, что по-настоящему-то до конца ни один автор не доходит. Даже у них, у писателей, не хватает совести посадить этого чикагского ловкача на трон Лангустопотсдама или угощать чистокровную принцессу жареной рыбой с картофельным салатом где-нибудь в итальянской забегаловке на Мичиган-авеню. Ну и как вы на все на это смотрите?
— Да как сказать, Джон, — ответил я. — Есть ведь пословица: перед любовью все равны.
— Э, нет, — сказал Пискад, — одни равны, другие — не очень, а романы все дрянь. Я, может, и торгую зеркальным стеклом, а в литературе все ж таки слегка понимаю. Это не книжки, а сплошное вранье — и вот всякий раз, что я в поезде, на меня прямо кидаются с ними. Незачем, я говорю, нашему брату американцу разводить международную путаницу и якшаться с отжившей заокеанской аристократией. Когда люди на самом деле женятся, они, будьте уверены, подыскивают себе подходящую пару. Простой парень ухаживает за одноклассницей, с которой вместе пел в школьном хоре. Молодые миллионеры обязательно влюбляются в балерин, с которыми сошлись во вкусах на омаров под соусом. Вашингтонские газетчики всегда женятся на вдовах старше их лет на десять, квартирохозяйках с жильцами. А когда красавчик с обложки «Лайфа» едет за границу и долбает там королевства только потому, что он американец не хуже Тафта и слегка обучен гимнастике, то спасибо, сэр, видали мы такие романы. А как они разговаривают, вы только послушайте!
Пискад поднял и листнул книжонку.
— Нет, вы послушайте, — сказал он. — Тревельян крутит мозги принцессе в дальнем конце тюльпановых зарослей. Вот нашел:
«Не говори так, о самый чудный и сладостный, о прелестнейший из цветов земных. Дерзну ли я? Ты — недоступная звезда, осиянная царственным величием, а я — всего-навсего я. Но все же я мужчина, и у меня хватит духу на все. Я не ношу титула, я если и монарх, то некоронованный, но вот моя рука, а вот мой верный меч, которому, может статься, еще суждено избавить Шутценфриценшвайн от предательских пут!»
— Представьте парня из Чикаго с мечом, и он еще вдобавок хочет избавить от пут что-то такое на слух явно вроде свиной тушенки! Да он, наоборот, потребует, чтобы ее как следует обложили пошлиной на ввоз!
— Я, кажется, понял вас, Джон, — сказал я. — Вы хотите, чтобы авторы не мешали все и всех в одну кучу. Чтобы турецкие паши держались подальше от вермонтских фермеров, английские герцоги от лонг-айлендских рыбаков, итальянские графини от ковбоев из Монтаны, а цинциннатские пивовары от индийских раджей.
— А простой деловой народ — от аристократок из высшего света, — дополнил Пискад. — Чушь получается. Спорь не спорь, а люди делятся на разные классы, и всякий ищет не отбиться от своих. И не отбивается. Надо же — ведь тратятся, покупают такие книжонки — сотнями тысяч! Да зачем тебе эти чудеса в решете, каких в жизни не видано и не слыхано!
III
— Да ладно вам, Джон, — сказал я, — я этих боевиков давно в руки не брал. Почитал бы — может, примерно и согласился бы с вами. Вы лучше о себе расскажите. Как у вас дела идут, что ваша компания?
— Дай бог всякому, — сказал Пискад, сразу просветлев. — Жалованье два раза прибавили, да еще комиссионные. Купил хорошенький участок по Восточной дороге, домик там построил. На будущий год, глядишь, стану пайщиком. Пусть в президенты выбирают кого хотят, мое дело верное.
— Подругой жизни пока не обзавелись, Джон? — спросил я.
— Как, я вам разве не рассказывал? — с широкой улыбкой изумился Пискад.
— О-го! — сказал я. — Стекло, стало быть, стеклом, а романы крутить тоже время находится?
— Нет, нет, — сказал Джон. — Какие там романы! Да я вам расскажу все как было. Года полтора назад сижу я в поезде, еду на юг в Цинциннати, и вдруг вижу напротив девушку, какая до сих пор не попадалась. Ничего такого особенного, знаете, просто то, что доктор прописал. Я вообще-то ухаживать никогда не умел — платочки там, автомобили, марки со значением, штучки на ступенечках — да это все и не по ней. Она сидит читает книгу — вообще тихо занимается своим делом, и как-то мир от этого становится лучше и чище. Я поглядываю на нее запасным краем глаза и вдруг переношусь из пульмана в коттедж с лужайкой и с крылечком в плюще. Заговаривать с ней толку не было, но зеркальное стекло я пока решил побоку.
Она пересела в Цинциннати и отправилась спальным вагоном в Луисвилль напрямик по косой с петельками. Там она перекомпостировала билет, и дальше — Шелбивилль, Фрэнкфорд, Лексингтон. Вот где началось! Едва за ней угнался. Поезда когда хотели, тогда и приходили и никуда особенно не отправлялись — так, болтались на путях, место занимали. Потом стали останавливаться на разъездах, а в городах — нет, а потом вообще стали и стоят. Словом, не торговать бы мне зеркальным стеклом, а служить в агентстве Пинкертона, если б там проведали, как я уследил за этой девицей. На глаза ей старался не попадаться, но из виду не терял.
Ну, и сошла она, наконец, в виргинском захолустье, часов так в шесть вечера. Кругом полсотни домов и четыре сотни негров. Красная слякоть, мулы и пятнистые псы.
Встречал ее высокий старик, лицо гладкое, сам седой, глядит, как сенаторы Юлий Цезарь и Роско Конклин с одной открытки. Костюм на нем никуда, но это я потом заметил. Взял он у нее саквояжик, и зашагали они в гору по дощатым настилам. А я за ними — с таким видом, будто ищу в песке кольцо с камушком, которое моя сестра посеяла на пикнике в прошлую субботу.
Взошли они на холм, а там ворота. Поднял я глаза — дух захватило. Там, оказывается, небывалой величины роща, а в ней домище с белыми круглыми колоннами высотой в тыщу футов, а вокруг такие розы, беседки и сирени, что и дома бы не видать, будь он хоть чуть пониже вашингтонского Капитолия.
— Приехали, нечего сказать, — говорю я себе. — Я-то думал, что она хотя бы девушка не особенно слишком богатая. А это либо губернаторский дворец, либо сельскохозяйственный павильон к новой всемирной выставке, одно другого не легче. Пойду-ка я обратно в деревню: почтаря, что ли, почтить визитом или провизора проведать — авось порасскажут.
В деревне я набрел на захудалую гостиницу под названием «Дом с ивой». Трудно сказать, почему ее так назвали: правда, у крыльца паслась сивая кобыла. Я поставил чемодан с образцами на пол и подал голос. Я сказал хозяину, что беру заказы на зеркальное стекло.
— Зеркальное — это мне не надо, — сказал он, — а вот стеклянный кувшин у меня разбился, как бы склеить.
Скоро он у меня начал болтать языком и даже отвечать на вопросы.
— Да как же, — говорит, — это всем известно, кто живет в белом доме на холме. Это полковник Аллен, самый главный и самый родовитый в Виргинии и вообще. Знатней не бывает. Дочка его нынче приехала на поезде: она в Иллинойсе была, у хворой тетки.
Я там и устроился, а на третий день гляжу — она гуляет перед домом, у самого, можно сказать, забора. Я остановился и приподнял шляпу — будь, думаю, что будет.
— Простите, — говорю, — вы не знаете, где здесь проживает мистер Хинкл?
Она на меня так спокойно посмотрела, словно я пришел сад им полоть, только в глазах что-то такое мелькнуло.
— В Берчтоне таких нету, — говорит. — Насколько я, — говорит, — знаю. А вы, простите, ищете белого джентльмена?
Поддела-таки меня.
— Легче, легче, — говорю. — Я хотя сам из Питтсбурга, но копченых мне не надо.
— Далеко вы, однако, заехали, — говорит она.
— Пустяки, — говорю, — что мне лишняя тысяча миль.
— Давно уж были бы дома, если б тогда не проснулись в Шелбивилле, — говорит она и красная становится, как роза на ихнем садовом кусту. А я вспомнил, что на вокзале в Шелбивилле задремал, пока она своего поезда дожидалась, и только-только успел проснуться.
Ну, я ей объясняю, зачем приехал, с полным уважением и со всей серьезностью. И кто я такой, чем занимаюсь, и как мне необходимо надо с ней познакомиться, чтоб она ко мне пригляделась.
Она и улыбается и краснеет, а глаза ясные. Говорит и смотрит.
— Со мной еще никто так не разговаривал, мистер Пискад, — говорит она. — Как вы сказали вас зовут — Джон?
— Джон А, — говорю.
— А вы, кстати, опять чуть-чуть не упустили поезд — на разъезде в Паухэтене, — говорит она и смеется, словно возмещает мне дорожные расходы.
— Почем вы знаете? — говорю.
— Ой, мужчины такие неуклюжие, — говорит она. — Я вас в каждом поезде видела. Я все боялась, что вы со мной заговорите — очень рада, что не заговорили.
Мы еще потолковали; а потом она стала такая гордая, серьезная — поворачивается и показывает на большой дом.
— Аллены, — говорит, — живут в Элмкрофте сто с лишним лет. Мы аристократы. Смотрите, какая усадьба. Пятьдесят комнат. Портики, балконы, колонны — смотрите. А потолки в гостиных и зале высотой двадцать восемь футов. Отец мой — прямой потомок препоясанных лордов.
— Я одному в «Дюкень-отеле», в Питтсбурге, тоже, помнится, препоясал, — говорю, — и ничего, обошлось. Он, правда, был не лорд, но вроде того: набрался мононгахельского виски и хотел по нахалке жениться на богатой.
— Конечно, — говорит она, — отец мой никогда не позволит коммивояжеру ступить на землю Элмкрофта. Знал бы он, что я с таким через забор разговариваю — запер бы меня в моей комнате.
— А вы-то мне позволите ступить? — спрашиваю. — Я, положим, приду — вы со мной будете разговаривать? Потому что, — говорю, — если вы скажете, чтоб я, пожалуйста, приходил, то что мне лорды, препоясанные, преподтяженные или хоть на английских булавках.
— Я не должна говорить с вами, — говорит она, — потому что мы друг другу не представлены. Это не принято. Так что всего хорошего, мистер…
— Смелее, — говорю. — Небось не забыли, как меня зовут.
— Пискад, — говорит она, закусив губу.
— А сначала как? — говорю, не теряя того же спокойствия.
— Джон, — говорит она.
— Джон — дальше что? — говорю.
— Джон А, — говорит она, вздернув головку. — Еще что-нибудь хотите спросить?
— Завтра приду повидаться с вашим препоясанным лордом, — говорю.
— Он вас собакам скормит, — говорит она и смеется.
— Ну и пусть, наедятся — резвей бегать будут, — говорю. — Я и сам охотник не хуже любого другого.
— Мне пора идти, — говорит она. — Мне совершенно не нужно было вступать с вами в беседу. Надеюсь, вы благополучно доедете обратно в свой Миннеаполис — или, простите, Питтсбург? Всего доброго!
— Доброй ночи, — говорю, — нет, не в Миннеаполис. А как, простите, лично вас зовут, помимо фамилии?
Она не сразу ответила. Потом сорвала листик с куста и сказала:
— Меня, — говорит, — зовут Джесси.
— Доброй ночи, мисс Аллен, — говорю я.
Наутро, ровно в одиннадцать, я звоню в звонок этого главного павильона всемирной ярмарки. Не проходит и часа, как старик негр под восемьдесят спрашивает меня, чего мне угодно. Я ему мою карточку и говорю, что мне угодно полковника. Он меня проводит внутрь.
Бывало с вами, что вы разгрызли грецкий орех, а он гнилой? Вот такой оказался дом. Мебели в нем не хватило бы на восьмидолларовую квартирку. Кресла с конским волосом и портреты предков по стенам — вот и все, и больше ничего. Но когда вошел полковник Аллен, тут словно свечи зажгли. Представляете, будто оркестр заиграл и старинные люди в париках и белых чулках пустились танцевать кадриль. Вот он какой был — хотя и в том же самом поношенном костюме, в каком я его видел на станции.
Девять секунд, не меньше, он меня разглядывал, и я чуть было не струхнул и не стал предлагать ему зеркальное стекло. Но быстро с собой совладал. Он мне предложил сесть, и я ему рассказал все. Я ему рассказал, как ехал за его дочкой от Цинциннати, чего ради ехал, какое у меня жалованье и виды на будущее, и объяснил ему, как понимаю жизнь: дома соблюдать без всяких, а в дороге не больше четырех кружек пива в день и не выше двадцати пяти центов фишка. Вижу, сейчас он меня из окна вышвырнет, но говорить — говорю. Скоро дошло дело до анекдота про соломенную вдову и конгрессмена с Запада, который потерял бумажник, — ну, помните. И он рассмеялся, а смеха, это я ручаюсь, ни кресла, ни предки давным-давно не слыхали.
Часа два у нас шел разговор. Я ему выложил все анекдоты, какие знал; потом он стал задавать вопросы, и я выложил все остальные. Я его только попросил дать мне возможность; не выйдет с дочкой — все: я сматываюсь и меня нет. Наконец, он говорит:
— При дворе Карла Первого был некий сэр Кортни Пискад, если я не ошибаюсь.
— Может, и был, — говорю, — но он не из наших. Наши как жили, так и живут в Питтсбурге. Есть у меня, правда, дядя на стороне, торгует недвижимостью, и еще один дядя — тот на чем-то попался в Канзасе. А насчет остальных — езжайте к нам в Дымный, поспрошайте — вам все скажут, как есть. А кстати, знаете историю, как капитан-китобой учил матроса молиться?
— К сожалению, у меня не было случая с ней ознакомиться, — говорит полковник.
Ну, я ему рассказал. Смеху было! Я даже пожалел, что он не клиент. Стекла бы ему сбыл — вагон! А он говорит:
— На мой взгляд, мистер Пискад, обмен анекдотами и забавными случаями из жизни — один из лучших способов времяпрепровождения и дружеского общения. Если позволите, я расскажу вам историю из области охоты на лисиц, к которой я лично был причастен и которая, надеюсь, доставит вам некоторое удовольствие.
И рассказывает. По часам — сорок минут. Рассмешил? А как вы думаете! Когда я просмеялся, он позвал того Пита, престарелого негритоса, и послал его в гостиницу за моим чемоданом. И пока я оттуда не уехал, адрес мой был Элмкрофт.
На третий день мне выпало перекинуться словом наедине с мисс Джесси — на веранде, пока полковник припоминал следующий анекдот.
— Отличный выдался вечер, — говорю.
— Вот он идет, — говорит она. — Он вам сейчас расскажет про старого негра и зеленые арбузы. Это по порядку за анекдотом про янки и петуха-задиру. И еще один раз, — говорит, — вы чуть не отстали — в Пуласки-Сити.
— Да, — говорю, — помню. Поезд тронулся, я вскочил на подножку, нога соскользнула, едва не упал.
— Я видела, — говорит она. — И… и я… и я испугалась, что вы упадете, Джон А. Я очень испугалась.
И шасть к себе в дом через стеклянную дверь.
IV
— Коктаун, — загудел, проходя, проводник. Поезд замедлил ход.
Пискад надел шляпу и собрал пожитки — с небрежной ловкостью опытного путешественника.
— Мы поженились год назад, — сказал он. — Я же говорю — построил домик по Восточной дороге. И препоясанный — в смысле полковник — тоже с нами. Возвращаюсь, а он караулит у калитки, не привез ли я какого новенького анекдота.
Я поглядел в окно. Коктауном назывался неровный склон горы с двумя десятками мрачных халуп, подпертых грудами ишака и битого кирпича. Дождь так и хлестал, и ручьи в черной пене растекались у железнодорожного полотна.
— Зеркальным стеклом вы здесь не расторгуетесь, Джон, — сказал я. — Чего вам надо в этой богом забытой дыре?
— Понимаете, — сказал Пискад, — я тут на днях возил Джесси слегка проветриться в Филадельфию, и на обратном пути она вроде бы где-то здесь в окошке заметила горшок с петуниями — такими же, как у нее были когда-то в Виргинии. Ну, я и думаю — задержусь-ка здесь на ночь, погляжу, может, раздобуду для нее какие-нибудь там ростки-черенки. О, приехали. Доброй вам ночи. Адрес у вас есть. Как-нибудь выберетесь — повидаемся.
Поезд тронулся. Бурая дама в мушках потребовала открыть окна, благо и дождь хлынул вовсю. Прошел проводник со своим загадочным жезлом и принялся зажигать свет.
Я поглядел под ноги и увидел книгу. Я ее подобрал и снова положил на пол — так, чтобы ее не заливало дождем. И вдруг улыбнулся при мысли, что география жизни не помеха.
— Удачи тебе, Тревельян, — сказал я. — Петуний тебе для твоей принцессы!
Лукавый горожанин
Перевод Г. Конюшкова.
Разбивая всех людей по сортам с точки зрения денег, я обнаружил, что не выношу трех сортов, а именно: имеющих больше, чем они могут тратить, имеющих больше, чем они тратят, и тратящих больше, чем они имеют. Из этих же трех разновидностей мне меньше всего нравится первая. Но все же, как человек, мне очень нравился Спенсер Гренвилл Норт, хотя у него и было сколько-то миллионов, не то два, не то десять, не то тридцать — точно не помню.
В этом году я не выезжал на лето из города. Обычно я проводил лето в деревушке на южном берегу Лонг-Айленда. Это замечательное местечко было со всех сторон окружено утиными фермами, и утки, собаки, лесные птицы и неугомонные ветряные мельницы поднимали такой шум, что я мог там спать так же спокойно, как и у себя в Нью-Йорке, на шестом этаже, у самой линии эстакадной дороги. Но в этом году я не выезжал на лето из города. Запомните: не выезжал! Когда один из моих друзей спросил почему, я ответил: «Потому, старина, что Нью-Йорк самый приятный летний курорт в мире». Вы когда-нибудь слышали это раньше? Так, именно так я ему и ответил.
В это время я был агентом по объявлениям фирмы «Бинкли и Бинг — антрепренеры и режиссеры». Вы, конечно, знаете, что такое агент по объявлениям. Так вот он совсем не то. Это — профессиональная тайна. Бинкли путешествовал по Франции в своем новом автомобиле фирмы «С. Н. Уильямсон», а Бинг отправился в Шотландию познакомиться с устройством шотландских катков, которые почему-то в его мозгу ассоциировались не с гладкой ледяной поверхностью, а с сооружением шоссейных дорог. Они вручили мне перед отъездом жалованье за июнь и июль, предоставленные мне в виде отпуска, что, впрочем, вполне соответствовало их широкому размаху. А я остался в Нью-Йорке, который считал лучшим летним курортом в…
Но об этом я уже говорил.
Десятого июля в город из своего летнего становища под Адирондаксом приехал Норт. Попробуйте представить себе это становище из шестнадцати комнат, с водопроводом, с одеялами на гагачьем пуху, с мажордомом, с гаражом, с тяжелым столовым серебром и с междугородным телефоном. Конечно, оно было расположено в лесу если мистер Пингот желает сохранить леса, пусть он раздаст каждому гражданину по два, или по десять, или по тридцать миллионов долларов, тогда все деревья придвинутся к таким становищам, подобно тому, как Бирнамский лес придвинулся к Дунсинану и леса будут наверняка сохранены.
Норт застал меня в моей квартире из трех комнат с ванной и особой платой за электричество, в случае если оно расходуется неумеренно или горит всю ночь. Он хлопнул меня по спине (чаще меня хлопают по колену) и приветствовал с необычайной шумливостью и возмутительно хорошим настроением. Он выглядел до наглости здоровым, загорелым и хорошо одетым.
— Только что приехал на несколько дней, — сказал он, — нужно подписать кое-какие бумаги и прочую ерунду. Мой поверенный вызвал меня по телеграфу; а вы-то, старый лентяй, что делаете в городе? Я вам как-то позвонил, и мне сказали, что вы в городе. Что-нибудь стряслось с этой вашей «Утопией» на Лонг-Айленде, куда вы таскали каждое лето пишущую машинку и паршивое настроение? Или что-нибудь случилось с этими… как их… с лебедями, что ли, которые поют на фермах по вечерам?
— Вы хотите сказать: с утками, — ответил я. — Песни лебедей ласкают слух более счастливых. Лебеди обычно плавают в искусственных озерах, во владениях богатых; там они грациозно изгибают свои длинные шеи, чтобы услаждать взоры любимцев Фортуны.
— Но они точно так же плавают и в Центральном парке, — заметил Норт, — и услаждают взоры иммигрантов и всяких шалопаев. Я на них там насмотрелся достаточно. Но вы-то почему в городе в такое время?
— Нью-Йорк, — начал я свою тираду, — самый приятный лет…
— Бросьте, бросьте, — горячо перебил Норт. — Меня на это не поймать! Да вы и сами отлично знаете. Но вот что, дружище, вы обязательно должны побывать у нас этим летом. У нас сейчас Престолы, и Том Волни, и все Монроу, и Люлю Стенфорд, и мисс Кэнди со своей тетушкой, которая вам так нравилась.
— Да кто вам сказал, что мне нравилась тетушка мисс Кэнди? — перебил я.
— Да я этого вовсе не говорю, — ответил Норт. — В этом году мы проводим время как никогда. Щуки и форели так клюют, что готовы, кажется, лезть на крючок, если на него нацепить даже проспекты Монтанских медных копей. У нас там пара моторных лодок. Постойте-ка, я расскажу, как мы проводим почти все вечера: к моторной лодке прицепляем на буксир весельную, а в нее ставим граммофон и сажаем мальчика, чтобы менял пластинки, — и на воде, да еще ярдов за двенадцать, это выходит совсем не так плохо. Кроме того, через лес проходят довольно приличные дороги, и мы гоняем на автомобиле. Я захватил с собой парочку. А от нас до отеля «Пайнклифф» всего каких-нибудь три мили. А что там за люди в этом сезоне! Два раза в неделю мы там танцуем. Ну как, старина, могли бы вы катнуть со мной на недельку?
Я рассмеялся.
— Норти, — ответил я, — простите, что я так фамильярничаю с миллионером, но, по правде говоря, я не люблю имен Спенсер и Гренвилл. Ваше приглашение очень мило, но летом город для меня приятнее. Когда вся буржуазия выезжает, а город пылает девяноста градусами в тени[10], я могу жить здесь совсем как Нерон, — только, благодарение небу, могу не играть на лире. Тропики и умеренные зоны, как горничные, являются на мой вызов. Я сижу под флоридскими пальмами и ем гранаты, а стоит мне только нажать кнопку, как сам Борей навевает на меня арктическую прохладу. Что же касается форелей, так вы же сами прекрасно знаете, что приготовить их так, как Жан у Мориса, не может никто в целом мире.
— Нет, послушайте, — сказал Норт. — Мой повар всем даст двадцать очков вперед. Он шпигует форель свиным салом, заворачивает в кукурузные листья, засыпает горячей золой, а поверх кладет горячие уголья. Мы разводим на берегу костры и ужинаем необыкновенной рыбой.
— Ну, знаю, знаю, — заметил я, — лакеи привозят вам столы, стулья, вышитые скатерти, и вы едите серебряными вилками. Знаю я эти становища миллионеров. Ведерки с шампанским обезображиваются полевыми цветами, и уж, конечно, после форелей мадам Гетрацини поет вам в лодке под балдахином.
— Нет, нет, — обиженно возразил Норт, — и совсем не так уж скверно. Правда, мы приглашали раза три-четыре артистов, но никаких звезд не было, — все в разъезде. По правде говоря, я люблю некоторый комфорт, даже когда отказываюсь от обычных удобств. Вы-то не рассказывайте, будто вам нравится сидеть в городе все лето! Все равно, не поверю. Ну а если и нравится, то почему же вы четыре года подряд ускользали из города ночным поездом и скрывали даже от близких друзей, где находится ваша аркадская деревня?
— Потому, — ответил я, — что друзья могли бы устремиться за мной и открыть ее местоположение. Недавно я узнал, что в городе появились Амариллис. Самое приятное, самое свежее, самое яркое, самое редкое можно найти только в городе. Если вы свободны вечером, я вам это докажу.
— Я свободен, — ответил Норт, — к тому же у меня автомобиль. Вероятно, с тех пор как вы перешли на городскую жизнь, ваше представление о деревенских развлечениях заключается в том, чтобы покрутиться в Центральном парке между полисменами на велосипедах, а потом тянуть липкое пиво в каком-нибудь душном подвальчике под вентилятором, у которого столько оборотов в неделю, сколько переворотов в Никарагуа каждый день.
— Но начнем все-таки с парка, — сказал я.
Тяжелый спертый воздух моей маленькой квартиры душил меня, и чтобы доказать моему другу, что Нью-Йорк самый приятный и т. д., мне было совершенно необходимо глотнуть хоть немного свежего воздуха.
— Ну, может ли где-нибудь воздух быть чище и свежее, чем здесь? — спросил я, как только мы углубились в парк.
— Воздух?! — презрительно сказал Норт. — И это, по-вашему, воздух? Этот удушливый туман, воняющий отбросами и бензиновым перегаром! Хотелось бы мне, дружище, чтобы вы сейчас вдохнули хоть один глоток настоящего адирондакского смолистого лесного воздуха.
— Да знаю я его! — ответил я. — Но за легкий морской бриз, дующий с залива, подгоняющий мою легкую лодочку вдоль Лонг-Айленда и щекочущий ноздри соленым ароматом моря, я не возьму и десяти шквалов вашего скипидарного воздуха.
— Так почему же, — с любопытством спросил Норт, — вы не поехали туда, а закупорились в этом пекле?
— Потому, — упрямо ответил я, — что Нью-Йорк самый приятный летний…
— Довольно, довольно! — перебил Норт. — Вы ведь еще не генеральный агент по рекламе нью-йоркского метрополитена, да вы и сами не верите тому, что говорите.
Доказать ему справедливость моей теории было довольно трудно. Бюро погоды и время года как будто составили заговор, и развиваемая аргументация требовала большого красноречия.
Казалось, город висит над самой доменной печью. Повсюду в изможденных жарой фигурах мужчин, прогуливающихся в соломенных шляпах и вечерних костюмах, и в уныло тянущихся наемных экипажах, двигающихся, как в процессии Четвертого июля[11], — повсюду чувствуется какое-то подогретое оживление. Отели сохраняли свой блестящий и гостеприимный вид, но стоило заглянуть в эти грандиозные пустые пещеры, как ярко начищенный вид ступенек бара явно говорил, что на них давно уже не ступала нога посетителя. В узких переулках ступеньки крылец старых, темных домов были усеяны пестрыми роями жителей подвалов и чердаков, вытащивших свои соломенные коврики, восседающих на них и оглашающих воздух громкими спорами.
Мы с Нортом пообедали в ресторане на крыше; и в течение нескольких минут я думал, что мне, наконец, повезло. Восточный, почти холодный ветер обвевал эту бескрышную крышу. Скрытый цветами, очень приличный оркестр играл так, что делал музыку терпимой, а разговор возможным.
За другими столиками несколько дам в безукоризненных летних туалетах оживляли и окрашивали общую картину. А прекрасный обед, доставляемый главным образом из холодильника, казалось, с успехом поддерживал мое мнение о летнем отдыхе. Но в течение всего обеда Норт беспрестанно ворчал, проклиная своего поверенного, и так часто вспоминал о своем лесном становище, что мне, наконец, захотелось, чтобы он туда поскорее отправился и оставил меня наслаждаться моим мирным городским отдыхом.
После обеда мы отправились в кафешантан на крыше, о котором я много слышал. Там мы нашли высокие цены, искусственно охлажденный воздух, холодные напитки, расторопных официантов и веселую, отлично одетую публику. Норт скучал.
— Если вам все же не нравится здесь, несмотря на то что этот август самый жаркий за последние пять лет, — сказал я несколько саркастически, — то вы могли бы вспомнить о том, что на Деланси и Нестор-стрит детишки целыми часами сидят, высунув языки, на пожарных лестницах, тщетно пытаясь вдохнуть хотя бы один глоток не поджаренного с обеих сторон воздуха. Быть может, контраст усилит испытываемое вами удовольствие.
— Бросьте проповедовать! — сказал Норт. — Первого мая я пожертвовал пятьсот долларов на фонд бесплатного льда. А сейчас я сравниваю эти затхлые, искусственные, пустые и скучные развлечения с удовольствием, которое человек испытывает в лесу. Если бы вы видели, как пляшут деревья во время бури; а что может быть приятнее, как после целого дня охоты на оленя броситься плашмя на землю и пить прямо из горного источника. Нет, именно так и нужно проводить лето. Слушайте, бросьте все, разве не прекрасно на лоне природы!
— Вполне с вами согласен, — с живостью ответил я.
На один момент я ослабил свое внимание и сразу высказал свои настоящие чувства. Норт посмотрел на меня долгим испытующим взглядом.
— Так почему же, скажите, во имя Пана и Аполлона, — спросил он, — вы поете фальшивые пеаны летнему отдыху в городе?
Кажется, я себя выдал.
— А-а-а, — протянул Норт, — по-ни-ма-ю. Могу ли спросить, как ее зовут?
— Энни Эштон, — просто ответил я. — Она играла Нанетту в «Серебряной струне» у Бинкли и Бинг. В следующем сезоне ей дадут более ответственные роли.
— Покажите мне ее, — попросил Норт.
Мисс Эштон жила вместе с матерью в небольшом отеле. Они приехали с Запада, и у них были небольшие деньги, на которые они и жили в перерыве между сезонами. Как агент фирмы Бинкли и Бинг, я стремился показать ее публике. Как Роберт Джемс Вандивер, я надеялся, что она покинет сцену, потому что если и был на свете человек, с которым указанный Вандивер желал вести жизнь вместе и вместе вдыхать соленый морской воздух на южном берегу Лонг-Айленда и слушать в ночные часы кряканье уток, то этим человеком была только мисс Эштон, о которой я только что упомянул.
Но ее я ценил выше уток, выше соловьев и даже выше райских птиц. Она была прекрасна, проста и казалась искренней. В своих сценических выступлениях она показала вкус и талант, но также любила сидеть дома, читать и делать шляпки для своей матери. Она неизменно дружески и тепло относилась к агенту фирмы Бинкли и Бинг. А когда сезон окончился, она позволила мистеру Вандиверу заходить к ней с неофициальными визитами. Я часто рассказывал ей о своем друге Спенсере Гринвилле Норте; и так как сейчас было довольно рано, — первое отделение концерта еще не кончилось, — мы отправились искать телефон.
Мисс Эштон была бы очень рада увидеть у себя мистера Вандивера и мистера Норта.
Когда мы пришли, она шила новую шляпку для своей мамаши. Никогда еще она не была так очаровательна.
Норт стал до неприятности занимателен. Он был интересным собеседником и умел использовать свои таланты. Кроме того, у него было не то два, не то десять, не то тридцать миллионов — точно не помню. Я неосторожно выразил восхищение шляпкой мамаши, а она, воспользовавшись этим, притащила дюжину или две этих шляпок, и мне пришлось выслушать целую лекцию о строчках и оборочках; и несмотря даже на то, что все это было скроено, сшито, подрублено и отделано собственными пальчиками самой Энни, мне все-таки все это скоро надоело. Кроме того, я слышал, как Норт распространялся, рассказывая Энни о своем гнусном становище у Адирондакса.
Два дня спустя я увидел Норта с мисс Эштон и мамашей в его автомобиле. На следующий день он зашел ко мне.
— Знаете, Бобби, — сказал он, — этот старый город летом, в конце концов, не так уж плох. Я немного поболтался здесь, и он показался мне намного привлекательней. Здесь на крышах небоскребов и в летних садах идут первоклассные оперетты и всякие комические оперы. А если забрести в подходящее местечко да глотнуть чего-нибудь прохладительного, то можно чувствовать себя не хуже, чем за городом. Черт возьми! Если хорошенько подумать, то в деревне, пожалуй, ничем не лучше. Там слоняешься по солнцепеку, устаешь, чувствуешь полное одиночество и ешь всякую заваль, которую тебе подсунет повар.
— Значит, есть разница? — спросил я.
— Конечно, есть! Кстати: я вчера ел у Мориса уклейку под таким соусом, что перед ней все форели ничего не стоят.
— Значит, есть разница? — спросил я.
— Громадная! Самое главное, когда ешь уклейку, это — соус.
— Значит, есть разница? — спросил я, глядя ему прямо в глаза.
Он понял.
— Послушайте, Боб, — сказал он, — давайте говорить прямо. Здесь уже ничего не поделаешь. Я веду с вами честную игру, но при этом хочу выиграть. Она именно та, которую я искал.
— Ну что ж, — сказал я, — игра чистая. У меня нет никаких прав мешать вам.
В четверг мисс Эштон пригласила нас с Нортом на чашку чаю. Он был окончательно влюблен, а она выглядела еще очаровательнее, чем всегда. Тщательно избегая разговора о шляпах, мне удалось вставить несколько слов в их беседу. Мисс Эштон очень любезно что-то спросила об устройстве турне на будущий сезон.
— Не могу вам сказать, — ответил я, — в будущем сезоне я не собираюсь служить у Бинкли и Бинг.
— Вот как? — сказала она. — А мне казалось, что они собираются поручить вам первое турне. Кажется, вы же сами говорили.
— Да они-то собирались, — ответил я, — но из этого ничего не выйдет. Хотите, расскажу, что я собираюсь делать? Я поеду на южный берег Лонг-Айленда и куплю себе небольшой коттедж я уже присмотрел там один на самом берегу залива. Потом я куплю себе парусник и весельную лодку, охотничье ружье и желтую собаку. У меня хватит на это денег. Целый день я буду вдыхать морской соленый воздух, если ветер потянет с моря, и смолистый аромат леса, если потянет с суши. И уж, конечно, я буду писать пьесы, пока не набью ими целый чемодан.
А потом самое главное, что я сделаю, это куплю себе соседнюю утиную ферму. Мало кто разбирается в утках, а я с удовольствием наблюдаю за ними целыми часами. Они маршируют не хуже любой роты национальной гвардии, а игра «Пошел за вожаком» выходит у них куда лучше, чем у членов демократической партии.
Их кряканье не особенно приятно, и все-таки оно мне нравится. Правда, оно разбудит вас десятки раз за ночь, но в этих звуках есть что-то домашнее, уютное, и для меня они звучат куда музыкальнее, чем крики «Све-е-жие я-я-годы-ы», что раздаются под вашим окном, когда вам так хочется спать.
А кроме того, — продолжал я с воодушевлением, — знайте, что, кроме красоты и сообразительности, они имеют крупную ценность. Их перья приносят постоянный верный доход. На одной ферме, — это я хорошо знаю, — перья приносят четыреста долларов в год. Подумать только! А если изучить рынок, так можно получить еще больше. Да, да, утки и соленый ветерок с залива, — вот мое настоящее призвание. Думаю, мне придется взять с собой повара-китайца, и в компании с ним, со своей собакой и солнечным закатом я отлично заживу. Довольно с меня этого гнусного, душного, бесчувственного, шумного города.
Мисс Эштон с изумлением смотрела на меня. Норт захохотал.
— Я начну одну из пьес сегодня же вечером, — сказал я, — поэтому мне нужно идти.
С этими словами я простился.
Через несколько дней мисс Эштон позвонила мне и попросила зайти к ней в четыре часа. Я зашел.
— Вы всегда были очень добры ко мне, — нерешительно сказала она, — и мне кажется, я могу поделиться с вами. Я собираюсь бросить сцену.
— Ну да, — ответил я, — я так и думал. Обычно все бросают сцену, если появляются большие деньги.
— Какие деньги? — ответила она. — Их почти уже нет, или, во всяком случае, осталось очень немного.
— Но я ведь вам говорил, — сказал я, — что у него не то два, не то десять, не то тридцать миллионов — точно не помню.
— Ах, вот о чем вы думаете! — сказала она. — Но я не собираюсь замуж за мистера Норта.
— Так зачем же вы бросаете сцену? — злобно спросил я. — Чем еще вы можете жить?
Она подошла совсем близко ко мне, и я заметил, как блестели ее глаза, когда она сказала:
— Я могу щипать уток.
В первый год мы выручили за утиные перья триста пятьдесят долларов.
Негодное правило
Перевод М. Лорие.
Я всегда был убежден, и время от времени заявлял вслух, что женщина — вовсе не загадка, что мужчина способен понять, истолковать, перевести, предсказать и подчинить ее. Представление о женщине как о некоем загадочном существе внушили доверчивому человечеству сами женщины. Прав я или нет — увидим. Как писал в былые времена журнал «Харперс», «ниже следует интересный рассказ про мисс **, мистера **, мистера ** и мистера **». «Епископа X» и «его преподобие Y» придется опустить, потому что они к делу не относятся.
В те дни Палома была новым городом на Южной Тихоокеанской железной дороге. Репортер сказал бы, что она «выросла, как гриб», но это было бы неточно: Палому, несомненно, следует отнести к разновидности поганок.
Поезд останавливался здесь в полдень, ровно на столько времени, чтобы паровоз успел напиться, а пассажиры — и напиться и пообедать. В городе была новенькая бревенчатая гостиница, склад шерсти и десятка три жилых домов; а еще — палатки, лошади, черная липкая грязь и мескитовые деревья. Городскую стену заменял горизонт. Паломе, в сущности, еще только предстояло стать городом. Дома ее были верой, палатки — надеждой, а поезд, два раза в день предоставлявший вам возможность уехать отсюда, с успехом выполнял функции милосердия.
Ресторан «Париж» был расположен в самом грязном месте города, когда шел дождь, и в самом жарком, когда светило солнце. Владельцем, заведующим и главным виновником его был некий гражданин, известный под именем «старика Хинкла», который прибыл из Индианы, чтобы нажить себе богатство в этом краю сгущенного молока и сорго.
Семья Хинкл занимала некрашеный тесовый дом в четыре комнаты. К кухне был пристроен навес на столбах, крытый ветками чапарраля. Под навесом помещался стол и две скамьи, каждая в двадцать футов длиной, изготовленные местными плотниками. Здесь вам подавали жареную баранину, печеные яблоки, вареные бобы, бисквиты на соде, пудинг-или-пирог и горячий кофе, составлявшие все парижское меню.
У плиты орудовали мама Хинкл и ее помощница, которую все знали на слух как Бетти, но никто никогда не видел. Папа Хинкл, наделенный огнеупорными пальцами, сам подавал дымящиеся яства. В часы пик ему помогал обслуживать посетителей молодой мексиканец, успевавший между двумя блюдами свернуть и выкурить папиросу. Следуя порядку, установленному на парижских банкетах, я ставлю сладкое в самом конце моего словесного меню.
Айлин Хинкл!
Орфография верна, я сам видел, как она писала свое имя. Без всякого сомнения, оно было выбрано из фонетических соображений; но и нелепое написание его она сносила с таким великолепным мужеством, что и самому строгому грамматисту не к чему было бы придраться.
Айлин была дочерью старика Хинкла и первой красавицей, проникнувшей на территорию к югу от линии, проведенной с востока на запад через Галвестон и Дель-Рио. Она восседала на высоком табурете, на трибуне из сосновых досок — не в храме ли, впрочем? — под навесом, у самой двери на кухню. Перед Айлин была загородка из колючей проволоки, с небольшим полукруглым отверстием, куда посетители просовывали деньги. Одному богу известно, зачем понадобилась эта колючая проволока; ведь каждый, кто питался парижскими обедами, готов был умереть ради Айлин. Обязанности ее не отличались сложностью: обед стоил доллар, этот доллар клался под дужку, а она брала его.
Я начал свой рассказ с намерением описать вам Айлин Хинкл. Но вместо этого мне придется отослать вас к философскому трактату Эдмунда Бэрка под заглавием «Происхождение наших идей о возвышенном и прекрасном». Этот трактат вполне исчерпывает вопрос; сначала Бэрк касается древнейших представлений о красоте; если не ошибаюсь, он связывает их с впечатлениями, получаемыми от всего круглого и гладкого. Это хорошо сказано. Закругленность форм — бесспорно, привлекательное качество; что же касается гладкости, то чем больше морщин приобретает женщина, тем больше сглаживаются неровности ее характера.
Айлин была чисто растительным продуктом, запатентованным в год грехопадения Адама, согласно закону против фальсификации бальзама и амброзии. Она напоминала целый фруктовый ларек: клубнику, персики, вишни и т. д. Блондинка с широко посаженными глазами, она обладала спокойствием, предшествующим буре, которая так и не разражается. Но мне кажется, что не стоит тратить слов (сколько бы ни платили за слово) в тщетной попытке изобразить прекрасное. Красота, как известно, рождается в глазах. Есть три рода красоты… мне, видно, было на роду написано стать проповедником: никак не могу держаться в рамках рассказа.
Первый — это веснушчатая, курносая девица, к которой вы неравнодушны, второй — это Мод Адамс[12], третий — это женщины на картинах Бугеро[13]. Айлин принадлежала к четвертому. Она была безупречно красива. Не одно, а тысячу золотых яблок присудил бы ей Парис.
Ресторан «Париж» имел свой радиус. Но даже из-за пределов описанной им окружности приезжали в Палому мужчины в надежде получить улыбку от Айлин. И они получали ее. Один обед — одна улыбка — один доллар. Впрочем, несмотря на все внешнее беспристрастие, Айлин как будто отличала среди всех своих поклонников трех джентльменов. Подчиняясь правилам вежливости, я упомяну о себе под конец.
Первым ее обожателем был чисто искусственный продукт, известный под именем Брайана Джекса, явно присвоенным. Джекса породили вымощенные камнем города. Это был маленький человечек, сфабрикованный из какой-то субстанции, напоминающей мягкий песчаник. Волосы у него были цвета того кирпича, из которого строятся молитвенные дома квакеров; глаза его напоминали две клюквы; рот был похож на щель почтового ящика.
Он изучил все города от Бангора до Сан-Франциско, а оттуда к северу до Портленда, а оттуда на юго-восток, вплоть до данного пункта во Флориде. Он знал все искусства, все промыслы, все игры, все коммерческие дела, все профессии и виды спорта, какие только есть на земле; он присутствовал лично на всех сенсационных, печатаемых под большими заголовками, событиях, которые произошли между двумя океанами с тех пор, как ему минуло пять лет; а если не присутствовал на них, так, значит, спешил к месту происшествия. Можно было открыть атлас, ткнуть пальцем наугад в любой город, и, до того как вы успевали захлопнуть атлас, Джекс уже называл вам уменьшительные имена трех известных граждан этого города. Он свысока, и даже довольно непочтительно, отзывался о Бродвее, Бикон-Хилле, Мичигане, Эвклиде, Пятой авеню и здании суда в Сент-Луисе. По сравнению с ним даже такой космополит, как Вечный Жид, показался бы отшельником. Он научился всему, что только мог преподать ему свет, и всегда готов был поделиться своими познаниями.
Я не люблю, когда мне напоминают про поэму Поллока «Течение времени»; но при виде Джекса мне всякий раз приходит на память то, что этот поэт сказал про другого поэта по имени Дж. Г. Байрон: «Он рано начал пить, он много пил, миллионы жажду утолить могли бы тем, что выпил он; а выпив все, от жажды бедный умер»[14].
То же можно сказать про Джекса, только он не умер, а приехал в Палому, что, впрочем, почти одно и то же. Он служил телеграфистом и начальником станции за семьдесят пять долларов в месяц. Каким образом молодой человек, знавший все и умевший все делать, довольствовался такой скромной должностью — этого я никогда не мог понять, хотя он как-то раз намекнул, что делает это в виде личного одолжения президенту и акционерам железнодорожной компании.
Прибавлю к моему описанию еще одну строчку, а затем передам Джекса в ваше распоряжение. Он носил ярко-синий костюм, желтые башмаки и галстук бантом из одинаковой материи с рубашкой.
Вторым моим соперником был Бэд Кэннингам; одно ранчо близ Паломы пользовалось его услугами, чтобы удерживать непокорный скот в границах порядка и приличий. Из всех ковбоев, которых я когда-либо видел в натуре, один только Бэд был похож на театрального ковбоя. Он носил классическое сомбреро, кожаные гетры выше колен и платок на шее, завязанный сзади.
Два раза в неделю Бэд покидал ранчо Валь Верде и приезжал поужинать в ресторане «Париж». Он ездил на тугоуздой кентуккийской лошадке, которая мчалась необычайно скорым аллюром; Бэд любил останавливать ее под большим мескитовым деревом у навеса с такой внезапностью, что копыта ее оставляли в жирной глине глубокие борозды в несколько ярдов длиной.
Мы с Джексом были, разумеется, постоянными посетителями ресторана.
Во всей стране вязкой черной грязи вы не нашли бы более уютной гостиной, чем в домике у Хинклов. Она была полна плетеных качалок, вязаных салфеточек собственной работы, альбомов и расположенных в ряд раковин. А в углу стояло маленькое пианино.
В этой комнате Джекс, Бэд и я, — а порой один или двое из нас, смотря по удаче, — сиживали по вечерам. Когда деловая жизнь замирала, мы приходили сюда «с визитом» к мисс Хинкл.
Айлин была девушкой со взглядами. Судьба предназначала ее для чего-то высшего, если вообще может быть призвание более высокое, чем целый день принимать доллары через отверстие в загородке из колючей проволоки. Она читала, прислушивалась ко всему и размышляла. С ее красотой менее честолюбивая девушка на одной наружности сделала бы карьеру; но Айлин метила выше: ей хотелось устроить у себя нечто вроде салона — единственного во всей Паломе.
— Не правда ли, Шекспир был великий писатель? — спрашивала она, и ее хорошенькие бровки так мило поднимались, что если бы их увидел сам покойный Донелли, ему едва ли удалось бы спасти своего Бэкона[15].
Айлин была также того мнения, что Бостон — более культурный город, чем Чикаго; что Роза Бонер была одной из величайших художниц в мире; что на Западе люди отличаются большей откровенностью и сердечностью, чем на Востоке; что в Лондоне, по-видимому, часто бывают туманы и что в Калифорнии, должно быть, очень хорошо весной. У нее было и еще множество взглядов, доказывавших, что она следит за всеми выдающимися течениями современной мысли.
Впрочем, все эти мнения она приобрела понаслышке и с чужих слов. Но у Айлин были и собственные теории. Одну из них в особенности она постоянно нам внушала. Она ненавидела лесть. Искренность и прямота в речах и поступках, уверяла она, вот лучшие украшения как для женщины, так и для мужчины. Если она когда-нибудь полюбит, то лишь человека, обладающего этими качествами.
— Мне ужасно надоело, — сказала она как-то вечером, когда мы, три мушкетера мескитного дерева, сидели в маленькой гостиной, — мне ужасно надоело выслушивать комплименты насчет моей наружности. Я знаю, что я вовсе не красива.
(Бэд Кэннингам мне впоследствии говорил, что он едва удержался, чтобы не крикнуть ей: «Врете!»)
— Я просто обыкновенная девушка с Среднего Запада, — продолжала Айлин, — мне хочется одного: всегда быть просто, но аккуратно одетой и помогать отцу зарабатывать себе на хлеб.
(Старик Хинкл каждый месяц откладывал в банк в Сан-Антонио по тысяче долларов чистого барыша.)
Бэд заерзал на своем стуле и пригнул поля своей шляпы, с которой его никак нельзя было уговорить расстаться. Он не знал, чего она хочет: того, что говорит, будто хочет, или же того, что, как ей было отлично известно, она заслуживает. Немало умных людей становилось в тупик перед таким вопросом. Бэд, наконец, решился:
— Видите ли, мисс Айлин, э-э… красота, можно сказать, еще не все. Я не хочу этим сказать, что у вас ее нет, но меня лично всегда особенно восхищало в вас ваше отношение к папаше и мамаше. А когда девушка так внимательна к своим родителям и любит семейную жизнь, то она и не нуждается в какой-нибудь особенной красоте.
Айлин подарила ему одну из своих нежнейших улыбок.
— Благодарю вас, мистер Кэннингам, — сказала она. — Давно уж я не слышала лучшего комплимента. Это мне куда приятнее, чем выслушивать, как восхищаются моими глазами или волосами. Я рада, что вы мне верите, когда я говорю, что не люблю лести.
Теперь мы поняли, как надо было действовать. Бэд ловко угадал. Джекс вступил следующим.
— Это что и говорить, мисс Айлин, — сказал он. — Не всегда побеждают красавицы. Вот вы — разумеется, вас никто не назовет некрасивой, но это несущественно. А я знал в Дюбюке одну девушку: лицо у нее было что твой кокосовый орех; но она умела два раза подряд сделать на турнике «солнце», не перехватывая рук. А другая, глядишь, ни за что этого не сделает, хотя бы у нее на цвет лица пошел весь урожай персиков в Калифорнии. Я видел девушек, которые… э-э… хуже выглядели, чем вы, мисс Айлин; но что мне нравится в вас, так это ваша деловитость. Вы всегда поступаете умно, никогда не теряетесь: далеко пойдете. Мистер Хинкл на днях говорил мне, что вы ни разу не приняли фальшивого доллара, с тех пор как сидите в кассе. По-моему, вот такой и следует быть девушке; вот что мне по вкусу.
Джекс тоже получил улыбку.
— Благодарю вас, мистер Джекс, — сказала Айлин. — Если бы вы только знали, как я ценю, когда со мной искренни и когда мне не льстят. Мне так надоело, что меня называют хорошенькой. Так приятно, по-моему, иметь друзей, которые говорят тебе правду.
Тут Айлин посмотрела на меня, и мне показалось по ее взгляду, что она и от меня чего-то ждет. Мною овладело страстное желание бросить вызов судьбе и сказать ей, что из всех прекрасных творений великого мастера самое прекрасное — она; что она — бесценная жемчужина, сверкающая в оправе из черной грязи и изумрудных прерий; что… что она девушка первый сорт. Мне захотелось уверить ее, что мне все равно, будь она безжалостна к своим родителям, как жало змеи, или не умей она отличить фальшивого доллара от седельной пряжки; что мне хочется лишь одного: петь, воспевать, восхвалять, прославлять и обожать ее за ее несравненную, необычайную красоту.
Но я воздержался. Я убоялся той участи, что грозила льстецам. Ведь я видел, как ее обрадовали хитрые и ловкие речи Бэда и Джекса. Нет. Мисс Хинкл не из тех, кого могут покорить медовые речи льстеца. И потому я решил примкнуть к прямым и откровенным. Я сразу впал в лживый дидактический тон.
— Во все века, мисс Хинкл, — сказал я, — несмотря на то что у каждого из них была своя поэзия, своя романтика, люди всегда преклонялись перед умом женщины больше, чем перед ее красотой. Даже если взять Клеопатру, то мы увидим, что мужчины находили больше очарования в ее государственном уме, чем в ее наружности.
— Еще бы, — сказала Айлин. — Я видела ее изображение, ну и ничего особенного. У нее был ужасно длинный нос.
— Разрешите мне сказать вам, мисс Айлин, — продолжал я, — что вы напоминаете мне Клеопатру.
— Ну, что вы, у меня нос вовсе не такой длинный, — сказала она, широко раскрыв глаза, и изящно коснулась своего точеного носика пухленьким пальчиком.
— То есть, я… я имел в виду, — сказал я, — ее умственное превосходство.
— Ах, вот что! — сказала она, и затем я тоже получил свою улыбку, как Бэд и Джекс.
— Благодарю вас всех, — сказала она очень, очень нежным тоном, — благодарю вас за то, что вы со мной говорите так искренно и честно. И пусть так будет всегда. Говорите мне просто и откровенно, что вы думаете, и мы все будем наилучшими друзьями. А теперь, за то, что вы так хорошо со мной поступаете, за то, что вы поняли, как я ненавижу людей, от которых слышу одни комплименты, — за все это я вам спою и поиграю.
Разумеется, мы выразили ей нашу радость и признательность; но все же мы предпочли бы, чтобы Айлин осталась сидеть в своей низкой качалке и позволила нам любоваться собой. Ибо она далеко не была Аделиной Патти, — даже во время самого прощального из прощальных турне этой прославленной певицы. У Айлин был маленький воркующий голосок вроде голубиного; он почти заполнял гостиную, когда окна и двери были закрыты и Бетти не очень сильно гремела конфорками на кухне. Диапазон ее равнялся, по моему подсчету, дюймам восьми клавиатуры; а когда вы слушали ее рулады и трели, вам казалось, что это булькает белье, которое кипятится в чугунном котле у вашей бабушки. Подумайте, как красива она была, если эти звуки казались нам музыкой!
Музыкальные вкусы Айлин отличались ортодоксальностью. Она норовила пропеть насквозь всю кипу нот, лежавшую на левом углу пианино: зарезав какой-нибудь романс, она перекладывала его направо. На следующий день она пела справа налево. Ее любимыми композиторами были Мендельсон, а также Муди и Сэнки[16]. По особому желанию публики она заканчивала программу песенками «Душистые фиалки» и «Когда листья желтеют».
Когда мы уходили от Хинклов — часов в десять вечера, — мы обыкновенно отправлялись к Джексу на маленькую, всю из дерева выстроенную станцию. Там мы усаживались на платформе и болтали ногами, а сами старались выведать друг у друга, в какую сторону больше склоняется сердце мисс Айлин. Таков уж обычай соперников: они вовсе не избегают друг друга и не обмениваются злобными взглядами; нет, они сходятся, сближаются и сговариваются; они пускают в ход дипломатическое искусство, чтобы оценить силы неприятеля.
Как-то раз в Паломе появилась темная лошадка — некий молодой адвокат; он сразу же завел себе огромную вывеску и начал чваниться. Звали его Винсент С. Вэзи. Стоило только взглянуть на него — и становилось ясно, что он недавно окончил юридический факультет где-нибудь на Юго-Востоке. Его длинный сюртук, светлые полосатые брюки, черная мягкая шляпа и узкий белый галстук кричали об этом громче всякого аттестата. Вэзи был смесью из Дэниэля Вебстера, лорда Честерфилда, Бо Брюммеля и Джека Хорнера — того мальчика из детской песенки, который ловко доставал лакомые кусочки. Появление его вызвало в Паломе бум. На другой день после его приезда большая площадь земли, прилегающая к городу, была обмерена и разделена на участки.
Разумеется, Вэзи нужно было, ради карьеры, сойтись с паломскими гражданами и с окрестными жителями. Ему нужно было снискать популярность не только среди зажиточных людей, но и среди местной золотой молодежи. Благодаря этому имели честь с ним познакомиться и мы с Джексом и Бэдом.
Учение о предопределении оказалось бы совершенно дискредитированным, если бы Вэзи не встретился с Айлин Хинкл и не стал четвертым участником турнира. Он важно столовался в отеле из сосновых бревен, а не в ресторане «Париж»; но он стал угрожающе часто посещать хинклскую гостиную. Конкуренция эта вдохновила Бэда на потоки изысканной ругани, а Джекса — на жаргон самого фантастического свойства, который звучал ужаснее самых отборных проклятий Бэда и вогнал меня в мрачную, немую тоску.
Ибо Вэзи обладал красноречием. Слова били у него из уст, как нефть из фонтана. Гиперболы, комплименты, восхваления, одобрения, вкрадчивые любезности, лестные намеки, явные панегирики — всем этим так и кишели его речи. Надежды на то, чтобы Айлин устояла против его ораторского искусства и длинного сюртука, у нас было весьма немного.
Но настал день, который придал нам мужества.
Как-то раз в сумерки я сидел на маленькой террасе перед гостиной Хинклов и ждал Айлин. Вдруг я услыхал голоса в комнате. Айлин вошла туда вместе с отцом, и у них начался разговор. Я уже раньше замечал, что старик Хинкл был человек неглупый и не лишенный известного философского взгляда на вещи.
— Айлин, — сказал он, — я заметил, что за последнее время тебя постоянно навещают три-четыре молодых человека. Кто из них тебе больше нравится?
— Да знаешь, папа, — ответила она, — они мне все очень нравятся. По-моему, мистер Кэннингам и мистер Джекс и мистер Гаррис очень симпатичные. Они всегда так прямо и искренно говорят со мной. Мистера Вэзи я знаю недавно, но, по-моему, он очень симпатичный; он всегда так прямо и искренно говорит со мной.
— Вот я как раз насчет этого и хочу с тобой потолковать, — сказал старик Хинкл. — Ты всегда уверяла, что тебе нравятся люди, которые говорят правду и не стараются тебя одурачить всякими комплиментами да враньем. Так вот — попробуй-ка, устрой испытание; увидишь, кто из них окажется искреннее всех.
— А как это сделать, папа?
— Это я тебе сейчас объясню. Ты ведь немножко поешь: почти два года училась музыке в Логанспорте. Это не так уж много, но больше мы тогда не могли себе позволить. И притом твоя учительница говорила, что голоса у тебя нет и что не стоит больше тратить деньги на уроки. Так вот ты и спроси каждого из твоих кавалеров, какого они мнения о твоем голосе; увидишь, что они тебе ответят. Тот, который решится сказать тебе правду в глаза, тот — я скажу — молодец, и с ним не страшно связать жизнь. Как тебе нравится моя выдумка?
— Прекрасно, папа, — сказала Айлин. — Это, по-моему, хорошая мысль; я попробую.
Айлин и мистер Хинкл ушли в другую комнату. Я ускользнул незамеченный и поспешил на станцию. Джекс сидел в телеграфной конторе и ждал, чтобы пробило восемь. В этот вечер и Бэд должен был приехать в город; когда он явился, я передал обоим слышанный мной разговор. Я честно поступил с моими соперниками; так всегда следует действовать всем истинным обожателям всех Айлин.
Всех нас одновременно посетила радостная мысль. Без сомнения, Вэзи после этой проверки должен выбыть из состязания. Мы хорошо помнили, как Айлин любит искренность и прямоту, как высоко ценит она правдивость и откровенность — выше всяких пустых комплиментов и ухищрений.
Мы схватились за руки и исполнили на платформе комический танец, распевая во всю глотку: «Мельдун был умный человек».
В этот вечер оказались занятыми четыре плетеные качалки, не считая той, которой выпало счастье служить опорой для изящной фигурки мисс Хинкл. Трое из нас с затаенным трепетом ждали начала испытания. Первым на очереди оказался Бэд.
— Мистер Кэннингам, — сказала Айлин со своей ослепительной улыбкой, закончив «Когда листья желтеют», — мистер Кэннингам, скажите искренно, что вы думаете о моем голосе? Честно и откровенно, — вы ведь знаете, что я всегда этого хочу.
Бэд заерзал на стуле от радости, что может выказать всю искренность, которая, как он знал, от него требовалась.
— Правду говоря, мисс Айлин, голосу-то у вас не больше, чем у зайца, — писк один. Понятно, мы все с удовольствием слушаем вас: все-таки оно как-то приятно и успокоительно действует; да к тому же и вид у вас, когда вы сидите за роялем, такой же приятный, как и с лица. Но насчет того, чтобы петь, — нет, это не пение.
Я внимательно смотрел на Айлин, опасаясь, не хватил ли Бэд через край; но ее довольная улыбка и мило высказанная благодарность убедили меня, что мы на верном пути.
— А вы что думаете, мистер Джекс? — спросила она затем.
— Мое мнение, — сказал Джеке, — что вы — не первоклассная примадонна. Я слушал их во всех городах Соединенных Штатов и знаю, как они щебечут; и я вам скажу, что голос у вас не того. В остальном вы можете сто очков вперед дать всем певицам столичной оперы, вместе взятым, — в смысле наружности, конечно. Эти колоратурные пискуньи обыкновенно похожи на расфранченных кухарок. Но в рассуждении того, чтобы полоскать горло фиоритурами, — это у вас не выходит. Голос-то у вас прихрамывает.
Выслушав критику Джекса, Айлин весело рассмеялась и перевела взгляд на меня.
Признаюсь, я слегка струхнул. Ведь искренность тоже хороша до известного предела. Быть может, я даже немного слукавил, произнося свой приговор; но все-таки я остался в лагере критиков.
— Я не большой знаток научной музыки, — сказал я, — но, откровенно говоря, не могу особенно похвалить голос, который вам дала природа. Про хорошую певицу обыкновенно говорят, что она поет, как птица. Но птицы бывают разные. Я сказал бы, что ваш голос напоминает мне голос дрозда: он горловой и не сильный, не отличается ни разнообразием, ни большим диапазоном; но все-таки он у вас… э-э… в своем роде очень… э-э… приятный и…
— Благодарю вас, мистер Гаррис, — перебила меня мисс Хинкл, — я знала, что могу положиться на вашу искренность и прямоту.
И тут Винсент С. Вэзи поправил одну из своих белоснежных манжет и разразился не потоком, а целым водопадом красноречия.
Память изменяет мне, поэтому я не могу подробно воспроизвести мастерской панегирик, который он посвятил этому бесценному сокровищу, дарованному небесами, — голосу мисс Хинкл. Вэзи восхвалял его в таких выражениях, что, будь они обращены к утренним звездам, когда те вместе затягивают свою песнь, этот звездный хор, воспылав от гордости, разразился бы дождем метеоров.
Вэзи сосчитал по своим белым пальцам всех выдающихся оперных певиц обоих континентов, начиная с Дженни Линд и кончая Эммой Эббот, и доказал как дважды два, что все они бездарны. Он говорил о голосовых связках, о грудном звуке, о фразировке, арпеджиях и прочих необычайных принадлежностях вокального искусства. Он согласился, точно нехотя, что у Дженни Линд есть нотки две-три в ее верхнем регистре, которых еще не успела приобрести мисс Хинкл, но… ведь это достигается учением и практикой!
А в заключение он торжественно предсказал блестящую артистическую карьеру для «будущей звезды Юго-Запада — звезды, которой еще будет гордиться наш родной Техас», ибо ей не найти равной во всех анналах истории музыки.
Когда мы в десять часов стали прощаться, Айлин, как обычно, тепло и сердечно пожала всем нам руку, обольстительно улыбнулась и пригласила заходить. Незаметно было, чтобы она отдавала кому-нибудь предпочтение, но трое из нас знали кое-что, знали и помалкивали.
Мы знали, что искренность и прямота одержали верх и что соперников уже не четверо, а трое.
Когда мы добрались до станции, Джекс вытащил бутылку живительной влаги, и мы отпраздновали падение наглого пришельца.
Прошло четыре дня, за которые не случилось ничего, о чем стоило бы упомянуть.
На пятый день мы с Джексом вошли под навес, собираясь поужинать. Вместо божества в белоснежной блузке и синей юбке за колючей проволокой сидел, принимая доллары, молодой мексиканец.
Мы ринулись в кухню и чуть не сбили с ног папашу Хинкла, выходившего оттуда с двумя чашками горячего кофе.
— Где Айлин? — спросили мы речитативом.
Папаша Хинкл был человеком добрым.
— Видите ли, джентльмены, — сказал он, — эта фантазия пришла ей в голову неожиданно; но деньги у меня есть — и я отпустил ее. Она уехала в Бостон, в корс… в консерваторию, на четыре года, учиться пению. А теперь разрешите мне пройти — кофе-то горячий, а пальцы у меня нежные.
В этот вечер мы уже не втроем, а вчетвером сидели на платформе, болтая ногами. Одним из четырех был Винсент С. Вэзи. Мы беседовали, а собаки лаяли на луну, которая всходила над чапарралем, напоминая размерами не то пятицентовую монету, не то бочонок с мукой.
А беседовали мы о том, что лучше — говорить женщине правду или лгать ей?
Но мы все тогда были еще молоды, и потому не пришли ни к какому заключению.
Примечания к сборнику
«Роза Южных штатов» («The Rose of Dixie»), 1908. На русском языке публикуется впервые.
Третий ингредиент (The Third Ingredient), 1908. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.
Как скрывался Черный Билл (The Hiding of Black Bill), 1908. На русском языке под названием «Как скрывался Черный Билль» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.
Разные школы (Schools and Schools), 1908. На русском языке под названием «Письмо» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг-М., 1923, пер. О. Поддячей.
О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым (Thimble, Thimble), 1908. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.
Спрос и предложение (Supply and Demand), 1908. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.
Клад (Buried Treasure), 1908. На русском языке под названием «Забытый клад» в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.
Он долго ждал (То Him Who Waits), 1909. На русском языке под названием «Тот кто ждал» в книге: О. Генри. Черный Билль. Л., 1924, пер. З. Львовского.
Пригодился (Не Also Serves), 1908. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.
Момент победы (The Moment of Victory), 1908. На русском языке под названием «Героизм» в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.
Охотники за головами (The Head-hunter), 1908. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.
Без вымысла (No Story), 1909. На русском языке под названием «Не повесть» в книге: О. Генри. Таинственный маскарад. Л.-М., 1924, пер. З. Львовского. Рассказ написан в тюремные годы и публиковался в двух вариантах (первый — в 1903 г.). Здесь дается в позднейшей редакции.
Прагматизм чистейшей воды (The Higher Pragmatism), 1909. На русском языке под названием «Смелее» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.
Чтиво (Best-Seller), 1909. На русском языке под названием «Ходкая книга» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.
Лукавый горожанин (Rus in Urbe), 1909. На русском языке под названием «Летний отдых» в книге: О. Генри. Черный Билль. Л., 1924, пер. З. Львовского.
Негодное правило (A Poor Rule), 1909. На русском языке под названием «Неверный путь» в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.
Примечания
1
Английский композитор, пианист и поэт.
(обратно)2
Путь, проделанный кораблем «Мэйфлауер».
(обратно)3
Джеронимо — вождь апачей, был взят в плен и погиб в 1909 г.
(обратно)4
Пародийный пересказ известных строк из стихотворения О. Голдсмита «Покинутая деревня».
(обратно)5
Цитата, не имеющая отношения к Теннисону.
(обратно)6
«Подобное подобным» — принцип гомеопатии: излечение болезни теми же средствами, какие могут вызвать её (лат.).
(обратно)7
Робин — по-английски означает птицу-реполова.
(обратно)8
По термометру Фаренгейта.
(обратно)9
Нож, которым рубят сахарный тростник.
(обратно)10
По Фаренгейту, равняется + 32 °C.
(обратно)11
Американский национальный праздник — день объявления американской независимости.
(обратно)12
Американская актриса.
(обратно)13
Французский художник.
(обратно)14
Шотландский поэт Роберт Поллок (1789–1827) посвятил Байрону восторженные строки, ничего общего не имеющие с виршами, которые цитирует Генри.
(обратно)15
Игнатий Донелли (1831–1901) — американский писатель, один из сторонников «Бэконианской теории», согласно которой пьесы Шекспира были написаны Фрэнсисом Бэконом.
(обратно)16
Американские проповедники и сочинители популярных песен на религиозные темы.
(обратно)
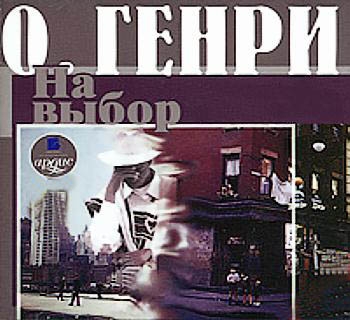
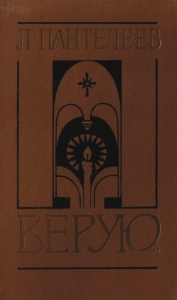



Комментарии к книге «На выбор», О. Генри
Всего 0 комментариев