Франсуа де Ларошфуко Максимы • Блез Паскаль Мысли • Жан де Лабрюйер Характеры
Перевод с французского.
Вступительная статья В. Бахмутского.
Французские моралисты
В этой книге собраны сочинения трех великих французских моралистов XVII столетия — Ларошфуко, Паскаля, Лабрюйера, людей разной судьбы, разной социальной среды, разного мировоззрения.
Объединяет их прежде всего сам жанр афоризма, в котором они выразили свою жизненную философию, свои размышления над миром и человеком. Интерес к этому жанру, корни которого уходят в античность, возник во французской литературе еще в середине XVI века. С 1550 по 1660 год было опубликовано свыше шестидесяти сборников моральных изречений. Но все сочинения этого типа еще не были большой литературой — они преследовали прежде всего нравоучительные цели, и только под пером Ларошфуко, Паскаля и Лабрюйера афоризм стал жанром, «в котором отразился, век и современный человек». В духовной жизни Франции он занимал, пожалуй, не менее важное место, чем театр. Что же такое «максима», афоризм как жанр? Первая важнейшая особенность афоризма — способность жить вне контекста, сохраняя при этом всю полноту своего смыслового содержания. Но жить вне контекста — значит быть выключенным из временного потока речи, существовать вне связи с прошлым и будущим, выражать нечто вечно пребывающее. Эта присущая жанру афоризма черта оказалась близкой искусству французского классицизма, для которого эстетической ценностью обладало лишь устойчивое, незыблемое, вечное, то, над чем не властна разрушительная сила времени. При этом вечное и устойчивое мыслилось в классицизме как промежуток времени, изъятый из общего потока и словно бы заключенный в раму, как «остановленное мгновение», запечатлевающее жизнь в ее идеально-прекрасном облике. Такой рамой, останавливающей время, были те непременные двадцать четыре часа, на протяжении которых разыгрывалось действие в классицистской трагедии, Такой рамой был и афоризм.
Не менее важной особенностью афоризма является строгая отточенность стиля, способность в сжатой и изящной форме, в немногих словах сказать многое о многом. Здесь выразилась другая черта классической эстетики: взгляд на произведение искусства не как на естественно возникший организм, а как на нечто созданное человеком, несущее на себе печать его разума и воли. Источником прекрасного почиталась форма, а потому особое значение придавалось артистизму, виртуозному мастерству. Выражая общий взгляд классицизма, Вольтер позднее писал: «Никогда не существовало искусства, которое не ценилось бы сообразно его трудностям. Недаром греки поместили муз на вершину Парнаса, — чтобы добраться до них, надо преодолеть множество препятствий». Только в отточенной форме афоризма, в глазах человека XVII века, мысль становилась явлением искусства, более того — фактом культуры, ибо возвышалась над непосредственной хаотически-неорганизованной стихией жизни.
В основе афоризма у французских моралистов обычно лежит парадокс. Вот характерные примеры.
У Ларошфуко: «Наши добродетели — это чаще всего искусно переряженные пороки».
У Паскаля: «Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками».
У Лабрюйера: «Женщины с легкостью лгут, говоря о своих чувствах, а мужчины с еще большей легкостью говорят правду».
Как известно, любая фраза, даже самая простая, может обладать множеством разных смыслов[1]. Все зависит от контекста, в котором эта фраза произнесена. Контекст как бы подсказывает нам поясняющее «противослово», которое и придает фразе тот, а не другой смысл. Но в афоризме, который представляет законченное целое, противослово или само собой разумеется, и тогда афоризм превращается в тривиальное общее место типа «все люди смертны», или оно дается в самом тексте, как в приведенных выше примерах. Здесь это оправдано парадоксальным поворотом мысли, неожиданными отношениями, возникающими между словом и противословом. В афоризме Ларошфуко слово и противослово тождественны (добродетель равняется пороку); в афоризме Паскаля слово и противослово («праведники» и «грешники») как бы меняются своими значениями, а у Лабрюйера словно бы уравнивается нравственная ценность правды и лжи. Парадоксальная структура афоризма у французских моралистов не только стилистический прием. Парадокс составляет самое сердце их философии, поэтому афоризм и смог стать внутренней формой их мысли.
Сочинения французских моралистов объединяет не только жанр, но и тема. Их волнует проблема человека, тайна его судьбы, загадка его натуры, его место в обществе и мироздании, его добродетели и пороки, стремления и страсти, нравственные поиски и падения, вопросы психологические и социальные. Своим мыслям, наблюдениям над собой и своими современниками французские моралисты стремились придать как можно более широкий, всеобъемлющий смысл. Они искренне верили, что все, о чем они говорят и пишут, является истиной на все времена. Но в этой «универсальной» форме они с разной глубиной выразили лишь истину своего времени и как раз поэтому открыли что-то важное, выходящее и за его границы. Вот почему необходимо ощутить жизненную основу их философии и за «человеком вообще» — героем их сочинений увидеть конкретного человека XVII столетия, с его страданиями, поисками, сомнениями, трагическими противоречиями. Только тогда нам станет внятно живое звучание их произведений. К постижению истины своего времени, а следовательно, и более широкой всечеловеческой истины, каждый из представленных в этой книге французских писателей шел своим особым путем, каждый увидел какую-то грань этой истины и выразил ее в особой оригинальной форме.
1
Франсуа де Ларошфуко (1613–1680) принадлежал к одному из старинных аристократических родов Франции, связанных родственными узами с королевским домом. Детские годы Ларошфуко прошли в провинции Ангумуа, в родовом замке Вертей, а в 1630 году юный принц Марсийяк (это имя до смерти отца как старший сын семейства носил будущий писатель) появляется в Париже. Он втягивается в придворные интриги на стороне королевы Анны Австрийской. «Я был в том возрасте, — писал он впоследствии в «Мемуарах», — когда жадно рвутся к делам необычайным». В его глазах королева была «несчастна» и «гонима», а владычество ее врага, кардинала Ришелье, фактически правившего страной, казалось «вопиющей несправедливостью».
Важнейшее событие в жизни Ларошфуко — его участие в мятеже французских аристократов («фронде»), не желавших подчиняться централизованной власти, — было во многом подготовлено этим периодом его жизни, когда любовные авантюры органически переплетались с политической борьбой; частная и государственная сферы в сознании будущего фрондера еще не обособились друг от друга.
Фронда началась в 1648 году бунтом парижского парламента (высшей судебной инстанции), права которого пытался урезать кардинал Мазарини, преемник Ришелье и продолжатель его дела. Проводимая им политика не только не устраивала старую аристократию, но болезненно сказалась на положении всех слоев французского общества, и прежде всего народа, который страдал от невыносимых налогов, голода, власти интендантов, всякого рода поборов. В стране начались народные восстания, одно из них вспыхнуло и в Пуату, губернатором которого к этому времени стал принц Марсийяк. Выполняя свой «долг», он подавил восстание, но впоследствии признавался, что тяжелое положение крестьян произвело на него необыкновенно тягостное впечатление, вызвало его сочувствие, настолько глубокое, что он готов был оправдать бунтовщиков. («Они жили в такой нищете, что, не скрою, я отнесся к бунту снисходительно».)
Многие представители старой знати поддержали восставший парижский парламент, среди них был и принц Марсийяк. На заседании парламента он прочитал «Апологию принца Марсийяка», в которой пытался обосновать свое право на участие в мятеже. Он не скрывает личных обид и претензий (его заслуги перед Францией и лично перед королевой остались не вознаграждены), но не только это заставило его поднять оружие: «Как бы ни была справедлива терзавшая меня скорбь, первые мои жалобы были вызваны общественными страданиями, и потребовалось объявить кардинала врагом народа, прежде чем я объявил себя его врагом».
Такое смешение личных обид и общественных бедствий важно для понимания позиции Ларошфуко. Он был искренне убежден, что интересы аристократии неотделимы от интересов народа. Сословная монархия, где каждое сословие имело свои права и привилегии, свои обязанности и свободы, регулируемые принципом чести, представлялась ему порождением естественного права, а претензии абсолютизма нарушить этот основанный на вековых обычаях, на неписаных законах порядок — причиной всеобщего бедствия. Так думали и многие другие участники фронды. Непосредственная роль Ларошфуко в развернувшихся событиях была значительной и на первом этапе движения («парламентская фронда»), и особенно на втором («фронда принцев»). Он храбро сражался во главе отрядов мятежников, пока в 1652 году не был тяжело ранен в битве у Сент-Антуанских ворот. Это случилось 2 июля, а 21 октября молодой король Людовик XIV торжественно вступил в Париж.
Фронда кончилась бесславно. Абсолютизм еще больше укрепил свои позиции. Но писателю мнилось, что он сражался против деспотизма, отстаивая интересы всей нации. И каков бы ни был объективный смысл его деятельности, в субъективной честности ему никогда никто не мог отказать. «Я совершил именно то, что должен был совершить, — писал он графу Гито 2 мая 1653 года, — во имя этого нашего дела; и чего бы это мне ни стоило, я никогда не буду каяться», Ларошфуко живет в Ангумуа, лечится, много читает, размышляет над прошедшими событиями, над складывающимися во Франции новыми порядками. К концу 50-х годов он возобновляет свои парижские связи и с 1659 года окончательно переселяется в столицу. Время восстаний миновало, наступал век «короля-солнца». Людовик XIV отказался от политики репрессий по отношению к представителям старой знати: он дал им выгодные и почетные должности, но лишил всякой политической силы. И знать приняла новый порядок, покорно примирилась с ним. Спокойно, не вмешиваясь в политические дела, живет и Ларошфуко в своем особняке на улице Сены. Ему простили участие в мятеже, назначили солидную пенсию; почетные должности и аббатства получили его сыновья, и, как свидетельствует его современница госпожа де Севинье, король дарил его особым вниманием, усаживая во время придворных приемов рядом со своей фавориткой маркизой де Монтеспан слушать музыку.
Надо сказать, что Ларошфуко очень холодно принимает королевские милости и старается бывать при дворе как можно реже. Зато он постоянный посетитель светских салонов, сыгравших в 60-е годы XVII века важную роль в духовной и общественной жизни Франции. Многие из этих салонов являлись центрами умонастроений, оппозиционных по отношению к официальной идеологии. Таков был и салон госпожи де Сабле, с которым Ларошфуко был особенно тесно связан. Здесь родилась его книга «Максимы, или Моральные размышления» (первое издание вышло в 1664 г.). «Беседа с достойными людьми, — писал он, — одно из величайших моих удовольствий. Я люблю, чтобы она велась в серьезном тоне и чтобы вопросы нравственности составляли ее главное содержание». Беседы в салоне де Сабле часто принимали характер игры: темы раздавались заранее, чтобы каждый мог обдумать и выразить свою мысль в виде изящного и сжатого афоризма, причем наибольший интерес вызывал анализ «механизма человеческого сердца»: от участников игры требовалось умение дать точное определение того или другого чувства, психологического состояния, и, как во всякой игре, особое значение придавалось форме. То, что афоризмы Ларошфуко связаны с этой салонной игрой, не вызывает никаких сомнений, однако нельзя, разумеется, согласиться с теми, кто видел в «Максимах» «салонный фольклор», литературную шутку. Философская концепция, пронизывающая книгу Ларошфуко, была им выношена и выстрадана; салонные игры определили отчасти лишь форму ее выражения. Высказывались и другого рода сомнения в самостоятельности «Максим». К каждой сентенции стремились подыскать литературный источник. Называют имена Аристотеля, Эпиктета, Сенеки, Монтеня, Шаррона, Баифа, Кастильоне, Бальтасара Грасиана, Жака Эспри и др. Этот список, вероятно, можно было бы продолжить. Ларошфуко действительно многое заимствовал и при этом умел оставаться оригинальным, как, впрочем, и его великие современники — Корнель, Расин, Мольер, Лафонтен. Он мог бы сказать словами Мольера: «Я беру мое добро там, где его нахожу». У различных авторов, древних и современных, которых он прилежно изучал, он искал ответа на волновавшие его вопросы, искал подтверждения своего понимания жизни и человека. «Максимы» — не собрание разрозненных мыслей, а единое и целостное произведение. Ларошфуко обладал не столько «даром изобретательства», сколько «даром одухотворения», — если воспользоваться термином Томаса Манна, — способностью наполнить чужой материал своей духовной концепцией и тем самым сделать своим достоянием, на которое никто не вправе посягнуть. Оригинальность книги Ларошфуко не нуждается в доказательствах — она доказана ее трехвековой жизнью.
Ларошфуко упорно работал, беспрестанно переделывая свои изречения от издания к изданию (некоторые максимы перерабатывались свыше тридцати раз). То было не только стремление к литературному совершенству. Особенность этой маленькой книжки, которая «иных томов намного тяжелей», заключается в том, что мысль в ней неотделима от формы ее выражения, а часто и в самой форме заключена; «что» и «как» образуют у Ларошфуко нерасторжимое единство. Это делает «Максимы» явлением не только философской мысли, но и искусства слова.
«Максимы» вызвали самые разноречивые отклики современников. Одни увидели в них горький опыт жизни писателя, неправомерно распространенный на весь род человеческий; других, напротив, поразила необыкновенная глубина проникновения в тайники человеческого сердца. Одним книга показалась безнравственной, отрицающей всякую мораль, выражением философского вольнодумства; другие усмотрели в ней высокую религиозную идею в духе суровой догмы янсенизма[2]. Одни утверждали, что «Максимы» перепевают мысли древних и новых философов, других поразила оригинальность и новизна их идей. Подобные противоречивые суждения можно встретить и у последующих исследователей Ларошфуко вплоть до нашего времени. Эти противоречия не выдуманы, они и на самом деле присущи «Максимам», и, чтобы их правильно понять, необходимо найти их источник, корень, из которого они растут.
Опыт фронды сыграл решающую роль в формировании философии Ларошфуко. Опыт этот был горьким. В своих «Мемуарах», написанных в Ангумуа «в праздности, вызванной опалой», он стремится подвести итог целому периоду собственной жизни я целой эпохе в истории Франции. Причину неудачи мятежа он склонен искать в личном поведении его участников, которых вдохновляла не забота о благе страны, не высокие принципы и идеи, а мелкое честолюбие и страх за свои привилегии. Все они вероломны и личную выгоду всегда предпочтут общему делу, в любую минуту готовы предать свою партию, следуя собственным интересам. В «Мемуарах уже чувствуется будущий моралист. Психологические портреты современников — Ришелье, Мазарини, Анны Австрийской, герцога де Бофора, принца Конде, герцогини де Лонгевиль и многих других, — пожалуй, самые интересные страницы.
Опыт фронды открыл Ларошфуко новую правду о человеке. Он больше не верит в бескорыстную добродетель и считает себялюбие главной пружиной всех человеческих поступков. Эта концепция, которая чувствуется уже в «Мемуарах», получила законченное выражение в «Максимах». В первых изданиях этой книги во многих афоризмах ощутима непосредственная связь с «Мемуарами», но в дальнейшем она ослабевает. От издания к изданию Ларошфуко стремится придать своим афоризмам все более обобщенный характер. Те из них, которые прямо связаны с событиями фронды, или вовсе исключаются из книги, или резко изменяются. И дело, конечно, не в страхе перед «королем-солнцем», а в потребности писателя-моралиста постигнуть и выразить общие законы человеческой психологии.
Однако «универсализация» его афоризмов была подсказана и самой историей. Фронда выявила глубокое внутреннее разложение сословной монархии: дворянская свобода обернулась анархическим своеволием, понятия чести, долга, нравственных обязательств были отброшены, и на волю вырвался «естественный человек» — эгоистический индивид. У Ларошфуко были основания придать опыту фронды и более широкое значение. В новом порядке, установившемся во Франции при Людовике XIV, он увидел торжество того самого разделения государственного и частного начал, которое и было в его глазах внутренней причиной поражения фронды. Сложный процесс формирования политического государства, которое по отношению к другим сферам народной жизни развивалось, по словам Маркса, «как нечто потустороннее»[3], завершился ко второй половине XVII века. В форме абсолютной монархии возникла характерная для нового времени «абстракция государства как такового» на одном полюсе и «абстракция частной жизни» — на другом[4], вследствие чего и обнаружилось резкое расхождение между официальной моралью, тем, что должно, и тем, что составляет содержание реальной практики людей.
Эти процессы нашли яркое отражение в литературе того времени, но в наиболее обобщенном виде предстали в «Максимах» Ларошфуко. Именно в эти переломные годы пережил глубокий кризис идеал героической доблести, унаследованный от эпохи Возрождения. Уходящий корнями отчасти в нравственные идеалы республиканского Рима (правда, окрашенный более поздним стоицизмом), а отчасти в героический идеал средневекового рыцарства, культ доблести сохранял во Франции свое значение на протяжении всей первой половины XVII века; его исторической почвой была еще не до конца укрощенная абсолютизмом страна, его реальной жизненной основой — хранивший еще свою независимость аристократ. Эту доблесть, поставленную на службу гражданским идеалам, воспел в классицистической трагедии Корнель. С другой стороны, салонно-аристократическая «прециозная» литература XVII века, непосредственно связанная с идеологией фронды, пыталась воскресить поэзию поздних рыцарских романов. При всем различии между корнелевскими героями и героями прециозных романов можно заметить у них некоторые общие черты: благородство страстей, безупречную храбрость, способность преодолевать любые препятствия, быть творцом собственной судьбы. Эта связь особенно ощутима в первой великой трагедии Корнеля «Сид» (1636). Ее герой Родриго соединяет в себе и качества идеального рыцаря «без страха и упрека», и идеального гражданина, для которого «великий государственный интерес» становится высшей нравственной ценностью. За образом Родриго стоят реальные жизненные модели. И не удивительно, что французский полководец принц Конде, герой Тридцатилетней войны, впоследствии возглавивший «фронду принцев», мог оказаться прототипом и корнелевского героя, и героя прециозного романа мадемуазель Скюдери «Артамен, или Великий Кир» (1649–1653).
С гибелью фронды и окончательной победой абсолютизма исчезала реальная жизненная почва для идеала героической доблести; сами события фронды обнаружили его иллюзорность. Ощущением краха героического идеала в его гражданско-государственной и в его рыцарско-галантной форме проникнуты все значительные литературные произведения 60-х годов XVII века: трагедии Расина, басни Лафонтена, комедии Мольера (особенно «Дон-Жуан» и «Мизантроп»), «Мысли» Паскаля; это важнейшая тема и в «Максимах» Ларошфуко.
Эпиграфом к «Максимам», выражающим главную идею книги, поставлены слова: «Наши добродетели — это чаще всего искусно переряженные пороки». Не вдаваясь пока в смысл этой сентенции, постараемся ответить на вопрос: что же автор считает добродетелью, какое содержание он вкладывает в это понятие? Если под этим углом зрения прочитать «Максимы», то мы увидим, что речь идет именно о героических идеалах первой половины века. «Добродетели» — это жажда славы, бескорыстие, великодушие, стойкость, храбрость, презрение к смерти, чистая, верная рыцарская любовь. Но, как явствует уже из эпиграфа, каждая из этих названных добродетелей — только маска противоположного порока. Эта мысль многообразно варьируется в книге: «У большинства людей любовь к справедливости — это просто боязнь подвергнуться несправедливости». «Люди делают добро часто для того, чтобы обрести возможность безнаказанно творить зло», и т. д., и т. д. По мысли Ларошфуко, и у добродетелей и у пороков должна быть некая единая основа, ее и пытается отыскать писатель. Добродетель предполагает способность творить свою судьбу, следовать велениям разума, ставить общие интересы выше собственных, совершать бескорыстные поступки; соответственно источником пороков является себялюбие, власть страстей над разумом, душевная леность. С этой точки зрения эпиграф прочитывается так: человек не способен властвовать над самим собой, руководствоваться в своем поведении требованиями разума, он раб своих страстей, игрушка в руках судьбы и обстоятельств. Единственной основой всех его действий является себялюбие — «любовь человека к себе и ко всему, что составляет его благо». По мнению автора, «себялюбие питает самые разные склонности», толкает «к завоеванию славы, богатства, наслаждению». «Оно существует у людей любого достатка и положения, живет повсюду, питается всем и ничем, может применяться к изобилию, к лишениям, переходит даже в стан людей, с ним сражающихся», «погибая в одном обличии, оно воскресает в другом»; «себялюбие говорит на всех языках и разыгрывает любые роли, даже роль бескорыстия».
В стоический идеал Ларошфуко не верит. В первом издании его «Максим» был выразительный фронтиспис: Амур насмешливо взирает на бюст, с которого он сорвал маску. Под Амуром подпись: «Любовь к истине», под бюстом — имя римского философа-стоика Сенеки. Идея фронтисписа развивается в «Максимах»: «Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией». «Невозмутимость мудрецов — всего лишь умение скрывать свои чувства в глубине сердца» и т. д. И как итог — знаменитая сто вторая максима: «Ум всегда в дураках у сердца».
Уже говорилось о том, что каждый афоризм обладает внутренней законченностью, живет сам по себе, вне потока речи. И все же это верно лишь отчасти. Между отдельными афоризмами Ларошфуко есть внутренние переклички. Афоризмы существуют в особом, правда, достаточно свободном, в достаточно аморфном контексте, примерно так же, как живут отдельные стихи в цикле, вне которого они не могут быть поняты до конца. С этой точки зрения мы попытаемся проанализировать сто вторую максиму.
Как и большинство других, этот афоризм строится на сочетании противоположных понятий (ум и сердце), но каждое из этих понятий у Ларошфуко многозначно[5]. Ум — начало мысли, сердце — источник страстей; страсти господствуют над нашим разумом и волей — таков первый смысл этой максимы. Она перекликается с сорок второй («У нас не хватает силы характера, чтобы покорно следовать всем велениям рассудка») и с сорок третьей («Человеку нередко кажется, что он владеет собой, тогда как на самом деле что-то владеет им; пока разумом он стремится к одной цели, сердце незаметно увлекает его к другой»). Но ум в данном случае имеет значение и духовной силы, а сердце — телесного органа. Сорок четвертая максима в первой редакции звучала так: «Слабость духа — неправильное выражение, в действительности — это слабость сердца». В издании 1664 года слово «сердце» было заменено словом «темперамент», а в окончательной редакции словами «хорошее или плохое состояние органов тела». Ларошфуко хочет сказать: плоть господствует над духом.
Вслед за материалистами XVII века — французом Гассенди, англичанином Гоббсом — Ларошфуко полагал, что внутренняя духовная жизнь зависит от физического состояния тела, что поведение человека определяется инстинктом самосохранения, стремлением к удовольствию и бегством от страдания. Однако если для Гассенди себялюбие естественно и только на нем может быть построено здание человеческой морали, то Ларошфуко склонен считать его источником человеческих пороков. Это давало ему известное основание утверждать в предисловии к первому изданию «Максим», будто мораль его книги «во всем согласна с мыслями некоторых отцов церкви». Однако было бы неправильно относить Ларошфуко ни к материалистическому вольномыслию его времени, ни к сторонникам религиозной морали янсенистского толка. Он не искал спасения в боге, как Паскаль, но, в отличие от Гассенди, пессимистически оценивал «естественного человека». Он стоически принимал мир таким, каков он есть. Это видно и в сто второй максиме. Слово «всегда» подчеркивает, что автор и самого себя не исключает из общего правила — разделяет общий со всеми «человеческий удел».
И все же смысл афоризма «Ум всегда в дураках у сердца» к этому не сводится. В нем есть еще один важный обертон, весьма существенный для книги в целом: людям только кажется, что они следуют велениям разума, а на самом деле, порою того и не сознавая, подчиняются своим страстям и интересам.
Обнаружение противоречия между тем, что только кажется, и тем, что есть, между видимостью и сутью — одна из основных философских и морально-психологических проблем XVII столетия. В «Максимах» Ларошфуко она занимает центральное место. Как явствует из эпиграфа, за каждой добродетелью таится порок, и сама добродетель — маска, которой прикрывается себялюбие. Но Ларошфуко не склонен видеть в этом только сознательное лицемерие. Мысль его и тоньше и глубже. Люди вынуждены притворяться, носить личину, казаться не тем, чем они являются на самом деле, потому что они живут в обществе. Это означает, что законы общественной жизни не совпадают с законами человеческой природы.
Разумеется, проблема «лица» и «маски» существовала и в доабсолютистском обществе. Человек и прежде никогда не совпадал со своей социальной ролью, но для средневекового рыцаря «маска» — то, чем он хотел казаться, то, за что принимали его другие, было тождественно тому, чем он хотел быть; он не притворялся, а действительно стремился следовать своему идеалу. Герцен писал в «Западных арабесках»: «Рыцари и верующие часто не исполняли своих обязательств… У них была своя праздничная одежда, своя официальная постановка, которые не были ложью, а скорее их идеалом». «Маска», о которой идет речь в «Максимах», — совсем другого свойства. Она продукт не просто социального бытия, но — социального отчуждения. «Короли чеканят людей, как монету: они назначают им цену, какую заблагорассудится, и все вынуждены принимать этих людей не по их истинной стоимости, а по назначенному курсу», — и потому «общество состоит из одних только личин». Но, привыкнув притворяться перед другими, казаться не тем, что он есть, человек начинает притворяться и перед самим собой; люди обманывают не только других, но и себя. Отделить одно от другого порою невозможно; каждый хочет одновременно удовлетворить свое себялюбие и заслужить одобрение окружающих и потому не осмеливается признаться даже самому себе в истинных мотивах своих действий. «Незримое самому себе» себялюбие «производит на свет таких чудищ, что либо искренне не признает их своими, либо предпочитает от них отречься».
Психологические открытия и психологические разоблачения Ларошфуко строятся на выявлении этого противоречия. Наиболее интересные и глубокие максимы показывают сложный «механизм» душевной жизни. «Смирение нередко оказывается притворной покорностью, цель которой покорить себе других. Это уловка гордости, принижающей себя, чтобы возвыситься, и, хотя у гордости множество личин, она лучше всего маскируется и более всего способна нас обмануть, когда прячется под маской смирения».
Эта максима построена как своеобразное кольцо, что и придает ей внутреннюю завершенность. Она начинается словом «смирение» и заканчивается тем же словом. Мысль писателя движется от того, что лежит на поверхности, что только кажется, — к тому, что есть, что таится в глубине, а затем прослеживается обратное превращение сущности в явление. При этом все переходит в свою противоположность: гордость становится смирением, принижается, чтобы возвыситься, притворяется покорностью, чтобы покорить других, и т. д. Низ и верх перестают быть у Ларошфуко устойчивыми неподвижными точками. В основе возвышенных и благородных поступков лежат низменные и эгоистические мотивы. «Пороки входят в состав добродетелей, как яды в состав лекарств», а «добродетели теряются в своекорыстии, как реки в море». Но при всей зыбкости границ между добродетелью и пороком, добром и злом, истиной и фальшью у Ларошфуко всегда сохраняется расстояние, водораздел между ними. Фальшь может принимать облик истины, искусно переряжаться под нее, но от этого она не становится истиной, а остается фальшью. В психологическом анализе Ларошфуко всегда сохраняется твердая нравственная оценка. Истинный смысл его книги можно было бы сформулировать так: именно потому, что общественное бытие отчуждено от человека, добродетель превратилась в «призрак», в «маску», а себялюбие стало единственной пружиной человеческих поступков. И это опасно. Опасно не только потому, что исчезает нравственная основа жизни, но и потому, что человек утрачивает свое «я», «жаждет быть не собой, а кем-то другим, жаждет присвоить чуждый ему облик и не присущий ум», перестает быть личностью и становится личиной. «Люди стараются казаться иными, чем они есть на самом деле, вместо того чтобы стать такими, какими хотят казаться».
Современники часто упрекали Ларошфуко в мизантропии, в мрачно-пессимистическом взгляде на человека. Он предвидел такую оценку: «Все любят, — говорит писатель, — разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным». Ларошфуко хотел помочь человеку «познать самого себя» и считал величайшим подвигом дружбы открыть другу глаза на его собственные недостатки. Это он и сделал в своих «Максимах».
2
«Мысли» Паскаля были написаны несколько раньше «Максим» Ларошфуко, в 1658–1659 годах, но впервые опубликованы после смерти автора, только в 1669 году. Есть немало общего между произведениями двух великих моралистов. Их объединяет критика стоического идеала, неверие в силу разума, способного властвовать над страстями, признание себялюбия основой наших поступков и действий. Наконец, обоих мыслителей объединяет я форма афоризма с его парадоксальной структурой.
Как в «Максимах», так и в «Мыслях» ощутимо время их создания — начало новой эпохи, наступившей после столь бурных событий фронды. В этом отношении особый интерес представляют размышления Паскаля на социально-политические темы. Он принимает новый порядок, но не потому, что тот справедлив, а потому, что неизбежен. Паскаль полагает, что любой общественный порядок далек от справедливости. Уже один тот факт, что у каждой страны свои обычаи и законы, свое понимание права и справедливости, говорит об относительности этих понятий, и, если истина по одну сторону Пиренеев становится заблуждением по другую, значит, она не истина.
Где же отыскать основу справедливости — в авторитете законодателя, в нуждах монарха, в существующем обычае? — вопрошает автор. Ему ясна лишь одно: «Нет беды страшнее, чем гражданская смута». Народ поднимается на борьбу, когда начинает понимать, что ходит в ярме, и хочет его сбросить, но он всегда терпит поражение, а выигрывают только сильные мира сего — таков для Паскаля печальный итог фронды. Справедливо было бы «разделить все блага между людьми поровну». С этой точки зрения Паскаль берет под сомнения все устои современного ему общества — права монарха, знати, узаконенное неравенство. Но он знает, что не справедливость управляет миром, а сила: «Неспособные сделать справедливость сильной, люди положили считать силу справедливой». Именно силою и держатся «узы смиренного почтения низших классов к высшим». Но и сила сама по себе все-таки бессильна и нуждается в помощи воображения, которое окружает ореолом правителей и законы. Вот почему, по мысли Паскаля, власть королей, герцогов, судей вполне реальна, поскольку держится на силе, и в то же время неустойчива, ибо основана на воображении. Паскаль не верит в естественное право: почтение и страх, которые вызывает у подданных тот или иной король или герцог, подобны страху, который вызывает у детей страшная рожа, ими же самими намалеванная.
Парадоксальные рассуждения Паскаля о справедливости и силе во многом напоминают парадоксы Ларошфуко и в то же время отличаются от них. «Любовь к справедливости, — писал Ларошфуко, — рождена живейшим беспокойством, как бы кто не отнял у нас нашего достояния…» — иными словами, она только видимость, одна из личин, в которую рядится себялюбие. Мысль Паскаля сложнее и глубже. Его парадоксы коренятся в самой природе вещей. По Паскалю, сила не только кажется справедливой. Ведь, подавив гражданские смуты его времени, она обеспечила в стране мир, а мир — величайшее благо на земле.
Каждое положение Паскаля переходит в свою противоположность. Его афоризмы строятся как последовательное опровержение всех «за» и «против». Справедливость — видимость, все держится на силе, но и сама сила ничто, если не будет поддержана хотя бы видимостью справедливости. «Народ соблюдает обычай, твердо веря, что он справедлив, в противном случае он немедленно отвернулся бы от него, так как люди согласны повиноваться только разуму и справедливости». Ибо природа человека парадоксальна, и не одна корысть, но и чувство добра заложено в его сердце. Паскаль готов согласиться с Ларошфуко, что наши добродетели только искусно переряженные пороки, и многие фрагменты «Мыслей» подтверждают эту истину. Но Паскаль доказывает и обратное: наши пороки, быть может, только переряженные добродетели.
Не социальные темы составляют главное в «Мыслях» Паскаля. Не место человека в обществе, а его место в мироздании, — вот что больше всего волнует писателя. Именно здесь главное отличие Паскаля от Ларошфуко. Истину своего века он выразил шире и глубже, чем автор «Максим»; он шел к ней через иной жизненный и духовный опыт. Биография Паскаля по-своему не менее драматична, чем биография Ларошфуко, хотя и бедна внешними событиями.
Влез Паскаль родился в 1623 году в Клермоне в семье председателя суда и ученого-математика Этьена Паскаля, который после смерти жены уехал в Париж, посвятив себя целиком воспитанию детей; особенное внимание уделял он младшему сыну Влезу, болезненному мальчику, с ранних лет проявлявшему необыкновенные способности к математике. Шестнадцати лет Влез Паскаль написал трактат о конических сечениях, поразивший Декарта зрелостью мысли и доставивший гениальному юноше всеобщее признание ученых мира. Восемнадцати лет он сконструировал первую счетную машину, а с 1646 года начал занятия физикой, сделав ряд важных научных открытий. После смерти отца, в 1651 году, по состоянию здоровья он вынужден был прервать свои научные занятия и окунулся со свойственной ему страстью в водоворот светской жизни. В это время он завязывает дружеские связи с кружком вольнодумцев «либертенов», среди которых были серьезные ученые, последователи философии Гассенди, и светские люди, прожигатели жизни. Впрочем, до конца расстаться с математикой Паскаль все-таки не может, именно в этот период он пишет свой трактат о треугольнике, обогативший геометрию новыми теоремами. В 1654 году тридцатилетний Паскаль пережил духовный кризис, внезапное мистическое «озарение», религиозное обращение, которое побудило его оставить свет и удалиться в янсенистский монастырь Пор-Рояль. Немаловажное значение в этом событии, перевернувшем всю жизнь Паскаля, имел происшедший незадолго до того несчастный случай, который потряс болезненно впечатлительного писателя: когда Паскаль проезжал через мост в Париже, лошади вдруг понесли и свалились в воду, но постромки чудом оборвались, и карета удержалась на самом краю.
В Пор-Рояле, который был тогда одним из центров французской культуры, Паскаль прожил остаток своей жизни (умер он в 1662 г.) Здесь были написаны его «Письма к провинциалу», полемическое сочинение, направленное против иезуитов. Здесь была начата и задумана главная книга жизни «Апология христианской религии», оставшаяся в виде связанных в пачки листов бумаги, на которых Паскаль записывал приходившие к нему мысли. Эти фрагменты были собраны после его смерти видным деятелем Пор-Рояля Николем и опубликованы под названием: «Мысли Паскаля о религии и некоторых других вопросах». В «Мыслях» отразилась духовная трагедия Паскаля, великого ученого, который разочаровался в науке и стремился найти высшую истину и смысл бытия в религиозной вере. Опыт ученого имел для «Мыслей» Паскаля такое же важное значение, как политический опыт Ларошфуко для его «Максим».
Научные труды Паскаля принадлежат великому подъему, который пережило естествознание в конце XVI и начале XVII века, и неотделимы от философской основы, на которой оно покоилось. Открытия в области физики и астрономии расшатали тот образ мироздания, что господствовал в античности и в средние века: образ завершенного в себе, замкнутого, внутренне гармоничного целого, где человек занимал твердо установленное и весьма почетное место. Теперь бесконечность, которая мыслилась как атрибут всемогущего бога, стала атрибутом сотворенного мира и возникло резкое несоответствие между масштабом человека и масштабами Вселенной. Человек перестал ощущать себя центром мироздания, он оказался лишь песчинкой, атомом на общем лоне сущего. Собственно богу в этом новом космосе не осталось места. «Не могу простить Декарту, — пишет Паскаль, — он очень хотел бы обойтись в своей философии без бога, но так и не обошелся, заставил его дать мирозданию щелчок… а потом бог стал ему ненадобен».
Новый, обезбоженный механистический космос резко расходился и с той натурфилософской, полурелигиозной, поэтической концепцией одухотворенной природы, которая господствовала в эпоху Возрождения, когда, по выражению Маркса, «материя улыбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку»[6].
Механистический материализм, не как собственно научная теория, а как духовная концепция жизни, не мог удовлетворить Паскаля. Наука не давала ответа на мучительно тревожившие его нравственные вопросы. А ведь именно эти вопросы стояли в центре внимания янсенистского учения, и суровая аскетическая атмосфера Пор-Рояля лишь усугубляла для Паскаля их остроту. Раздумья над политическими событиями, над современниками, углубленный самоанализ внушили Паскалю страстное желание решить для себя главный вопрос человеческого существования: «Как я должен жить, чтобы моя жизнь имела смысл?» В «Мыслях» отражены напряженные философские и нравственные искания их автора. «Я потратил много времени, — говорит Паскаль, — на изучение отвлеченных наук, но потерял к ним вкус — так мало дают они знаний. Потом я стал изучать человека и понял, что отвлеченные науки вообще чужды его натуре и что, занимаясь ими, я еще хуже понимаю, каково мое место в мире, чем те, кому они неведомы». Загадка человека терзает теперь Паскаля еще больше, чем загадка мироздания: проблема существования личности в мире, обретение или утрата ею смысла жизни, способность человека познать безграничную Вселенную, величие его и ничтожество. Очень выразителен в этом смысле фрагмент 72 «Мыслей», в котором говорится о несоизмеримости человека и Вселенной. Трагичен удел человеческий, ибо человек перестал ощущать себя микрокосмом, он «не более как атом и тень» и живет на грани двух бездн: «бездны бесконечности и бездны небытия», и не дано ему постичь конец сущего и его начало (ибо, «будучи небытием, мы не способны понять начало начал… будучи бытием кратковременным, не способны охватить бесконечность»). Не только мир, но и сам человек для самого себя — непостижимая тайна. Что такое человек? «Небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием, среднее между всем и ничем».
Трагическое мироощущение Паскаля связано не только с изменившейся картиной мироздания — оно имеет и свои общественные корни. В абсолютистской Франции человек перестал ощущать себя частью единого целого (отсюда у Паскаля острое чувство своей неповторимости, единственности, высокое личностное самосознание), само же целое стало для человека враждебной, отчужденной и несоизмеримой с ним силой. Человеческое существование писатель уподобляет галерам, где все в оковах, все приговорены к смерти и каждый, полный скорби и безнадежности, бессильный помочь другому, ждет, когда же наступит его черед.
В утверждении Паскаля о «срединном» положении человека в мироздании заключена скрытая полемика с мыслителями эпохи Возрождения. Итальянский гуманист XV века Пико делла Мирандола утверждал в «Рассуждении о достоинстве человека», что именно в силу своего «срединного положения» человек всемогущ: он обладает возможностью «обозреть все, что есть в мире», «владеть, чем пожелает», и «быть, чем захочет».
Когда же Паскаль говорит, что удел человека «середина» и «кто вне середины, тот вне человечества», он вкладывает в это другой смысл. Он имеет в виду противоречивость и двойственность природы человека и положения его в мире: «человек не ангел и не животное», он всегда между двумя противоположными полюсами; но срединная точка, которую он занимает в мире, неустойчива, она каждую секунду уходит из-под ног, и перед нами разверзается бездна. Сама «середина» есть сочетание противоположностей. «Что за химера человек, …какое чудовище, какой хаос, какое вместилище противоречий, какое чудо… судья всех вещей и бессмысленный червь земли, обладатель истины и клоака неуверенности и заблуждений, слава и отброс мироздания».
Парадоксальна не только природа человека, парадоксальна любая истина. Парадоксы Паскаля лишены всякого элемента игры, они всегда трагически серьезны. Мысль писателя повсюду обнаруживает противоречие, он знает, что любое правильное исходное положение может быть дополнено противоположным, столь же правильным. Эти противоречия принимают у него характер непримиримых, но взаимно связанных антиномий: добро и зло, дух и материя, разум и страсти, справедливость и сила, истина и заблуждение. Привести эти антиномии к некоему высшему синтезу, потребность в котором заложена в сердце каждого человека, не представляется Паскалю возможным. Вот почему, надо полагать, его сочинение осталось только в форме разрозненных фрагментов, — он не в силах был привести их в стройную логическую систему.
Единственной и реальной истиной нашего мира кажется Паскалю парадокс — напряженное отношение противоположных полюсов. Человек, чтобы оставаться человеком, должен стремиться к обеим крайностям, а не к одной из них, ибо когда он касается одной, то неминуемо впадает в противоположную. Так, «чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше уподобляется животному». Тщетны усилия тех, кто решил отказаться от страстей, и тех, кто решил им предаться: «разум по-прежнему клеймит страсти за их низость и несправедливость, нарушая покой тех, кто им предается, и страсти по-прежнему бушуют в тех, кто жаждет от них избавиться».
Человек в глазах Паскаля одновременно велик и ничтожен. Было бы неверно вычитать из фрагмента 72 мысль о бессилии человеческого разума. Скорее этот фрагмент говорит об обратном: величие человека в его способности мыслить, в этом его главное назначение. Паскаль неоднократно возвращается к этой идее. «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить… достаточно дуновения ветра, капли воды. Но пусть даже его уничтожит Вселенная, человек все равно возвышеннее, чем она, ибо сознает, что расстается с жизнью и что слабее Вселенной, а она ничего не сознает» (фрагмент 347). Итак, величие и достоинство человека в его мысли, в его сознании. Но сила человеческого разума в способности ощутить собственные границы, «признать существование многих явлений, ему непостижимых», возвыситься над самим собой, так же как все величие человека — в способности превзойти собственные пределы, в вечном разладе с миром и с самим собой, в сознании своей слабости и ничтожества. Короче, все величие человека в его трагическом уделе. Поэтому все обращается в свою противоположность: сила становится слабостью, слабость — силой; порок превращается в добродетель, а добродетель оказывается источником зла. Стремление к славе суетно, оно порождено нашим тщеславием; для человека так невыносимо ощущение своего одиночества, своего трагического удела, что он беспрестанно ищет всякого рода развлечений и отвлечений, лишь бы не задумываться над самим собой, над тем, что он такое, откуда пришел, куда идет. Он отказывается от своего подлинного «я», стремится не быть, а казаться и готов умереть во имя любой безделицы. Он никогда не живет настоящим, обращает взоры к прошлому, которого уже нет, и к будущему, которое всегда проблематично. Но, с другой стороны, любовь к славе — самое неоспоримое доказательство высокого достоинства человека, ибо говорит о том, что превыше всего он ценит людской разум, и даже «почтеннейшее положение не радует его, если этот разум отказывает ему в почете». В вечной неудовлетворенности и заключено величие человека. «Он ничтожен, как вельможа, как низложенный король». В конце концов, «величие человека тем и велико, что он сознает свое ничтожество. Дерево своего ничтожества не сознает».
Диалектика Паскаля, однако, имеет свои границы. Даже если принять ее как форму нашей мысли, по мнению писателя, ее нельзя признать законом истинного бытия. В реальной жизни все относительно: «Все в этом мире отчасти истинно, отчасти ложно», — а Паскаль стремится к абсолютному, и это приводит его к идее бога.
Однако бог не может быть постигнут разумом. В этом главное расхождение Паскаля с Декартом. Он отрицает представление Декарта об умопостигаемом, рационально устроенном мире; картина мироздания вовсе не говорит о присутствии в нем божественного начала, и вечное молчание бесконечных пространств Вселенной страшит писателя. «Все являемое мне природой рождает лишь сомнение и тревогу. Если бы я не видел в ней ничего отмеченного печатью божества, я утвердился бы в неверии; если бы на всем видел печать Творца, успокоился бы, полный веры. Но я вижу слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы преисполниться уверенности, и сердце мое скорбит». Паскаль мучительно колеблется между наукой и религией, между разумом и верой. «Только сердце ощущает бога, — восклицает он, — а не разум, вот что такое вера». И хотя религия непостижима разуму, только она, по мнению Паскаля, может разрешить непостижимую загадку человеческого бытия, только учение о первородном грехе позволяет понять парадоксальную природу человека, вечно неудовлетворенного собой и миром, сокрушающегося об утраченном блаженстве, подобного «низложенному королю», тоскующему «по монаршему сану, которого он лишился». Только она способна вселить в человека надежду и придать смысл его бытию. И самое важное: только на религии, а не на разуме можно, согласно Паскалю, построить здание человеческой морали. Вера Декарта в то, что разум управляет нашими страстями и что для того, чтобы правильно поступать и жить, достаточно правильно мыслить, Паскалю представляется ложной. Он убежден, что наш разум «помрачен страстями», а наши суждения порою зависят от самого ничтожного пустяка, и поэтому, «хотя разум и суть его натуры», человек не способен руководствоваться им. И утверждение Декарта парадоксально переворачивается Паскалем: чтобы правильно мыслить, надо сначала правильно жить. Надо жить, говорит Паскаль, так, как велит христианская мораль, даже если ты и не веришь в вечное спасение. Источник нравственности, как и веры, заложен, согласно Паскалю, не в разуме, а в сердце. Разум всюду обнаруживает противоречия и не может не признать, что два противоположных суждения могут быть одинаково верны, а жизнь требует от человека решимости и воли, определенности и выбора, сопряженного всегда с надеждой и риском.
В отличие от «Максим» Ларошфуко, «Мысли» Паскаля внутренне диалогичны: писатель все время спорит со своими воображаемыми оппонентами. Это стоики и скептики, Эпиктет и Эпикур, Декарт и Монтень — его любимые и читаемые им авторы. Но Паскаль однажды заметил: «Во мне, а не в писаниях Монтеня, все то, что я в них вычитываю». Поэтому «Мысли» — это спор писателя с самим собой. Религиозно-мистические порывы не разрешали его сомнений, а были лишь выражением неразрешимо трагических противоречий его мысли. И не только мысли.
Сочинение Паскаля стоит на грани философии и искусства. Паскаль обладает могучим воображением и часто мыслит поэтическими символами, непереводимыми на язык однозначных логических понятий. Таковы — образ «мыслящего тростника» или образ «бездны», с которым связывается представление о бесконечности, вечности, а также катастрофичности человеческого бытия. В этом символе отразилось и трагическое ощущение непрочности современной Паскалю цивилизации, под которой таится хаос, — ощущение, сближающее Паскаля с такими писателями XVII века, как Кальдерой и Расин.
Все, о чем писал Паскаль, было глубоко им пережито и выстрадано. Его великие прозрения и трагические заблуждения, его жажда абсолютного и невозможность достигнуть его были куплены ценой величайших мучений. Он за все платил кровью своего сердца. Его ранняя смерть не удивительна. Лучше всего о самом себе сказал он сам: «Я только с теми, кто, стеная, ищет истину».
3
«Характеры» Лабрюйера были опубликованы в 1688 году и принадлежат новому периоду жизни Франции и истории ее литературы. Это был закат века «короля-солнца». Абсолютистская система вступила в полосу глубокого кризиса, из которого она так никогда и не смогла выйти. Неудачная внешняя политика Людовика XIV, разорительные войны, безудержная роскошь верхов и самого королевского двора приводят Францию к настоящему банкротству (к началу 80-х годов государственный долг в шестнадцать раз превышал годовой бюджет страны). Все это болезненно сказывается прежде всего на положении народа. По меткому выражению одного из писателей того времени, Фенелона, «Франция напоминала большой заброшенный, лишенный продовольствия госпиталь». В ряде провинций начали вспыхивать крестьянские восстания. Людовик XIV переходит к открыто реакционной политике. За отменой Нантского эдикта (1685 г.) последовали жестокие религиозные гонения на гугенотов и янсенистов, вызвавшие возмущение всех честных людей страны. Существенные изменения претерпевает и литература, которая проникается оппозиционными настроениями и все больше и больше расходится с официальной идеологией. Это ощутимо и в поздних трагедиях Расина, и в творчестве Фенелона, но, пожалуй, более всего в «Характерах» Лабрюйера — одном из самых значительных явлений литературы конца века. Французский критик Сент-Бёв верно заметил, что лучи эпохи ярко осветили каждую страницу этой книги, но лицо человека, который раскрыл ее перед нами, осталось в тени. Мы мало что знаем о жизни писателя.
Жан Лабрюйер родился в 1645 году в семье главного контролера рент парижского муниципалитета, человека небогатого, с трудом содержавшего многочисленную семью. Писатель получил хорошее образование сначала в коллеже, а затем на юридическом факультете Орлеанского университета, который он закончил в 1665 году. Что делал Лабрюйер после окончания курса — нам неизвестно. Есть предположение, что он занимался адвокатской деятельностью. Достоверно только, что в 1673 году он купил должность генерального казначея в финансовом бюро округа Кан, но, по-видимому, делами своего ведомства занимался не слишком усердно, рассматривая свою должность как своеобразную синекуру. Это давало ему необходимый досуг, который он заполнил «совсем иными занятиями, состоящими из чтения, бесед и раздумий». В эти годы, возможно, он уже начинает работать над своей будущей книгой.
В 1684 году, по рекомендации знаменитого в то время религиозного оратора, крупного церковного деятеля и писателя Боссюэ, Лабрюйер получил должность воспитателя внука принца Конде. Когда мальчик подрос, Лабрюйер остался жить в доме вельможи, получив пенсию в тысячу экю и выполняя обязанности секретаря и библиотекаря. Во дворце Конде, в Версале и Шантильи Лабрюйер имел возможность познакомиться с жизнью высших аристократических и придворных кругов Парижа. Здесь и родилась его книга «Характеры, или Нравы нынешнего века». Образцом для нее послужило сочинение греческого писателя IV века до н. э. Теофраста «Характеры». Первоначально Лабрюйер предполагал ограничиться переводом греческого автора, присоединив лишь несколько характеристик своих современников. Однако с каждым новым изданием оригинальная часть все разрасталась, и в последнем, девятом, опубликованном в год смерти писателя (1696), перевод Теофраста, по сути, оказался лишь незначительным приложением к книге Лабрюйера. По подсчетам самого автора в ней было тысяча сто двадцать оригинальных характеристик.
Обращение к античному источнику характерно для литературы века классицизма. Лабрюйер был убежден, что для того, чтобы «достичь совершенства и, хотя это очень трудно, превзойти древних, нужно начинать с подражания им». Но он не только подражал Теофрасту. В отличие от греческого автора, Лабрюйер стремится вскрыть «первопричины пороков и слабостей людей» и «научиться не удивляться тысячам дурных и легкомысленных поступков, которыми наполнена их жизнь». Здесь он продолжает традиции французской моралистики, опираясь на опыт Паскаля и в особенности Ларошфуко. В речи о Теофрасте, произнесенной в 1693 году при его вступлении в Академию, Лабрюйер сам говорил об этом, отмечая, что ему «не хватает возвышенности первого и тонкости второго».
Раздумья на философско-религиозные темы, близкие «Мыслям» Паскаля, и в самом деле мало оригинальны. Психологические его наблюдения интереснее, они не лишены тонкости (некоторые из них восхищали такого изощренного психолога, как Марсель Пруст), но в целом Лабрюйер прав — по глубине и остроте мысли они уступают «Максимам» Ларошфуко.
Художественные открытия Лабрюйера в другом. И Паскаль и Ларошфуко, при всех оговорках, ищут источник зла и добра в самой природе человека, а Лабрюйер ищет его в обществе. Он не только моралист, но и социолог. Недаром в его книге наряду с такими главами, как «О человеке», «О женщинах», «О сердце» и т. п., присутствуют главы «О светском этикете», «О дворе», «О вельможах», «О монархе и государстве» и т. п. Об этом говорит и самое название книги: «Характеры, или Нравы нынешнего века». Для Лабрюйера характер во многом уже определяется нравами века, условиями жизни, социальной средой.
Различие между героем и трусом, утверждает писатель, определяется местом, которое люди занимают в обществе. «Бросьте меня в гущу войска, сделайте простым солдатом — и я Терсит; поставьте меня во главе армии, дайте мне помериться силами со всей Европой — и я Ахилл». Этот мотив проходит через многие размышления Лабрюйера. И все же четкого разделения моральных и социальных категорий в «Характерах» еще нет. Сам Лабрюйер признает, что одни и те же качества могут корениться в нашей натуре, а могут быть результатом условий жизни. «Человек иногда рождается черствым, а иногда становится им под влиянием своего положения в жизни. В обоих случаях он равнодушен к бедствиям ближнего и к несчастьям собственной семьи. Настоящий финансист не способен горевать о смерти своего друга, жены, детей». В таком контексте — финансист не только социальная, но и моральная характеристика человека. А вот другой пример: «Сановники пренебрегают умными людьми, у которых нет ничего, кроме ума; умные люди презирают сановников, у которых нет ничего, кроме сана». Сановники — категория социальная, но здесь она включает и моральную оценку; умные люди — категория моральная, но здесь имеется в виду и определенное социальное положение человека. В этом и заключено своеобразие Лабрюйера и как мыслителя, и как художника. К социальным проблемам он подходит как моралист, а к моральным — как социолог. Так строятся и его портреты: Лабрюйер рисует два контрастных характера — Гитона и Федона. Один — весел, насмешлив, нетерпелив, заносчив, вспыльчив, воображает, будто умен и талантлив; другой — угодлив, подобострастен, лжив, робок, рассеян, вид у него глупый, хотя на самом деле он умея. За различием двух характеров скрывается различие социальных положений. Портреты строятся как своеобразные загадки. Разгадка дается в конце: Гитон — богат, Федон — беден.
Важнейшая тема всей моралистики XVII века — тема лица и маски — проходит и через «Характеры» Лабрюйера, но приобретает у него иной смысл, чем у Паскаля и Ларошфуко. Она становится выражением глубокого кризиса абсолютистской системы, резкого несоответствия между тем, чем является французское общество в своем существе, и показной стороной его жизни. Жизнь Франции представляется Лабрюйеру грандиозным спектаклем, где каждый играет несвойственную ему роль, стремится казаться не тем, чем является в действительности. Захудалый дворянчик хочет прослыть маленьким сеньором, а знатный сеньор хочет титуловаться принцем, но, кичась своими дворянскими титулами, спесивая знать роднится с разбогатевшими выскочками, ибо нуждается в деньгах, и если финансист преуспевает, придворные просят руки его дочери. Деньги — единственно реальная сила. Но богатые буржуа во что бы то ни стало хотят казаться знатными людьми и на приобретение дворянского титула тратят целое состояние. Даже святая святых, религия, которая в глазах Лабрюйера есть единственная прочная основа нравственности, — превратилась в «спектакль». «Никто не вслушивается в смысл слова божьего, ибо проповедь стала лишь забавой, азартной игрой, где одни состязаются, а другие держат пари». Истинную веру заменила жажда чинов, денег, бенефиций, и дух благочестия, охвативший королевский двор и начавший распространяться в столице, — не более чем маска, прикрывающая неверие и распутство. Тот, кто раньше слыл вольнодумцем, теперь стремится сделаться святошей. «Придворные носят парики, одежду в обтяжку, гладкие чулки и отличаются благочестием. Все решает мода». «Благочестивец, — заключает автор, — это такой человек, который при царе-безбожнике сразу стал бы безбожником». Лабрюйер стремится сорвать маски, скрывающие истинное лицо французского общества его времени — «лицо ничтожества».
Социальный анализ Лабрюйера отличается глубиной. Он уловил новую силу, которой принадлежит будущее, — власть денег. Пожалуй, ни о ком не говорит Лабрюйер с таким гневом и злостью, как о финансистах и откупщиках. Золото в глазах писателя еще более страшная сила, чем сословные привилегии. Оно разрушает естественные связи между людьми, нравственную основу жизни. Тех, кто любит корысть и наживу, «не назовешь ни отцами, ни гражданами, ни друзьями, ни христианами. Они, пожалуй, даже не люди, зато у них есть деньги».
В книге Лабрюйера нет специальной главы, посвященной описанию нравов низших классов, но мысль о народе неотступно преследует писателя, и контраст между жизнью сильных мира сего и нищетой и бесправием народа составляет один из центральных ее мотивов, определяя во многом и самый характер лабрюйеровской сатиры. Рисуя страшную картину жизни французского крестьянства, которое «избавляет других людей от необходимости пахать, сеять и снимать урожай», Лабрюйер показывает фундамент, на котором держится все здание созданной абсолютизмом цивилизации. «Порою на полях мы видим каких-то диких животных мужского и женского пола: грязные, землисто-бледные, иссушенные солнцем, они склоняются над землей, копая и перекапывая ее с несокрушимым упорством; они наделены, однако, членораздельной речью и, выпрямляясь, являют нашим глазам человеческий облик».
В другом месте своей книги Лабрюйер пишет: «Человек из народа никому не делает зла, тогда как вельможа никому не желает добра и многим способен причинить большой вред; один живет, занимаясь лишь полезными делами, другой убивает время на дурные забавы; первый простодушен, груб и откровенен, второй под личиной учтивости таит развращенность и злобу. У народа мало ума, у вельмож души; у первых хорошие задатки и нет лоска, у вторых все показное и нет ничего, кроме лоска. Если меня спросят, кем я предпочитаю быть, я, не колеблясь, отвечу: «Народом».
Заключенное в этом фрагменте противопоставление народа и верхов, естественного и искусственного, доброго сердца и холодного ума, природы и извращенной цивилизации определит всю структуру мысли французских просветителей вплоть до Руссо. Правы те, кто видят в Лабрюйере первого философа в том смысле, в каком понимали это слово люди XVIII века.
Это сказывается и на самой художественной структуре «Характеров». Книга Лабрюйера строится на резком контрасте образа автора и окружающего его мира. Здесь главное ее отличие от «Максим» Ларошфуко и «Мыслей» Паскаля. Когда Ларошфуко говорит о людских пороках, он относит это и к самому себе, — такова природа человека. Что же касается Паскаля, то его «я» так широко и всеобъемлюще, что оно вбирает в себя трагическую судьбу всякого человека. У Лабрюйера все выглядит иначе. Когда он говорит о том, что люди черствы, несправедливы, надменны, себялюбивы и равнодушны к ближнему, — это о «других», не о себе; сам автор честен, благороден, добродетелен и предпочтет слыть глупцом, чем сделаться плутом. Иные максимы, напротив, звучат как личные признания: «Грустно любить тому, кто небогат: кто не может осыпать любимую дарами и сделать счастливой, чтобы ей уже нечего было больше желать». Или: «Чтобы чувствовать себя счастливым, нам довольно быть с теми, кого мы любим: мечтать, беседовать с ними, хранить молчание, думать о них, думать о чем угодно, только бы не разлучаться с ними, — остальное безразлично».
В фрагменте 12 главы VI Лабрюйер как бы набрасывает собственный автопортрет: согбенный в уединенном кабинете над сочинениями Платона, он готов бросить недописанную страницу, чтобы прийти на помощь тому, кто в ней нуждается.
Ларошфуко и Паскаль разделяют с другими их трагический удел, а Лабрюйер — сторонний наблюдатель, не участник комедии жизни, а ее зритель. По верному замечанию Сент-Бёва, он занял «угловое место в первой ложе на великом спектакле человеческой жизни, на грандиозной комедии своего времени». Первым из французских моралистов Лабрюйер ощутил себя прежде всего писателем. (Ларошфуко считал себя политическим деятелем и светским человеком, Паскаль — ученым и религиозным подвижником.) «Писатель, — по словам Лабрюйера, — должен быть таким же мастером своего дела, как, скажем, часовщик». Лабрюйер много размышляет над формой, над стилем, над тем, как лучше, точнее, занимательнее описать тот или другой факт. «Весь талант сочинителя в умении живописать и находить точные слова». Стиль, — вот что отличает, по мнению Лабрюйера, истинного писателя от посредственности. Весьма примечательно, что «Характеры» открываются главой, посвященной вопросам «литературного мастерства».
Позиция стороннего наблюдателя определяет и самую структуру лабрюйеровских портретов, особый подход писателя к чужому «я». Внутренний облик другого человека выступает для Лабрюйера как сумма внешних проявлений, скорее как маска, чем лицо. Его характеры — воплощение определенного порока, страсти или социального положения; этим Лабрюйер близок поэтике классицизма. Но он вносит в свои портреты живые, конкретные детали, словно списанные с натуры. Таков, например, портрет Кидия. Лабрюйер рисует, как он откашливается, поправляет манжеты, вытягивает руку, как растопыривает пальцы. По мнению писателя, характер человека проявляется в самом мелком, самом незначительном, неприметном поступке, в том, как человек входит в комнату, выходит из нее, садится и т. п. Каждая черточка, повадка, гримаса, телодвижение, любой жест схвачены Лабрюйером в их соотнесенности со всеми другими, и потому становятся элементами единой художественной структуры. Такой принцип обобщений, предвосхищающий литературу XVIII и XIX веков, для современников еще обладал непривычной новизной. Конкретность деталей заставляла их искать в персонажах «Характеров» сходство с реальными лицами того времени, подбирать к ним «ключи». Лабрюйер решительно возражал против таких попыток, справедливо утверждая, что писал он не сатиру против отдельных лиц, а рисовал нравы своего века, — но сами эти попытки знаменательны.
Андре Моруа назвал Лабрюйера первым великим французским писателем, который стал на путь «импрессионизма». Действительно, «Характеры» лишены строгого плана, построены достаточно свободно, и кажется, что композиция книги подчинена лишь капризу автора. Портреты, коротенькие рассказы, отдельные максимы, производят впечатление непосредственных зарисовок с натуры или записи случайно пришедших в голову мыслей. Но сам Лабрюйер утверждал, что в его книге есть строгая и продуманная композиция и что ее истинный замысел — изобразить «людей вообще».
Фрагментарность «Характеров» и на самом деле двойственна. Ограничимся одним примером: «Клеант благороднейший человек, и женился он на превосходной, очень разумной женщине; каждый из них украшение я гордость любого общества. На свете редко встречаются столь порядочные и учтивые люди, но… Завтра они расстаются: у нотариуса уже готов акт о раздельном жительстве».
Кажется, что здесь запечатлено случайное событие, редкий казус, одно из мгновений бытия. Но за этим рассказом следует неожиданная концовка: «Очевидно, иные достоинства несочетаемы, иные добродетели несовместимы». Благодаря такой концовке весь отрывок уже читается как развернутая максима, как некая притча, имеющая самое широкое общечеловеческое значение. Фрагмент у Лабрюйера как бы заключает в себе полярные начала: образ случайного мгновения и некое стоящее над временем обобщение. История Клеанта содержит в свернутом виде сюжет рассказа или даже целого романа и потому представляет самостоятельный интерес. Завершающая максима не исчерпывает ее потенциального содержания. Из подобного типа сюжетов возникнут многие романы XVIII и XIX столетий.
И как мыслитель, и как художник, Лабрюйер завершает классический век и открывает новую страницу в истории французской литературы.
Без «Максим» Ларошфуко, «Мыслей» Паскаля и «Характеров» Лабрюйера наше представление о Франции XVII столетия было бы неполным. Не подчиненные строгому литературному канону, а потому более непосредственно связанные с жизненной реальностью, сочинения французских моралистов являют нам нравы, характеры, психологию, духовные искания людей той эпохи в более конкретных очертаниях, чем трагедии Корнеля и Расина и даже мольеровские комедии. Занимая особое место в литературе классицизма, афоризмы французских моралистов все же принадлежат этому художественному течению. Выражая сомнения в том, что люди могут руководствоваться голосом разума, Ларошфуко, Паскаль и Лабрюйер тем не менее сохраняют веру в силу разума — в способность человека познавать окружающий мир и свою собственную душу. Лучом разума французские моралисты освещают тайные глубины человеческого сердца, заключая свои наблюдения «в живые, сжатые и утонченные обороты» (Л. Толстой). Словесной форме они придают особое значение, ибо убеждены, что только в слове мысль обретает свое адекватное бытие, только будучи «изреченной», становится истиной.
Бальзак однажды назвал литературу «историей человеческого сердца». Французские моралисты вписали в эту историю одну из самых блистательных страниц.
В. БАХМУТСКИЙ
Франсуа де Ларошфуко Максимы
Перевод Э. Линецкой.
{1}
Максимы и моральные размышления
Предуведомление читателю (к первому изданию 1665 г.)
Я представляю на суд читателей это изображение человеческого сердца, носящее название «Максимы и моральные размышления». Оно, может статься, не всем понравится, ибо кое-кто, вероятно, сочтет, что в нем слишком много сходства с оригиналом и слишком мало лести. Есть основания предполагать, что художник не обнародовал бы своего творения и оно по сей день пребывало бы в стенах его кабинета, если бы из рук в руки не передавалась искаженная копия рукописи; недавно она добралась до Голландии{2}, что и побудило одного из друзей автора вручить мне другую копию, по его уверению вполне соответствующую подлиннику. Но как бы верна она ни была, ей вряд ли удастся избежать порицания иных людей, раздраженных тем, что кто-то проник в глубины их сердца: они сами не желают его познать, поэтому считают себя вправе воспретить познание и другим. Бесспорно, эти «Размышления» полны такого рода истинами, с которыми не способна примириться человеческая гордыня, и мало надежд на то, что они не возбудят ее вражды, не навлекут нападок хулителей. Поэтому я и помещаю здесь письмо{3}, написанное и переданное мне сразу после того, как рукопись стала известна и каждый тщился высказать свое мнение о ней. Письмо это с достаточной, на мой взгляд, убедительностью отвечает на главные возражения, могущие возникнуть по поводу «Максим», и объясняет мысли автора: оно неопровержимо доказывает, что эти «Максимы» — всего-навсего краткое изложение учения о нравственности, во всем согласного с мыслями некоторых отцов церкви, что их автор и впрямь не мог заблуждаться, вверившись столь испытанным вожатым, и что он не совершил ничего предосудительного, когда в своих рассуждениях о человеке лишь повторил некогда ими сказанное. Но даже если уважение, которое мы обязаны к ним питать, не усмирит недоброхотов и они не постесняются вынести обвинительный приговор этой книге и одновременно — воззрениям святых мужей, я прошу читателя не подражать им, подавить разумом первый порыв сердца и, обуздав по мере сил себялюбие, не допустить его вмешательства в суждение о «Максимах», ибо, прислушавшись к нему, читатель, без сомнения, отнесется к ним неблагосклонно: поскольку они доказывают, что себялюбие растлевает разум, оно не преминет восстановить против них этот самый разум. Пусть читатель помнит, что предубеждение против «Максим» как раз и подтверждает их, пусть проникнется сознанием, что чем запальчивее и хитроумнее он с ними спорит, тем непреложнее доказывает их правоту. Поистине трудно будет убедить любого здравомыслящего человека, что зоилами этой книги{4} владеют чувства иные, нежели тайное своекорыстие, гордость и себялюбие. Короче говоря, читатель изберет благую участь, если заранее твердо решит про себя, что ни одна из указанных максим не относится к нему в частности, что, хотя они как будто затрагивают всех без исключения, он — тот единственный, к кому они не имеют никакого касательства. И тогда, ручаюсь, он не только с готовностью подпишется под ними, но даже подумает, что они слишком снисходительны к человеческому сердцу. Вот что я хотел сказать о содержании книги. Если же кто-нибудь обратит внимание на методу ее составления, то должен отметить, что, на мой взгляд, каждую максиму нужно было бы озаглавить по предмету, в ней трактованному, и что расположить их следовало бы в большем порядке. Но я не мог этого сделать, не нарушив общего строения врученной мне рукописи; а так как порою один и тот же предмет упоминается в нескольких максимах, то люди, к которым я обратился за советом, рассудили, что всего правильнее будет составить Указатель{5} для тех читателей, которым придет охота прочесть подряд все размышления на одну тему.
Жерар Одран. «Аполлон раздает награды Наукам и Искусствам, а Минерва увенчивает Гения Франции».
Роспись сводов галереи Малых апартаментов короля в Версале.
Максимы
Наши добродетели{6} — это чаще всего искусно переряженные пороки.
1
То, что мы принимаем за добродетель, нередко оказывается сочетанием корыстных желаний и поступков, искусно подобранных судьбой или нашей собственной хитростью: так, например, порою женщины бывают целомудренны, а мужчины — доблестны совсем не потому, что им действительно свойственны целомудрие и доблесть.
2
Ни один льстец не льстит так искусно, как себялюбие.
3
Сколько ни сделано открытий в стране себялюбия, там еще осталось вдоволь неисследованных земель.
4
Ни один хитрец не сравнится в хитрости с себялюбием.
5
Долговечность наших страстей не более зависит от нас, чем долговечность жизни.
6
Страсть часто превращает умного человека в глупца, но не менее часто наделяет дураков умом.
7
Великие исторические деяния, ослепляющие нас своим блеском и толкуемые политиками как следствие великих замыслов, чаще всего являются плодом игры прихотей и страстей. Так, война между Августом и Антонием{7}, которую объясняют их честолюбивым желанием властвовать над миром, была, возможно, вызвана просто-напросто ревностью.
8
Страсти — это единственные ораторы, доводы которых всегда убедительны; их искусство рождено как бы самой природой и зиждется на непреложных законах. Поэтому человек бесхитростный, но увлеченный страстью, может убедить скорее, чем красноречивый, но равнодушный.
9
Страстям присущи такая несправедливость и такое своекорыстие, что доверять им опасно и следует их остерегаться даже тогда, когда они кажутся вполне разумными.
10
В человеческом сердце происходит непрерывная смена страстей, и угасание одной из них почти всегда означает торжество другой.
11
Наши страсти часто являются порождением других страстей, прямо им противоположных: скупость порой ведет к расточительности, а расточительность — к скупости; люди нередко стойки по слабости характера и отважны из трусости.
12
Как бы мы ни старались скрыть наши страсти под личиной благочестия и добродетели, они всегда проглядывают сквозь этот покров{8}.
13
Наше самолюбие больше страдает, когда порицают наши вкусы, чем когда осуждают наши взгляды.
14
Люди не только забывают благодеяния и обиды, но даже склонны ненавидеть своих благодетелей и прощать обидчиков. Необходимость отблагодарить за добро и отомстить за зло кажется им рабством, которому они не желают покоряться.
15
Милосердие сильных мира сего чаще всего лишь хитрая политика, цель которой — завоевать любовь народа.
16
Хотя все считают милосердие добродетелью, оно порождено иногда тщеславием, нередко ленью, часто страхом, а почти всегда — и тем, и другим, и третьим.
17
Умеренность счастливых людей проистекает из спокойствия, даруемого неизменной удачей.
18
Умеренность — это боязнь зависти или презрения, которые становятся уделом всякого, кто ослеплен своим счастьем; это суетное хвастовство мощью ума; наконец, умеренность людей, достигших вершин удачи, — это желание казаться выше своей судьбы.
19
У нас у всех достанет сил, чтобы перенести несчастье ближнего.
20
Невозмутимость мудрецов — это всего лишь умение скрывать свои чувства в глубине сердца.
21
Невозмутимость, которую проявляют порой осужденные на казнь, равно как и презрение к смерти, говорит лишь о боязни взглянуть ей прямо в глаза; следовательно, можно сказать, что то и другое для их разума — все равно что повязка для их глаз.
22
Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией.
23
Немногим людям дано постичь, что такое смерть; в большинстве случаев на нее идут не по обдуманному намерению, а по глупости и по заведенному обычаю, и люди чаще всего умирают потому, что не могут воспротивиться смерти.
24
Когда великие люди наконец сгибаются под тяжестью длительных невзгод, они этим показывают, что прежде их поддерживала не столько сила духа, сколько сила честолюбия и что герои отличаются от обыкновенных людей только большим тщеславием{9}.
25
Достойно вести себя, когда судьба благоприятствует, труднее, чем когда она враждебна.
26
Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор.
27
Люди часто похваляются самыми преступными страстями, но в зависти, страсти робкой и стыдливой, никто не смеет признаться.
28
Ревность до некоторой степени разумна и справедлива, ибо она хочет сохранить нам наше достояние или то, что мы считаем таковым, между тем как зависть слепо негодует на то, что какое-то достояние есть и у наших ближних.
29
Зло, которое мы причиняем, навлекает на нас меньше ненависти и преследований, чем наши достоинства.
30
Чтобы оправдаться в собственных глазах, мы нередко убеждаем себя, что не в силах достичь цели; на самом же деле мы не бессильны, а безвольны.
31
Не будь у нас недостатков, нам было бы не так приятно подмечать их у ближних.
32
Ревность питается сомнениями; она умирает или переходит в неистовство, как только сомнения превращаются в уверенность.
33
Гордость всегда возмещает свои убытки и ничего не теряет, даже когда отказывается от тщеславия.
34
Если бы нас не одолевала гордость, мы не жаловались бы на гордость других.
35
Гордость свойственна всем людям; разница лишь в том, как и когда они ее проявляют.
36
Природа, в заботе о нашем счастии, не только разумно устроила органы нашего тела, но еще подарила нам гордость, — видимо, для того, чтобы избавить нас от печального сознания нашего несовершенства.
37
Не доброта, а гордость обычно побуждает нас читать наставления людям, совершившим проступки; мы укоряем их не столько для того, чтобы исправить, сколько для того, чтобы убедить в нашей собственной непогрешимости.
38.
Мы обещаем соразмерно нашим расчетам, а выполняем обещанное соразмерно нашим опасениям{10}.
39
Своекорыстие говорит на всех языках и разыгрывает любые роли — даже роль бескорыстия.
40
Одних своекорыстие ослепляет, другим открывает глаза.
41
Кто слишком усерден в малом, тот обычно становится неспособным к великому{11}.
42
У нас не хватает силы характера, чтобы покорно следовать всем велениям рассудка.
43
Человеку нередко кажется, что он владеет собой, тогда как на самом деле что-то владеет им; пока разумом он стремится к одной цели, сердце незаметно увлекает его к другой.
44
Сила и слабость духа — это просто неправильные выражения: в действительности же существует лишь хорошее или плохое состояние органов тела{12}.
45
Наши прихоти куда причудливее прихотей судьбы.
46
В привязанности или равнодушии философов{13} к жизни сказывались особенности их себялюбия, которые так же нельзя оспаривать, как особенности вкуса, как склонность к какому-нибудь блюду или цвету.
47
Все, что посылает нам судьба, мы оцениваем в зависимости от расположения духа.
48
Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему, и мы бываем счастливы, обладая тем, что любим, а не тем, что другие считают достойным любви.
49
Человек никогда не бывает так счастлив или так несчастлив, как это кажется ему самому.
50
Люди, верящие в свои достоинства, считают долгом быть несчастными, дабы убедить таким образом и других и себя в том, что судьба еще не воздала им по заслугам.
51
Что может быть сокрушительнее для нашего самодовольства, чем ясное понимание того, что сегодня мы порицаем вещи, которые еще вчера одобряли.
52
Хотя судьбы людей очень несхожи, но некое равновесие в распределении благ и несчастий как бы уравнивает их между собой.
53
Какими бы преимуществами природа ни наделила человека, создать из него героя она может, лишь призвав на помощь судьбу.
54
Презрение философов к богатству было вызвано их сокровенным желанием отомстить несправедливой судьбе за то, что она не наградила их по достоинствам жизненными благами; оно было тайным средством, спасающим от унижений бедности, и окольным путем к почету, обычно доставляемому богатством.
55
Ненависть к людям, попавшим в милость, вызвана любовью к этой самой милости. Досада на ее отсутствие смягчается и умиротворяется презрением ко всем, кто ею пользуется; мы отказываем им в уважении, ибо не можем отнять того, что привлекает к ним уважение всех окружающих.
56
Чтобы упрочить свое положение в свете, люди старательно делают вид, что оно уже упрочено.
57
Как бы ни кичились люди величием своих деяний, последние часто бывают следствием не великих замыслов, а простой случайности.
58
Наши поступки словно бы рождаются под счастливой или несчастной звездой; ей они и обязаны большей частью похвал или порицаний, выпадающих на их долю.
59
Не бывает обстоятельств столь несчастных, чтобы умный человек не мог извлечь из них какую-нибудь выгоду, но не бывает и столь счастливых, чтобы безрассудный не мог обратить их против себя.
60
Судьба все устраивает к выгоде тех, кому она покровительствует.
61
Счастье и несчастье человека в такой же степени зависят от его нрава, как и от судьбы.
62
Искренность — это чистосердечие. Мало кто обладает этим качеством, а то, что мы принимаем за него, чаще всего просто тонкое притворство, цель которого — добиться откровенности окружающих.
63
За отвращением ко лжи нередко кроется затаенное желание придать вес нашим утверждениям и внушить благоговейное доверие к нашим словам.
64
Не так благотворна истина, как зловредна ее видимость.
65
Каких только похвал не возносят благоразумию! Однако оно не способно уберечь нас даже от ничтожнейших превратностей судьбы.
66
Дальновидный человек должен определить место для каждого из своих желаний и затем осуществлять их по порядку. Наша жадность часто нарушает этот порядок и заставляет нас преследовать одновременно такое множество целей, что в погоне за пустяками мы упускаем существенное.
67
Изящество для тела — это то же, что здравый смысл для ума.
68
Трудно дать определение любви; о ней можно лишь сказать, что для души — это жажда властвовать, для ума — внутреннее сродство, а для тела — скрытое и утонченное желание обладать, после многих околичностей, тем, что любишь.
69
Чиста и свободна от влияния других страстей только та любовь, которая таится в глубине нашего сердца и неведома нам самим.
70
Никакое притворство не поможет долго скрывать любовь, когда она есть, или изображать — когда ее нет.
71
Нет таких людей, которые, перестав любить, не начали бы стыдиться прошедшей любви.
72
Если судить о любви по обычным ее проявлениям, она больше похожа на вражду, чем на дружбу.
73
На свете немало таких женщин, у которых в жизни не было ни одной любовной связи, но очень мало таких, у которых была только одна.
74
Любовь одна, но подделок под нее — тысячи.
75
Любовь, подобно огню, не знает покоя: она перестает жить, как только перестает надеяться или бояться.
76
Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто ее видел.
77
Любовь прикрывает своим именем самые разнообразные человеческие отношения, будто бы связанные с нею, хотя на самом деле она участвует в них не более, чем дож в событиях, происходящих в Венеции{14}.
78
У большинства людей любовь к справедливости — это просто боязнь подвергнуться несправедливости.
79
Тому, кто не доверяет себе, разумнее всего молчать.
80
Мы потому так непостоянны в дружбе, что трудно познать свойства души человека и легко познать свойства его ума.
81
Мы способны любить только то, без чего не можем обойтись; таким образом, жертвуя собственными интересами ради друзей, мы просто следуем своим вкусам и склонностям. Однако именно эти жертвы делают дружбу подлинной и совершенной.
82
Примирение с врагами говорит лишь об усталости от борьбы, о боязни поражения и о желании занять более выгодную позицию{15}.
83
Люди обычно называют дружбой совместное времяпрепровождение, взаимную помощь в делах, обмен услугами, — одним словом, такие отношения, где себялюбие надеется что-нибудь выгадать.
84
Не доверять друзьям позорнее, чем быть ими обманутым.
85
Мы часто убеждаем себя в том, что действительно любим людей, стоящих над нами; между тем такая дружба вызвана одним лишь своекорыстием: мы сближаемся с этими людьми не ради того, что хотели бы им дать, а ради того, что хотели бы от них получить.
86
Своим недоверием мы оправдываем чужой обман.
87
Люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос.
88
Себялюбие увеличивает или умаляет добродетели наших друзей в зависимости от того, насколько мы довольны этими людьми: об их достоинствах мы судим по их отношению к нам.
89
Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум.
90
В повседневной жизни наши недостатки кажутся порою более привлекательными, чем наши достоинства.
91
Самое большое честолюбие прячется и становится незаметным, как только его притязания наталкиваются на непреодолимые преграды.
92
Вывести из заблуждения Человека, убежденного в собственных достоинствах, — значит оказать ему такую же дурную услугу, какую некогда оказали тому афинскому безумцу{16}, который считал себя владельцем всех кораблей, прибывающих в гавань.
93
Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры.
94
Громкое имя не возвеличивает, а лишь унижает того, кто не умеет носить его с честью.
95
Поистине необычайными достоинствами обладает тот, кто сумел заслужить похвалу своих завистников.
96
Неблагодарность остается неблагодарностью даже и в том случае, когда облагодетельствованный повинен в ней меньше, чем благодетель.
97
Неправ тот, кто считает, будто ум и проницательность — различные качества. Проницательность — это просто особенная ясность ума, благодаря которой он добирается до сути вещей, отмечает все, достойное внимания, и видит невидимое другим. Таким образом, все, приписываемое проницательности, является лишь следствием необычайной ясности ума.
98
Все расхваливают свою доброту, но никто не решается похвалить свой ум.
99
Учтивость ума заключается в способности думать достойно и утонченно.
100
Изысканность ума сказывается в умении тонко льстить.
101
Порою в нашем уме рождаются мысли в форме, уже такой отточенной, какую он никогда не смог бы придать им, сколько бы ни ухищрялся.
102
Ум всегда в дураках у сердца.
103
Не всякий человек, познавший глубины своего ума, познал глубины своего сердца.
104
На каждого человека, как и на каждый поступок, следует смотреть с определенного расстояния. Иных можно понять, рассматривая их вблизи, другие же становятся понятными только издали{17}.
105
Умен не тот, кого случай делает умным, а тот, кто понимает, что такое ум, умеет его распознать и любуется им.
106
Чтобы постичь окружающий нас мир, нужно знать его во всех подробностях{18}, а так как этих подробностей почти бесчисленное множество, то и знания наши всегда поверхностны и несовершенны.
107
Люди кокетничают, когда делают вид, будто им чуждо всякое кокетство.
108
Уму не под силу долго разыгрывать роль сердца.
109
Юность меняет свои вкусы из-за пылкости чувств, а старость сохраняет их неизменными по привычке.
110
Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.
111
Чем сильнее мы любим женщину, тем больше склонны ее ненавидеть.
112
К старости недостатки ума становятся все заметнее, как и недостатки внешности.
113
Бывают удачные браки, но не бывает браков упоительных.
114
Люди безутешны, когда их обманывают враги или предают друзья, но они нередко испытывают удовольствие, когда обманывают или предают себя сами.
115
Так же легко обмануть себя и не заметить этого, как трудно обмануть другого и не быть изобличенным.
116
Сколько лицемерия в людском обычае советоваться! Тот, кто просит совета, делает вид, что относится к мнению своего друга с почтительным вниманием, хотя в действительности ему нужно лишь, чтобы кто-то одобрил его поступки и взял на себя ответственность за них. Тот же, кто дает советы, притворяется, будто платит за оказанное доверие пылкой и бескорыстной жаждой услужить, тогда как на самом деле обычно рассчитывает извлечь таким путем какую-либо выгоду или снискать почет.
117
Притворяясь, будто мы попали в расставленную нам ловушку, мы проявляем поистине утонченную хитрость, потому что обмануть человека легче всего тогда, когда он хочет обмануть нас{19}.
118
Если мы решим никогда не обманывать других, они то и дело будут обманывать нас.
119
Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед собой.
120
Предательства совершаются чаще всего не по обдуманному намерению, а по слабости характера.
121
Люди делают добро часто лишь для того, чтобы обрести возможность безнаказанно творить зло.
122
Мы сопротивляемся нашим страстям не потому, что мы сильны, а потому, что они слабы.
123
Люди не знали бы удовольствия в жизни, если бы никогда себе не льстили.
124
Истинно ловкие люди всю жизнь делают вид, что гнушаются хитростью, а на самом деле они просто приберегают ее для исключительных случаев, обещающих исключительную выгоду.
125
Злоупотребление хитростью говорит об ограниченности ума; люди, пытающиеся прикрыть таким способом свою наготу в одном месте, неизбежно разоблачают себя в другом.
126
Хитрость и предательство свидетельствуют лишь о недостатке ловкости.
127
Вернейший способ быть обманутым — это считать себя хитрее других.
128
Преувеличенная тонкость ведет к пустой щепетильности; только в истинной щепетильности скрыта настоящая тонкость.
129
Иногда достаточно быть грубым{20}, чтобы избегнуть ловушки хитреца.
130
Слабость характера — это единственный недостаток, который невозможно исправить.
131
Легкое поведение — это наименьший недостаток женщин, известных своим легким поведением.
132
Проявить мудрость в чужих делах куда легче, нежели в своих собственных.
133
Копии хороши лить тогда, когда они открывают нам смешные стороны дурных оригиналов.
134
В людях не так смешны те качества, которыми они обладают, как те, на которые они претендуют.
135
Порою человек так же мало похож на себя, как и на других.
136
Иные люди только потому и влюбляются, что они наслышаны о любви.
137
Люди охотно молчат, если тщеславие не побуждает их говорить.
138
Люди скорее согласятся себя чернить, нежели молчать о себе.
139
Одна из причин того, что умные и приятные собеседники так редки, заключается в обыкновении большинства людей отвечать не на чужие суждения, а на собственные мысли. Тот, кто похитрее и пообходительнее, пытается изобразить на своем лице внимание, но его глаза и весь облик выдают отсутствие интереса к тому, что говорит другой, и нетерпеливое желание вернуться к тому, что намерен сказать он сам. Мало кто понимает, что такое старание угодить себе — плохой способ угодить другому или убедить его и что, только умея слушать и отвечать, можно быть хорошим собеседником.
140
Умный человек нередко попадал бы в затруднительное положение, не будь кругом дураков.
141
Мы любим похваляться тем, что никогда не скучаем; тщеславие не позволяет нам признать, что в обществе нас могут счесть плохими собеседниками.
142
В то время как люди умные умеют выразить многое в немногих словах, люди ограниченные, напротив, обладают способностью много говорить — и ничего не сказать.
143
Преувеличивая чужие добродетели, мы отдаем дань не столько им, сколько нашим собственным чувствам; мы ищем похвал себе, делая вид, что хвалим других.
144
Люди не любят хвалить и никогда не хвалят бескорыстно. Похвала — это искусная, скрытая, изящная лесть, приятная и тому, кто льстит, и тому, кому льстят: один принимает ее как награду за свои достоинства, другой преподносит, чтобы доказать свою справедливость и проницательность.
145
Мы часто выискиваем отравленные похвалы, косвенно открывающие в тех, кого мы хвалим, такие недостатки, на которые мы не осмеливаемся указать прямо.
146
Мы хвалим других обычно лишь для того, чтобы услышать похвалу себе.
147
Люди редко бывают достаточно разумны, чтобы предпочесть полезное порицание опасной похвале.
148
Иные упреки звучат как похвала, зато иные похвалы хуже злословия.
149
Уклонение от похвалы — это просьба повторить ее.
150
Жажда заслужить расточаемые нам похвалы укрепляет нашу добродетель; таким образом, похвалы нашему уму, доблести и красоте делают нас умнее, доблестнее и красивее.
151
Нам легче управлять людьми, чем помешать им управлять нами.
152
Если бы мы не льстили себе сами, нас не портила бы чужая лесть.
153
Наделяет нас достоинствами природа, а помогает их проявить судьба{21}.
154
Судьба исправляет такие наши недостатки, каких не мог бы исправить даже разум.
155
Иные люди отталкивают, невзирая на все их достоинства, а другие привлекают при всех их недостатках.
156
Есть люди, все достоинства которых основаны на способности уместно говорить и делать глупости; если бы они изменили поведение, все было бы испорчено.
157
Слава великих людей всегда должна измеряться способами, какими она была достигнута.
158
Лесть — это фальшивая монета, которая имеет хождение только из-за нашего тщеславия.
159
Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими пользоваться.
160
Любое, даже самое громкое деяние нельзя назвать великим, если оно не было следствием великого замысла.
161
Деяние и замысел{22} должны соответствовать друг другу, не то заложенные в них возможности так и останутся неосуществленными.
162
Умение ловко пользоваться посредственными способностями не внушает уважения — и все же нередко приносит людям больше славы, чем истинные достоинства.
163
В очень многих случаях поведение людей только потому кажется смешным, что причины его, вполне разумные и основательные, скрыты от окружающих.
164
Человеку легче казаться достойным той должности, которой он не занимает, нежели той, в которой состоит.
165
Порядочные люди уважают нас за наши достоинства, а толпа — за благосклонность судьбы.
166
Свет чаще награждает видимость достоинств, нежели сами достоинства.
167
Скупость дальше от бережливости, чем даже расточительность.
168
Как ни обманчива надежда, все же до конца наших дней она ведет нас легкой стезей.
169
Хотя мы храним верность своему долгу нередко лишь из лени и трусости, все лавры за это достаются на долю наших добродетелей.
170
Нелегко разглядеть, чем вызван честный, искренний, благородный поступок — порядочностью или дальновидным расчетом.
171
Добродетели теряются в своекорыстии, как реки в море.
172
Если внимательно присмотреться к последствиям скуки, то окажется, что она заставляет отступать от долга чаще, чем даже своекорыстие.
173
Есть две разновидности любопытства: своекорыстное — внушенное надеждой приобрести полезные сведения, и самолюбивое — вызванное желанием узнать то, что неизвестно другим.
174
Было бы куда полезнее употребить все силы нашего разума на то, чтобы достойно сносить несчастья, уже случившиеся, нежели на то, чтобы предугадывать несчастья, которые еще только могут случиться.
175
Постоянство в любви — это вечное непостоянство, побуждающее нас увлекаться по очереди всеми качествами любимого человека, отдавая предпочтение то одному из них, то другому; таким образом, постоянство оказывается непостоянством, но ограниченным, то есть сосредоточенным на одном предмете.
176
Постоянство в любви бывает двух родов: мы постоянны или потому, что все время находим в любимом человеке новые качества, достойные любви, или же потому, что считаем постоянство долгом чести.
177
Постоянство не заслуживает ни похвал, ни порицаний, ибо в нем проявляется устойчивость вкусов и чувств, не зависящая от нашей воли.
178
К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько недовольство тем, что люди хорошо знакомые недостаточно нами восхищаются, и надежда на то, что люди мало знакомые будут восхищаться больше.
179
Мы постоянно жалуемся на друзей, чтобы заранее оправдать непостоянство нашей дружбы.
180
Наше раскаяние — это обычно не столько сожаление о зле, которое совершили мы, сколько боязнь зла, которое могут причинить нам в ответ.
181
Иногда непостоянство происходит от легкомыслия или от незрелости ума, побуждающих человека соглашаться с любым чужим мнением; но есть другого рода непостоянство, более простительное, ибо его порождает отвращение к окружающему.
182
Пороки входят в состав добродетелей, как яды в состав лекарств; благоразумие смешивает их, ослабляет их действие и потом умело пользуется ими как средством против жизненных невзгод.
183
К чести добродетели следует все же признать, что самые большие несчастья случаются с людьми не из-за нее, а из-за их собственных проступков{23}.
184
Мы признаемся в своих недостатках для того, чтобы этой искренностью возместить ущерб, который они наносят нам в мнении окружающих.
185
Зло, как и добро, имеет своих героев.
186
Мы презираем не тех, у кого есть пороки, а тех, у кого нет никаких добродетелей.
187
Видимость добродетели приносит своекорыстию не меньшую пользу, чем порок.
188
Здоровье души не менее хрупко, чем здоровье тела, и тот, кто мнит себя свободным от страстей, так же легко может им поддаться, как человек цветущего здоровья — заболеть.
189
С самого рождения человека природа, видимо, предопределяет меру его добродетелей и пороков.
190
Только у великих людей бывают великие пороки.
191
Можно сказать, что пороки ждут нас на жизненном пути, как хозяева постоялых дворов, у которых приходится поочередно останавливаться, и я не думаю, чтобы опыт помог нам их избегнуть, даже если бы нам было дано пройти этот путь вторично.
192
Когда пороки покидают нас, мы стараемся уверить себя, что это мы покинули их.
193
Болезни души так же возвращаются к нам, как и болезни тела. То, что мы принимаем за выздоровление, обычно оказывается либо кратковременным облегчением старого недуга, либо началом нового.
194
Пороки души похожи на раны тела: как бы старательно их ни лечили, они все равно оставляют рубцы и в любую минуту могут открыться снова.
195
Всецело предаться одному пороку нам обычно мешает лишь то, что у нас их несколько.
196
Мы легко забываем свои ошибки, когда они известны лишь нам одним.
197
Есть люди, в дурные дела которых невозможно поверить, пока не убедишься собственными глазами. Однако нет таких людей, дурным делам которых стоило бы удивляться после того, как мы в них уже убедились.
198
Мы порою восхваляем доблести одного человека, чтобы унизить другого: так, например, люди меньше превозносили бы принца Конде, если бы не хотели опорочить маршала Тюренна{24}, и наоборот.
199
Желание прослыть ловким человеком нередко мешает стать ловким в действительности.
200
Добродетель не достигала бы таких высот, если бы ей в пути не помогало тщеславие.
201
Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается; но тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него, ошибается еще сильнее.
202
Люди мнимо благородные скрывают свои недостатки и от других и от себя, а люди истинно благородные прекрасно их сознают и открыто о них заявляют.
203
Истинно благородные люди никогда ничем не кичатся.
204
Строгость нрава у женщин — это белила и румяна, которыми они оттеняют свою красоту.
205
Целомудрие женщин — это большей частью просто забота о добром имени и покое.
206
Кто стремится всегда жить на виду у благородных людей, тот поистине благородный человек.
207
Безрассудство сопутствует нам всю жизнь; если кто-нибудь и кажется нам мудрым, то это значит лишь, что его безрассудства соответствуют его возрасту и положению.
208
Есть глупцы, которые сознают свою глупость и ловко ею пользуются.
209
Кто никогда не совершал безрассудств, тот не так мудр, как ему кажется.
210
К старости люди становятся безрассуднее — и мудрее.
211
Иные люди похожи на песенки{25}: они быстро выходят из моды.
212
Большинство людей судит о ближних по их богатству или светским успехам.
213
Жажда славы, боязнь позора, погоня за богатством, желание устроить жизнь удобно и приятно, стремление унизить других — вот что нередко лежит в основе доблести, столь превозносимой людьми.
214
Для простого солдата доблесть — это опасное ремесло, за которое он берется, чтобы снискать себе пропитание.
215
Высшая доблесть и непреодолимая трусость — это крайности, которые встречаются очень редко. Между ними на обширном пространстве располагаются всевозможные оттенки храбрости, такие же разнообразные, как человеческие лица и характеры. Есть люди, которые смело встречают опасность в начале сражения, но легко охладевают и падают духом, если оно затягивается; другие делают то, чего от них требует общественное мнение, и на этом успокаиваются. Одни не всегда умеют овладеть своим страхом, другие подчас заражаются страхом окружающих, а третьи идут в бой просто потому, что не смеют оставаться на своих местах. Иные, привыкнув к мелким опасностям, закаляются духом для встречи с более значительными. Некоторые храбры со шпагой в руках, но пугаются мушкетного выстрела; другие же смело стоят под пулями, но боятся обнаженной шпаги. Все эти различные виды храбрости схожи между собой в том, что ночью, — когда страх усиливается, а тьма равно скрывает и хорошие и дурные поступки, — люди ревнивее оберегают свою жизнь. Но есть у людей еще один способ оберечь себя — и притом самый распространенный: делать меньше, чем они сделали бы, если бы знали наперед, что все сойдет благополучно. Из этого явствует, что страх смерти в какой-то мере ограничивает доблесть.
216
Высшая доблесть состоит в том, чтобы совершать в одиночестве то, на что люди обычно отваживаются лишь в присутствии многих свидетелей.
217
Бесстрашие — это необычайная сила души, возносящая ее над замешательством, тревогой и смятением, порождаемыми встречей с серьезной опасностью. Эта сила поддерживает в героях спокойствие и помогает им сохранять ясность ума в самых неожиданных и ужасных обстоятельствах.
218
Лицемерие — это дань уважения, которую порок платит добродетели.
219
На войне большинство людей рискует жизнью ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы не запятнать своей чести; но лишь немногие готовы всегда рисковать так, как этого требует цель, ради которой они идут на риск.
220
Тщеславие, стыд, а главное, темперамент — вот что обычно лежит в основе мужской доблести и женской добродетели.
221
Все хотят снискать славу, но никто не хочет лишиться жизни; поэтому храбрецы проявляют не меньше находчивости и ума, чтобы избежать смерти, чем крючкотворцы — чтобы приумножить состояние.
222
Почти всегда по отроческим склонностям человека уже ясно, в чем его слабость и что приведет к падению его тело и душу.
223
Благодарность подобна честности купца: она поддерживает коммерцию. Часто мы оплачиваем ее счета не потому, что стремимся поступать справедливо, а для того, чтобы впредь люди охотнее давали нам взаймы.
224
Не всякий, кто платит долги благодарности, имеет право считать себя на этом основании благодарным человеком.
225
Ошибки людей в их расчетах на благодарность за оказанные ими услуги происходят оттого, что гордость дающего и гордость принимающего не могут сговориться о цене благодеяния.
226
Чрезмерная поспешность в расплате за оказанную услугу есть своего рода неблагодарность.
227
Счастливые люди неисправимы: судьба не наказывает их за грехи, и поэтому они считают себя безгрешными.
228
Гордость не хочет быть в долгу, а себялюбие не желает расплачиваться.
229
Если кто-нибудь сделает нам добро, мы обязаны терпеливо сносить и причиняемое этим человеком зло.
230
Пример заразителен, поэтому все благодетели рода человеческого и все злодеи находят подражателей. Добрым делам мы подражаем из чувства соревнования, дурным же — из врожденной злобности, которую стыд сдерживал, а пример выпустил на волю.
231
Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех.
232
Чем бы мы ни объясняли наши огорчения, чаще всего в их основе лежит обманутое своекорыстие или уязвленное тщеславие.
233
Человеческое горе бывает лицемерно по-разному. Иногда, оплакивая потерю близкого человека, мы в действительности оплакиваем самих себя: мы оплакиваем наши утраченные наслаждения, богатство, влияние, мы горюем о добром отношении к нам. Таким образом, мы проливаем слезы над участью живых, а относим их за счет мертвых. Этот род лицемерия я считаю невинным, ибо в таких случаях люди обманывают не только других, но и себя. Однако есть лицемерие иного рода, более злостное, потому что оно сознательно вводит всех в заблуждение: я говорю о скорби некоторых людей, мечтающих снискать славу великим, неувядающим горем. После того как безжалостное время умерит печаль, которую эти люди некогда испытывали, они продолжают упорствовать в слезах, жалобах и вздохах. Они надевают на себя личину уныния и стараются всеми своими поступками доказать, что их грусть кончится лишь вместе с жизнью. Это мелкое и утомительное тщеславие встречается обычно у честолюбивых женщин. Так как их пол закрывает им все пути, ведущие к славе, они стремятся достигнуть известности, выставляя напоказ свое безутешное горе. Есть еще один неглубокий источник слез, которые легко льются и легко высыхают: люди плачут, чтобы прослыть чувствительными, плачут, чтобы вызвать сострадание, плачут, чтобы быть оплаканными, и, наконец, плачут потому, что не плакать стыдно.
234
Люди упрямо не соглашаются с самыми здравыми суждениями не по недостатку проницательности, а из-за избытка гордости: они видят, что первые ряды в правом деле разобраны, а последние им не хочется занимать.
235
Горе друзей печалит нас недолго, если оно доставляет нам случай проявить на виду у всех наше участие к ним.
236
Порою может показаться, что себялюбие попадается в сети к доброте и невольно забывает о себе, когда мы трудимся на благо ближнего. В действительности же мы просто избираем кратчайший путь к цели, как бы отдаем деньги в рост под видом подарка, и таким образом применяем тонкий и изысканный способ завоевать доверие окружающих.
237
Похвалы за доброту достоин лишь человек, у которого хватает твердости характера на то, чтобы иной раз быть злым; в в противном случае доброта чаще всего говорит лишь о бездеятельности или о недостатке воли.
238
Причинять людям зло большей частью не так опасно, как делать им слишком много добра.
239
Ничто так не льстит нашему самолюбию, как доверие великих мира сего; мы принимаем его как дань нашим достоинствам, не замечая, что обычно оно вызвано тщеславием или неспособностью хранить тайну.
240
Привлекательность при отсутствии красоты — это особого рода симметрия, законы которой нам неизвестны; это скрытая связь между всеми чертами лица с одной стороны, и чертами лица, красками и общим обликом человека — с другой.
241
Кокетство — это основа характера всех женщин, только не все пускают его в ход, ибо у некоторых оно сдерживается боязнью или рассудком.
242
Чаще всего тяготят окружающих те люди, которые считают, что они никому не могут быть в тягость.
243
На свете мало недостижимых вещей; будь у нас больше настойчивости, мы могли бы отыскать путь почти к любой цели.
244
Высшая ловкость состоит в том, чтобы всему знать истинную цену.
245
Поистине ловок тот, кто умеет скрывать свою ловкость.
246
То, что мы принимаем за благородство, нередко оказывается переряженным честолюбием, которое, презирая мелкие выгоды прямо идет к крупным.
247
Преданность — это в большинстве случаев уловка себялюбия, цель которой — завоевать доверие; это способ возвыситься над другими людьми и проникнуть в важнейшие тайны.
248
Великодушие всем пренебрегает, чтобы всем завладеть.
249
В звуке голоса, в глазах и во всем облике говорящего заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов.
250
Истинное красноречие — это умение сказать все, что нужно, и не больше, чем нужно.
251
Одним людям идут их недостатки, а другим даже достоинства не к лицу.
252
Вкусы меняются столь же часто, сколь редко меняются склонности.
253
Своекорыстие приводит в действие все добродетели и все пороки.
254
Смирение нередко оказывается притворной покорностью, цель которой — покорить себе других; это уловка гордости, принижающей себя, чтобы возвыситься, и, хотя у гордости множество личин, она лучше всего маскируется и скорее всего вводит в обман, когда прячется под видом смирения.
255
У всякого чувства есть свойственные лишь ему одному жесты, интонации и мимика; впечатление от них, хорошее или дурное, приятное или неприятное, и служит причиной того, что люди располагают нас к себе или отталкивают.
256
Каждый человек, кем бы он ни был, старается напустить на себя такой вид и надеть такую личину, чтобы его приняли за того, кем он хочет казаться; поэтому можно сказать, что общество состоит из одних только личин.
257
Величавость — это непостижимая уловка тела, изобретенная для того, чтобы скрыть недостатки ума.
258
Хороший вкус говорит не столько об уме, сколько о ясности суждений.
259
Счастье любви заключается в том, чтобы любить; люди счастливее, когда сами испытывают страсть, чем когда ее внушают.
260
Вежливость — это желание всегда встречать вежливое обращение и слыть обходительным человеком.
261
Воспитание молодых людей обычно сводится к поощрению их врожденного себялюбия.
262
Ни в одной страсти себялюбие не царит так безраздельно, как в любви; люди всегда готовы принести в жертву покой любимого существа, лишь бы сохранить свой собственный.
263
В основе так называемой щедрости обычно лежит тщеславпе, которое нам дороже всего, что мы дарим.
264
Чаще всего сострадание — это способность увидеть в чужих несчастьях свои собственные, это — предчувствие бедствий, которые могут постигнуть и нас. Мы помогаем людям, чтобы они, в свою очередь, помогли нам; таким образом, наши услуги сводятся просто к благодеяниям, которые мы загодя оказываем самим себе.
265
Упрямство рождено ограниченностью нашего ума: мы неохотно верим тому, что выходит за пределы нашего кругозора.
266
Ошибается тот, кто думает, будто лишь таким бурным страстям, как любовь и честолюбие, удается подчинить себе другие страсти. Самой сильной нередко оказывается бездеятельная леность: завладевая людскими помыслами и поступками, она незаметно подтачивает все их стремления и добродетели.
267
Люди потому так охотно верят дурному, не стараясь вникнуть в суть дела, что они тщеславны и ленивы. Им хочется найти виновных, но они не желают утруждать себя разбором совершённого проступка.
268
Мы по самым ничтожным поводам обвиняем судей в незнании дела и тем не менее охотно отдаем свою честь и доброе имя на их суд, хотя все они нам враждебны — одни из зависти, другие по ограниченности, третьи просто по занятости. Надеясь на то, что эти люди выскажутся в нашу пользу, мы рискуем своим покоем и даже жизнью.
269
Как бы ни был проницателен человек, ему не постигнуть всего зла, которое он творит.
270
Слава, уже приобретенная нами, — залог той славы, которую мы рассчитываем приобрести.
271
Молодость — это постоянное опьянение, это горячка рассудка.
272
Тому, чьи достоинства уже награждены подлинной славой, больше всего следовало бы стыдиться усилий, которые он прилагает, чтобы ему поставили в заслугу всякие пустяки.
273
В свете иной раз высоко ценят людей, все достоинства которых сводятся к порокам, приятным в повседневной жизни.
274
Очарование новизны в любви подобно цветению фруктовых деревьев: оно быстро тускнеет и больше никогда не возвращается.
Жак Калло. «Разграбление деревни».
Офорт из серии «Бедствия войны».
275
Природное добродушие, которое любит похваляться своей чувствительностью, нередко умолкает, побежденное самым мелочным своекорыстием.
276
Разлука ослабляет легкое увлечение, но усиливает большую страсть, подобно тому как ветер гасит свечу, но раздувает пожар.
277
Нередко женщины, нисколько не любя, все же воображают, будто они любят: увлечение интригой, естественное желание быть любимой, подъем душевных сил, вызванный приключением, и боязнь обидеть отказом — все это приводит их к мысли, что они страстно влюблены, хотя в действительности всего лишь кокетничают.
278
Люди редко бывают довольны теми, кто от их имени вступает в деловые переговоры, так как посредники, стараясь стяжать себе добрую славу, почти всегда жертвуют интересами своих друзей ради успеха самих переговоров{26}.
279
Когда мы преувеличиваем привязанность к нам наших друзей, нами обычно руководит не столько благодарность, сколько желание выставить напоказ наши достоинства.
280
Доброжелательность, с которой люди порою приветствуют тех, кто впервые вступает в свет, обычно бывает вызвана тайной завистью к тем, кто уже давно занимает в нем прочное положение.
281
Гордость часто разжигает в нас зависть, и та же самая гордость нередко помогает нам с ней справиться.
282
Ложь иной раз так ловко прикидывается истиной, что не поддаться обману значило бы изменить здравому смыслу.
283
Для того чтобы воспользоваться хорошим советом со стороны, подчас требуется не меньше ума, чем для того, чтобы подать хороший совет самому себе.
284
Опаснее всего те злые люди, которые не совсем лишены доброты.
285
Великодушие довольно точно определено своим названием; кроме того, можно сказать, что оно — здравый смысл гордости и самый достойный путь к доброй славе.
286
Мы не можем вторично полюбить тех, кого однажды действительно разлюбили.
287
Мы находим несколько решений одного и того же вопроса не столько потому, что наш ум очень плодовит, сколько потому, что он не слишком прозорлив и, вместо того чтобы остановиться на самом лучшем решении, представляет нам без разбора все возможности сразу.
288
При некоторых обстоятельствах, точно так же, как при некоторых болезнях, помощь со стороны может иной раз только повредить; требуется большая проницательность, чтобы распознать те случаи, когда она опасна.
289
Показная простота — это утонченное лицемерие.
290
В характере человека больше изъянов, чем в его уме.
291
У людских достоинств, как и у плодов, есть своя пора.
292
Можно сказать, что у человеческих характеров, как и у некоторых зданий, несколько фасадов, причем не все они приятны на вид.
293
Умеренность не имеет права хвалиться тем, что она одолевает честолюбие и подчиняет его себе. Умеренность — это душевная бездеятельность и леность, тогда как честолюбие — это живость и горячность, и они никогда не живут вместе.
294
Мы всегда любим тех, кто восхищается нами, но не всегда любим тех, кем восхищаемся мы.
295
Мы редко до конца понимаем, чего мы в действительности хотим.
296
Трудно любить тех, кого мы совсем не уважаем, но еще труднее любить тех, кого уважаем больше, чем самих себя.
297
Соки нашего тела{27}, совершая свой обычный и неизменный круговорот, тайно приводят в действие и направляют нашу волю; сливаясь в единый поток, они незаметно властвуют над нами, воздействуя на все наши поступки.
298
Признательность большинства людей порождена скрытым желанием добиться еще больших благодеяний.
299
Почти все люди охотно расплачиваются за мелкие одолжения, большинство бывает признательно за немаловажные, но почти никто не чувствует благодарности за крупные.
300
Иные безрассудства распространяются, точно заразные болезни.
301
Многие презирают жизненные блага, но почти никто не способен ими поделиться.
302
Мы лишь тогда осмеливаемся проявлять неверие в силу и влияние небесных светил, когда речь идет о делах несущественных.
303
Какие бы похвалы нам ни расточали, мы не находим в них ничего для себя нового.
304
Мы нередко относимся снисходительно к тем, кто тяготит нас, но никогда не бываем снисходительны к тем, кто тяготится нами.
305
Своекорыстие винят во всех наших преступлениях, забывая при этом, что оно нередко заслуживает похвалы за наши добрые дела{28}.
306
Пока человек в состоянии творить добро, ему не грозит опасность столкнуться с неблагодарностью.
307
Воздавать должное своим достоинствам наедине с собою столь же разумно, сколь смехотворно превозносить их в присутствии других.
308
Умеренность провозгласили добродетелью для того, чтобы обуздать честолюбие великих людей и утешить людей незначительных, обладающих лишь скромным достоянием и скромными достоинствами.
309
Есть люди, которым на роду написано быть глупцами: они делают глупости не только по собственному желанию, но и по воле судьбы.
310
Бывают в жизни положения, выпутаться из которых можно только с помощью изрядной доли безрассудства.
311
Если и есть на свете люди, которые никогда не казались смешными, то это значит лишь, что никто не старался отыскать в них смешные черты.
312
Любовники только потому никогда не скучают друг с другом, что они все время говорят о себе.
313
Почему мы запоминаем во всех подробностях то, что с нами случилось, но не способны запомнить, сколько раз мы рассказывали об этом одному и тому же лицу?
314
Необычайное удовольствие, с которым мы говорим о себе, должно было бы внушить нам подозрение, что наши собеседники его отнюдь не разделяют.
315
Нашей полной откровенности с друзьями мешает обычно не столько недоверие к ним, сколько недоверие к самим себе.
316
Люди слабохарактерные не способны быть прямодушными.
317
Невелика беда — услужить неблагодарному, но большое несчастье — принять услугу от подлеца.
318
Можно излечить от безрассудства, но нельзя выпрямить кривой ум.
319
Нам ненадолго хватило бы добрых чувств, которые мы должны питать к нашим друзьям и благодетелям, если бы мы позволяли себе вволю говорить об их недостатках.
320
Восхвалять государей{29} за достоинства, Которыми они не обладают, — значит безнаказанно наносить им оскорбление.
321
Нам легче полюбить тех, кто нас ненавидит, нежели тех, кто любит сильнее, чем нам желательно.
322
Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает.
323
Наше здравомыслие так же подвластно случаю, как и богатство.
324
В ревности больше себялюбия, чем любви.
325
Слабость характера нередко утешает нас в таких несчастьях, в каких бессилен утешить разум.
326
Смешное наносит чести больший ущерб, чем само бесчестие.
327
Признаваясь в маленьких недостатках, мы тем самым стараемся убедить окружающих в том, что у нас нет крупных.
328
Зависть еще непримиримее, чем ненависть.
329
Иногда людям кажется, что они ненавидят лесть, в то время как им ненавистна лишь та или иная ее форма.
330
Пока люди любят, они прощают.
331
Труднее хранить верность той женщине, которая дарит счастье, нежели той, которая причиняет мучения.
332
Женщины не сознают всей беспредельности своего кокетства.
333
Непреклонная строгость поведения противна женской натуре.
334
Женщине легче преодолеть свою страсть, нежели свое кокетство.
335
В любви обман почти всегда заходит дальше недоверия.
336
Бывает такая любовь, которая в высшем своем проявлении не оставляет места для ревности.
337
Иные достоинства подобны зрению или слуху: люди, лишенные этих достоинств, не способны увидеть и оценить их в окружающих.
338
Слишком лютая ненависть ставит нас ниже тех, кого мы ненавидим.
339
Счастье и несчастье мы переживаем соразмерно нашему себялюбию.
340
Ум у большинства женщин служит не столько для укрепления их благоразумия, сколько для оправдания их безрассудств.
341
Равнодушие старости не более способствует спасению души, чем пылкость юности.
342
Ум и сердце человека, так же как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он родился{30}.
343
Чтобы стать великим человеком, нужно уметь искусно пользоваться всем, что предлагает судьба.
344
Многие люди, подобно растениям, наделены скрытыми свойствами; обнаружить их может только случай.
345
Только стечение обстоятельств открывает нашу сущность окружающим и, главное, нам самим.
346
Не может быть порядка в уме и сердце женщины, если ее темперамент с ними не в ладу.
347
Мы считаем здравомыслящими лишь тех людей, которые во всем с нами согласны.
348
Когда человек любит, он часто сомневается в том, во что больше всего верит.
349
Величайшее чудо любви в том, что она излечивает от кокетства.
350
Мы потому возмущаемся людьми, которые с нами лукавят, что они считают себя умнее нас.
351
Когда люди уже не любят друг друга, им трудно найти повод для того, чтобы разойтись.
352
Нам почти всегда скучно с теми людьми, с которыми не полагается скучать.
353
Человек истинно достойный может быть влюблен как безумец, но не как глупец.
354
Иные недостатки, если ими умело пользоваться, сверкают ярче любых достоинств.
355
Мы иногда теряем людей, о которых не столько жалеем, сколько печалимся; однако бывает и так, что мы нисколько не печалимся, хотя и жалеем об утрате.
356
Чистосердечной похвалой мы обычно награждаем лишь тех, кто нами восхищается.
357
Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам; люди большого ума всё замечают и ни на что не обижаются.
358
Истинный признак христианских добродетелей — это смирение; если его нет, все наши недостатки остаются при нас, а гордость только скрывает их от окружающих и нередко от нас самих.
359
Неверность должна была бы убивать любовь, и не следовало бы ревновать тогда, когда к этому есть основания: ревности достоин лишь тот, кто старается ее не вызывать.
360
Мельчайшую неверность в отношении нас мы судим куда суровее, чем самую коварную измену в отношении других.
361
Ревность всегда рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с нею умирает.
362
Когда женщина оплакивает своего возлюбленного, это чаще всего говорит не о том, что она его любила, а о том, что она хочет казаться достойной любви.
363
Иной раз нам не так мучительно покориться принуждению окружающих, как самим к чему-то себя принудить.
364
Всем достаточно известно, что не подобает человеку говорить о своей жене, но недостаточно известно, что еще меньше ему подобает говорить о себе.
365
Иные достоинства вырождаются в недостатки, если они присущи нам от рождения, а другие никогда не достигают совершенства, если они благоприобретенные; так, например, бережливость и осмотрительность нам должен внушить разум, но доброту и доблесть должна подарить природа.
366
Как бы мало мы ни доверяли нашим собеседникам, нам все же кажется, что с нами они искреннее, чем с кем бы то ни было.
367
На свете мало порядочных женщин, которым не опостылела бы их добродетель.
368
Почти все порядочные женщины — это нетронутые сокровища, которые потому и в неприкосновенности, что их никто не ищет.
369
Усилия, которые мы прилагаем, чтобы не влюбиться, порою причиняют нам больше мучений, чем жестокость тех, в кого мы уже влюбились.
370
Трусы обычно не сознают всей силы своего страха.
371
Тот, кого разлюбили, обычно сам виноват, что вовремя этого не заметил.
372
Юношам часто кажется, что они естественны, тогда как на самом деле они просто невоспитанны и грубы.
373
Иной раз, проливая слезы, мы ими обманываем не только других, но и самих себя.
374
Весьма заблуждается тот, кто думает, будто он любит свою любовницу только за ее любовь к нему.
375
Люди недалекие обычно осуждают все, что выходит за пределы их понимания.
376
Настоящая дружба не знает зависти, а настоящая любовь — кокетства.
377
Лишены прозорливости не те люди, которые не достигают цели, а те, которые проходят мимо нее.
378
Можно дать другому разумный совет, но нельзя научить его разумному поведению.
379
Все, что перестает удаваться, перестает и привлекать.
380
Как все предметы лучше всего видны на свету, так наши добродетели и пороки отчетливее всего выступают в лучах удачи.
381
Верность, которую удается сохранить только ценой больших усилий, ничуть не лучше измены.
382
Наши поступки подобны строчкам буриме{31}: каждый связывает их, с чем ему заблагорассудится.
383
Наша искренность в немалой доле вызвана желанием поговорить о себе и выставить свои недостатки в благоприятном свете.
384
Нам следовало бы удивляться только нашей способности чему-нибудь еще удивляться.
385
Одинаково трудно угодить и тому, кто любит очень сильно, и тому, кто уже совсем не любит.
386
Как раз те люди, которые во что бы то ни стало хотят всегда быть правыми, чаще всего бывают неправы.
387
Глупец не может быть добрым: для этого у него слишком мало мозгов.
388
Если тщеславие и не повергает в прах все наши добродетели, то, во всяком случае, оно их колеблет.
389
Мы потому так нетерпимы к чужому тщеславию, что оно уязвляет наше собственное.
390
Легче пренебречь выгодой, чем отказаться от прихоти.
391
Судьбу считают слепой главным образом те, кому она не дарует удачи.
392
С судьбой следует обходиться, как со здоровьем: когда она нам благоприятствует — наслаждаться ею, а когда начинает капризничать — терпеливо выжидать, не прибегая без особой необходимости к сильнодействующим средствам.
393
Мещанские замашки порою скрадываются в кругу военных, но они всегда заметны при дворе.
394
Можно перехитрить кого-то одного, но нельзя перехитрить всех на свете.
395
Порою легче стернеть обман того, кого любишь, чем услышать от него всю правду.
396
Женщина долго хранит верность первому своему любовнику, если только она не берет второго.
397
Мы не дерзаем огульно утверждать, что у нас совсем нет пороков, а у наших врагов совсем нет добродетелей, но в каждом отдельном случае мы почти готовы этому поверить.
398
Мы охотнее признаёмся в лености, чем в других наших недостатках; мы внушили себе, что она проистекает из наших миролюбивых добродетелей и, не нанося большого ущерба прочим достоинствам, лишь умеряет их проявление.
399
Людям иной раз присуща величавость, которая не зависит от благосклонности судьбы: она проявляется в манере держать себя, которая выделяет человека и словно пророчит ему блистательное будущее, а также в той оценке, которую он невольно себе дает. Именно это качество привлекает к нам уважение окружающих и возвышает над ними так, как не могли бы возвысить ни происхождение, ни сан, ни даже добродетели.
400
Достоинствам не всегда присуща величавость, но величавости всегда присущи хоть какие-нибудь достоинства.
401
Величавость так же к лицу добродетели, как драгоценный убор к лицу красивой женщине.
402
В волокитстве есть все, что угодно, кроме любви.
403
Чтобы возвысить нас, судьба порой пользуется нашими недостатками; так, например, иные беспокойные люди были вознаграждены по заслугам только потому, что все старались любой ценой отделаться от них{32}.
404
По-видимому, природа скрывает в глубинах нашей души способности и дарования, о которых мы и сами не подозреваем; только страсти пробуждают их к жизни и порою сообщают нам такую проницательность и твердость, каких при обычных условиях мы никогда не могли бы достичь.
405
Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни, точно новорожденные, не имея за плечами никакого опыта, сколько бы нам ни было лет.
406
Кокетки притворяются, будто ревнуют своих любовников, желая скрыть, что они просто завидуют другим женщинам.
407
Когда нам удается надуть других, они редко кажутся нам такими дураками, какими кажемся мы самим себе, когда другим удается надуть нас.
408
В особенно смешное положение ставят себя те старые женщины, которые помнят, что когда-то были привлекательны, но забыли, что давно уже утратили былое очарование.
409
Нередко нам пришлось бы стыдиться своих самых благородных поступков, если бы окружающим были известны наши побуждения.
410
Величайший подвиг дружбы не в том, чтобы показать другу наши недостатки, а в том, чтобы открыть ему глаза на его собственные.
411
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть.
412
Каким бы тяжелым позором мы себя ни покрыли, у нас почти всегда остается возможность восстановить свое доброе имя.
413
Не может долго нравиться тот, кто умен всегда на один лад.
414
Дуракам и безумцам весь мир представляется в свете их сумасбродства.
415
Ум служит нам порою лишь для того, чтобы смело делать глупости.
416
Горячность, которая с годами все возрастает, уже граничит с глупостью.
417
Тот, кто излечивается от любви первым, — всегда излечивается полнее.
418
Молодым женщинам, не желающим прослыть кокетками, и пожилым мужчинам, не желающим казаться смешными, следует говорить о любви так, словно они к ней не причастны.
419
Мы можем казаться значительными, занимая положение, которое ниже наших достоинств, но мы нередко кажемся ничтожными, занимая положение, слишком для нас высокое.
420
Нам часто представляется, что мы стойки в несчастии, хотя на самом деле мы только угнетены; мы переносим его, не смея на него взглянуть, как трусы, которым так страшно защищаться, что они готовы дать себя убить.
421
Больше всего оживляет беседы не ум, а взаимное доверие.
422
Любая страсть толкает на ошибки, но на самые глупые толкает любовь.
423
Как мало на свете стариков, владеющих искусством быть стариками!
424
Нам нравится наделять себя недостатками, противоположными тем, которые присущи нам на самом деле: слабохарактерные люди, например, любят хвастаться упрямством.
425
Проницательность придает нам такой многозначительный вид, что она льстит нашему тщеславию больше, чем все прочие качества ума.
426
Прелесть новизны и долгая привычка, при всей их противоположности, одинаково мешают нам видеть недостатки наших друзей.
427
Большинство друзей внушает отвращение к дружбе, а большинство людей благочестивых — к благочестию.
428
Мы охотно прощаем нашим друзьям недостатки, которые нас не задевают.
429
Влюбленная женщина скорее простит большую нескромность, нежели маленькую неверность.
430
На старости любви, как и на старости лет, люди еще живут для скорбен, но уже не живут для наслаждений.
431
Ничто так не мешает естественности, как желание казаться естественным.
432
Чистосердечно хвалить добрые дела — значит до некоторой степени принимать в них участие.
433
Вернейший признак высоких добродетелей — от самого рождения не знать зависти.
434
Будучи обмануты друзьями, мы можем равнодушно принимать проявления их дружбы, но должны сочувствовать им в их несчастьях.
435
Миром правит судьба и прихоть.
436
Легче познать людей вообще, чем одного человека в частности.
437
О достоинствах человека нужно судить не по его хорошим качествам, а по тому, как он ими пользуется.
438
Наша благодарность иногда бывает так велика, что, расплачиваясь с друзьями за сделанное нам добро, мы еще оставляем их у себя в долгу.
439
У нас нашлось бы очень мало страстных желаний, если бы мы точно знали, чего мы хотим.
440
Женщины в большинстве своем оттого так безразличны к дружбе, что она кажется им пресной в сравнении с любовью.
441
В дружбе, как и в любви, чаще доставляет счастье то, чего мы не знаем, нежели то, что нам известно.
442
Мы стараемся вменить себе в заслугу те недостатки, которых не желаем исправлять.
443
Даже самые бурные страсти порою дают нам передышку, и только тщеславие терзает нас неотступно.
444
Старые безумцы еще безумнее молодых.
445
Слабохарактерность еще дальше от добродетели, чем порок.
446
Стыд и ревность потому причиняют нам такие муки, что тут бессильно помочь даже тщеславие.
447
Приличие — это наименее важный из всех законов общества и наиболее чтимый.
448
Здравомыслящему человеку легче подчиняться сумасбродам, чем управлять ими.
449
Когда судьба возносит нас сразу на такую высоту, о которой мы не могли и мечтать, то почти всегда оказывается, что мы не в состоянии достойно держаться в новом положении.
450
Наша гордость часто возрастает за счет недостатков, которые нам удалось преодолеть.
451
Нет глупцов более несносных, чем те, которые не вовсе лишены ума.
452
Нет на свете человека, который не ценил бы любое свое качество куда выше, чем подобное же качеству у другого, даже самого уважаемого им человека.
453
В серьезных делах следует заботиться не столько о том, чтобы создавать благоприятные возможности, сколько о том, чтобы их не упускать.
454
Никто не прогадал бы, согласившись на то, чтобы о нем перестали говорить хорошо, при условии, что не станут говорить дурно.
455
Как ни склонны люди к неправильным суждениям, все же несправедливость к подлинным достоинствам они проявляют реже, чем благосклонность к мнимым.
456
Глупые люди могут иной раз проявить ум, но к здравому суждению они не способны.
457
Мы выиграли бы в глазах людей, если бы являлись им такими, какими мы всегда были и есть, а не прикидывались такими, какими никогда не были и не будем.
458
Суждения наших врагов о нас ближе к истине, чем наши собственные.
459
Существуют разные лекарства от любви, но нет ни одного надежного.
460
Мы и не представляем себе, на что могут нас толкнуть наши страсти.
461
Старость — это тиран, который под страхом смерти запрещает нам все наслаждения юности.
462
Гордость, заставляющая нас порицать недостатки, которых, как нам кажется, у нас нет, велит нам также презирать и отсутствующие у нас достоинства.
463
Сочувствие врагам, попавшим в беду, чаще всего бывает вызвано не столько добротой, сколько гордостью: мы соболезнуем им для того, чтобы они поняли наше превосходство над ними.
464
Существует такая степень счастья и горя, которая выходит за пределы нашей способности чувствовать.
465
Насколько преступление легче находит себе покровителей, нежели невинность!
466
Все бурные страсти не к лицу женщинам, но менее других им не к лицу любовь.
467
Тщеславие чаще заставляет нас идти против наших склонностей, чем разум.
468
Порою из дурных качеств складываются великие таланты.
469
Мы никогда не стремимся страстно к тому, к чему стремимся только разумом.
470
Все наши качества, дурные, равно как и хорошие, неопределенны и сомнительны, и почти всегда они зависят от милости случая.
471
Когда женщина влюбляется впервые, она любит своего любовника; в дальнейшем она любит уже только любовь.
472
У гордости, как и у других страстей, есть свои причуды: люди стараются скрыть, что они ревнуют сейчас, но хвалятся тем, что ревновали когда-то и способны ревновать и впредь.
473
Как ни редко встречается настоящая любовь, настоящая дружба встречается еще реже.
474
Мало на свете женщин, достоинства которых пережили бы их красоту.
475
Желание вызвать жалость или восхищение — вот что нередко составляет основу нашей откровенности.
476
Наша зависть всегда долговечнее чужого счастья, которому мы завидуем.
477
Твердость характера заставляет людей сопротивляться любви, но в то же время она сообщает этому чувству пылкость и длительность; люди слабые, напротив, легко загораются страстью, но почти никогда не отдаются ей с головой.
478
Никакому воображению не придумать такого множества противоречивых чувств, какие обычно уживаются в одном человеческом сердце.
479
Истинно мягкими могут быть только люди с твердым характером; у остальных же кажущаяся мягкость — это чаще всего просто слабость, которая легко превращается в озлобленность.
480
Опасно упрекать в робости тех, кого хотят от нее исцелить.
481
Нет качества более редкого, чем истинная доброта: большинство людей, считающих себя добрыми, только снисходительны или слабы.
482
Наш разум, по своей лености и косности, занят обычно лишь тем, что ему легко или приятно; эта привычка ограничивает наши познания, и никто еще не дал себе труда обогатить и расширить свой разум до пределов возможного.
483
Люди злословят обычно не столько из желания навредить, сколько из тщеславия.
484
Пока угасающая страсть все еще волнует наше сердце, оно более склонно к новой любви, чем впоследствии, когда наступает полное исцеление.
485
Те, кому довелось пережить большие страсти, потом всю жизнь и радуются своему исцелению, и горюют о нем.
486
Люди независтливые встречаются еще реже, чем бескорыстные.
487
Наш ум ленивее, чем тело.
488
Наше душевное спокойствие или смятение зависят не столько от важнейших событий нашей жизни, сколько от удачного или неприятного для нас сочетания житейских мелочей.
489
Как ни злы люди, они все же не осмеливаются открыто преследовать добродетель. Поэтому, готовясь напасть на нее, они притворяются, будто считают ее лицемерной, или же приписывают ей какие-нибудь преступления.
490
Люди часто изменяют любви ради честолюбия, но потом уже никогда не изменяют честолюбию ради любви.
491
Непомерная скупость почти всегда ошибается в своих расчетах: она чаще, чем все другие страсти, уходит от цели, к которой стремится, и оказывается во власти настоящего в ущерб будущему.
492
Скупость нередко приводит к самым противоречивым следствиям: многие люди приносят все свое состояние в жертву отдаленным и сомнительным надеждам, другие же пренебрегают крупными выгодами в будущем ради мелочной сегодняшней наживы.
493
Людям, видно, мало своих недостатков: они еще умножают их всевозможными чудачествами, которыми словно бы даже гордятся; эти странности, взращенные с таким усердием, становятся в конце концов природными недостатками, и отделаться от них уже невозможно.
494
Насколько ясно люди понимают свои ошибки, видно из того, что, рассказывая о своем поведении, они всегда умеют выставить его в благоприятном свете: то самое самолюбие, которое обычно ослепляет их ум, в этом случае придает ему такую зоркость и проницательность, что им удается ловко утаить или смягчить любую мелочь, способную вызвать неодобрение.
495
Впервые вступая в свет, молодые люди должны быть застенчивы или даже неловки: уверенность и непринужденность манер обычно оборачиваются наглостью.
496
Людские ссоры не длились бы так долго, если бы вся вина была на одной стороне.
497
Быть молодой, но некрасивой так же неутешительно для женщины, как быть красивой, но немолодой.
498
Есть люди столь ветреные и легковесные, что у них не может быть ни крупных недостатков, ни подлинных достоинств.
499
Молва припоминает женщине ее первого любовника обычно лишь после того, как она завела себе второго.
500
Есть люди, столь поглощенные собой, что, влюбившись, они ухитряются больше думать о собственной любви, чем о предмете своей страсти.
501
Как ни приятна любовь, все же ее внешние проявления доставляют нам больше радости, чем она сама.
502
Ум ограниченный, но здравый в конце концов не так утомителен в собеседнике, как ум широкий, но путаный.
503
Терзания ревности — самые мучительные из человеческих терзаний и к тому же менее всего внушающие сочувствие тому, кто их причиняет.
504
После всех рассуждений о лицемерности многих показных добродетелей нужно сказать несколько слов и о лицемерности презрения к смерти. Я имею в виду то презрение, о котором говорят безбожники, похваляясь, что черпают его не в уповании на лучшую жизнь, а в своей собственной неустрашимости. Между стойким приятием смерти и презрением к ней — огромная разница: первое встречается довольно часто, второе же, по моему мнению, не бывает искренним никогда. Правда, было написано множество убедительных трактатов, в которых доказывалось, что смерть совсем не страшна; самые слабые люди, точно так же, как славнейшие герои, явили тысячи знаменитых примеров, подтверждающих такой взгляд. Я убежден, однако, что его никогда не разделял ни один здравомыслящий человек. Настойчивость, которую проявляют приверженцы этого взгляда, пытаясь внушить его другим и самим себе, уже говорит о том, что эта задача не из легких. Можно по каким-либо причинам питать отвращение к жизни, но нельзя презирать смерть. Даже люди, добровольно обрекающие себя на нее, отнюдь не считают смерть такой уж малостью; напротив, они, как и все остальные, страшатся, а порой и отвергают ее, если она приходит к ним не той дорогой, какую они для нее избрали. Колебания, которым подвержено мужество доблестнейших людей, объясняется именно тем, что смерть не всегда рисуется их воображению с одинаковой яркостью. Все дело в том, что они презирают смерть, пока не постигли ее, но, постигнув, поддаются страху. Следует всячески избегать мыслей о ней и обо всем, что ее окружает, иначе она покажется нам величайшим бедствием. Самые смелые и самые разумные люди — это те, которые под любыми благовидными предлогами стараются не думать о смерти. Всякий, кому довелось узнать ее такой, какова она в действительности, понимает, что она ужасна. Единственным источником стойкости для философов всех времен являлась неизбежность смерти. Они считали необходимым с готовностью идти туда, куда не могли не идти, и, будучи не в состоянии навеки сохранить свою жизнь, изо всех сил старались увековечить хотя бы свою славу и спасти от крушения все, что возможно. Ограничимся же тем, что ради сохранения нашего достоинства не станем даже самим себе признаваться в наших мыслях о смерти и возложим все надежды на бодрость нашего духа, а не на шаткие рассуждения о том, будто к ней следует приближаться безбоязненно. Желание стяжать себе славу стойкой смертью, утешительные мысли о печали окружающих, надежда оставить после себя доброе имя, уверенность в освобождении от жизненных тягот и прихотей судьбы — все это недурные средства, но ни одно из них нельзя считать надежным. От них не больше проку, чем от деревянной изгороди для солдат, которым нужно перебежать поле под огнем врага. Пока изгородь далеко, людям кажется, что она может их защитить, но по мере приближения к ней они начинают понимать, что защита эта непрочна. Было бы слишком самонадеянно с нашей стороны думать, что смерть и вблизи покажется нам такой же, какой мы видели ее издали, и что наши чувства, имя которым — слабость, достаточно закалены, чтобы позволить нам бестренетно пройти через самое тяжкое из всех испытаний. Равным образом и на себялюбие может рассчитывать лишь тот, кто его не понимает: оно не способно заставить нас легко отнестись к событию, которое ему же несет гибель. Наконец, разум, в котором многие надеются найти поддержку, слишком слаб, чтобы при встрече со смертью мы могли на него опереться. Наоборот, он особенно часто предает нас и, вместо того чтобы научить презрению к смерти, ярко освещает все, что есть в ней ужасного и отталкивающего. Единственное, что в его силах, — это посоветовать нам отвратить от нее взоры и сосредоточить их на чем-нибудь другом. Катон и Брут обратились к возвышенным помыслам{33}, а не так давно некий лакей{34} удовольствовался тем, что пустился в пляс на том самом эшафоте, где его должны были колесовать. Невзирая на то, что способы различны, — результат один и тот же. Хотя разница между великими людьми и людьми заурядными огромна, те и другие, как явствует из множества примеров, нередко принимают смерть одинаково. Впрочем, есть и отличие: у великих людей презрение к смерти вызвано ослепляющей их любовью к славе, а у людей простых — ограниченностью, которая не позволяет им постичь всю глубину ожидающего их несчастья и дает возможность думать о вещах посторонних.
Максимы, напечатанные посмертно
{35}
505
Дарования, которыми господь наделил людей, так же разнообразны, как деревья, которыми он украсил землю, и каждое обладает особенными свойствами и приносит лишь ему присущие плоды. Потому-то лучшее грушевое дерево никогда не родит даже дрянных яблок, а самый даровитый человек пасует перед делом хотя и заурядным, но дающимся только тому, кто к этому делу способен. И потому сочинять афоризмы, не имея хоть небольшого таланта к занятию такого рода, не менее смехотворно, чем ожидать, что на грядке, где не высажены луковицы, зацветут тюль-папы.
506
Разновидностей тщеславия столько, что и считать не стоит.
507
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами{36}.
508
Кто слишком высоко ценит благородство своего происхождения, тот недостаточно ценит дела, которые некогда легли в его основу.
509
В наказание за первородный грех бог дозволил человеку сотворить кумир из себялюбия, чтобы оно терзало его на всех жизненных путях.
510
Своекорыстие — душа нашего сознания: подобно тому как тело, лишенное души, не видит, не слышит, не сознает, не чувствует и не движется, так и сознание, разлученное, если дозволено употребить такое выражение, со своекорыстием, не видит, не слышит, не чувствует и не действует. Потому-то и человек, который во имя своей выгоды скитается по морям и землям, вдруг как бы цепенеет, едва речь заходит о выгоде ближнего; потому-то внезапно погружаются в дремоту и словно отлетают в иной мир те, кому мы рассказываем о своих делах, и так же внезапно просыпаются, стоит им почуять в нашем рассказе нечто, хотя бы отдаленно их затрагивающее. Вот и получается, что наш собеседник то теряет сознание, то приходит в себя, смотря по тому, идет ли дело о его выгоде или, напротив, не имеет к нему никакого касательства.
511
Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как будто награждены бессмертием.
512
Порой кажется, что сам дьявол придумал поставить леность на рубежах наших добродетелей.
513
Мы потому готовы поверить любым рассказам о недостатках наших ближних, что всего легче верить желаемому.
514
Исцеляет от ревности только полная уверенность в том, чего мы больше всего боялись, потому что вместе с нею приходит конец или нашей любви, или жизни; что и говорить, лекарство жестокое, но менее жестокое, чем недоверие и подозрение.
515
Где надежда, там и боязнь: боязнь всегда полна надежды, надежда всегда полна боязни.
516
Не следует обижаться на людей, утаивших от нас правду: мы и сами постоянно утаиваем ее от себя.
517
Мы чаще всего потому превратно судим о сентенциях, доказывающих лживость людских добродетелей, что наши собственные добродетели всегда кажутся нам истинными.
518
Преданность властям предержащим — лишь другая личина себялюбия.
519
Где конец добру, там начало злу, а где конец злу, там начало добру.
520
Философы порицают богатство лишь потому, что мы плохо им распоряжаемся. От нас одних зависит и приобретать, и пускать его в ход, не служа при этом пороку. Вместо того чтобы с помощью богатства поддерживать и питать злодеяния, как с помощью дров питают пламя, мы могли бы отдать его на служение добродетелям, придав им тем самым и блеск и привлекательность.
521
Крушение всех надежд человека приятно и его друзьям и недругам.
522
Поскольку всех счастливее в этом мире тот, кто довольствуется малым, то власть имущих и честолюбцев надо считать самыми несчастными людьми, потому что для счастья им нужно несметное множество благ.
523
Человек ныне не таков, каким был создан, и вот убедительнейшее доказательство этому: чем разумнее он становится, тем больше стыдится в душе сумасбродства, низости и порочности своих чувств и наклонностей.
524
Сентенции, обнажающие человеческое сердце, вызывают такое возмущение потому, что людям боязно предстать перед светом во всей своей наготе.
525
Люди, которых мы любим, почти всегда более властны над нашей душой, нежели мы сами.
526
Мы часто клеймим чужие недостатки, но редко, пользуясь их примером, исправляем свои.
527
Человек так жалок, что, посвятив себя единственной цели — удовлетворению своих страстей, беспрестанно сетует на их тиранство; не желая выносить их гнет, он вместе с тем не желает и сделать усилие, чтобы сбросить его; ненавидя страсти, не менее ненавидит и лекарства, их исцеляющие; восставая против терзаний недуга, восстает и против тягот лечения.
528
Когда мы радуемся или печалимся, наши чувства соразмерны не столько удачам или бедам, доставшимся нам на долю, сколько нашей способности чувствовать.
529
Хитрость — признак недалекого ума.
530
Мы расточаем похвалы только затем, чтобы извлечь потом из них выгоду.
531
Людские страсти — это всего лишь разные склонности людского себялюбия.
532
Окончательно соскучившись, мы перестаем скучать.
533
Люди хвалят или бранят чаще всего то, что принято хвалить или бранить.
534
Множество людей притязают на благочестие, но никого не привлекает смирение.
535
Физический труд помогает забывать о нравственных страданиях; поэтому бедняки — счастливые люди.
536
Истинному самобичеванию подвергает себя лишь тот, кто никого об этом не оповещает; в противном случае все облегчается тщеславием.
537
Смирение — это угодный богу алтарь для наших жертвоприношений.
538
Мудрец счастлив, довольствуясь немногим, а глупцу всего мало; вот почему почти все люди несчастны.
539
Нас мучит не столько жажда счастья, сколько желание прослыть счастливцами.
540
Легче убить желание в зародыше, чем потом ублаготворять все вожделения, им рожденные.
541
Ясный разум дает душе то, что здоровье — телу.
542
Так как великие мира сего не могут дать человеку ни телесного здоровья, ни душевного покоя, то все их благодеяния он всегда оплачивает по слишком дорогой цене.
543
Прежде чем сильно чего-то пожелать, следует осведомиться, очень ли счастлив нынешний обладатель желаемого.
544
Истинный друг — величайшее из земных благ, хотя как раз за этим благом мы меньше всего гонимся.
545
Любовники начинают видеть недостатки своих любовниц, лишь когда их увлечению приходит конец.
546
Благоразумие и любовь не созданы друг для друга: по мере того как растет любовь, уменьшается благоразумие.
547
Ревнивая жена порою даже приятна мужу: он хотя бы все время слышит разговоры о предмете своей любви.
548
Какой жалости достойна женщина, истинно любящая и притом добродетельная!
549
Мудрый человек понимает, что лучше воспретить себе увлечение, чем потом с ним бороться.
550
Куда полезнее изучать не книги, а людей.
551
Обычно счастье приходит к счастливому, а несчастье — к несчастному.
Жак Калло.
Офорт из серии «Бедствия войны».
552
Порядочная женщина — это скрытое от всех сокровище; найдя его, человек разумный не станет им хвалиться.
553
Кто очень сильно любит, тот долго не замечает, что он-то уже не любим.
554
Мы браним себя только для того, чтобы нас похвалили.
555
Нам почти всегда скучно с теми, кому скучно с нами.
556
Говорить всего труднее как раз тогда, когда стыдно молчать.
557
Как естественна и вместе с тем как обманчива вера человека в то, что он любим!
558
Нам приятнее видеть не тех людей, которые нам благодетельствуют, а тех, кому благодетельствуем мы.
559
Скрыть наши истинные чувства труднее, чем изобразить несуществующие.
560
Возобновленная дружба требует больше забот и внимания, чем дружба, никогда не прерывавшаяся.
561
Куда несчастнее тот, кому никто не нравится, чем тот, кто не нравится никому.
562
Старость — вот преисподняя для женщин{37}.
Максимы, исключенные автором из первых изданий
{38}
563
Себялюбие — это любовь человека к себе и ко всему, что составляет его благо. Оно побуждает людей обоготворять себя и, если судьба им потворствует, тиранить других; довольство оно находит лишь в себе самом, а на всем постороннем останавливается, как пчела на цветке, стараясь извлечь из него пользу. Ничто не сравнится с неистовством его желаний, скрытностью умыслов, хитроумием поступков; его способность подлаживаться невообразима, перевоплощения посрамляют любые метаморфозы, а умение придать себе чистейший вид превосходит любые уловки химии. Глубина его пропастей безмерна, мрак непроницаем. Там, укрытое от любопытных глаз, оно совершает свои неприметные круговращения, там, незримое порою даже самому себе, оно, не ведая того, зачинает, вынашивает, вскармливает своими соками множество приязней и неприязней и потом производит на свет таких чудищ, что либо искренне не признает их своими, либо предпочитает от них отречься. Из тьмы, окутывающей его, возникают нелепые самообольщения, невежественные, грубые, дурацкие ошибки на свой счет, рождается уверенность, что чувства его умерли, когда они только дремлют, убеждение, что ему никогда больше не захочется бегать, если в этот миг оно расположено отдыхать, вера, что оно утратило способность желать, если все его желания временно удовлетворены. Однако густая мгла, скрывающая его от самого себя, ничуть не мешает ему отлично видеть других, и в этом оно похоже на наши телесные глаза, зоркие к внешнему миру, но слепые к себе. И действительно, когда речь идет о заветных его замыслах или важных предприятиях, оно мгновенно настораживается и, побуждаемое страстной жаждой добиться своего, видит, чует, слышит, догадывается, подозревает, проникает, улавливает с такой безошибочностью, что мнится, будто не только оно, но и каждая из его страстей наделена поистине магической проницательностью. Привязанности его так сильны и прочны, что оно не в состоянии избавиться от них, даже если они грозят ему неисчислимыми бедами, но иногда оно вдруг с удивительной легкостью и быстротой разделывается с чувствами, с которыми упорно, но безуспешно боролось многие годы. Отсюда можно с полным основанием сделать вывод, что не чья-то красота и достоинства, а оно само распаляет свои желания и что лишь его собственный вкус придает цену вожделенному предмету и наводит на него глянец. Оно гонится не за чем-либо, а лишь за самим собой и, добиваясь того, что ему по праву, ублажает свой собственный нрав. Оно соткано из противоречий, оно властно и покорно, искренне и лицемерно, сострадательно и жестоко, робко и дерзновенно, оно питает самые разные склонности, которые зависят от самых разных страстей, попеременно толкающих его к завоеванию то славы, то богатства, то наслаждений. Свои цели оно меняет вместе с изменением нашего возраста, благоденствия, опыта, но ему не важно, сколько этих целей, одна или несколько, ибо, когда ему нужно или хочется, оно может и посвятить себя одной, и отдаться поровну нескольким. Оно непостоянно и, не считая перемен, вызванных внешними обстоятельствами, то и дело рождает перемены из собственных своих глубин: оно непостоянно от непостоянства, от легкомыслия, от любви, от жажды нового, от усталости, от отвращения. Оно своенравно, поэтому порою, не зная отдыха, усердно трудится, добиваясь того, что ему не только невыгодно, но и прямо вредоносно, однако составляет предмет его желаний. Оно полно причуд и часто весь свой пыл отдает предприятиям самым пустячным, находит удовольствие в том, что безмерно скучно, бахвалится тем, что достойно презрения. Оно существует у людей любого достатка и положения, живет повсюду, питается всем и ничем, может примениться к изобилию и к лишениям, переходит даже в стан людей, с ним сражающихся, проникает в их замыслы и, что совсем уже удивительно, вместе с ними ненавидит самое себя, готовит свою погибель, добивается своего уничтожения, — словом, в заботе о себе и во имя себя становится своим собственным врагом. Но не следует недоумевать, если иной раз оно объявляет себя сторонником непреклонного самоотречения и, чтобы истребить себя, храбро вступает с ним в союз: ведь, погибая в одном обличий, оно воскресает в другом. Нам кажется, что оно отреклось от наслаждений, а на деле оно лишь отсрочило их или заменило другими; мы думаем, что оно побеждено, потерпело полное поражение, и вдруг обнаруживаем, что, напротив, даже сдав оружие, оно торжествует победу. Таков портрет себялюбия, чье существование исполнено непрерывных треволнений. Море с вечным приливом и отливом волн — вот точный образ себялюбия, неустанного движения его страстей и бурной смены его вожделений.
564
Сила всех наших страстей зависит от того, насколько холодна или горяча наша кровь.
565
Умеренность того, кому благоприятствует судьба, — это обычно или боязнь быть осмеянным за чванство, или страх перед потерей приобретенного.
566
Умеренность в жизни похожа на воздержанность в еде: съел бы еще, да страшно заболеть.
567
Мы любим осуждать людей за то, за что они осуждают нас.
568
Гордость, сыграв в человеческой комедии подряд все роли и словно бы устав от своих уловок и превращений, вдруг является с открытым лицом, высокомерно сорвав с себя маску; таким образом, высокомерие — это, в сущности, та же гордость, во всеуслышанье заявляющая о своем присутствии.
569
Тот, кто одарен в малом, противоположен свойствами характера тому, кто способен к великому.
570
Человек, понимающий, какие несчастья могли бы обрушиться на него, тем самым уже до некоторой степени счастлив.
571
Нигде не найти покоя тому, кто не нашел его в самом себе.
572
Человек никогда не бывает так несчастен, как ему кажется, или так счастлив, как ему хочется.
573
Тайное удовольствие от сознания, что люди видят, до чего мы несчастны, нередко примиряет нас с нашими несчастьями.
574
Только зная наперед свою судьбу, мы могли бы наперед поручиться за свое поведение.
575
Может ли человек с уверенностью сказать, чего он захочет в будущем, если он не способен понять, чего ему хочется сейчас.
576
Любовь для души любящего означает то же, что душа — для тела, которое она одухотворяет.
577
Не в нашей воле полюбить или разлюбить, поэтому ни любовник не вправе жаловаться на ветреность своей любовницы, ни она — на его непостоянство.
578
Любовь к справедливости рождена живейшим беспокойством, как бы кто не отнял у нас нашего достояния; оно-то и побуждает людей так заботливо оберегать интересы ближнего, так уважать их и так усердно избегать несправедливых поступков. Этот страх принуждает их довольствоваться благами, дарованными им по праву рождения или прихоти судьбы, а не будь его, они беспрестанно совершали бы набеги на чужие владения.
579
Справедливость умеренного судьи свидетельствует лишь о его любви к своему высокому положению.
580
Люди не потому порицают несправедливость, что питают к ней отвращение, а потому, что она наносит ущерб их выгоде.
581
Перестав любить, мы радуемся, когда нам изменяют, тем самым освобождая нас от необходимости хранить верность.
582
Радость, охватывающая нас в первую минуту при виде счастья наших друзей, вызвана отнюдь не нашей природной добротой или привязанностью к ним: она просто вытекает из себялюбивой надежды на то, что и мы, в свою очередь, будем счастливы или хотя бы сумеем извлечь выгоду из их удачи.
583
В невзгодах наших лучших друзей мы всегда находим нечто даже приятное для себя.
584
Как мы можем требовать, чтобы кто-то сохранил нашу тайну, если мы сами не можем ее сохранить?
585
Самое опасное следствие гордыни — это ослепление: оно поддерживает и укрепляет ее, мешая нам найти средства, которые облегчили бы наши горести и помогли бы исцелиться от пороков.
586
Потеряв надежду обнаружить разум у окружающих, мы уже и сами не стараемся его сохранить.
587
Никто так не торопит других, как лентяи: ублажив свою лень, они хотят казаться усердными.
588
У нас столько же оснований сетовать на людей, помогающих нам познать себя, как у того афинского безумца{39} жаловаться на врача, который исцелил его от ложной уверенности, что он — богач.
589
Философы, и в первую очередь Сенека{40}, своими наставлениями отнюдь не уничтожили преступных людских помыслов, а лишь пустили их на постройку здания гордыни.
590
Не замечать охлаждения друзей — значит мало ценить их дружбу.
591
Даже самые разумные люди разумны лишь в несущественном; в делах значительных разум обычно им изменяет.
592
Самое причудливое безрассудство бывает обычно порождением самого утонченного разума.
593
Воздержанность в еде рождена или заботой о здоровье, или неспособностью много съесть.
594
Человеческие дарования подобны деревьям: каждое обладает особенными свойствами и приносит лишь ему присущие плоды.
595
Быстрее всего мы забываем то, о чем нам прискучило говорить.
596
Когда люди уклоняются от похвал, это говорит не столько об их скромности, сколько о желании услышать более утонченную похвалу.
597
Люди порицают порок и превозносят добродетель только из своекорыстия.
598
Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в добродетельных намерениях.
599
Красота, ум, доблесть под воздействием похвал расцветают, совершенствуются и достигают такого блеска, которого никогда бы не достигли, если бы остались незамеченными.
600
Себялюбие наше таково, что его не перещеголяет никакой льстец.
601
Люди не задумываются над тем, — что запальчивость запальчивости рознь, хотя в одном случае она, можно сказать, невинна и вполне заслуживает снисхождения, ибо рождена пылкостью характера, а в другом — весьма греховна, потому что проистекает из неистовой гордыни.
602
Величием духа отличаются не те люди, у которых меньше страстей и больше добродетелей, чем у людей обыкновенных, а лишь те, у кого поистине великие замыслы.
603
Короли чеканят людей, как монету: они назначают им цену, какую заблагорассудится, и все вынуждены принимать этих людей не по их истинной стоимости, а по назначенному курсу{41}.
604
Даже прирожденная свирепость реже толкает на жестокие поступки, нежели себялюбие.
605
О всех наших добродетелях можно сказать то же, что некий итальянский поэт{42} сказал о порядочных женщинах: чаще всего они просто умеют прикидываться порядочными.
606
То, что люди называют добродетелью, — обычно лишь призрак, созданный их вожделениями и носящий столь высокое имя для того, чтобы они могли безнаказанно следовать своим желаниям.
607
Мы так жаждем всё обратить в свою пользу, что видим добродетели в пороках, несколько схожих с ними по внешности и ловко переряженных нашим себялюбием.
608
Иные преступления столь громогласны и грандиозны, что мы оправдываем их и даже прославляем: так, обкрадыванье казны мы зовем ловкостью{43}, а несправедливый захват чужих земель именуем завоеванием{44}.
609
Мы сознаемся в своих недостатках только под давлением тщеславия.
610
Люди никогда не бывают ни безмерно хороши, ни безмерно плохи.
611
Человек, неспособный на большое преступление, с трудом верит, что другие вполне на него способны.
612
Пышность погребальных обрядов не столько увековечивает достоинства мертвых, сколько ублажает тщеславие живых.
613
Сквозь изменчивость и шаткость, как будто царящие в мире, проглядывает некое скрытое сцепление событий, некий извечно предопределенный Провидением порядок, благодаря которому все идет как положено по заранее предначертанному пути.
614
Чтобы вступить в заговор, нужна неколебимая отвага, а чтобы стойко переносить опасности войны, хватает обыкновенного мужества.
615
Кто захотел бы определить победу по ее родословной, тот поддался бы, вероятно, искушению назвать ее, вслед за поэтами, дочерью небес, ибо на земле ее корней не отыскать. И впрямь, победа — это итог множества деяний, имеющих целью отнюдь не ее, а частную выгоду тех, кто эти деяния совершает; вот и получается, что хотя люди, из которых состоит войско, думают лишь о собственной выгоде и возвышении, тем не менее они завоевывают величайшее всеобщее благо.
616
Не может отвечать за свою храбрость человек, который никогда не подвергался опасности.
617
Людям куда легче ограничить свою благодарность, нежели свои надежды и желания.
618
Подражание всегда несносно, и подделка нам неприятна теми самыми чертами, которые пленяют в оригинале.
619
Глубина нашей скорби об утрате друзей сообразна порою не столько их достоинствам, сколько нашей нужде в этих людях, а также их высокому мнению о наших добродетелях.
620
Нелегко отличить неопределенное и равно ко всем относящееся благорасположение от хитроумной ловкости.
621
Неизменно творить добро нашим ближним мы можем лишь в том случае, когда они полагают, что не смогут безнаказанно причинить нам зло.
622
Чаще всего вызывают неприязнь те люди, которые твердо уверены во всеобщей приязни.
623
Нам трудно поверить тому, что лежит за пределами нашего кругозора.
624
Уверенность в себе составляет основу нашей уверенности в других.
625
Порою в обществе совершаются такие перевороты, которые меняют и его судьбы, и вкусы людей.
626
Истинность — вот первооснова и суть красоты и совершенства; прекрасно и совершенно лишь то, что, обладая всем, чем должно обладать, поистине таково, каким должно быть.
627
Иной раз прекрасные творения более привлекательны, когда они несовершенны, чем когда слишком законченны.
628
Великодушие — это благородное усилие гордости, с помощью которого человек овладевает собой, тем самым овладевая и окружающим.
629
Роскошь и чрезмерная изысканность предрекают верную гибель государству, ибо свидетельствуют о том, что все частные лица пекутся лишь о собственном благе, нисколько не заботясь о благе общественном{45}.
630
Леность — это самая безотчетная из всех наших страстей. Хотя могущество ее неощутимо, а ущерб, наносимый ею, глубоко скрыт от наших глаз, нет страсти более пылкой и зловредной. Если мы внимательно присмотримся к ее влиянию, то убедимся, что она неизменно ухитряется завладеть всеми нашими чувствами, желаниями и наслаждениями: она — как рыба-прилипала, останавливающая огромные суда, как мертвый штиль, более опасный для важнейших наших дел, чем любые рифы и штормы. В ленивом покое душа черпает тайную усладу, ради которой мы тут же забываем о самых горячих наших упованиях и самых твердых намерениях. Наконец, чтобы дать истинное представление об этой страсти, добавим, что леность — это такой сладостный мир души, который утешает ее во всех утратах и заменяет все блага.
631
Судьба порой так искусно подбирает различные людские поступки, что из них рождаются добродетели.
632
Все любят разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным.
633
Какая это скучная болезнь — оберегать свое здоровье чересчур строгим режимом!
634
Легче полюбить, когда никого не любишь, чем разлюбить, уже полюбив.
635
Большинство женщин сдается не потому, что сильна их страсть, а потому, что велика их слабость. Вот почему обычно имеют такой успех предприимчивые мужчины, хотя они отнюдь не самые привлекательные.
636
Нет вернее средства разжечь в другом страсть, чем самому хранить холод.
637
Любовники берут друг с друга клятвы чистосердечно признаться в наступившем охлаждении не столько потому, что хотят немедленно узнать о нем, сколько потому, что, не слыша такого признания, они еще тверже убеждаются в неизменности взаимной любви.
638
Любовь правильнее всего сравнить с горячкой: тяжесть и длительность и той и другой нимало не зависят от нашей воли.
639
Высшее здравомыслие наименее здравомыслящих людей состоит в умении покорно следовать разумной указке других.
640
Мы всегда побаиваемся показаться на глаза того, кого любим, после того как нам случилось приволокнуться на стороне.
641
Должен обрести успокоение тот, у кого хватило мужества признаться в своих проступках.
Блез Паскаль Мысли
Перевод Э. Линецкой.
{46}
1
Различие между познанием математическим и непосредственным. — Начала математического познания отчетливы, но в обыденной жизни неупотребительны, поэтому с непривычки в них трудно вникнуть; зато всякому, кто вникнет, они совершенно очевидны, и только совсем дурной ум не способен построить правильного рассуждения на основе столь самоочевидных начал.
Начала непосредственного познания, напротив, распространены и общеупотребительны. Тут нет нужды во что-то вникать, делать над собой усилие, тут нужно другое — хорошее зрение, и не просто хорошее, а безупречное, ибо этих начал так много и они так разветвлены, что охватить их сразу почти невозможно. Меж тем пропустишь одно — и ошибка неизбежна. Вот почему нужна большая зоркость, чтобы увидеть все до единого, и ясный ум, чтобы, основываясь на столь известных началах, сделать потом правильные выводы.
Итак, обладай все математики зоркостью, они все были бы способны к непосредственному познанию, ибо умеют делать правильные выводы из хорошо известных начал, а способные к непосредственному познанию были бы способны и к математическому, если бы дали себе труд пристально вглядеться в непривычные для них математические начала.
Но такое сочетание встречается не часто, потому что человек, способный к непосредственному познанию, не пытается вникнуть в математические начала, а способный к математическому большей частью слеп к тому, что у него перед глазами; вдобавок, привыкнув делать заключения на основе хорошо им изученных точных и ясных математических начал, он теряется, столкнувшись с началами совсем иного порядка, на которых зиждется непосредственное познание. Они еле различимы, их скорее чувствуют, нежели видят, а кто не чувствует, того и учить вряд ли стоит: они так тонки и многообразны, что лишь человек, чьи чувства утонченны и безошибочны, улавливает и делает правильные, неоспоримые выводы из подсказанного чувствами; притом зачастую он не может доказать верность своих выводов пункт за пунктом, как принято в математике, ибо начала непосредственного познания не выстраиваются в ряд, как начала познания математического, и подобного рода доказательство было бы бесконечно сложил. Познаваемый предмет надо охватить сразу и целиком, а не изучать его постепенно, путем умозаключений — на первых порах, во всяком случае. Таким образом, математики редко бывают способны к непосредственному познанию, а познающие непосредственно — к математическому, так как первые пытаются подходить математически к тому, что доступно лишь непосредственному познанию и приходят к абсурду, ибо хотят во что бы то ни стало начать с определений, а уже потом перейти к основным началам, меж тем как в данном случае метода умозаключений ничего не дает. Это не значит, что разум вообще от них отказывается, нет, но он их делает незаметно, не напрягаясь, без всяких ухищрений; выразить словами сущность этой работы разума не может никто, да и понимание того, что она вообще происходит, доступно лишь немногим.
С другой стороны, когда перед человеком, познающим предмет непосредственно и привыкшим охватывать его единым взглядом, предстают проблемы, ему совершенно непонятные и требующие для решения предварительного знакомства со множеством определений и непривычно сухих начал, он не только устрашается, но и отвращается от них.
Что касается дурного ума, ему равно недоступно познание и математическое и непосредственное.
Стало быть, ум сугубо математический будет правильно работать, только если ему заранее известны все определения и начала, в противном случае он сбивается с толку и становится невыносимым, ибо правильно работает лишь на основе четко сформулированных начал.
А ум, познающий непосредственно, не способен терпеливо доискиваться первичных начал, лежащих в основе чисто спекулятивных, отвлеченных понятий, с которыми он не сталкивается в обыденной жизни и ему непривычных.
2
Разновидности здравого рассудка: бывает так, что человек, здраво рассуждающий о явлениях определенного порядка, несет вздор, когда вопрос касается явлений другого порядка.
Одни умеют делать множество выводов из немногих начал, — это свидетельство здравости рассудка.
Другие делают множество выводов из явлений, основанных на множестве начал.
Например, некоторые правильно выводят следствия из немногих начал, определяющих свойства воды, но для этого надо обладать большой здравостью ума, ибо следствия эти трудно различимы.
Люди, способные вывести столь сложные следствия, отнюдь не всегда хорошие математики, ибо математика заключает в себе множество начал, а бывает ум такого склада, что он способен постичь лишь немногие начала, но зато до самой их глубины, меж тем как явления, основанные на многих началах, для него непостижимы.
Стало быть, существуют два склада ума: один быстро и глубоко постигает следствия, вытекающие из того или иного начала, и его можно назвать проницательным умом; другой способен охватить множество начал, не путаясь в них, — это математический ум. В первом случае человек обладает умом сильным и здравым, во втором — широким, и не всегда они сочетаются: человек может быть наделен умом сильным, но ограниченным или умом широким, но поверхностным.
3
Кто привык судить и оценивать по подсказке чувств, тот ничего не смыслит в логических умозаключениях, потому что стремится проникнуть в предмет исследования с первого взгляда и не желает исследовать начала, на которых он зиждется. Напротив, кто привык изучать начала, тот ничего не смыслит в доводах чувства, потому что ищет, на чем же они основываются, и не способен охватить предмет единым взглядом.
4
Проникновение, математика. — Истинное красноречие пренебрегает красноречием, истинная нравственность пренебрегает нравственностью, иными словами, нравственность оценивающая пренебрегает нравственностью рассудочной, не знающей никаких правил.
Ибо в оценке всегда присутствует чувство, равно как в выкладках разума — научные доводы. Проникновение свойственно оценивающему чувству, математический анализ — рассуждающему уму.
Пренебрежение философствованием и есть истинная философия.
5
Кто оценивает произведение, не придерживаясь никаких правил, тот по сравнению с людьми, эти правила знающими, все равно что не имеющий часов по сравнению с человеком при часах. Первый заявит: «Прошло два часа», — другой возразит: «Нет, только три четверти», — а я посмотрю на часы и отвечу первому: «Вы, видно, скучаете», — и второму: «Прошло не три четверти часа, а полтора; время для вас бежит». А если мне скажут, что для меня оно тянется и вообще мое суждение основано на прихоти, я только посмеюсь: спорщики не знают, что оно основано на показаниях часов.
6
Чувство так же легко развратить, как ум.
И чувство и ум мы совершенствуем или, напротив, развращаем, беседуя с людьми. Стало быть, иные беседы совершенствуют нас, иные — развращают. Значит, следует тщательно выбирать собеседников; но это невозможно, если ум и чувство еще не развиты или не развращены. Вот и получается заколдованный круг, и счастлив тот, кому удается выскочить из него.
7
Чем умнее человек, тем больше своеобычности он находит во всяком, с кем сообщается. Для человека заурядного все люди на одно лицо.
9
Если хотите спорить не втуне и переубедить собеседника, прежде всего уясните себе, с какой стороны он подходит к предмету спора, ибо эту сторону он обычно видит правильно. Признайте его правоту и тут же покажите, что, если подойти с другой стороны, он окажется неправ. Ваш собеседник охотно согласится с вами — ведь он не допустил никакой ошибки, просто чего-то не разглядел, а люди сердятся не тогда, когда не все видят, а когда допускают ошибку: возможно, это объясняется тем, что человек по самой своей природе не способен увидеть предмет сразу со всех сторон и в то же время по самой своей природе если уж видит, то видит правильно, ибо свидетельства наших чувств неоспоримы.
10
Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим.
14
Внимая рассказу, со всей подлинностью живописующему какую-нибудь страсть или ее последствия, мы находим в себе подтверждение истинности услышанного, хотя до сих пор и не подозревали, что эта истина открыта нам, и начинаем любить того, кто помог нам увидеть ее в себе, ибо он открыл заложенное не в нем, а в нас самих. Таким образом, мы проникаемся приязнью к нему и потому, что он оказал нам великую услугу, и потому, что такое взаимопонимание всегда располагает сердце к любви.
16
Красноречие — это искусство говорить так, чтобы те, к кому мы обращаемся, слушали не только без труда, но и с удовольствием и чтобы, захваченные темой и подстрекаемые самолюбием, они захотели поглубже в нее вникнуть.
Стало быть, оно состоит в умении установить связь между умами и сердцами наших слушателей и нашими собственными мыслями и словами, а это значит, что прежде всего мы должны хорошо изучить человеческое сердце, знать все его пружины, только тогда наша речь дойдет до него и его убедит. Поставим себя на место тех, кто нас слушает, и проверим на самих себе, верна ли избранная нами форма, гармонирует ли она с темой, производит ли на собравшихся такое впечатление, что они не в силах ей противостоять. Надо по возможности сохранять простоту и естественность, не преувеличивать мелочей, не преуменьшать значительного. Форма должна быть изящна, но этого мало, она должна соответствовать содержанию и заключать в себе все необходимое, но только необходимое.
17
Реки — это дороги, которые и сами движутся, и нас несут туда, куда мы держим путь.
18
Общее и укоренившееся заблуждение полезно людям, когда речь идет о чем-то им непонятном, — например, о Луне, влиянию которой приписывают и смену времен года, и моровые недуги, и пр.: главный недуг человека — беспокойное любопытство ко всему, для него непостижимому, и уж лучше пусть он заблуждается, чем живет во власти такого бесполезного чувства.
19
Только кончая задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам следовало его начать.
22
Пусть не корят меня за то, что я не сказал ничего нового: ново уже само расположение материала; игроки в мяч бьют по одному и тому же мячу, но не с одинаковой меткостью.
С тем же успехом меня могут корить и за то, что я употребляю давным-давно придуманные слова. Стоит расположить уже известные мысли в ином порядке — и получится новое сочинение, равно как одни и те же, но по-другому расположенные слова образуют новые мысли.
23
Иначе расставленные слова обретают другой смысл, иначе расставленные мысли производят другое впечатление.
24
Язык. — Отвлекать ум от начатого труда следует, только чтобы дать ему отдых, да и то не когда вздумается, а когда нужно, когда этому время: отдых не вовремя утомляет, а утомление отвлекает от труда. Вот как хитро плотская невоздержанность принуждает нас делать обратное тому, что требовалось, и при этом не платит ни малейшим удовольствием — той единственной монетой, ради которой мы готовы на все.
25
Красноречие. — Существенное должно сочетаться с приятным, но приятное следует черпать только в истинном.
26
Красноречие — это живописное изображение мысли; если, выразив мысль, оратор добавляет к ней еще какие-то черточки, он создает не портрет, а картину.
27
Разное. Язык. — Кто, не жалея слов, громоздит антитезы, тот уподобляется человеку, который ради симметрии делает ложные окна на стене: он думает не о точности слов, а о точности фигур.
28
Симметрия воспринимается с первого взгляда и основана на том, что, во-первых, нет резону без нее обходиться, а, во-вторых, человеческое тело тоже симметрично; именно поэтому мы привержены к симметрии в ширину, но не в глубину и высоту.
29
Когда читаешь произведение, написанное простым, натуральным слогом, невольно удивляешься и радуешься: рассчитывал на знакомство только с автором, а познакомился с человеком. Но каково недоумение людей, наделенных хорошим вкусом, которые надеялись, что, прочитав книгу, узнают в ее создателе человека, а узнали только автора. Plus poetice quam humane locutus es[7]{47}. Как облагораживают человеческую натуру люди, умеющие доказать ей, что она способна говорить обо всем, даже о теологии!
31
Мы браним Цицерона за напыщенный слог{48}, меж тем у него есть почитатели, и в немалом числе.
32
Между нашей натурой, — не важно, сильна она или слаба, — и тем, что нам нравится, всегда есть некое сродство, которое и лежит в основе нашего образца приятности и красоты.
Все, что отвечает этому образцу, нам по душе, — дом, напев, речь, стихи, женщина, птица, река, деревья, убранство комнат, одежда и т. д. А что не отвечает, то человеку с хорошим вкусом не может понравиться.
И подобно тому, как есть глубокое сродство между домом и напевом, созданными в согласии с этим образцом, хотя каждый в своем роде, так есть сродство и между всем, что создано на основе дурного образца. Это вовсе не значит, что дурной образец один, — напротив, их бесчисленное множество; но если взять, например, безвкусный сонет, то, какому бы дурному образцу он ни соответствовал, между ним и женщиной, одетой по этому образцу, всегда есть сродство.
Чтобы уяснить себе, насколько смехотворен дурной сонет, довольно понять, какому образцу он соответствует, а затем представить себе дом или женский наряд, сработанный по тому же образцу.
33
Поэтическая красота. — Мы говорим «поэтические красоты», почему же не сказать «математические красоты», «медицинские красоты»? Но так не говорят, и причина этому в следующем: все знают, в чем заключается предмет математики и что он состоит в доказательствах, и в чем заключается предмет медицины и что он состоит в исцелении, но никто не знает, в чем заключается приятность, которая и есть предмет поэзии. Никто не знает, каков тот существующий в природе образец, которому следует подражать, и, за незнанием этого, придумывают такие замысловатые выражения, как «золотой век», «чудо наших дней», «роковой» и т. д.{49}, и называют это странное наречие «поэтическими красотами».
Но представьте себе женщину, разряженную по такому образцу, — а суть его в том, что любой пустяк облекается в пышные слова, — и вы увидите красотку, увешанную зеркальцами и цепочками, и расхохочетесь, ибо куда понятнее, какова должна быть приятная женщина, чем каковы должны быть приятные стихи. Но те, у кого дурной вкус, станут восхищаться обличьем этой женщины, и найдется немало деревень, где ее примут за королеву. Потому-то мы и называем сонеты, написанные по такому образцу, «первыми на деревне».
34
В свете не прослывешь знатоком поэзии, или математики, или любого другого предмета, если не повесишь вывески «поэт», «математик» и т. д. Но человек всесторонний не желает никаких вывесок и не делает различия между ремеслом поэта и золотошвея.
К человеку всестороннему не пристает кличка поэта или математика и т. д., он и то и другое и может судить о любом предмете. Но это никому не бросается в глаза. Он легко присоединяется к любой беседе, которую застал, вошедши в дом. Никто не замечает его познаний в той или иной области, пока в них не появляется надобность, но уж тут о нем немедленно вспоминают; точно так же не помнят, что он красноречив, пока не заговорят о красноречии, но стоит заговорить — и все сразу вспоминают, какой он хороший оратор.
Стало быть, когда при виде человека первым делом вспоминают, что он понаторел в поэзии, это отнюдь не похвала; с другой стороны, если беседа идет о стихах и никто не спрашивает его мнения — это дурной знак.
35
Хорошо, когда кого-нибудь называют не математиком, или проповедником, или красноречивым оратором, а просто порядочным человеком. Мне по душе только это всеобъемлющее свойство. Очень плохо, когда при взгляде на человека сразу вспоминаешь, что он написал книгу. Я бы хотел, чтобы столь частное обстоятельство всплывало в памяти, лишь когда речь заходит об этом обстоятельстве (Ne quid nimis)[8]{50}, иначе оно подменит собой человека и станет именем нарицательным; пусть говорят, что человек искусный оратор, только если разговор касается ораторского искусства, — но уж в этом случае пусть не забывают о нем.
36
У человека множество надобностей, и любит он только тех, кто в силах ублаготворить все до единой. «Такой-то — отличный математик», — скажут ему про кого-нибудь. «А на что мне математик? Он, чего доброго, примет меня за теорему». — «А такой-то — отличный полководец». — «Еще того не легче! Он примет меня за осажденную крепость. А я ищу просто порядочного человека, который сделает для меня все, в чем я нуждаюсь».
41
Эпиграммы Марциала. — Людям по душе язвительная насмешка, но не над кривыми или обездоленными{51}, а над спесивыми счастливцами. Тот заблуждается, кто думает иначе.
Ибо источник всех наших побуждений — корыстолюбие, с одной стороны, человеколюбие — с другой.
Надо добиваться одобрения людей человеколюбивых и мягкосердечных.
Эпиграмма на двух кривых никуда не годна, потому что им не дарует никакого утешения, меж тем автору приносит толику славы. Все, что идет на потребу только автору, никуда не годится. Ambitiosa recidet ornamenta[9]{52}.
43
Говоря о своих трудах, иные авторы твердят: «Моя книга, мой комментарий, моя история». Они как те выскочки, которые обзавелись собственным домом и не устают повторять «мой особняк». Лучше бы говорили «наша книга, наш комментарий, наша история», ибо чаще всего там больше чужого, чем их собственного.
44
Хотите, чтобы люди поверили в ваши добродетели? Не хвалитесь ими.
46
Хороший острослов — дурной человек.
47
Иные люди отлично говорят, но пишут из рук вон плохо: обстановка и доброжелательные слушатели разжигают их ум и заставляют его работать живее, чем он работает без этого топлива.
48
Порою, подготовив речь, мы замечаем, что в ней повторяются одни и те же слова, пытаемся их заменить и только портим, настолько они были уместны; это знак, что всё надо оставить как есть: пусть себе зависть злорадствует, она слепа и не понимает, что порою повторение — не порок, ибо единого правила тут не существует.
49
Скрывать суть, надевать на нее личину. Не король, не папа, не епископ, а «державный монарх» и прочее, не Париж, а «столица державы». В иных местах Париж надо называть Парижем, в других — обязательно именовать «столицей державы».
50
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают. Не мысли придают словам достоинство, а слова мыслям.
64
Во мне, а не в писаниях Монтеня{53} содержится все, что я в них вычитываю.
65
Достоинства Монтеня даются великим трудом. А недостатки — я говорю не о нравственных принципах — Монтень исправил бы шутя, укажи ему кто-нибудь, что он рассказывает слишком много побасенок и слишком много говорит о себе{54}.
66
Познаем самих себя: пусть при этом мы не постигнем истины, зато наведем порядок в собственной жизни, а это для нас самое насущное дело.
67
Тщета наук. — Если я не знаю основ нравственности, наука об окружающем мире не принесет мне утешения в тяжкие минуты жизни, а вот основы нравственности утешат и при незнании науки о предметах внешнего мира.
68
Людей учат чему угодно, только не порядочности, между тем всего более они стараются блеснуть порядочностью, а не ученостью, то есть как раз тем, чему их никогда не обучали.
69
Две бесконечности, середина. — Мы ничего не поймем, если будем читать слишком быстро или слишком медленно.
71
Слишком много и слишком мало вина: если вы совсем не дадите ему выпить, он не сможет постичь истину, если дадите сверх меры — то же самое.
72
Несоразмерность человека. — Пусть человек отдастся созерцанию природы во всем ее высоком и неохватном величии, пусть отвратит взоры от ничтожных предметов, его окружающих. Пусть взглянет на ослепительный светоч, как неугасимый факел озаряющий Вселенную; пусть уразумеет, что Земля — всего лишь точка в сравнении с огромной орбитой, которую описывает это светило, пусть потрясется мыслью, что и сама эта огромная орбита — не более чем неприметная черточка по отношению к орбитам других светил, текущих по небесному своду.
И так как кругозор наш этим ограничен, пусть воображение летит за рубежи видимого: оно утомится, так и не исчерпав природу. Весь зримый мир — лишь еле различимый штрих в необъятном лоне природы. Человеческой мысли не под силу охватить ее. Сколько бы мы ни раздвигали пределы наших пространственных представлений, все равно в сравнении с сущим мы порождаем только атомы. Вселенная — это не имеющая границ сфера, центр ее всюду, периферия нигде. И величайшее из постижимых проявлений всемогущества божия заключается в том, что перед этой мыслью в растерянности останавливается наше воображение.
А потом пусть человек снова подумает о себе и сравнит свое существо со всем сущим; пусть почувствует, как он затерян в этом глухом углу Вселенной, и, выглядывая из чулана, отведенного ему под жилье, — я имею в виду зримый мир, — пусть уразумеет, чего стоит наша Земля со всеми ее державами и городами и, наконец, чего стоит он сам. Человек в бесконечности — что он значит?
А чтобы ему предстало не меньшее диво, пусть он вглядится в одно из мельчайших среди ведомых людям существ. Пусть вглядится в крошечное тельце клеща и в еще более крошечные члены этого тельца, пусть представит себе его ножки со всеми суставами, со всеми жилками, кровь, текущую по этим жилкам, соки, ее составляющие, капли этих соков, пузырьки газа в этих каплях; пусть и дальше разлагает эти мельчайшие частицы, пока не иссякнет его воображение; и тогда рассмотрим предел, на котором он запнулся. Возможно, он решит, что меньшей величины в природе и не существует, а я хочу, чтобы он заглянул еще в одну бездну. Хочу нарисовать ему не только видимую Вселенную, но и бесконечность мыслимой природы в сжатых границах атома. Пусть человек представит себе неисчислимые Вселенные в этом атоме, и у каждой — свой небесный свод, и свои планеты, и своя Земля, и те же соотношения, что в зримом мире, и на этой Земле — свои животные и, наконец, свои клещи, которых опять-таки можно делить не зная отдыха и срока, пока не закружится голова от второго чуда, столь же поразительного в своей малости, как первое — в своей огромности. Ибо как не потрястись тем, что наше тело, столь неприметное во Вселенной, в то же время, вопреки этой своей неприметности на лоне сущего, являет собой колосса, целый мир, вернее, все сущее в сравнении с небытием, которого не постичь никакому воображению!
Кто вдумается в это, тот содрогнется; представив себе, что материальная оболочка, в которую его заключила природа, удерживается на грани двух бездн — бездны бесконечности и бездны небытия, он преисполнится трепета перед подобным чудом; и сдается мне, что любознательность его сменится изумлением, и самонадеянному исследованию он предпочтет безмолвное созерцание.
Ибо что такое человек во Вселенной? Небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием, среднее между всем и ничем. Он не в силах даже приблизиться к пониманию этих крайностей — конца мироздания и его начала, неприступных, скрытых от людского взора непроницаемой тайной, и равно не может постичь небытие, из которого возник, и бесконечность, в которой растворяется.
Он улавливает лишь видимость явлений, ибо не способен познать ни их начало, ни конец. Все возникает из небытия и уносится в бесконечность. Кто окинет взглядом столь необозримый путь? Это чудо постижимо только его творцу. И больше никому.
Люди, не задумываясь над этими бесконечностями, дерзновенно берутся исследовать природу, словно они хоть сколько-нибудь соразмерны с ней. Как не подивиться, когда в самонадеянности, безграничной, как предмет их исследований, они рассчитывают постичь начало сущего, а затем и все сущее? Ибо подобный замысел может быть рожден только самонадеянностью, всеобъемлющей, как природа, или столь же всеобъемлющим разумом.
Человек сведущий понимает, что природа запечатлела свой облик и облик своего творца на всех предметах и явлениях и почти все они отмечены ее двойной бесконечностью. Поэтому ни одна наука никогда не исчерпает своего предмета: ибо кто же усомнится, что, например, в математике мы сталкиваемся с бесконечной бесконечностью соотношений? И начала, на которых они основаны, не только бесчисленны, но и бесконечно дробны, ибо кто ж не видит, что начала якобы предельные не висят в пустоте, они опираются на другие начала, а те, в свою очередь, опираются на третьи, отрицая таким образом существование предела? Тем не менее всё, что нашему разуму представляется пределом, мы и принимаем за предел, равно как в мире материальных величин называем неделимой ту точку, которую уже не способны разделить, хотя по своей сути она бесконечно делима.
Из этих двух известных науке бесконечностей бесконечность больших величин более понятна человеческому разуму, поэтому лишь очень немногие ученые притязали на то, что охватили мироздание полностью. «Я поведу речь о сущем», — говорил Демокрит{55}.
Бесконечность в малом менее очевидна. Все философы потерпели в этом вопросе поражение, хотя порой и утверждали, что изучили его. Отсюда и столь обычные названия — «О началах сущего», «Об основах философии»{56} и подобные им, не менее напыщенные по сути, хотя и более скромные по форме, чем режущее глаз «De omni scibili»[10]{57}.
Мы простодушно считаем, что нам легче проникнуть к центру мироздания, нежели охватить его в целом. Его видимая протяженность явно превосходит нас, зато мы явно превосходим предметы ничтожно малые и поэтому считаем их постижимыми, хотя уразуметь небытие не легче, нежели уразуметь все сущее. И то и другое требует беспредельности разума, и кто постигнет зиждущее начало, тот, на мой взгляд, сможет постичь и бесконечность. Одно зависит от другого, одно влечет за собой другое. Эти крайности соприкасаются, сливаясь в боге и только в боге.
Уясним же, что мы такое: нечто, но не все; будучи бытием, мы не способны понять начало начал, возникающее из небытия, будучи бытием кратковременным, не способны охватить бесконечность.
В ряду познаваемого наши знания занимают не больше места, чем мы сами во всей природе.
Мы во всем ограничены, и положение меж двух крайностей определило и наши способности. Наши чувства не воспринимают ничего чрезмерного: слишком громкий звук нас оглушает, слишком яркий свет ослепляет, слишком большие или малые расстояния препятствуют зрению, слишком длинные или короткие рассуждения — пониманию, слишком несомненная истина ставит в тупик (я знавал людей, которые так и не взяли в толк, что если от ноля отнять четыре, в результате получится ноль), начало начал кажется слишком очевидным, слишком острые наслаждения вредят здоровью, слишком сладостные созвучия неприятны, слишком большие благодеяния досадны: нам хочется отплатить за них с лихвой. Beneficia eo usque laeta sunt dum videntur exsolvi posse; ubi multum antevenere, pro gratia odium redditur[11]{58}. Мы не воспринимаем ни очень сильного холода, ни очень сильного жара. Чрезмерность неощутима и тем не менее нам враждебна: не воспринимая ее, мы от нее страдаем. Слишком юный и слишком преклонный возраст держат ум в оковах, равно как и слишком большие или малые познания. Словом, крайности как бы не существуют для нас, а мы — для них: либо они от нас ускользают, либо мы от них.
Таков наш удел. Мы не способны ни к всеобъемлющему познанию, ни к полному неведению. Плывем по безбрежности, не ведая куда, что-то гонит нас, бросает из стороны в сторону. Стоит нам найти какую-то опору и укрепиться на ней, как она начинает колебаться, уходит из-под ног, а если мы бросаемся ей вдогонку, ускользает от нас, не дает приблизиться, и этой погоне нет конца. Вокруг нас нет ничего незыблемого. Да, таков наш природный удел, и вместе с тем он противен всем нашим склонностям: мы жаждем устойчивости, жаждем обрести наконец твердую почву и воздвигнуть на ней башню, вершиной уходящую в бесконечность, но заложенный нами фундамент дает трещину, земля разверзается, а в провале — бездна.
Не будем же гнаться за уверенностью и устойчивостью. Изменчивая видимость будет всегда вводить в обман наш разум; конечное ни в чем не найдет прочной опоры меж двух бесконечностей, окружающих его, но недоступных его пониманию.
Кто твердо это усвоит, тот, я думаю, раз и навсегда откажется от попыток переступить границы, начертанные самой природой. Середина, данная нам в удел, одинаково удалена от обеих крайностей, так имеет ли значение — знает человек немного больше или меньше? Если больше, его кругозор немного шире, но разве не так же бесконечно далек он от цели, а срок его жизни — от вечности, чтобы десяток лет составлял для него разницу?
В сравнении с этими бесконечностями все конечные величины уравниваются, и я не вижу, почему наше воображение могло бы одну предпочесть другой. С какой бы из них мы ни соотнесли себя, все равно нам это мучительно.
Начни человек с изучения самого себя, он понял бы, что ему не дано выйти за собственные пределы. Мыслимо ли, чтобы часть познала целое! — Но, быть может, есть надежда познать хотя бы те части целого, с которыми он соизмерим? Но в мире все так переплетено и взаимосвязано, что познание одной части без другой и без всего в целом мне кажется невозможным.
Например, человек связан в этом мире со всем, что доступно его сознанию. Ему нужно пространство, в котором он находится, время, в котором длится, движение, без которого нет жизни, элементы, из которых он состоит, тепло и пища, чтобы восстанавливать себя, воздух, чтобы дышать; он видит свет, ощущает предметы, — словом, ему все сопричастно. Следовательно, чтобы изучить человека, необходимо понять, зачем ему нужен воздух, а чтобы изучить воздух, необходимо понять, каким образом он связан с жизнью человека, и так далее. Без воздуха не может быть огня, следовательно, чтобы изучить одно, надо изучить и другое.
Итак, поскольку все в мире — причина и следствие, движитель и движимое, непосредственное и опосредствованное, поскольку все скреплено природными и неощутимыми узами, соединяющими самые далекие и непохожие явления, мне представляется невозможным познание частей без познания целого, равно как познание целого без досконального познания всех частей.
Наше бессилие проникнуть в суть вещей довершается их однородностью, меж тем как в нас самих сочетаются субстанции неоднородные, противоположные — душа и тело. Ибо то, что в нас мыслит, может быть только духовным; если же предположить, что мы целиком телесны, надо сделать вывод о полной невозможности познания, так как нет ничего абсурднее утверждения, будто материя сама себя познает: нам невозможно познать, каким путем она могла бы прийти к самопознанию.
Стало быть, если мы просто материальны, познание для нас совсем недоступно, а если в нас сочетается дух и материя, мы не можем до конца познать явления однородные, только духовные или только телесные.
Поэтому почти все философы запутываются в сути того, что нас окружает, и рассматривают дух как нечто телесное, а тела — как нечто духовное. Они необдуманно говорят, что тела стремятся упасть, что они влекутся к центру, стараются избежать уничтожения, боятся пустоты, что у них есть склонности, симпатии, антипатии, то есть наделяют их тем, что присуще только духу{59}. А говоря о духе, они как бы ограничивают его в пространстве, заставляя перемещаться, хотя это свойственно лишь материальным телам.
Вместо того чтобы воспринимать явления в чистом виде, мы окрашиваем их собственными свойствами и наделяем двойной природой то однородное, что нам удается наблюдать.
Так как во всем, что нас окружает, мы усматриваем одновременно и дух и тело, то, казалось бы, это сочетание нам более чем понятно. Однако оно-то и есть наиболее непонятное. Человек — самое непостижимое для себя творение природы, ибо ему трудно уразуметь, что такое материальное тело, еще труднее — что такое дух, и уж совсем непонятно, как материальное тело может соединиться с духом. Нет для человека задачи неразрешимее, а между тем это и есть он сам: Modus quo corporibus adhaerent spiritus comprehendi ab hominibus non potest, et hoc tamen homo est[12]{60}.
77
He могу простить Декарту: он очень хотел бы обойтись в своей философии без бога, но так и не обошелся, заставил его дать мирозданию щелчок{61} и тем привести в движение, а потом бог стал ему ненадобен.
80
Почему нас не сердит тот, кто хром на ногу, но сердит тот, кто хром разумом? Дело простое: хромой признает, что мы не хромоноги, а недоумок считает, что это у нас ум с изъяном. Потому он и вызывает не жалость, а злость.
Эпиктет{62} спрашивает еще прямее: «Почему мы не возмущаемся, когда говорят, будто у нас болит голова, но возмущаемся, когда говорят, что мы не умеем рассуждать или выбрать правильный путь?» Да потому, что твердо уверены, — голова у нас не болит и мы не хромы, но отнюдь не так уверены в правильности нашего выбора. Мы искренне верили в свою правоту, но вот встретили человека, который думает иначе, и сразу пришли в смущение, особенно если наш выбор показался нелепым не только одному, а множеству людей: ибо предпочесть собственное разумение разумению всех прочих и трудно, и чересчур дерзко. А в случае с хромым нам все ясно.
81
Нашему уму свойственно верить, а воле — хотеть; и если у них нет достойных предметов для веры и желания, они устремляются к недостойным.
82
Воображение. — Эта людская способность, вводящая в обман, сеющая ошибки и заблуждения, еще и потому так коварна, что порою являет правду. Если бы воображение неизменно лгало, оно было бы неизменным мерилом истины. Но, хотя оно почти всегда нас обманывает, уличить его в этом невозможно, так как оно метит одной метой и правду и ложь.
Я говорю не о глупцах, а о людях самых здравомыслящих — они-то чаще всего и подпадают под власть воображения. Сколько бы ни возражал разум, он бессилен открыть им глаза на истинную цену вещей.
Могучее и надменное, враждующее с разумом, который старается надеть на него узду и подчинить себе, воображение, в знак своего всевластия, создало вторую натуру в человеке. Среди подданных воображения есть счастливцы и несчастливцы, святые, болящие, богачи, бедняки; оно принуждает разум верить, сомневаться, отрицать, умерщвляет чувства, обостряет их, умудряет людей, сводит с ума и, что всего досаднее, дарует своим любимцам такое полное и глубокое довольство, какого никогда не испытать питомцам разума. Те, кого талантами наделило воображение, исполнены самомнения, недоступного людям благоразумным. Первые на всех взирают свысока, спорят с непререкаемой уверенностью, тогда как вторые возражают робко и неуверенно; к тому же на лицах мнимых мудрецов всегда разлито веселье, невольно располагающее к ним слушателей, и, уж конечно, они пользуются наилучшей славой у судей их собственной породы. Воображению не дано вложить ум в глупцов, зато оно наделяет их счастьем, на зависть уму, чьи друзья всегда несчастны, и венчает успехом, тогда как ум способен лишь покрыть позором.
Кто создает репутации, кто окружает почетом и уважением людей, их творения и законы, сильных мира сего? Какой малостью показались бы земные блага, когда бы воображение не придавало им цену!
Не кажется ли вам, что этот судья, чья достойная старость внушает почтение всему народу, руководствуется лишь одним высоким, нелицеприятным разумом и что суждения свои он составляет, вникая в суть и пренебрегая суетными обстоятельствами, которые действуют на воображение людей недалеких? Вот он входит в храм послушать проповедь, он преисполнен набожности, здравый смысл укреплен в нем милосердием. Вот он с примерным смирением приготовился внимать святым словам. Но если у проповедника окажется хриплый голос и не очень благообразное лицо, если он плохо выбрит цирюльником и вдобавок заляпан уличной грязью — какие бы великие истины он ни вещал, бьюсь об заклад, что наш сановник быстро потеряет свою внушительную сосредоточенность.
Поставьте мудрейшего философа на широкую доску над пропастью; сколько бы разум ни твердил ему, что он в безопасности, все равно воображение возьмет верх. Иные люди при одной мысли об этом побледнеют и покроются потом.
Не стоит распространяться обо всем, что с нами случается под воздействием воображения.
Все на свете знают, что многие словно теряют рассудок, увидев кошку или крысу, услышав, как скрипит под ногами уголь. Звучание голоса действует на самых разумных людей, и от него зависит, понравится ли им произнесенная речь или прочитанное стихотворение.
Благорасположение и ненависть меняют даже самое понятие о справедливости. Насколько справедливее кажется защитнику дело, за которое ему заранее щедро заплатили! А как потом его уверенные жесты влияют на судей, как он обманывает их видимостью! Хорош разум — игрушка ветра, откуда бы тот ни подул!
Я убежден, что почти все людские поступки совершаются под натиском воображения. Ибо самый ясный разум в конце концов сдается и следует, словно своим собственным, тем правилам, которые оно своевольно и повсеместно вводит.
Мишель Дориньи.
Арабески по рисунку Симона Вуэ (гравюра)
Французские судьи отлично знают это таинственное свойство воображения. Потому-то им и нужны красные мантии и горностаевые накидки, в которые они кутаются, словно Пушистые Коты{63}, и дворцы, где вершится правосудие, и изображение лилий{64} — вся эта торжественная бутафория. И не будь у лекарей черных одеяний и туфель без задка, а у ученых мужей — квадратных шапочек и широченных мантий, им не удавалось бы одурачивать мир, ну, а противостоять столь внушительному зрелищу люди не способны. Если бы судьи и впрямь умели судить по справедливости, а лекари — исцелять недуги, им не понадобились бы квадратные шапочки: глубина их познаний внушала бы почтение сама по себе. Но так как знания судей и лекарей лишь воображаемы, они волей-неволей принуждены прибегать к суетным украшениям, дабы поразить воображение окружающих, — и вполне достигают цели. А вот военным ни к чему подобный маскарад, их дело не выдуманное, они силой берут то, что другие получают, пуская в ход лицедейство.
Обходятся без маскарадных уборов и наши монархи. Они не обряжаются в диковинные одежды, зато их окружают телохранители, воины с алебардами. Эти ражие молодцы, чья сила, чьи мышцы безраздельно принадлежат венценосцам, эти трубачи и барабанщики, выступающие впереди эти вооруженные отряды, окружающие владык, наполняют тренетом даже самые отважные сердца: тут ведь не одна одежда, но и сила. И надо обладать очень возвышенным разумом, чтобы увидеть обыкновенного человека в турецком султане, окруженном всей роскошью сераля и сорока тысячами янычар.
Стоит нам увидеть правоведа в мантии и шапочке — и мы уже полны веры в его таланты.
Воображение распоряжается всем — красотой, справедливостью, счастьем, всем, что ценится в этом мире. Я очень бы хотел прочитать итальянскую книгу, известную мне только по названию, стоящему, впрочем, многих книг: «Delia opinione regina del mondo»[13]. Даже и не читая, я готов подписаться под ней — разумеется, если в ней все справедливо.
Вот приблизительно каковы следствия этой лживой способности, которая нам дана как будто лишь для того, чтобы безошибочно вводить в обман. Впрочем, других источников заблуждений у нас тоже предостаточно{65}.
Нас ослепляет не только привычность понятий, но и прелесть новизны. То и другое рождает бесчисленные споры с попреками равно и за приверженность ложным представлениям, внушенным в детстве, и за дерзкую погоню за новизной. Кто нашел золотую середину? Пусть он подаст голос, пусть докажет свою правоту. Не существует такого понятия, самого, казалось бы, неоспоримого, воспринятого чуть ли не с пеленок, о котором кто-нибудь не сказал бы, что оно ложно и порождено недостатком знаний или заблуждением чувств.
«Вы в детстве решили, — говорят одни, — что если ваши глаза ничего не видят в сундуке, значит, он пуст, и, таким образом, поверили в существование пустоты. Но это — обман чувств, поддержанный закоренелым предрассудком, и наука призвана его рассеять». А другие твердят: «Вас в школе учили, будто пустоты не существует{66}, вот и заставили замолчать здравый смысл, твердо знавший, что она есть, пока его не сбила с толку вредоносная наука; забудьте же ее и поверьте свидетельству чувств». Кто же все-таки нас обманывал? Здравый смысл или школьный учитель?
А вот еще один источник заблуждений — наши болезни. Они искажают и способность здраво судить, и показания чувств. Воздействие тяжких болезней неоспоримо, но я убежден, что и легкие недомогания пусть в меньшей степени, но все же влияют на нас.
Выгода тоже ослепляет нас, притом легко и приятно. Но будь человек воплощением беспристрастия, все равно он себе не судья. Я знавал людей, которые так боялись предвзятости, что впадали в противоположную крайность: например, готовы были отказать в самом справедливом ходатайстве, если за ходатая хлопотали их близкие.
Истина и справедливость — точки столь малые, что, метя в них нашими грубыми инструментами, мы почти всегда даем промах, а если и попадаем в точку, то размазываем ее и при этом прикасаемся ко всему, чем она окружена, — к неправде куда чаще, чем к правде.
84
Воображение так преувеличивает любой пустяк и придает ему такую невероятную цену, что он заполняет нам душу; с другой стороны, по своей бесстыжей дерзости оно преуменьшает до собственных пределов все истинно великое, — например, образ бога.
85
То, что порою больше всего волнует нас, — например, опасение, как бы кто-нибудь не проведал о нашей бедности, — часто оказывается сущей безделицей. Это песчинка, раздутая воображением до размеров горы. А стоит ему настроиться на другой лад — и мы с легкостью рассказываем о том, что прежде таили.
88
Дети, которые намалюют рожу, а потом сами же ее пугаются, всего-навсего дети; но возможно ли, чтобы существо, столь слабое в детстве, повзрослев, стало очень сильным? Нет, оно просто меняет один призрак на другой. Что постепенно совершенствуется, то столь же постепенно клонится к гибели, что было слабым, то никогда не станет поистине сильным. И пусть твердят — «он вырос, он изменился» — нет, он тот же, что и был.
91
Spongia solis[14]{67}. — Когда одно явление неизменно следует за другим, мы сразу делаем вывод, что таков, значит, закон природы: например, что завтра утром обязательно рассветет. Но иной раз природа устраивает нам подвох и не подчиняется собственным правилам.
92
Что такое наши врожденные понятия, как не понятия привычные? Разве дети не усваивают их от родителей, как животные — умение охотиться?
Противоположные привычки порождают противоположные врожденные понятия, чему есть множество примеров; если и существуют понятия, которые не может искоренить никакая привычка, то ведь есть и привычки, противные природе, но не подвластные ни ей, ни более поздней привычке. Это уж зависит от склада характера.
93
Родители боятся, как бы врожденная любовь детей к ним с течением времени не изгладилась. Но как может изгладиться врожденное чувство? Привычка — наша вторая натура, и она-то меняет натуру первоначальную. Но что такое человеческая натура? И разве привычка не натуральна в человеке? Боюсь, что эта натура — наша самая первая привычка, меж тем как привычка — наша вторая натура.
94
В людской натуре все от естества, опте animal. Любое чувство может превратиться как бы во врожденное, любое врожденное чувство может изгладиться.
97
Что может быть важнее в человеческой жизни, чем выбор ремесла, а меж тем его решает случай. Каменщиками, солдатами, кровельщиками люди становятся потому, что так повелось. «Он отличный кровельщик», — говорят одни и добавляют, когда речь заходит о солдатах: «Вот уж глупцы!» Другие, напротив, утверждают: «Только воины занимаются стоящим делом, остальные просто шалопаи». Дети слышат, как хвалят одно ремесло и хулят другие, и вот выбор их сделан: ведь так естественно любить истину и презирать безрассудство! Нас глубоко трогают эти понятия, и ошибаемся мы, лишь когда применяем их в жизни. Сила обычая такова, что рожденные просто людьми сразу превращаются в людей, обреченных какому-нибудь ремеслу: в одной местности все поголовно каменщики, в другой — солдаты и так далее. Разумеется, людская натура не так однообразна, следовательно, дело в обычае, который ее одолевает. Но случается все же и ей брать верх, и тогда человек следует своим склонностям наперекор обычаю, хорош он или плох.
99
Поступки, продиктованные волей, всегда и во всем отличаются от всех прочих.
Без воли не было бы и верований, но не потому, что она их творит, а потому, что истинность или ложность любого понятия зависит от точки зрения. Воля, отдающая предпочтение одной из них, закрывает нам глаза на остальные, поэтому разум, неразрывно связанный с волей, вникает лишь в то, что ею одобрено, и, значит, судит, основываясь на том, что ему в данную минуту зримо.
100
Себялюбие. — Суть себялюбия и вообще человеческого «я» в том, что оно любит только себя и печется только о себе. Но как ему быть? Не в его власти исцелить этот возлюбленный предмет от множества недостатков и слабостей. «Я» хочет видеть себя великим, а сознает, что ничтожно, счастливым, а само несчастно, совершенным, а преисполнено несовершенств, всеми любимым и уважаемым, а видит, что его недостатки вызывают в людях негодование и презрение. Это противоречие рождает в человеке самую несправедливую и преступную из всех страстей: смертельную ненависть к правде, которая, не сдаваясь, неотступно твердит о его недостатках. Он жаждет уничтожить правду, а увидев, что ему это не под силу, старается ее вытравить и из своего сознания, и из сознания окружающих, то есть прилежно скрывает свои недостатки от себя и от ближних и негодует на того, кто указывает ему на них или хотя бы их видит.
Разумеется, очень плохо быть преисполненным недостатков, но еще хуже не признаваться в них, иными словами — сознательно вводить в заблуждение. Мы не хотим, чтобы ближние нас обманывали, считаем несправедливыми их притязания на уважение большее, чем они того заслуживают; значит, обманывая их и притязая на незаслуженное уважение, мы тоже поступаем несправедливо.
Поэтому, когда люди указывают нам на недостатки и пороки, которыми мы, действительно, страдаем, они, разумеется, не только не причиняют нам зла, ибо ничуть не повинны в этих недостатках, но, напротив, делают добро, помогая исцелиться от недуга, состоящего в неведении своих несовершенств. И мы не смеем гневаться на людей за то, что они видят наши слабости и презирают нас, ибо справедливость требует, чтобы, зная нашу истинную природу, они презирали нас, если мы заслуживаем презрения.
Вот какие чувства должны бы возникнуть в сердце подлинно нелицеприятном и справедливом. А что сказать о нашем собственном сердце, в котором гнездятся чувства прямо противоположные? Ибо кто станет отрицать, что мы ненавидим правду и говорящих ее и, напротив, любим, когда люди заблуждаются насчет нас, но, разумеется, в нашу пользу, и стараемся казаться им не такими, каковы мы на самом деле?
Вот еще доказательство моей правоты, и оно повергает меня в ужас. Католическая религия не требует громогласного и публичного покаяния в грехах, она позволяет утаивать их от всех, кроме одного человека: лишь ему мы обязаны открыть всю подноготную, показать себя в истинном свете. Она запрещает нам вводить в обман его и только его, а ему приказывает так свято блюсти тайну, что мы словно бы ни в чем и не признавались. Невиданное милосердие, невиданная кротость! Но развращенность человека такова, что и это требование он находит слишком суровым, и оно стало одной из главных причин бунта, поднятого многими европейскими странами против истинной церкви{68}.
Как же неразумны и до мозга костей порочны люди, если возмущаются требованием быть с одним-единственным человеком такими, какими по справедливости они должны быть со всеми! Ибо разве обманывать справедливо?
Большее или меньшее отвращение к правде присуще, видимо, всем без исключения, ибо неотъемлемо от себялюбия. И как это плачевно, что те, чья прямая обязанность увещевать ближних{69}, изворачиваются, идут на всякие уловки и ухищрения, только бы никого не обидеть. Они тщатся умалить недостатки, прикидываются, будто прощают их, выговор чередуют с похвалой, неустанно заверяют в своей приязни и уважении. Но лекарство не становится от этого слаще, и себялюбие пьет его маленькими глотками, всегда с неудовольствием, а нередко и с затаенной злобой на тех, кто его подносит.
Поэтому если человеку хочется расположить нас к себе, он не станет оказывать услугу, нам неприятную, и будет обходиться с нами так, как мы сами того желаем: скроет от нас правду, ибо мы ее ненавидим; начнет льстить, ибо мы жаждем лести; обманет, ибо мы любим обман.
Вот и получается, что с каждым шагом по пути мирского успеха мы на тот же шаг отдаляемся от правды, так как, чем полезнее людям наше расположение и опаснее неприязнь, тем больше они страшатся нас задеть. Монарх может стать посмешищем всей Европы, а он этого и не заподозрит. Что ж тут удивительного: правда идет на пользу тому, кто ее выслушивает, отнюдь не тому, кто говорит, и, значит, навлекает на себя ненависть. Меж тем царедворцы дорожат своей выгодой больше, нежели выгодой монарха, и не торопятся принести пользу ему в ущерб себе.
Разумеется, от этого злосчастного притворства больше всего страдают сильные мира сего, но, случается, его жертвами становятся и простые смертные: ведь всегда есть резон снискать людское расположение. И выходит, что наша жизнь — нескончаемая иллюзия: мы только и делаем, что лжем и льстим друг другу. В глаза нам говорят совсем не то, что за глаза. Людские отношения зиждутся на взаимном обмане, и как мало уцелело бы дружб, если бы каждый вдруг узнал, что говорят друзья за его спиной, хотя как раз тогда они искренни и беспристрастны.
Итак, человек — это сплошное притворство, ложь, лицемерие не только перед другими, но и перед собой. Он не желает слышать правду о себе, избегает говорить ее другим. И эти наклонности, противные разуму и справедливости, глубоко укоренились в его сердце.
101
Когда бы каждому стало известно все, что о нем говорят ближние, — я убежден, на свете не осталось бы и четырех искренних друзей. Подтверждение этому — ссоры, вызванные случайно оброненным, неосторожным словом.
102
Иные наши пороки — только отростки других, главных: они отпадут, как древесные ветки, едва вы срубите ствол.
103
Пример чистоты нравов Александра Великого куда реже склоняет людей к воздержанности, нежели пример его пьянства{70} — к распущенности. Совсем не зазорно быть менее добродетельным, чем он, и простительно быть столь же порочным. Нам мнится, не такие уж мы обычные распутники, если те же пороки были свойственны и великим людям, ибо никому не приходит в голову, что как раз в этом великие люди ничем не отличаются от простых смертных. Им подражают в том, в чем они подобны всем прочим, ибо при всей высоте натуры какая-то черта неизменно уравнивает их с ничтожнейшими из людей. Они не висят в воздухе, не оторваны от всего человечества — нет, они больше нас лишь потому, что на голову выше, но их ноги на том же уровне, что и наши, они попирают ту же землю. Этими конечностями они нисколько не возвышаются над нами, над малыми сими, над детьми, над животными.
104
Когда нами овладевает страсть, мы забываем о долге; если нам нравится книга, мы утыкаемся в нее, пренебрегая самыми насущными делами. Чтобы напомнить себе о них, следует заняться чем-нибудь очень докучным: тогда, под предлогом, что у нас есть дело поважнее, мы возвращаемся к исполнению долга.
105
Отдавая чье-либо творение на суд другому человеку, как трудно заранее не настроить его на тот или иной лад! Говоря: «По моему, это прекрасно», — или: «Мне это непонятно», — и прочее в этом роде, мы побуждаем воображение собеседника следовать за нами или, напротив, нам сопротивляться. Поэтому всего лучше молчать, — тогда он будет судить, исходя из самого себя, то есть из себя, каков он в эту минуту, и из тех внешних обстоятельств, к которым мы не причастны. Так или иначе, своего мнения мы ему не навяжем, если, конечно, пренебречь тем, что и молчание воздействует по-разному, в зависимости от оттенков смысла, которые этот человек пожелает из него извлечь, и от выводов, которые сделает из наших жестов, мимики, тона, и от его умения читать по лицам: вот до какой степени трудно не повлиять на суждение, или, вернее, до какой степени редко оно бывает твердым и независимым.
106
Узнав главенствующую страсть человека, мы уже уверены, что сможем ему понравиться, забывая, что у каждого без счета прихотей, идущих вразрез даже с его собственной выгодой, как он ее понимает: вот это сумасбродство человека и смешивает все карты в игре.
107
Lustravit lampade terras[15]{71}.— Погода мало влияет на расположение моего духа, — у меня свои собственные туманы и погожие дни. Порою они не зависят даже от хорошего или дурного оборота моих дел. Случается, я не дрогнув встречаю удары судьбы: победить ее так почетно, что я, вступая с ней в борьбу, сохраняю бодрость духа, меж тем как иной раз, при самых благоприятных обстоятельствах, хожу как в воду опущенный.
108
Пусть человеку нет никакой выгоды лгать — это еще не значит, что он говорит правду: лгут просто во имя лжи.
109
Когда человек здоров, ему непонятно, как это живут больные люди, а когда расхварывается, он глотает лекарства и даже не морщится: к этому его побуждает недуг. Нет у него больше страстей, нет желания пойти погулять, развлечься, рождаемого здоровьем, но несовместного с недугом. Теперь у него другие страсти и желания, они соответствуют его состоянию и рождены все той же природой. Но вот страхи рождены не природой, а нами самими, и они потому так мучительны, что заставляют терзаться страстями, не свойственными нашему теперешнему состоянию.
109 бис
По самой своей натуре мы несчастны всегда и при всех обстоятельствах, ибо когда желания рисуют нам идеал счастья, они сочетают наши нынешние обстоятельства с удовольствиями, нам сейчас недоступными. Но вот мы обрели эти удовольствия, а счастья не прибавилось, потому что изменились обстоятельства, а с ними — и наши желания.
110
Человек чувствует, как тщетны доступные ему удовольствия, но не понимает, как суетны чаемые; в этом причина людского непостоянства.
111
Непостоянство. — Многие считают, что человек отзывается на прикосновение, как обыкновенный орган. Он и впрямь орган, но причудливый, прихотливый. Кто умеет играть только на обыкновенных органах, не извлечет согласных звуков из этого инструмента: надо знать расположение всех его регистров.
112
Непостоянство. — У предметов множество свойств, у души множество склонностей; все, что ей открывается, непросто, и сама она, открываясь, всегда является непростой. Поэтому одно и то же вызывает у человека то смех, то слезы.
115
Многообразие. — Богословие — это наука, но сколько в нем сочетается наук! Человек — совокупность органов, но если его расчленить, окажется ли человеком каждый орган? Голова, сердце, вены, каждая вена, каждый ее отрезок, кровь, каждая ее капля?
Город или деревня издали кажутся городом или деревней, но стоит подойти поближе — и мы видим дома, деревья, черепицу, листья, траву, муравьев, муравьиные ножки, и так до бесконечности. И все это входит в слово «деревня».
116
Мысли. — Все едино, все многообразно. Сколько разных натур в одной человеческой натуре! Сколько разных призваний! А человек выбирает себе занятие наобум, просто потому, что кто-то это занятие похвалил. Хорошо сработанный башмачный каблук.
117
Башмачный каблук. — «Как ловко сработан этот каблук!» — «Какой искусный мастер!» — «Какой храбрый солдат!» Вот источник наших склонностей, вот под влиянием чего мы выбираем себе занятие. «Он пьет и не пьянеет!» — «Он совсем не пьет!» Вот как люди становятся пьяницами, трезвенниками, солдатами, трусами и т. д.
119
Природа повторяет себя: зерно, посеянное в тучную землю, плодоносит; мысль, посеянная в восприимчивый ум, плодоносит; числа повторяют пространство, хотя так от него отличны.
Все создано и определено единым творцом: корни, ветви, плоды; причины, следствия.
121
Природа беспрестанно возобновляет одно и то же — годы, дни, часы; пространства, равно как и числа, непрерывно следуют одно за другим. И таким образом получается своего рода бесконечность и вечность. Не то чтобы все это в отдельности было бесконечно и вечно, но величины, сами по себе конечные, бесконечно умножаются. Так что, на мой взгляд, бесконечно только умножающее их число.
122
Время потому исцеляет скорби и обиды, что человек меняется: он уже не тот, кем был. И обидчик и обиженный стали другими людьми. Точь-в-точь как разгневанный народ: взгляните на него через два поколения — это по-прежнему французы, но они уже совсем другие.
123
Он уже не любит эту женщину, любимую десять лет назад. Еще бы! И она не та, что прежде, и он не тот. Он был молод, она тоже; теперь она совсем другая. Ту, прежнюю, он, быть может, все еще любил бы.
124
Всякий раз мы смотрим на вещи не только с другой стороны, но и другими глазами — поэтому и считаем, что они переменились.
125
Противоречия. — Человек по своей натуре доверчив, недоверчив, робок, отважен.
126
Описание человека: зависимость, жажда независимости, надобности.
127
Состояние человека: непостоянство, тоска, тревога.
128
Человек тоскует, если ему приходится бросать то, к чему он пристрастился. Некто вполне доволен своим домашним очагом; но вот он встретил женщину и увлекся ею или несколько дней с удовольствием играл в карты. Заставьте его вернуться к прежнему кругу занятий, и он почувствует себя несчастным. История из самых обыденных.
129
Суть человеческого естества — в движении. Полный покой означает смерть.
130
Беспокойство. — Солдат пеняет на тяготы своего занятия, пахарь — на тяготы своего и т. д. Но попробуйте обречь их на безделье!
131
Тоска. — Всего невыносимей для человека покой, не нарушаемый ни страстями, ни делами, ни развлечениями, ни занятиями. Тогда он чувствует свою ничтожность, заброшенность, несовершенство, зависимость, бессилие, пустоту. Из глубины его души сразу выползают беспросветная тоска, печаль, горечь, озлобление, отчаянье.
132
На мой взгляд, Цезарь был слишком стар для такой забавы, как завоевание мира. Она к лицу Августу или Александру{72}: эти были молоды, а молодых людей трудно обуздать; но Цезарь, казалось бы, должен был проявить большую зрелость ума.
133
Два похожих лица, ничуть не смешных по отдельности, смешат своим сходством, когда они рядом.
134
Как суетна та живопись, которая восхищает нас точным изображением предметов, отнюдь не восхищающих в натуре!
135
В сражении нас привлекает самое сражение, а не его победоносный конец: мы любим смотреть на бои животных, но не на победителя, терзающего жертву. Чего, казалось бы, нам ждать, как не победы? Однако стоит ее дождаться — и мы сыты по горло. Так же обстоит дело и с любой игрой, и с поисками истины. Мы любим следить за столкновением несхожих мнений, но вот обдумать найденную истину — нет уж, увольте! Она доставляет нам удовольствие лишь тогда, когда при нас рождается в спорах. И со страстями то же самое: мы жадно следим за их противоборством, но вот одна взяла верх — и какое это грубое зрелище! Нас волнует не суть явлений, а лишь поиски сути. Поэтому так претят те сцены в комедиях, где довольство не сдобрено тревогой, несчастье надеждой, где только и есть, что грубое вожделение или безжалостная жестокость.
136
Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние.
137
Мы поймем смысл всех людских занятий, если вникнем в суть развлечения.
139
Развлечение. — Я неоднократно размышлял о том, сколько беспокойств, опасностей и невзгод навлекают на себя люди, живя при дворе или сражаясь на войне, о вечных распрях, неистовствах, дерзких, а порою и преступных замыслах и т. д., — и пришел к выводу, что главная беда человека — в его неспособности к домоседству. Если бы тот, у кого довольно средств для безбедного существования, умел, не томясь, жить в своем углу, разве пускался бы он в плавания или принимал бы участие в осаде крепостей? Он лишь потому транжирит деньги, покупая воинские должности, что ему не сидится на месте, и лишь потому ищет, с кем бы поболтать и перекинуться в карты, что скучает дома.
Но потом я глубже вник в эту бедственную людскую особенность, мне захотелось докопаться до причины, лежащей в ее основе, и такая причина, действительно, нашлась, и очень серьезная: она коренится в изначальной бедственности нашего положения, в хрупкости, смертности и такой ничтожности человека, что стоит подумать об этом — и уже ничто не может нас утешить.
Из всех положений, обильных благами, доступными смертным, положение монарха, очевидно, наизавиднейшее. Он ублаготворен во всех своих желаниях, но попробуйте лишить его развлечений, предоставить думам и размышлениям о том, что он такое, — и это бездеятельное счастье рухнет{73}, он невольно погрузится в мысли об угрозах судьбы, о возможных мятежах, наконец, о смерти и неизбежных недугах. И окажется, что, лишенный развлечений, монарх несчастен, несчастнее, чем самый жалкий его подданный, который предается играм и другим развлечениям.
Вот почему люди так ценят игры и болтовню с женщинами, так стремятся попасть на войну или занять высокую должность. Не в том дело, что они рассчитывают найти в этом счастье, что верят, будто в карточном выигрыше или затравленном зайце и впрямь скрыто истинное блаженство: им не нужен ни этот выигрыш, ни этот заяц. Мы ищем не того мирного и ленивого существования, которое оставляет сколько угодно досуга для мыслей о нашей горестной судьбе, не военных опасностей и должностных тягот, но треволнений, развлекающих нас и уводящих прочь от мучительных раздумий.
Вот почему люди так любят шум и движение, вот почему им так непереносимо тюремное заключение и так непонятны радости одиночества. Величайшее преимущество монарха в том и состоит, что его наперебой стараются развлечь и доставить ему все существующие на свете удовольствия.
Монарх окружен людьми, чья единственная забота — веселить его и отвлекать от мыслей о себе. Ибо, хотя он и монарх, эти мысли повергают его в скорбь.
Вот и все, что, в поисках счастья, смогли придумать люди. Как же мало понимает человеческую натуру тот, кто с глубокомысленным видом возмущается столь неразумным времяпровождением, как целодневная охота на зайца, которого те же самые охотники погнушались бы купить! Все дело в том, что заяц не спасает от видения грядущих горестей и смерти, меж тем как охота на него спасает, не оставляя досуга ни для каких мыслей.
Когда Пирру, пытавшемуся обрести покой{74} в воинских трудах, посоветовали искать его в бездействии, исполнить этот совет оказалось не так-то просто.
Поэтому, возражая на упрек — зачем, мол, они сломя голову гоняются за каким-то зайцем, хотя он им совершенно не нужен, — охотники должны были бы сказать, что просто ищут трудного и захватывающего дела, которое отвлекло бы их от мыслей о себе, придумывают приятное, увлекательное занятие, чтобы уйти в него с головой. Столь разумным возражением они поставили бы своих противников в тупик. Но оно не приходит охотникам в голову, потому что они не разбираются в себе. Им невдомек, что главная их цель — сама охота, а не добыча.
Люди воображают, что обретут покой, если добьются такой-то должности, забывая, как ненасытна их алчность, и чистосердечно верят, что только к этому покою и стремятся, хотя в действительности ищут одних лишь треволнений.
Безотчетное чувство толкает их в погоню за мирскими развлечениями и занятиями, и происходит это потому, что они непрерывно ощущают горесть своего бытия. А другое безотчетное чувство — наследие, доставшееся нам от нашей первоначальной, непорочной натуры, — подсказывает, что счастье не в житейском водовороте, а в покое. Столкновение столь противоречивых чувств рождает в людях смутное, неосознанное желание искать бури во имя покоя, равно как и надежду, что, победив еще какие-то трудности, они обретут наконец вечно ускользающее счастье и проложат путь к душевному умиротворению.
Так проходит вся человеческая жизнь. Мы преодолеваем препятствия, дабы достичь покоя, но, едва справившись с ними, начинаем тяготиться этим покоем, ибо, ничем не занятые, попадаем во власть мыслей о бедах уже нагрянувших или грядущих. Но будь мы защищены от любых бед, томительная тоска, искони коренящаяся в человеческом сердце, пробилась бы наружу и напитала бы ядом наш ум.
Человек до того несчастен, что томится тоской даже без всякой причины, просто в силу особого своего положения в мире, и до того суетен, что, сколько бы у него ни было самых основательных причин для тоски, способен развлечься такой малостью, как игра в биллиард или мяч.
«Но какой для него смысл в этой игре?» — спросите вы. А такой, что завтра он сможет похвалиться перед друзьями, — мол, обыграл такого-то. И вот одни лезут вон из кожи в своих кабинетах, тщась блеснуть перед учеными решением никем до сих пор не решенной алгебраической задачи, другие — на мой взгляд не менее глупые — подвергают себя смертельной опасности, чтобы похвастаться одержанной победой, и, наконец, третьи тратят все силы, стараясь запомнить эти события, но не затем, чтобы извлечь из них урок мудрости, а только чтобы показать свою осведомленность, и уж эти — самые глупые из всей честной компании, потому что они глупы со знанием дела, тогда как другие, быть может, глупы по неведению.
Иной человек живет, не ведая тоски, потому что ежедневно играет по маленькой. Но попробуйте выплачивать ему каждое утро столько денег, сколько он мог бы выиграть за день, запретив при этом играть, — и он почувствует себя несчастным. Мне, вероятно, возразят, что играет он не для выигрыша, а для развлечения. В таком случае позвольте ему играть, но не на деньги — и опять он быстро затоскует, ибо в этой игре не будет азарта. Значит, развлечение развлечению рознь: тягучее, не оживленное страстью, оно никому не нужно. Человек должен увлечься, должен обмануть себя, убедив, будто обретет счастье, выиграв деньги, хотя не взял бы их, если бы взамен пришлось отказаться от игры, должен выдумать себе цель и потом страстно стремиться к ней, попеременно испытывая из-за этой выдуманной цели алчность, злобу, страх, уподобляясь ребенку, который пугается рожи, им самим намалеванной.
Как могло случиться, что этот господин, недавно утративший единственного сына и еще утром подавленный тяжбой и всяческими дрязгами, сейчас забыл обо всем на свете? Не удивляйтесь: он поглощен вопросом, куда ринется вепрь, которого уже шесть часов травят собаки. Этого вполне достаточно. Как бы ни был опечален человек, но придумайте для него развлечение — и он на время обретет счастье, и как бы ни был счастлив человек, отнимите у него все забавы и развлечения, не дающие возможности задумываться, и он сразу помрачнеет и почувствует себя несчастным. Нет развлечений — нет радости, есть развлечения — нет печали. Счастье сильных мира сего в том и состоит, что у них никогда не бывает недостатка в развлечениях и развлекателях.
А вот еще пример. Не потому ли стоит быть суперинтендантом, канцлером, председателем суда, что к ним с утра до ночи стекаются посетители, не оставляя ни единого часа на дню, когда они могли бы подумать о себе? И какими несчастными и покинутыми чувствуют себя эти люди, когда, попав в опалу, принуждены жить в собственных поместьях, хотя у них там вдоволь добра и заботливых слуг: теперь-то им уже никто не мешает отдаваться мыслям о собственной судьбе.
143
Развлечение. — Человек с самого детства только и слышит, что он должен печься о собственном благополучии и добром имени и о своих друзьях, и вдобавок о благополучии и добром имени этих друзей. Его обременяют занятиями, изучением языков, телесными упражнениями, неустанно внушая, что не быть ему счастливым, если он и его друзья не сумеют сохранить в должном порядке здоровье, доброе имя, имущество, и что малейшая нужда в чем-нибудь сделает его несчастным. И на него обрушивают столько дел и обязанностей, что от зари до зари он в суете и заботах. «Что за диковинный способ вести человека к счастью, — скажете вы. — Вернейший, чтобы сделать его несчастным!» — Как, вернейший? Есть куда вернее: отнимите у него эти заботы, и он начнет думать, что он такое, откуда пришел, куда идет, — вот почему его необходимо с головой окунуть в дела, отвратив от мыслей. И потому же, придумав для него множество важных занятий, ему советуют каждый свободный час посвящать играм, забавам, не давать себе ни минуты передышки.
Как пусто человеческое сердце и сколько нечистот в этой пустоте!
144
Я потратил много времени на изучение отвлеченных наук, но потерял к ним вкус — так мало они дают знаний. Потом я стал изучать человека и понял, что отвлеченные науки вообще чужды его натуре и что, занимаясь ими, я еще хуже понимаю, каково мое место в мире, чем те, кому они неведомы. И я простил этим людям их незнание. Но я полагал, что не я один, а многие заняты изучением человека и что иначе и быть не может. Я ошибался: даже математикой — и той занимаются охотнее. Впрочем, к последней, да и к другим наукам обращаются только потому, что не знают, как приступиться к первой. Но вот о чем стоит задуматься: а нужна ли человеку и эта наука и не будет ли он счастливее, если ничего не узнает о себе?
146
Человек, несомненно, сотворен для того, чтобы думать: в этом и главное его достоинство, и главное дело жизни, а главный долг в том, чтобы думать благообразно. И начать ему следует с размышлений о себе самом, о своем создателе и о своем конце.
Но о чем думают люди? Вовсе не об этом, а о том, чтобы поплясать, побряцать на лютне, снеть песню, сочинить стихи, поиграть в кольцо и т. д., повоевать, добиться королевского престола, и ни на минуту не задумываются над тем, что это такое: быть королем, быть человеком.
147
Мы не довольствуемся нашей подлинной жизнью и нашим подлинным существом, — нам надо создать в представлении других людей некий воображаемый образ, и ради этого мы стараемся казаться. Не жалея сил, мы постоянно приукрашиваем и холим это воображаемое «я» в ущерб «я» настоящему. Если нам свойственно великодушие, или спокойствие, или умение хранить верность, мы торопимся оповестить об этих свойствах весь мир и, дабы украсить ими нас выдуманных, готовы отнять их от нас подлинных; мы даже не прочь стать трусами, лишь бы прослыть храбрецами. Неоспоримый признак ничтожества нашего «я» в том и состоит, что оно не довольствуется ни самим собою, ни своим выдуманным двойником и часто меняет их местами! Ибо кто не согласился бы умереть ради сохранения чести, тот прослыл бы негодяем.
148
Мы так тщеславны, что хотели бы прославиться среди всех людей, населяющих землю — даже среди тех, что появятся, когда мы уже исчезнем; мы так суетны, что забавляемся и довольствуемся доброй славой среди пяти-шести близких нам людей.
149
Никто не старается завоевать добрую славу в городе, где он лишь прохожий, но очень заботится о ней, если ему приходится осесть там хоть на малый срок. А на какой все-таки? На срок, соразмерный нашему мимолетному и бренному пребыванию в этом мире.
150
Суетность так укоренилась в нашем сердце, что, будь то солдат или подмастерье, повар или грузчик, все равно он станет расхваливать себя и искать почитателей. Хотят почитателей все — даже философы; пишущие в осуждение суетности хотят похвалы за то, что так хорошо осудили ее, а читающие — за то, что прочли их сочинения; и я, пишущий эти строки, тоже, быть может, хочу похвалы, и, быть может, ее захотят и мои читатели…
152
Гордыня. — Любознательность — это та же суетность. Чаще всего люди стремятся приобрести знания, чтобы потом ими похваляться. Никто не стал бы плавать по морям ради одного удовольствия повидать их; нет, плавают, чтобы потом рассказать о виденном, поразглагольствовать о нем.
153
О желании снискать уважение ближних. — Невзирая на горести, заблуждения и т. д., мы одержимы гордыней, вошедшей в нашу плоть и кровь, и с радостью отдадим все, вплоть до жизни, лишь бы привлечь к себе внимание.
Суета сует: игра, охота, хождение по гостям и театрам, ложная забота об увековечивании имени.
155
Даже именитейшему вельможе весьма полезно обзавестись истинным другом, ибо друг будет расточать ему похвалы и стоять за него горой не только при нем, но и в его отсутствие. Лишь бы не ошибиться в выборе, потому что если он добьется дружбы дурака, проку от этого не будет никакого, сколько бы тот его ни превозносил. Впрочем, дурак и превозносить не станет, если не встретит поддержки: все равно, с его суждениями никто не считается, так что лучше уж он позлословит за компанию.
156
Ferox gens, nullam esse vitam sine armis rati[16]{75}. Одни предпочитают смерть мирной жизни, другие — войне.
Люди готовы пожертвовать жизнью ради любого убеждения, хотя, казалось бы, любовь к ней так сильна и так естественна.
157
Противоречие: пренебрежение собственной жизнью, готовность умереть во имя любой безделицы, ненависть к собственной жизни.
158
Ремесла. — Слава так притягательна, что люди готовы платить за нее чем угодно, даже жизнью.
159
Похвальнее всего те добрые дела, которые остаются в тайне. Читая о них в истории (например, стр. 184){76}, я всегда очень радуюсь. Но, как видно, они остались не совсем в тайне, — кто-то о них проведал; и пусть человек искренне старался их скрыть, щелочка, через которую они просочились, все портит. Лучшее в добрых делах — это желание их утаить.
160
Чихает ли человек, справляет ли надобность — на это уходят все силы его души, но действия эти непроизвольны, стало быть, нисколько не умаляют величия человека. И хотя он делает это сам, но делает невольно, не ради помянутых действии, а совсем по другой причине, так что на этом основании нельзя обвинять его в слабости и рабском подчинении чему-то недостойному.
Человеку не зазорно склониться под властью горя, но зазорно склониться под властью наслаждения. И не в том дело, что горе к нам приходит, а наслаждения мы ищем сами, нет, горе тоже можно искать, и предаваться ему, и при этом нисколько себя не унижать. Но почему же все-таки разум сохраняет достоинство, предаваясь горю, но позорит себя, предаваясь наслаждению? Да потому, что горе не пытается нас соблазнить, не вводит в искушение, мы сами склоняемся перед ним, сами признаем его власть и, значит, продолжаем оставаться хозяевами положения, а если подчиняемся, то лишь самим себе. А вот наслаждаясь, мы становимся рабами наслаждения. Умение владеть, распоряжаться собой всегда возвеличивает человека, рабство всегда его унижает.
161
Суета сует. — Люди живут в таком полном непонимании суетности всей человеческой жизни, что приходят в полное недоумение, когда им говорят о бессмысленности погони за почестями. Ну, не поразительно ли это!
162
Чтобы до конца осознать всю суетность человека, надо уяснить себе причины и следствия любви. Причина ее — «неведомо что» (Корнель){77}, а следствия ужасны. И это «неведомо что», эта малость, которую и определить-то невозможно, сотрясает землю, движет монархами, армиями, всем миром.
Нос Клеопатры{78}: будь он чуть покороче — облик земли стал бы иным.
165
Мысли. In omnibus requiem quaesivi[17]. — Будь мы поистине довольны нашим земным существованием, нам не приходилось бы все время отвлекаться от него мыслями, дабы почувствовать хоть какое-то довольство.
166
Развлечение. — Легче умереть, не думая о смерти, чем думать о ней, даже когда она не грозит.
168
Развлечение. — Люди не властны уничтожить смерть, горести, полное свое неведенье, вот они и стараются не думать об этом и хотя бы таким путем обрести счастье.
171
Горе. — Развлечение — единственная наша утеха в горе и вместе с тем величайшее горе: мешая думать о нашей судьбе, оно незаметно ведет нас к гибели. Не будь у нас развлечения, мы ощутили бы такую томительную тоску, что постарались бы исцелить ее средством не столь эфемерным. Но развлечение забавляет нас, и мы, не замечая того, спешим к смерти.
172
Мы никогда не живем настоящим, все только предвкушаем будущее и торопим его, словно оно опаздывает, или призываем прошлое и стараемся его вернуть, словно оно ушло слишком рано. Мы так неразумны, что блуждаем во времени, нам не принадлежащем, пренебрегая тем единственным, которое нам дано, и так суетны, что мечтаем об исчезнувшем, забывая об единственном, которое существует. А дело в том, что настоящее почти всегда тягостно. Когда оно печалит нас, мы стараемся закрыть на него глаза, а когда радует — горюем, что оно ускользает. Мы тщимся продлить его с помощью будущего, пытаемся распорядиться тем, что не в нашей власти, хотя, быть может, и не дотянем до этого будущего.
Покопайтесь в своих мыслях, и вы найдете в них только прошлое и будущее. О настоящем мы почти не думаем, а если и думаем, то в надежде, что оно подскажет нам, как разумнее устроить будущее. Мы никогда не ограничиваем себя сегодняшним днем: настоящее и прошлое лишь средства, единственная цель — будущее. Вот и получается, что мы никогда не живем, а лишь располагаем жить и, уповая на счастье, так никогда его и не обретаем.
173
Они твердят, будто затмения предвещают беду, но беды так обыденны, так часто постигают нас, что предсказатели неизменно угадывают; меж тем, если бы твердили, что затмения предвещают счастливую жизнь, они так же неизменно ошибались бы. Но счастливую жизнь они предсказывают лишь при редчайшем расположении светил, так что и тут почти никогда не ошибаются.
174
Горестность. — Горестность человеческой судьбы лучше всего постигли и выразили словами Соломон и Иов — счастливейший и несчастнейший из смертных{79}. Один испытал легковесность наслаждений, другой — тяжесть несчастья.
175
Люди так плохо понимают себя, что ждут смерти, когда совершенно здоровы, или, напротив, считают себя здоровыми, когда их смерть уже на пороге, не чувствуют ни приближения горячки, ни назревания нарыва.
176
Кромвель грозил стереть с лица земли всех истинных христиан; он уничтожил бы королевское семейство и привел бы к власти свое собственное{80}, если бы в его мочеточнике не оказалась крупица песка. Несдобровать бы даже Риму, но вот появилась эта песчинка, Кромвель умер, его семейство вернулось в ничтожество, водворился мир, король снова на троне.
177
Разве поверил бы тот, кто был в дружбе с английским королем, с польским королем и шведской королевой{81}, что когда-нибудь он может остаться без пристанища?
180
У великих и малых мира сего одни и те же злоключения, обиды и страсти, только одних судьба поместила на ободе вертящегося колеса, а других — поближе к ступице, так что им легче устоять на ногах.
181
Мы так жалки, что сперва радуемся удаче, потом терзаемся, когда она изменяет нам, а это может случиться — и случается — чуть ли не каждый день. Кто научился бы радоваться удаче и не горевать из-за неудачи, тот сделал бы удивительное открытие, — все равно что изобрел бы вечный двигатель.
182
Когда человек, занятый каким-нибудь докучным делом, твердо рассчитывает на его счастливый исход, радуется малейшему проблеску надежды и в то же время нисколько не огорчается неудачам, тогда позволительно думать, что он не прочь бы проиграть это дело: он преувеличивает любой благоприятный признак, чтобы выказать крайнюю свою заинтересованность и деланной радостью скрыть подлинную, вызванную тайной уверенностью, что дело-то проиграно.
183
Мы беспечно устремляемся к пропасти, заслонив глаза чем попало, чтобы не видеть, куда бежим.
185
Всевышний обращает к вере умы — доводами, а сердца — благодатью, ибо оружие его — кротость. Но обращать умы и сердца силой и угрозами — значит наполнять их не верой, а ужасом{82}. Terrorem potius quam religionem[18]{83}.
198
Чувствительность человека к пустякам и бесчувственность к существенному — какая страшная извращенность!
199
Вообразите, что перед вами множество людей в оковах, и все они приговорены к смерти, и каждый день кого-нибудь убивают на глазах у остальных, и те понимают, что им уготована такая же участь, и глядят друг на друга, полные скорби и безнадежности, и ждут своей очереди. Такова картина человеческого существования.
203
Fascinatio nugacitatis[19]{84}.— Чтобы страсти не губили нас, будем вести себя так, словно нам отпущена неделя жизни.
205
Когда я размышляю о мимолетности моего существования, погруженного в вечность, которая была до меня и пребудет после, и о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мной, пространства, растворенного в безмерной бесконечности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне, — я трепещу от страха и спрашиваю себя, — почему я здесь, а не там, ибо нет причины мне быть здесь, а не там, нет причины быть сейчас, а не потом или прежде. Чей приказ, чей промысел предназначил мне это время и место? Menioria hospitis unius diei praetereuntis[20]{85}.
206
Меня ужасает вечное безмолвия этих пространств.
207
Сколько держав даже не подозревают о моем существовании!
208
Почему знания мои ограничены? Мой рост невелик? Срок на земле сто лет, а не тысяча? Почему природа остановилась на этом числе, а не на другом, хотя их бессчетное множество и нет оснований выбрать это, а не то и тому предпочесть это?
209
Разве ты перестанешь быть рабом оттого, что твой господин любит и превозносит тебя? Ты приносишь немалый доход, раб. Сегодня господин тебя превозносит, завтра прибьет.
210
Пусть сама комедия и хороша, но последний акт кровав: две-три горсти земли на голову — и конец. Навсегда.
211
До чего мы нелепы с нашим желанием найти опору в себе подобных! Такие же ничтожные, такие же бессильные, как мы, они нам не помогут: в смертный свой час человек одинок. Значит, и жить ему надобно так, словно он один на свете. Но станет ли он тогда строить себе роскошные палаты и т. д.? Нет, он сразу углубится в поиски истины. А не сделает этого, — что ж, значит, людское мнение для него дороже истины.
212
Течение времени. — Как страшно чувствовать, что течение времени уносит все, чем ты обладал!
215
Будем бояться смерти не в час опасности, а когда нам ничего не грозит: пусть человек до конца останется человеком.
219
Неоспоримо, что вся людская нравственность зависит от решения вопроса, бессмертна душа или нет. Меж тем философы, рассуждая о нравственности, отметают этот вопрос: они спорят лишь о том, как лучше провести отпущенный им час.
221
Атеисты должны утверждать только то, что совершенно очевидно, но разве очевидна материальность души?
225
Атеизм свидетельствует о силе ума, но силе весьма ограниченной.
229
Вот что я вижу и что приводит меня в смятение. Куда бы я ни поглядел, меня везде окружает мрак. Все, являемое мне природой, рождает лишь сомнение и тревогу. Если бы я не видел в ней ничего, отмеченного печатью божества, я утвердился бы в неверии; если бы на всем видел печать творца, успокоился бы, полный веры. Но я вижу слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы преисполниться уверенности, и сердце мое скорбит. Сколько раз я повторял, — если природа сотворена богом, пусть она неопровержимо подтвердит его бытие, а если подтверждения ее обманчивы, пусть их совсем не будет; пусть она убедит меня во всем или во всем разубедит, чтобы мне знать, чего держаться. Но я по-прежнему не понимаю, что я такое и что должен делать, не ведаю ни своего положения, ни долга. Сердце жаждет понять, где он — путь к истинному благу, и, во имя вечности, я готов на любые жертвы.
Я полон зависти к тем, кто верит и тем не менее живет в суете и нерадиво распоряжается сокровищем, которым я, — так, по крайней мере, мне кажется, — распорядился бы совсем иначе.
233
Бесконечность. Ничто. — Наша душа, брошенная в оболочку тела, находит там число, время, три измерения. Рассуждая об основе всего этого, она именует ее природой, необходимостью и ни во что другое не способна поверить.
Бесконечность не увеличится, если к ней прибавить единицу. Как не увеличится бесконечное мерило, если к нему прибавить одну пядь. Конечное при сопоставлении с бесконечным уничтожается, становится абсолютным небытием. Равно как и наш дух при сопоставлении его с богом и наша человеческая справедливость при сопоставлении ее с божественной справедливостью. Между нашей и божественной справедливостью не меньшая разница, чем между единицей и бесконечностью. Божественная справедливость должна быть столь же безграничной, как и божественное милосердие. Меж тем справедливость к грешникам не столь безгранична и потрясающа, как милосердие к избранникам.
Мы знаем, что бесконечность существует, но не ведаем, какова ее природа. Равно как понимаем, что числам нет конца и, следовательно, существует число, выражающее бесконечность. Но каково оно, мы не знаем: оно так же не может быть четом, как и нечетом, ибо не изменится, если к нему прибавить единицу; вместе с тем любое число должно быть либо четом, либо нечетом (правда, это относится только к конечным числам). Значит, мы можем знать, что бог существует, не ведая, что он такое.
Мы знаем множество истин, не охватывающих всю истину, почему же не может существовать всеобъемлющая истина?
Итак, мы постигаем существование и природу конечного, ибо сами конечны и протяженны, как оно. Мы постигаем существование бесконечного, но не ведаем его природы, ибо оно протяженно, как мы, но не имеет границ. Но мы не постигаем ни существования, ни природы бога, ибо он не имеет ни протяженности, ни границ. Только вера открывает нам его существование, только благодать — его природу. Но я уже показал, что, даже не постигая природы некоего явления, можно знать, что оно существует.
Теперь обсудим этот вопрос с точки зрения естественных наук.
Если бог существует, он бесконечно непостижим, ибо, будучи неделим и бесконечен, во всем отличен от нас. Следовательно, мы не можем постичь, какова его природа и существует ли он. Но раз так, кто дерзнет утверждать или отрицать его бытие? Не мы, ибо ни в чем не соотносимы с ним.
Как же можно осуждать христиан за то, что они не могут обосновать свои верования, — они, верующие в то, что не поддается обоснованию? Излагая их, они во всеуслышанье заявляют, что это — невнятица, stultitia; и после этого вы жалуетесь, что христиане ничего не доказывают! Начни христиане доказывать бытие божие, они были бы нечестны; говоря, что у них нет доказательств, они тем самым говорят, что у них есть здравый смысл. «Ну хорошо, если это служит оправданием тому, кто в таких словах излагает свою веру, и снимает с него обвинение в бездоказательности, то ни в коем случае не оправдывает того, кого убедила эта бездоказательность». Что ж, рассмотрим это возражение и скажем так: «Бог есть или его нет». Но как решить этот вопрос? Разум нам тут не помощник: между нами и богом — бесконечность хаоса. Где-то на краю этой бесконечности идет игра — что выпадет, орел или решка. На что вы поставите? Если слушаться разума — ни на то, ни на другое; если слушаться разума, ответа быть не может. Не осуждайте же того, кто сделал выбор, ибо вы ничего не знаете. «Не знаю и поэтому осуждаю не за то, что он сделал такой-то выбор, а за то, что вообще сделал выбор; заблуждается и тот, кто поставил на бога, и тот, кто поставил против него; единственно правильное — не рассуждать об этом». — «Да, но не играть нельзя; хотите вы того или не хотите, вас уже втянули в эту историю. На что же вы поставите? Поскольку приходится выбирать, подумайте, что для вас наименее существенно. Вам грозят два проигрыша — проигрыш истины и проигрыш добра, и на кон поставлены две ценности — ваш разум и ваша воля, ваши познания и вечное блаженство, и ваше естество отвращается от двух врагов — заблуждения и несчастья. Какой бы вы ни сделали выбор, ваш разум не будет унижен — ведь не играть вы не можете. Так что тут все ясно. Но как быть с вечным блаженством? Давайте взвесим ваш возможный выигрыш или проигрыш, если вы поставите на орла, то есть на бога. Выиграв, вы обретете все, проиграв, не потеряете ничего. Ставьте же, не колеблясь, на бога». — «Превосходно, поставить, пожалуй, надо; но не слишком ли много я поставлю?» — «Давайте подумаем. Мы уже знаем, каков шанс выигрыша и проигрыша в этой игре; вам есть смысл ставить на бога, даже если взамен одной жизни вы выиграете только две, тем паче (ведь отказаться от игры вы не можете) три; вы проявите великое неблагоразумие, если в игре с таким шансом выигрыша и проигрыша — а не играть вы не можете — откажетесь рискнуть одной жизнью во имя возможных трех. А ведь на кону и вечная жизнь, и вечное блаженство. Будь у вас всего один шанс из бесконечного множества, вы были бы правы, ставя одну жизнь против двух, и действовали бы не умно, если бы в этой неизбежной игре отказались поставить одну жизнь против трех, — а уж что говорить о шансе, пусть одном из бесконечного множества, выиграть бесконечно счастливую бесконечную жизнь! Но в нашем случае у вас шанс выиграть бесконечно счастливую бесконечную жизнь против конечного числа шансов проиграть то, что все равно конечно. Этим все и решается: там, где в игру замешана бесконечность, а возможность проигрыша конечна, нет места колебаниям, надо все поставить на кон. Таким образом, если не играть нельзя, лучше отказаться от разума во имя жизни, лучше рискнуть им во имя бесконечно большого выигрыша, столь же возможного, сколь возможно и небытие.
Ибо бессмысленно говорить, что выигрыш сомнителен, а риск несомненен, что бесконечное расстояние между несомненностью ставки и сомнительностью выигрыша уравнивает конечное благо, которым человек, несомненно, рискует, с бесконечным, но сомнительным выигрышем. Не в этом дело: в любой игре риск несомненен, а выигрыш сомнителен, и все-таки игрок с несомненностью рискует конечной ставкой ради конечного же выигрыша и при этом не погрешает против разума. Неверно, что между несомненностью поставленного на кон и сомнительностью выигрыша расстояние, равное бесконечности. Бесконечность, действительно, пролегает, но лишь между несомненностью выигрыша и несомненностью проигрыша. А вот сомнительность выигрыша прямо пропорциональна несомненности риска согласно соотношению, существующему между возможностью выиграть и возможностью проиграть. Отсюда следует, что если шансов выиграть столько же, сколько шансов проиграть, игра идет на равных, и, значит, несомненность того, что поставлено, равна сомнительности выигрыша; таким образом, расстояние между ними отнюдь не равно бесконечности. Поэтому, когда речь идет об игре с подобными шансами на выигрыш и проигрыш, с риском проиграть конечное и выиграть бесконечное, наше утверждение обладает бесконечной доказательностью. Это очевидно, и, если люди способны познать хоть какую-то истину, такая истина перед вами». — «Согласен, признаю, что вы правы. Но нет ли какой-нибудь возможности понять, что кроется за этой игрой?» — «Есть: читайте Евангелие и прочее и т. д.». — «Все это так, но у меня связаны руки и заткнут рот: меня принуждают играть и лишают свободы выбора, не дают вольно вздохнуть, а я так устроен, что не могу уверовать. Что прикажете мне делать?» — «Понимаю вас. Но хотя бы признайтесь себе в этой вашей неспособности, — ведь разум толкает вас к вере, а вы бессильны внять его советам. Старайтесь переделать себя, но не умножением доказательств бытия божия, а обузданием собственных страстей. Вы хотите прийти к вере, но не знаете пути к ней, хотите излечиться от безверия и просите лекарств; учитесь у тех, что были так же несвободны, как вы, а потом поставили на кон все, чем они располагали. Эти люди знают путь, который вы ищете, они исцелились от недуга, от которого хотите исцелиться и вы. Начните с того, с чего начали они: поступайте во всем так, будто уже уверовали, окропляйте себя святой водой, заказывайте обедни и т. д. Уже и это приведет вас к тому, что вы невольно уверуете и поглупеете.» — «Но этого я и боюсь». — «А чего тут бояться? Что вы теряете?
А как доказательство правильности такого поведения скажу, что оно поможет вам обуздать страсти — огромные камни преткновения на вашем пути к вере».
Конец рассуждения. — Что худого случится с вами, если вы решитесь на это? Вы станете честным, верным, смиренным, благодарным, добродетельным человеком, настоящим искренним другом. Да, разумеется, для вас будут заказаны низменные наслаждения, слава, сладострастие, но разве вы ничего не получите взамен? Говорю вам, вы много выиграете и в этой жизни, и с каждым шагом по такому пути все несомненнее будет для вас выигрыш и все ничтожнее то, против чего вы поставили на несомненность и бесконечность, ничем при этом не пожертвовав.
«Ваше рассуждение приводит меня в восторг, восхищает и т. д.».
«Если оно вам нравится и убеждает вас, знайте, так рассуждает человек, не перестающий на коленях молить то неделимое и бесконечное Существо, которому он безраздельно покорен, чтобы и вы были покорены во имя вашего блага и вящей славы этого Существа; вот так сила сочетается с подобной уничиженностью».
237
Непостижимо, что бог есть, непостижимо, что его нет; что у нас есть душа, что ее нет; что мир сотворен, что он нерукотворен; что первородный грех существует, что он не существует и т. д.
Выбор. — Человек должен устроить свою жизнь в согласии с одним из двух предположений: 1) что он будет жить вечно; 2) что срок его на земле мимолетен, — быть может, меньше часа; так оно и есть на самом деле.
253
Две крайности: зачеркивать разум, признавать только разум.
254
Людей частенько приходится упрекать в излишней мягкотелости. Порок, не менее присущий людям, чем недоверчивость, и столь же зловредный, — суеверие.
261
Кто не любит истину, тот отворачивается от нее под предлогом, что она оспорима, что большинство ее отрицает. Значит, его заблуждение сознательное, оно проистекает из нелюбви к истине и добру, и этому человеку нет прощения.
264
Людям не наскучивает каждый день есть и спать, потому что желание есть и спать каждый день возобновляется, а не будь этого, без сомнения, наскучило бы. Поэтому тяготится духовной пищей тот, кто не испытывает духовного голода. Алкание правды: высшее блаженство.
265
Вера говорит иное, чем наши чувства, но никогда не противоречит их свидетельствам. Она выше чувств, но не противостоит им.
Сколько звезд, неведомых философам былых времен, открыто с помощью подзорной трубы! А ведь эти философы выступали против Святого писания, утверждая: «На небе всего лишь тысяча двадцать две звезды{86}, мы это твердо знаем».
«На земле есть травы, мы их видим». — «Но с Луны не увидели бы». — «На этих травах паутинки, в паутинках насекомые — вот и все». — «Не слишком ли вы самонадеянны?» — «Сложные тела можно разложить на элементы, а элементы неразложимы». — «Не слишком ли вы самонадеянны? Ведь это совсем не простой вопрос». — «Чего не видишь, о том и говорить не следует». — «Говорите же, как все, но думайте по-своему».
267
Сила разума в том, что он признает существование множества явлений, ему непостижимых; он слаб, если не способен этого понять.
Ему часто непостижимы явления самые естественные, что уж говорить о сверхъестественных!
268
Повиновение. — Порою человек должен сомневаться, порою — твердо верить, порою — повиноваться общепринятому. Кто не следует этим правилам, тот неразумен. Люди часто их нарушают, веря всему, как доказанному, ибо ничего не понимают в доказательствах, или во всем сомневаясь, ибо не понимают, когда надо повиноваться общепринятому, или всему повинуясь, ибо не понимают, где надо пораскинуть собственным умом.
272
Ничто так не согласно с разумом, как его недоверие к себе.
293
«За что ты меня убиваешь?» — «Как за что? Друг, да ведь ты живешь на том берегу реки! Живи ты на этом, я и впрямь совершил бы неправое дело, злодейство, если бы тебя убил. Но ты живешь по ту сторону, значит, дело мое правое, и я совершил подвиг!»
294
…На какой основе построит он тот мир, которым хочет управлять? На чьей-то прихоти? Какая неразбериха! На высшей справедливости? Но он не знает, что такое высшая справедливость.
Если бы знал, разве придумал бы правило, что каждый должен следовать обычаям своей страны? И разве внедрилось бы оно в людские умы глубже всех других правил? Нет, свет истинной справедливости равно сиял бы для всех народов, и законодатели руководствовались бы только ею, а не брали бы за образцы прихоти и выдумки персиян или немцев. Она царила бы во все времена и во всех странах, тогда как на деле понятия справедливого и несправедливого меняются с изменением географических координат. На три градуса ближе к полюсу — и вся юриспруденция летит вверх тормашками; истина зависит от меридиана; несколько лет владения новой собственностью — и от многовековых установлений не остается камня на камне; право подвластно времени; Сатурн, вошедший в созвездие Льва, знаменует очередное преступление. Хороша справедливость, которую ограничивает река! Истина по сю сторону Пиренеев становится заблуждением по ту.
Они утверждают, что справедливость надо искать не в обычаях, а в естественном праве, существующем у всех народов, и упрямо стояли бы на своем, если бы, по произволу случая, насаждающего людские законы, нашелся один-единственный действительно всеобщий закон. Но по иронии судьбы и многообразию людских прихотей такого закона нет. Кража, кровосмешение, дето — и отцеубийство — что только не объявлялось добродетелью! И как тут не удивляться — кто-то имеет право меня убить на том лишь основании, что я живу по ту сторону реки и что мой монарх поссорился с его монархом, хотя я-то ни с кем не ссорился. Естественное право, разумеется, существует, но как его извратило несравненно извращенное утверждение: Nihil amplius nostrum est; quod nostrum dicimus, artis est. Ex senatus consultis et plebiscitis crimina exercentur. Ut olim vitiis, sic nunc legibus laboramus[21]{87}.
Из-за этой неразберихи один видит основу справедливости в авторитете законодателя, другой — в нуждах монарха, третий — в существующем обычае; последнее, в общем, наименее шатко, потому что разум не способен отыскать такую справедливость, которую время не превращало бы в прах. Обычай правомочен по той простой причине, что общепринят, — в этом смысл его таинственной власти. Кто докапывается до корней обычая, тот его уничтожает. Всего ошибочнее законы, исправляющие былые ошибки: кто подчиняется им потому, что они справедливы, тот подчиняется справедливости, им самим вымышленной, а не сути закона, который сам себе обоснование. Он — закон, и больше ничего. Человек, решивший исследовать, на чем зиждется закон, увидит, как непрочен, неустойчив его фундамент, и, если он непривычен к зрелищу сумасбродств, рожденных людским воображением, будет долго удивляться, почему за какое-нибудь столетие к этому закону стали относиться так почтительно и даже благоговейно. Искусство подтачивания и ниспровержения государственных устоев как раз и состоит в колебании установленных обычаев, в исследовании их истоков, в доказательстве их несостоятельности и несправедливости. «Надо вернуться к естественному праву, к первоначальным государственным установлениям, уничтоженным несправедливым обычаем», — говорят эти люди. Но подобные игры ведут только к проигрышу, ибо при таком подходе несправедливым оказывается решительно все. Меж тем народ охотно прислушивается к ниспровергательным речам. Он начинает понимать, что ходит в ярме, и пытается его сбросить, и терпит поражение вместе с чересчур любознательными исследователями установленных обычаев, а выигрывают от этого лишь сильные мира сего. Но бывает и так, что люди впадают в противоположную крайность и считают себя вправе делать все, чему уже были примеры. Поэтому мудрейший из законодателей говорил, что людей ради их блага время от времени надо надувать{88}, а другой, тонкий политик, писал: «Cum veritatem qua liberetur ignoret, expedit quod fallatur»[22]{89}. Узурпация должна быть скрыта от народа: когда-то для нее не было никакого разумного основания, но время придало ей видимость разумности. Пусть ее считают вековечной и неистребимой, пусть не ведают, что у нее было начало, иначе ей быстро придет конец.
295
Мое, твое. — «Моя собака!» — твердили эти неразумные дети. «Мое место под солнцем!» Вот он — исток и символ незаконного присвоения земли.
296
Когда встает вопрос, надо ли начинать войну и посылать на бойню множество людей, обрекать смерти множество испанцев{90}, решает его один-единственный человек, к тому же лицеприятный, а должен был бы решать кто-то сторонний и беспристрастный.
297
Veri juris[23]{91}. — Его у нас больше нет; существуй оно, мы не считали бы мерилом справедливости нравы нашей собственной страны.
И вот, отчаявшись найти справедливость, люди ухватились за силу и т. д.
298
Справедливость, сила. — Справедливо подчиняться справедливости, нельзя не подчиняться силе. Справедливость, не поддержанная силой, немощна, сила, не поддержанная справедливостью, тиранична. Бессильной справедливости всегда будут противоборствовать, потому что дурные люди не переводятся, несправедливой силой всегда будут возмущаться. Значит, надо объединить силу со справедливостью и либо справедливость сделать сильной, либо силу — справедливой.
Справедливость легко оспорить, сила очевидна и неоспорима. Поэтому справедливость так и не стала сильной — сила не признавала ее, утверждая, что справедлива только она, сила. И, неспособные сделать справедливость сильной, люди положили считать силу справедливой{92}.
299
В вопросах обыденной жизни люди подчиняются законам своей страны, во всех остальных — мнению большинства, других общепринятых правил не существует. Почему? Да потому, что только за ними стоит сила. А вот у монархов есть еще сильное войско, так что мнение большинства министров для них не закон.
Разумеется, было бы справедливо все блага разделить между людьми поровну, но так как никому не удалось подчинить силу справедливости, то ее стали считать справедливой и законной; за невозможностью усилить справедливость узаконили силу, дабы отныне они выступали вместе и на земле водворился мир — величайшее из благ.
300
«Когда владения переходят во власть вооруженной силы{93}, там водворяется мир».
301
Почему люди следуют за большинством? Потому ли, что оно право? Нет, потому что сильно.
Почему следуют стародавним законам и взглядам? Потому ли, что они здравы? Нет, потому что общеприняты и не дают прорасти семенам раздора.
302
…Дело тут не в обычае, а в силе, потому что умеющие изобретать новое малочисленны, а большинство хочет следовать лишь общепринятому и отказывает в славе изобретателям, жаждущим прославиться своими изобретениями, а если те упорствуют и выказывают презрение не умеющим изобретать, их награждают поносными кличками, могут наградить и палочными ударами. Не хвалитесь же своей способностью к нововведениям, довольствуйтесь сознанием, что она у вас есть.
303
«Миром правит не общественное мнение, а сила». — «Но как раз общественное мнение и пускает в ход силу». — «Нет, оно — порождение силы. На наш взгляд, мягкотелость — отличное свойство. Почему? Да потому, что решивший плясать на канате останется в одиночестве, а я тем временем сколочу банду сильных единомышленников, и они будут кричать, что пляски на канате занятие непристойное».
304
Узы смиренного почтения, которыми одни члены общества связаны с другими, можно назвать цепями необходимости, потому что различие в положении между людьми неизбежно: править хотят все, но способны на это немногие.
Представим себе, что мы присутствуем при зарождении какого-нибудь общества: ясно, что люди будут сражаться до тех пор, пока сильнейшая партия не одолеет слабейшую и не станет партией правящей. А когда это произойдет, победители, не желая продолжения борьбы, прикажут силе, им подчиненной, поступить согласно их желанию: установить принцип народовластия или престолонаследия и т. д.
И вот тут вступает в игру воображение. До сих пор все покорялось насилию власти, а теперь сила начала опираться на воображение, которое во Франции возвеличивает дворян, в Швейцарии — простолюдинов и т. д.
Стало быть, узы смиренного почтения, которыми большинство привязано к такому-то и такому-то, суть узы воображаемые.
305
Если швейцарца назвать человеком благородного происхождения, он оскорбится{94} и начнет доказывать, что все его предки — простолюдины: в противном случае его сочтут недостойным высоких должностей.
306
Так как миром правит сила, то власть герцогов, королей, судей вполне реальна и необходима, и она пребудет всегда и везде. Но так как власть такого-то или такого-то герцога, короля или судьи основана лишь на воображении, она неустойчива, подвержена изменениям и т. д.
308
Привычка видеть королей в окружении охраны, барабанщиков, военных чинов и вообще всего, внушающего подданным почтение и страх, ведет к тому, что, даже когда короля никто не сопровождает, один его вид уже вселяет в людей почтительный тренет, ибо в своих мыслях они неизменно объединяют особу монарха с тем, что его обычно окружает. И народ, не понимая, что страх и почтение вызваны помянутой привычкой, приписывают их особым свойствам королевского сана. Этим и объясняются ходячие выражения: «На его лице — печать божественного величия» и т. д.
309
Справедливость. — Понятие справедливости так же подвержено моде, как женские украшения.
311
Власть, основанная на общественном мнении и воображении, мягка, полна доброй воли, но она преходяща, тогда как власть, основанная на силе, неискоренима. Поэтому можно сказать, что общественное мнение правит людьми, а сила их угнетает.
312
Справедливость. — Это нечто твердо установленное; поэтому каждый установленный закон люди признают справедливым, даже не вникая в него, поскольку он уже установлен.
313
Народная мудрость. — Нет беды страшнее, чем гражданская смута. Она неизбежна, если попытаться всем воздать по заслугам, потому что каждый тогда скажет, что он-то и заслужил награду. Глупец, взошедший на трон по праву наследования, тоже может причинить зло, но все-таки не столь большое и неизбежное.
315
Причина следствий. — Ну и ну! От меня требуют, чтобы я не выказывал почтения человеку, разодетому в полупарчу и окруженному десятком лакеев! Да если я ему не поклонюсь, он прикажет всыпать мне горячих! Его наряд — знак силы. Даже лошадей — и тех судят по богатству упряжи. Хорош Монтень{95}, который будто бы не видит, в чем тут разница, и удивляется, что другие видят, и спрашивает, в чем тут причина. «С чего бы это…» и т. д.
316
Народная мудрость. — Щеголь вовсе не пустой человек: он показывает всему свету, что на него поработало немало людей, что над его прической трудились лакей и парикмахер, а над брыжжами, шнурками, позументом… и т. д., и т. д. И это не просто блажь, красивая упряжь, нет, это знак того, что у него много рук. А чем больше у человека рук, тем он сильнее. Щеголь сильный человек.
317
«Я утруждаю себя ради него» — в этом суть уважения к другому человеку. И не так это глупо, как кажется, напротив, глубоко справедливо, ибо означает: «Вам сейчас не нужно, чтобы я себя утруждал, но я все-таки утруждаю и тем более буду утруждать, если это и впрямь понадобится». К тому же нет лучшего способа выказать уважение сильным мира сего: ведь если бы уважение к ним дозволяло рассиживаться в креслах, вышло бы, что все всех уважают и между людьми нет никаких различий. А когда человек себя утруждает, различия становятся заметны — и еще как!
319
Очень правильно, что людей различают не по их внутренним свойствам, а по внешности. Кто из нас пройдет первый? Кто уступит дорогу другому? Тот, кто менее сообразителен? Но я так же сообразителен, как он, значит, придется пустить в ход силу. У него четыре лакея, у меня только один, — это очевидно, считать до четырех всякий умеет. Выходит, уступить должен я, спорить было бы глупо. Таким образом, мир сохранен, а что на свете дороже мира!
320
Из-за людского сумасбродства самое неразумное подчас становится разумным. Что может быть неразумнее обычая ставить во главе государства старшего сына королевы? Ведь никому не придет в голову ставить капитаном судна знатнейшего из пассажиров! Такой закон был бы нелеп и несправедлив. Закон престолонаследия, казалось бы, не менее странен, но он действует и будет действовать и, значит, становится разумным и справедливым, ибо кого нам следует выбирать? Самого добродетельного и сообразительного? Но тогда рукопашная неизбежна, потому что каждый будет считать, что речь идет именно о нем. Значит, надо найти какой-нибудь неоспоримый признак. Вот этот человек — старший сын короля, тут спорить не приходится, это самое разумное решение, ибо гражданская смута — величайшая из бед.
322
Как велики преимущества знатности! С младых ногтей перед человеком открыты все поприща, и в восемнадцать лет он уже так известен и уважаем, как другой в пятьдесят: выиграны тридцать лет, и при этом безо всякого труда.
323
Что такое «я»?
У окна стоит человек и смотрит на прохожих; могу ли я сказать, идучи мимо, что он подошел к окну, только чтобы увидеть меня? Нет, ибо он думает обо мне лишь между прочим. Ну, а если кого-нибудь любят за красоту, можно ли сказать, что любят именно его? Нет, потому что если оспа, оставив в живых человека, убьет его красоту, вместе с ней она убьет и любовь к этому человеку.
А если любят мое разумение или память, можно ли в этом случае сказать, что любят меня? Нет, потому что я могу потерять эти свойства, не теряя в то же время себя. Где же находится это «я», если оно не в теле и не в душе? И за что любить тело или душу, если не за их свойства, хотя они не составляют моего «я», могущего существовать и без них? Возможно ли любить отвлеченную суть человеческой души, независимо от присущих ей свойств? Нет, невозможно, да и было бы несправедливо. Итак, мы любим не человека, а его свойства.
Не будем же издеваться над тем, кто требует, чтобы его уважали за чины и должности, ибо мы всегда любим человека за свойства, полученные им в недолгое владение.
325
Монтень не прав{96}: обычаю надо следовать потому, что он обычай, а вовсе не из-за его разумности. Меж тем народ соблюдает обычай, твердо веря, что он справедлив, в противном случае немедленно отказался бы от него, так как люди согласны повиноваться только разуму и справедливости. Неразумный или несправедливый обычай был бы сочтен тиранией, а вот власть разума и справедливости, равно как и наслаждения, никто не обвинит в тираничности, потому что это — основы, на которых зиждется человеческая натура.
Итак, всего правильнее было бы подчиняться законам и обычаям просто потому, что они законы, мириться с тем, что ничего истинно справедливого все равно не придумать, что нам не разобраться в этом, и, значит, надо принять то, что уже существует, и, стало быть, никогда ничего не менять. Но народ глух к подобным рассуждениям, он убежден, что истина досягаема, что это она породила законы и обычаи, поэтому верит им, древность их происхождения считает доказательством истинности (а не просто обязательности) и только поэтому готов им повиноваться. Но стоит объяснить народу, что такой-то закон или обычай неоснователен — и он поднимает бунт; а ведь если присмотреться — неоснователен любой закон и любой обычай.
326
Несправедливость. — Опасно говорить народу, что законы несправедливы — он повинуется им лишь до тех пор, пока верит в их справедливость. Стало быть, ему надо непрестанно внушать, что закону следует повиноваться, потому что он закон, а власти предержащей — потому что она власть, независимо от того, справедливы они или нет. Если народ это усвоит, опасность бунта будет предотвращена; это и есть, собственно говоря, определение справедливости.
327
Большинство людей правильно судит о предметах и явлениях, потому что пребывает в неведении, естественном состоянии человека. У всякого знания есть две крайние точки, и они соприкасаются. Одна — это полное и естественное неведение, в котором человек рождается; другой точки достигают возвышенные умы, познавшие все, что доступно человеческому познанию, уразумевшие, что по-прежнему ничего не знают, и, таким образом, вернувшиеся к тому самому неведению, от которого когда-то оттолкнулись. Но теперь это неведение умудренное, познавшее себя. А те, что вышли из природного неведения, но не достигли его противоположности, те набрались обрывков знаний и воображают, будто всё превзошли. Они-то и мутят мир, они-то и судят обо всем вкривь и вкось. Народ и сведущие люди составляют основу общества; всезнайки их презирают и презираемы ими, потому что, в отличив от большинства, не способны к здравым суждениям.
328
Причина следствий. — Последовательное опровержение всех «за» и «против».
Итак, мы показали, что человек суетен, ибо ценит несущественное, и все его суждения ничего не стоят. Но потом мы показали, что они вполне здравы и что народ вовсе не так суетен, как обычно утверждают, ибо его суетность глубоко обоснована; итак, мы опровергли суждение, опровергающее суждения народа.
А теперь следует опровергнуть и это наше утверждение, показать, что, при всей здравости суждений, народ суетен, не понимает, в чем истина, видит ее там, где ее нет, и, таким образом, его суждения всегда неверны и неразумны.
329
Причина следствий. — Человеческая слабость — источник многих прекрасных вещей, например, искусной игры на флейте. Плохо в этом только одно — наша слабость.
330
Мощь королей зиждется на разуме народа, равно как на его неразумии, и на втором больше, чем на первом. В основе величайшего в мире могущества лежит бессилие, и эта основа неколебимо крепка, ибо каждому ясно, что, предоставленный самому себе, народ бессилен. Меж тем основанное только на здравом разуме весьма шатко, — например, уважение к мудрости.
331
Платон и Аристотель кажутся нам надутыми буквоедами, а в действительности они были достойные люди и любили, как все прочие, пошутить с друзьями. Они писали как бы играючи, когда развлекались сочинением один «Законов», а второй «Политики»{97}, ибо сочинительство было для них занятием наименее мудрым и серьезным, а истинная мудрость состояла в умении жить просто и спокойно. За политические писания они брались так, как берутся наводить порядок в сумасшедшем доме, и напускали на себя важность только потому, что знали: сумасшедшие, к которым они обращаются, мнят себя царями и императорами. Они становились на точку зрения безумцев, чтобы по возможности безболезненно умерить их безумие.
332
Тирания — это желание властвовать, всеобъемлющее и не признающее никаких законов.
Множество покоев, в них красавцы, силачи, остроумцы, бла-гочестивцы, и каждый — владыка только у себя и больше нигде. Но иной раз они встречаются, и силач с красавцем вступают в нелепую драку, стараясь подчинить один другого, хотя суть их власти глубоко различна. Они не могут сговориться, и вина их в том, что оба хотят во что бы то ни стало править всеми остальными. Но это не под силу никому, даже самой силе: она ничего не значит в державе ученых и властвует лишь над людьми действия.
Тирания. — …Поэтому неразумны и тираничны утверждения: «Я прекрасен, значит, меня надо бояться; я силен, значит, меня надо любить».
Тирания — это желание добиться чего-то неподобающими средствами. Разным свойствам мы воздаем по-разному: приятности — любовью, силе — страхом, знанию — доверием. Такая дань естественна, отказывать в ней несправедливо, равно как и несправедливо требовать иной дани. Точно так же неразумно и тиранично утверждать: «Он слаб, — значит, я не стану его уважать; неучен, — значит, не стану бояться».
333
Вам, конечно, случалось встречать людей, которые, жалуясь на ваше неуважение к ним, ссылались на влиятельных особ, высоко их ценивших? Я ответил бы им так: «Объясните, какими добродетелями вы расположили этих особ к себе, и я буду ценить вас не меньше, чем они».
334
Причина следствий. — Своекорыстие и сила — источники всех наших поступков: своекорыстие — источник поступков сознательных, сила — бессознательных.
339
Я легко представляю себе человека безрукого, безногого, безголового (ибо только опыт внушает нам, что голова нужнее ног), но не могу представить себе человека, неспособного мыслить: это будет уже не человек, а камень или тупое животное.
340
Действия арифметической машины больше похожи на действия мыслящего существа, нежели животного, но у машины нет собственной воли, а у животного есть.
344
Инстинкт и разум — признаки двух различных сущностей{98}.
345
Мы должны повиноваться разуму беспрекословней, чем любому владыке, ибо кто перечит разуму, тот несчастен, а кто перечит владыке — только глуп.
346
Величие человека — в его способности мыслить.
347
Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не надо всей Вселенной: достаточно дуновения ветра, капли-воды. Но пусть даже его уничтожит Вселенная, человек все равно возвышеннее, чем она, ибо сознает, что расстается с жизнью и что слабее Вселенной, а она ничего не сознает.
Итак, все наше достоинство — в способности мыслить. Только мысль возносит нас, а не пространство и время, в которых мы — ничто. Постараемся же мыслить достойно: в этом — основа нравственности.
348
Мыслящий тростник. — Наше достоинство — не в овладении пространством, а в умении разумно мыслить. Я не становлюсь богаче, сколько бы ни приобретал земель, потому что с помощью пространства Вселенная охватывает и поглощает меня, а вот с помощью мысли я охватываю Вселенную.
350
Стоики. — Они убеждены, что удавшееся один раз удается всегда и что, если славолюбие помогает иным людям совершить подвиг, значит, на это способны все. Но что под силу больному горячкой, то не по плечу здоровому человеку.
Из того, что на свете существуют стойкие христиане, Эпиктет делает вывод, будто стойким христианином может стать любой.
351
Душа не удерживается на высотах, которых в едином порыве порой достигает разум: она поднимается туда не как на престол, не навечно, а лишь на короткое мгновение.
352
Судить о добродетели человека следует не по его порывам, а по ежедневным делам.
353
Я лишь тогда восхищаюсь высокими проявлениями таких добродетелей, как отвага, когда их сопровождают столь же высокие проявления противоположных добродетелей: примером тому служит Эпаминонд, столь же отважный, сколь благожелательный{99}. В противном случае человек не взлетает, а падает. Не в том величие, чтобы достичь одной крайности, а в том, чтобы, одновременно касаясь обеих, заполнить все пространство между ними. «Но, может быть, оно во внезапном переходе души от одной крайности к другой, при том что, подобно языку пламени, она в каждый данный миг касается лишь одной точки?» — «Пусть так, но такой переход свидетельствует если не о широте души, то хотя бы о ее стремительности».
354
Человек так устроен, что не может всегда идти вперед, — он то идет, то возвращается.
Больной горячкой то дрожит в ознобе, то весь пылает, и холод точно так же свидетельствует о силе горячки, как жар.
Таков из века в век и путь человеческих выдумок. То же самое можно сказать и о добре и зле в этом мире. Plerumque gratae principibus vices[24]{100}.
355
И самая блестящая речь надоедает, если ее затянуть.
Владетельные князья и короли подчас развлекаются играми. Им стало бы скучно, если бы они всегда восседали на престолах: чтобы по-настоящему наслаждаться величием, с ним иногда нужно расставаться. Однообразие приедается: в холода приятно погреться.
Природе свойственно неравномерное движение, itus et reditus[25], она идет и возвращается, начинает бежать, почти останавливается, делает шажок, потом рывок и т. д.
Взять, к примеру, приливы и отливы или, скажем, движение Солнца.
357
Когда человек пытается довести свои добродетели до крайних пределов, его начинают обступать пороки, — сперва незаметно, незримыми путями подползают мельчайшие, потом толпою набегают огромные, и вот он уже окружен пороками и больше не видит добродетелей. И даже готов стереть в порошок совершенство.
358
Человек не ангел и не животное, и несчастье его в том, что, чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше превращается в животное.
359
Мы стойки в добродетели не потому, что сильны духом, а потому, что нас с двух сторон поддерживает напор противоположных пороков, подобный напору ветров, дующих навстречу друг другу: стоит нам избавиться от одного порока — и мы оказываемся во власти другого.
360
Требования стоиков так неисполнимы и так суетны!
Они утверждают, будто всякий, не достигший глубин мудрости, глуп и порочен, — словом, равняют его с человеком, который погрузился в воду всего на два пальца.
365
Мысль. — Все достоинство человека — в его способности мыслить.
Следовательно, мысль по своей природе замечательна и несравненна, и только неслыханные недостатки могли бы превратить ее в нелепость. Так вот, их полным-полно, и притом самых смехотворных. Как она возвышенна по своей природе! И как низменна из-за этих недостатков!
А что сказать об этой моей мысли? До чего она глупа!
366
Дух этого верховного судии подлунной юдоли так зависит от всякого пустяка, что малейший шум его помрачает. Отнюдь не только гром пушек мешает ему здраво мыслить: довольно скрипа какой-нибудь флюгарки или блока. Не удивляйтесь, что сейчас он рассуждает не очень разумно: рядом жужжит муха, вот он и не способен дать вам дельный совет. Хотите, чтобы ему открылась истина? Прогоните насекомое, которое затмевает и держит в плену это сознание, этот могучий разум, повелевающий городами и державами. Ну и божество, нечего сказать! О ridicolosissimo eroe![26]
367
Могущество мух: они выигрывают сражения{101}, отупляют наши души, терзают тела.
368
Когда нам говорят, что тепло — это движение неких частиц, а свет{102} — не более чем conatus recedendi[27], мы не можем прийти в себя от удивления. Как! Источник наших наслаждений — всего-навсего пляска животных духов? А мы представляли себе это совсем иначе. Ведь так различны ощущения, чья природа, как нас уверяют, совершенно одинакова! Тепло, исходящее от огня, звуки, свет воздействуют на нас по-иному, чем прикосновение к коже, мнятся чем-то таинственным, и вдруг оказывается — они грубы, как удар камнем. Разумеется, крохотные частицы, проникающие в поры тела, раздражают не те нервы, что камень, однако речь идет все о том же раздражении нервов.
369
Разум всегда и во всем прибегает к помощи памяти.
372
Иной раз, когда я собираюсь записать пришедшую мне в голову мысль, она внезапно улетучивается. Тут я вспоминаю о забытой было немощи моего разумения, а это не менее поучительно, чем забытая мысль, потому что стремлюсь я только к одному: познать собственное свое ничтожество.
374
Больше всего меня удивляет то, что люди не удивляются немощи своего разумения. Они серьезнейшим образом следуют всем заведенным обычаям, и вовсе не потому, что полезно повиноваться общепринятому, а потому, что твердо убеждены в правильности и справедливости своих действий. Ежечасно попадая впросак, они с забавным смирением винят в этом себя, а не те житейские правила, постижением которых так хвалятся. Этих людей очень много, они слыхом не слыхивали о пирронизме{103}, но служат вящей его славе, являя собой пример человеческой способности к самым бессмысленным заблуждениям: они ведь даже и не подозревают, насколько естественна и неизбежна эта немощь их разумения, — напротив, неколебимо уверены в своей врожденной мудрости.
Особенно укрепляют учение Пиррона именно те, кто не разделяет его философии: будь пиррониками все без исключения, в пирронизме не оказалось бы и крупицы истины.
376
Учение Пиррона укрепляют не столько его последователи, сколько противники, ибо бессилие людского разумения куда очевиднее у тех, кто не подозревает о нем, чем у тех, кто его сознает.
377
Речи о смирении полны гордыни у гордецов и смирения у смиренных. Точно так же полны самоуверенности суждения людей самоуверенных, даже когда они последователи Пиррона. Мало кто способен смиренно говорить о смирении, целомудренно — о целомудрии, во всем сомневаясь — о пирронизме. Мы исполнены лживости, двоедушия, противоречий, вечно скрытничаем и обманываем самих себя.
378
Пирронизм. — В безрассудстве равно упрекают и высочайший ум, и предельную глупость. Хвалят только середину. Так постановило большинство, и оно больно кусает всякого, кто близок к той или иной крайности. Я не упорствую, согласен быть в середине и отказываюсь от нижнего края не потому, что он нижний, а потому, что край: точно так же я отказался бы и от верхнего. Кто вне середины, тот вне человечества. Истинное величие души как раз и состоит в умении придерживаться середины, в том, чтоб оставаться в ней, а не выскакивать из нее.
379
Нехорошо быть слишком свободным. Нехорошо ни в чем не знать нужды.
380
Все правила достойного поведения давным-давно известны, остановка за малым — за умением ими пользоваться. Например:
Все знают, что во имя общего блага надо жертвовать жизнью и, действительно, иные жертвуют; но во имя религии не жертвует никто.
Неравенство неизбежно, это очевидно, но стоит его признать — и вот уже распахнуты двери не только сильной власти, но и нестерпимой тирании.
Людскому разуму надо дать хотя бы немного свободы, но это распахивает двери самой гнусной распущенности. «Что ж, ограничьте эту свободу». — «В природе не существует пределов: закон пытается их поставить, но разум не желает с ними мириться».
381
Кто слишком молод, тот не умеет здраво судить, равно как и тот, кто слишком стар; кто слишком мало или слишком много размышлял над каким-нибудь вопросом, тот будет упрямиться, стоять на своем; кто выносит приговор своему труду, едва успев его окончить или окончив давным-давно, тот слишком пристрастен к нему или безразличен. Так же обстоит дело и с картинами, если смотреть на них с расстояния слишком большого или слишком малого. Существует лишь одна-единственная правильная точка зрения, другие или слишком отдалены, или слишком приближены, слишком высоки или слишком низки. В живописи такую точку зрения помогают найти законы перспективы, — но что поможет ее найти в вопросах истины и нравственности?
382
Когда все предметы равномерно движутся в одну сторону, кажется, будто они неподвижны, — например, когда находишься на корабле. Когда все идут по пути безнравственности, никто этого не видит. И только если кто-нибудь, остановившись, уподобляется неподвижной точке, мы замечаем бег остальных.
383
Живущий в скверне кричит, что он-то и следует законам природы, а вот живущий в чистоте их нарушает: так, плывущему на корабле кажется, будто стоящие на берегу отступают назад. И правый и неправый отстаивают свое убеждение одинаковыми словами. Для верного суждения нужна неподвижная точка отсчета. Стоящий в порту правильно судит о плывущих на корабле. Но где тот порт, откуда мы могли бы правильно судить о людской нравственности?
384
Споры вокруг какого-нибудь положения ничего не говорят об его истинности: иной раз несомненное вызывает споры, а сомнительное проходит без возражений. Споры не означают ошибочности утверждения, равно как всеобщее согласие — его правильности.
385
Пирронизм. — Все в этом мире отчасти истинно, отчасти ложно. Конечная истина не такова: она беспримесно и безусловно истинна. Всякая примесь пятнает истину и сводит на нет. В нашем мире ничто не бывает безусловно истинно и, значит, все ложно, — разумеется, в сравнении с конечной истиной. Мне возразят — убийство дурно, вот вам конечная истина. Да, ибо мы твердо знаем, что такое зло и безнравственность. Но в чем заключается добродетель? В целомудрии? Нет, отвечу я, потому что вымер бы род человеческий. В брачном сожительстве? Нет, в воздержании больше добродетели. В том, чтобы не убивать? Нет, потому что нарушился бы всякий порядок и злодеи поубивали бы праведных. В том, чтобы убивать? Нет, убийство уничтожает живую тварь. Наша истина и наше добро только отчасти истина и добро, и они запятнаны злом и ложью.
386
Если бы нам еженощно снилось одно и то же, оно трогало бы нас не меньше, чем ежедневная явь. Думаю, если бы ремесленник твердо знал, что каждую ночь, двенадцать часов сряду, будет грезить, будто наделен королевской властью, он был бы почти так же счастлив, как король, которому каждую ночь, двенадцать часов сряду, снилось бы, будто он ремесленник.
Если бы еженощно нам казалось во сне, что нас преследуют враги, и мы терзались бы этими мучительными видениями, если бы чудилось, что наши дни наполнены непрерывной суетой, как оно бывает во время путешествий, мы страдали бы немногим меньше, чем если бы этот сон был явью, и боялись бы уснуть, как боятся проснуться люди, которым и впрямь грозят подобные невзгоды. Да, в этом случае сны терзали бы нас почти так же, как явь.
Но сны не похожи один на другой, а если и похожи, то все-таки чем-то разнятся, и они действуют на нас не так сильно, как явь, потому что она устойчивее и неизменнее, хотя и не совсем устойчива и тоже меняется, но не так быстро, разве что во время путешествий, и тогда мы говорим — «мне кажется, я грежу», — потому что жизнь — тоже сон, только менее отрывистый.
389
Екклезиаст с очевидностью показывает{104}, что безбожник обречен на неведение и глубоко несчастен. Ибо суть несчастья в том, чтобы хотеть и не мочь. Меж тем всякий человек хочет счастья, хочет уверенности, что ему открыта хотя бы крупица истины; но безбожник ничего не знает, а жажда знания неистребима. Он даже сомневаться не может.
394
Любое исходное положение правильно — и у пирроников, и у скептиков, и у атеистов, и т. д. Но выводы у всех ошибочны, потому что противоположное исходное положение тоже правильно.
395
Инстинкт. Разум. — Мы бессильны что-либо доказать, и перед этим бессилием отступает самый завзятый догматизм. В нас заложено понятие истины, и перед этим понятием отступает самый завзятый пирронизм.
396
Человек познаёт, что он такое, с помощью двух наставников: инстинкта и опыта.
397
Величие человека тем и велико, что он сознает свое ничтожество. Дерево своего ничтожества не сознает.
Итак, человек чувствует себя ничтожным, ибо понимает, что он ничтожен; этим-то он и велик.
398
Ничтожество человека лишь подтверждает его величие: он ничтожен, как вельможа, как низложенный король.
399
Разрушенный дом не чувствует себя ничтожным, ибо лишен сознания. Только человек сознает свое ничтожество. Ego vir videns[28].
400
Величие человека. — Наше понятие о человеческой душе так высоко, что мы не выносим, когда в душе другого человека живет презрение к нам. Мы бываем счастливы, только чувствуя, что нас уважают.
401
Слава. — Животные не восхищаются друг другом. Лошадь не приходит в восторг от другой лошади; конечно, они соревнуются на ристалище, но это не имеет значения: в стойле самый тихоходный, дрянной коняга никому не уступит своей порции овса, а будь он человек — пришлось бы. Животные не знают, что их достоинства должны быть вознаграждены.
402
Человек велик даже в своем своекорыстии, ибо это свойство научило его соблюдать образцовый порядок в делах и благотворительствовать по расписанию.
404
Славолюбие — самое низменное свойство человека и вместе с тем самое неоспоримое доказательство его высокого достоинства, ибо, даже владея обширными землями, крепким здоровьем, всеми насущными благами, он не знает довольства, если не окружен уважением ближних. Превыше всего он ценит людской разум, и даже почтеннейшее положение не радует его, если этот разум отказывает ему в почете. Почет — заветная цель человека, он будет всегда неодолимо стремиться к ней, и никакая сила не искоренит из его сердца желания ее достичь.
И даже если человек презирает себе подобных и приравнивает их к животным, все равно, вопреки самому себе, он будет добиваться всеобщего признания и восхищения: он не в силах противиться собственной натуре, которая твердит ему о величии человека более убедительно, чем разум — о низменности.
405
Противоречие. — Гордыня перевешивает в душе человека сознание собственных несовершенств. Она либо вообще их утаивает, либо, вынужденная признать, тут же начинает хвалиться своей проницательностью.
407
Стоит злонамеренности перетянуть на свою сторону разум, как она преисполняется гордыни и выставляет союзника напоказ во всем его блеске. Точно так же она кичится, когда суровое самоограничение и подвижничество терпят неудачу и победу одерживает естество.
408
Зло дается всем без труда, и оно многолико, тогда как добро, можно сказать, всегда одинаково. Но бывает разновидность зла почти столь же редкая, как то, что носит название добра, — вот почему этот особый вид зла нередко именуют добром. Более того, совершающий такое зло должен обладать не меньшим величием души, чем творящий добро.
409
Величие человека. — Величие человека так несомненно, что подтверждается даже его ничтожеством. Ибо ничтожеством мы именуем в человеке то, что в животных считается естеством, тем самым подтверждая, что если теперь его натура мало чем отличается от животной, то некогда, пока он не пал, она была непорочна.
Ибо тоскует по монаршьему сану лишь тот, кто его лишился. Разве считали Павла Эмилия несчастным, когда кончился срок его консульства? Напротив, думали — какой счастливец, он все-таки был консулом, ну, а пожизненно это звание никому не дается. Меж тем монарший сан — пожизненный, поэтому низложенного царя Персея считали таким несчастным{105}, что дивились — как это он мог не покончить с собой? Кто страдает из-за того, что у него только один рот? И кто не страдал бы, останься у него только один глаз? Вряд ли кто-нибудь горюет из-за отсутствия третьего глаза, но безутешен тот, кто ослеп на оба.
411
Мы сознаем всю горестность нашего бытия, несущего нам беды, всегда грозящего погибелью, и все-таки не утрачиваем некоего инстинкта, неистребимого и нас возвышающего.
412
Междоусобица разума и страстей в человеке. Будь у него только разум… Или только страсти… Но, наделенный и разумом и страстями, он непрерывно воюет сам с собой, ибо примиряется с разумом, только когда борется со страстями, и наоборот. Поэтому он всегда страдает, всегда раздираем противоречиями.
413
Из-за этой междоусобицы разума и страстей люди, стремившиеся жить в мире с собой, разделились на две секты: одни решили отказаться от страстей и стать богами, другие — от разума и уподобиться тупым животным. Но все их усилия оказались тщетны, и разум по-прежнему клеймит страсти за их низость и несправедливость, нарушая покой тех, кто им предается, и страсти по-прежнему бушуют в тех, кто жаждет от них избавиться.
414
Люди безумны, и это столь общее правило, что не быть безумцем было бы тоже своего рода безумием.
415
Человеческую натуру можно рассматривать двояко: исходя из конечной цели, и тогда человек возвышен и ни с чем не сравним, или исходя из обычных свойств, как рассматривают лошадь или собаку, исходя из их обычных свойств — способности к бегу, et animum arcendi[29], — и тогда человек низок и отвратителен. Вот два пути, которые привели к стольким разногласиям и философским спорам.
Потому что одни оспаривают других, утверждая: «Человек не рожден для этой цели, ибо все его поступки ей противоречат», — а те, в свою очередь, твердят: «Эти низменные поступки лишь удаляют его от конечной цели».
418
Опасное дело — убедить человека, что он во всем подобен животному, не показав одновременно и его величия. Не менее опасно убедить в величии, умолчав о низменности. Еще опаснее — не раскрыть ему глаза на двойственность человеческой натуры. Благотворно одно — рассказать ему и о той его стороне, и о другой.
Человек не должен приравнивать себя ни к животным, ни к ангелам, не должен и пребывать в неведении о двойственности своей натуры. Пусть знает, каков он в действительности.
420
Если человек восхваляет себя, я его уничижаю, если уничижает — восхваляю, и противоречу ему до тех пор, пока он не уразумеет, какое он непостижимое чудовище.
421
Я равно порицаю и того, кто взял себе за правило только восхвалять человека, и того, кто всегда его порицает, и того, кто насмехается над ним. Я с тем, кто, тяжко стеная, пытается обрести истину.
423
Противоречие. После того, как были показаны величие и низость человека. — Пусть же человек знает, чего он стоит. Пусть любит себя, ибо он способен к добру, но не становится из-за этого снисходителен к низости, заложенной в его натуре. Пусть презирает себя, ибо способность к добру остается в нем втуне, но не презирает самое эту способность. Пусть и ненавидит себя и любит: в нем есть способность познать истину и стать счастливым, но познания его всегда шатки и неполны.
Я хотел бы подвигнуть человека на поиски всеобъемлющей истины, на готовность отказаться от страстей и следовать за ней по тому пути, на котором она ему открылась, помятуя при этом, что наше сознание помрачено страстями; хотел бы посеять в нем ненависть к своекорыстию, влекущему его за собой, дабы оно не ослепило его, когда надо будет сделать выбор, и не остановило, когда выбор уже сделан.
425
Вторая часть. О том, что человек неверующий никогда не познает ни истинного блага, ни справедливости. — Все люди стремятся к счастью — из этого правила нет исключений; способы у них разные, но цель одна. Гонятся за ним и те, что добровольно идут на войну, и те, что сидят по домам, — каждый ищет по-своему. Человеческая воля направлена на достижение только этой цели. Счастье — побудительный мотив любых поступков любого человека, даже того, кто собирается повеситься.
Но при том, что люди добиваются счастья испокон веков, никому не удалось стать счастливым, если им не руководила вера в бога. Все жалуются на свой удел — владыки и подданные, вельможи и простолюдины, старые и молодые, ученые и невежды, здоровые и больные, чем бы они ни занимались, где бы, когда бы и сколько бы лет ни жили на свете.
Столь длительные и тщетные старания должны были бы убедить нас в бессилии всех наших потуг обрести счастье, но примеры нам не наука: даже в самых схожих случаях всегда есть какое-то пустячное отличие, и оно вселяет в нас надежду, что на этот раз мы стараемся не зря. И вот, неудовлетворенные настоящим, вечно обманутые в ожиданиях, мы идем от несчастья к несчастью — и приходим к смерти, венцу всякой жизни.
Но разве это алкание и это бессилие не есть несомненное свидетельство того, что некогда человек знал истинное счастье, а теперь на память об этом ему осталась лишь пустая скорлупа, которую он пытается чем-то заполнить, и, не находя радости в уже добытом, гонится за новой добычей, и опять без проку, потому что бесконечную пустоту может заполнить лишь нечто бесконечное и неизменное, то есть бог?
В нем и только в нем наше истинное благо, но мы его утратили и с той поры бессмысленно пытаемся заменить чем попало: светилами, небом, землей, стихиями, растениями, капустой, пореем, животными, насекомыми, тельцами, змеями, лихорадкой, чумой войной, голодом, пороком, прелюбодеяниями, кровосмешением. И с той поры, как нами утрачено истинное благо, мы готовы принять за него что угодно, даже самоуничтожение, как ни противно оно богу, разуму, природе. Одни ищут счастья в могуществе, другие — во всевозможных диковинах, третьи — в сладострастии. Но иные поняли — и они-то ближе всех к цели, — что столь желанное людям всеобщее благо никак не может быть в тех ценностях, которые или принадлежат кому-то одному, или, разделенные, не столько радуют владельца принадлежащей ему частью, сколько печалят отсутствующей. Они уразумели, что истинным благом следует считать только то, чем могут владеть все поровну и одновременно, не завидуя друг другу, ибо кто не захочет его утратить, тот никогда и не утратит. И, твердо зная, что желание счастья соприродно людям, так как живет в каждом человеке, они пришли к выводу…
427
Человек не знает, к кому себя сопричислить в мире. Он чувствует, что заблудился, упал оттуда, где было его истинное место, и теперь не находит дороги назад, хотя, снедаемый тревогой, без устали ищет в непроницаемом мраке.
437
Мы жаждем истины, а находим в себе лишь неуверенность.
Мы ищем счастья, а находим лишь горести и смерть.
Мы не можем не желать истины и счастья, но не способны ни к твердому знанию, ни к счастью. Это желание оставлено в нашей душе не только, чтобы покарать нас, но и чтобы всечасно напоминать о том, с каких высот мы упали.
439
Испорченность человеческой натуры. — Человек не способен руководствоваться разумом, хотя разум — суть его натуры.
442
Истинная натура человека, равно как истинное его благо, и добродетель, и вера познаваемы лишь в своей целокупности.
451
Люди ненавидят друг друга, — такова их природа. И пусть они пытаются поставить своекорыстие на службу общественному благу, — эти попытки только лицемерие, подделка под милосердие, потому что в основе основ все равно лежит ненависть.
452
Жалость к обездоленным легко уживается со своекорыстием. Более того, люди рады отдать дань добрым чувствам, прославиться мягкосердечием и при этом ничего от себя не оторвать.
453
Своекорыстие послужило основой и материалом для превосходнейших правил общежития, нравственности, справедливости, но так и осталось гнусной основой человека, figmentum malum:[30] оно скрыто, но не уничтожено.
455
«Пристрастие к своему «я» заслуживает ненависти; вы, Ми-тон, лишь прикрываете его, а не уничтожаете, значит, тоже заслуживаете ненависти». — «Вы не правы, ведь мы ведем себя так предупредительно со всеми, что не вызываем ничьей ненависти». — «Это было бы верно, если бы речь шла только о том «я», которое навлекает на себя неудовольствие ближних; но моя ненависть вызвана его неискоренимой несправедливостью, его почитанием себя превыше всего и всех, поэтому я буду всегда его ненавидеть.
Словом, у «я» два свойства: во-первых, оно несправедливо по самой своей сути, ибо почитает себя превыше всего и всех; во-вторых — неудобно для ближних, ибо стремится подчинить их себе; каждое «я» враждебно всем прочим и хотело бы всех тиранить. Ваше поведение устраняет неудобство, но несправедливость как была, так и остается, значит, кто ее ненавидит, тот и ко всякому «я» относится с ненавистью; зато оно теперь по душе несправедливцам, которых вы научили умасливать другие «я». Стало быть, Митон{106}, вы несправедливы и нравитесь только себе подобным».
456
Людские суждения так извращены, что нет человека, который не ставил бы себя превыше всех людей на свете, не дорожил бы своим благом и каждым часом своего счастья и жизни больше, чем благом, счастьем и жизнью прочих смертных!
457
Для человека все сущее — в нем самом, ибо, когда он умирает, для него умирает и все сущее. Поэтому каждый думает, что для всех он тоже всё. Будем же судить о природе, исходя из нее, а не из нас.
462
Поиски истинного блага. — Большинство людей ищет блага в богатстве и прочих мирских благах или хотя бы в развлечениях. Все философы доказывали, что это — тщета, но каждый определял благо на свой лад.
464
Философы. — Мы полны желаний, которые не позволяют нам замкнуться в нашем внутреннем мире.
Некое бессознательное чувство нашептывает, что в себе мы не обретем счастья. Страсти толкают во внешний мир, даже когда их ничего там не приманивает: предметы этого мира влекут и соблазняют нас, даже когда мы о них не думаем. Так что, сколько бы философы ни твердили: «Замкнитесь в себе, и обретете истинное благо», — верят им только люди, у которых пусто и в голове и в сердце.
465
Стоики говорят: «Уйдите в себя, и обретете покой». И это заблуждение.
Другие говорят: «Не замыкайтесь в себе, ищите счастья в развлечениях». И это заблуждение: людей настигают недуги.
Счастье не вне и не внутри нас; оно — в боге, вне нас и внутри.
469
Я понимаю, что меня могло и не быть; мое «я» — в способности мыслить, но я мыслящий не появился бы на свет, если бы мою мать убили до того, как я стал одушевленным существом. Значит, я не необходим, равно как не вечен и не бесконечен. Но все говорит мне о том, что в природе есть некто необходимый, вечный и бесконечный.
472
Наше своеволие таково, что, добейся оно всего на свете, ему и этого будет мало. Но стоит от него отказаться — и мы полны довольства. Своевольному всегда всего мало, смиренному всегда всего вдоволь.
477
Уверенность, что мы достойны любви ближних, — заблуждение, желание добиться ее — несправедливость. Родись мы разумными и нелицеприятными, понимай и себя и других, у нас не было бы воли к этой любви. Но мы с ней рождаемся на свет, то есть рождаемся несправедливыми, потому что каждый радеет только о себе. Это противно разумному порядку, радеть надо обо всех людях. Любой беспорядок — в государственном ли управлении или в ведении войны, в хозяйстве или в жизни отдельного человека — проистекает от себялюбия. Стало быть, оно порочно.
Члены природных и гражданских сообществ должны радеть о благе своих сообществ, а сообщества — о благе того единого, в которое все они входят. Радеть надо только об общем. Стало быть, мы рождаемся несправедливыми и развращенными.
485
Итак, единственная истинная добродетель — в ненависти к себе (ибо человеческое «я» так своекорыстно, что только ненависти и достойно) и в поисках существа, которое мы любили бы потому, что оно подлинно достойно любви. Но мы не способны любить то, что вне нас, поэтому обратим любовь на существо, которое, не будучи нами, живет во всех нас без исключения. Но в мироздании есть лишь одно такое существо. Царство Божие в нас самих{107}, всеобщее благо в нас самих, оно — и мы сами, и не мы.
492
Кто не питает ненависти к своему себялюбию и всегдашнему желанию обожествлять себя, тот просто слеп. Ведь так ясно, что это желание противно истине и справедливости. И неправда, что мы достойны обожествления, и несправедливо к этому стремиться, и невозможно этого достичь, потому что все до единого хотят того же. И выходит, что мы от природы несправедливы, и нам не отделаться от своей несправедливости, а отделаться необходимо.
495
Если ужасно ослепление того, кто живет, не пытаясь понять, что он такое, насколько ужаснее ослепление того, кто верит в бога и все-таки живет во зле.
496
Мы по опыту знаем, как велика разница между благочестием и добротой.
505
Убить нас может любая малость, даже предмет, созданный для нашего удобства; например, нас убивают стены дома или, скажем, ступеньки лестницы, если мы неосторожно ступаем.
Любое движение отзывается во всей природе; море изменяет облик из-за одного-единственного камня. И в вопросах благодати любой человеческий поступок отзывается на всех людях. Значит, в мире нет ничего несущественного.
Перед тем как что-то сделать, надо подумать не только о самом поступке, но и о нас самих, о нашем настоящем, прошлом и будущем и о людях, которых этот поступок касается, и поставить все это во взаимосвязь. И тогда мы будем очень осмотрительны.
534
Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками.
535
Будем благодарны тому, кто говорит нам о наших недостатках, ибо он учит смирению и открывает глаза на то, что люди считают нас достойными презрения. От презрения он, разумеется, не спасает, слишком много у нас других недостатков, зато готовит к делу исправления и уничтожения хотя бы этих.
583
Гнусны те люди, которые знают, в чем истина, но стоят за нее, лишь пока им это выгодно, а потом отстраняются.
864
В наши времена, когда истина скрыта столькими покровами, а обман так прочно укоренился, распознать истину может лишь тот, кто горячо ее любит.
893
Показывающий истину внушает веру в нее, но показывающий несправедливость министров ничуть их не исправляет. Обличая ложь, человек очищает совесть, но, обличая несправедливость, он не спасает кошелька.
895
С какой легкостью и самодовольством злодействует человек, когда он верит, что творит благое дело!
911
Допустимо ли искоренять злодейство, убивая злодеев? Но ведь это значит умножать их число! Vince in bono malum[31].
912
Всеобщность. — Нравственность и язык — предметы наук частных и в то же время всеобщих.
Жан де Лабрюйер Характеры, или нравы нынешнего века
Перевод с французского Ю. Корнеева и Э. Линецкой.
{108}
Admonere voluimus, non mordere; prodesse, non laedere; consulere moribus hominum, non offieere,
Erasme[32]{109}Предисловие
Я возвращаю публике свой долг: ей обязан я тем, что составляет предмет этой книги, я занимался им со всей заботой о правдивости, доступной мне и достойной его, стараясь ни в чем не погрешить против истины, и теперь, окончив свой труд, считаю справедливым отдать его читателям. Если, вглядываясь на досуге в этот портрет, сделанный с натуры, они найдут у себя недостатки, изображенные мною, пусть исправят их: это единственная цель, которую должен ставить себе каждый автор, и главная награда, о которой он смеет мечтать. Именно потому, что люди так упорствуют в своей приверженности к пороку, их с особенным упорством следует корить за это: они, возможно, стали бы еще хуже, не будь у них строгих судей и критиков — тех, что произносят проповеди и пишут книги. Проповедники и писатели не могут не радоваться рукоплесканиям, но они должны были бы сгореть со стыда, если бы своими речами и сочинениями стремились только стяжать похвалы, тем более что нет и не может быть для них награды более высокой и бесспорной, чем перемена в нравах и образе жизни их читателей и слушателей. Говорить и писать стоит только ради просвещения людей; однако пусть не угрызаются совестью те, кому случится при этом доставить публике и удовольствие, при том условии, конечно, что оно поможет ей лучше понять и усвоить полезные истины. Но если в книгу или проповедь вкрались мысли и рассуждения, не отмеченные живостью, изяществом и остротой, лишенные вдобавок здравого смысла, ясности, поучительности и недоступные человеку необразованному, о котором тоже ни в коем случае нельзя забывать, то, будь они даже введены для разнообразия, для того, чтобы дать отдых вниманию, перед тем как вновь сосредоточить его, — все равно читатель должен осудить их, а сочинитель — вычеркнуть: вот первый закон, сообразно которому следует судить мой труд. Но это еще не все: мне очень важно, чтобы читатели не упускали из виду заглавия моей книги и до последней страницы помнили, что я описываю в ней характеры и нравы, свойственные нашему веку, ибо хотя я часто черпаю примеры из жизни французского королевского двора и говорю о своих современниках, однако нельзя свести содержание моего труда к одному королевскому двору и к одной стране: это сразу сузит его, сделает менее полезным, исказит замысел, состоящий в том, чтобы изобразить людей вообще, нарушит внутреннюю логику, которая определяет не только порядок глав, но и последовательность рассуждений внутри каждой главы. Сделав эту столь существенную оговорку, из которой вытекают немаловажные следствия, я беру на себя смелость не принимать в расчет никаких обид и жалоб, никаких недоброжелательных толкований, неуместных догадок и необоснованной хулы, глупых насмешек и злонамеренных кривотолков{110}. Читая книгу, нужно вникать в ее смысл, а прочитав, либо промолчать, либо рассказать о прочитанном. Но только о прочитанном — не больше и не меньше. Впрочем, одного разумения для этого недостаточно: нужно еще и желание. Таково условие, которое должен ставить иным читателям совестливый и взыскательный автор в качестве единственного вознаграждения за свой труд; иначе ему лучше вообще прекратить писание, если, конечно, собственным спокойствием он дорожит больше, чем служением истине и пользой, которую кто-нибудь все же извлечет из его книги. Сознаюсь, что с 1690 года и вплоть до пятого издания моего труда я колебался между стремлением добавить к нему новые характеры и тем придать ему большую полноту и завершенность и боязнью услышать упрек: «Неужели эти «Характеры» будут печататься вечно и автор не даст нам ничего нового?» Иные люди, весьма сведущие и разумные, говорили мне: «Предмет вашей книги важен, поучителен, приятен и неистощим; живите долго и, пока длится ваша жизнь, не прерывайте работы над ним. Лучшей темы вам не найти: человеческое безумство таково, что оно ежегодно будет доставлять вам материала на целый том». Другие вполне основательно предостерегали меня против непостоянства толпы и легкомыслия публики, хотя до сих пор у меня были основания только благодарить ее. Они не уставали повторять, что вот уже тридцать лет, как люди читают лишь забавы ради, поэтому им нужны не столько новые главы, сколько новые заглавия; что из-за этой умственной лени свет наводнен и лавки забиты книгами скучными, бездарными и пустыми, противными поэтическим правилам, хорошему вкусу, благопристойности и морали, торопливо и дурным слогом написанными и столь же торопливо прочитанными, — да и то лишь благодаря их новизне; что если я способен только увеличивать в объеме одну-единственную книгу, пусть даже сносную, то уж лучше мне положить перо. Я согласился отчасти и с теми и с другими и принял примирительное решение: не колеблясь, добавил некоторые параграфы к тем, которые уже вдвое увеличили книгу против ее первого издания, но, чтобы публике не перечитывать старое, прежде чем она доберется до нового, и чтобы легче было найти нужное место, я озаботился отметить последние добавления особым значком; я счел также нелишним указать добавление к первому изданию более простым значком; эти значки, по которым можно проследить, как развивался мой труд, должны облегчить его чтение. Заранее желая успокоить тех, кому покажется, что вставкам никогда не будет конца, я к вышеупомянутым значкам присовокупляю обещание ничего подобного больше не делать. Если же кто-нибудь обвинит меня в нарушении слова на том основании, что в три последующих издания включено довольно много новых параграфов, я попрошу этого читателя поверить мне, что, перемешивая их со старыми и уничтожая разделительные значки, я не старался принудить людей перечитывать уже известные им места; просто мне хотелось оставить потомкам более полное, законченное и, быть может, более совершенное произведение о современных нравах. Нужно сказать еще, что я отнюдь не задавался целью написать книгу максим: максимы в науке о морали подобны законам, а у меня слишком мало власти, да и таланта, чтобы выступать в качестве законодателя. Притом они, на манер изречений оракула, должны быть сжатыми и короткими, я же нередко грешил против этого правила. Иные мои размышления действительно коротки, другие более пространны; о разных вещах думаешь по-разному, поэтому и выражаешь их по-разному: сентенцией, рассуждением, метафорой или иным тропом, сопоставлением, простой аналогией, рассказом о каком-либо событии или об одной из его подробностей, описанием, картиной; отсюда и вытекает длина или краткость моих размышлений. Тот, кто пишет максимы, хочет, чтоб ему во всем верили; я же, напротив, согласен выслушать упрек в том, что иногда ошибался в своих наблюдениях, лишь бы это помогло другим не делать таких же ошибок.
Абраам Босс.
Фронтиспис к руководству по искусству гравирования (гравюра).
Глава I О творениях человеческого разума
1
Все давно сказано, и мы опоздали родиться, ибо уже более семи тысяч лет на земле живут и мыслят люди. Урожай самых мудрых и прекрасных наблюдений над человеческими нравами снят, и нам остается лишь подбирать колосья, оставленные древними философами и мудрейшими из наших современников.
2
Пусть каждый старается думать и говорить разумно, но откажется от попыток убедить других в непогрешимости своих вкусов и чувств: это слишком трудная затея.
3
Писатель должен быть таким же мастером своего дела, как, скажем, часовщик. Одним умом тут не обойдешься. Некий судья отличался незаурядными достоинствами, был и проницателен и опытен, но напечатал книгу о морали — и она оказалась редкостным собранием благоглупостей.
4
Труднее составить себе имя превосходным сочинением, нежели прославить сочинение посредственное, если имя уже создано.
5
Мы приходим в восторг от самых посредственных сатирических или разоблачительных сочинений, если получаем их в рукописи, из-под полы и с условием вернуть их таким же способом; настоящий пробный камень — это печатный станок.
6
Если из иных сочинений о морали исключить обращение к читателям, посвятительное послание, предисловие, оглавление и похвальные отзывы, останется так мало страниц, что вряд ли они могли бы составить книгу.
7
Есть области, в которых посредственность невыносима: поэзия, музыка, живопись, ораторское искусство.
Какая пытка слушать, как оратор напыщенно произносит скучную речь или плохой поэт с пафосом читает посредственные стишки!
8
Иные сочинители трагедий страдают пристрастием к стихотворным тирадам, на первый взгляд сильным, благородным, исполненным высоких чувств, а в сущности, просто длинным и напыщенным. Все жадно слушают, закатив глаза и открыв рот, воображая, будто им это нравится, и чем меньше понимают, тем больше восхищаются; от восторгов и рукоплесканий людям некогда перевести дух. Когда я был еще совсем молод, мне казалось, что эти стихи ясны и понятны актерам, партеру, амфитеатру, а главное — их авторам и что если я при всем старании не способен их уразуметь, значит, я сам и виноват; с тех пор я изменил свое мнение.
9
Пока еще никто не видел великого произведения, сочиненного совместно{111} несколькими писателями: Гомер сочинил «Илиаду», Вергилий — «Энеиду», Тит Ливии — «Декады», а римский оратор{112} — свои речи.
10
В искусстве есть некий предел совершенства, как в природе — предел благорастворенности и зрелости. У того, кто чувствует и любит такое искусство, — превосходный вкус; у того, кто не чувствует его и любит все стоящее выше или ниже, — вкус испорченный; следовательно, вкусы бывают хорошие и дурные, и люди правы, когда спорят о них.
11
Люди часто руководствуются не столько вкусом, сколько пристрастием; иначе говоря, на свете мало людей, наделенных не только умом, но, сверх того, еще верным вкусом и способностью к справедливым суждениям.
12
Жизнь героев обогатила историю, а история украсила подвиги героев; поэтому я затрудняюсь сказать, кто кому больше обязан: пишущие историю — тем, кто одарил их столь благородным материалом, или эти великие люди — своим историкам.
13
Хвалебные эпитеты еще не составляют похвалы. Похвала требует фактов, и притом умело поданных.
14
Весь талант сочинителя состоит в умении живописать и находить точные слова. Только образы и определения ставят Моисея[33], Гомера, Платона, Вергилия и Горация выше других писателей; кто хочет писать естественно, изящно и сильно, должен всегда выражать истину.
15
В наш литературный слог пришлось ввести такие же изменения, какие были введены в архитектуру: готический стиль, навязанный зодчеству невежеством, был изгнан и заменен ордерами дорическим, ионическим и коринфским. То, что прежде мы видели только на развалинах древнегреческих и римских зданий, стало достоянием современности и украшает теперь наши портики и перистили. Точно так же, чтобы достичь совершенства в словесности и — хотя это очень трудно — превзойти древних, нужно начинать с подражания им.
Сколько протекло веков, прежде чем люди прониклись вкусами древних и вернулись к простоте и естественности в науках и искусстве!
Мы питаемся тем, что нам дают писатели древности и лучшие из новых, выжимаем и вытягиваем из них все, что можем, насыщая этими соками наши собственные произведения; потом, выпустив их в свет и решив, что теперь-то мы уже научились ходить без чужой помощи, мы восстаем против наших учителей{113} и дурно обходимся с ними, уподобляясь младенцам, которые бьют своих кормилиц, окрепнув и набравшись сил на их отличном молоке.
Некий современный сочинитель все время старается нас убедить, что древние писатели хуже новых, причем применяет два вида доказательств: рассуждение и пример. Рассуждает он, основываясь на собственном вкусе, а примеры берет из собственных произведений{114}.
Он признает, что хотя слог у древних неровный и неправильный, все же у них есть удачные места; он приводит цитаты, и они так прекрасны, что ради них стоит прочесть даже его критику.
Иные из наших знаменитых писателей{115} отстаивают древних, но им не очень-то доверяют: их сочинения ни в чем не отступают от вкуса античных авторов, следовательно, они как бы защищают самих себя: на этом основании их не желают слушать.
16
Сочинители должны были бы охотно читать свои труды тем просвещенным людям, которые видят все недостатки произведения и умеют правильно его оценить.
Не слушать ничьих советов и отвергать все поправки может только педант.
Сочинитель должен с одинаковой скромностью выслушивать и похвалу и критику.
17
Среди множества выражений, передающих нашу мысль, по-настоящему удачным может быть только одно; хотя в беседе или за работой его находишь не сразу, тем не менее оно существует, а все остальные неточны и не могут удовлетворить вдумчивого человека, который хочет, чтобы его поняли.
Хороший и взыскательный автор знает, что выражение, найденное после долгих и трудных поисков, оказывается обычно самым простым, самым естественным — первым, которое безо всяких усилий должно было бы прийти в голову.
Люди, пишущие под влиянием минутной настроенности, потом много правят свои произведения. Но настроенность меняется под влиянием различных обстоятельств, и тогда эти люди охладевают к тем самым выражениям и словам, которые особенно им нравились.
18
Ясность ума, которая помогает нам писать хорошие книги, в то же время заставляет нас сомневаться, так ли уж они хороши, чтобы их стоило читать.
Сочинитель, у которого не слишком много здравого смысла, уверен, что он пишет божественно; здравомыслящий писатель надеется, что он пишет разумно.
19
«Мне предложили, — сказал Арист, — прочесть мои произведения Зоилу, и я согласился. Они произвели на него такое впечатление, что, растерявшись, он не только не разбранил их, но даже высказал мне несколько сдержанных похвал. С тех пор он уже никому их не хвалил, но я не в обиде на него, ибо понимаю, что большего от автора и требовать нельзя. Мне даже жаль его: ему пришлось услышать нечто хорошее и к тому же написанное не им».
Тот, кто по своему положению не знает авторского самолюбия, обычно находится во власти других страстей и стремлений, которые целиком поглощают его и делают равнодушным к замыслам других сочинителей. На свете мало людей достаточно умных, сердечных и благополучных, чтобы от души наслаждаться безупречными произведениями.
20
Мы так любим критиковать, что теряем способность глубоко чувствовать поистине прекрасные творения.
21
Многие люди, даже способные понять достоинства рукописи, которую им прочли, не решаются похвалить ее вслух, ибо не знают, какой прием она встретит, когда будет напечатана, или как ее оценят знаменитости; они не смеют высказать свое мнение, всегда стремятся быть заодно с большинством и ждут одобрительного приговора толпы. Вот тут они смело заявляют, что первыми оценили это произведение и что читатели на их стороне.
Эти люди упускают самые благоприятные случаи убедить нас в том, что они проницательны и образованны, что их суждения глубоки, что хорошее для них хорошо, а превосходное — превосходно. Им в руки попадает отличное сочинение: это первый труд автора, еще не составившего себе имени, ничем не знаменитого; следовательно, нет нужды за ним ухаживать, нет нужды восхвалять его произведения в надежде привлечь к себе внимание его покровителей. Зелоты{116}, от вас никто не требует, чтобы вы восклицали: «Это воплощение остроумия! Какой дивный дар человечеству! Никогда еще изящная словесность не достигала таких высот! Отныне это произведение станет мерилом вкуса». Такие восторги преувеличены и неприятны, от них попахивает желанием получить пенсион и аббатство, они вредны для того, кто действительно стоит похвал и кого хотят похвалить. Но почему бы вам не сказать: «Вот хорошая книга!» Правда, вы это говорите вместе со всей Францией, со всеми чужеземцами и соотечественниками, когда книгу читает вся Европа и она переведена на несколько языков, но теперь уже поздно.
22
Иные люди, прочитав какую-нибудь книгу, приводят потом места, смысла которых они не поняли и вдобавок еще исказили, перетолковав по-своему. Они вложили в эти страницы собственные мысли, облекли их в собственные слова, испортили, обезобразили и вот выносят их на суд, утверждая, что они плохи, — и все с этим соглашаются. Но тот отрывок, который цитируют подобные критики, — вернее, полагают, что цитируют, — не становится от этого хуже.
23
«Что вы скажете о книге Гермодора?» — «Что она прескверная, — заявляет Антим. — Да, прескверная. Настолько плохая, что ее нельзя даже назвать книгой, и вообще она не стоит того, чтобы о ней упоминать». — «А вы ее читали?» — «Нет», — отвечает Антим. Ему следовало бы добавить, что книгу разбранили Фульвия и Мелания, хотя тоже не читали ее, и что сам он — друг Фульвии и Мелании.
24
Арсен взирает на людей с высоты своего таланта: они так далеко внизу, что их ничтожество просто поражает его. Захваленный, заласканный, превознесенный до небес людьми, которые как бы связаны круговой порукой взаимной лести, он, обладая кое-какими достоинствами, полагает, что наделен всеми добродетелями, существующими на свете, но не существующими у него самого. Он так занят собственными блистательными замыслами и только ими, что весьма неохотно соглашается время от времени обнародовать какую-нибудь премудрую истину, так не способен снизойти до обыкновенных человеческих суждений, что предоставляет заурядным душам вести размеренное и разумное существование, а сам считает себя в ответе за свои выходки только перед кружком восторженных друзей, ибо лишь они умеют здраво судить и мыслить, знают, как писать, знают, что писать. Нет такого произведения, хорошо принятого в свете и одобренного всеми порядочными людьми, которое он похвалил бы или хотя бы прочел… Не пойдет ему впрок и этот портрет: его он тоже не заметит.
25
У Теокрина немало бесполезных знаний и весьма странных предубеждений: он скорее методичен, чем глубок, недостаток ума восполняет памятью, рассеян, высокомерен и всегда как будто насмехается над теми, кто, по его мнению, недостаточно его ценит. Как-то случилось мне прочесть ему написанный мною труд; он его выслушал. Не успел я окончить, как он заговорил о своем произведении. «А что он думает о вашем?» — осведомитесь вы. Я ведь уже ответил: он заговорил о своем.
26
Как ни безупречно произведение, от него не останется камня на камне, если автор, прислушиваясь к критике, поверит всем своим судьям, ибо каждый из них потребует исключить именно то место, которое меньше всего ему понравилось.
27
Всем известно, что если десять человек требуют, чтобы какое-либо выражение или какую-либо мысль автор вычеркнул из книги, то другие десять несогласны с ними. «Зачем исключать эту мысль? — говорят они. — Она свежа, прекрасна и великолепно выражена». Между тем первые продолжают утверждать, что они вовсе пренебрегли бы ею или, по крайней мере, иначе выразили бы ее. «У вас есть словечко, отлично найденное и живо рисующее то, о чем вы пишете», — говорят одни. «У вас есть словечко, — говорят другие, — слишком уж рискованное и не соответствующее тому, что вы, вероятно, хотели сказать». Так эти люди относятся к одному и тому же выражению, к одному и тому же штриху, а ведь все они знатоки или слывут знатоками. Автору, пожалуй, остается один только выход: набравшись смелости, согласиться с теми, кто его одобряет.
28
Писатель, наделенный умом, не должен обращать внимание на вздорную, грязную, злобную критику своего произведения, на глупые толкования отдельных мест, — и, уж во всяком случае, не должен вычеркивать эти места. Он отлично знает, что, как бы тщательно он ни отделывал книгу, насмешники все равно обрушатся на нее с издевками, стараясь разбранить самое лучшее, что есть в его творении.
29
Если верить некоторым решительным людям, некоторым горячим головам, то для выражения чувств слова излишни: лучше изъясняться знаками и понимать друг друга без слов. Хотя вы пишете сжато и точно, — таково, по крайней мере, общее мнение, — люди, о которых я говорю, находят ваш слог расплывчатым. Им нужны пробелы, которые они сами могли бы заполнить, им необходимо, чтобы вы писали для них одних: целый период они заменили бы начальным словом, целую главу — одним периодом. Вы прочитали им какое-то место из своего произведения, и с них этого достаточно: они уже все уразумели, им ясен весь ваш замысел. Самое приятное для них чтение — это головоломки, состоящие из загадочных фраз, и они скорбят, что подобный искалеченный слог встречается не часто и что мало писателей, которым он по душе. Если сочинитель уподобит что-либо размеренному, спокойному и в то же время быстрому течению реки или гонимому ветром пламени, которое, охватив лес, уничтожает дубы и сосны, — они в таких сравнениях не найдут красноречия. Поразите их фейерверком, ослепите молнией — вот тогда ваш слог покажется им прекрасным и разумным.
30
Как велико различие между произведением просто изящным и произведением совершенным или образцовым! Не знаю, существуют ли еще в наше время творения последнего рода. Даже немногочисленным писателям, наделенным большим талантом, легче, пожалуй, достичь истинного благородства и величия, нежели избежать всякого рода погрешностей стиля. «Сид» при своем рождении был встречен единодушным гулом одобрения. Эта трагедия оказалась сильнее политики, сильнее властей, тщетно пытавшихся ее уничтожить; за нее дружно высказались люди, которые обычно придерживаются разных взглядов и мнений, — вельможи и простолюдины: все они знали ее назубок и во время представления подсказывали реплики актерам. Словом, «Сид» — это одно из совершеннейших творений словесности, и тем не менее один из самых обоснованных в мире критических разборов — это разбор «Сида»{117}.
31
Если книга возвышает душу, вселяя в нее мужество и благородные порывы, судите ее только по этим чувствам: она превосходна и создана рукой мастера.
32
Капис считает себя судьей в вопросах изящной словесности и уверен, что пишет не хуже Бугура{118} и Рабютена{119}; он один, наперекор всем, отрицает за Дамисом право считаться хорошим писателем. Что касается Дамиса, то он согласен со всеми и чистосердечно говорит, что Капис — скучный писака.
33
Газетчик обязан сообщать публике, что вышла в свет такая-то книга, что она издана Крамуази{120}, отпечатана таким-то шрифтом на хорошей бумаге, красиво переплетена и стоит столько-то. Он должен изучить все — вплоть до вывески на книжной лавке, где эта книга продается; но боже его избави пускаться в критику.
Высокий стиль газетчика — это пустая болтовня о политике.
Раздобыв какую-нибудь новость, газетчик спокойно ложится спать; за ночь она успевает протухнуть, и поутру, когда он просыпается, ее приходится выбрасывать.
34
Философ проводит всю жизнь в наблюдениях за людьми и, не щадя сил, старается распознать их пороки и слабости. Излагая свои мысли, он порою ищет для них отточенную форму, но не авторское тщеславие движет им при этом, а желание показать открывшуюся ему истину в таком свете, чтобы она поразила умы. Некоторые читатели полагают, что платят ему с лихвой, когда с важным видом объявляют, что прочли его книгу и что она вовсе не глупа; однако он глух к похвалам: ради них он не стал бы трудиться и бодрствовать по ночам. Его замыслы куда обширнее, а цели — возвышенней: он с радостью откажется от любых восхвалений и даже от благодарности ради того великого успеха, который редко кому выпадает на долю, — он стремится исправить людей.
35
Глупцы читают книгу и ничего не могут в ней понять; заурядные люди думают, что им все понятно; истинно умные люди иной раз понимают не все: запутанное они находят запутанным, а ясное — ясным. Так называемые умники изволят находить неясным то, что ясно, и не понимают того, что вполне очевидно.
36
Напрасно старается сочинитель стяжать восхищенные похвалы своему труду. Глупцы иногда восхищаются, но на то они и глупцы. Умные люди таят в себе ростки всех мыслей и чувств; ничто им не внове: они не склонны восхищаться, они просто одобряют.
37
Я не представляю себе, что письма можно писать остроумнее, приятнее, изящнее и легче по слогу, чем их писали Бальзак и Вуатюр{121}. Правда, письма эти еще не проникнуты чувствами, которые распространились позднее и своим появлением обязаны женщинам. В произведениях этого рода прекрасный пол одареннее нас: под их пером непринужденно рождаются выражения и обороты, которые нам даются лишь ценой долгих поисков и тяжких усилий. Женщины на редкость счастливо выбирают слова и с такой точностью расставляют их, что самые обыденные приобретают прелесть новизны и кажутся нарочно созданными для этого случая. Только женщинам дано одним словом выразить полноту чувства и точно передать тончайшую мысль. Они с неподражаемой естественностью нанизывают одну тему на другую, связывая их единством смысла. Смею утверждать, что если бы они к тому же еще блюли правильность языка, во всей французской словесности не было бы лучше написанных произведений.
38
Единственный недостаток Теренция — некоторая холодность; зато какая чистота, точность, утонченность, грация, какие характеры! Единственный недостаток Мольера — некоторая простонародность языка и грубость слога; зато какой пыл и непосредственность, какое неистощимое веселье, какие образы, какое умение воссоздать нравы людей и высмеять глупость! И какой получился бы писатель, если бы слить воедино этих двух комедиографов!
39
Я перечитал Малерба и Теофиля{122}. Оба они знали жизнь, но воплощали ее по-разному. Первый, владеющий слогом ровным и богатым, показывает одновременно все, что в ней есть самого прекрасного и благородного, самого простого и наивного: он ее живописец, и он же — историк. Второй неразборчив, неточен, пишет размашисто и неровно; порою он утяжеляет описания и вдается в излишние подробности — тогда он анатом; порою выдумывает, преувеличивает, выходит за пределы правды — тогда он сочинитель романов»
40
Ронсар{123} и Бальзак, каждый в своем роде, отличались такими достоинствами и недостатками, которые не могли не способствовать появлению после них великих писателей как в прозе, так и в поэзии.
41
Слог и манера изложения у Маро{124} таковы, словно он начал писать уже после Ронсара: от нас его отличают лишь отдельные слова.
42
Ронсар и современные ему сочинители принесли французской словесности больше вреда, нежели пользы. Они задержали ее на пути к совершенству, из-за них ей грозила опасность сбиться с дороги и никогда не достичь цели. Удивительно, что произведения Маро, столь непринужденные и легкие, не помогли Ронсару, полному огня и вдохновения, стать поэтом лучшим, чем Ронсар и Маро; не менее удивительно и то, что сразу вслед за Белло{125}, Жоделем и дю Бартасом появились Ракан{126} и Малерб и что французский язык, уже тронутый порчей, так быстро исцелился.
43
Маро и Рабле совершили непростительный грех, запятнав свои сочинения непристойностью: они оба обладали таким прирожденным талантом, что легко могли бы обойтись без нее, даже угождая тем, кому смешное в книге дороже, чем высокое. Особенно трудно понять Рабле: что бы там ни говорили, его произведение — неразрешимая загадка. Оно подобно химере — женщине с прекрасным лицом, но с ногами и хвостом змеи или еще более безобразного животного: это чудовищное сплетение высокой, утонченной морали и грязного порока. Там, где Рабле дурен, он переходит за пределы дурного, это какая-то гнусная снедь для черни; там, где хорош, он превосходен и бесподобен, он становится изысканнейшим из возможных блюд.
44
Два писателя высказывали в своих трудах неодобрение Монтеню{127}; я тоже считаю, что Монтень не свободен от недостатков, но они, видимо, вообще нисколько его не ценили. Один из них недостаточно мыслил, чтобы ценить автора, который мыслил много; другой мыслил слишком утонченно, чтобы ему могли нравиться простые мысли.
45
Сдержанная, серьезная, строгая манера изложения служит автору порукой долгой известности: мы до сих пор читаем Амио{128} и Коэффето{129}, но читает ли кто-нибудь их современников? Бальзак по отбору слов и выражений ближе нам, чем Вуатюр; но если последний по оборотам, по духу и отсутствию простоты кажется нам устарелым и ничем не напоминает наших сочинителей, все же надо сказать, что его легче замалчивать, чем ему подражать, и что немногочисленные последователи Вуатюра так и не смогли его превзойти.
46
Г. Г.{130} стоит несколько ниже полного ничтожества; впрочем, подобных изданий у нас немало. Тот, кто ухитряется нажить состояние на глупой книге, в такой же мере себе на уме, в какой неумен тот, кто ее покупает; однако, зная вкус публики, трудно порой не подсунуть ей какой-нибудь чепухи.
47
Всем очевидно, что опера — это лишь набросок настоящего драматического спектакля{131}, только намек на него.
Не знаю, почему это опера, несмотря на превосходную музыку и царственную роскошь постановки, все же нагоняет на меня скуку.
Иные сцены в опере хочется заменить, а порой вообще ждешь не дождешься, чтобы она окончилась: происходит это из-за отсутствия театральных эффектов, действия, всего, что увлекает зрителя.
Опера в наши дни — это еще не поэма, а лишь отдельные стихи: с тех пор как Амфион{132} и его присные решили убрать театральные машины, она перестала быть зрелищем и превратилась в концерт, вернее — в пение, которое сопровождают инструменты. Тот, кто утверждает, будто театральные машины — это детская забава, годная только для театра марионеток, вводит людей в обман и прививает им дурной вкус: машины украшают вымысел, придают ему правдоподобие, поддерживают в зрителе приятную иллюзию, без которой театр утрачивает большую часть своей прелести, ибо она сообщает ему нечто волшебное. Обеим «Береникам» и «Пенелопе»{133} не нужны полеты, колесницы, превращения, но опере они необходимы: смысл ее в том, чтобы с одинаковой силой чаровать ум, глаза и слух.
48
Эти хлопотуны создали здесь все{134}: машины, балет, стихи, музыку, весь спектакль; даже зал, где дается представление, — то есть крыша, фундамент, стены, — дело их рук. Кто посмеет усомниться, что охоту на воде, волшебный обед[34], чудо, ожидавшее всех в лабиринте[35], тоже придумали они? Я сужу об этом по их суетливости и довольному виду, с которым они принимают изъявления восторга. Если все же я заблуждаюсь, если они не внесли никакого вклада в это празднество, столь долгое, столь великолепное и пленительное, а все придумал и устроил на собственные средства один-единственный человек, — в таком случае, должен сознаться, меня одинаково повергают в изумление и хладнокровное спокойствие того, кто всем этим занимался, и беспокойная озабоченность тех, кто не сделал ровно ничего.
49
Знатоки или те, что почитают себя таковыми, выносят окончательные и бесповоротные приговоры театральным представлениям; они укрепляются на своих позициях и делятся на враждующие партии, причем каждая из них, руководствуясь отнюдь не интересами публики или справедливости, восхищается только одним творением, поэтическим или музыкальным, и освистывает все остальное. Они защищают свои предубеждения с пылом, вредным в равной степени и противной стороне, и их собственному кружку: беспрерывными противоречиями они обескураживают как поэтов, так и музыкантов и, задерживая развитие искусств и наук, лишают нас возможности собрать урожай, который мог бы созреть, если бы несколько истинно талантливых людей, вступив в свободное соревнование, создали бы, каждый на свой лад и в соответствии со своим дарованием, прекрасные произведения искусства.
50
Почему зрители в театре так откровенно смеются и так стыдятся плакать? Разве человеку менее свойственно сострадать тому, что достойно жалости, чем хохотать над глупостью? Быть может, мы боимся, что при этом исказятся наши лица? Но самая горькая скорбь не искажает их так, как неумеренный смех, — недаром же мы отворачиваемся, когда хотим посмеяться в присутствии вельмож и вообще уважаемых нами людей. Или мы не желаем показать, как нежно наше сердце, не желаем проявить слабость, тем более что речь идет о вымысле и кто-нибудь может подумать, будто мы приняли его за правду? Но если не говорить о серьезных и глубокомысленных людях, которые считают слабостью как неудержимый смех, так и потоки слез, равно воспрещая себе и то и другое, то скажите на милость, чего, собственно, мы ждем от трагедии? Веселья? Но ведь мы знаем, что трагические образы могут быть не менее правдивы, чем комические! Разве мы заразимся радостью или грустью, если не поверим тому, что происходит на сцене? И разве нас так легко удовлетворить, что мы не станем требовать правдоподобия? Иногда какое-то место в комедии вызывает взрыв смеха у всего амфитеатра: это говорит о том, что пьеса забавна и хорошо сыграна; но нередко бывает и так, что все с трудом удерживают слезы, стараясь скрыть их натянутым смешком: это доказывает, что хорошая трагедия обязательно должна вызывать искренние слезы, которые зрителям следовало бы без всякого смущения откровенно вытирать на виду друг у друга. К тому же, как только публика решит смело проявлять свои чувства в театре, она сразу обнаружит, что ей угрожает не столько опасность заплакать, сколько опасность умереть от скуки.
51
Трагедия с первых же реплик завладевает сердцем зрителя и до конца спектакля не позволяет ему ни прийти в себя, ни перевести дух; если же она и дает передышку, то для того только, чтобы погрузить в новые бездны, вселить новые тревоги. Она ведет его от сострадания к ужасу или, напротив, от ужаса к состраданию и, заставив испытать поочередно неуверенность, надежду, боязнь, удивление и страх, исторгнув слезы и рыдания, делает свидетелем катастрофы. Отсюда можно сделать вывод, что трагедия — это отнюдь не переплетение изысканных чувств, нежных изъяснений, любовных признаний, приятных портретов, слащавых или забавных и смешных словечек, завершающихся в последней сцене[36]{135} тем, что мятежники отказываются внять голосу рассудка и, приличия ради, проливается кровь какого-нибудь несчастного, который, по воле автора, платит за все это своей жизнью.
52
Мало того что нравы комических героев не должны вселять в нас отвращение: им еще следует быть поучительными и благопристойными. Смешное может выступать в образе столь низком и грубом или скучном и неинтересном, что поэту непозволительно задерживать на нем свой взгляд, а зрителю — развлекаться им. Сочинитель фарсов может подчас вывести в нескольких сценах крестьянина или пьяницу, но в настоящей комедии им почти нет места: как могут они составить ее основу или быть ей движущей пружиной? Нам скажут, что такие характеры обычны в жизни; если следовать этому замечанию, то скоро весь амфитеатр будет лицезреть насвистывающего лакея, больного в халате, пьянчугу, который храпит или блюет, — что может быть обычнее? Для фата вполне естественно вставать поздно, немалую часть дня проводить за туалетом, душиться, налеплять мушки, получать записочки и отвечать на них; дайте актеру изобразить этот характер на сцене: чем больше времени он будет все это проделывать — акт, два акта, — тем правдивее сыграет свою роль, но тем скучнее и бесцветней окажется пьеса.
53
Пожалуй, роман и комедия могли бы принести столько же пользы, сколько сейчас они приносят вреда: в них порою встречаются такие прекрасные примеры постоянства, добродетели, нежности и бескорыстия, такие замечательные и высокие характеры, что, когда юная девушка, отложив книгу, бросает вокруг себя взгляд и видит людей недостойных, стоящих куда ниже тех, которые только что так ее восхищали, она, мне кажется, не может почувствовать к этим людям ни малейшей склонности.
54
Там, где Корнель хорош, он превосходит все самое прекрасное; он своеобразен и неподражаем, но неровен. Его первые пьесы были скучны и тягучи; читая их, невольно удивляешься тому, что он вознесся потом на такие вершины, равно как, читая его последние пьесы, недоумеваешь, как мог он так низко пасть. Даже в лучших его трагедиях встречаются непростительные нарушения правил, обязательных для автора драматических произведений: напыщенная декламация, которая задерживает или совсем останавливает развитие действия, крайняя небрежность в стихах и оборотах, непонятная у столь замечательного писателя. Более всего поражает в Корнеле его блистательный ум, которому он обязан лучшими из когда-либо существовавших стихов, общим построением трагедии, порою идущим вразрез с канонами античных авторов, и, наконец, развязками пьес, где опять-таки он иногда отступает от вкуса древних греков, от их великой простоты; напротив, он любит нагромождение событий, из которого почти всегда умеет выйти с честью. Особенное восхищение вызывает то обстоятельство, что Корнель так разнообразен в своих многочисленных и непохожих друг на друга творениях. Трагедии Расина, пожалуй, отмечены большим сходством, большей общностью основных идей; зато Расин ровнее, сдержаннее и никогда не изменяет себе — ни в замысле, ни в развитии пьес, всегда правильных, соразмерных, не отступающих от здравого смысла и правды; он отлично владеет стихом, точным, богатым по рифме, изящным, гибким и гармоничным. Словом, Расин во всем следует античным образцам, у которых он полностью заимствовал четкость и простоту интриги. При этом Расин умеет быть величавым и потрясающим, точно так же как Корнель — трогательным и патетичным. Какая нежность сквозит в каждой строке «Сида», «Полиевкта», «Горация»! Какое величие ощущаем мы в образах Митридата, Пора и Бурра! Оба, и Корнель и Расин, в равной мере умели вызывать те чувства, которыми древние так любили волновать зрителей, — то есть ужас и сострадание: Орест в «Андромахе» Расина и Федра в его одноименной трагедии, Эдип и Гораций Корнеля — вот свидетельства этому. Если все же дозволено провести сравнение между этими писателями, отметить черты, которые особенно свойственны каждому из них и чаще всего встречаются в их творениях, то, быть может, следует сказать так: Корнель подчиняет нас мыслям и характерам своих героев. Расин приноравливается к нам. Один рисует людей, какими они должны были бы быть, другой — такими, как они есть; героями первого мы восхищаемся и находим их достойными подражания; в героях второго обнаруживаем свойства, известные нам по нашим собственным наблюдениям, чувства, пережитые нами самими. Один возвышает нас, повергает в изумление, учит, властвует над нами; другой нравится, волнует, трогает, проникает в душу. Первый писал о том, что всего прекраснее, благороднее и сильнее в человеческом разуме, второй — о том, что всего неотразимее и утонченнее в человеческих страстях. У одного — наставления, правила, советы, у другого — пристрастия и чувства. Корнель овладевает умом, Расин потрясает и смягчает сердце. Корнель требовательнее к людям, Расин их лучше знает. Один, пожалуй, идет по стопам Софокла, другой скорее следует Еврипиду.
55
Толпа называет красноречием способность иных людей подолгу разглагольствовать, изо всех сил напрягать голос и делать размашистые жесты. Педанты полагают, что обладать им могут только ораторы, ибо не отличают красноречия от нагромождения образов, громких слов и закругленных периодов.
Логика — это, видимо, умение доказать какую-то истину, а красноречие — это дар, позволяющий нам овладеть умом и сердцем собеседника, способность втолковать или внушить ему все, что нам угодно.
Красноречие могут проявлять и люди, ведущие беседу, и сочинители, о чем бы они ни писали. Оно редко обнаруживается там, где его ищут, но иногда оказывается там, где и не думали искать.
Красноречие относится к высокому стилю, как целое относится к части.
Что такое высокий стиль? Это понятие как будто до сих пор еще не имеет определения. Связано ли оно с поэтическими образами? Является ли производным от образов вообще или хотя бы каких-то определенных образов? Можно ли писать высоким стилем в любом роде изящной словесности или с ним совместимы только героические темы? Допустимо ли, чтобы эклоги блистали чем-нибудь, кроме прекрасной непринужденности, а письма и беседы отличались не только изяществом? Вернее, не являются ли непринужденность и изящество высоким стилем тех произведений, которые они призваны украшать? Что такое высокий стиль? Где его место?
Синонимы — это разные слова и выражения, обозначающие близкие понятия. Антитеза — это противопоставление двух истин, оттеняющих одна другую. Метафора или сравнение определяют понятие каким-нибудь ярким и убедительным образом, заимствованным у другого понятия. Гипербола преувеличивает истину, чтобы дать о ней лучшее представление. Высокий стиль раскрывает ту или иную истину, при условии, однако, что вся тема выдержана в благородном тоне: он показывает эту истину целиком, в ее возникновении и развитии, является самым ее достойным образным выражением. Заурядные умы не способны найти единственно точное выражение и употребляют вместо него синонимы; молодые люди увлекаются блеском антитез и постоянно прибегают к ним; люди, наделенные здравым умом и любящие точные образы, естественно, предпочитают сравнения или метафоры; живые и пламенные умы, увлекаемые не знающим узды воображением, которое побуждает их нарушать правила и соразмерность, злоупотребляют гиперболой. Высокий стиль доступен только гениям, и не всем, а лишь самым благородным.
56
Чтобы писать ясно, каждый сочинитель должен поставить себя на место читателей; пусть он взглянет на свое произведение так, словно прежде ни разу его не видел, читает впервые, непричастен к нему и должен высказать свое мнение о нем; пусть он сделает это и убедится: труд его не понят не потому, что люди стараются понять лишь самих себя, а потому, что понять его в самом деле невозможно.
57
Всякий сочинитель хочет писать так, чтобы его поняли; но при этом нужно писать о том, что стоит понимания. Бесспорно, обороты должны быть правильны, а слова точны, однако этими точными словами следует выражать мысли благородные, яркие, бесспорные, содержащие глубокую мораль. Дурное употребление сделает из ясного и точного слога тот, кто станет описывать им вещи сухие, ненужные, бесполезные, лишенные остроты и новизны. Зачем читателю легко и без затруднений понимать глупые и легкомысленные книги или скучные и общеизвестные рассуждения? Зачем ему знать мысли автора и зевать над его произведениями?
Если сочинитель хочет придать своему произведению некоторую глубину, если он старается сообщить своему слогу изящество, иной раз даже чрезмерное, — это говорит лишь о том, что он отличного мнения о читателях.
58
Читая книги, написанные людьми, принадлежащими к различным партиям и котериям, с неудовольствием видишь, что не все в них правда. Обстоятельства подтасованы, доводы лишены истинной силы и убедительности. Особенно досаждает то, что приходится читать множество грубых и оскорбительных слов, которыми обмениваются почтенные мужи, готовые превратить принципы какой-либо доктрины или спорный пункт в повод для личной ссоры. Об этих трудах следует сказать, что они так же мало заслуживают громкой славы, которой пользуются недолгое время, как и полного забвения, в которое погружаются, когда пламя страстей угасает и вопросы, затронутые в них, становятся вчерашним днем.
59
Одни достойны похвал и прославления за то, что хорошо пишут, другие — за то, что вовсе не пишут.
60
Вот уже двадцать лет, как у нас начали правильно писать и как мы стали рабами грамматики. Мы обогатили язык новыми словами, сбросили ярмо латинизмов, стали строить фразы на истинно французский лад. Мы вновь открываем законы благозвучия, постигнутые Малербом и Раканом и забытые писателями, пришедшими им на смену. Речи теперь строятся с такой точностью и ясностью, что в них невольно проглядывает изысканный ум.
61
Мы знаем писателей и ученых, ум которых столь же обширен, как то дело, которым они занимаются; обладая изобретательностью и гением, они с лихвой возвращают этому делу все, что почерпнули из его основ. Они облагораживают искусство и расширяют его пределы, если последние оказываются стеснительными для высокого и прекрасного, идут одни, без спутников, и всегда вперед, в гору, уверенные в себе, поощряемые пользой, которую приносит иногда отступление от правил. Люди здравомыслящие, благоразумные, умеренные не могут подняться до них и не только не восхищаются ими, но даже не понимают их и тем более не хотят им подражать. Они спокойно пребывают в кругу своих возможностей и не склонны идти дальше определенной границы, которая и есть граница их дарования и разума. Они никогда не переступают ее, потому что ничего за ней не видят, и способны лишь на то, чтобы стать первыми среди второстепенных, лучшими среди посредственных.
62
Бывают люди, наделенные, если можно так выразиться, умом низшего, второго сорта и словно созданные для того, чтобы служить вместилищем, реестром, кладовой для произведений других авторов. Они — подражатели, переводчики, компиляторы: сами они не умеют думать, поэтому говорят лишь то, что придумали другие, а так как выбор мыслей — это тоже творчество, выбирают они плохо и неверно, запоминают многое, но не лучшее. В них нет ничего своеобычного, присущего только им; они не знают даже того, что выучили, а учат лишь то, чего никто не хочет знать, собирают сведения сухие, бесплодные и бесполезные, лишенные приятности, никем не упоминаемые, выброшенные за ненадобностью, как монеты, которые уже не имеют хождения. Мы можем только удивляться книгам, которые они читают, и зевать, беседуя с ними или проглядывая их сочинения. Вельможи и простолюдины принимают их за ученых, а истинно умные люди относят к числу педантов.
63
Критика — это порою не столько наука, сколько ремесло, требующее скорей выносливости, чем ума, прилежания, чем способностей, привычки, чем одаренности. Если ею занимается человек более начитанный, нежели проницательный, и если он выбирает произведения по своему вкусу, критика портит и читателей и автора.
64
Советую автору, который не наделен оригинальным талантом и настолько скромен, что готов идти по чужим стопам, брать за образец лишь такие труды, где он находит ум, воображение, даже, ученость: если он и не сравняется с подлинником, то все же приблизится к нему и создаст произведение, которое будут читать. Напротив, он должен, как подводных камней, избегать подражания тому, кто пишет, движимый минутной настроенностью, голосом сердца и, так сказать, извлекает из собственной груди то, что потом набрасывает на бумаге: списывая с таких образцов, подвергаешься опасности стать скучным, грубым, смешным. В самом деле, я посмеялся бы над человеком, который не шутя вздумал бы перенять у меня мой голос или выражение моего лица.
65
Человеку, родившемуся христианином и французом, нечего делать в сатире: все подлинно важные темы для него под запретом. Все же он иногда осторожно притрагивается к ним, но тотчас отворачивается и берется за всякие пустяки, силой своего гения и красотой слога преобразуя их в нечто значительное.
66
Следует избегать пустых и ребячливых украшений слога, чтобы не уподобиться Дорила и Хандбуру{136}. С другой стороны, в иных сочинениях вполне можно допустить некоторые обороты, живые и яркие образы, — и пожалеть при этом тех авторов, которые не испытывают радости, когда употребляют их в своих собственных произведениях или находят в чужих.
67
Тот, кто пишет, заботясь только о вкусах своего века, больше думает о себе, нежели о судьбе своих произведений. Следует неустанно стремиться к совершенству, и тогда награда, в которой порой нам отказывают современники, будет воздана потомками.
68
Остережемся искать смешное там, где его нет: это портит вкус, затемняет и наше собственное суждение, и суждение других. Но если мы увидим нечто действительно смешное — постараемся с непринужденной грацией извлечь его на свет божий и показать так, чтобы это было приятно и поучительно.
69
«Гораций и Депрео говорили это до вас». Верю вам на слово, но все же это мои собственные суждения. Разве я не могу разумно думать и после них, как другие будут разумно думать и после меня?
Глава II О достоинствах человека
1
Может ли даже очень даровитый и наделенный незаурядными достоинствами человек не преисполниться сознанием своего ничтожества при мысли о том, что он умрет, а в мире никто не заметит его исчезновения и другие сразу займут его место?
2
У многих людей нет иных достоинств, кроме их имени. Посмотришь на них вблизи и видишь, до чего они ничтожны; а ведь издали они внушают уважение!
3
Я не сомневаюсь, что люди, назначенные на различные должности, каждый сообразно своим способностям и умению, справляются со своим делом хорошо; но все же осмелюсь предположить, что на свете найдется еще немало людей, известных и неизвестных, которые справились бы не хуже: к этой мысли я пришел, наблюдая за теми, что возвысились не потому, что от них многого ожидали, а лишь благодаря случаю, и, однако, необычайно отличились на своих новых постах.
Сколько замечательных людей, одаренных редкими талантами, умерли, не сумев обратить на себя внимание! Сколько их живет среди нас, а мир молчит о них и никогда не будет говорить!
4
Как бесконечно трудно человеку, который не принадлежит ни к какой корпорации, не ищет покровителей и приверженцев, держится особняком и не может представить иных рекомендаций, кроме собственных незаурядных достоинств, — как трудно ему выбиться на поверхность и стать вровень с глупцом, который обласкан судьбой.
5
Мало кто станет по собственному почину думать о заслугах ближнего.
Люди так заняты собой, что у них нет времени вглядываться в окружающих и справедливо их оценивать. Вот почему те, у кого много достоинств, но еще больше скромности, нередко остаются в тени.
6
Одним не хватает способностей и талантов, другим — возможности их проявить; поэтому людям следует воздавать должное не только за дела, ими свершенные, но и за дела, которые они могли бы свершить.
7
Легче встретить людей, обладающих умом, нежели способностью употреблять его в дело, ценить ум в других и находить ему полезное применение.
8
На свете больше инструментов, чем мастеров, а если говорить о мастерах, то плохих больше, чем хороших. Что вы сказали бы о человеке, которому вздумалось бы пилить рубанком и строгать пилой?
9
Неблагодарное ремесло избрал тот, кто пытается создать себе громкое имя. Жизнь его подходит к концу, а работа едва начата.
10
Как быть с Эгезиппом, который хлопочет о месте? Куда его пристроить — по финансовой ли части или на военную службу? Это безразлично, лишь бы должность приносила побольше доходов: он так же способен считать деньги и вести конторские книги, как носить оружие. «Эгезипп все умеет», — твердят его приятели, а это означает, что у него нет никаких особых талантов или, попросту говоря, что он ничего не умеет. Подобно Эгезиппу, большинство людей, в юности занятых только собою, развращенных праздностью и наслаждениями, ошибочно полагают в зрелые годы, что стоит им оказаться без дела или в нужде, как государство поспешит к ним на помощь и определит их на службу. Не многим идет на пользу следующая мудрая истина: лишь тот, кто смолоду трудился, просвещал свой ум, набрался знаний, приобрел опыт и стал как бы неотъемлемой частью государственного здания, — лишь тот действительно так необходим государству, что оно, во имя собственной выгоды, готово заботиться о его благе и приумножении его богатств.
Каждый из нас должен быть достоин должности, которую занимает; только об этом нам и следует заботиться: остальное — дело других.
11
Пусть уважают тебя за то, что заложено в тебе самом, а не подарено случаем, или пусть вовсе не уважают, — вот бесценная и спасительная в жизни истина. Она полезна людям, не занимающим высокого положения, но наделенным добродетелями и умом, ибо, руководствуясь ею, они станут хозяевами своей судьбы и покоя. Но для сильных мира сего эта истина опасна: она уменьшит число их приспешников — вернее, рабов; пошатнет их власть, а значит, собьет с них спесь, так как отныне им почти нечем будет гордиться, разве что изысканностью соусов и роскошью выездов; лишит удовольствия, которое они испытывают, когда их просят, уговаривают, умоляют или когда они отказывают, заставляют ждать, дают обещания и нарушают их; помешает им покровительствовать бездарности и унижать талант, — в тех случаях, когда они его распознают; изгонит из дворцов происки, коварство, лесть, низость, плутовство; превратит двор, где теперь бушуют страсти и плетутся интриги, в некий комический, а порой и трагический театр, где мудрецы будут только зрителями; возвратит человеческое достоинство людям любого звания, сотрет печать озабоченности с их лиц; даст им большую свободу; пробудит в них не только природные дарования, но и склонность к труду и учению; воспламенит их любовью к соревнованию, к славе, к добродетели; превратит искательных и низменных царедворцев, бесполезных, а порою и обременительных для государства, в мудрых помощников государя, безупречных отцов семейства, неподкупных судей, старательных чиновников, превосходных воинов, ораторов, философов и, наконец, подвергнет всех лишь одному серьезному неудобству, которое заключается в том, что им придется завещать своим наследникам меньше богатств и больше хороших примеров.
12
Только человек с твердым характером и незаурядным умом может, живя во Франции, обходиться без должности и службы, по доброй воле замкнуться в четырех стенах и ничего не делать. Мало кто обладает столь высокими качествами, чтобы достойно вести подобный образ жизни, и таким духовным богатством, чтобы заполнить свой досуг не «делами», как их называет светская чернь, а совсем иными занятиями. Все же было бы справедливо, если бы эти занятия, состоящие из чтения, бесед и раздумий о том, как обрести душевный покой, именовали бы не праздностью, а трудом мудреца.
13
Высокопоставленный и в то же время достойный человек никому не досаждает на службе тщеславием. Он не столько гордится своей должностью, сколько чувствует себя униженным, ибо знает, что способен был бы занимать другую, еще более высокую; склонный скорее к беспокойству, чем к презрительной надменности, он в тягость только самому себе.
14
Достойному человеку трудно состоять в свите вельможи, и вот по какой причине: будучи по природе скромным, он не допускает мысли, что доставит хоть малейшее удовольствие высокому лицу, если станет попадаться ему на пути, все время вертеться у него перед глазами и привлекать к себе внимание. Скорее он думает, что его считают докучным, и он появляется в приемной именитой особы, только подчиняясь велению обычая и долга. Напротив, человек, вполне довольный собой, — таких людей обычно называют бахвалами, — любит выставлять свою персону; он является в приемные, не испытывая никакого замешательства, ибо не способен предположить, что, глядя на него, вельможа думает о нем не то, что думает о себе он сам.
15
За усердное исполнение своего долга благородный человек вознаграждает себя удовлетворением, которое он при этом испытывает, и не заботится о похвалах, почете и признательности, в которых ему подчас отказывают.
16
Если бы я решился сравнивать людей, далеко не равных по их жизненному положению, я сказал бы, что истинно храбрый воин исполняет свой долг примерно так, как кровельщик кроет крышу: оба они не ищут опасности, но и не бегут от нее, рассматривая смерть как неприятность, сопряженную с их ремеслом и поэтому неизбежную. Первому точно так же не придет в голову бахвалиться тем, что он побывал в траншее, ринулся на приступ или взял укрепление, как второму — тем, что он влез на конек крыши или на колокольню. И тот и другой стараются лишь получше исполнить свою обязанность, меж тем как фанфарон тщится получше выглядеть в глазах других людей.
17
Скромность так же нужна достоинствам, как фигурам на картине нужен фон: она придает им силу и рельефность.
Внешняя простота — это будничная одежда заурядных людей, по их мерке скроенная и для них сшитая; в то же время — это чудесный убор для людей, совершивших великие деяния: глядя на них, я вспоминаю красивых женщин, которые тем пленительнее, чем меньше заботятся о своей прелести.
Иные люди, вполне довольные собой, своими поступками и недурными произведениями, но наслышанные о том, что величию подобает быть скромным, смеют напускать на себя скромность, подделываются под естественность и простоту: они напоминают мне невысоких людей, которые, входя в двери, пригибаются, чтобы не набить себе шишку о притолоку.
18
Твой сын — заика: не требуй, чтобы он произносил речи с трибуны; твоя дочь создана для светской жизни: не понуждай ее стать весталкой; твой отпущенник Ксанф слаб и робок: немедленно возьми его из легиона, освободи от военной службы. «Я хочу, чтобы он занял видное положение», — говоришь ты. Что ж, осыпь его дарами, надели землями, титулами, поместьями; воспользуйся тем, что мы живем в такой век, когда богатство приносит больше чести, чем даже доблесть. «Но мне это слишком дорого встанет», — возражаешь ты. Красе, ты, должно быть, шутишь! Подумай, ведь для тебя это все равно что капля воды, почерпнутая из Тибра, а речь идет о Ксанфе, о твоем любимце, о его спасении, ибо, оставшись на службе, к которой непригоден, он неминуемо навлечет на себя позор.
19
Думая о наших друзьях, мы должны помнить лишь об их высоких и дорогих для нас достоинствах, а не о том, благоприятствует ли им судьба. Если мы твердо знаем, что готовы разделить с ними все невзгоды, то смело и без оглядки можем искать их общества в дни полного их благополучия.
20
Мы постоянно восхищаемся всякими редкостями; почему же мы так равнодушны к добродетели?
21
Хорошо быть знатным, но не хуже быть и таким человеком, о котором никто уже не спрашивает, знатен он или нет.
22
Время от времени на земле рождаются необыкновенные, замечательные люди, чья добродетель сверкает, чьи высокие достоинства отбрасывают яркий сноп лучей. Подобно тем удивительным звездам, происхождение которых нам неведомо, равно как и неведома их судьба после того, как они исчезают с нашего горизонта, у этих людей нет ни предков, ни потомков: они сами составляют весь свой род.
23
Возвышенный разум подсказывает нам, в чем наш долг и как его выполнить, даже если это сопряжено с опасностью. Он вселяет в нас бодрость духа или хотя бы служит ей заменой.
24
Когда человек владеет тайнами своего искусства и создает совершенные творения, он как бы выходит за пределы этого искусства и становится вровень со всеми самыми благородными и возвышенными умами. В.{137} — живописец, К. — музыкант, автор «Пирама» — поэт, но Люлли — это Люлли, Миньяр{138} — это Миньяр, Корнель — это Корнель.
25
Человек свободный, холостой и к тому же неглупый может занять более высокое положение, чем ему было предназначено по праву рождения, войти в светское общество и стать на равную ногу с самыми именитыми людьми. Куда труднее сделать это женатому: брак словно вводит всех людей в назначенные им рамки.
26
Нужно признать, что, не считая личных достоинств, больше всего блеска и значительности придают человеку высокие должности и громкие титулы: кто не способен быть Эразмом, хочет стать епископом. Иные люди, чтобы стяжать известность, добиваются звания пэра, примаса, золотых орденских цепей, пурпура и мечтают о тиаре; но к чему кардинальский сан Трофиму?
27
Вы говорите, что Филимон носит одежды, на которых сверкает золото; но точно так же сверкает оно и у тех, кто им торгует. Он шьет платье из лучших тканей; но разве не выставлены они целыми штуками в лавках? Однако вышивка и узоры придают им особое великолепие; что ж, честь и хвала мастеру. Когда у Филимона спрашивают, который час, он вынимает бесподобные часы; чашка его шпаги сделана из оникса;[37] он выставляет напоказ руку, где блестит великолепный бриллиант чистейшей воды; нет такой диковинной безделушки, служащей не столько пользе, сколько тщеславию, которая не украшала бы его особу, и, подобно молодому человеку, взявшему в жены богатую старуху, он не отказывает себе в самых дорогих нарядах. Вы разожгли наконец мое любопытство; следует, пожалуй, посмотреть на эти столь ценные вещи, — пришлите-ка мне одежду и безделушки Филимона; его самого можете оставить себе.
Ты заблуждаешься, Филимон, полагая, что сверкающая карета, толпа бездельников, бегущая за тобой, и шестерка коней, влекущая твою колесницу, способны внушить глубокое уважение к твоей особе; если совлечь покровы богатства, похожие на одежду с чужого плеча, сразу станет видно, что ты за птица: самый обыкновенный глупец.
Следует подчас быть снисходительным к человеку, который, гордясь большой свитой, богатым нарядом и роскошным экипажем, мнит себя выше других по уму и знатности, — ведь подтверждение этому он находит в глазах и жестах людей, которые к нему обращаются.
28
Вот человек, который при дворе, а часто и в городе носит длинный плащ из шелка или голландского сукна, широкий пояс, повязанный высоко на животе, изящное накрахмаленное жабо, сафьяновые туфли и такую же шапочку с красивой мереей; он искусно причесан и румян лицом; помнит что-то из начатков метафизики; может объяснить, что такое «благость господня», и точно знает, каким видят бога святые в своих видениях. Такого человека все называют доктором наук. Вот другой человек, который не выходит из своего кабинета, смиренно размышляет, старается все понять, наводит справки, сличает, не устает читать, пишет… Его называют педантом.
29
Во Франции воины храбры, а судьи учены. В Риме судьи были храбры, а воины учены: каждый римлянин соединял в себе воина и судью.
30
Мне кажется, что только одно сословие, а именно военное, может породить героев, между тем как великие люди встречаются и среди судейских, и среди военных, и среди ученых, и среди придворных; но и герой, и великий человек вместе взятые не стоят одного истинно нравственного человека.
31
В военном деле различие между героем и великим человеком очень тонко: и тот и другой должен обладать всеми воинскими доблестями. И все же мне кажется, что первый — обязательно молод, предприимчив, отважен, неколебим в минуты опасности и бесстрашен, тогда как второй отличается ясным разумом, дальновидностью, незаурядными дарованиями и большим опытом. Быть может, Александр был всего лишь героем, а вот Цезарь — великий человек.
32
Эмиль{139} уже родился таким, каким даже самый замечательный человек обычно становится лишь благодаря суровой дисциплине, размышлениям и занятиям. Ему довольно было следовать своим природным дарованиям и руководствоваться голосом своего гения. Он начал действовать, вершить дела, еще не приобретя никаких знаний, вернее — он уже знал то, чему никогда не учился. Подумать только: будучи совсем ребенком, он шутя одержал несколько побед! Достаточно было бы подвигов, совершенных им в юности, чтобы прославить его жизнь, в которой долгий опыт сочетался с неизменной удачливостью. В дальнейшем он одерживал победы всякий раз, когда предоставлялся случай, а если случая не было, он, ведомый своей доблестью и счастливой звездой, сам создавал его. Он вызывает в нас восхищение не только тем, что свершил, но и тем, что мог бы свершить. Его считали человеком, не способным уступить неприятелю, дрогнуть перед численным перевесом врага или перед препятствиями; его превозносили за высокий разум, непреоборимый, зоркий, различавший то, что никто еще не различал; его уподобляли тому полководцу, который шествовал во главе своих легионов и, сам стоя нескольких легионов, служил им залогом победы; о нем говорили, что, как ни хорош он был, когда судьба баловала его, он становился еще лучше, когда она ему изменяла: отступление или неудачная осада придавали ему еще больше благородства, чем триумфы; его имя связывали со всеми выигранными битвами и взятыми городами; отмечали его скромность, равную его величию; рассказывали, что слова: «Я бежал», — он произносил с такой же непринужденностью, как слова: «Мы их разбили». Преданный государству, своей семье и главе рода, чистосердечный с богом и людьми, он так поклонялся истинным достоинствам, словно сам не обладал ими, и был искренним, простым, великодушным человеком, которому не хватало лишь самых заурядных добродетелей.
33
Дети богов[38] — назовем их так — не подчиняются законам природы и являют собой как бы исключение из них: время и годы почти ничего не могут им дать. Их достоинства опережают их возраст. Они рождаются уже умудренные знаниями и достигают истинной зрелости раньше, чем большинство людей избывает младенческое неведение.
34
Люди близорукие, я хочу сказать — недалекие и ограниченные узким кругом своих интересов, не понимают, что в одном человеке порою сочетаются самые разнообразные таланты. Они убеждены, что приятность в обхождении говорит о легкомыслии, они отказывают в праве на возвышенный и глубокий ум, шпроту суждений, мудрость тому, кто изящно сложен, подвижен, гибок и ловок; из жизнеописания Сократа они вычеркивают то обстоятельство, что он был отличным плясуном.
35
Как бы ни был человек хорош и добр к своим близким, он все же дает им при жизни достаточно оснований для того, чтобы утешиться после его кончины.
36
Умный, честный и прямодушный человек вполне может попасться в ловушку: ему не придет в голову, что кому-то вздумается поймать его на промахе и превратить в посмешище. Доверчивость усыпляет в нем осторожность, а глупые шутники этим и пользуются. Тем хуже для тех, кто попробует подшутить над ним вторично: такого человека можно обмануть только раз.
Если я человек справедливый, я стараюсь никого не обижать; если же мне хоть сколько-нибудь дороги собственные интересы, я особенно стараюсь не обижать умного человека.
37
В любом самом мелком, самом незначительном, самом неприметном нашем поступке уже сказывается весь наш характер: дурак и входит, и выходит, и садится, и встает с места, и молчит, и двигается иначе, нежели умный человек.
38
Я познакомился с Мопсом, когда он нанес мне визит, хотя был со мною незнаком. Он просит людей, которых не знает, повести его в гости к другим людям, которые не знают его; пишет письма женщинам, которым не представлен; вмешивается в беседу почтенных людей, не имеющих понятия, кто он такой, и, не дожидаясь вопросов, не замечая, что он кого-то прервал, начинает разглагольствовать длинно и глупо; входит в гостиную и усаживается куда попало, не заботясь ни о других, ни о самом себе: его просят освободить место, предназначенное для министра, — он садится в кресло, предназначенное для герцога и пэра… Над ним все смеются, лишь он один серьезен и даже не улыбнется. Сгоните пса с королевского трона — он тут же прыгнет на епископскую кафедру; он равнодушно оглядывает всех, не ведая ни замешательства, ни стыда: подобно глупцу, он не умеет краснеть.
39
Цельсий — невелика персона, но вельможи к нему снисходительны; он невежда, но водит знакомство с учеными; не отличается достоинствами, но на короткой ноге с людьми весьма достойными; беден талантами, но его язык служит людям толмачом, а ноги — скороходами. Он создан для того, чтобы бегать по чужим делам, передавать поручения, оказывать услуги, идти в переговорах дальше, чем его просят, а потом выслушивать, как от него отрекаются. Он мирит людей, рассорившихся при первой же встрече, успешно заканчивает одно дело и обрекает на провал сотню других, выставляет себя единственным виновником удачи и сваливает на других ответственность за неуспех, знает все толки, все городские сплетни; ничего не делает, зато вынюхивает и рассказывает, что делают другие. Цельсий обожает новости; ему известны даже семейные секреты и важнейшие государственные тайны; он сообщит вам, почему такой-то изгнан, а такой-то возвращен из изгнания; осведомит о причине ссоры двух братьев и о столкновении двух министров{140}. Разве не он первый предсказал печальные последствия разлада между родственниками? Не он ли твердил, что дружба министров непрочна? Не самолично ли присутствовал, когда были произнесены некие слова? Не принимал ли участия в переговорах? Поверили ли ему? Послушались ли его? Кому вы это говорите? Кто, как не он, принимал самое горячее участие во всех придворных интригах? Если бы дело обстояло иначе, если бы все это ему, ну, хотя бы не пригрезилось и не причудилось, — разве стал бы он вас убеждать? И разве был бы у него такой важный и таинственный вид, подобающий человеку, который только что исполнил важную миссию?
40
Менипп, эта птица в чужих перьях, не говорит, не чувствует, а только повторяет чьи-то чувства и речи. Более того — он с такой естественностью присваивает чужой ум, что сам же первый дается в обман, чистосердечно полагая, будто высказывает собственное суждение или поясняет собственную мысль, хотя на деле он просто эхо того, с кем только что расстался. Это человек, который может быть в обращении не более получаса; затем он начинает тускнеть, утрачивает тот скудный блеск, который сообщала ему его скудная память, и окончательно теряет в цене, как стертая монета; при этом он один не ведает, как мало в нем величия и героизма, один не способен понять, как много разума может быть отпущено человеку: он простодушно считает, что все похожи на него, поэтому держится и ведет себя так, словно ему нечего больше желать и некому завидовать. Он частенько разговаривает сам с собой на улицах и не скрывает этого; прохожие оглядываются и думают, что он, должно быть, решает какую-то сложную задачу и не находит ответа. Если вы поклонитесь ему, он придет в страшное замешательство, начнет соображать, нужно ли вам ответить, — а тем временем вы уже будете далеко. С помощью тщеславия он выбился в свет, возвысился, стал тем, чем прежде не был. С первого взгляда на него ясно: он занят только собою, убежден, что одет со вкусом и к лицу, уверен, что привлекает к себе всеобщее внимание, что люди обгоняют его только для того, чтобы получше его рассмотреть.
41
Этот человек может жить в своем дворце, где есть и летнее и зимнее помещение, но он предпочитает ночевать на антресолях в Лувре; побуждает его к этому отнюдь не скромность. Другой, желая сохранить стройную фигуру, не пьет вина и ест только раз в день, хотя он отнюдь не поклонник трезвенности и воздержания. Третий, после настойчивых просьб, приходит наконец на помощь своему обедневшему другу: не великодушие толкает его на это, — просто он хочет, чтобы его оставили в покое, и готов щедро платить за это. Побудительные причины — вот что определяет ценность человеческих поступков; благородно только то, что бескорыстно.
42
Ложное величие надменно и неприступно: оно сознает свою слабость и поэтому прячется, вернее — показывает себя чуть-чуть, ровно настолько, чтобы внушить почтение, скрыв при этом свое настоящее лицо — лицо ничтожества. Истинное величие непринужденно, мягко, сердечно, просто и доступно. К нему можно прикасаться, его можно трогать и рассматривать: чем ближе его узнаешь, тем больше им восхищаешься. Движимое добротой, оно склоняется к тем, кто ниже его, но ему ничего не стоит в любую минуту выпрямиться во весь рост. Оно порой беззаботно, небрежно к себе, забывает о своих преимуществах, но, когда нужно, показывает себя во всем блеске и могуществе. Оно смеется, играет, шутит — и всегда полно достоинства. Рядом с ним каждый чувствует себя свободно, но никто не смеет быть развязным. У него благородный и приятный нрав, внушающий уважение и доверие. Вот почему монархи, являясь нам великими и величественными, не дают нам почувствовать, как мы малы в сравнении с ними.
43
Мудрец исцеляется от честолюбия с помощью того же честолюбия; он стремится к столь многому, что не может ограничить себя так называемыми житейскими благами: высоким положением, богатством, милостями вельмож. Эти преимущества кажутся ему такими незначительными, несущественными и жалкими, что не могут заполнить его сердца и приковать к себе его мысли и желания. Ему даже приходится делать над собой усилие, чтобы не слишком их презирать. Единственное, что искушает его, — это жажда той славы, которую должна была бы принести человеку чистая, ничем не запятнанная добродетель; но так как люди обычно отказывают в этой славе своим ближним, то он обходится и без нее.
44
Кто сделал людям добро, тот добрый человек; кто пострадал за совершенное им добро, тот очень добрый человек, — тем добрее, чем сильнее пострадал, особенно, если в его страданиях виноваты люди, им облагодетельствованные; кто принял за это смерть, тот достиг вершин добродетели, героической и совершенной.
Себастьен Леклер.
«Посещение Людовиком XIV обсерватории» (гравюра).
Глава III О женщинах
1
Мнение мужчин о достоинствах какой-нибудь женщины редко совпадает с мнением женщин: их интересы слишком различны. Те милые повадки, те бесчисленные ужимки, которые так нравятся мужчинам и зажигают в них страсть, отталкивают женщин, рождая в них неприязнь и отвращение.
2
Иные женщины умеют так двигаться, поворачивать голову и поводить глазами, что это сообщает им некую величавость, некий внешний, напускной блеск, который потому только и производит впечатление, что никто не пробовал заглянуть внутрь. У других величавость проста и естественна, ибо зависит она не от поступи и движений, а от свойств души и как бы свидетельствует о высоком происхождении этих женщин. Их очарованию, сдержанному и непреходящему, сопутствуют тысячи достоинств, которые проглядывают сквозь все покровы скромности и видны всякому, у кого есть глаза.
3
Я знавал женщину, которая мечтала сперва стать девушкой в возрасте от тринадцати до двадцати двух лет, — само собой разумеется, красивой, — а потом превратиться в мужчину.
4
Молодые женщины не всегда понимают, как чарует приятная внешность, дарованная судьбой, и как полезно было бы им не разрушать этого очарования. Они портят столь редкостный и хрупкий дар природы жеманством и подражанием дурным образцам. У них всё заемное — даже голос, даже походка. Они усваивают то, что им не свойственно, проверяя в зеркале, довольно ли они непохожи на самих себя, и затрачивают немало труда, чтобы казаться менее привлекательными.
5
Все мы знаем, что женщины с великой охотой наряжаются и румянятся; это их обыкновение никак нельзя сравнить с обычаем носить маскарадную личину на костюмированном бале, ибо тот, кто ее надевает, не пытается выдать маску за самого себя, а лишь прячется под нею, стараясь остаться неузнанным, тогда как женщины стремятся ввести в заблуждение и выдают покупное за природное; следовательно, они просто обманывают.
Подобно тому как рыбу надо мерить, не принимая в расчет головы и хвоста, так и женщин надо разглядывать, не обращая внимания на их прическу и башмаки.
6
Если женщины хотят нравиться лишь самим себе и быть очаровательными в собственных глазах, они, несомненно, должны прихорашиваться, наряжаться и выбирать украшения, следуя собственному вкусу и прихоти. Но если они желают нравиться мужчинам, если красятся и белятся ради них, то да будет им известно, что, по мнению всех или, по крайней мере, многих мужчин, с которыми я разговаривал, белила и румяна портят и уродуют женщин; что одни только румяна уже старят их и делают неузнаваемыми; что нам неприятно видеть их накрашенные лица, их вставные зубы, их челюсти из воска; что мы решительно осуждаем их старание обезобразить себя и что, наконец, бог не только не покарает нас за нашу суровость, но, напротив того, благословит, ибо это единственное верное средство излечить женщин.
Если бы женщины от природы были такими, какими они становятся из-за своих ухищрений, если бы они вдруг утратили свежесть кожи и лица их сделались свинцово-бледными и багровыми по воле судьбы, а не от белил и румян, они все пришли бы в отчаяние.
7
Кокетка до последнего своего вздоха уверена, что она хороша собой и нравится мужчинам. Она относится к времени и годам как к чему-то, что покрывает морщинами и обезображивает только других женщин, и забывает, что возраст написан и на ее лице. Наряд, который в юности украшал ее, теперь лишь портит, оттеняя все убожество старости. Жеманство и слащавость сопутствуют ей в недугах и немощи, и умирает она в пышном уборе и пестрых бантах.
8
Лиза слышит, как о некоей презираемой ею кокетке говорят, что та молодится и носит наряды, которые не пристали женщине за сорок. Лизе тоже все сорок, но для нее в году куда меньше двенадцати месяцев, ж к тому же они ее не старят. Так считает Лиза. Накладывая румяна, прилепляя мушки, она глядится в зеркало и думает, что женщине в летах молодиться неприлично и что Кларисса с ее румянами и мушками действительно отменно смешна.
9
Если женщина ждет возлюбленного, она наряжается к его приходу, но если он нагрянет внезапно, она забывает о своей внешности и не думает о том, как она выглядит. Другое дело, когда к ней приходят люди, ей безразличные: тут она помнит о малейшей небрежности в своем уборе, сразу начинает прихорашиваться или же исчезает на минуту, чтобы вскоре появиться в полном блеске.
10
На свете нет зрелища прекраснее, чем прекрасное лицо, и нет музыки слаще, чем звук любимого голоса.
11
У каждого свое понятие о женской привлекательности; красота — это нечто более незыблемое и не зависящее от вкусов и суждений.
12
Порою женщины, чья красота совершенна, а достоинства редкостны, так трогают наше сердце, что мы довольствуемся правом смотреть на них и говорить с ними.
13
Ничто не доставляет такого наслаждения, как общество прекрасной женщины, наделенной свойствами благородного мужчины, ибо она соединяет в себе достоинства обоих полов.
14
У молодых женщин подчас невольно вырываются слова и жесты, которые глубоко трогают того, к кому они относятся, и бесконечно ему льстят. У мужчин почти не бывает таких порывов; их услужливость нарочита, они говорят, действуют, прельщают — и трогают куда меньше!
15
Женские прихоти сродни женской красоте и вместе с тем служат ей противоядием, ибо умеряют ее действие, которое в противном случае было бы смертельно для мужчин.
16
Чем больше милостей женщина дарит мужчине, тем сильнее она его любит и тем меньше любит ее он.
17
Когда женщина перестает любить мужчину, она забывает все — даже милости, которыми его дарила.
18
Женщина, у которой один любовник, считает, что она совсем не кокетка; женщина, у которой несколько любовников, — что она всего лишь кокетка.
Женщина, которая столь сильно любит одного мужчину, что перестает кокетничать со всеми остальными, слывет в свете сумасбродкой, сделавшей дурной выбор.
19
Давнишний любовник так мало значит для женщины, что его легко меняют на нового мужа, а новый муж так быстро теряет новизну, что дочти сразу уступает место новому любовнику.
Давнишний любовник опасается соперника или презирает его в зависимости от характера дамы своего сердца.
Давнишний любовник отличается от мужа нередко одним лишь названием; впрочем, это весьма существенное отличие, без которого он немедленно получил бы отставку.
20
Кокетство в женщине отчасти оправдывается, если она сладострастна. Напротив, мужчина, который любит кокетничать, хуже, чем просто распутник. Мужчина-кокетка и женщина-сладострастница вполне стоят друг друга.
21
Тайных любовных связей почти не существует: имена многих женщин так же прочно связаны с именами их любовников, как и с именами мужей.
22
Сладострастная женщина хочет, чтобы ее любили; кокетке достаточно нравиться и слыть красивой. Одна стремится вступить в связь с мужчиной, другая — казаться ему привлекательной. Первая переходит от одной связи к другой, вторая заводит несколько интрижек сразу. Одной владеет страсть и жажда наслаждения, другой — тщеславие и легкомыслие. Сладострастие — это изъян сердца или, быть может, натуры; кокетство — порок души. Сладострастница внушает страх, кокетка — ненависть. Бели оба эти свойства объединяются в одной женщине, получается характер, наигнуснейший из возможных.
23
Мы называем слабой женщину, которая заслуживает упрека за совершённый проступок и сама себя упрекает в нем, но не в силах совладать с собой, ибо сердце берет в ней верх над рассудком; она жаждет исцеления, но никогда не исцеляется или исцеляется слишком поздно.
24
Мы называем непостоянной женщину, которая разлюбила; легкомысленной — ту, которая сразу полюбила другого; ветреной — ту, которая сама не знает, кого она любит и любит ли вообще; холодной — ту, которая никого не любит.
25
Вероломство — это ложь, в которой принимает участие, так сказать, все существо женщины; это умение ввести в обман поступком или словом, а подчас — обещаниями и клятвами, которые так же легко дать, как и нарушить.
Если женщина неверна и это известно тому, кому она изменяет, она неверна — и только; но если он ничего не знает — она вероломна.
Женское вероломство полезно тем, что излечивает мужчин от ревности.
26
Иные женщины поддерживают изо дня в день две любовных связи, которые столь же трудно сохранить, как и порвать: одной из этих связей недостает брачного контракта, другой — любви.
27
Судя по красоте этой женщины, по ее молодости, гордости и разборчивости, она может отдать сердце только герою; но выбор ее уже сделан: она любит презренного негодяя, который к тому же еще глуп.
28
Некоторые женщины более чем зрелых лет то ли по неодолимой потребности, то ли по дурной наклонности легко становятся добычей молодых людей, находящихся в стесненных обстоятельствах. Не знаю, кто больше достоин жалости — немолодые женщины, которые нуждаются в юнцах, или юнцы, которые нуждаются в старухах.
29
Некий хлыщ, играющий в придворном обществе самую жалкую роль, встречает горячий прием у дамы, не имеющей доступа ко двору; он одерживает верх и над горожанином, прицепившим шпагу, и над судейским, щеголяющим в серой одежде и шейном платке; он всех оттирает, становится полновластным хозяином в доме, ему внимают, его любят; да и как устоять перед человеком, который носит шитую золотом перевязь и белое перо, говорит с самим королем и встречается с министрами? Женщины ревнуют его, мужчины ревнуют к нему, им восхищаются, ему завидуют, — а в нескольких лье от этого дома он внушает лишь презрительную жалость.
30
Столичный житель для провинциалки — то же, что для столичной жительницы — придворный.
31
Если человек тщеславен и нескромен, любит краснобайствовать и плоско шутить, всегда доволен собой и презирает окружающих, назойлив, чванлив, развращен душой, лишен порядочности, чести и здравого смысла и если вдобавок он красив собой и хорошо сложен, — у него есть все качества, чтобы кружить головы многим женщинам.
32
По какой причине — из боязни огласки или по склонности к ипохондрии — эта женщина любит лакея, та — монаха, а Дорина — своего врача?
33
Я согласен с вами, Лелия, Росций выходит на подмостки весьма непринужденно; притом у него красивые ноги, и он умеет играть даже длинные роли. Он отлично читал бы стихи, не будь у него, как говорится, каши во рту. Но разве он один знает свое дело? И разве его дело самое достойное и благородное на свете? К тому же Росций не может быть вашим, он принадлежит другой, а если бы и не принадлежал, все равно он не свободен: у Клавдии давно уже виды на него, она только ждет, чтобы ему надоела Мессалина. Возьмите себе Батилла, Лелия: даже среди гистрионов{141}, не говоря уже о презираемых вами всадниках, не найти человека, который так ловко пляшет и скачет. Или, быть может, вам больше по вкусу прыгун Коб, который, оттолкнувшись от земли, успевает перекувырнуться, прежде чем снова станет на ноги? А известно ли вам, что он не очень молод? Женщины, утверждаете вы, так избаловали Батилла, что теперь он чаще отказывает им, чем принимает их предложения. Но вы можете остановить свой выбор на Драконе-флейтисте: никто из его собратьев по ремеслу не раздувает с таким изяществом щеки, дуя в гобой или флажолет. А на каких только инструментах он не играет! И он шутник, он умеет рассмешить даже детей и простолюдинок! Кто может столько съесть и выпить за один присест? И при этом, заметьте, он сваливается под стол последним. Вы вздыхаете, Лелия: неужели и он занят, неужели вас опередила другая? Быть может, он склонил наконец свои взор к Цезонии, молодой, красивой, степенной патрицианке Цезонии, которая так бегала за ним, пожертвовав для него множеством поклонников — можно сказать, цветом римских юношей? Мне жаль вас, Лелия, если и вы, подобно многим римлянкам, заразились новомодной страстью к тем, кто развлекает толпу и по роду своего ремесла находится у всех на виду. Как вам быть, ведь лучшего из них вы упустили? Правда, есть еще Бронт-палач: все только и говорят о его силе и ловкости, он молод, у него широкие плечи и коренастая фигура; к тому же он чернокожий, он негр.
34
Для светских женщин садовник — просто садовник, каменщик — просто каменщик. Для других, живущих более замкнутой жизнью, и садовник и каменщик — мужчины. Не спастись от искушения тому, кто его боится.
35
Иные женщины щедры на даяния монастырям и дары своим любовникам; распутные и благочестивые, они даже в божьем храме заводят себе отдельные молельни и ложи и читают там любовные записки, не опасаясь соглядатаев, которые могли бы обнаружить, что погружены они отнюдь не в молитвы.
36
Чем отличается от других женщина, руководимая духовным наставником? Покорнее ли она мужу, добрее ли к слугам, больше ли печется о семье и доме? Правдивее ли и вернее в дружбе? Менее ли капризна и привержена к житейским благам? Дает ли она своим детям — не деньги, нет, в деньгах они не нуждаются, — но то, что им действительно необходимо? Относится ли к ним так, как обязана относиться, то есть справедливо? Меньше ли думает о собственных интересах, чем об интересах других людей? Свободнее ли от суетных пристрастий? Нет, отвечаете вы, все это совсем не так. Я настаиваю и повторяю свой вопрос: чем же отличается от других женщина, руководимая духовным наставником? Ага, понимаю, тем, что у нее есть духовный наставник.
37
Если исповедник женщины и ее духовный наставник не сходятся в том, как ей следует себя вести, кто будет тем третьим, кого она изберет судьей?
38
Главное для женщины не в том, чтобы иметь духовного наставника, а в том, чтобы жить разумно и не нуждаться в нем.
39
Если бы, исповедуясь в грехах, женщина сознавалась бы, какую слабость она питает к своему духовному наставнику и сколько времени проводит в его обществе, ей, быть может, пришлось бы в качестве епитимьи расстаться с ним.
40
О, если бы мне дозволено было воззвать к святым мужам, некогда претерпевшим тяжкие обиды от женщин: «Бегите женщин, не старайтесь наставить их на путь истинный, пусть другие пекутся о спасении их душ!»
41
Пускать в ход против мужа и кокетство и ханжество чересчур жестоко; женщинам следовало бы выбирать либо то, либо другое.
42
Я долго не решался заговорить об этом и мучился своим молчанием. Но вот я уже не в силах сдержать себя, и теперь меня даже ободряет надежда, что чистосердечие мое пойдет на пользу женщинам, которые, считая, что одного только исповедника недостаточно для добродетельной жизни, приближают к себе духовного наставника — и делают это без должной осмотрительности. Иные из этих наставников поражают меня и приводят в недоумение; я смотрю на них во все глаза, созерцаю их, впиваю каждое их слово, расспрашиваю о них, собираю сведения, запоминаю — и не могу понять, как эти люди, полностью лишенные, на мой взгляд, истинной глубины и прямоты ума, опыта в житейских делах, богословской учености, знания людских сердец и нравов, — как это они осмеливаются полагать, что господь в наши дни вновь избрал себе апостолов и явил чудо, сделав их, обыкновенных, ничем не примечательных людишек, пастырями душ, хотя нет на этом свете дела более мудреного и возвышенного. Если же они и впрямь считают, что рождены для столь великого и многотрудного подвига, который мало кому по плечу, если внушают себе, что их влекут к нему и природные таланты и призвание, — что же, в таком случае я понимаю их еще меньше.
Я знаю, что желание быть хранителем семейных тайн, мирить рассорившихся, находить поставщиков, подбирать слуг, иметь доступ в дома сильных мира сего, то и дело получать приглашения на изысканные обеды, разъезжать в карете по городу, гостить в чудесных поместьях, быть окруженным заботами и вниманием высокородных и высокопоставленных особ, добывать разнообразные жизненные блага для других и для самого себя, — я знаю, всего этого более чем достаточно для того, чтобы в светском кругу появился неисчислимый рой духовных наставников, готовых взять на себя заботу о вечном спасении ближних.
43
Благочестие[39] приходит к иным людям, особенно к женщинам, внезапно, как страсть, или подкрадывается к ним, как слабость, свойственная преклонному возрасту, или же увлекает их, как модное поветрие. Когда-то женщины посвящали каждый день недели особому занятию: игре в карты, посещению театра, концерта, костюмированного бала, велеречивой проповеди. В понедельник они пускали на ветер деньги у Исмены; во вторник тратили время у Климены; в среду расставались со своим добрым именем у Сели-мены. Они еще накануне знали, какая радость ждет их завтра и послезавтра, одновременно наслаждались удовольствием и нынешним и предстоящим и жалели только о том, что приходится вкушать их поочередно, а не одновременно. Это было единственной их печалью, причиной постоянных огорчений: слушая оперу, они досадовали, что это не комедия. Другие времена, другие нравы: теперь женщины довели до крайности строгость нравов и отвращение к рассеянной жизни; они ходят, потупив взор, хотя глаза даны им, чтобы видеть, не признают никаких развлечений и — кто бы поверил! — почти не болтают; впрочем, они по-прежнему держатся хорошего мнения о себе и плохого — о других. Они так соревнуются между собой в стремлении к добродетели и совершенству, что наводят на мысль, будто завидуют друг другу даже и в этом. Каждая тщится затмить других новоявленной чистотой нравов, как прежде жаждала затмить легкомыслием, осужденным ими теперь из корысти или из склонности к переменам. В былые времена они весело губили свои души любовными похождениями, чревоугодием и бездельем, а теперь уныло губят их самомнением и черной завистью.
44
Гермас, если я женюсь на скряге, она сбережет мое добро; если на картежнице — она, возможно, приумножит наше состояние; если на ученой женщине — она образует мой ум; если на чопорной — она не будет вспыльчивой; если на вспыльчивой — она закалит мое терпение; если на кокетке — она захочет нравиться мне; если на сладострастнице — она, быть может, даже полюбит меня; если на богомолке…[40] скажи, Гермас, чего мне ожидать от женщины, которая старается обмануть бога, но обманывает при этом только себя?
45
Женщиной нетрудно руководить — стоит лишь этого пожелать. Один мужчина руководит подчас даже несколькими женщинами одновременно. Он развивает их ум и память; поддерживает и укрепляет их благочестие; более того — он старается направлять их чувства; лишь прочитав одобрение на его лице и в глазах, они осмеливаются согласиться или отвергнуть, произнести похвалу или осудить. Он — поверенный их радостей и печалей, желаний и ревнивых подозрений, ненависти и любви; он заставляет их порывать с любовниками, ссорит и мирит с мужьями и ловко пользуется временем междуцарствий. Он занимается их делами, ведет их тяжбы, вступает в переговоры с судьей, посылает к ним своего врача, поставщика, своих рабочих, сам покупает им дома, обставляет апартаменты, заказывает экипажи. Вместе с ними он разъезжает в карете по городу и наносит визиты, сопровождает их на прогулке, сидит рядом с ними и в церкви на проповеди, и в театральной ложе, возит их на грязи, на морские купания, в далекие путешествия, в загородные владения, где ему отводят лучшее помещение. Он стареет, но власть его не уменьшается: чтобы не утратить ее, достаточно проявить немного ума и потерять много времени. Дети, наследники, невестка, племянница, слуги — все зависит от него. Он начал с того, что внушил к себе уважение, кончил тем, что внушает страх. Когда этот друг, столь давний и столь незаменимый, умирает, его никто не оплакивает, а те десять женщин, которых он тиранил, после его смерти обретают свободу.
46
Я знавал женщин, которые старались скрыть свое легкомысленное поведение под личиной скромности. Этим постоянным и слишком явным для всех притворством они добились только того, что о них стали говорить: «С виду это настоящие весталки».
47
Если молва не хулит женщину за то, что она бывает в обществе представительниц своего пола, отнюдь на нее не похожих, если при всей склонности к злоречию люди не считают, что в основе подобной дружбы лежит сходство нравов, — значит, добрая слава этой женщины прочна и неколебима.
48
Комический актер, играя на сцене, усиливает смешные стороны действующего лица; поэт уснащает красотами описания; художник, живописуя с натуры, делает резче и выразительнее движения страстей, контрасты, позы; копиист, если он не выверил все размеры и пропорции, увеличивает фигуры и предметы, входящие в композицию картины, с которой он списывает; точно так же чопорность всего лишь утрирует черты благонравия.
Порою ложная скромность — это всего лишь тщеславие, ложная храбрость — это легкомыслие, ложная величавость — это суетность, ложная добродетель — это лицемерие, ложное благонравие — это чопорность.
Чопорная женщина думает о своих словах и осанке, благонравная — о своем поведении. Та повинуется голосу предрассудков и причуд, эта — голосу разума и сердца; одна всегда строга и непреклонна, другая ведет себя так, как того требуют обстоятельства; первая под напускной безупречностью таит множество слабостей, вторая так проста и естественна, что богатство ее души открыто каждому. Чопорность стесняет ум и не только не скрывает возраста и изъянов внешности, но подчас даже наводит на мысль о них; напротив того, благонравие искупает телесные недостатки, очищает ум, делает молодость еще прелестней, а красоту — еще соблазнительней.
49
Почему винят мужчин в том, что женщины необразованны? Какие законы, какие указы и рескрипты запрещают им открыть глаза, читать, запоминать прочитанное и делиться потом этими сведениями в беседах и сочинениях? Не сами ли женщины виноваты в том, что они закоснели в привычном невежестве? Быть может, это случилось потому, что они слабы здоровьем, или ленивы, или безраздельно преданы заботам о своей красоте, или слишком легкомысленны для усидчивых занятий, или их способности, их таланты пригодны только для рукоделия, или они чересчур поглощены мелочами домашней жизни, или им от природы свойственно отвращение ко всему серьезному и трудному, или знания, к которым они стремятся, отнюдь не таковы, чтобы удовлетворить разум, или склонности, которые они проявляют, не способствуют развитию памяти? Какова бы ни была причина, которой мужчины обязаны женским невежеством, они должны радоваться тому, что у женщин, взявших такую власть над ними, нет хотя бы преимущества в образованности.
На ученую женщину мы смотрим как на драгоценную шпагу: она тщательно отделана, искусно отполирована, покрыта тонкой гравировкой. Это стенное украшение показывают знатокам, но его не берут с собой ни на войну, ни на охоту, ибо оно так же не годится в дело, как манежная лошадь, даже отлично выезженная.
Когда мне говорят, что некто сочетает в себе разумение с ученостью, я не допытываюсь, мужчина это или женщина, я просто восхищаюсь. Если вы скажете мне, что разумная женщина никогда не захочет стать ученой, а ученая всегда неразумна, я отвечу на ваше возражение так: вы, очевидно, уже забыли предыдущие строки, где я пишу, что женщин отвращают от наук лишь некоторые присущие им слабости; чем меньше будет у них этих слабостей, тем они станут разумнее и одновременно более склонны к образованию своего ума; можно сказать это и другими словами: ученая женщина сделалась таковой лишь потому, что смогла победить в себе многие слабости: следовательно, она особенно разумна.
50
Если две женщины, к которым мы равно питаем дружеские чувства, рассорились, то, даже не имея никакого касательства к причине их ссоры, нам все же не удается сохранить одинаково добрые отношения с той и другой: чаще всего приходится выбирать между ними или терять обеих.
51
Я знаю женщин, которые друзьям предпочитают деньги, а деньгам — любовников.
52
Как это ни странно, на свете существуют женщины, которых любовь к мужчине волнует меньше, чем другие страсти, — я имею в виду честолюбие и страсть к карточной игре. Мужчины сразу становятся целомудренными в присутствии таких женщин, ибо женского в них только одежда.
53
Женщины склонны к крайностям: они или намного хуже, или намного лучше мужчин.
54
У большинства женщин нет принципов: они повинуются голосу сердца, и поведение их во всем зависит от мужчин, которых они любят.
55
Женщины умеют любить сильнее, нежели большинство мужчин, но мужчины более способны к истинной дружбе.
Женщины не любят друг друга, и причина этой нелюбви — мужчина.
56
Передразнивать людей порою опасно. Лиза, уже почти старуха, тщится показать, как смешна некая молодая женщина, и сама при этом становится такой безобразной, что наводит на меня страх. Она отвратительна со своими гримасами и кривлянием, и, чтобы смягчить впечатление от ее уродства, мне хочется взглянуть на ту, над которой она потешается.
57
Жители столицы, не бывающие при дворе, награждают умом многих дураков и дур. Придворные, напротив, считают дураками многих весьма умных людей; красивой и умной женщине удается избежать обвинения в глупости только потому, что она — женщина.
58
Мужчина соблюдает чужую тайну вернее, чем свою собственную, а женщина лучше хранит свою, нежели чужую.
59
Как бы сильно ни любила молодая женщина, она начинает любить еще сильнее, когда к ее чувству примешивается своекорыстие или честолюбие.
60
Даже для самых богатых девушек наступает время, когда им пора остановить на ком-нибудь свой выбор. Упущенные возможности готовят им долгие годы раскаяния. По-видимому, богатство утрачивает свою заманчивость с той же быстротой, с какой утрачивает красоту его обладательница. Но пока она молода, ей благоприятствует все, в том числе и мнение мужчин, охотно наделяющих ее всеми преимуществами, благодаря которым она становится особенно привлекательной.
61
Сколько на свете девушек, которым их незаурядная красота не дала ничего, кроме надежды на незаурядное богатство.
62
Красивые девушки, которые дурно обращались со своими поклонниками, не остаются безнаказанными: обычно за их вздыхателей им мстят уродливые, или старые, или недостойные мужья.
63
Женщина признает достоинства и привлекательность лишь за тем мужчиной, который производит на нее впечатление; она почти всегда отрицает за ним и то и другое, если он ей не нравится.
64
Если мужчину мучит вопрос, не изменился ли он, не начал ли стареть, ему следует заглянуть в глаза молодой женщине и обратить внимание на то, как она с ним разговаривает: он сразу узнает то, что так боится узнать. Суровый урок!
65
Когда женщина не спускает глаз с мужчины или все время отводит их от него, все сразу понимают, что это значит.
66
Женщины с легкостью лгут, говоря о своих чувствах, а мужчины с еще большей легкостью говорят правду.
67
В жизни нередки случаи, когда женщина изо всех сил скрывает страсть, которую испытывает к мужчине, в то время как он так же прилежно разыгрывает любовь, которой вовсе к ней не чувствует.
68
Подчас мужчина старается зажечь страсть в женщине, совершенно ему безразличной. Спрашивается, не проще ли обратить внимание на ту, которая его любит, чем тратить время на ту, которая к нему равнодушна?
69
Мужчине легко обмануть женщину притворными клятвами, если только он не таит в душе истинной любви к другой.
70
Мужчина громко негодует на женщину, которая его разлюбила, — и быстро утешается; женщина не столь бурно выражает свои чувства, когда ее покидают, но долго остается безутешной.
71
Если женщина ленива, ее могут исцелить от этого порока только тщеславие и любовь.
Когда деятельная женщина становится ленивой, это признак того, что она полюбила.
72
Если женщина пишет вам страстное письмо, это означает, что она страстно увлечена вами; но любит ли она вас — это еще неясно. Горячая и нежная любовь несообщительна и погружена в себя; женщина, чье сердце глубоко задето, жаждет узнать, любят ли ее, но вовсе не стремится поведать о своей любви.
73
Гликера не расположена к женщинам. Она не любит их общества и сказывается больной, когда они приезжают с визитами, даже если это ее подруги; впрочем, последних не много, и она сурова с ними, держит их на расстоянии и не позволяет им выходить из рамок светской дружбы: слушает их рассеянно, отвечает односложно и явно ждет, чтобы они ушли. Она живет замкнуто и отчужденно, двери ее дома и спальни охраняются не хуже, чем двери Монторона и Эмери{142}. Исключение составляет только Коринна — она всегда желанная гостья, ее всегда принимают с распростертыми объятиями и как будто любят: Гликера что-то шепчет ей на ушко в уединенной комнате, внимает ее излияниям, жалуется на остальных женщин, обо всем говорит и ни о чем не рассказывает, зато пользуется полным доверием Коринны. В тесной компании Гликера ездит на балы, в театры, на прогулки, на Венсенскую дорогу, где продают первые фрукты, порою на носилках отправляется одна в Сен-Жерменское предместье, где у нее прелестный сад, или к Канидии, которая знает столь удивительные секреты сохранения красоты, предсказывает молодым женщинам второе замужество и сообщает, когда и при каких обстоятельствах оно состоится. Волосы у Гликеры гладко и небрежно зачесаны, к гостям она выходит без корсета, в простом утреннем платье и туфлях без задников: такой наряд ей к лицу, только ее коже недостает свежести. Однако порой она носит драгоценную застежку, которую старательно прячет от глаз мужа. Что касается последнего, то она льстит ему, угождает, каждый день придумывает новые ласкательные имена, спит на одном ложе с обожаемым супругом и не желает отдельной спальни. Утром она занимается туалетом и письмами; входит вольноотпущенник, — ему надо поговорить с ней с глазу на глаз: это Парменон, ее любимец; хозяин питает к нему неприязнь, слуги завидуют, но она стоит за Парменона горой. И действительно, кто лучше, чем он, умеет сообщить нужному человеку о ее намерениях и добиться желанного ответа? Кто никогда не говорит о том, о чем следует молчать? Кто так бесшумно открывает потайную дверь? Кто осторожно ведет гостя по черной лестнице? Кто так проворно выпроваживает его через ту же дверь, через которую привел?
74
Я не понимаю, как это муж, дающий волю дурному расположению духа и дурным склонностям, муж, который не только не скрывает своих недостатков, но даже хвалится ими, который скуп, неопрятен, резок, неучтив, холоден и угрюм, — как это он надеется защитить сердце своей молодой жены от натиска ловкого поклонника, который щедр, хорошо одет, снисходителен, заботлив, настойчив и осыпает ее лестью и подарками?
75
Любой муж сам создает себе соперника и как бы преподносит его в подарок своей жене. Он восхищается в ее присутствии прекрасными зубами и благородством черт этого человека; не отказывается от его услуг; радушно зовет к себе, а потом, когда случается то, чему он способствовал, со спокойной совестью принимает дичь и трюфели, которые тот ему посылает. Он устраивает званый ужин и говорит гостям: «Отведайте, пожалуйста, я получил это от Леандра, а уплатил ему одним лишь «благодарю!».
76
Я знаю женщину, которая до такой степени пренебрегает своим мужем и умалчивает о его существовании, что в обществе о нем даже не поминают. Жив он? Умер? Никто не имеет об этом никакого понятия. В своей семье он являет собой образец робкой, безропотной, рабской покорности. Когда он похоронит свою половину, ему не выделят вдовьей части, ему не придется носить траурную вуаль, но, не считая этого, да еще неспособности рожать детей, он — жена, а она — муж. Они месяцами живут под одной кровлей, не подвергаясь ни малейшей опасности встретиться; они — всего только соседи. Счета мясника и повара всегда оплачивает хозяин, но это мясо всегда едят на званых ужинах у хозяйки. Между ними нет ничего общего — ни супружеского ложа, ни стола, ни даже имени: по греческому или по римскому обыкновению, у каждого свое. Лишь хорошо освоившись с жаргоном и нравами столицы, начинаешь наконец понимать, что господин Б. вот уже двадцать лет действительно муж госпожи Л.
77
Я знаю других женщин, чьи нравы вполне пристойны; однако и они ежесекундно уязвляют мужей богатым приданым, знатностью, связями, достоинствами, прелестями и тем, что принято называть добродетелью.
78
Как мало на свете таких безупречных женщин, которые хотя бы раз на дню не давали своим мужьям повода пожалеть о том, что они женаты, и позавидовать холостякам.
79
Молчаливое, тупое горе теперь не в моде: женщина рыдает, сокрушается вслух, то и дело повторяя один и тот же рассказ; она так потрясена кончиной своего супруга, что не упускает в своем повествовании ни единой подробности.
80
Неужели нельзя изобрести средство, которое заставило бы женщин любить своих мужей?
81
Женщина, которую все считают холодной, просто еще не встретила человека, который пробудил бы в ней любовь.
82
Жила некогда в Смирне девушка по имени Эмира, известная всему городу красотой, строгостью нравов и в особенности равнодушием к мужчинам; она говорила, что может встречаться с ними, не подвергая свое сердце никакой опасности, ибо они для нее все равно что подруги или братья. Она наотрез отказывалась верить рассказам о безрассудствах, на которые во все времена любовь толкала людей, а если становилась свидетельницей подобных безумств, то приходила в полное недоумение, так как никогда не испытывала иной любви, кроме дружеской. К своей юной и прелестной подруге она питала такую нежную привязанность, что хотела бы до конца дней сохранить в неприкосновенности это чудесное чувство доверия и уважения, с которым, на ее взгляд, ничто не могло сравниться. Она только и говорила, что об Эфрозине — так звали ее верную подругу, — а в Смирне только и говорили, что о ней и об Эфрозине, ибо дружба их вошла в поговорку. У Эмиры было двое братьев, прекрасных юношей, против которых не могла устоять ни одна женщина. Эмира любила их так, как подобает сестре любить своих братьев. Некий жрец Юпитера, бывавший в доме отца Эмиры, полюбил ее, сказал ей об этом и встретил презрительный отказ; та же участь постигла старца, который, уповая на свое богатство и родовитость, осмелился предложить ей руку и сердце. Эмира торжествовала, считая свою холодность доказанной, хотя пока что ей удалось проверить ее только на братьях, жреце и старце. Судьба, казалось, пожелала подвергнуть ее более серьезным испытаниям, но они лишь укрепили за ней славу девушки, бесчувственной к любви, сделав ее тем самым еще более тщеславной. Она осталась равнодушной к страсти трех мужчин, поочередно плененных ее чарами; первый из них в порыве любовного безумия пронзил себе грудь у ее ног; второй, придя в отчаяние от того, что она не желает его выслушать, нашел смерть во время критской войны; третий зачах от тоски и бессонницы. Тот, кому суждено было отомстить за них, еще не появился. Старец, в свое время столь сурово отвергнутый Эмирой, исцелился от любви, поразмыслив о своих годах и о характере той, которой он пытался понравиться. Он решил видеться с ней и впредь, и она согласилась на это. Однажды он привел с собой своего сына, юношу благородной внешности и хорошо сложенного. Эмира отнеслась к нему благосклонно, но юноша в присутствии отца скромно молчал, поэтому она решила, что он обделен умом, — и пожалела об этом. В следующий раз он пришел один, повел с ней беседу и блеснул остроумием, но почти не смотрел на нее и ни слова не сказал о ее красоте. Эмира была удивлена и даже возмущена тем, что мужчина столь привлекательной наружности и острого ума так неучтив. Она рассказала о нем своей подруге, и та захотела познакомиться с ним. Увидев Эфрозину, юноша уже не спускал с нее глаз; он сказал ей, что она прекрасна, и Эмира, равнодушная Эмира, почувствовала ревность, так как поняла, что Ктесифон говорит искренне и что он не только учтив, но и нежен. С той поры она уже не чувствовала себя так непринужденно со своей подругой. Ей захотелось увидать их вместе еще раз и проверить, права ли она. Вторая встреча, подтвердив все, чего она боялась, превратила ее подозрения в уверенность. Она отдаляется от Эфрозины, не признает за ней достоинств, которыми еще недавно так восхищалась, не находит удовольствия в ее обществе. Эмира уже не любит свою подругу, и эта перемена говорит ей, что любовь вытеснила из ее сердца дружбу. Ктесифон и Эфрозина ежедневно встречаются, любят друг друга, решают соединить свои жизни, наконец сочетаются браком. Новость облетает весь город, из уст в уста передается весть, что двум человеческим существам выпало на долю редкое счастье заключить брак по любви. Эмира узнает об этом и приходит в отчаяние. Она не в силах совладать со своей страстью и вновь начинает искать встреч с Эфрозиной, чтобы лишний раз увидеть Ктесифона. Но молодой супруг все еще пылко влюблен в свою жену, и она отвечает ему столь же страстной любовью; в Эмире он видит лишь подругу той, которая ему так дорога. Несчастная девушка теряет сон, отказывается от еды, вянет, мысли мешаются у нее в голове. Она принимает своего брата за Ктесифона, признается ему в любви, потом, опомнившись, краснеет от стыда, но вскоре снова впадает в заблуждения еще более странные и уже не краснеет, ибо рассудок ее помрачен. Мужчины внушают ей страх, но — увы! — слишком поздно: страх этот подсказан безумием. Порою разум возвращается к ней, и тогда она жаждет вновь его потерять. Юноши и девушки Смирны, вспоминая, какой надменной и холодной была Эмира, находят, что боги покарали ее слишком сурово.
Глава IV О сердце
1
В истинной дружбе таится прелесть, непостижимая заурядным людям.
2
Хотя между людьми разных полов может существовать дружба, в которой нет и тени нечистых помыслов, тем не менее женщина всегда будет видеть в своем друге мужчину, точно так же как он будет видеть в ней женщину. Такие отношения нельзя назвать ни любовью, ни дружбой: это — нечто совсем особое.
3
Любовь возникает внезапно и безотчетно: нас толкает к ней страсть или слабость. Довольно одной привлекательной черты, чтобы поразить сердце и решить нашу судьбу. Напротив того, дружба завязывается медленно и требует времени, близкого знакомства, частых встреч. Сколько ума, сердечной доброты, привязанности, услужливости и снисходительности должен проявить человек, чтобы через несколько лет ему ответили куда менее пылким чувством, чем то, которое порою рождается во мгновение ока при одном взгляде на прекрасное лицо или точеную руку!
4
Время укрепляет дружбу, но ослабляет любовь.
5
Пока любовь жива, она черпает силы в самой себе, а подчас и в том, что, казалось бы, должно ее убивать: в прихотях, в суровости, в холодности, в ревности. В противоположность любви, дружба требует ухода: ей нужны заботы, доверие и снисходительность, иначе она зачахнет.
6
В жизни чаще встречается беззаветная любовь, нежели истинная дружба.
7
Любовь и дружба исключают друг друга.
8
Тот, кто испытал большую любовь, пренебрегает дружбой; но тот, кто расточил себя в дружбе, еще ничего не знает о любви.
9
Любовь начинается с любви; даже самая пылкая дружба способна породить лишь самое слабое подобие любви.
10
Трудно отличить от настоящей дружбы те отношения, которые мы завязываем во имя любви.
11
По-настоящему мы любим лишь в первый раз; все последующие наши увлечения уже не так безоглядны.
12
Труднее всего исцелить ту любовь, которая вспыхнула с первого взгляда.
13
Любовь, которая возникает медленно и постепенно, так похожа на дружбу, что не может стать пылкой страстью.
14
Тот, кто любит так сильно, что хотел бы любить в тысячу раз сильнее, все же любит меньше, нежели тот, кто любит сильнее, чем сам того хотел бы.
15
Если я признаю, что пылкая любовь в пору своего расцвета может вытеснить из человеческого сердца даже себялюбие, кому я доставлю этим большее удовольствие — тому, кто любит, или тому, кто любим?
16
На свете немало людей, которые и рады бы полюбить, да никак не могут; они ищут поражения, но всегда одерживают победу, и, если дозволено так выразиться, принуждены жить на свободе.
17
Люди, вначале страстно любившие друг друга, сами способствуют тому, что постепенно их любовь начинает слабеть, а потом совсем угасает. Кто больше виноват в охлаждении — мужчина или женщина? Ответить на этот вопрос нелегко: женщины утверждают, что мужчины непостоянны, а мужчины доказывают, что женщины ветрены.
18
Как ни требовательны люди в любви, все же они прощают больше провинностей тем, кого любят, нежели тем, с кем дружат.
19
Нет слаще мести для любящего, чем такое поведение, которое превращает неблагодарность любимой женщины в безмерную неблагодарность.
20
Грустно любить тому, кто небогат, кто не может осыпать любимую дарами и сделать ее такой счастливой, чтобы ей уже нечего было желать.
21
Если случается, что женщина, которую мы горячо, но безнадежно любили, потом оказывает нам услугу, то, мала эта услуга или велика, мы легко впадаем в грех неблагодарности.
22
Признательность за услугу уносит с собой немалую долю дружеского расположения к тому, кто сделал нам добро.
23
Чтобы чувствовать себя счастливыми, нам довольно быть с теми, кого мы любим: мечтать, беседовать с ними, хранить молчание, думать о них, думать о чем угодно — только бы не разлучаться с ними; остальное безразлично.
24
Ненависть не так далека от дружеской привязанности, как неприязнь.
25
Пожалуй, неприязнь скорее уж может перейти в любовь, чем в дружбу.
26
Друзьям мы охотно сами открываем наши тайны; от возлюбленных мы их не может скрыть.
Подарить кому-нибудь свое доверие — еще не значит отдать ему сердце; тот, кто владеет сердцем другого человека, не нуждается ни в его излияниях, ни в доверии: ему и без них все открыто.
27
У друзей мы замечаем те недостатки, которые могут повредить им, а у любимых те, от которых страдаем мы сами.
28
Только из первого разочарования в любви и первой провинности друга можем мы извлечь полезный урок.
29
Если называть ревностью несправедливое, неосновательное, нелепое подозрение, то ревность справедливая, естественная, основанная на здравом смысле и фактах, заслуживает, пожалуй, другого названия.
Источник ревности нередко кроется не в сильной любви, а в свойствах нашего характера; однако невозможно себе представить сильную страсть, которую не омрачала бы неуверенность.
Люди, не уверенные в том, что их любят, порой только сами и страдают от своей неуверенности, тогда как ревнивцы страдают сами и заставляют страдать других.
Мы не стали бы ревновать тех женщин, которые не щадят нас и ежечасно дают поводы к ревности, если бы наше чувство зависело от их поступков и отношения к нам, а не от нашего сердца.
30
В дружбе для всякого охлаждения и всякой размолвки есть своя причина; любить же друг друга люди перестают только потому, что прежде слишком сильно любили.
31
Мы так же не можем навеки сохранить любовь, как не могли не полюбить.
32
Умирает любовь от усталости, а хоронит ее забвение.
33
И при зарождении и на закате любви люди всегда испытывают замешательство, оставаясь наедине друг с другом.
34
Угасание любви — вот неопровержимое доказательство того, что человек ограничен и у сердца есть пределы.
Полюбить — значит проявить слабость; разлюбить — значит иной раз проявить не меньшую слабость.
Люди перестают любить по той же причине, по какой они перестают плакать: в их сердцах иссякает источник и слез и любви.
35
В жизни бывают такие утраты, о которых мы должны были бы безутешно скорбеть. Если нам и удается забыть о своем несчастье, это вовсе не значит, что мы сильны духом или исполнены душевного величия: горе наше искренне, слезы непритворны, но постепенно наша печаль иссякает, ибо мы слабы и ветрены.
36
Тот, кто влюбляется в дурнушку, влюбляется со всей силой страсти, потому что такая любовь свидетельствует или о странной прихотп его вкуса, или о тайных чарах любимой, более сильных, чем чары красоты.
37
Люди по привычке встречаются и произносят слова любви даже тогда, когда каждое их движение говорит о том, что они уже давно не любят друг друга.
38
Стараться забыть кого-то — значит все время о нем помнить. Любовь тем похожа на укоры совести, что размышления и воспоминания лишь укрепляют ее. Чтобы побороть свою страсть, нужно попытаться вовсе о ней не думать.
39
Мы хотим быть источником всех радостей или, если это невозможно, всех несчастий того, кого мы любим.
40
Тосковать о том, кого любишь, много легче, нежели жить с тем, кого ненавидишь.
41
Как бы бескорыстно ни относился человек к тем, кого он любит, ему следует иногда пересиливать себя и великодушно принимать дары и от них.
Достойно принимает дары лишь тот, кто испытывает при этом не менее возвышенную радость, чем даритель.
42
Творить добро — значит действовать, а не через силу совершать благодеяния или уступать просьбам тех, кто нуждается в помощи либо назойливо ее требует.
43
Если человек помог тому, кого любил, то ни при каких обстоятельствах он не должен вспоминать потом о своем благодеянии.
44
Кто-то из римлян сказал, что ненависть обходится людям дешевле, чем любовь, или, иными словами, что дружба требует от человека большего, нежели вражда. В самом деле, мы вовсе не обязаны помогать своим врагам; однако разве месть так уж дешево обходится? И если приятно и естественно сделать зло тому, кого ненавидишь, то разве менее приятно и естественно сделать добро тому, кого любишь? Пожалуй, человеку одинаково трудно отказаться и от того и от другого.
45
Приятно встретить взгляд человека, которому только что помог.
46
Не знаю, можно ли помощь, оказанную неблагодарному, а значит, недостойному, назвать благодеянием, и заслуживает ли она особой признательности?
47
Щедрость состоит не столько в том, чтобы давать много, сколько в том, чтобы давать своевременно.
48
Если верно, что жалость и сострадание — это лишь проявления любви к себе, заставляющей нас ставить себя на место страдальцев, то почему же мы служим для них столь скудным источником утешения в их несчастьях?
Лучше стать жертвой неблагодарности, чем отказать в помощи несчастному.
49
Опыт говорит нам, что попустительство и снисходительность к себе и беспощадность к другим — две стороны одного и того же греха.
50
Человек, усердный в труде, твердый в невзгодах и требовательный к себе, снисходителен к людям лишь потому, что к этому его принуждает разум.
51
Как ни тягостно нести бремя забот о человеке обездоленном, все же мы не испытываем особой радости, когда благоприятная перемена в судьбе вырывает его из-под нашей опеки; точно так же наше удовольствие при вести об успехе друга несколько омрачается легкой досадой на то, что теперь он возвысится над нами или станет нам ровней. Таким образом, мы живем в постоянном разладе с собою: нам нужны люди, зависящие от нас, но мы не хотим, чтобы они нас утруждали; мы желаем удачи нашим друзьям, но, когда она приходит к ним, первым нашим чувством далеко не всегда бывает восторг.
52
Мы зовем друга в гости, просим прийти к нам, предлагаем свои услуги, обещаем разделить с ним стол, кров, имущество; дело стоит за малым — за исполнением обещанного.
53
Для себя человеку довольно одного верного друга; и то уже много, что удалось его сыскать. Но сколько бы ни было друзей, все мало, если хочешь помочь другим.
54
Если мы сделали все, что могли, добиваясь расположения иных людей, и все же не снискали его, у нас остается в запасе еще одно средство: не делать больше ничего.
55
Обходиться с врагами так, словно они обязательно станут нашими друзьями, а с друзьями так, словно они могут стать нашими врагами, противно природе ненависти и обычаям дружбы. Это утверждение вытекает не из принципов морали, а из характера человеческих взаимоотношений.
56
Не следует вступать во вражду с людьми, которые, нас ближе узнав, могли бы сделаться нашими друзьями. Нужно избирать себе друзей надежных и порядочных, которые никогда, даже рассорившись с нами, не употребят во зло нашего доверия и не станут угрожать нам своей враждой.
57
Приятно бывать в обществе людей, когда к этому побуждают нас лишь дружеская склонность и уважение; тягостно искать с ними встречи, когда ждешь от них услуг: это значит набиваться на дружбу.
58
Нам следует искать расположения тех, кому мы хотим помочь, а не тех, от кого ждем помощи.
59
Люди с меньшим усердием добиваются удачи в делах, нежели исполнения самых пустяковых своих желаний и причуд. Отдаваясь прихотям, они чувствуют себя свободными и, напротив того, считают, что попали в неволю, хлопоча о своем устройстве: все к нему стремятся, но никто не желает утруждать себя ради него, ибо каждый полагает, что достоин обрести успех, не приложив к этому никаких стараний.
60
Тот, кто умеет ждать исполнения своих желаний, не отчаивается, даже потерпев неудачу, тогда как тот, кто слишком нетерпеливо стремится к цели, растрачивает столько пыла, что никакая удача уже не может его вознаградить.
61
Иные люди так страстно и упорно добиваются предмета своих желаний, что, боясь упустить его, делают все от них зависящее, дабы действительно его упустить.
62
Наши заветные желания обычно не сбываются, а если и сбываются, то в такое время и при таких обстоятельствах, когда это уже не доставляет нам особого удовольствия.
63
Будем смеяться, не дожидаясь минуты, когда почувствуем себя счастливыми, иначе мы рискуем умереть, так ни разу и не засмеявшись.
64
Жизнь коротка, если считать, что названия жизни она заслуживает лишь тогда, когда дарит нам радость; собрав воедино все приятно проведенные часы, мы сведем долгие годы всего к нескольким месяцам.
65
Как трудно быть вполне довольным кем-то!
66
Нельзя как будто не радоваться, узнав, что наш злодей не сегодня-завтра испустит дух: вот когда мы вволю вкусим плодов нашей ненависти и насладимся тем, что этот человек мог нам подарить лучшего, — вестью о его гибели! Наконец он умирает, но при таких обстоятельствах, когда препятствием к нашей радости становятся наши собственные интересы: враг умер слишком рано или слишком поздно.
67
Трудно гордецу простить того, кто уличил его в какой-либо провинности и осыпал справедливыми укорами; он лишь тогда усмирит свою уязвленную гордость, когда снова возьмет перевес над обидчиком и докажет, что тот тоже совершил проступок.
68
Мы преисполнены нежности к тем, кому делаем добро, и страстно ненавидим тех, кому нанесли много обид.
69
Так же трудно заглушить обиду вначале, как помнить о ней по прошествии нескольких лет.
70
Мы ненавидим наших врагов и жаждем отомстить им по слабодушию, а успокаиваемся и забываем о мести из лени.
71
Мы позволяем другим управлять нами столько же из лени, сколько по слабодушию.
Нечего и думать о том, чтобы сразу, безо всякой подготовки, заставить человека следовать чужим советам в вопросах, важных для него или его близких: он чувствует, что на его разум оказывают давление, и, подстрекаемый стыдом или своеволием, сбрасывает бремя чужой власти. Надо начинать с мелочей, а уж от них нетрудно перейти к самым серьезным делам. Тот, кого вначале трудно было заставить даже поехать в деревню или вернуться в город, в конце концов напишет под чужую диктовку завещание, в котором родного сына лишает наследства.
Долго и полновластно управлять своим ближним может только тот, у кого легкая рука и умение делать свою власть неощутимой.
Есть люди, которыми можно управлять лишь до известного предела; перейти этот предел они не позволяют и никаким уговорам не поддаются: путь к их сердцу и уму закрыт. Ни надменный тон, ни улещивания, ни сила, ни хитрость — ничто уже не действует на этих людей, однако с той разницей, что одними при этом движут зрелые размышления и разум, а другими — своеволие и прихоть.
Иные люди не внемлют голосу рассудка, глухи к благоразумным советам и сознательно совершают ошибки, — только бы не подчиниться чужой воле.
Другие согласны подчиняться друзьям в маловажных вопросах, но присваивают себе право управлять ими в делах первостепенной важности и значения.
Дранций хочет всем внушить, что он управляет своим господином, но ему никто не верит, в том числе и его господин. Непрестанно обращаться к вельможе, у которого находишься в услужении; таинственно сообщать ему что-то вслух или на ухо в таких местах и в такое время, когда это меньше всего пристало; покатываться со смеху в его присутствии; прерывать его речь; вмешиваться в его беседы с другими; высокомерно встречать тех, кто пришел засвидетельствовать ему свое почтение, или нетерпеливо выпроваживать их; стоять подле него с развязным видом; красоваться рядом с ним, прислонясь к камину; надоедать ему; ни на шаг не отступать от него; разыгрывать роль друга; слишком много позволять себе, — все это скорее изобличает глупца, нежели фаворита.
Здравомыслящий человек не позволяет другим управлять собой, но и сам не стремится управлять другими; он хочет, чтобы всеми правил один только разум.
Я ничего не имел бы против того, чтобы вверить свою судьбу разумному человеку и всегда и во всем слепо ему подчиняться: я был бы уверен, что поступаю правильно, и при этом не утруждал бы себя размышлениями, а наслаждался бы спокойствием, уподобившись тому, кем управляет разум.
72
Все страсти лживы: они стараются надеть маску, они прячутся даже от самих себя. Нет такого порока, который не рядился бы под какую-нибудь добродетель или не прибегал бы к ее помощи.
73
Мы читаем душеспасительную книгу, и она трогает нас; мы читаем другую, в которой речь идет о любовных похождениях, и она тоже нас волнует; но осмелюсь ли я утверждать, что только сердце способно понять и примирить несовместимые чувства?
74
Люди не так стыдятся своих преступлений, как слабости и суетности; они порою не краснея совершают насилия и несправедливости, предают и клевещут и в то же время скрывают любовь и честолюбивые мечты, и притом без всякой выгоды для себя.
75
Никто не может сказать о себе: «Я был честолюбив». Человек или всегда исполнен честолюбия, или вовсе ему чужд. Но для всех нас приходит такое время, когда мы сознаемся, что любовь была и ушла.
76
Люди сперва познают любовь, потом исполняются честолюбием, а спокойствие обычно приходит к ним только вместе со смертью.
77
Страсть без труда берет верх над рассудком, во она одерживает великую победу, когда ей удается одолеть своекорыстие.
78
Не столько ум, сколько сердце помогает человеку сближаться с людьми и быть им приятным.
79
Иными благородными чувствами и великодушными поступками мы скорее обязаны нашей природной доброте, чем уму.
80
Нет на свете излишества прекраснее, чем излишек благодарности.
81
Нужно быть очень уж глупым человеком, чтобы под воздействием; любви, злобы или нужды нисколько не поумнеть.
82
Проезжая иные места, мы приходим в восхищение; проезжая другие — умиляемся, и нам хочется там поселиться.
Мне кажется, что ум, расположение духа, пристрастия, вкусы и чувства человека зависят от места, в котором он живет.
83
Тот, кто творит добро, один заслуживал бы нашей зависти, если бы нам не дано было избрать участь более достойную — творить еще больше добра. Как сладка была бы нам такая месть человеку, вызвавшему в нас подобную зависть!
84
Иные люди не позволяют себе писать стихи и любить, словно это слабости, которые могут набросить тень на их ум и сердце.
85
Жизнь подчас кладет запрет на самые наши заветные радости, на самые нежные чувства, но мы не можем не мечтать о том, чтобы они стали дозволенными. Со всепобеждающим очарованием этих чувств не сравнится ничто — кроме сознания, что мы отреклись от них во имя добродетели.
Жак Калло. «Новый мост»».
Офорт из серии «Большие виды Парижа».
Глава V О светском обществе и об искусстве вести беседу
1
Нет ничего бесцветнее, чем характер бесхарактерного человека.
2
Назойлив только глупец: умный человек сразу чувствует, приятно его общество или наскучило, и уходит за секунду до того, как станет ясно, что он — лишний.
3
У нас шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на глупого острослова: куда ни глянь, везде ползают эти насекомые. Истинно остроумный человек — редкость, и к тому же ему нелегко поддерживать свою репутацию: люди редко уважают того, кто умеет их смешить.
4
Мы богаты пошляками, еще богаче сплетниками и насмешниками, но вот людей действительно остроумных у нас мало; изящно шутить и занимательно рассказывать о пустяках умеет лишь тот, кто сочетает в себе изысканность и непринужденность с богатым воображением: сыпать веселыми остротами — это значит создавать нечто из ничего, то есть творить.
5
Начни мы обращать внимание на все вздорные, пустые и бестолковые разговоры, которые ведутся в нашем присутствии, мы больше не захотели бы ни говорить, ни слушать и дали бы обет молчания, а молчальник еще невыносимее в обществе, чем болтун. Поэтому будем снисходительны и примем как неизбежное зло пересказы ложных слухов, туманные рассуждения о нынешнем царствовании и замыслах государей или выспренние и однообразные беседы на чувствительные темы; пусть Арунций сыплет поговорками, а Мелинда болтает о себе, о своих нервических припадках, мигренях и бессоннице.
6
С иными людьми едва познакомишься, едва вступишь в беседу — и уже не хочешь ее продолжать из-за их пристрастия к нелепым, необычным, я сказал бы даже диким словам, тем более что этим словам они придают не свойственный им смысл и сочетают их в несочетаемые выражения. Они говорят не так, как подсказывает разум или обычай, а как им взбредет в голову, и, подстрекаемые желанием блеснуть, неприметно создают свое собственное, особое, небывалое наречие, на котором изъясняются, сильно жестикулируя и коверкая произношение. При этом они неизменно довольны собой и своим остроумием: в остроумии им, пожалуй, не откажешь, но оно так убого и, более того, так неприятно, что уж лучше бы его не было совсем.
7
О чем ты говоришь, Аций? Как ты сказал? Не понимаю, повтори, пожалуйста, еще раз. Нет, решительно не понимаю… Ага, кажется, я все-таки догадался: ты хочешь поведать мне, что сегодня холодно. Но почему бы не сказать: «Сегодня холодно»? Ты хочешь сообщить, что идет дождь или снег; так и скажи: «Идет дождь, идет снег». Ты находишь, что я хорошо выгляжу, и спешишь порадовать меня этим: так и скажи: «Ты хорошо выглядишь». «Но, — возражаешь ты, — это слишком просто и ясно, так мог бы сказать всякий». Тем лучше, Аций: разве плохо, что любой человек поймет тебя и ты научишься говорить, как все? Дело в том, что тебе и прочим любителям выспренности кое-чего недостает; ты-то этого не замечаешь и, конечно, очень удивишься, когда я скажу, что всем вам недостает ума. Но это еще не все: кое-чего в вас слишком много, а именно — уверенности в том, что вы умнее других; отсюда вся ваша напыщенная галиматья, и замысловатые обороты, и громкие слова, которые ничего не означают. Как только я увижу, что ты собираешься завязать беседу или входишь в гостиную, я потяну тебя за рукав и шепну тебе на ухо: «Не старайся блистать, казаться умным — будь самим собой. Попробуй говорить просто, как говорят те, кого ты считаешь глупцами, и тогда, может быть, люди поверят, что ты умен».
8
Возможно ли в светском обществе уклониться от встреч с людьми пустыми, легкомысленными и развязными, которые повсюду немедленно завладевают разговором и принуждают слушать себя? Вы только еще в прихожей, а до вас уже доносится голос говоруна; не бойтесь прервать поток его красноречия, смело входите в гостиную: он не обращает никакого внимания и на тех, кто только что появился или уходит, и на своих слушателей, какое бы положение те ни занимали, какими бы достоинствами ни отличались. Если кто-нибудь рассказывает новость, он тут же перебьет его, чтобы рассказать на свой лад — единственно правильный, с его точки зрения: он узнал эту новость от Заметто[41], от Ручелаи[42], от Кончини[43]{143}, с которыми незнаком и ни разу в жизни не говорил (а если бы ему довелось обратиться к ним, он, уж конечно, титуловал бы их монсеньерами); порой он оказывает честь самому высокопоставленному из присутствующих и на ухо сообщает ему о событии, которое никому не известно и не должно стать известным; при этом он опускает некоторые имена, не желая компрометировать участников и предавать дело огласке. Тщетно вы докучаете ему расспросами, — он вынужден быть скромным, он не смеет назвать людей, которым дал слово молчать: это секрет, великая тайна, не говоря уже о том, что он действительно не может ее открыть, ибо сам не знает тех лиц и обстоятельств, о которых вы расспрашиваете.
9
Арий все читал и все видел — так, по крайней мере, он утверждает; он человек всеобъемлющих знаний — или выдает себя за такового; по его мнению, лучше соврать, чем промолчать или выдать свою неосведомленность. Как-то раз за столом у вельможи зашел разговор о дворе некоего северного государя; Арий вмешивается в беседу, перебивая тех, кто хотел поделиться своими сведениями: оказывается, он знает эту отдаленную страну вдоль и поперек, словно прожил в ней всю жизнь. Он повествует о том, какие там законы и обычаи, придворные нравы и женщины, рассказывает всякие басни, находит их презабавными и первый до слез смеется над ними. Кто-то дерзает не согласиться с ним и приводит неопровержимые доказательства того, что сведения Ария ошибочны. Нисколько не смутившись, Арий открывает огонь по противнику: «Я ничего не утверждаю, а просто передаю то, что знаю из первых рук, от Сетона, французского посла при этом дворе, который несколько дней назад вернулся в Париж; я с ним близко знаком, подробно обо всем расспросил, и он не стал ничего от меня утаивать». Арий с еще большей самоуверенностью продолжает свой рассказ, но тут к нему обращается один из гостей: «Вы спорите сейчас с послом Сетоном, который только что вернулся в Париж».
10
Следует избрать золотую середину между ленью, мешающей нам вступить в беседу, рассеянностью, которая, отвлекая от предмета разговора, заставляет ставить неуместные вопросы или давать глупые ответы, и придирчивым вниманием к каждому слову, которое мы подхватываем, высмеиваем, стараемся изобразить непонятным, хотя остальным оно совершенно ясно, или наоборот — глубокомысленным и остроумным, и все это только для того, чтобы проявить собственное остроумие.
11
Быть в восторге от самого себя и сохранять незыблемую уверенность в собственном уме — это несчастье, которое может стрястись только с тем, кто или вовсе не наделен умом, или наделен им в очень малой степени. Мне от души жаль всех, кому приходится беседовать с таким человеком. Сколько красивых фраз им суждено услышать! Сколько новомодных словечек, которые внезапно появляются в нашем языке, чтобы через короткое время так же внезапно исчезнуть! Передавая новость, он не старается подробно осведомить о ней собеседников, а думает лишь о том, как бы изложить ее, и притом возможно интереснее: в его устах она становится романом, герои которого думают, как он сам, и произносят длиннейшие речи, уснащенные его излюбленными словечками. Он все время делает отступления, похожие на отдельные эпизоды и такие запутанные, что под конец и сам рассказчик, и слушатели уже не помнят, в чем же, собственно, суть новости. Что сталось бы с тем и с другими, если бы, по счастью, чей-то приход не прервал повествования и не помог начисто забыть о нем?
12
Теодект еще в прихожей, а я уже его слышу. Чем ближе он подходит, тем громче говорит; едва переступив порог, он начинает так смеяться, кричать и грохотать, что все зажимают уши: это не голос, а настоящий трубный глас. Да, Теодект страшен не только тем, что говорит, но и тем, как говорит: он перестает орать только для того, чтобы проблеять какой-нибудь вздор. Он столь мало заботится о людях, обстоятельствах и приличиях, что, сам того не желая, наносит обиды направо и налево: еще не успев сесть, он ухитряется задеть всех присутствующих. Стоит позвать гостей к столу, как он первый занимает место, притом лучшее и обязательно меж двух женщин; он ест, пьет, вопит, рассказывает, шутит, всех перебивает, будь то гость или хозяин, злоупотребляя глупой снисходительностью к себе. Кто, собственно, дает этот обед — он или Эвтидем? Он требует внимания всего стола, и еще неизвестно, что опаснее — подарить ему это внимание или отказать в нем: ведь вино и еда ничуть не укрощают его нрава. За картами он всегда выигрывает; желая подразнить проигравшего, он оскорбляет его, но все смеются шуткам Теодекта, ему прощается любая дерзость. Наконец я не выдерживаю и ухожу: у меня нет больше сил терпеть Теодекта и тех, кто его терпит.
13
Троил полезен тем людям, которые слишком богаты: он снимает с них бремя избытка, спасает от необходимости копить деньги, заключать сделки, запирать сундуки, носить с собой ключи и бояться воров в собственном доме. Сперва он помогает хозяину дома приятно проводить время, потом становится пособником его страстей, а вскоре научается самовластно управлять его поведением. И вот уже Троил — семейный оракул, его решений ждут, — что я говорю! — их предвидят, угадывают. Стоит ему заявить: «Этого раба надо наказать», — как раба секут; стоит распорядиться: «Его следует отпустить на волю», — как раба отпускают; некий приживал не может рассмешить Троила, того и гляди, он навлечет на себя Троилов гнев, — приживала выгоняют; хозяин дома рад-радешенек, что Троил не приказывает ему выгнать жену и детей. Если за обедом Троил скажет, что такое-то блюдо очень вкусно, хозяин и гости, которые вначале ели это кушанье с полным равнодушием, теперь не могут им нахвалиться; напротив, если Троил находит кушанье отвратительным, то даже тот, кто только что с удовольствием набивал им рот, уже не смеет проглотить ни кусочка и все выплевывает на пол; глаза гостей прикованы к Троилу, никто не дерзает похвалить вино или жаркое, не поглядев предварительно на Троила. Он помыкает богачом, днюет и ночует в его доме: там он ест, спит, предается пищеварению, бранит своего лакея, выслушивает поставщиков, сплавляет кредиторов; расположившись в одной из гостиных, он творит суд и расправу и принимает дань уважения и преданности тех ловких людей, которые через Троила втираются в доверие к хозяину. Если, на беду, ваше лицо ему не по нраву, он нахмурит брови и отвернется; если подойдете к нему — не встанет; заговорите — не ответит, будете настаивать — удалится в другую комнату; последуете за ним — пустится бежать по лестнице. Он готов залезть на крышу или выскочить из окна, только бы не вступать в разговор с человеком, чей облик или голос ему не по душе; зато если они ему приятны, он в лепешку разобьется, чтобы произвести благоприятное впечатление и завоевать дружбу. Но со временем все становится ниже его достоинства, а он сам — выше стремления поддержать свою репутацию, понравиться талантами, которыми прежде привлекал к себе людей; если он и выходит из мрачного раздумья, то лишь затем, чтобы вступить с кем-нибудь в спор; впрочем, до язвительной критики он снисходит тоже не чаще раза в день. Не ждите от него, чтобы он считался с вашими взглядами, угождал вам, хвалил вас: скажите спасибо, если он не отвергнет ваших похвал и стерпит ваше желание угодить ему.
14
Случай свел вас с этим незнакомцем в наемной карете, на званом обеде или в театре; не мешайте ему говорить — и вы без труда узнаете всю его подноготную: как его зовут, на какой улице он живет, откуда родом, богат ли, какую должность занимают он сам и его отец, происхождение его матери, родство, свойство, герб. Вы быстро выясните, что он дворянин, живет в собственном замке, владеет прекрасной обстановкой, лакеями и выездом.
15
Иные люди сперва говорят, а потом лишь начинают думать; другие старательно обдумывают все, что хотят сказать; беседуя с ними, вы поневоле становитесь свидетелем тяжкой работы их мозга. Их речь всегда искусственна, их жесты и движения натянуты. Это — пуристы[44], которые боятся самых простых слов, даже когда эти слова могли бы произвести отличное впечатление; с их уст не сорвется ни одной удачной фразы, ни одного живого, бесхитростного выражения: они говорят правильно и скучно.
16
Талантом собеседника отличается не тот, кто охотно говорит сам, а тот, с кем охотно говорят другие; если после беседы с вами человек доволен собой и своим остроумием, значит, он вполне доволен и вами. Люди хотят не восхищаться, а нравиться, не столько жаждут узнать что-либо новое или даже посмеяться, сколько желают произвести хорошее впечатление и вызвать всеобщий восторг; поэтому самое утонченное удовольствие для истинно хорошего собеседника заключается в том, чтобы доставлять его другим.
17
Избыток воображения вредит нам и тогда, когда мы говорим, и тогда, когда пишем: он нередко порождает пустые и вздорные вымыслы, которые не идут на пользу нашему вкусу и ничуть нас не улучшают. Пусть источником наших мыслей будут здравый смысл и ясный ум, а их пробным камнем — наше суждение.
18
Беда, когда у человека не хватает ума, чтобы хорошо сказать, или здравого смысла, чтобы осторожно промолчать: не было бы на свете таких людей, не было бы и докучных невеж.
19
Скромно сказать о какой-либо вещи, что она хороша или дурна, и привести доводы в пользу своего взгляда — совсем не легко: для этого нужны и здравый смысл и умение выражать мысль. Куда легче объявить тоном решительным и не терпящим возражений, что она отвратительна или великолепна.
20
Тот, кто стремится подтвердить каждое свое высказывание, даже самое пустячное, длинными и торжественными клятвами, поступает противно человеческим и божеским законам. Когда порядочный человек произносит «да» или «нет», ему верят: самый его характер говорит за себя, делает его слова убедительными и привлекает к нему всеобщее доверие.
21
Кто постоянно твердит о своей честности и порядочности, а в подтверждение того, что он никому не вредит и не делает зла, дает клятвы и призывает на свою голову громы небесные, тот не умеет хоть сколько-нибудь убедительно сыграть роль порядочного человека.
Как ни скромен добродетельный человек, он все-таки не может помешать своим ближним говорить о нем то, что непорядочный человек говорит о себе сам.
22
Клеон говорит или недоброжелательно, или несправедливо, иначе он не умеет; при этом он утверждает, что таков уж у него нрав: что на уме, то на языке.
23
Одни говорят хорошо, другие непринужденно, третьи правильно, четвертые уместно; что касается уместности, то против нее грешит тот, кто описывает только что съеденный им превосходный обед беднякам, у которых не хватает на хлеб насущный; хвалится отличным здоровьем перед больными; рассказывает о своем богатстве, доходах, обстановке тем, у кого нет ни ренты, ни крова, — короче говоря, распространяется о своем счастье в присутствии обездоленных: эти рассказы слишком тяжелы для них, а сравнение своей участи с вашей — непереносимо.
24
«Ну, вы-то богаты или, во всяком случае, должны были бы уже стать богатым! — восклицает Эвтифрон. — Десять тысяч ливров дохода и поместье — это приятно, это отлично и вполне достаточно для счастья». Так говорит тот, у кого пятьдесят тысяч ливров дохода и кто убежден, что заслуживает в два раза большего. Эвтифрон определяет, сколько вы платите налогов, оценивает вас, устанавливает ваши расходы; если бы он полагал, что вы достойны большего богатства, даже такого, о котором мечтает он сам, — ему ничего не стоило бы пожелать вам этого. Не он один так плохо считает и проводит столь неучтивые сравнения, — мир полон эвтифронами.
25
Некто, следуя обычаю и собственной своей склонности хвалить всех без разбора, льстить и преувеличивать, поздравляет Теодема с блестящей речью, которую тот будто бы произнес. Сам он этой речи не слышал и ни от кого еще не имеет о ней сведений, но тем не менее восторгается красноречием Теодема, его жестами и в особенности удивительной памятью. А дело было так: едва начав говорить, Теодем запнулся и уже не мог связать двух слов.
26
Как много на свете суетливых, вечно куда-то спешащих людей, торопыг, хотя никаких занятий у них нет и делами они не обременены! Не успев обменяться с вами приветствиями, они уже жаждут отделаться от вас и чуть ли не гонят прочь: вы еще не закончили фразы, а их уже и след простыл. Эти люди — такие же невежи, как и те, что останавливают вас и потом ни за что не отпускают от себя; впрочем, последние, быть может, еще хуже первых.
27
Для иных людей говорить — значит обижать: они колючи и едки, их речь — смесь желчи с полынной настойкой; насмешки, издевательства, оскорбления текут с их уст, как слюна. Лучше бы они родились немыми или слабоумными: живость и даже ум вредят им больше, чем другим — глупость. Они не только злобно огрызаются, но подчас и сами дерзко нападают, разя всех, кто попадет им на язык, отсутствующих равно как и присутствующих; подобно быкам, они стараются вонзить рога то в грудь, то в бок жертвы. Но кому придет в голову требовать от быка, чтобы он отказался от рогов? Точно так же можно ли надеяться, что это описание исправит натуры столь неподатливые, строптивые, свирепые? Завидев подобных людей, лучше всего без оглядки и со всех ног бежать прочь.
28
Существуют люди с таким нравом или, если хотите, характером, что лучше вовсе не иметь с ними дела, как можно меньше жаловаться на них и даже не позволять себе быть правыми в споре с ними.
29
Двое людей поссорились насмерть: один из них прав, другой ошибается, но большинство присутствующих, то ли боясь взять на себя роль судей, то ли из миролюбия — весьма неуместного, на мой взгляд, — осуждают обоих; из этого поучительного обстоятельства можно извлечь важный и решающий довод в пользу того, что, если глупец находится на востоке, нам следует бежать на запад, иначе нас поставят на одну доску с ним.
30
Я не люблю людей, которые сразу начинают презирать ближнего и преисполняются самомнением только потому, что он первый подошел к ним или поклонился, не дожидаясь их поклона. Монтень сказал бы: «Хочу дружить с кем вздумается, привечать и обласкивать кого душа принимает, не печалуясь о содеянном и последствий не страшась. Не склонен я над собою тиранствовать и перечить сердцу, когда оно радуется встрече. Ко всякому, кто мне ровня и не враг, поспешаю я первый с поклоном, о здравии и благорасположении расспрашиваю, услужить норовлю, не чинясь и не держа, как говорится, ухо востро. Не по нраву мне тот, кто так себя ведет и поступает, что с ним я и вольность свою и чистосердечие утрачиваю. Завидя его, должен я немедля вспоминать, что вид надлежит мне принять важный и сановитый, дабы он смекнул, сколь хорошо я знаю ему цену, а для того должно мне держать в памяти, что я — человек доброго имени и жизни примерной, за ним же слава худая, да еще беспрестанно с ним себя сравнивать. Не с руки мне такая забота и невмоготу столь рьяное усердие. А буде удастся мне сие на первый раз, так я всенепременно промахнусь во второй и выдам себя с головою: непривычно мне творить над собой насилие и лицедействовать затем лишь, дабы перед кем-нибудь покрасоваться»[45].
31
Добродетельный, благонравный и неглупый человек может быть тем не менее невыносимым: от учтивости, которая многим кажется вздором и пустяком, часто зависит, хорошо или дурно думают о вас люди. Чтобы все считали вас высокомерным гордецом и неприятным невежей, нужно немногое; еще меньше нужно, чтобы изменить это мнение.
32
Учтивые манеры не всегда говорят о справедливости, доброте, снисходительности и благодарности, но они хотя бы создают видимость этих свойств, и человек по внешности кажется таким, каким ему следует быть по сути.
Можно определить, что такое учтивость, но нельзя рассказать, как она должна проявляться: это зависит от обычаев, от времени, страны, людей, даже от пола и положения в обществе. Понять ее суть еще не значит уметь выказать ее на деле: мы должны перенимать ее у окружающих и всегда в ней совершенствоваться. Одни ценят в собеседнике только учтивость, другие — большие дарования и неколебимую добродетель; однако в любом случае учтивые манеры оттеняют достоинства и придают им приятность: только из ряда вон выходящие качества могут спасти неучтивого человека в мнении света.
Мне кажется, суть учтивости состоит в стремлении говорить и вести себя так, чтобы наши ближние были довольны и нами, и самими собою.
33
Неучтиво в присутствии тех, кто только что пел для вас или играл на каком-нибудь инструменте, превозносить до небес других людей, наделенных такими же талантами; точно так же неучтиво, послушав одного поэта, похвалить ему стихи другого.
34
Устраивая обед или празднество в честь кого-нибудь, преподнося ему подарки, придумывая для него развлечения, мы должны стараться, чтобы, с одной стороны, все было сделано хорошо, а с другой — отвечало вкусам этого человека; второе важнее.
35
Пренебрежительно отвергая любую похвалу, мы проявляем своего рода грубость: нам следует благодарить за нее, если она исходит от достойного человека, который чистосердечно хвалит то, что заслуживает похвалы.
36
Когда умный и гордый человек впадает в бедность, он остается таким же гордым и непреклонным, как прежде. Только достаток может смягчить его нрав, придав ему большую мягкость и снисходительность.
37
Не слишком хороший характер у того, кто нетерпим к дурному характеру ближнего: будем помнить, что в обращении требуются и золото, и разменная монета.
38
Жить в постоянном общении с людьми, которые находятся в ссоре и непрерывно жалуются один на другого, — это все равно что не выходить из зала суда и с утра до вечера слышать, как противные стороны вчиняют друг другу иски.
39
Известны случаи, когда люди, прожив всю жизнь под одной кровлей и в полном согласии, не деля имущества и никогда не разлучаясь, вдруг на девятом десятке обнаруживают, что им пора расстаться и больше не видеть друг друга. До могилы обоим остались считанные дни, но их терпение исчерпано, они уже не в силах быть вместе и, пока еще дышат, спешат разойтись. Их совместное существование слишком затянулось: теперь они уже не пример для других, а вот умри они на день раньше, их добрые отношения сохранились бы в памяти людей как редкий образец верности и дружбы.
40
Жизнь большинства семей нередко омрачают недоверие, ревность, недоброжелательство, между тем как снаружи все выглядит так благообразно, мирно и дружелюбно, что мы вдаемся в обман и видим счастье там, где его нет и в помине; мало на свете таких семей, которые выигрывают от близкого знакомства с ними. Вы пришли с визитом — и ваше появление прервало ссору; но стоит вам откланяться, как она сразу же возобновится.
41
В светском обществе разум обычно первым сдает свои позиции: люди глубокого ума нередко оказываются в подчинении у глупца и самодура; они начинают изучать все его слабости, прихоти, капризы, они потакают ему, идут на любые уступки, ни в чем не перечат. Если он благодушно настроен — его превозносят до небес и как бы благодарят за то, что он не всегда невыносим. Его боятся, балуют, слушаются, порою даже любят.
42
Только тот, кто ждал или ждет наследства от престарелых родственников, знает, как дорого приходится за него платить.
43
Клеант — благороднейший человек, и женился он на превосходной, очень разумной женщине; каждый из них — украшение и гордость любого общества. На свете редко встречаются столь порядочные и учтивые люди, но… завтра они расстаются: у нотариуса уже готов акт о раздельном жительстве. Очевидно, иные достоинства несочетаемы, иные добродетели несовместимы.
44
Муж может с уверенностью рассчитывать на приданое, жена — на вдовью часть, оба они — на соблюдение условий брачного контракта, но пусть они не надеются на содержание, положенное родителями и зависящее от столь непрочной вещи, как согласие между свекровью и невесткой, которое нередко нарушается в первый же год брака.
45
Тесть не любит зятя, свекор любит невестку; теща любит зятя, свекровь не любит невестку; все в мире уравновешивается.
46
Мачеха всеми силами души ненавидит детей своего мужа от первого брака; чем сильнее любит она их отца, тем больше она мачеха.
Мачехи опустошают города и села и плодят нищих, бродяг, лакеев и рабов не меньше, чем сама бедность.
47
Г. и Э. оба живут вдали от больших городов, вдали от общества; они соседи, у них смежные поместья. Казалось бы, боязнь одиночества и желание встречаться с себе подобными должны были бы связать их дружбой; однако они повздорили из-за совершеннейшего пустяка и теперь ненавидят друг друга такой лютой ненавистью, что она, несомненно, будет передаваться из поколения в поколение. Между тем даже родственники, даже братья никогда еще не ссорились из-за такой безделицы.
Предположим, что на земле живут всего два человека и она целиком принадлежит им — каждому по половине. Я не сомневаюсь, что очень скоро они ухитрятся рассориться, — скажем, из-за определения границ.
48
Подчас легче и полезнее приладиться к чужому нраву, чем приладить чужой нрав к своему.
49
Я стою на вершине холма и смотрю вниз, на небольшой городок: он расположен на склоне, густой лес защищает его от холодных северных ветров, стены омывает река, которая потом струит свои воды по чудесной долине. Городок так ярко освещен солнцем, что я могу сосчитать все его башни и колокольни: кажется, будто он нарисован на косогоре. Охваченный восторгом, я восклицаю: «Какое счастье жить в этом пленительном уголке, под этими ясными небесами!» Я спускаюсь, вхожу в городок и через двое суток уже уподобляюсь его жителям: только и мечтаю, как бы из него удрать.
50
На свете никогда не было и, видимо, никогда не будет провинциального города, где жители не делились бы на враждующие партии, семьи жили бы в согласии, родственники взирали бы друг на друга с доверием, браки не приводили бы к междоусобицам, вынос святых даров, каждение, свячение хлебов, процессии и погребальные обряды не служили бы поводом к местничеству, пересуды, клевета и злословие находились бы под запретом, президент парламента и бальи{144}, присяжные и асессоры не вступали бы в споры, настоятель жил бы в мире с канониками, каноники не гнушались бы капелланами, а капелланы не изводили бы певчих.
51
Провинциалы и недалекие люди то и дело готовы обидеться, полагая, что их презирают, что над ними смеются; как бы мягка и безобидна ни была шутка, ее можно позволить себе только с людьми воспитанными или наделенными умом.
52
Не пытайтесь верховодить ни вельможами, — они защищены от вас высоким положением, — ни маленькими людьми, — они всегда настороже.
53
Люди, украшенные достоинствами, сразу узнают, выделяют, угадывают друг друга; если вы хотите, чтобы вас уважали, имейте дело только с людьми, заслуживающими уважения.
54
Тот, кто облачен столь высоким саном, что люди не смеют отвечать ему насмешкой на насмешку, не должен позволять себе ни единой колкой шутки.
55
У каждого из нас есть мелкие недостатки, которые мы охотно позволяем порицать и даже высмеивать; именно такие недостатки должны мы избирать и у других в качестве мишени для шуток.
56
Смеяться над умными людьми — такова привилегия глупцов, которые в обществе играют ту же роль, что шуты при дворе, — то есть никакой.
57
Склонность к осмеиванию говорит порой о скудости ума.
58
Вы полагаете, что оставили этого человека в дураках, а он ничего и не заметил; но если он только притворился, что не заметил, кто больше в дураках — он или вы?
59
Поразмыслив хорошенько, нетрудно убедиться, что вечно брюзжат, всех поносят и никого не любят именно те люди, которые всеми нелюбимы.
60
Человек высокомерный и спесивый в обществе обычно добивается результата, прямо противоположного тому, на который рассчитывает, — если, конечно, он рассчитывает на уважение.
61
Друзья потому находят удовольствие в общении друг с другом, что одинаково смотрят на нравственные обязанности человека, но различно мыслят о вопросах научных: беседы помогают им укрепиться во взглядах, доказать свои убеждения или узнать что-либо новое.
62
Истинной дружбой могут быть связаны только те люди, которые умеют прощать друг другу мелкие недостатки.
63
Сколько прекрасных и бесполезных советов мы преподаем тому, кого хотим утешить в большой беде: мы забываем, что внешние события, именуемые неблагоприятными обстоятельствами, порою сильней не только нашего разума, но и нашей природы. «Ешьте, спите, не унывайте, постарайтесь жить, как прежде!» Пустые и тщетные увещания! «Разумно ли так убиваться?» — спрашиваете вы. С таким же успехом вы могли бы спросить: «Не безрассудно ли быть несчастливым?»
64
Советы весьма полезны в делах, но в светском обществе они порой лишь вредят советчику и не нужны тому, к кому обращены: вы указываете человеку на его недостатки, а он или не намерен в них сознаться, или почитает их достоинствами; вы критикуете такие-то места в произведении, а между тем автор считает их превосходными, лучшими из всего, что он создал, и критика лишь укрепляет его в этом мнении. Ваши друзья не станут ни лучше, ни умнее от ваших советов — они только перестанут вам доверять.
65
Не так давно в нашем светском обществе существовал кружок{145}, состоявший из мужчин и женщин, которые собирались, чтобы обмениваться мыслями и беседовать. Искусство изъясняться вразумительным языком они предоставили черни: стоило одному из членов кружка сказать что-нибудь неясное, как другой отвечал ему еще более туманно, и чем загадочней становился их разговор, тем громче рукоплескали остальные. Употребляя выражения, которые, на их взгляд, отличались изяществом, изысканностью, чувствительностью и утонченностью, они вовсе разучились понимать не только друг друга, но и самих себя. Для этих бесед не требовалось ни здравого смысла, ни глубины суждения, ни памяти, ни проницательности, ничего, кроме остроумия, да и то натянутого, вымученного, — остроумия, в котором слишком большую роль играло воображение.
66
Я знаю, Теобальд{146}, что ты состарился, но следует ли из этого, что, одряхлев умом, ты перестал быть поэтом и острословом, что теперь ты никуда не годный критик чужих творений и бездарный писака, что в твоих высказываниях не осталось ничего своеобычного и утонченного? Твой спесивый и развязный вид успокаивает меня, ибо он говорит об обратном: сегодня ты такой же, каким был прежде, — может быть, даже лучше, ибо если ты столь оживлен и неукротим в преклонные годы, то каков же ты был в юности, когда выступал в роли баловня и любимца женщин, которые смотрели тебе в рот, верили каждому твоему слову и восклицали: «Это прелестно… Только объясните, пожалуйста, что он сказал?»
67
Люди вкладывают много жара в свои высказывания обычно из тщеславия или по складу характера, а вовсе не потому, что этого требует предмет беседы: увлеченные желанием ответить на то, чего им никто и не говорил, они следуют за своими собственными мыслями, не обращая ни малейшего внимания на доводы собеседника, и не только не стараются вместе с ним обрести истину, но даже еще не знают, чего именно ищут. Тот, кто внимательно послушал бы такой разговор и потом записал его, нашел бы в нем немало здравых мыслей, хотя и никак между собой не связанных.
68
Одно время у нас были в моде глупые и пустые разговоры, которые все время вертелись вокруг легкомысленных тем, имеющих касательство к сердечным делам, к тому, что именуется страстью и нежностью; чтение некоторых романов{147} ввело эти темы в обиход самых достойных придворных и горожан, но они быстро исцелились от этого поветрия, заразив им, однако, мещанство, которое переняло и эти темы, и сопряженные с ними остроты и двусмысленности.
69
Иные жительницы столицы так утонченны, что якобы не знают или не смеют вслух назвать улицы, площади, общественные места, недостаточно, на их взгляд, благопристойные для порядочных женщин. Такие названия, как Лувр или Королевская площадь, они произносят смело, зато другие стараются обойти, заменяя их иносказательными оборотами или в крайнем случае просто коверкая, — им кажется, что так приличнее. В своем жеманстве они далеко превзошли придворных дам, которые без всякого стеснения скажут «Рыночная площадь» или «Шатле», если им нужно сказать «Рыночная площадь» или «Шатле».
70
Люди, будто бы не помнящие такого-то, по их мнению незнатного, имени и коверкающие его, поступают так потому, что с чрезмерным почтением относятся к своему собственному имени.
71
Иные люди, пребывая в хорошем расположении духа, любят во время непринужденной беседы отпускать безвкусные шутки, которые никому не нравятся, однако слывут остроумными именно потому, что очень плохи: эта низменная манера шутить перешла к нам от черни, которой она свойственна, и заразила многих молодых придворных; правда, ей присуща такая грубость и глупость, что вряд ли она распространится дальше и заполонит двор — это естественное средоточие изысканности и вкуса, — но следовало бы внушить к ней отвращение и тем, кто ее себе усвоил: даже если для них это всего лишь забава, тем не менее подобные шутки занимают в их уме и беседе такое место, которое могли бы занять темы куда более достойные.
72
Не знаю, что лучше, — дурно шутить или повторять хорошие, но давным-давно известные остроты, делая вид, что вы только что их придумали.
73
«Лукан{148} изящно выразился… Клавдиан{149} остроумно заметил… У Сенеки{150} сказано…» — и дальше следует длиннейшая латинская цитата, ее обычно приводят в присутствии людей, которые не понимают ее, но делают вид, что понимают. Если бы у этих любителей цитат достало здравого смысла и ума, они или вовсе обошлись бы без ссылок на древних, или внимательно прочитали бы их и выбрали бы что-нибудь более удачное и идущее к месту.
74
Гермагор{151} не знает, какой король правит Венгрией{152}, и не может взять в толк, почему никто не упоминает о короле богемском. Не вступайте с ним в беседу о фландрском и голландском походах или, по крайней мере, избавьте его от необходимости отвечать: он не представляет себе, когда они начались и когда кончились, путает все даты, а осады и бои для него — пустой звук. Зато он отлично осведомлен о войне богов с гигантами и может обстоятельно изложить ее ход, не упустив ни единой подробности; так же досконально изучил он все перипетии борьбы двух царств — Вавилона и Ассирии; кроме того, ему известно решительно все об египтянах и о династиях египетских фараонов. Он никогда не видел Версаля и никогда не увидит, но, можно сказать, воочию видел Вавилонскую башню, — так хорошо он помнит, пв ней было ступеней, какие зодчие возводили ее и как их всех звали. Дело доходит до того, что Генриха IV[46] он считает сыном Генриха III и понятия не имеет о царствующих домах Франции, Австрии, Баварии. «Какое значение это имеет?» — восклицает он и тут же принимается перечислять всех мидийских и вавилонских царей; имена Апронала, Геригебала, Неснемордаха, Мардокемпада ему так же близки, как нам — имена Валуа и Бурбонов. Он спрашивает, был ли женат император, но, конечно, ему не приходится напоминать, что у Нина были две жены. Если ему скажут, что наш король в добром здравии, он сразу вспомнит, что египетский царь Тутмос был человек болезненный и что хилым телосложением он обязан своему предку Алифармутозу. Чего только не знает Гермагор! Есть ли что-нибудь в глубокой древности, сокрытое от него? Он поведает вам о том, что у Семирамиды, или, как именуют ее многие ученые, Серимариды, голос был в точности похож на голос ее отпрыска Нина и что многие путали их, хотя до сих пор никто не знает, басила ли царица или царевич дискантил. Откроет он вам и то, что Нимрод был левшой, а Сезострис — оберуким. Если вы думаете, что Артаксеркса назвали Длинноруким потому, что руки у него свисали до колен, Гермагор разуверит вас: просто одна рука у царя была длиннее другой; многие осведомленные авторы полагают, что длиннее была правая, но у Гермагора есть серьезные основания считать, что все же то была левая.
75
Асканий — скульптор, Гегион — литейщик, Эсхин — сукновал, а Кидий{153} — остроумец и виршеплет: такова его профессия. У него есть вывеска, мастерская, работа на заказ, подмастерья. Он обещал написать для вас стансы, но не раньше чем через месяц: иначе он не сдержит слова, данного Досифее, которая заказала ему элегию. Кроме того, сейчас у него в работе идиллия для Крантора — тот очень его торопит и обещает хорошо заплатить. Проза, стихи — чего изволите? Ему все удается одинаково хорошо. Попросите его написать соболезнующее письмо или отказ от приглашения — он и тут к вашим услугам; если хотите, можете получить такое послание в уже готовом виде с его складов. У него есть друг, у которого одна-единственная забота в жизни — сначала за глаза расхваливать Кидия в гостиных, а потом представлять его там как человека редких достоинств и превосходного собеседника. Вот Кидий появляется в одной из таких гостиных: подобно певцу или лютнисту, приглашенному показать свое искусство, он откашливается, поправляет манжеты, вытягивает руку, растопыривает пальцы и начинает важно излагать суть своих утонченных мыслей и премудрых умозаключений. Люди, согласные в главном и знающие, что разум, подобно истине, един, перебивают друг друга для того, чтобы прийти к общему мнению; в отличие от них, Кидий открывает рот только затем, чтобы всему перечить. «Я полагаю, — учтиво говорит он, — что вы совершенно неправы», или: «Я никак не могу согласиться с вашим взглядом», или: «Когда-то я упорствовал в этом заблуждении так же, как вы, но… Следует принять во внимание три довода», — продолжает он и немедленно добавляет к ним четвертый. Не успеет этот утомительный болтун где-нибудь появиться, как сразу же начинает втираться в доверие к женщинам, покоряя их своим острословием, философскими познаниями, выкладывая диковинные теории. Пишет Кидий или говорит, он как чумы избегает равно и заблуждений и истины, разумного и нелепого, ибо единственное его желание — думать иначе, нежели другие, и ни в чем не быть похожим на них: поэтому, когда в обществе — случайно или его же стараниями — возникает разговор на какую-либо тему, он ждет, чтобы все высказали свое мнение, а потом безапелляционным тоном заявляет нечто ни с чем не сообразное, но с его точки зрения бесспорное и не подлежащее дальнейшему обсуждению. Кидий приравнивает себя к Лукиану{154} и Сенеке[47], смотрит свысока на Платона, Вергилия и Феокрита, а его приживал каждое утро из кожи лезет, чтобы утвердить Кидия в этой уверенности. Связанный сходством вкусов с хулителями Гомера, он доверчиво ждет, чтобы люди прозрели и предпочли греку современных поэтов, ибо отводит себе первое место среди них и даже знает, кто занимает второе. Словом, он наполовину педант, наполовину жеманник, созданный для того, чтобы им восхищались и жители столицы, и провинциалы, хотя единственное, что в нем действительно велико, — это самомнение.
76
Догматический тон всегда является следствием глубокого невежества: лишь человек непросвещенный уверен в своем праве поучать других вещам, о которых сам только что узнал; тот же, кто знает много, ни на секунду не усомнится, что к его словам отнесутся внимательно, поэтому говорит с подобающей скромностью.
77
О вещах серьезных следует говорить просто: напыщенность тут неуместна; говоря о вещах незначительных, надо помнить, что только благородство тона, манеры и выражений могут придать им смысл.
78
Пожалуй, в устную речь можно вложить еще более тонкий смысл, чем в письменную.
79
Только человек благородный по происхождению или хорошо воспитанный способен хранить тайну.
80
Неполная откровенность всегда опасна: почти нет таких обстоятельств, при которых не следовало бы либо все сказать, либо все утаить. Если мы считаем, что человеку нельзя открыть все, мы, рассказывая что-то, уже говорим слишком много.
81
Иной человек, обещавший хранить вашу тайну, выдает ее, сам того не ведая: губы его неподвижны, но окружающие уже всё понимают, ибо тайна написана у него на лбу и в глазах, просвечивает сквозь его грудь, которая внезапно стала прозрачной; другой говорит не совсем о том, что было ему доверено, но слова его и манеры таковы, что все само собой выплывает наружу; наконец, третий просто разбалтывает вашу тайну, серьезна она или незначительна: «Это секрет, такой-то поделился им со мной и запретил его разглашать», — и он тут же все рассказывает.
В разглашении тайны всегда повинен тот, кто доверил ее другому.
82
Никандр рассказывает Элизе, как хорошо и душа в душу прожил он со своей женою с того дня, как женился на ней, и до самой ее кончины. Он не устает сокрушаться о том, что она не оставила ему наследников, перечисляет, сколько у него домов в городе, потом переходит к своему загородному поместью, подсчитывает, какой доход оно ему приносит, делится замыслами новых построек, описывает местность, преувеличивает удобства того дома, в котором живет сейчас, богатство и новизну меблировки, уверяет, что очень ценит хороший стол и выезд, жалуется, что покойница не очень любила карточную игру и общество. По его словам, один его друг все время повторяет: «Вы так богаты, почему бы вам не купить эту должность, не приобрести тот участок и не расширить свои владения?» «Меня считают еще более богатым, чем я есть», — добавляет он. Не упускает он и случая помянуть о своих связях: слова «господин суперинтендант, мой двоюродный брат», «госпожа канцлерша, моя свойственница» не сходят у него с уст. Он сообщает о некоем происшествии, которое должно показать, что он недоволен своими родственниками — в том числе и наследниками. «Разве я не прав? — спрашивает он Элизу. — Какие у меня основания радеть о них?» — и призывает ее высказать свое мнение. Наконец, он намекает, что здоровье у него слабое и все ухудшается, говорит о семейном склепе, в котором его должны похоронить. Он вкрадчив, льстив, услужлив с теми, кто окружает даму, руки которой он добивается. Но у Элизы не хватает мужества приобрести завидное состояние ценою брака с ним: во время этого разговора докладывают о приходе придворного, который одним своим видом выводит из строя всю батарею почтенного горожанина. Растерянный и обозленный, он отправляется в другой дом, где снова заводит речь о том, что хотел бы вторично жениться.
83
Человек, наделенный умом, порою начинает чуждаться светского общества из боязни, как бы оно ему не наскучило.
Глава VI О житейских благах
1
Богач волен есть лакомые блюда, украшать росписью потолки и стены у себя в доме, владеть замком в деревне и дворцом в городе, держать роскошный выезд, породниться с герцогом и сделать своего сына вельможей. Да, все это ему доступно; но довольство жизнью выпадает, пожалуй, на долю других.
2
Знатное происхождение и богатство — глашатаи заслуг: они привлекают к ним внимание.
3
Притязания честолюбивого глупца нередко оправданы тем, что едва он составил себе состояние, как люди начали находить в нем достоинства, которых у него никогда не было, и притом столь выдающиеся, что на большие он сам не претендовал.
4
Стоит человеку утратить богатство и расположение двора, как сразу обнаруживаются те смешные стороны его характера, которые до тех пор были скрыты и неприметны для глаз.
5
Лишь убедившись на собственном опыте, можно поверить в существование тех удивительных различий, которые возникают между людьми, обладающими большим или меньшим запасом монет. Это «больше» и «меньше» побуждает человека надевать мундир, или мантию, или рясу, — а ведь иных путей в жизни почти что и нет.
6
Два купца жили по соседству и торговали одним и тем же товаром, но дотом их судьба сложилась по-разному. У каждого из них было по единственной дочери, которые выросли вместе и дружили в юности так, как дружат лишь люди одинакового возраста и положения. Одна из них, пытаясь выбиться из нужды, ищет себе место и поступает на службу к весьма знатной особе — одной из первых придворных дам; это ее бывшая подруга.
7
Если финансист разоряется, придворные говорят: «Это выскочка, ничтожество, хам». Если он преуспевает, они просят руки его дочери.
8
Есть среди нас люди, которые смолоду учились одному ремеслу, а потом всю жизнь занимались другим — отнюдь не похожим на первое.
9
Передо мною невзрачный и неумный человек, но мне шепчут на ухо: «У него пятьдесят тысяч ливров дохода». Ну и пусть! Это касается только его: для меня он не стал от этого ни лучше, ни хуже. Если бы, вольно или невольно, я начал смотреть на него другими глазами, каким бы я сам оказался глупцом!
10
Не старайтесь выставить богатого глупца на посмеяние — все насмешники на его стороне.
11
У Н. есть и грубый, неприступный привратник — отдаленное подобие швейцара{155}, — и передняя, и приемная, где сидят и томятся посетители, ожидая, пока он соизволит наконец выйти к ним, важно и рассеянно выслушать их и отпустить, даже не проводив до двери; хотя Н. — персона весьма незначительная, он внушает людям нечто весьма похожее на почтение.
12
Я у твоих дверей, Клитифон. Нужда, которую я имею до тебя, подняла меня с постели и выгнала из дому. Не приведи бог быть у тебя клиентом или просителем! Твои рабы объявляют мне, что ты еще не выходил и примешь меня только через час. Я возвращаюсь раньше указанного срока, и они отвечают, что ты вышел. Что же ты делаешь, Клитифон, запершись в самой отдаленной комнате своего дома? Чем ты так занят, что тебе некогда меня выслушать? Ты ведешь записи, проверяешь счета, подписываешь бумаги, делаешь заметки, а ведь у меня к тебе одна-единственная просьба и тебе достаточно сказать одно лишь слово — «да» или «нет».
Ты хочешь казаться важной персоной? Помогай тем, кто от тебя зависит, и добьешься цели скорее, нежели отказом принять просителей. О влиятельный и обремененный делами человек! Если тебе, в свой черед, понадобятся мои услуги, смело приходи в мой уединенный кабинет: доступ к философу открыт для всех, и я не отложу свидания на завтра. Ты найдешь меня согбенным над трудами Платона, которые трактуют об идеальной природе души и отличии ее от тела, или вычисляющим с пером в руке расстояния до Сатурна и Юпитера. Я созерцаю творения бога и поражаюсь его величию, я познаю истину и тщусь просветить свой ум, чтобы стать более достойным человеком. Входи же — все двери отперты, передняя в моем доме устроена не для того, чтобы томиться, ожидая меня. Милости прошу без доклада прямо ко мне в кабинет: ты ведь доставил мне то, что дороже золота и серебра, — возможность оказать тебе услугу. Говори, чего ты ждешь от меня. Хочешь, я брошу мои книги, занятия, работу, не дописав начатой страницы? Я с радостью прерву мои труды, если могу быть тебе полезен.
Финансист, государственный муж — это медведь, которого не приручить. Увидеться с ним в его берлоге нелегко, — нет, что я говорю! — вовсе невозможно: сначала оказывается, что он еще не выходил, потом — что он уже ушел. Человек науки, напротив, доступен для всех, как уличная тумба: каждый может видеть его во всякое время и в любом виде — в постели, нагим, одетым, здоровым, больным. Он не может напускать на себя важность, да и не хочет этого.
13
Богатству иных людей не стоит завидовать: они приобрели его такой ценой, которая нам не по карману, — они пожертвовали ради, него покоем, здоровьем, честью, совестью. Это слишком дорого — сделка принесла бы нам лишь убыток.
14
Глядя на о…щ…в{156}, мы поочередно испытываем все мыслимые чувства: сначала мы презираем их, как людей безродных, потом завидуем им, ненавидим их, боимся, иной раз ценим, наконец уважаем; а поживем подольше, так, пожалуй, начнем им сострадать.
15
Сосий начал с ливреи{157}, выбился в сборщики налогов, потом в субарендаторы при откупщике, а затем, лихоимствуя, подделывая бумаги, злоупотребляя доверием и разоряя целые семьи, возвысился до заметного положения. Он купил должность и таким путем стал человеком благородным. Ему оставалось только сделаться добродетельным: звание церковного старосты совершило и это чудо.
16
Арфурия ходила в храм святого *** пешком и без служанки, занимала там место у самого входа и слушала издали проповедь кармелита или доктора богословия, чье лицо еле-еле могла разглядеть, а слова — с трудом разобрать. Никто не замечал ее добродетелей, никто не знал ни о ее благочестии, ни о ее существовании. Но вот ее супруг получил откуп на восьмерину и меньше чем за шесть лет составил себе чудовищное состояние. Теперь Арфурия приезжает к обедне в карете, за нею несут тяжелый шлейф, проповедник прерывает речь и ждет, пока она усядется. Она сидит прямо перед ним, слышит любое его слово, видит любой жест. Священники интригуют, каждому хочется переманить ее в свою исповедальню, каждому лестно дать ей отпущение; наконец верх над остальными берет приходский кюре.
17
Креза несут на кладбище. Казнокрадством и лихоимством он стяжал огромные богатства, но, расточив их на роскошь и чревоугодие, не оставил себе даже на похороны. Он умер несостоятельным должником, без гроша за душой, лишенный ухода и помощи: перед смертью у него не было ни прохладительного питья, ни подкрепляющего лекарства, ни врачей; ни один доктор богословия не уверял его, что ему суждено вечное блаженство.
18
Шампань, встав из-за стола после долгого обеда, раздувшего ему живот, и ощущая приятное опьянение от авнейского или силлерийского вина, подписывает поданную ему бумагу, которая, если никто тому не воспрепятствует, оставит без хлеба целую провинцию. Его легко извинить: способен ли понять тот, кто занят пищеварением, что люди могут где-то умирать с голоду?
19
Сильван за деньги купил себе дворянство и новое имя; теперь он сеньор того прихода, где его предки платили подушное. Раньше его не взяли бы к Клеобулу даже в пажи, теперь он его зять.
20
Дор следует по Аппиевой дороге в носилках. Впереди бегут его отпущенники и рабы, разгоняя толпу и расчищая путь; ему не хватает только ликторов. Окруженный свитой, он вступает в Рим так, словно этим триумфальным въездом сотрет воспоминание о бедности и низком происхождении отца своего Санги.
21
Трудно употребить свое состояние лучше, чем Периандр: оно принесло ему высокое положение, почет, власть. Никто уже не ищет его дружбы — теперь у него просят покровительства. Раньше он говорил о себе: «Такой человек, как я…»; ныне он говорит? «Человек моего положения…» Он разыгрывает вельможу, и никто из тех, кого он ссужает деньгами или приглашает к столу (а стол у него отменный), не дерзает разуверить его на этот счет. Его великолепный дом выдержан снаружи в строгом дорическом стиле: дверь, например, — не дверь, а настоящий портик. «Что это, жилище частного человека или храм?» — недоумевают прохожие.
Периандр — первое лицо в своем квартале; все ему завидуют и жаждут его падения; его супруга своим жемчужным ожерельем навлекла на себя вражду всех дам по соседству. Но он держится крепко, и ничто не предвещает крушения его величия, которого он добился сам, которым никому не обязан, за которое заплатил.
Ах, почему его старый и дряхлый отец не умер лет за двадцать до того, как мир услышал о Периандре? Разве может последний примириться с той страшной бумагой[48], которая, обличая истинное звание человека, вгоняет в краску вдову и наследников? Или он собирается обойтись без нее на глазах у целого города, завистливого, злоречивого, зоркого, и не посчитаться со множеством людей, которые жаждут занять подобающее им место в похоронной процессии? Надеется, что они смолчат, если он вздумает именовать «его честью», а то и «его милостью» своего отца, который был всего лишь «господин такой-то».
22
Как много на свете людей, которые похожи на уже взрослые и крепкие деревья, перевезенные и высаженные в сады, где они восхищают взоры каждого, кто видит их в столь прекрасных местах, но не знает, откуда их доставили и как они росли!
23
Какое мнение составили бы себе о нашем веке иные покойные ныне вельможи, если бы, возвратись в мир живых, увидели, что их имена и самые звучные титулы, их замки и древние жилища принадлежат людям, отцы которых, возможно, были у них арендаторами?
24
То, как распределены богатство, деньги, высокое положение и другие блага, которые предоставил нам господь, и то, какому сорту людей они чаще всего достаются, ясно показывает, насколько ничтожными считает творец все эти преимущества.
25
Если вы зайдете на кухню и познакомитесь там со всеми секретами и способами так угождать вашему вкусу, чтобы вы ели больше, чем необходимо; если вы во всех подробностях узнаете, как разделывают мясо, которое подадут вам на званом пиру; если вы посмотрите, через какие руки оно проходит и какой вид принимает, прежде чем превратится в изысканные кушанья и обретет то опрятное изящество, которое пленяет ваши взоры, заставляет вас колебаться при выборе блюд и побуждает отведать от всех сразу; если вы увидите все эти яства не на роскошно накрытом столе, а в другом месте, — вы сочтете их отбросами и почувствуете отвращение. Если вы проникнете за кулисы театра и пересчитаете блоки, маховики и канаты тех машин, с помощью которых производятся полеты; если вы поймете, сколько людей участвует в смене декораций, какая сила рук, какое напряжение мышц необходимы для этого, вы удивитесь и воскликнете: «Неужели все это и сообщает движение зрелищу, столь же прекрасному и естественному, сколь непринужденному и полному воодушевления?»
По той же причине не пытайтесь выведать, как разбогател откупщик.
26
Этот свежий, цветущий, пышущий здоровьем юноша — сеньор целого аббатства и обладатель десятка других бенефиций, от которых получает сто двадцать тысяч ливров дохода. Он купается в золоте, а рядом семьям ста двадцати бедняков нечем обогреться зимою, нечем прикрыть наготу и порою даже нечего есть. Их нищета ужасна и постыдна. Какая несправедливость! Но не предвещает ли она, что ожидает как их, так и его в будущей жизни?
27
Тридцать лет тому назад Хризипп, человек из новых и первый дворянин в своем роду, мечтал получать когда-нибудь хоть две тысячи ливров дохода; это было верхом его желаний, пределом его честолюбивых помыслов. Он сам так говорил, и многие это помнят. Теперь неведомыми путями он достиг того, что дает в приданое за одною из дочерей огромный капитал: проценты с него образуют как раз ту сумму, на которую он хотел когда-то жить всю жизнь; такие же доли отложены им для каждого из детей, которых он должен обеспечить, — а их у него много. Но это лишь задаток под будущее наследство: после его смерти найдутся и другие ценности. А он, хотя уже в летах, но полон жизни и тратит остаток дней своих на приумножение накопленного богатства.
28
Дайте Эргасту волю, и он обложит налогом воду, которую пьют, и землю, по которой ходят: он умеет превращать в золото «все — даже тростник, камыш и крапиву. Он принимает любые советы и пытается провести в жизнь все, что ему советуют. Государь, уверяет он, жалует других только за счет Эргаста, оказывает им лишь те милости, которые заслужены Эргастом. Он полон ненасытной жажды приобретать и владеть; он готов торговать искусством и наукой, взять на откуп даже гармонию. Послушать его, так выходит, что народ с радостью предпочел бы музыке Орфея мелодии Эргаста, лишь бы этот добрый человек был богат, держал свору гончих и завел конюшню!
29
Остерегайтесь иметь дело с Критоном: он печется лишь о собственной выгоде. Тот, кто польстится на его должность, поместье, собственность, попадет в ловушку — ему навяжут несообразные условия. Не ждите щепетильности и уступчивости от человека, столь преданного своим интересам и столь равнодушного к вашим: он вас проведет.
30
Бронтин, говорят в народе, так благочестив, что по неделям запирается наедине с изображениями святых; однако между святыми и Бронтином все же есть некоторая разница.
31
Народ нередко проявляет вкус к трагедии: он охотно смотрит, как на подмостках жизни гибнут актеры, которые натворили столько зла по ходу действия и так ему ненавистны.
32
Жизнь от…щи. ов распадается на две равные половины: первая, деятельная и непоседливая, целиком занята тем, что они грабят народ; вторая, предшествующая смерти, — тем, что они обличают и разоряют друг друга.
33
Человек, который многим ближним — в том числе и вам — помог составить состояние, не сумел сохранить своего и обеспечить перед смертью жену и детей; теперь они живут в безвестности и нищете. Вам отлично известно их бедственное положение, но вы и не думаете его облегчить. В самом деле, до того ли вам? Вы держите открытый стол, вы строитесь. Зато вы с признательностью храните портрет вашего благодетеля… правда, уже не в кабинете, а в передней. Какая преданность! Его вполне можно было бы вынести и в чулан.
34
Человек иногда рождается черствым, а иногда становится им под влиянием своего положения в жизни. В обоих случаях он равнодушен к бедствиям ближнего, больше того — к несчастьям собственной семьи. Настоящий финансист не способен горевать о смерти друга, жены, детей.
35
Бегите, спасайтесь: опасность все еще слишком близка! «Я уже переехал тропик», — возразите вы. Нет, пересеките полюс, скройтесь в другом полушарии, взлетите, если можете, к звездам. «Я уже достиг их». Вот и хорошо! Наконец-то вам ничто не угрожает.
Повсюду на земле я вижу алчных, ненасытных, неумолимых людей, которые стремятся жить за счет того, кто встретится на их пути или попадет им под руку, и — чего бы это ни стоило другим — хотят заботиться лишь о себе, приумножать свое достояние и утопать в излишествах.
36
«Нажить состояние» — это такое сладостное выражение и смысл его так приятен, что оно у всех на устах. Оно встречается на всех языках, нравится иностранцам и варварам, царит при дворе и в столице, проникает сквозь монастырские стены и вторгается в мужские и женские обители. Нет такого святилища, куда бы оно не прокралось, нет такой пустыни, где бы оно не звучало.
37
Иной человек, заключая всё новые сделки и пряча всё больше денег в сундуки, приходит в конце концов к мысли, что он умен и даже способен отправлять высокие должности.
38
Чтобы составить себе состояние, в особенности большое, нужен ум особого склада: не сильный, не острый, не обширный, не возвышенный, не свободный, не тонкий; каким он должен быть — я не знаю и жду, чтобы кто-нибудь подсказал мне это.
Чтобы составить себе состояние, нужен не столько ум, сколько опыт и привычка к такому занятию. Люди поздно берутся за это дело и, приступив к нему, обычно начинают с ошибок, исправить которые им уже недосуг; может быть, именно поэтому большие состояния и встречаются так редко.
Возмечтав выбиться в люди, человек небольшого ума забывает обо всем. С утра до ночи он только и думает, во сне только и видит, как бы ему возвыситься. С ранних пор, с самой юности он гонится за удачей. Если он натыкается на стену, преграждающую ему путь, он просто обходит ее слева или справа, смотря по тому, где видит просвет и лазейку; если его останавливают новые препятствия, он возвращается на покинутую дорогу. Сообразуясь с характером препятствий, он то преодолевает их, то уклоняется в сторону, то принимает еще какие-нибудь меры в соответствии со своей выгодой, своими привычками и обстоятельствами. Так ли уж много таланта и находчивости требуется путнику, чтобы следовать сначала по большой дороге, затем, если она до отказа забита проезжими, двинуться прямо через поля, потом опять выбраться на нее и, продолжая свой путь, прибыть наконец на место? Так ли уж много ума нужно и нашему честолюбцу для достижения своей цели? Разве глупец, стяжавший богатство и всеобщее уважение, — такая уж редкость?
Бывают недоумки и, дерзну сказать, даже круглые дураки, которым удается занять важную должность и жить до конца дней своих, утопая в изобилии, хотя никому и в голову не приходит утверждать, что они добились этого трудом или предприимчивостью. Кто-нибудь — чаще всего просто случай — подвел их к источнику и сказал: «Хотите воды? Зачерпните». И они зачерпнули.
39
В молодости человек обычно беден: он еще не успел ничего нажить, ему еще не досталось наследство. Богатея, он в то же время стареет, ибо людям редко даются все блага сразу, а если кому-нибудь и даются, так ему не стоит завидовать: умирая, он теряет столько, что его нельзя не пожалеть.
40
Лет в тридцать мы впервые задумываемся о том, как бы составить себе состояние; к пятидесяти оно еще не составлено. Под старость мы начинаем строиться и умираем, прежде чем маляры и стекольщики закончат отделку.
41
Зачем нам богатство, как не затем, чтобы пользоваться плодами честолюбивых помыслов, усилий, трудов и затрат тех людей, которые пришли в мир до нас, и самим трудиться, сеять, строить и приобретать для потомков?
42
Каждое утро мы раскрываем глаза, как купец — ставни своей лавки, и выставляем себя напоказ, чтобы обманывать ближнего; а вечером снова закрываем их, потратив целый день на обман.
43
Стремясь сбыть с рук самое лежалое, купец показывает товар лицом: он наводит на него лоск и подновляет его, чтобы придать ему свежий вид и скрыть изъяны; расхваливает, чтобы продать дороже настоящей цены; ставит фальшивые и таинственные клейма, чтобы все думали, будто платят настоящую цену; мерит незаконной мерой, чтобы отпускать меньше, чем следует. Зато в лавке стоят монетные весы, чтобы покупатель платил полновесным золотом.
Жак Калло. «Интермедия I».
Офорт из серии «Интермедии».
44
Бедный человек любого звания почти всегда порядочен, богатый — склонен к мошенничеству: чтобы разбогатеть, мало быть ловким и предприимчивым.
В любом деле — как в ремесле, так и в торговле — можно разбогатеть, притворяясь честным человеком.
45
Кратчайший и вернейший способ составить себе состояние — это дать людям понять, что им выгодно делать вам добро.
46
Люди, подгоняемые нуждой, а иногда алчностью или честолюбием, развивают в себе способности к грешным мирским делам, избирают сомнительные занятия и долго не желают замечать, какими опасностями чревато их поведение. Позже они отказываются от этих занятий из благоразумия и смирения — но лишь после того, как жатва собрана и состояние упрочено.
47
Глянешь на иных бедняков, и сердце сжимается: многим нечего есть, они боятся зимы, страшатся жизни. В это же время другие лакомятся свежими фруктами: чтобы угодить их избалованному вкусу, землю заставляют родить круглый год. Простые горожане, только потому, что они богаты, позволяют себе проедать за один присест столько, сколько нужно на пропитание сотне семейств. Пусть кто хочет возвышает голос против таких крайностей, я же по мере сил избегаю как бедности, так и богатства и нахожу себе прибежище в золотой середине.
48
Известно, что бедняки пеняют на свою нищету и на то, что никто не хочет ее облегчить. Богачи тоже порою бывают недовольны: они не выносят, когда им недостает хотя бы самой малости или когда им в чем-либо перечат.
49
Богат тот, кто получает больше, чем тратит; беден тот, чьи траты превышают доходы.
Можно иметь два миллиона дохода и при этом каждый год нуждаться в пятистах тысячах ливров.
Долговечнее всего скромный достаток; ничто так быстро не иссякает, как большое состояние.
От богатства до бедности один шаг.
Говорят, что богаты мы лишь тогда, когда ни к чему не вожделеем; если так, значит, самый богатый человек на свете — это мудрец.
Говорят, что бедны мы лишь тем, на что заримся; если так, значит, честолюбец и скупец прозябают в страшной нищете.
50
Все страсти тиранят человека, но честолюбие, взяв верх над остальными, на время даже наделяет его видимостью всех добродетелей. Трифон страдает всеми пороками, а я считал его воздержным, целомудренным, щедрым, смиренным и даже благочестивым; я и поныне верил бы в это, не наживи он состояния.
51
Желание разбогатеть и возвеличиться никогда не оставляет человека: желчь уже разливается, подходит конец, на лице у бедняги печать смерти, ноги не держат его, а он все еще твердит: «Мое богатство, мое положение…»
52
Человек может возвыситься лишь двумя путями — с помощью собственной ловкости или благодаря чужой глупости.
53
Черты лица выдают наш характер и нрав, а выражение говорит о благах, которыми нас наделила судьба, — оно свидетельствует о том, сколько у нас тысяч ливров дохода.
54
Хрисанф, человек богатый и спесивый, не желает показываться на людях вместе с Евгением, человеком достойным, но бедным: он думает, что это его унизит. Евгений боится того же. Им не грозит встреча.
55
Видя, как иные люди, некогда спешившие оказать мне знаки внимания, теперь считаются со мною чинами и не желают здороваться первыми, я говорю себе: «Вот и хорошо! Я очень рад — тем лучше для них: значит, дом, утварь, стол у этих людей стали богаче, чем раньше; они, наверно, несколько месяцев назад вошли в выгодное дело и уже получили немалые барыши. Дай им бог поскорее восчувствовать ко мне презрение!»
56
Каким гонениям подверглись бы мысли, книги и авторы их, если бы они зависели от богачей и вообще от всех, кто составил себе изрядное состояние! На этих людей не было бы управы. Какую власть взяли бы они над ученым, как презрительно говорили бы с ним! С каким величавым видом взирали бы они на этого жалкого человека, которому заслуги не принесли ни места, ни богатства и который тем не менее продолжает и мыслить здраво, и писать разумно! Нельзя не признать, что настоящее — за богачами; зато будущее — удел добродетели и таланта. Гомер был, есть и пребудет всегда, а мытарей-откупщиков уже нет. Кто помнит о них? Кому известны их имена, их родина? Да и кто знает, существовали ли они в Греции? Что стало с теми спесивцами, которые презирали Гомера, избегали показываться с ним вместе на площади, не отвечали на его поклон или грубо окликали по имени при встрече, не удостаивали приглашения к столу и смотрели на него свысока, как смотрят на всякого бедняка-сочинителя? Что ждет после смерти разных Фоконне{158}? Будут ли они жить в веках так же долго, как Декарт, который родился французом, а умер в Швеции{159}?
57
Высокомерие — вот единственная причина того, что мы так дерзко заносимся перед низшими и так постыдно пресмыкаемся перед высшими. Этот порок, порожденный не личными заслугами и добродетелями, а богатством, высоким положением, влиятельностью и ложной ученостью, равно внушает нам и презрение к тем, у кого меньше этих благ, чем у нас, и чрезмерное почтение к тем, у кого их больше.
58
Бывают низкие души, вылепленные из грязи и нечистот, любящие корысть и наживу так же сильно, как души высокие любят славу и добродетель. Их единственная отрада — все приобретать и ничего не терять; им интересно и важно только одно — поместить деньги из десяти годовых; они постоянно заняты мыслью о своих должниках, вечно боятся понижения пробы или веса монеты{160}, всегда погружены в контракты, векселя и прочие документы. Их не назовешь ни отцами, ни гражданами, ни друзьями, ни христианами. Они, пожалуй, даже не люди. Зато у них есть деньги.
59
Сделаем сперва исключение для тех людей бестрепетной и благородной души — если они еще встречаются на свете, — которые всегда готовы помочь ближнему и облагодетельствовать его на тысячу ладов, которых никакая нужда, никакой успех, никакие уловки не отвратят от тех, кому они однажды отдали свою дружбу, и, после этой оговорки, смело выскажем горькую и печальную мысль: нет в мире человека, который был бы связан с вами узами знакомства и доброжелательства, любил вас, находил удовольствие в вашем обществе, тысячу раз предлагал вам свои услуги, а иногда и оказывал их и который не был бы готов порвать с вами и стать вашим врагом ради своей выгоды.
60
Оронт из года в год приумножает свой капитал и доходы. Тем временем в некоем семействе рождается девочка, растет, воспитывается, хорошеет, достигает наконец пятнадцати лет, и вот его уговаривают жениться на ней — молодой, красивой, умной. Ему уже пятьдесят, он низкого происхождения, глуп, не отличается никакими достоинствами и тем не менее предпочтен всем своим соперникам.
61
Нередко брак, который должен служить человеку залогом земного счастья, становится для него из-за бедности изнурительным и тяжким бременем. Тогда жена и дети превращаются в источник соблазна, невольно толкая его на мошенничество, ложь и поиски незаконных доходов. Он как бы на распутье между плутовством и нищетой. Нелегкий выбор!
В устах настоящего француза слова «жениться на вдове» означают «составить себе состояние»; однако частенько слова эти оказываются ловушкой.
62
Тот, кто при разделе наследства с братьями получил достаточно, чтобы стать адвокатом и жить, не зная тревог, жаждет сделаться судьей; судья метит в советники, а советник — в президенты парламента. То же происходит с людьми любого звания: сперва они тщетно пытаются возвыситься, взяв, так сказать, судьбу за горло, а потом томятся в скудости и стесненных обстоятельствах. Они не в силах ни отказаться от мечты о богатстве, ни удержать его.
63
Обедай плотней, Клеарх, ужинай по вечерам, не жалей дров, купи себе плащ, обей спальню: ты не любишь своего наследника, не хочешь с ним знаться — стало быть, у тебя его нет.
64
В молодости человек копит себе на старость, а состарившись, откладывает на похороны. Расточительный наследник оплачивает пышное погребение и проматывает остальное.
65
Скупец после смерти тратит за один день больше, чем проживал в десять лет; наследник же его расточает за десять месяцев столько, сколько покойный не израсходовал за всю жизнь.
66
То, что человек проматывает, он отнимает у своего наследника, а то, что скаредно копит, — у самого себя. Кто хочет быть справедливым к себе и другим, тот держится середины.
67
Не будь дети в то же время и наследниками, они, вероятно, больше дорожили бы родителями, а родители — ими.
68
Участь человека так безотрадна, что может отбить охоту к жизни! Сколько приходится ему потеть, недосыпать, кланяться и унижаться перед другими, прежде чем он составит себе скромное состояние или получит его благодаря смерти близких! Кто не позволяет себе мечтать, чтобы его отец поскорее расстался с этим миром, тот уже порядочный человек.
69
Тот, кто надеется на наследство, всегда угодлив по характеру: пока мы живы, никто так усердно не льстит, не повинуется, не подпевает и не услуживает нам, никто так рьяно не заботится, не беспокоится и не печется о нас, как человек, который надеется выиграть от нашей смерти и с нетерпением ее ожидает.
70
Каждый считает себя наследником должностей, титулов и достояния своего ближнего и, движимый этой корыстной мыслью, всю жизнь невольно и тайно желает другому смерти. В любом звании самый счастливый человек тот, кому в час кончины предстоит утратить больше других и больше других оставить наследнику.
71
Говорят, что игра равняет всех, но иногда положение партнеров в обществе столь несоизмеримо, между ними лежит столь огромная и безмерная пропасть, что подобное сближение крайностей режет глаз: это все равно что нестройная музыка, или плохо подобранные краски, или бессвязные и раздражающие ухо слова, или скрежещущие звуки, от которых вас передергивает; короче говоря, это откровенное нарушение благопристойности.
Если мне возразят, что так делается всюду на Западе, я отвечу следующим образом: это, как видно, один из тех обычаев, за которые в другой части света нас почитают варварами; возможно, восточные путешественники, приезжая к нам, отмечают этот обычай на своих памятных табличках. Не сомневаюсь даже, что подобная фамильярность вызывает у них не меньшее отвращение, чем у нас их зомбайя[49]{161} и другие унизительные церемонии.
72
Заседание штатов или парламента, созванное для обсуждения дел государственной важности, не являет взору зрелища серьезнее и торжественнее, чем сборище игроков, восседающих за столом, где идет игра по большой: лица их мрачны и строги; непримиримые и безжалостные враги до конца партии, они не считаются ни с дружбой, ни со связями, ни со знатностью, ни с положением; только случай, это слепое и жестокое божество, самовластно правит и распоряжается ими. Они воздают ему дань почтения таким глубоким молчанием и такой сосредоточенностью, на которые отнюдь не способны в другое время. Все их страсти безмолвно отступают перед одной: царедворец — и тот забывает привычную вкрадчивость, лесть, угодливость и даже ханжество.
73
Тот, кого возвысила удача в игре, начисто забывает о своем звании: он не желает знаться с равными себе и признает только вельмож. Правда, при игре в кости или в ландскнехт{162} счастье переменчиво: оно нередко возвращает такого человека в прежнее положение.
74
Я не удивляюсь тому, что существуют игорные дома, эти ловушки для людской алчности эти пропасти, куда проваливаются и где безвозвратно исчезают богатства частных лиц, эти страшные подводные камни, о которые насмерть разбиваются игроки; я не удивляюсь и тому, что из этих мест во все стороны мчатся эмиссары, всегда умеющие вовремя выведать, кто вернулся из плавания, захватив новый приз и разжившись деньгами, кто выиграл тяжбу и взыскал немалую сумму, кому поднесли дар, кому достался крупный выигрыш, кто из отпрысков знатных родителей получил недавно богатое наследство, кто из приказчиков неосторожно собрался поставить на карту наличность своей кассы. Конечно, ремесло это — грязное, недостойное, основанное на обмане, но оно существует издавна, о нем все знают, им во все времена занимались люди, которых я называю шулерами и у которых только что не висит над дверью вывеска, гласящая: «Здесь честно обманывают». Да и зачем им выдавать себя за порядочных? Кому же не известно, что посещение игорного дома равнозначно проигрышу? Меня удивляет другое: откуда берется столько простаков, которые так охотно служат этим людям источником средств к существованию?
75
Игра разоряет тысячи людей, которые невозмутимо уверяют при этом, что не могут без нее жить. Хорошо оправдание! Тот же довод можно привести в защиту любой, самой неистовой и постыдной, страсти; но разве кто-нибудь скажет, что он не в силах жить без воровства, убийств и прочих злодеяний? Неужели мы должны примириться с этой страшной, беспрерывной, безудержной, безоглядной забавой, которая преследует лишь одну цель — полное разорение партнера, ослепляет человека надеждой на выигрыш, приводит его в исступление при проигрыше, отравляет жадностью, вынуждает ради одной ставки в карты или кости рисковать своим состоянием и судьбою жены и детей? Неужели так тяжело воздержаться от нее? Разве не тяжелее приходится нам в тех случаях, когда, доведенные игрою до полного разорения, мы вынуждены обходиться даже без платья и пищи и обрекать на такую же участь свою семью?
Я не мирюсь с шулерами, но мирюсь с тем, что шулер играет по крупной. Порядочному человеку я этого не прощаю: рисковать большим проигрышем — слишком опасное мальчишество.
76
Есть только одно непреходящее несчастье — потеря того, чем владел. Время, смягчающее все остальные горести, лишь обостряет эту: мы до самой смерти ежеминутно чувствуем, как недостает нам того, что мы утратили.
77
С человеком, который не тратит свое состояние на то, чтобы выдавать дочерей замуж, платить по счетам и заключать контракты, приятно иметь дело лишь в том случае, если он не приходится вам ни мужем, ни отцом.
78
О Зенобия, ни смута, потрясающая твое царство, ни война с могущественным народом, которую ты мужественно продолжаешь вести и после смерти твоего супруга, не умалили твоей любви к пышности. Ты решила построить себе величественный дворец и для этой цели избрала берега Евфрата, отдав этому краю предпочтение перед другими подвластными тебе областями. Воздух там здоровый и прохладный, местность красивая, с запада ее прикрывает от зноя священная роща. Боги твоей Сирии, обитающие порой на земле, — и те не выбрали бы себе лучшего жилища. Окрестности кишат людьми, которые обтесывают камень и валят деревья, приходят и уходят, подкатывают и подвозят ливанский лес, бронзу и порфир. Воздух оглашен скрипом блоков и машин, и, слыша его, купцы, проезжающие мимо по дороге в Аравию, надеются, что, когда они вернутся к родным очагам, здание будет уже окончено и предстанет в том блеске, который ты хочешь ему придать, прежде чем поселиться в нем с царевичами — твоими детьми. Не жалей ничего — ни золота, ни труда отменнейших мастеров, великая царица; пусть Фидии{163} и Зевксисы{164} твоего века проявят свое искусство, отделывая потолки и стены; разбей вокруг такие обширные и восхитительные сады, чтобы они казались делом рук не человека, а волшебника; истощи свою казну и свою фантазию на это несравненное сооружение. Но когда оно будет окончено, Зенобия, какой-нибудь пастух, живущий в песках по соседству с Пальмирой и разбогатевший на сборе пошлины за перевоз через твои реки, купит этот царственный дворец за наличные деньги и примется его украшать, чтобы он стал достоин своего удачливого владельца.
79
Вы очарованы этим дворцом, его убранством, садами, прелестными фонтанами. Увидев в первый раз это изумительное здание, вы без устали восторгаетесь им и беспримерным счастьем его владельца. Но того уже нет, ему не удалось насладиться зрелищем так же беспрепятственно и спокойно, как вам: он не знал ни одного безмятежного для, ни одной мирной ночи; чтобы выстроить этот прекрасный дворец, который восхищает вас, он запутался в долгах, и кредиторы выселили его; уходя, он обернулся, в последний раз издали взглянул на свой дом и скончался от потрясения.
80
Глядя на иные семьи, мы невольно думаем о том, что принято называть игрою случая или прихотью судьбы. Сто лет назад о них никто не знал, их не было. Внезапно небо взыскивает их своей милостью, на них дождем сыплются почести, богатства, титулы, и вот они уже наверху благополучия. У Эвмолпа не было прадедов, но зато был отец, который поднялся так высоко, что его сын всю свою долгую жизнь желал одного — сравняться с родителем, в чем и преуспел. Где причина возвышения этих людей? В глубоком уме, выдающихся талантах или в удачном стечении обстоятельств? Но счастье уже перестало им улыбаться: оно нашло себе иных любимцев, а с потомками Эвмолпа обходится так же, как с его предками.
81
Прямая причина упадка и оскудения людей обоих званий — как судейского, так и военного — состоит в том, что свои расходы они соразмеряют не с доходами, а со своим положением.
82
Если вы, стремясь возвыситься, ничем не пренебрегли, это стоило вам тяжелого труда; если вы при этом упустили из виду хотя бы самую ничтожную мелочь, это стоило вам тяжелого раскаяния.
83
У Гитона цветущий вид, свежее лицо, толстые щеки, пристальный и самоуверенный взгляд, широкие плечи, большой живот, твердая и решительная походка; выражается он без обиняков, заставляет собеседника повторять сказанное и не очень вслушивается в то, что ему говорят; он шумно сморкается в большой носовой платок, плюет далеко и чихает громко; он спит ночью, спит днем, причем глубоким сном, и похрапывает в обществе. За столом и на прогулке он всегда занимает больше места, чем другие; прогуливаясь в компании тех, кто ему ровня, он всегда идет в середине; он останавливается — и все останавливаются; он снова пускается в путь — и все следуют за ним, подлаживаются к нему; он прерывает и поправляет своих собеседников, его же не прерывают и слушают, пока он не устанет, соглашаются с его мнением и верят тому, что он рассказывает. Усаживаясь, он глубоко погружается в кресло, кладет ногу на ногу, хмурит брови, надвигает шляпу на лоб, чтобы никого не видеть, или, напротив, с надменным и дерзким видом обнажает голову. Он весел, насмешлив, нетерпелив, заносчив, вспыльчив, распутен, хитер, скрытен в делах и воображает, будто умен и даровит. Он богат.
У Федона запавшие глаза, тощее тело и худое, всегда воспаленное лицо; спит он мало и неспокойно; вид у него отсутствующий, рассеянный и потому глупый, хотя он умен; он вечно забывает рассказать то, что ему известно, или то, чему был свидетелем, а если и рассказывает, то плохо, — боится наскучить собеседнику, старается быть кратким и становится скучным, не умеет ни привлечь к себе внимание, ни рассмешить; он рукоплещет и улыбается тому, что говорят другие, соглашается с ними, сломя голову бегает по их поручениям; он угодлив, льстив, подобострастен, скрытен в делах, иногда лжив; он суеверен, обязателен, робок, ходит неслышно и осторожно, словно боится наступить на землю, потупляет глаза и не смеет поднять их на прохожих; он никогда не присоединяется к кругу беседующих, а встает за спиной говорящего, украдкой прислушивается к тому, что говорят, и уходит, если на него обратили внимание; он как бы вовсе не занимает места и поэтому не мешает соседям; на мостовой он втягивает голову в плечи, надвигает шляпу на лоб, чтобы его не увидели, закутывается в плащ и весь съеживается: какая бы давка ни была на улице или в крытом проходе, он всегда умеет пройти, не толкаясь, и проскользнуть незамеченным; когда ему предлагают стул, он садится на самый краешек; на людях он говорит тихо и невнятно, хотя о государственных делах высказывается довольно смело, осуждает нынешний век, не слишком жалует министров и весь кабинет. Рот он открывает не прежде, чем к нему обратятся; кашляя и сморкаясь, прикрывает лицо шляпой, плюет чуть ли не себе на ноги, чихает, только отойдя в сторону или, если уж иначе нельзя, незаметно для окружающих; с ним не здороваются, ему не говорят любезностей. Он беден.
Глава VII О столице
1
Каждый вечер в один и тот же час жители Парижа стекаются в аллею Королевы или в Тюильри, словно молчаливо назначили там друг другу свидание: они приходят на всех посмотреть и всех осудить. Они не любят людей, которых там встречают, насмехаются над ними, но обойтись без них не могут.
Гуляя в парке, они производят друг другу смотр: кареты, лошади, ливрейные лакеи, гербы — ничто не ускользает от их любопытства или недоброжелательства; к такому-то они проникаются уважением, такого-то начинают презирать, — все зависит от роскоши выезда.
2
Все мы знаем длинную насыпь, которая ограничивает и окаймляет русло Сены с той стороны, где, приняв в себя Марну, она подходит к Парижу. В летний зной под этой насыпью купаются мужчины; сверху отлично видно, как они входят в воду и вылезают из нее; из этого устроили превеселое зрелище. Пока не наступает пора купания, женщины там не гуляют; как только эта пора проходит, они перестают там гулять.
3
Женщины спешат в это людное место не для задушевных бесед друг с дружкой, а из желания щегольнуть красотой и роскошью наряда: они держатся вместе, чтобы чувствовать себя увереннее на этих, так сказать, подмостках, не робеть перед публикой и дать достойный отпор критиканам; поэтому они разговаривают, ни к кому не обращаясь, вернее — обращаясь к прохожим, к тем, ради кого они все время повышают голос, размахивают руками, шутят, небрежно отвечают на поклоны, проходят и возвращаются.
4
Столичное общество делится на кружки, подобные маленьким государствам: у них свои законы, обычаи, жаргон, привычные шутки. Пока такой кружок находится в расцвете, члены его упорно держатся друг друга, восхищаясь всем, что делают и говорят они сами, и находя заурядным все, что делают посторонние; более того — они презирают людей, не посвященных в тайны их содружества. Всякого, кто случайно попадает в их среду — будь то умнейший человек на свете, — они встречают как непрошеного гостя. Ему начинает казаться, что он приехал в чужую страну, где все ему незнакомо: проезжие дороги, язык, нравы, образ жизни. Он видит людей, которые болтают, шумят, шепчутся, покатываются со смеху, а потом вдруг погружаются в унылое молчание; он теряется, не знает, как принять участие в общей беседе, ничего в ней не понимает. В кружке всегда главенствует какой-нибудь глупый шутник, которому все остальные смотрят в рот, ибо считается, что он увеселяет общество: поэтому стоит ему сказать слово, как все уже хохочут. Если среди членов кружка появляется женщина, до сих пор не принимавшая участия в их развлечениях, они не могут взять в толк, почему она не смеется шуткам, ей непонятным, и равнодушна к нелепостям, которые лишь потому кажутся им остроумными, что они сами их придумали. Им все неприятно в этой женщине — и голос, и молчание, и фигура, и лицо, и наряд, и то, как она вошла, и то, как вышла. Но век подобной котерии недолог — от силы два года. С самого начала в ней уже зреют семена раздора, через год они дают пышные всходы. Соперничество красавиц, ссоры за картами, излишества стола, вначале скромного, а затем все более обильного, роскошь празднеств подтачивают такую республику и наконец наносят ей смертельный удар. Вскоре об этом народце вспоминают как о прошлогоднем снеге.
5
Судейское сословие в столице делится на судейскую знать и мелкую сошку. Первые вымещают на вторых обиды, которые наносит их самолюбию презрительное высокомерие двора. Не так-то легко отличить их друг от друга, разобраться, где кончаются сановники и начинается мелюзга. Например, некая довольно многочисленная корпорация{165} утверждает, что члены ее принадлежат к первым; хотя это право ожесточенно оспаривают у них, они не только не сдаются, но, напротив, важностью осанки и жизнью на широкую ногу стараются если не сравняться с советниками парламента, то хотя бы не очень от них отставать. Они утверждают, что благородство их ремесла, независимость положения, дар красноречия и личные достоинства стоят не меньше, чем мешки с золотом, отданные откупщиками и банкирами в уплату за должности, которые занимают их сынки.
6
Как! Вы собираетесь думать в карете? Может быть, даже мечтать? Да вы шутите! Живо берите книгу или бумаги, углубитесь в них, еле отвечайте на поклоны людей, которые проезжают мимо вас в экипажах; они вообразят, что вы действительно завалены делами, и скажут: «Как он трудолюбив и неутомим! Он читает и работает даже на улицах, даже по дороге в Венсен!» Спросите у любого адвокатишки — и он объяснит вам, что нужно всегда казаться страшно занятым, хмуриться, делать глубокомысленный вид, своевременно терять сон и аппетит, вернувшись домой, немедленно исчезать, растворяться, подобно привидению, во мраке своего кабинета, прятаться от людей, не появляться в театре, предоставляя это развлечение тем, кто уже не боится за свое доброе имя, кто действительно занят по горло, — всяким Гомонам и Дюамелям{166}.
7
Иные из молодых советников парламента, богатые ветрогоны, вступают в дружеские отношения с теми, кого при дворе называют петиметрами; они подражают им и презрительно относятся к своим вечно серьезным собратьям по ремеслу, убежденные, что возраст и богатство избавляют их от необходимости быть разумными и умеренными. Они заимствуют у придворных только их дурные свойства: тщеславие, изнеженность, невоздержность, вольномыслие, словно эти пороки обязательны для вельможи. Таким образом, присвоив себе характер, противоположный тому, который соответствует их положению, они по доброй воле становятся точными копиями отвратительных оригиналов.
8
Судейский в городе и тот же судейский при дворе — два разных человека. Вернувшись из дворца, он обретает оставленные дома повадки, осанку, облик: он уже не так искателен и не так учтив.
9
Криспены всем семейством собирают в складчину шестерку лошадей, чтобы удлинить свой цуг, и с кучей ливрейных лакеев, собранных опять-таки в складчину, отправляются в карете в аллею Королевы или на Венсенскую дорогу, где одерживают блестящую победу, сравнявшись в роскоши выезда с новобрачными, с Ясоном, который стоит на краю разорения, и Трасоном, который, задумав жениться, уже купил патент[50].
10
Мне говорили, что у всех Саньонов одинаковое имя и одинаковый герб, но так как в этом семействе три ветви — старшая, младшая и младшая от младшей, — то у первой герб полный, у второй — составной с гербовой связкой, у третьей — составной с зубчатым бордюром; в их гербе тот же фон, что у Бурбонов, то же золото и серебро, те же две и одна… правда, не лилии, но это не смущает Саньонов: быть может, в тайниках сердца они считают, что их герб все-таки не хуже, чем у Бурбонов… Во всяком случае, такие же гербы у многих важных вельмож, и те вполне ими довольны. Саньоны украшают гербами траурные полотнища, витражи, двери своих замков и даже позорный столб, на котором, отправляя правосудие, они не так давно приказали повесить человека, заслуживавшего разве что изгнания. Гербы у них повсюду — на мебели, на дверных замках, ну, а кареты — те просто усеяны гербами. Их ливрейные лакеи под стать гербам. Мне хочется сказать Саньонам: «Вы начали делать глупости слишком рано: дайте вашему роду просуществовать хотя бы один век. Люди, которые знали вашего деда и разговаривали с ним, уже стары, они скоро умрут, и тогда никто уже не сможет сказать: «Вот тут он раскладывал свой товар и заламывал бешеные цены».
Саньоны и Криспены очень не любят мотать деньги, зато очень любят, когда их обвиняют в мотовстве. Они длинно и нудно рассказывают о празднестве, которое недавно устроили, или о званом обеде, сообщают, сколько просадили в карты, и всем жалуются на мнимый проигрыш, О женщинах определенного сорта они говорят условными, таинственными словечками: им нужно рассказать друг другу тысячу пикантных подробностей, они недавно сделали потрясающие открытия… Каждый старается прослыть у остальных неотразимым волокитой. Один из них как-то поздно засиделся в своем загородном замке и очень хотел подольше поспать; тем не менее он встал чуть свет, надел гетры, полотняный костюм, перекинул через плечо пороховницу на шнурке, подвязал волосы, запасся ружьем — ни дать ни взять заправский охотник. Если бы к тому же он еще умел стрелять! Возвратился он уже на ночь глядя, насквозь промокший, еле живой от усталости, ничего не подстрелив; на следующее утро он опять отправился на охоту и весь день мазал по куропаткам и дроздам.
Другой, который завел себе нескольких дворняг, всюду твердит: «Моя свора!..» Он знает место, где сходятся охотники, является туда, стоит, пока спускают собак, залезает в самую чащу, болтается под ногами у доезжачих, трубит в рог. Он не спрашивает себя, как Меналипп: «Пришлась ли мне охота по вкусу?» — но твердо верит, что пришлась. Ему уже не до законов и параграфов, он истый Ипполит! Менандр только вчера беседовал с ним по поводу какой-то тяжбы, но сегодня он не узнал бы своего докладчика. Посмотрите на него, когда на следующий день после охоты он приходит в зал судебных заседаний, где предстоит разбирательство серьезного преступления, которое карается смертной казнью: он стоит, окруженный своими собратьями по ремеслу, и рассказывает им, что только благодаря ему свора не упустила оленя, что он надорвал себе глотку, стараясь направить своих собак по верному следу и сбить чужих с ложного следа, что шесть собак взяли зверя… Пора начинать заседание: поспешно досказывая на ходу, как оленя все же удалось затравить и как потом кормили собак, он вместе с другими садится за стол и приступает к разбору дела.
11
Поистине печально заблуждение тех людей, которые, получив наследство от своих отцов, разбогатевших на торговле, подражают в пышности нарядов и выездов принцам крови, хотят удивить столицу бессмысленными тратами и нелепой роскошью, делаются предметом издевательств и острот и разоряются ради того, чтобы стать всеобщим посмешищем.
У других нет даже этого жалкого утешения: молва об их безумствах не выходит за пределы одного квартала — это единственные подмостки, где может блистать их тщеславие. На острове Сен-Луи никто и понятия не имеет о том, что Андре знаменит в Маре{167} и что он пускает там по ветру отцовское наследство; а ведь если бы его знали во всей столице и ее предместьях, где живет так много людей, и притом отнюдь не всегда здравомыслящих, непременно нашелся бы человек, который воскликнул бы: «Андре великолепен!» — и рассказал бы, как Андре угощает Ксанта и Аристона и как чествует Эламиру. Увы! Андре мотает свое состояние, но это мало кому известно. Он обрекает себя на нищету ради нескольких человек, не питающих к нему уважения; сегодня он разъезжает в карете, а через полгода ему не в чем будет выйти на улицу.
12
Нарцисс утром встает с постели, а вечером ложится в нее; в определенные часы он, как женщина, занимается туалетом и каждый день неукоснительно слушает торжественную мессу у фельянов или францисканцев{168}; он человек приятного обхождения, поэтому обитатели квартала *** рассчитывают на него в качестве третьего или пятого партнера для игры в ломбер или реверси: ежевечерне он битых четыре часа проводит у Арисии, рискуя всякий раз пятью золотыми пистолями; он аккуратно читает «Голландскую газету»{169} и «Галантного Меркурия», почитывал когда-то Бержерака[51]{170}, Демаре[52]{171}, Леклаша{172}, книжонки из лавки Барбена{173} и сборники виршей; он сопровождает дам на прогулках в Саблонском парке или по аллее Королевы и с педантичной точностью отдает визиты. Завтра он будет делать то, что делает сегодня, что делал вчера, и, прожив так жизнь, умрет.
13
«Этого человека я где-то видел, — говорите вы. — Где именно, не помню, но его лицо мне хорошо знакомо». Оно знакомо и многим другим; постараюсь прийти на помощь вашей памяти. Быть может, он встречался вам на бульваре, когда проезжал мимо, сидя на откидной скамеечке в чьей-нибудь карете? Или в Тюильри на главной аллее? Или на балконе в Комедии? Или на проповеди, на балу, в саду Рамбуйе? Легче сказать, где он вам не встречался, где он не бывает. Если на площади казнят знаменитого преступника или жгут потешные огни — он выглядывает из окна ратуши; если в столицу торжественно въезжает именитая особа — стоит на помосте; если устраивают конные состязания — занимает место в амфитеатре; если король принимает посольство какой-нибудь державы — смотрит на шествие, присутствует при аудиенции, наблюдает из толпы за возвращением послов. Во время церемонии клятвенного подтверждения союза Франции со Швейцарскими лигами присутствие его не менее обязательно, чем присутствие канцлера или даже представителей самих лиг. Это его лицо мы видим на всех гравюрах, где изображены народ или зрители{174}. Предстоит ли королевская охота в праздник святого Юбера — он велит седлать ему коня; прошел ли слух о том, что войска стали лагерем под городом и назначен смотр, — он мчится в Уй{175} или в Ашер; он обожает армию, солдат, войну: еще бы, он бывал в форту Бернарди{176}! У каждого есть свое дело: Шанле занимается передвижением войск, Жакье — провиантом, дю Мец — артиллерией, а наш знакомец — глазеет; он состарился в строю зевак, он зритель по ремеслу, он не делает ничего толкового, не знает ничего полезного, зато, по его собственным словам, он видел все, что дано увидеть человеку, и теперь может спокойно умереть. Но какая это будет потеря для столицы! Кто после его смерти сообщит нам: «Аллея Королевы закрыта для гуляний, а свалка нечистот в Венсене осушена, засыпана и туда запрещено лить помои»? Кто объявит о концерте, о торжественной вечерней службе, о ярмарочных чудесах? Кто принесет весть о том, что Бомавьель вчера умер, а Рошуа простужена и неделю не будет петь? Кто будет помнить как свои пять пальцев гербы всех откупщиков? Кто скажет: «В гербе у Скапена цветы лилии»? И для кого это будет так важно? Кто с такой серьезностью и тщеславием произнесет имя жены какого-нибудь обыкновенного горожанина? Кто сохранит в памяти столько куплетов из водевилей? Кто станет доставлять женщинам «Ежегодник нежных душ» и «Листок влюбленных»{177}? Кто споет за обедом целый дуэт из оперы, а в гостиной у дамы — арию неистового Роланда{178}? Наконец, кто еще так придется по вкусу тем, кого немало в столице, — глупцам, бездарностям, бездельникам и шалопаям?
14
Терамен был богат и достоин; потом он унаследовал большое состояние, следовательно, стал еще богаче и достойнее: все дамы и девушки бегают за ним, чтобы заполучить его в поклонники или в женишки. Он ходит с визитами из дома в дом, и каждая мать семейства надеется, что он возьмет в жены именно ее дочь: стоит ему сесть, как она уже удаляется, чтобы дать возможность девице проявить на свободе свое очарование, а гостю — сделать предложение. Здесь он соперничает с президентом парламента, там оттесняет кавалера или простого дворянина. Самого цветущего, живого, веселого и остроумного юношу не ждут с таким пылом и не принимают с таким радушием, как Терамена: его прямо душат в объятиях, а того, кто пришел вместе с ним, едва удостаивают улыбкой. Сколько влюбленных потерпят из-за него крушение! Сколько удачных браков не состоится! Да и то сказать: разве может он один жениться на всех нежно расположенных к нему наследницах? Он не только наводит страх на мужей, но и повергает в ужас всех, кто хочет вступить в брак, надеясь приданым жены восполнить брешь, пробитую покупкой должности. Таких богатых счастливчиков следует изгонять из цивилизованных городов, а представительниц прекрасного пола нужно сажать в дома умалишенных или привязывать к позорному столбу, если они не научатся обходиться с Тераменом так, как обходились бы, обладай он одними лишь добродетелями.
15
Хотя Париж и обезьянничает, подражая двору, он не всегда умеет подделаться под него; например, ему не удается подражать любезному и ласковому обхождению, свойственному иным придворным, в особенности женщинам, когда они сталкиваются с человеком достойным — пусть даже у него нет ничего, кроме достоинств. Эти женщины не осведомляются у своего собеседника, на ком он женат и кто его предки: он принят при дворе — с них этого достаточно, они благоволят к нему, уважают его и не спрашивают, прибыл ли он в карете или пришел пешком, есть ли у него должности, поместье, экипаж; они так избалованы, богаты и знатны, что охотно отдыхают, болтая с философом или с добродетельным человеком. А горожанка, стоит ей заслышать, что у ее дверей остановилась карета, начинает дрожать от восторженной нежности к гостю, кем бы он ни был; если к тому же она видит из окна красивую упряжь, множество ливрейных лакеев и глаза ей слепят несколько рядов раззолоченных блях на упряжи — с каким трепетом ждет она появления в своей гостиной кавалера или советника! Как пылко его встречает! Еще бы: он приехал в карете на рессорах с двойной подвеской — как же ей не питать к нему особого почтения и горячей любви!
16
Тщеславие столичных жительниц с их подражанием придворным дамам еще противнее, чем грубость простолюдинок и неотесанность провинциалок: оно толкает их на жеманство.
17
Как это хитро придумано — делать великолепные свадебные подарки, которые ничего не стоят дарителю, но должны быть возвращены ему в звонкой монете!
18
Какое отличное и полезное обыкновение — просаживать на свадебные празднества треть приданого жены, начинать новую жизнь с пустых трат на бесчисленное множество ненужных вещей и закладывать поместье, чтобы расплатиться с Готье за обстановку и наряды!
19
Как прекрасен и разумен наш обычай — забыв пристойность и целомудрие, дав полную волю бесстыдству, выставлять напоказ новобрачную, лежащую на кровати, словно на подмостках, делать из нее в течение нескольких дней всеобщее посмешище, забавлять ею людей обоего пола, званых и незваных, опрометью бегущих со всех концов столицы полюбоваться на этот спектакль! Если бы мы прочитали, что такой обычай существует в Мингрелии, — .мы непременно назвали бы его диким и бессмысленным!
20
Утомительна жизнь иных женщин, и тяжко бремя, которое они вынуждены нести: то и дело искать встречи друг с другом, хотя встречаться вовсе не хочется; бывать в гостях для того, чтобы поговорить о пустяках, рассказать то, что всем давно известно и не представляет интереса; входить в комнату, чтобы почти сразу же из нее выйти; уходить из дому после обеда, чтобы к вечеру вернуться в полном удовольствии оттого, что за каких-то пять часов удалось увидеть нескольких швейцаров и двух женщин, одну — малознакомую, другую — ненавистную… Кто знает цену времени, знает, как непоправима его потеря, тот обольется слезами, глядя на такое мотовство!
21
Горожане приучены с тупым равнодушием относиться ко всему, что связано с деревенской жизнью и сельскими занятиями. Лен они не отличают от конопли, рожь от пшеницы, то и другое — от мякины. Они сыты, одеты — остальное их не интересует. Не говорите с горожанами о земле под паром, подлеске, виноградных отводках, отаве — они все равно вас не поймут, для них это какая-то тарабарщина. Заведите лучше речь с одними о мерах, тарифах, надбавке в су на ливр, с другими — об апелляциях, гражданских исках, частных определениях или о передаче дела в высшую инстанцию. Они знают общество, хотя отнюдь не с его лучшей или хотя бы самой привлекательной стороны, но им ничего не известно о природе, о ее пробуждении и расцвете, о ее дарах и щедротах. Это невежество, порой добровольное, зиждется на их преклонении перед своим ремеслом и своими талантами. Самый жалкий стряпчий, который сидит в унылой и прокопченной конторе, обдумывая очередное сомнительного свойства дело, задирает нос перед землепашцем, который трудится на вольном воздухе, обрабатывает землю, сеет зерно и собирает обильный урожай. Если рассказать этому крючкотвору о первых людях на земле, о патриархах, о их сельской жизни и труде под открытым небом, он выразит удивление, как это возможно было жить во времена, когда еще не существовало ни должностей, ни посредничества, ни президентов парламента и прокуроров: его ум не способен постигнуть, что некогда люди могли обходиться без канцелярий, залов судебных заседаний и буфетных при оных.
22
В Риме даже императорам не удавалось так легко, просто и надежно защититься от ветра, дождя, пыли и солнца, как это удается в Париже простым горожанам, которые разъезжают по улицам в каретах; до чего непохожи эти горожане на своих предков, пользовавшихся только мулами! В старину люди еще не умели отказываться от насущного ради излишнего, предпочитать роскошь пользе. Они не жгли восковых свечей, но и не дрожали от холода у еле тлеющего очага: свечи горели только в храмах божьих и в Лувре; они не садились после дрянного обеда в карету: полагая, что ноги даны человеку, чтобы ходить, они пускали их в ход; в сухую погоду обувь их была чиста, а в дождь — покрыта грязью, ибо улицы и перекрестки они переходили так же смело, как охотник идет по вспаханному полю или солдат — по сырой траншее. В те времена еще никому не взбредало в голову, что в носилки можно запрячь двоих мужчин: советники — и те ходили пешком в суд или камеру парламента так же безропотно, как Август некогда ходил в Капитолий. На столах и на буфетах тускло поблескивала оловянная посуда, а для очагов был хорош и чугун: золото и серебро были припрятаны в сундуки. Женщины брали в услужение — и даже на кухню — только женщин. Наши отцы отлично знали благородные имена воспитателей и воспитательниц, которым короли и принцы крови доверяли своих детей, тем не менее они не хотели поручать своих отпрысков слугам и ревнивым оком сами следили за их воспитанием. Они всегда жили по средствам, расходовали не больше, чем получали, соразмеряли все — ливрейных лакеев, экипажи, обстановку, яства, городские и загородные дома — со своим достатком и положением. Они отличались друг от друга и по внешнему виду: жену стряпчего никто не принял бы за супругу советника, а простолюдина или лакея — за дворянина. Занятые не столько приумножением или проматыванием имущества, сколько его сбережением, они в целости и сохранности оставляли свое состояние наследникам и, разумно прожив жизнь, мирно завершали земной путь. Они не твердили: «Наш век суров, нищета велика, денег не хватает». Этих денег у них было меньше, чем у нас, но по их нуждам достаточно, ибо они были богаты не столько доходами и поместьями, сколько предусмотрительностью и скромностью. Наконец, все понимали тогда истину, гласящую: что для вельможи блеск, роскошь, великолепие, то для человека простого — мотовство, безумие, глупость.
Глава VIII О дворе
1
Сказать человеку, что он не знает двора, — значит в некотором смысле сделать ему самый лестный для него упрек и признать за ним все добродетели, какие только существуют на свете.
2
Человек, знающий двор, всегда владеет своим лицом, взглядом, жестами; он скрытен и непроницаем, умеет таить недоброжелательство, улыбаться врагам, держать в узде свой нрав, прятать страсти, думать одно, а говорить другое и поступать наперекор собственным чувствам. Это утонченное притворство не что иное, как обыкновенное двуличие; впрочем, оно нередко оказывается столь же бесполезным для карьеры царедворца, как прямота, искренность и добродетель.
3
Кто назовет все бесчисленные оттенки цвета, меняющиеся в зависимости от освещения, при котором смотришь на предмет? Точно так же — кто ответит, что такое двор?
4
Покинуть двор хотя бы на короткое время — значит навсегда отказаться от него. Придворный, побывавший при дворе утром, снова возвращается туда вечером из боязни, что к утру там все переменится и о нем забудут.
5
При дворе даже самый тщеславный человек начинает чувствовать себя ничтожным — и не ошибается в этом: так малы там все, даже великие.
6
Если смотреть на королевский двор с точки зрения жителей провинции, он представляет собою изумительное зрелище. Стоит познакомиться с ним — и он теряет свое очарование, как картина, когда к ней подходишь слишком близко.
7
Трудно привыкнуть к жизни, которая целиком проходит в приемных залах, в дворцовых подъездах и на лестницах.
8
Находясь при дворе, человек никогда не чувствует себя довольным; очутившись вдали от него, он недоволен еще больше.
9
Порядочный человек обязательно должен отведать придворной жизни: окунувшись в нее, он открывает новый, незнакомый ему мир, где равно царят порок и учтивость и где ему полезно наблюдать все — как хорошее, так и дурное.
10
Двор похож на мраморное здание: он состоит из людей отнюдь не мягких, но отлично отшлифованных.
11
Иные люди едут ко двору лишь затем, чтобы вскоре вернуться домой, приобретя поездкой уважение дворянства своей провинции или духовенства своего диоцеза{179}.
12
Будь мы скромны и воздержны, золотошвей и кондитер остались бы не у дел — их товар никого бы не соблазнил; излечись мы от тщеславия и своекорыстия, дворы опустели бы и короли остались бы почти в одиночестве. Люди согласны быть рабами в одном месте, чтобы чувствовать себя господами в другом. Порою кажется, что самые влиятельные из вельмож оптом получают власть, величие и высокомерие, а затем раздают их провинциям в розницу. Истинные обезьяны, они ведут себя с низшими так же, как монархи — с ними самими.
13
Ничто так не обезображивает иных царедворцев, как присутствие монарха: они становятся неузнаваемы, черты их искажаются, осанка утрачивает благородство. Гордецы и спесивцы выглядят особенно приниженно, ибо они меняются разительнее других, человек порядочный и скромный держит себя достойнее: он остается самим собой.
14
Манеры, принятые при дворе, заразительны: их так же легко перенять в В.{180}, как нормандский акцент в Руане или Фалезе, — взгляните на гоф-фурьеров, мундшенков и камер-лакеев. Эта наука дается так легко и требует так мало ума, что человеку, обладающему большими достоинствами и недюжинными способностями, не требуется никаких усилий, чтобы изучить ее и усвоить. Он придает ей столь мало значения, что овладевает ею, сам того не замечая, и так же незаметно может потом ее забыть.
15
Н. подъезжает с превеликим шумом, всех расталкивает, прокладывает себе дорогу, скребется в дверь{181}, чуть ли не пытается ее отворить и наконец называет себя; просители облегченно вздыхают, и входит он лишь вместе с остальными.
16
Время от времени при дворе появляются смелые искатели приключений, люди развязные и пронырливые, которые умеют отрекомендоваться и убедить всех, что владеют своим искусством с небывалым совершенством. Им верят на слово, и они извлекают пользу из общего заблуждения и любви к новизне. Они протискиваются сквозь толпу, пробираются к самому государю и удостаиваются разговора с ним на глазах у придворных, которые были бы счастливы, если бы он бросил на них хотя бы взгляд. Вельможи терпят таких людей, потому что те им не опасны: разбогатев, они вскоре бесславно исчезают, а свет, еще недавно обманутый ими, уже готов даться в обман новым проходимцам.
17
Иной раз вы видите людей, которые здороваются еле заметным кивком головы, всем наступают на ноги и ходят выпятив грудь, словно женщины. Вопрос они задают, не глядя на собеседника; говорят громко, показывая, что считают себя выше присутствующих. Стоит им остановиться, как их окружают; они разглагольствуют и задают тон беседе, сохраняя все ту же смешную позу напускного величия, пока не появится кто-нибудь из вельмож, в чьем присутствии они сразу притихают и возвращаются к естественному своему состоянию, которое куда больше им к лицу.
18
При дворе всегда существуют люди совершенно особого сорта — льстивые, угодливые, вкрадчивые. Они всегда трутся около женщин, изучают их слабости, поощряют увлечения, устраивают любовные дела; умело выбирая слова, они нашептывают им непристойности, говорят с ними о мужьях и любовниках, угадывают их огорчения и недуги, высчитывают, когда им рожать, придумывают для них новые моды, измышляют поводы для новых излишеств и трат и учат слабый пол, как транжирить побольше денег на уборы, мебель и выезды. Не менее изобретательны и расточительны они в своей собственной одежде; они поселяются в старых замках не раньше, чем перестроят и украсят их. Они изысканны и разборчивы в еде, испытали все виды наслаждения и о каждом из них говорят как знатоки. Своим возвышением они обязаны только себе и отстаивают свое положение с той же ловкостью, с какой когда-то завоевали его; надменные и спесивые, они не подпускают к себе тех, кто им ровня, и даже не раскланиваются с ними; они говорят там, где все молчат; в любой час дня и ночи они входят и проникают туда, где не дерзают появляться даже вельможи; сановники, поседевшие на долгой службе, покрытые ранами, занимающие высокие должности и облеченные громкими званиями, — и те выглядят не столь самоуверенно, держатся не столь непринужденно. Эти люди пользуются доверием самых могущественных принцев, участвуют во всех их развлечениях и празднествах, живут в Лувре или Версале, где разгуливают и распоряжаются, как в собственном доме; их видят сразу в нескольких местах; их лица первыми бросаются в глаза тому, кто никогда не бывал до этого при дворе; они обнимают всех, и все обнимают их; они смеются, хохочут, сыплют остротами, рассказывают забавные истории; они покладисты, любезны, богаты, охотно дают взаймы — и никто не принимает их всерьез.
19
Глядя на Кимона и Клитандра, невольно думаешь, что на их плечах лежит все бремя государственной власти и что они самолично отвечают за все дела — один за морские, другой за сухопутные. Как описать их усердие, хлопотливость, любознательность, неугомонность? Это столь же невозможно, как запечатлеть на картине движение. Кто видел, чтобы они сидели, стояли на месте или пребывали в покое? Более того — видел ли кто-нибудь, чтобы они ходили шагом? Нет, они всегда бегут, разговаривают на ходу и задают вопросы, не дожидаясь ответа; они ниоткуда не пришли, никуда не направляются, а просто носятся взад и вперед. Не прерывайте их стремительного бега, не то собьете их с толку; не задавайте им вопросов или, по крайней мере, дайте им раньше перевести дух и сообразить, что никакого дела у них нет и никто им не мешает поговорить с вами подольше, а то и пойти туда, куда вы позовете. Они не спутники Юпитера, то есть не принадлежат к тем, кто окружает государя и теснится вкруг него; они только предвещают его появление и предшествуют ему, неудержимо врезаясь в толпу придворных и чуть ли не сбивая их с ног. У них одно занятие — постоянно быть на виду; они не ложатся в постель, пока не выполнят эту столь важную и полезную для государства обязанность. К тому же им доподлинно известны все никому не нужные придворные новости; они знают то, чего вполне можно не знать; они обладают всеми талантами, для того чтобы сделать заурядную карьеру. Впрочем, люди это проворные, довольно сметливые, легкие на подъем и предприимчивые в любом деле, которое, до их мнению, для них небезвыгодно: они, так сказать, впряжены в колесницу удачи и влекут ее, гордо задрав голову, хотя у них мало надежды когда-нибудь стать седоками.
20
Придворный, у которого недостаточно громкое имя, должен прикрыть его более громким; если же оно таково, что его можно не стыдиться, он должен объяснять каждому встречному, что это самое прославленное из всех имен, а род его — самый древний из всех родов; ему следует считаться свойством с принцами Лотарингскими, Роганами, Шатильонами, Монморанси, а не то, пожалуй, и с принцами крови; рассуждать лишь о герцогах, кардиналах и министрах; приплетать к месту и не к месту своих предков с отцовской и материнской стороны, не забывая упомянуть об орифламме{182} и крестовых походах; украшать залы своего дома родословными древами, гербовыми щитами с шестнадцатью полями и портретами предков, а также их свойственников; хвастаться старинным замком, его башенками, зубцами и галереей с навесными бойницами; твердить при всяком удобном случае: «Мой род, моя ветвь, мое имя, мой греб»; объявлять, что такой-то не знатен, а такая-то — и вовсе не дворянка, и, услышав, что главный выигрыш в лотерее достался Гиацинту, осведомляться, благородного ли тот происхождения. Пусть кое-кто потешается над его нелепостями, пусть о нем рассказывают смешные истории, — он не станет этому препятствовать, по-прежнему будет настаивать, что дом его — второй по знатности после царствующего, и, непрерывно повторяя одно и то же, в конце концов добьется того, что ему поверят.
21
Только простак может надеяться завоевать расположение двора, не будучи дворянином и не умея прослыть таковым.
22
И ложась в постель, и вставая с нее, придворный печется только о собственной выгоде: мысль о ней не оставляет человека ни утром, ни вечером, ни днем, ни ночью; он руководствуется ею, думая, разговаривая, храня молчание, действуя; повинуясь ей, он раскланивается с одним, не замечает другого, превозносит третьего и хулит четвертого; по этой мерке он отмеряет свое внимание, услужливость, почтительность, равнодушие или презрение. Как бы далеко ни ушел он по стезе умеренности и мудрости, главной пружиной его поступков все равно остается честолюбие, увлекающее его к той же цели, что и самых жадных, неистовых в желаниях и тщеславных царедворцев. Разве можно пребывать в покое там, где все волнуется, все движется? Разве можно не бежать там, где все бегут? Всякий мнит, что он обязан добиваться удачи и стремиться к возвышению: человеку, которому это не удается, двор выносит окончательный приговор, объявляя, что ему, значит, нечего там делать. Что же лучше — удалиться от двора, так ничего и не достигнув, или оставаться там в тщетном ожидании наград и милостей? Вот вопрос столь щекотливый, сложный и затруднительный, что множество придворных успевает состариться, не ответив на него, и умирает, так и не разрешив своих сомнений.
23
Есть ли при дворе что-нибудь более презренное и недостойное, нежели человек, не способный помочь нашему возвышению? Не понимаю, как это он дерзает там показываться!
24
Кто далеко обогнал человека одних с собой лет и положения, вместе с которым в первый раз представлялся ко двору, и кто убежден при этом, что он достоин успеха и вправе смотреть на отставшего сверху вниз, тот, наверно, уже не помнит, что он думал до своего возвышения о себе и о тех, кто в ту пору был впереди него.
25
Вы нашли себе преданного друга, если, возвысившись, он не раззнакомился с вами.
26
Если тот, кто попал в случай, осмеливается извлечь все выгоды из своего положения, которое он может быстро утратить; если он пользуется попутным ветром, чтобы плыть дальше; если не упускает ни одного свободного места, ни одного незанятого аббатства, а без стеснения выпрашивает их и получает; если он осыпан пенсионами, пожалованиями и патентами на наследственные должности, — вы упрекаете его в алчности и честолюбии, говорите, что он жаден, все забирает себе, своим домочадцам и приживалам и что, стяжав столько милостей, он уже составил себе состояние, которого хватило бы на многих. Но что ему остается делать? Если судить не по вашим речам, а по тому, как вы сами поступали бы на его месте, он ведет себя именно так, как нужно.
Мы часто порицаем тех, кто при удобном случае составляет себе большое состояние, ибо по скудости собственного не верим, что добьемся того же и навлечем на себя те же упреки. Надейся мы стать преемниками этих людей, мы сразу почувствовали бы, что они не так уж виноваты, и поостереглись бы сурово их осуждать, чтобы не осудить заранее и самих себя.
27
Не следует ничего преувеличивать: не будем поэтому приписывать двору то, в чем он не грешен. Худшее, на что он способен, — это не воздать порою за истинную заслугу; если при дворе снизошли до того, чтобы ее заметить, ею не пренебрегают, а просто забывают о ней, ибо там отлично умеют не делать ничего или делать очень мало для тех, кто пользуется всеобщим уважением.
28
Когда мы возводим здание нашего успеха при дворе, нам среди многих идущих в дело кирпичей обязательно попадается несколько негодных: один из друзей, обещавший замолвить за нас словечко, не сделал этого; другой замолвил, но неохотно; третий невольно сказал что-то, идущее вразрез с нашими желаниями и его намерениями; у одного не хватает доброй воли; у другого — ловкости и осторожности. Нет человека, который так сильно хотел бы видеть нас счастливыми, чтобы, не щадя сил, способствовать нашему благополучию. Конечно, все прекрасно помнят, как дорого обошлось им их собственное возвышение и как помогли им тогда проложить себе дорогу. Они, несомненно, расквитались бы с этим долгом и в сходных обстоятельствах охотно помогли бы другим людям, если бы, возвысившись, не предались единственной заботе — попечению о самих себе.
29
Придворный употребляет весь свой ум, ловкость и хитрость не на то, чтобы найти способ услужить друзьям, умоляющим его о помощи, а на то, чтобы найти убедительные поводы и благовидные предлоги отказать в просьбе и сослаться на полную невозможность что-нибудь сделать; после этого он убеждает себя, что сполна заплатил долг дружбы или признательности.
При дворе никто не хочет сделать первый шаг, все предлагают лишь поддержать его, ибо судят о других по себе и надеются, что ни у кого не хватит смелости начать и его поэтому не придется поддерживать. Какой учтивый и деликатный способ отказаться помочь своим влиянием, услугами и заступничеством тому, кто в этом нуждается!
30
Сколько людей, оставшись с вами наедине, осыпают вас ласками, любят и ценят, а на людях стесняются подойти к вам и стремятся избежать вашего взгляда или встречи с вами на утреннем приеме и у обедни! Лишь немногие царедворцы занимают достаточно высокое положение или достаточно самоуверенны, чтобы осмелиться выказать уважение человеку, чьи достоинства не подкреплены должностью или саном.
31
Вот человек, всегда окруженный придворными, которые неотступно следуют за ним, — он занимает важное место; вот другой, с ним каждый старается заговорить, — он в милости; вот третий, его обнимают и ласкают все, даже вельможи, — он богат; вот четвертый, на него смотрят с любопытством и указывают пальцами, — он учен и красноречив; вот пятый, с ним никто не забывает раскланяться, — у него злой язык… Но покажите мне человека, который был бы добр, только добр, и с которым все тем не менее искали бы знакомства.
32
Человека назначают на должность, и вот уже поток восхвалений затопляет подъезды и капеллу, катится по лестнице, залам, галерее и апартаментам монарха, скрывает с головой, сбивает с ног. Об этом человеке нет и не может быть двух мнений: зависть и злоба отзываются о нем в тех же выражениях, что и лесть; все плывут по течению, оно всех уносит, вынуждая людей, с которыми он подчас вовсе незнаком, говорить то, что они думают и чего не думают, а порою даже расхваливать того, кого они в глаза не видели. Человек умный, достойный, доблестный в мгновение ока превращается в величайшего гения, в героя, в полубога. Его портреты так чудовищно льстят ему, что он кажется безобразным в сравнении с ними; он не может подняться и никогда не поднимется до той высоты, на которую его вознесли низость и угодливость; он краснеет, слыша, как о нем говорят.
Но вот положение этого человека поколебалось, и мнение о нем сразу меняется; вот он уже пал, и те же самые пружины, которые, подняв его на невиданную высоту, исторгли у всех хвалу и лесть, снова приходят в действие, низвергая его в бездну всеобщего презрения, и никто не гнушается им больше, не порицает его язвительнее, не отзывается о нем хуже, чем тот, кто совсем недавно так неистово расхваливал его.
33
На мой взгляд, должность высокую и требующую гибкого ума куда легче занять, нежели сохранить.
34
Часто люди падают с большой высоты из-за тех же недостатков, которые помогли им ее достичь.
35
При дворе известны два способа отделаться от человека или, как говорится, дать ему от ворот поворот: либо самому рассердиться на него, либо сделать так, чтобы он рассердился на вас и проникся к вам отвращением.
36
При дворе хорошо отзываются о человеке по двум причинам: во-первых, дабы он узнал, что мы хорошо о нем отзываемся; во-вторых, дабы он так же хорошо отозвался о нас.
37
Давать обещания при дворе столь же опасно, сколь трудно их не давать.
38
Есть люди, для которых не знать человека по имени и в лицо — все равно что получить право смеяться над ним и презирать его. Они спрашивают, кто он такой. Это не Руссо, не Фабри[53], не Лакутюр{183}, — их-то они узнали бы.
39
Мне говорят столько дурного об этом человеке, а я нахожу в нем так мало дурного, что начинаю думать, нет ли у него достоинств, которые раздражают других людей, так как затмевают их собственные.
40
Вы человек порядочный; вам все равно, пришлись вы по нраву фаворитам или нет; вы преданы только своему господину и думаете лишь о своем долге. Значит, вы человек конченый.
41
Наглость — это не умышленный образ действий, а свойство характера; порок, но порок врожденный. Кто не родился наглецом, тот скромен и нелегко впадает в другую крайность. Бесполезно поучать его: «Будьте наглы, и вы преуспеете», — неуклюжее подражание не пойдет такому человеку впрок и неминуемо приведет его к неудаче. Лишь бесстыдство непринужденное и естественное помогает пробить дорогу при дворе.
42
Человек домогается, хлопочет, интригует, тревожится, просит, встречает отказ, просит снова и наконец достигает цели; а послушать его, так он получил желаемое без всяких просьб и тогда, когда вовсе не думал просить, а занимался совсем иными делами. Избитый прием, невинная и бесполезная ложь — она никого не обманет!
43
Иные люди, домогаясь важной должности, пускаются на всякие происки, интригуют, принимают все необходимые меры; их успех несомненен: одни друзья замолвят словечко, другие поддержат первых. Но когда фитиль подведен и мина готова к взрыву, они удаляются от двора. Кто дерзнет заподозрить Артемона в том, что он мечтал о завидной должности, если его силком вытащили из провинции, заставили покинуть свои владения и занять это место? Грубая уловка, затасканная хитрость! Придворные столько раз прибегали к ней, что, пожелай я обмануть свет и скрыть от него свое честолюбие, я нарочно остался бы на глазах и под рукой у государя, чтобы добиться той милости, которой так пылко жажду.
44
Люди не хотят, чтобы другие знали об их честолюбивых замыслах и догадывались об их видах на ту или иную должность; они полагают, что в случае отказа им будет стыдно, а в случае успеха выгоднее и почетнее представить дело так, будто им дали это место по заслугам, без всяких происков и домогательств с их стороны; тем самым они сразу украсят себя и знаками нового достоинства, и скромностью.
Что постыднее — не получить место, которое заслужил, или занять его, не заслужив?
Возвыситься при дворе трудно, но еще труднее стать достойным возвышения.
Легче сделать так, чтобы о вас говорили: «Почему он получил это место?» — чем добиться того, чтобы кто-нибудь спросил: «Почему он не получил этого места?»
В прежнее время люди искали консульства, сейчас они домогаются избрания{184} эшевеном, купеческим старшиной или членом Французской Академии. Не разумнее ли им посвятить первые годы жизни труду, подготовить себя к важной должности, а потом уже, отказавшись от тайных происков, открыто и с полной уверенностью в своих силах проситься на службу отечеству, монарху и государству?
45
Я еще не видел придворного, который, получив от государя управление богатой провинцией, высокую должность или большую пенсию, не уверял бы из тщеславия или желания казаться бескорыстным, что ему не столько приятна сама милость, сколько то, как она была оказана. В таких уверениях всегда бесспорно лишь одно — их полное несоответствие истине.
Только люди дурно воспитанные не умеют давать с любезным видом: самое важное и самое трудное — в том, чтобы дать; так почему бы не сопроводить даяние улыбкой?
Нельзя тем не менее отрицать, что некоторые люди умеют отказывать пристойнее, чем другие — давать. Иных, как я слышал, приходится так долго упрашивать, соглашаются они так неохотно и обставляют вырванную у них милость такими обидными условиями, что еще большей милостью с их стороны было бы избавить вас от необходимости что-либо получать от них.
46
При дворе встречаются люди настолько жадные, что они из корысти хватаются за любую должность; губернаторство, место в парламенте, бенефиций — все им по сердцу. Они так ловко устраивают свои дела, что их положение позволяет им отправлять любые обязанности. Это настоящие амфибии: у них духовное звание, а живут они шпагой и притом умудряются еще носить судейскую мантию. «Что же они делают при дворе?» — спросите вы. Получают пожалования и завидуют всем, кому тоже перепадают награды.
47
При дворе есть множество людей, которые всю жизнь кого-нибудь обнимают, прижимают к сердцу, поздравляют с пожалованием, а сами сходят в могилу, так ничего и не получив.
48
Одежда Менофила никак не вяжется с его званием. Круглый год он носит маску, хоть лицо у него и открыто; всюду — при дворе, в столице, в провинции — он появляется под новым именем и в новом наряде, что, впрочем, никого не обманывает, все знают его в лицо.
49
К высокому положению ведут два пути: протоптанная прямая дорога и окольная тропа в обход, которая гораздо короче.
50
Люди бегут за несчастными преступниками, чтобы взглянуть на них вблизи, выстраиваются шпалерами и высовываются из окон, чтобы увидеть, с каким лицом и осанкой идет на казнь человек, который приговорен и ждет неизбежной смерти. Какое пустое, злобное, бесчеловечное любопытство! Будь люди немного разумнее, место казней всегда пустовало бы, а присутствовать на подобных зрелищах считалось бы позором. Если уж вас так мучит любопытство, направьте вашу страсть на более возвышенный предмет: взгляните на счастливца, понаблюдайте за тем, как он принимает поздравления в день, когда назначен на новую должность; прочитайте в его глазах, насколько он доволен собою, какого высокого мнения держится о себе и как все это прикрыто заученным спокойствием и притворной скромностью, посмотрите, какую ясность сообщили его сердцу и лицу исполненные желания, как хочется ему жить и наслаждаться здоровьем, как радость его вырывается все-таки наружу и он больше не в силах ее скрывать, как он сгибается под бременем счастья, как холоден и сдержан становится с теми, кто еще недавно был ему равен, как он не кланяется им и не замечает, как объятия и любезности вельмож, на которых он взирает теперь с близкого расстояния, окончательно портят его, как он теряет равновесие, забывается и впадает в кратковременное умоисступление.
Вы тоже хотите стать счастливцем, вы жаждете милостей. Запоминайте же, как не следует себя вести!
51
Человек, получивший видную должность, перестает руководствоваться разумом и здравым смыслом в своих манерах и поведении, сообразуясь отныне лишь со своим местом и саном. Отсюда забывчивость, гордость, высокомерие, черствость и неблагодарность.
52
Теон тридцать лет был аббатом; наконец это ему наскучило: иные меньше мечтают о монаршем пурпуре, чем он жаждал золотого наперсного креста. Но так как праздник проходил за праздником, а перемена в его судьбе все не наступала, он стал роптать на свой век, уверять, что государством плохо управляют, и предсказывать грядущие бедствия. Рассудив, что при дворе заслуги только вредят тому, кто хочет возвыситься, он уж решил было отказаться от надежд на прелатство, как вдруг кто-то прибежал сообщить ему, что он назначен епископом. Столь неожиданная новость преисполнила его такой радости и самоуверенности, что он тут же объявил: «Вот увидите, я на этом не остановлюсь — меня еще сделают архиепископом».
53
Вельможи и министры, даже исполненные самых благих намерений, нуждаются при дворе в услугах плутов; однако они должны соблюдать при этом осторожность и прибегать к таким людям лишь тогда и при таких обстоятельствах, когда без них не обойтись. Честь, добродетель, совесть — все это похвальные, но часто бесполезные достоинства. Мало ли случаев, когда порядочность только мешает?
54
Некий старинный автор, мысль которого я приведу здесь дословно, дабы не исказить ее вольной передачей, пишет: «Иные мелкими людишками, ровнями своими, гнушаются, их за челядь и холопов почитают, а больше всё водят дружбу с вельможами и персонами именитыми и многоимущими, и от такового с ними дружества и знакомства во всех потехах, машкерадах, непотребствах и бесчинствах оных участвуют, стыда не имут, срама не страшатся, отчину и дедину расточают, посмеяние и поношение от каждого терпят, а сами, ничтоже сумняшеся, шикан своих не оставляют и тем себе удачу и достаток великий во благовремении снискивают».
55
Молодость государя — источник многих крупных состояний.
56
Тимант все тот же, что и раньше, он сохранил достоинства, которые стяжали ему громкое имя и всяческие милости, но в глазах придворных он стал уже терять былое значение: им наскучило изъявлять ему уважение, они раскланиваются с ним холодно, больше не улыбаются ему, избегают вступать с ним в разговор, не обнимают его, не отводят в сторону, чтобы с таинственным видом шепнуть какой-нибудь пустяк; им больше нечего ему сказать. Но вот он получает пенсион или новую должность, и все его добродетели оживают, а мысль о них, наполовину изгладившаяся из памяти придворных, мгновенно обретает свежесть. Теперь с ним опять обращаются так же, как прежде, и даже еще лучше.
57
Сколько друзей и родственников появляется за одну ночь у нового министра! Одни вспоминают старые связи, годы совместного учения, права соседства; другие, полистав родословную и дойдя до прапрадеда, отыскивают общих родственников с отцовской или материнской стороны; всем лестно иметь хоть какое-нибудь отношение к этому человеку; каждый сто раз на дню твердит о своей близости к нему и старается всем внушить: «Это мой приятель, и я очень рад его возвышению, оно касается и меня — мы ведь с ним накоротке». О тщеславные царедворцы, ничтожные поклонники успеха, разве утверждали вы что-нибудь подобное неделю назад? Разве он стал за это время добродетельнее, стал более достоин выбора, который остановил на нем государь? Неужели вы и без того не знали, что он за человек?
58
Видя, как пренебрежительны иногда со мною и вельможи, и даже те, кто мне равен, я черпаю поддержку и утешение в том, что говорю себе: «Эти люди презирают не меня, а только мое звание — оно и вправду низкое. Будь я министром, они, без сомнения, преклонялись бы передо мной».
Как! Вельможа здоровается со мной? Что бы это значило? Уж не получу ли я вскоре должность? Он, наверно, об этом проведал или просто у него такое предчувствие.
59
Тот, кто так часто повторял: «Я обедал сегодня в Тибуре», «Я ужинаю там вечером», — кто по каждому поводу поминал имя Планка, кто вечно твердил: «Планк просил меня… Я сказал Планку…» — неожиданно узнает, что герой его рассказов унесен скоропостижной смертью. Он сразу берет с места в карьер, собирает народ на площадях и в портиках, обвиняет покойника во всех грехах, поносит его поведение, чернит его консульство, отрицает за ним его прославленную осведомленность в самых мелких делах правления, утверждает, что усопший не оставил по себе ни одного доброго воспоминания, отказывает ему не только в репутации человека серьезного и трудолюбивого, но даже в чести быть врагом врагов империи.
60
Любопытное, я полагаю, зрелище представляется взору добропорядочного человека в обществе или театре, когда место, в котором ему отказали, получает тот, у кого нет глаз, чтобы видеть, ушей, чтобы слышать, разума, чтобы понимать и судить, тот, кто обязан этой милостью только ливрее, да и то давно уже им снятой.
61
Теодот одевается строго, но лицо у него — как у комедианта, выходящего на подмостки; голос, походка, жесты, осанка — под стать лицу; он себе на уме, хитер, слащав, вид у него таинственный; он подходит к вам и шепчет на ухо: «Какая прекрасная погода! Все растаяло». Манеры у него не слишком изысканные, зато такие приторные, что впору юной жеманнице. Вообразите себе ребенка, который с увлечением строит карточный домик или гоняется за бабочкой; таков Теодот в самом пустяковом деле: оно не стоит выеденного яйца, а он занят им всерьез, словно это нечто важное. Он хлопочет, суетится, добивается своего и наконец переводит дух, давая себе заслуженный отдых, — он ведь изрядно потрудился.
Бывают люди, охмелевшие от погони за милостями и как бы околдованные ими: они думают о них днем, видят их во сне по ночам, снуют взад и вперед по лестнице в доме министра, то и дело входят к нему в приемную и выходят оттуда, обращаются к нему, хотя сказать им нечего, обращаются вторично и наконец преисполняются радости: они говорили с ним. Притроньтесь к ним, нажмите пальцем — и вы увидите, как из них так и брызнут спесь, заносчивость, самомнение. Если вы заговорите с ними, они не ответят вам и даже не узнают вас; глаза у них блуждают, мысли далеко; родным следует держать их взаперти, иначе их помешательство станет буйным и опасным для окружающих.
У Теодота более безобидная мания: он тоже до безумия жаждет быть в милости, но страсть его не так шумлива; он предается своим мечтам, лелеет их, служит им, но только тайком. Он вечно начеку, вечно ловит желания каждого, кто недавно облачился в ливрею удачи: как только у того появляется новая прихоть, Теодот предлагает свою помощь, интригует в его пользу, втихомолку приносит ему в жертву любые достоинства, связи, дружбу, обязательства, признательность. Освободись место Кассини{185} и пожелай швейцар или скороход фаворита занять его, он поддержит их искательство, сочтет их достойными этой должности, объявит способными производить наблюдения, вычислять, рассуждать о ложном солнце{186} и параллаксах{187}. Если бы меня спросили, кто такой Теодот — автор или плагиатор, оригинальный писатель или копиист, я взял бы его сочинения и сказал: «Читайте и судите сами»; но как решить, глядя на портрет, нарисованный мною, кто служил мне моделью — ханжа или придворный? Гораздо смелее я выскажусь о его судьбе: «Теодот, я наблюдал звезду, под которой ты родился. Знай, ты получишь должность, и скоро. Оставь же хлопоты, перестань докучать людям — они давно уже просят пощады».
62
Не ждите искренности, откровенности, справедливости, помощи, услуг, благожелательности, великодушия и постоянства от человека, который недавно явился ко двору с тайным намерением возвыситься. Узнаёте вы его по речам, по выражению лица? Он уже перестал называть вещи своими именами, для него нет больше плутов, мошенников, глупцов и нахалов — он боится, как бы человек, о котором он невольно выскажет свое истинное мнение, не помешал ему выдвинуться. Он плохо думает о людях, но никому не скажет об этом; желая добра только себе, делает вид, будто желает его всем, чтобы все делали ему добро или, по крайней мере, не делали зла; он не только чужд искренности сам, но и не терпит ее в других, ибо правда режет ему ухо; с холодным и безразличным видом уклоняется он от разговоров о дворе и придворных, ибо опасается прослыть соучастником говорящего и понести ответственность. Тиран общества и жертва собственного честолюбия, он уныло осмотрителен в своем поведении и словах: шутки у него безобидные, вялые и натянутые, смех принужденный, любезность притворная, речь отрывистая, рассеянность нарочитая; он целыми ведрами, — нет, что я говорю! — целыми бочками изливает похвалы на сановников и на тех, кто в милости, со всеми же остальными сух, точно кожа чахоточного; у него всегда наготове несколько приветственных и прощальных фраз: нанося визит, он употребляет одни, принимая визитера — другие, так что те, кому важно лишь, как с ними говорят и с каким лицом их встречают, всегда остаются им довольны. Он находит покровителей и умеет привязать к себе тех, кому покровительствует сам; он — посредник, наперсник, сводник, но этого ему мало — он хочет властвовать и со рвением новичка перенимает все мелкие придворные уловки: как встать, чтобы его заметили, как вовремя обнять вас и порадоваться вместе с вами, как участливо расспросить вас о вашем здоровье и делах, как потерять нить разговора при вашем ответе, чтобы перебить вас и перейти к другому предмету или обратиться в то же время к новому собеседнику, с которым ему нужно поговорить о совсем иных вещах, как, продолжая поздравлять вас, выразить тому соболезнование, как плакать одним глазом и смеяться другим. Иногда, приноравливаясь к министрам или фавориту, он рассуждает в обществе о пустяках — о ветре, о морозе; иногда же, если дело идет о чем-нибудь важном, что ему известно, а еще чаще неизвестно, он многозначительно молчит.
63
Есть некая страна, где радости явны, но притворны, а горести глубоко скрыты, но подлинны. Кто поверит, что спектакли, громовые рукоплескания в театрах Мольера и Арлекина{188}, обеды, охота, балет и военные парады служат лишь прикрытием для бесчисленных тревог, забот и расчетов, опасений и надежд, неистовых страстей и серьезных дел?
64
Придворная жизнь — это серьезная, холодная и напряженная игра. Здесь нужно уметь расставить фигуры, рассчитать силы, обдумать ходы, осуществить свей замысел, расстроить планы противника, порою идти на риск, играть по наитию и всегда быть готовым к тому, что все ваши уловки и шаги приведут лишь к объявлению вам шаха, а то и мата. Часто пешки, которыми умно распоряжаются, проходят в ферзи и решают исход партии; выигрывает ее самый ловкий или самый удачливый.
65
Взгляните на часы: колесики, пружины, — словом, весь механизм, — скрыты; мы видим только стрелку, которая незаметно свершает свой круг и начинает новый. В точности такова и жизнь придворного: нередко, продвинувшись довольно далеко, он оказывается у отправной точки.
66
«Две трети своей жизни я уже прожил, зачем же так беспокоиться о том, как пройдет остаток моих дней? Самая блестящая карьера не стоит ни тех мучений, которым я себя обрекаю, ни тех низостей, на которых себя ловлю, ни тех унижений и обид, которые претерпеваю. Еще каких-нибудь тридцать лет — и рухнут могучие колоссы, на которых я сейчас смотрю снизу вверх; исчезнут все — и я, такой маленький и ничтожный, и те, на кого я так жадно взираю, связывая с ними свои заветные надежды на возвышение. Самое лучшее в жизни, — если в ней и вправду есть что-нибудь хорошее, — это покой, уединение и место, где ты сам себе хозяин».
Так думал Н., пребывая в опале: он забыл об этих мыслях, как только снова вошел в милость.
67
Дворянин, живя в своей провинции, свободен, но лишен покровительства сильных мира сего; живя при дворе, он обретает покровительство, но теряет свободу. Одно стоит другого.
68
Однажды Ксантиппу, жившему в глухой провинции под ветхой кровлей, приснилось на его жестком ложе, будто он видит государя, говорит с ним и необычайно этим счастлив. Проснувшись, он опечалился, рассказал свой сон и воскликнул: «Какие только небылицы не приходят в голову, когда спишь!» Через несколько лет Ксантипп попал ко двору, увидел государя, поговорил с ним, и явь далеко превзошла сновидение: он стал фаворитом.
69
Кто пребывает в большем рабстве, нежели усердный царедворец? Разве что еще более усердный царедворец.
70
Раб зависит только от своего господина, честолюбец — от всех, кто способен помочь его возвышению.
71
На утреннем приеме всегда толпится множество никому не известных людей, жаждущих, чтобы их заметил государь, который не может, однако, видеть всех сразу. А если, сверх того, он постоянно замечает одних и тех же, то каково число несчастливцев?
72
Люди, которые окружают вельмож, осыпая их знаками внимания, разделяются на три части: меньшая искренне их чтит, большая заискивает в них из честолюбия и своекорыстия, самая большая льнет к ним из глупого тщеславия или смешного стремления выставить себя напоказ.
73
Бывают семейства, обязанные по законам света или в силу того, что называется приличиями, пребывать в вечной вражде. Но вот они примирились: то, что не удалось религии, без труда совершил расчет.
74
Говорят, есть некая страна, где старики галантны, любезны и учтивы, а молодые люди, напротив, грубы, жестоки, распущенны и невоспитанны; они перестают любить женщин в том возрасте, когда юноши обычно только начинают испытывать это чувство, предпочитают ему пирушки, чревоугодие и низкое сластолюбие; тот, кто пьет лишь вино, слывет у них скромником и трезвенником, ибо неумеренное потребление этого напитка давно отбило у них охоту к нему; они пытаются пробудить утраченный вкус к спиртному с помощью самых крепких настоек и разных водок, останавливаясь в своем разгуле разве что перед царской. Женщины в этой стране ускоряют увядание своей красоты с помощью снадобий, сообщающих им, как они полагают, миловидность и привлекательность: у них в обычае размалевывать себе губы, щеки, ресницы и плечи, которые, равно как грудь, руки и уши, они оголяют из боязни, что мужчины проглядят какую-нибудь из их прелестей. Лица у обитателей этой страны расплывчатые и утопают в заемных волосах, которые они предпочитают собственным и носят на голове в виде густой длинной гривы; она свисает до пояса, искажает облик человека и делает его неузнаваемым. У этого народца есть свой бог и свой король. Ежедневно в условленный час тамошние вельможи собираются в храме, который именуют капеллой. В глубине этого храма возвышается алтарь их бога, где жрец совершает таинства, называемые святыми, священными и страшными. Вельможи становятся широким кругом у подножия алтаря и поворачиваются спиною к жрецу, а лицом к королю, который преклоняет колена на особом возвышении и, по-видимому, приковывает к себе души и сердца всех присутствующих. Этот обычай следует понимать как своего рода субординацию: народ поклоняется государю, а государь — богу. Жители этой страны называют ее …, она расположена примерно под сорок восьмым градусом северной широты и удалена больше чем на тысячу сто лье от моря, омывающего край ирокезов и гуронов.
75
Вспомним, что лицезрение государя преисполняет царедворца счастьем, что всю жизнь он занят и поглощен одной мыслью — как бы увидеть государя и попасться ему на глаза, — и мы поймем, почему созерцание бога составляет высшую награду и блаженство святых угодников.
76
Знатные вельможи всегда благоговейно-почтительны с государем и видят в этом свой долг, так как сами ждут того же от тех, кто ниже их. Царедворцы низших рангов пренебрегают этой обязанностью, позволяют себе фамильярничать и чувствуют себя людьми, не обязанными служить примером для других.
77
Чего еще не хватает молодым людям наших дней? Они всё могут и кое-что знают. Впрочем, если бы даже их знания равнялись их возможностям, они все равно не стали бы решительней в своих поступках.
78
О слабые люди! Вельможа говорит, что ваш друг Тимагеи глуп, хотя это неправда, ибо он — человек умный. Я уж не жду от вас возражений вслух, но наберитесь мужества и сделайте их хоть про себя.
Тот же вельможа утверждает, что Ификрат — труслив, а между тем вы своими глазами видели, как он совершил подвиг. Успокойтесь, я не требую, чтобы вы рассказывали об этом. С меня довольно, если, услышав слова вельможи, вы не забудете, что были свидетелями этого подвига.
79
Умение говорить с королями — предел искусства и мудрости для придворного. Нечаянно сорвавшееся слово, поразив слух государя, запечатлевается у него в памяти, а порою и в сердце; взять это слово назад уже невозможно; все старания и уловки царедворца, который тщится придать ему иной смысл или ослабить произведенное им впечатление, ведут лишь к тому, что оно все глубже западает в душу монарха. Если сказанное идет во вред нам самим, — хотя это бывает не часто, — мы еще можем утешаться тем, что наша ошибка будет нам уроком и мы поплатимся за наше собственное легкомыслие; но какая досада, какое раскаяние ожидают нас, если сказанное принесло ущерб нашему ближнему! Поэтому самое полезное правило, предотвращающее подобную опасность, состоит в том, чтобы говорить с государем о других людях, об их трудах, поступках, правах и поведении хотя бы так же осторожно, сдержанно и осмотрительно, как мы говорим о себе.
80
«Хороший острослов — дурной человек». Я и сам сказал бы то же, если бы это не было сказано до меня. Но я беру на себя смелость сказать другое, еще никем не сказанное: кто ради красного словца не щадит доброго имени и счастья ближнего, тот заслуживает самой позорной кары.
81
У нас есть готовые фразы, которые мы как бы вынимаем из кладовой, когда поздравляем друг друга с чем-нибудь приятным. Часто их произносят без всякого чувства и выслушивают без признательности, но обойтись без них все-таки невозможно, ибо они — замена самого лучшего, что есть в мире, то есть дружбы: люди не могут по-настоящему рассчитывать друг на друга, поэтому они как бы молчаливо соглашаются довольствоваться внешними изъявлениями приязни.
82
Иные люди, выучив пять-шесть ученых слов, уже выдают себя за знатоков музыки, живописи, зодчества, гастрономии и воображают, будто слух, зрение и вкус доставляют им больше наслаждения, чем другим; таким способом они внушают уважение окружающим и обманывают самих себя.
83
При дворе всегда довольно людей, у которых светскость, учтивость или богатство играют роль ума и способностей. Они умеют войти и выйти, поддержать разговор, не участвуя в нем, понравиться, не сказав ни слова, придать себе важность, храня упорное молчание или время от времени издавая односложные возгласы. Они берут выражением лица, тоном, жестом, улыбкой и похожи на тонкий слой чернозема: копните его на два дюйма вглубь — и вы наткнетесь на бесплодный камень.
84
Есть люди, которые попадают в милость как бы невзначай: они первые бывают поражены и подавлены ею, но затем, придя в себя, находят свое возвышение вполне заслуженным; а так как, по их мнению, глупость и успех — две вещи несовместные и быть одновременно дураком и удачником нельзя, они начинают верить в свой ум и даже дерзают, — нет, что я говорю! — смело принимаются разглагольствовать в любом обществе о чем угодно, не считаясь с тем, кто их слушает. Стоит ли добавлять, что их самодовольные нелепости лишь повергают окружающих в ужас или внушают крайнее отвращение? Важнее напомнить, что такие люди непоправимо позорят тех, кто так или иначе способствовал их случайному возвышению.
85
Как назвать тех, у кого хватает хитрости только на глупцов? Насколько мне известно, человек по-настоящему умный не отличает их от тех, кого они умеют обманывать.
Кто умеет внушить, что он не очень хитер, тот уже далеко не прост.
Хитрость — качество не слишком похвальное и не слишком предосудительное, это нечто среднее между пороком и добродетелью; почти нет случаев, где ее не могло и не должно было бы заменить благоразумие.
От хитрости до плутовства — один шаг, переход от первой ко второму очень легок: стоит прибавить к хитрости ложь, и получится плутовство.
С теми хитрецами, которые прилежно слушают и мало говорят, говорите еще меньше, а если уж вам приходится говорить много, старайтесь ничего не сказать.
86
Правое и важное для вас дело зависит от согласия двух человек. Один говорит; «Я похлопочу, если не возражает такой-то». Такой-то не возражает, но при одном условии — он хочет быть уверен в согласии первого. Проходят месяцы, годы, а дело не подвигается. «Я теряюсь, я ничего не понимаю, — говорите вы. — Ведь им нужно только встретиться и поговорить». А мне, признаться, все ясно и понятно: они уже поговорили.
87
Я полагаю, что тот, кто хлопочет за других, всегда исполнен уверенности в себе, как человек, который добивается справедливости; выпрашивая или домогаясь чего-нибудь для себя, он смущается и стыдится, как человек, который клянчит милости.
88
Если умный человек не остережется ловушек, постоянно расставляемых при дворе всем, кого хотят высмеять, то, к удивлению своему, обнаружит, что постоянно ходит в дураках у глупцов.
89
В жизни бывают случаи, когда самой тонкой хитростью оказываются простота и откровенность.
90
Когда вы в милости, каждая ваша затея уместна, вы не делаете ошибок, все пути ведут вас к цели; когда вы в опале, все становится ошибкой, все ваши хитрости бесполезны, любая тропинка уводит вас в сторону.
91
Человек, некоторое время занимавшийся интригами, уже не может без них обойтись: все остальное ему кажется скучным.
92
Для интриг нужен ум, но когда его много, человек стоит настолько выше интриг и происков, что уже не снисходит до них; в этом случае он идет к успеху и славе совсем иными путями.
93
Аристид, ты человек высокого ума, всеобъемлющей учености, испытанной честности и несомненных дарований. Не бойся же опалы при дворе и немилости у вельмож — этого не случится, пока ты им нужен.
94
Фаворит должен всегда следить за собой. Ведь если он протомит меня в приемной меньше, чем обычно; если лицо его будет приветливей, а брови не так насуплены; если он любезно выслушает меня и проводит чуть дальше к двери, я решу, что ему грозит падение, — и не ошибусь.
Как мало в человеке истинной добродетели, если, чтобы стать человечнее, доступнее, мягче и благороднее, он должен впасть в немилость или претерпеть унижение!
95
При дворе попадаются люди, чья речь и поведение доказывают, что они не думают ни о своих предках, ни о потомках. Для них существует только настоящее, но они не пользуются, а злоупотребляют им.
96
Стратон родился сразу под двумя звездами — счастливой и несчастливой. Жизнь его — настоящий роман; хотя нет — ей не хватает правдоподобия; в ней не было приключений, а были только приятные или дурные сны. Впрочем, что я говорю! Жизнь, которую он прожил, никому не может и присниться. Никто не взял от судьбы больше, чем он; ему были знакомы и крайности, и золотая середина; он блистал, претерпевал страдания, вел обыденную жизнь и познал все без исключения. Он внушал почтение к себе своими достоинствами, о которых с серьезным видом рассуждал вслух; он говорил: «Я умен, я храбр», — и все повторяли: «Он умен, он храбр». И в милости и в опале он сохранял облик и дух подлинного придворного, являя зрителям больше хорошего и больше плохого, чем, возможно, было в нем на самом деле. Обворожительный, любезный, неподражаемый, замечательный, неустрашимый, — каких только слов не говорили ему в похвалу; каких только бранных эпитетов не находили потом, чтобы его унизить! Это неясный, противоречивый и непонятный характер, это загадка, и притом почти неразрешимая.
97
Монаршая милость ставит человека выше тех, кто равен ему, немилость — ниже.
98
Кто умеет при необходимости спокойно отказаться от громкого имени, высокого положения или большого состояния, тот разом избавляется от груза многих забот, тревог, а подчас и преступлений.
99
Через сто лет мир в существе своем останется прежним: сохранится сцена, сохранятся декорации, сменятся только актеры. Те, кто сегодня радуется полученной милости или огорчается и отчаивается из-за отказа в ней, все до одного сойдут со сцены. На подмостки уже выходят другие люди, призванные сыграть те же роли в той же пьесе; в свой черед исчезнут и они, а за ними — те, кого еще нет и чье место опять-таки займут новые комедианты. Стоит ли возлагать наши надежды на лицедеев?
100
Кто видел двор, тот видел все, что есть в мире самого прекрасного, изысканного и пышного; кто, повидав двор, презирает его, тот презирает и мир.
101
Столица отбивает охоту жить в провинции, двор открывает нам глаза на столицу и вылечивает от стремления ко двору.
Человеку, наделенному здравым умом, двор прививает вкус к одиночеству и замкнутой жизни.
Глава IX О вельможах
1
Народ так слепо предрасположен к вельможам, так повсеместно восхищается их жестами, выражением лица, тоном и манерами, что боготворил бы этих людей, будь они с ним хоть немного добрее.
2
Феаген, если ты порочен от природы, мне жаль тебя; если же тебя сделала таким слабость к тем людям, которым выгодно, чтобы ты был порочен, которые сговорились развратить тебя и уже похваляются, что преуспели в этом, я не могу тебя не презирать. Но если ты благоразумен, воздержан, скромен, учтив, великодушен, не чужд признательности, трудолюбив, а к тому же так могуществен и знатен, что тебе подобает скорее служить примером, чем брать его с других, и самому наставлять житейским правилам, нежели учиться им, условься с этими людьми, что будешь из снисходительности подражать им в распутстве, пороках и безумствах на том условии, что они из уважения, которое обязаны питать к тебе, будут совершенствоваться в добродетелях, дорогих твоему сердцу. Прими это насмешливое, но полезное предостережение, и оно поможет тебе сохранить чистоту души, расстроит все их замыслы и вынудит их оставаться тем, что они есть, и не делать попыток изменить тебя.
3
Вельможи обладают одним огромным преимуществом перед остальными людьми. Я завидую не тому, что у них есть все: обильный стол, богатая утварь, собаки, лошади, обезьяны, шуты, льстецы, но тому, что они имеют счастье держать у себя на службе людей, которые равны им умом и сердцем, а иногда и превосходят их.
4
Вельможи чванятся тем, что прорезают леса аллеями, окружают свои владения непомерно длинными стенами, раззолачивают потолки, сооружают фонтаны и устраивают оранжереи; однако их страсть к диковинному не настолько велика, чтобы вселить довольство в чье-то сердце, преисполнить радостью чью-то душу, предотвратить или облегчить чью-то горькую нищету.
5
Сравнивая между собой людей разного звания, их горести и преимущества друг перед другом, небесполезно задать вопрос, не наблюдается ли при этом известное смешение или равновесие добра и зла, которое всех уравнивает или, по крайней мере, делает положение одного не более завидным, чем положение другого. Поставить такой вопрос вправе человек могущественный, богатый и ни в чем не знающий нужды, но решить его может только бедняк.
В любом из возможных житейских положений есть своя прелесть, которой лишено только одно из них — нищета. Так, вельможа находит удовольствие в излишествах, а простые люди — в умеренности; первые любят повелевать и властвовать, вторые почитают за счастье и даже за честь служить им и повиноваться; вельможи окружены свитой, почетом, знаками внимания; простые люди состоят в их свите, чтят их, оказывают им знаки внимания, и все довольны.
6
Вельможам так легко отделываться одними обещаниями, их сан так бесспорно избавляет их от необходимости держать слово, что они, как видно, очень скромны, если сулят только то, что сулят, а не в три раза больше.
7
«Этот человек стар и ни к чему не пригоден, — говорит вельможа. — Он загнал себя, бегая за мною. На что он мне?» И вот кто-нибудь помоложе лишает несчастного последних надежд и получает должность, в которой бедняге отказали только потому, что он слишком честно ее заслужил.
8
«Право, не понимаю, — говорите вы холодно и высокомерно. — Филант не лишен достоинств, ума, приятности; он исполняет свой долг, отличается верностью, предан своему покровителю, но его почему-то не ценят, он не нравится, к нему не расположены». Объясните, кого же вы осуждаете — Филанта или вельможу, которому он служит?
9
Подчас бывает выгодней оставить службу у вельможи, чем жаловаться на него.
10
Кто объяснит, почему сорвать крупный выигрыш или снискать расположение вельможи удается именно тем людям, а не другим?
11
Сильные мира сего так взысканы счастьем, что ни разу за всю жизнь им не случается печалиться из-за утраты лучших слуг или людей, которые прославили себя в своей области, а им принесли много радости и пользы. Стоит этим единственным в своем роде и незаменимым людям умереть, как льстецы принимаются выискивать их слабые стороны, которых, уверяют они, отнюдь не будет у тех, кто займет место покойных. Они твердят, что преемник, обладая всеми талантами и познаниями предшественника, свободен от его недостатков, и такими речами утешают государей в потере великого и замечательного человека, которого сменила посредственность.
12
Сановники пренебрегают умными людьми, у которых нет ничего, кроме ума; умные люди презирают сановников, у которых нет ничего, кроме сана; добродетельный человек жалеет и тех и других, если единственная их заслуга — их сан или ум.
13
Когда я, с одной стороны, вижу около вельмож, в тесном кругу их близких и за одним столом с ними, ловких и угодливых интриганов, опасных и вредных проходимцев, а с другой стороны, вспоминаю, как трудно пробиться к вельможе человеку достойному, я отнюдь не всегда заключаю из этого, что людей дурных терпят из корысти, а добродетельных почитают бесполезными. Я склонен скорее утвердиться в мысли, что высокое положение отнюдь не предполагает знания людей, а также любви к добродетели и к тем, кто добродетелен.
14
Луцилий предпочитает тратить жизнь на то, чтобы льнуть к вельможам, которые едва терпят его, чем проводить ее в дружеском общении с равными себе.
Известное правило: «Водись с тем, кто выше тебя» — нуждается в оговорке: чтобы следовать ему, подчас нужны дарования, и притом особого свойства.
15
Что за неизлечимая болезнь у Феофила? Он страдает ею вот уже тридцать лет, а она все не проходит: он сгорал, сгорает и будет сгорать желанием управлять умами вельмож; только смерть, прервав его дни, положит предел этой жажде власти и влияния. Что это — забота о ближнем, привычка или непомерное самомнение? Нет дворца, в который он не пробрался бы; он не останавливается посреди приемной, а проникает дальше за портьеры, в кабинет; тому, кто домогается аудиенции или жаждет представиться, приходится ждать, пока не закончит говорить Феофил, а говорит он долго и обстоятельно. Он посвящен в семейные тайны вельмож, причастен к их удачам и невзгодам, предупреждает их желания, предлагает свои услуги, навязывается на каждое празднество, и все вынуждены его приглашать. Попечение о многих тысячах душ, за которые он отвечает перед богом, как за свою собственную, не может ни заполнить его время, ни насытить его честолюбие, — он метит выше и озабочен делами куда более важными, которым и предается весьма охотно, хотя они вовсе его не касаются. Он прислушивается ко всему и всюду выискивает пищу для своего ума, склонного к интригам, вмешательству в чужую жизнь и всяким проискам; не успевает знатная особа высадиться на берег, как Феофил уже тут как тут и завладевает, ею; ему самому еще не пришла в голову мысль, что он может управлять высоким гостем, а все уже уверяют его, что он им управляет.
16
Холодность или неучтивость со стороны тех, кто выше нас, внушают нам ненависть к ним, но один их поклон или улыбка уже примиряют нас с ними.
17
Бывают гордецы, которых смиряет и укрощает возвышение соперников. Такая неприятность доводит их порой до того, что они даже начинают с ними раскланиваться, но время, постепенно все сглаживающее, рано или поздно возвращает этих людей к естественному для них высокомерию.
18
Презрение вельможи к простолюдинам делает его равнодушным к лести и похвалам последних, тем самым умеряя его тщеславие; точно так же хвала, которую вельможи и царедворцы без меры и роздыха расточают монарху, не делает его тщеславней лишь потому, что он мало уважает тех, кто его превозносит.
19
Вельможи признают совершенство только за собой и с трудом допускают мысль, что другие могут отличаться прямотой, обходительностью и вкусом; они приписывают себе эти редкие дары как нечто присущее им по праву рождения. Однако эти ложные притязания — грубая ошибка: лучшие мысли, изречения, книги да, пожалуй, и самые возвышенные поступки, которые нам известны, отнюдь не их заслуга; большие владения и длинный ряд предков — вот единственное, чего у них не отнимешь.
20
Правда ли, что ты наделен умом, величием, дарованиями, вкусом и знанием людей, или ты обязан всем этим лишь лести и пристрастной молве, трубящей о твоих достоинствах? Они возбуждают во мне подозрение, я отказываюсь в них верить. Меня не ослепляет ни твой высокомерный тон, ни глубокомысленный вид, который ставит тебя выше всего, что сделано, сказано и написано; не действуют на меня и твое равнодушие к похвалам и неспособность бросить кому-нибудь хоть словечко одобрения. Я просто заключаю из этого, что ты в чести, влиятелен и очень богат. Как решить, что ты такое, Телеф? К тебе, как и к огню, не подступишься, а ведь чтобы составить о тебе здравое и основательное мнение, нужно заглянуть в твою душу, пожить рядом с тобой, сравнить тебя с тебе подобными. Твоего наперсника — того, который накоротке с тобой, дает тебе советы, отвлекает тебя от общества Сократа и Аристида{189}, смешит тебя и сам смеется еще громче, чем ты, — одним словом, Дава я знаю отлично, не довольно ли этого, чтобы знать тебя?
21
Если бы иные люди знали, что такое их приближенные и что такое они сами, им было бы стыдно занимать первое место.
22
Конечно, хороших ораторов мало, но много ли на свете людей, способных их слушать? Хороших писателей тоже не много, но где люди, умеющие читать? Точно так же народ вечно сокрушается о том, что редки люди, которые могли бы стать советниками и помощниками королей в государственных делах; однако когда они все-таки появляются и начинают действовать согласно своему разуму и понятиям, разве этих искусных и мудрых сановников любят и ценят по заслугам? Разве хвалят их за то, что они задумывают и совершают во имя отечества? Довольно и того, что им не мешают. Если они терпят неудачу — их бранят, если добиваются успеха — им завидуют. Не убоимся же порицать народ там, где оправдывать его было бы смешно: именно его недовольство и зависть, которые кажутся неизбежным злом вельможам и сильным мира сего, постепенно приучают последних не ставить его ни во что, не считаться в делах с его мнением и даже возводить такое пренебрежение в правило политики.
Люди маленькие враждуют между собой, ибо нередко мешают друг другу. Вельмож они ненавидят за то зло, которое те делают им, и за то добро, которого те им не делают. Вельможа всегда ответственны за приниженность, бедность и неудачи маленьких людей; по крайней мере, тем так кажется.
23
«Не довольно ли и того, что с народом у нас общая религия и общий бог? Охота нам еще называться Пьерами, Жанами, Жаками, словно мы купцы или пахари? Будем избегать всего, что роднит нас с чернью, и, напротив, подчеркивать все, что нас от нее отделяет. Пусть она берет себе всех двенадцать апостолов, их учеников и первых мучеников (по человеку и святой!); пусть каждый простолюдин радуется тому определенному дню в году, когда он празднует свои именины. Мы же, вельможи, обратимся к языческим именам: пусть нас крестят Ганнибалами, Цезарями, Помпеями — это великие люди; Лукрециями — в честь прославленной римлянки; Танкредами, Роже, Оливье и Рено — это паладины, которых не затмил еще ни один герой романов; Гекторами, Ахиллами, Гераклами — это полубоги; пусть нарекают нас даже Фебами и Дианами. А если мы пожелаем, никто не может запретить нам именоваться хотя бы Юпитерами или Меркуриями, Венерами или Адонисами!»
24
Вельможи не желают ничему учиться — не только тому, чем они могли бы послужить монарху и государству, но даже тому, что нужно для управления собственными делами, домом и семьей. Они похваляются своим невежеством, позволяют управляющим обирать их и вертеть ими, а сами довольствуются тем, что считают себя знатоками вин и ценителями тонкого стола, навещают Фрин и Таис, ведут разговоры о гончих и борзых и в точности знают, сколько почтовых перегонов от Парижа до Безансона или Филиппсбурга. Между тем простые граждане знакомятся с внешними и внутренними делами королевства, постигают науку правления, становятся тонкими политиками, изучают сильные и слабые стороны своего государства, помышляют о месте, получают его, возвышаются, достигают могущества и облегчают государю заботы о благе отечества, а вельможи, которые прежде презирали их, склоняются перед ними, почитая за счастье стать их зятьями.
25
Сравнивая меж собой людей двух наиболее далеких друг от друга званий, то есть вельмож и простолюдинов, я вижу, что последние довольны жизнью, хотя обладают лишь самым необходимым, а первые — бедны и неспокойны, хотя утопают в излишествах. Человек из народа никому не делает зла, тогда как вельможа никому не желает добра и многим способен причинить большой вред; один живет, занимаясь лишь полезными делами, другой убивает время на дурные забавы; первый простодушен, груб и откровенен, второй под личиной учтивости таит развращенность и злобу. У народа мало ума, у вельмож — души; у первого — хорошие задатки и нет лоска, у вторых — все показное и нет ничего, кроме лоска. Если меня спросят, кем я предпочитаю быть, я, не колеблясь, отвечу: «Народом».
26
Царедворцы, весьма искушенные в притворстве, очень ловко надевают личину и прячут собственное лицо; тем не менее им не удается скрыть свою злобу и склонность вечно потешаться над ближним, предавая осмеянию то, что вовсе не смешно. Этот редкий талант легко подметить в них с первого взгляда; он, конечно, весьма приятен, когда нужно подшутить над человеком глупым; но еще чаще он лишает их возможности наслаждаться обществам человека умного, который мог бы, к их же собственному удовольствию, раскрыться и блеснуть на тысячу ладов, если бы коварство придворных не вынуждало его быть крайне осторожным. Поэтому он ведет себя сдержанно, замыкается в себе и делает это так умело, что самые завзятые насмешники не находят случая пройтись на его счет.
27
Монархи обладают всеми жизненными благами, они наслаждаются изобилием, спокойствием и благоденствием: поэтому им доставляет удовольствие посмеяться над карликом, обезьяной, глупцом или нелепой историей; людям, не столь счастливым, нужен более существенный повод для смеха.
28
Вельможа любит шампанское и терпеть не может вина бри. Он напивается более дорогим вином, чем простолюдин, — в этом и состоит все различие в разгуле сановника и лакея, людей столь различных званий.
29
На первый взгляд кажется, что монархам порой доставляет удовольствие нарочно стеснять окружающих. Но нет, государи — тоже люди: они пекутся о самих себе, следуют своим склонностям и пристрастиям, заботятся о своих удобствах, и это естественно.
30
Иной раз кажется, что люди сановные и влиятельные, рассматривая просьбы тех, кто зависит от них в делах, ставят себе за правило чинить им все помехи, каких только могут опасаться последние.
31
Если вельможа действительно несколько счастливее, чем остальные люди, то это, на мой взгляд, выражается лишь в том, что он чаще имеет власть и повод доставлять другим радость; следовательно, когда ему представляется такой случай, он обязан им воспользоваться и уж подавно не смеет его упускать, когда речь идет о человеке добродетельном. Но так как дело у последнего всегда правое, вельможа должен все устроить сам, не дожидаясь просьб, и позвать к себе подобного человека лишь для того, чтобы принять изъявления благодарности; если дело было нетрудное, вельможе не следует даже упоминать о своей услуге в разговоре с просителем; если же вельможа ему откажет, мне жаль их обоих.
32
Иные люди от рождения неприступны: это как раз те, в ком нуждаются и от кого зависят другие. Они всегда на ногах; подвижные, как ртуть, они суетятся, размахивают руками, кричат, хлопочут и, подобно тем шутихам, которые запускаются на празднествах, сыплют искры, извергают пламя, мечут громы и молнии, — словом, к ним и не подходи, пока они не потухнут, не упадут и не станут безопасными, а заодно и бесполезными.
33
Швейцар, камердинер, ливрейный лакей, если только умом они не выше, чем званием, судят о себе не по низкому своему положению, а по знатности и богатству тех, кому служат, и всех без изъятия, кто входит в дом и поднимается мимо них по лестнице, ставят ниже себя и своих господ. Недаром говорится: терпишь от хозяина, терпи и от слуги.
34
Сановник должен любить своего государя, жену, детей, а после них — людей, наделенных большим умом; пусть он привлекает их к себе, пусть окружает себя ими, чтобы никогда не испытывать в них недостатка. За услуги и помощь, которые он получает от них, порою сам того не замечая, нельзя отплатить не то что пенсионами и прочими щедротами, но даже дружбой и лаской. Сколько эти люди опровергают ложных слухов, сколько зловредных и вздорных выдумок удается им разоблачить! Они умеют оправдать неудачу благими намерениями, доказать в случае успеха, что замысел был верен, а принятые меры — разумны, восстать против злобы и зависти и объяснить похвальное деяние еще более похвальными чувствами, благоприятно истолковать неловкие поступки, скрыть небольшие промахи и во всем блеске выставить напоказ достоинства, тысячу раз подчеркнуть выгодные подробности и обстоятельства, обратив иронию и насмешки на тех, кто дерзнет в этом сомневаться или утверждать противное. Я знаю, что вельможи берут за правило всегда действовать по-своему, невзирая на пересуды, но мне известно и то, что дать свободу пересудам — значит порою лишить себя возможности действовать.
35
Оценить достоинства и вознаградить их как подобает — вот два смелых и не терпящих отлагательства поступка, на которые не способно большинство вельмож.
36
Ты сановит, ты влиятелен, но этого мало: сделай так, чтобы я уважал тебя и скорбел, утратив твое расположение или не сумев его снискать.
37
Вы говорите о вельможе или сановнике, что он предупредителен, обязателен, рад услужить каждому; вы подтверждаете это длинным перечнем всего, чем он помог вам в одном важном для вас деле. Я понял: раз вам идут навстречу, значит, вы влиятельны, вас знает министр, к вам благоволят власти. Разве не это вы хотели дать мне почувствовать?
Иной говорит вам: «Я обижен на такого-то. Возвысившись, он чересчур занесся, он презирает меня и не хочет знаться со мной». Вы отвечаете: «А я вот не могу на него пожаловаться. Напротив, я им очень доволен. Мне даже кажется, что он весьма учтив». Я опять угадал вашу мысль: вы даете понять, что сановник внимателен к вам, что в приемной он выделяет вас из множества достойных людей, на которых он даже не смотрит из боязни подвергнуть себя неприятной необходимости кивнуть или улыбнуться им.
Когда речь идет о ком-нибудь, особенно о вельможе, выражение «я им доволен» таит в себе тонкий смысл и, без сомнения, означает, что мы довольны собою и теми благодеяниями, которые он нам оказал, равно как и теми, которых он даже не думал оказывать.
Вельмож хвалят куда чаще из желания подчеркнуть свою близость с ними, чем из уважения и благодарности: иной вовсе и не знает того, кого хвалит. Порою тщеславие и легкомыслие берут в нас верх даже над обидой — мы недовольны вельможей, а все-таки его превозносим.
38
Участвовать в сомнительной затее опасно, еще опасней оказаться при этом сообщником вельможи: он-то выпутается, а вам придется нести двойную ответственность — и за себя и за него.
39
Государю не хватило бы всей его казны, чтобы вознаградить низких льстецов, принимай он их слова за чистую монету; ему не хватило бы всей его власти, чтобы наказать таких людей, пожелай он соразмерить кару с вредом, который они ему причинили.
40
Дворянин рискует жизнью ради блага отечества и славы монарха; судья, отправляя правосудие, избавляет государя от части его забот о подданных. И то и другое — высокие и чрезвычайно полезные занятия; люди вряд ли могут избрать себе более похвальное поприще, и мне непонятно, почему это военные и судейские так презирают друг друга.
41
Хотя вельможа, подвергая опасности свою жизнь, полную изобилия, радости и наслаждений, рискует большим, чем простолюдин, которому нечего терять, кроме своей бедности, следует все же признать, что он получает за это неизмеримо большую награду — славу и громкое имя. Простой солдат не ждет, что о нем узнают: один из многих, он умирает безвестным. Правда, жил он также в безвестности, но все-таки жил. В этом одна из причин того, что людям низкого и холопского звания часто недостает мужества. Напротив, тот, кому высокое происхождение не дает затеряться в толпе, кто, вынужденный жить на виду у всех, стяжает всеобщую хвалу или всеобщее неодобрение, порой способен даже преодолеть свою натуру, если ей не свойственна доблесть, столь присущая людям благородным. Храбрость — это особый настрой ума и сердца, который передается через отцов от предков к потомкам; к нему, пожалуй, сводится и само благородство.
Бросьте меня в гущу войска, сделайте простым солдатом, и я — Терсит{190}; поставьте меня во главе армии, дайте мне помериться силами со всей Европой, и я — Ахилл.
42
Принцы крови научаются искусству сравнивать даже без помощи науки и правил: они с младенчества живут как бы в самом центре того, что есть на свете лучшего; с этим они и сравнивают всё, что читают, видят и слышат, и отвергают всех, кто не выдерживает сравнения с Люлли, Расином и Лебреном{191}.
43
Учить юных принцев лишь тому, как им не уронить своего достоинства, — излишняя предосторожность, ибо весь двор считает своим долгом и первым признаком учтивости оказывать им уважение, да и сами они не склонны поступиться хотя бы одним из тех знаков почтения, которых позволяет им требовать от каждого их сан; при этом они нередко путают своих придворных и обращаются со всеми одинаково, невзирая на различия положения или знатности. У них есть врожденная гордость, которая сама пробуждается, когда это необходимо. Их нужно учить лишь тому, как держать ее в узде, и наставлять их лишь в добросердечии, честности и знании людей.
44
Со стороны человека знатного было бы чистым лицемерием не занять без лишних просьб то место, которое приличествует его сану и которое все охотно ему уступают: ему ведь ничего не стоит напустить на себя скромный вид, смешаться с толпой, которая расступается перед ним, и занять в собрании последнее место, чтобы все это увидели и бросились его пересаживать.
Человеку попроще скромность обходится много дороже: если он замешается в толпу, его могут раздавить; если он займет неудобное место, его там и оставят.
45
Аристарх выходит на площадь с глашатаем и трубачом. Раздается зов трубы, сбегаются люди. Глашатай кричит: «Внимай, народ! Тише, тише! Вон стоит Аристарх. Завтра он совершит доброе дело».
Я скажу прямо и без обиняков: этот человек поступает хорошо; он хочет поступать еще лучше? Пусть делает добро так, чтобы я не знал этого или хотя бы узнавал об этом не от него.
46
Совершая самые похвальные поступки, люди часто все портят и сводят на нет тем, как они их совершают; порою даже начинаешь сомневаться в чистоте их намерений. Кто защищает или превозносит добродетель ради нее самой, кто наказывает или порицает порок лишь ради его исправления, тот делает это просто, естественно, без лишних слов, заносчивости, чванства и притворства: он не говорит важным и наставительным тоном, а уж колким и насмешливым — и подавно; он не устраивает представлений для толпы, а подает благой пример и выполняет свой долг; он не превращает свой поступок в предмет женских пересудов, в повод для кабинетных[54] толков, в пищу для вестовщиков; он не поставляет светским болтунам новых тем для разговоров. Конечно, добро, которое он сделал, получает при этом несколько меньшую огласку, но ведь он его сделал — чего же ему еще желать?
47
Вельможам, должно быть, не нравятся первобытные времена, и они не склонны о них вспоминать: им обидно думать, что у нас с ними общие предки — одни и те же брат и сестра. Все люди — единая семья: их разделяет лишь большая или меньшая степень родства.
48
Феогнид одевается изысканно: он выходит из дому разряженный, как женщина. Не успеет он очутиться на улице, как сразу придает лицу и глазам подобающее выражение, чтобы предстать людям в самом лучшем своем виде, чтобы даже прохожие находили его любезным и никто не мог устоять перед его обаянием. Проходя по залу, он поворачивается и направо, где много народу, и налево, где никого нет, кланяется и присутствующим и отсутствующим, обнимает первого встречного, прижимает его к груди, а потом осведомляется, кого это он обнимал. Если кто-нибудь имеет до него дело, даже самое простое, и приходит изложить свою просьбу, Феогнид благосклонно выслушивает его. Он счастлив быть ему полезным, он заклинает его сказать, как можно ему услужить. Тот повторяет просьбу, — тогда Феогнид объявляет, что тут он бессилен, умоляет войти в его положение и не судить его слишком строго. Затем он провожает посетителя до дверей, и тот уходит, обласканный, смущенный и почти довольный, что ему отказали.
49
Занимать высокую должность и надеяться, что ваша заученная любезность и долгие, но холодные объятия произведут впечатление на людей, — значит быть о них очень дурного мнения и все-таки хорошо их знать.
50
Памфил разговаривает с людьми, которых встречает в дворцовых залах и подъездах, таким торжественным и важным тоном, словно дозволяет им приблизиться к нему, дает аудиенцию, а потом отсылает. Выражения он выбирает пристойные, но обидные, со всеми без разбора ведет себя учтиво, но надменно и напускает на себя ложное величие, которое принижает его и озадачивает тех, кто ему друг и не питает к нему презрения.
Такой человек, как Памфил, полон самомнения, вечно любуется собой, думает только о своем достоинстве, своих связях, должности, звании; он не расстается со своими регалиями и постоянно щеголяет ими, чтобы придать себе весу; от него постоянно слышишь: «Мой орден, моя синяя лента»; он то выставляет их напоказ, то прикрывает из тщеславия. Одним словом, Памфил хочет быть вельможей и мнит себя им, но он не вельможа, а лишь подобие вельможи. Иногда он дарит улыбкой ничтожнейшего из людей, то есть человека, наделенного только умом, но так ловко выбирает время для этого, что его никто не может застать с поличным: он сгорел бы от стыда, если бы — о, ужас! — его заподозрили в малейшей короткости с тем, кто не богат, не влиятелен и не состоит у министра в друзьях, приживалах или родственниках. Он строг и холоден с теми, кто еще не успел нажить состояния; встретив вас в галерее, он отворачивается, а на другой день, увидев вас не в таком общедоступном месте или хотя бы в таком же, но в компании вельможи, набирается храбрости, подходит к вам и объявляет: «Вы вчера сделали вид, что не заметили нас». То он внезапно покидает вас, чтобы подойти к сановнику или помощнику министра, то, застав их за беседой с вами, оттирает вас и уводит их; в другой раз вы обращаетесь к нему, но он не останавливается, принуждает вас следовать за ним и говорит с вами так громко, что все, кто проходит мимо, наслаждаются этой сценой. Словом, памфилы всегда как бы лицедействуют на подмостках, они насквозь лживы и больше всего на свете ненавидят естественность; это сущие комедианты, настоящие Флоридоры и Мондори.
Но я еще не все сказал о памфилах. Они принижены и трусливы в присутствии государей и министров, высокомерны и самоуверенны с теми, чье единственное достояние — добродетель; они молчаливы и застенчивы с учеными, говорливы, смелы в речах и решительны в суждениях с невеждами; с судейскими они беседуют о войне, с откупщиком — о политике, с женщинами — об истории; с богословом они поэты, с поэтом — математики; они не связывают себя никакими житейскими правилами, а тем более — принципами и плывут по течению, подгоняемые ветром удачи и несомые рекой богатства; не имея своего мнения, они по мере надобности заимствуют его, но не у людей умных, одаренных или добродетельных, а у тех, которые в моде.
51
Мы питаем к вельможам и сановникам бесплодную зависть и бессильную ненависть, которые, отнюдь не уменьшая заманчиво-сти их высокого положения, лишь усугубляют нашу собственную нищету невыносимым зрелищем чужого счастья. Как вылечить такую застарелую и заразительную болезнь души? Будем довольствоваться малым, а если сможем, то еще меньшим, научимся мириться с утратами — вот единственное безотказное лекарство, и я готов испробовать его на себе. Оно избавит меня от желания уговаривать швейцара и умягчать секретаря, протискиваться к дверям министра через несметную толпу просителей и придворных, от которой по нескольку раз в день ломится его дом, томиться в его приемной, просить, трепеща и запинаясь, его помощи в правом деле, терпеть его надменность, колкие насмешки и слишком лаконичные ответы; оно исцелит меня от зависти и ненависти к нему. Он меня ни о чем не просит, я его тоже, — следовательно, мы равны во всем, если, пожалуй, не считать того, что он вечно в тревоге, а я наслаждаюсь покоем.
52
Вельможам часто представляются случаи сделать нам добро, но они редко ими пользуются; желая сделать нам зло, они также не всегда находят эту возможность. Таким образом, тому, кто уповает на них, легко обмануться в своей надежде, если она основана лишь на вере в них или на страхе перед ними: иной человек долго живет на свете и наконец умирает, не будучи им обязан ни своим благополучием, ни своим злополучием, более того — не дождавшись от них самой ничтожной услуги. Мы должны их чтить, потому что они сановиты, а мы люди маленькие, и потому что другие, еще более незначительные, чем мы, так же чтят нас самих.
53
И при дворе и в народе — одни и те же страсти, слабости, низости, заблуждения, семейные и родственные раздоры, зависть и недоброжелательство; всюду есть невестки и свекрови, мужья и жены, всюду люди разводятся, ссорятся и на время мирятся; везде мы находим недовольство, гнев, предвзятость, пересуды и, как говорится, злопыхательство. Умеющий видеть легко обнаружит, что какая-нибудь улица Сен-Дени в маленьком городке — это те же В. или Ф.; только там ненавидят с большей заносчивостью, надменностью и, пожалуй, с большим достоинством, вредят друг другу более ловко и хитро, предаются гневу более красноречиво и наносят обиды в более учтивых и пристойных выражениях, оскорбляя человека и черня его имя, но щадя чистоту языка. Пороки там всегда скрыты под благовидной личиной, но в существе своем, повторяю, остаются теми же, каковы они у людей низкого звания: там можно встретить любую подлость, любую слабость, любой недостойный поступок. Все, кто высоко вознесен благодаря своему происхождению, монаршим милостям или сану, все мужчины, столь взысканные мудростью и талантами, все женщины, столь прославленные умом и учтивостью, — все они презирают народ, хотя они сами — тоже народ.
Сказать «народ» — значит сказать многое. Это — всеобъемлющее понятие, смысл которого удивительно широк, а значения бесчисленны: его можно противополагать слову «вельможи», и тогда «народ» означает «толпа» или «простонародье»; его можно противополагать словам «мудрец», «талант», «человек добродетельный», и тогда оно будет охватывать как людей маленьких, так и вельмож.
54
Вельможи руководствуются только велениями чувства: это праздные души, склонные поддаваться первому впечатлению. Сталкиваясь с чем-нибудь, они сначала говорят об этом слишком много, потом говорят меньше, наконец, вовсе перестают говорить и больше уже не заговорят… Что бы это ни было — поступок, ряд поступков, произведение, событие — они всё начисто забывают. Не ждите от них ни последовательности, ни предусмотрительности, ни рассудительности, ни признательности, ни награды.
55
По отношению к некоторым людям мы всегда впадаем в крайности. Когда они умирают, в народе ходят сатиры на них, а под сводами храмов гремит воздаваемая им хвала. Иногда они не стоят ни пасквилей, ни надгробных речей, иногда заслуживают и тех и других.
56
О сильных мира сего лучше молчать: говорить о них хорошо — почти всегда значит льстить им; говорить о них дурно — опасно, пока они живы, и подло, когда они мертвы.
Глава X О монархе или о государстве
1
Когда человек, не предубежденный в пользу своей страны, сравнивает различные образы правления, он видит, что невозможно решить, какой из них лучше: в каждом есть свои дурные и свои хорошие стороны. Самое разумное и верное — счесть наилучшим тот, при котором ты родился, и примириться с ним.
2
Чтобы управлять людьми, тиран не нуждается ни в искусстве, ни в мудрости: политика, которая сводится к пролитию крови, всегда недальновидна и лишена гибкости. Она учит убивать тех, кто служит помехой нашему честолюбию; поэтому человек, жестокий от природы, следует ей без труда. Это самый гнусный и самый грубый способ удержаться у власти или прийти к ней.
3
Усыплять народ празднествами, зрелищами, роскошью, пышностью, наслаждениями, делать его тщеславным, изнеженным, никчемным, ублажать его пустяками — вот безошибочная политика, к которой с давних пор прибегают во многих государствах. Чего только не добивался деспотизм ценою такой снисходительности!
4
У подданных деспота нет родины. Мысль о ней вытеснена корыстью, честолюбием, раболепством.
5
При нововведениях и переменах в государстве правители обычно думают не столько о необходимости реформ, сколько об их своевременности: бывают обстоятельства, подсказывающие, что нельзя слишком раздражать народ; бывают другие, из коих ясно, что с ним можно не считаться. Сегодня вы властны лишить какой-нибудь город всех его вольностей, прав, привилегий; завтра не дерзайте изменить хотя бы цвет его знамен.
6
Когда народ охвачен волнением, никто не может сказать, как восстановить спокойствие; когда он умиротворен, никто не знает, что может нарушить его спокойствие.
7
Бывает зло, с которым государство мирится только потому, что оно предупреждает или устраняет еще большее зло. Бывает и другое, которое объясняется пороками государственного строя, порождено непорядками или дурными обычаями; тем не менее его существование и последствия менее пагубны, чем введение нового, более справедливого закона или более разумного обычая. Бывает и такое зло, которое можно исправить каким-нибудь новшеством или реформой, но те, в свой черед, представляют собою зло, и притом весьма опасное. Есть зло скрытое, словно нечистоты в клоаке, стыдливо погребенное под покровом тайны и мрака; стоит его коснуться или обнажить, как оно начинает источать яд и зловоние; даже самые проницательные умы порою не могут решить, что лучше — понять его сущность или закрыть на него глаза. Нередко государство терпит довольно серьезное зло, так как оно предотвращает множество мелких зол и неустройств, которые в противном случае были бы неизбежны и непоправимы. Бывает зло, от которого стонет каждый в отдельности, и все-таки оно оказывается благом для общества в целом, хотя последнее — не что иное, как совокупность отдельных людей. Случается и так, что зло, причиняемое отдельной личности, приносит пользу и выгоду каждой семье. Есть зло, которое разоряет или бесчестит отдельные семьи, но способствует благоденствию и сохранности государственного механизма и правительства. Иное зло подрывает основы государства и воздвигает на его обломках новое. Наконец, бывает и такое зло, которое повергало во прах великие империи и стирало всякое воспоминание о них, изменяя и обновляя тем самым облик Вселенной.
8
Какое дело государству, что Эргаст богат, что у него превосходные гончие, что он утопает в роскоши, устанавливает моды на одежду и экипажи? Можно ли принимать в расчет частное лицо там, где речь идет о выгоде и пользе всего общества? Утешением народов, несущих тяжкое бремя, является сознание того, что они облегчают жребий государя и что государь — единственный, кого они обогащают: они не считают своим долгом приумножать благосостояние Эргаста.
9
У войны за плечами тысячелетия: она существовала во все века, она всегда наполняла мир вдовами и сиротами, лишала семьи наследников и уничтожала нескольких братьев сразу в одном и том же сражении. О юный Сокур, я печалюсь о твоей доблести, о твоей чистоте, о твоем уже зрелом, проницательном и возвышенном уме! Я оплакиваю твою безвременную смерть, которая соединила тебя с твоим неустрашимым братом и отняла у двора, где ты едва успел сделать свои первые шаги. Какое прискорбное и вместе с тем обыденное несчастье! С незапамятных времен люди словно сговорились разорять, жечь, убивать, резать друг друга ради лишней пяди земли; чтобы делать это более изобретательно и безошибочно, они придумали превосходные правила, которые наименовали военным искусством, поставили в зависимость от соблюдения этих правил долговечность нашего имени и славы и с тех пор из столетия в столетие изощрялись друг перед другом во взаимном истреблении. Несправедливость, присущая первым людям, — вот где истоки войны и необходимости ставить над собой начальников, которые определяли бы права каждого и решали бы все споры; если бы человек умел довольствоваться тем, что имеет, а не зариться на достояние соседа, он всегда наслаждался бы миром и свободой.
10
Тот же народ, который ведет мирное существование у домашнего очага, в кругу семьи, в стенах большого города, где никто не угрожает ни его жизни, ни достоянию, порою алчет огня и крови, ведет войны, учиняет поджоги и убийства, с нетерпением ожидает, когда же сойдутся выступившие в поход армии. Если они уже сошлись, он недоволен, почему не происходит сражения; а если оно произошло — почему бой был недостаточно кровав и на поле его легло меньше десяти тысяч человек. Часто он доходит до того, что из любви к переменам, новизне и необычности забывает о самых насущных своих интересах, покое и безопасности: есть люди, которые согласились бы вторично увидеть, как враг подступает к стенам Дижона или Корби, как на улицах воздвигают баррикады и протягивают цепи, лишь бы первыми сообщить или услышать весть об этом.
Абраам Босс.
«Бал» (гравюра)
11
Демофил{192}, сидя справа от меня, громко стенает: «Все копчено, государство погибло или, во всяком случае, стоит на краю гибели. Как противостоять столь сильной и всеобщей коалиции? Можно ли не то что победить, а хотя бы отразить без посторонней помощи столь могущественных и многочисленных врагов? С тех пор как существуют монархии, история не знает подобных примеров. Тут не устоит даже герой, даже Ахилл. Мы совершили грубые ошибки, — прибавляет он. — Я-то уж знаю, что говорю: я сам военный, бывал на войне, да и читал немало исторических книг». Затем, вспомнив Оливье Ледена{193} и Жака Кера{194}, он восхищенно восклицает: «Вот это были люди! Вот это были министры!»
Он рассказывает новости — все как на подбор удручающие и безотрадные: то наш отряд заманили в засаду и перерезали; то войска, защищавшие один из замков, сдались на милость победителя и перебиты до последнего. Если вы говорите, что это ложный и ничем не подтвержденный слух, он, не обращая на вас внимания, присовокупляет, что генерал такой-то убит, и хотя тот в действительности лишь легко ранен, в чем вы и уверяете Демофила, он все-таки оплакивает его смерть, жалеет его вдову, сирот, государство, самого себя: он, видите ли, потерял в лице покойного доброго друга и сильного покровителя.
Он твердит, что немецкая конница непобедима, и бледнеет при одном упоминании об имперских кирасирах. Если нас атакуют под такой-то крепостью, продолжает он, надо будет снять осаду или перейти к обороне, не ввязываясь в бой, а если его все-таки придется дать, мы проиграем, и неприятель немедленно выйдет к нашей границе. А так как у Демофила враги не ходят, а летают, то они уже в самом сердце королевства: он слышит, как горожане повсюду бьют в набат и поднимают тревогу; он озабочен судьбой своего имущества и поместий; он ломает себе голову, куда отправить деньги, мебель, семейство, куда бежать самому — в Швейцарию или Венецию?
Но тут сидящий слева от меня Басилид разом выставляет армию в триста тысяч человек, не соглашаясь убавить ее ни на одну бригаду: у него в голове список эскадронов и батальонов, генералов и офицеров; он не забывает ни артиллерии, ни обоза. Все эти силы в полном его распоряжении: столько-то он посылает в Германию, столько-то во Фландрию, небольшой резерв оставляет в Альпах, еще меньший — в Пиренеях, остаток же переправляет за море. Он знает пути следования всех этих войск, ему известно, что они сделают и чего не сделают, — словом, вам кажется, будто он наперсник государя и поверенный тайн министра. Если неприятель только что проиграл сражение и оставил на поле боя девять — десять тысяч человек, Басилид оценивает его потери ровно в тридцать тысяч убитых — не больше и не меньше, ибо он, будучи столь осведомленной особой, всегда располагает цифрами точными и бесспорными.
Узнав поутру, что мы потеряли какую-то крепостцу, он не только отменяет званый обед, на который накануне пригласил друзей, но в этот день и вовсе не обедает, а если ужинает, то без аппетита. Если наши осаждают сильную и укрепленную по всем правилам крепость, в достатке снабженную съестными и боевыми припасами и обороняемую надежным гарнизоном под начальством человека, испытанного в боях, он уверяет вас, что в этом городе есть слабые, плохо прикрытые места, что там не хватает пороху, что комендант неопытен и что после первой же недели осадных работ враги сдадутся на капитуляцию.
В другой раз он, запыхавшись, прибегает к вам и, едва успев отдышаться, восклицает: «Важные новости: противник разбит наголову, командующий и офицеры, по крайней мере, большинство их, убиты и уничтожены. Какой разгром! — продолжает он. — Ничего не скажешь, нам везет». Тут он садится и переводит дух — он выложил все свои новости, упустив лишь одну подробность: никакой битвы не было. После этого он сообщает, что такой-то государь вышел из коалиции и порвал со своими союзниками, а другой собирается последовать его примеру. Как и простонародье, он ни минуты не сомневается в том, что третий из враждебных монархов умер, более того — ему известно, где похоронен покойный; когда этим слухам перестают верить даже на рынке и в предместьях, он все равно готов биться об заклад, что они верны. Ему известно из надежного источника, что Т… к…л… берет верх над императором, что султан не хочет мира и «мощно» вооружается, а его визирь вот-вот снова подступит к воротам Вены. Он всплескивает руками и содрогается, ибо уверен, что это событие неотвратимо. Тройственный союз в его изображении похож на Цербера, а враги — на чудовищ, которых надлежит истребить; у него только и разговору, что о лаврах, победах, триумфах и трофеях.
В дружеской беседе он прибегает к таким оборотам, как: «наш августейший герой», «наш великий повелитель», «наш непобедимый монарх». Он ни за что не согласится сказать просто: «У короля много врагов, они могучи, едины, ожесточены; но он побеждал их раньше, надеюсь, победит и теперь». Такой стиль, слишком ясный и решительный для Демофила, недостаточно пышен и надут для Басилида: у него наготове совсем другие выражения. Он сочиняет надписи для арок и обелисков, которые украсят столицу в день возвращения наших войск. Когда он слышит, что армии сошлись в ожидании боя или что какая-нибудь крепость обложена, он велит достать свое парадное одеяние и держать наготове, дабы иметь его под рукой на случай благодарственного молебствия в соборе.
12
Если послы и представители монархов и республик съезжаются, чтобы обсудить какое-нибудь дело и оно отнимает у них больше времени, чем размещение по чинам и даже дебаты о порядке председательствования и прочие формальности, — значит, это дело является из ряда вон выходящим по своей важности и запутанности.
Министр или посол — это хамелеон, Протей. Подобно ловкому игроку, он прячет свой истинный нрав и характер как для того, чтобы избежать толков и воспрепятствовать попыткам проникнуть в его планы, так и для того, чтобы в пылу увлечения или по слабости самому не выдать тайну. Иногда он надевает на себя личину, которая больше всего соответствует его намерениям и делает его в глазах противников тем, чем ему выгодно казаться. Однако, что бы он ни старался замаскировать — большую силу или большую слабость, — он равно остается твердым и непреклонным, дабы лишить соперников надежды добиться от него многого. Иногда же, напротив, он уступчив, ибо, предоставляя другим случай обратиться к нему с просьбой, он тем самым обеспечивает такую же возможность себе самому. Он то изворотлив и непроницаем и таким образом скрывает правду, сообщая о ней вслух, ибо ему важно, чтобы она была высказана и чтобы ей все-таки не поверили; то искренен и откровенен и таким образом умалчивает о том, чего никто не должен знать, и все же ловко создает впечатление, будто сказал все. Он живой и красноречивый собеседник, когда желает развязать другим язык или не дать им высказать то, чего он не хочет или не должен знать; когда сам собирается ввернуть несколько незначительных, но противоречивых и затемняющих друг друга фраз, которые вселяют в слушателей тревогу или доверие; когда ему нужно свести на нет вырвавшееся у него признание другим признанием. Он холоден и молчалив, когда ему нужно вынудить враждебную сторону говорить, а самому подольше слушать, дабы заставить выслушать потом себя, дабы высказаться как можно более веско и внушительно, дабы прибегнуть к обещаниям или угрозам, которые нанесут решительный удар и поколеблют сопротивление.
В одном случае он берет слово первым и открывает свои карты, чтобы выведать интриги и происки иностранных министров, уяснить себе их возражения и доводы, принять свои меры и подготовить ответ; в другом — он говорит последним, чтобы не тратить слов впустую, быть точным, безошибочно знать, на что следует рассчитывать ему и его союзникам, и отдавать себе отчет в том, чего он может просить и добиться. Иногда он выражается ясно и категорически, но еще чаще — уклончиво и намеками, прибегая к двусмысленным выражениям и оборотам, которым он волен придавать то или иное значение, смотря по тому, каковы обстоятельства и что ему выгодно. Он просит малого, когда не хочет уступить во многом; он просит многого, чтобы добиться малого, но зато наверняка. Сначала он требует мелочей, рассчитывая, что позднее они не будут приняты в расчет и не помешают ему домогаться серьезных уступок. Напротив, он избегает вначале настаивать на существенном пункте, если это может помешать ему потом настаивать на нескольких второстепенных, но в совокупности превосходящих первый по важности. Он запрашивает чересчур много, чтобы натолкнуться на отказ и тем самым иметь право или благовидный предлог в свой черед отказать в том, чего, как он чувствует, у него потребуют и в чем он не желает идти на уступки. В последнем случае он старается как подчеркнуть непомерность требований и по возможности убедить противника в обоснованности своего отказа, так и оспорить доводы, ссылаясь на которые ему отказывают в его домогательствах. Он равно стремится как превознести и преувеличить то немногое, что предлагает сам, так и откровенно осмеять то немногое, в чем уступают ему.
Он делает неискренние и слишком заманчивые предложения, которые вызывают у противной стороны недоверие и толкают ее на отказ от того, что и так не было бы ей предоставлено; воспользовавшись этим, он, со своей стороны, предъявляет несуразные притязания, чтобы доказать неправоту тех, кто их отвергает. Он соглашается дать больше, чем требуют, чтобы получить больше, чем дал. Он заставляет долго просить, убеждать, уговаривать себя в маловажном деле, чтобы лишить надежды и желания чего-нибудь добиться от него в более серьезном. Если же он все-таки идет на уступки, то лишь при условии, что разделит выгоды и преимущества с теми, кому они достанутся. Если он косвенно или прямо защищает союзника, значит, это принесет пользу ему самому и будет способствовать достижению поставленной им цели. Он разглагольствует о мире, согласии, всеобщей безопасности и всеобщем благоденствии, а на деле думает только о своих интересах, то есть о выгоде своего государя или своей республики. Он то примиряет недавних противников, то ссорит прежних союзников; то устрашает тех, кто силен и могуществен, то обнадеживает слабых; то объединяет нескольких слабых против одного сильного, чтобы восстановить равновесие, то присоединяется к ним, чтобы создать перевес сил, но дорого берет за свое покровительство и помощь.
Он умеет прельстить тех, с кем ведет переговоры: ловкими маневрами, тонкими и хитрыми намеками он наталкивает их на мысль об огромных выгодах, богатствах, отличиях, которые будут наградой за известную уступчивость с их стороны, отнюдь не идущую вразрез ни с их миссией, ни с намерениями их повелителей. Он старается, чтобы его самого тоже не считали неприступным с этой стороны; выказывает некоторую чувствительность ко всему, что касается его личного благосостояния; набивается, таким образом, на предложения, которые открывают ему самые тайные намерения противников, самые глубокие их замыслы, самые сильные их средства, и обращает все это себе на пользу. Если он ущемлен в нескольких пунктах, по которым достигнуто соглашение, он громко негодует; если ущемлены его противники, он негодует еще громче и вынуждает тех, кто и без того проиграл, оправдываться и защищаться.
Вся его деятельность направляется двором, все его шаги заранее предуказаны, даже самое незначительное его предложение предписано ему свыше; тем не менее в каждом трудном случае, в каждом спорном вопросе он действует так, словно только что принял решение сам и руководствовался при этом лишь мирными намерениями. Он дерзает даже объявлять во всеуслышание, что склонит двор на свою сторону и что предложения его не будут дезавуированы. Он распускает ложный слух об ограниченном характере своей миссии, хотя облечен чрезвычайными полномочиями, к которым прибегает лишь в крайности, в минуты, когда не пустить их в ход было бы опасно. Его интриги служат прежде всего достижению целей важных и существенных, которым он всегда готов принести в жертву мелочи и ложный престиж.
Он хладнокровен, вооружен смелостью и терпением, не знает усталости сам, но умеет доводить других до изнеможения и отчаяния. Готовый ко всему, он не страшится медлительности, проволочек, упреков, подозрений, недоверия, трудностей и преград, ибо убежден, что только время и стечение обстоятельств могут повернуть ход событий и направить умы в желательную для него сторону. Порою он даже прикидывается, будто склонен прервать переговоры, хотя как раз в это время больше всего хочет их продолжать; если же, напротив, ему дано точное предписание употребить все усилия, чтобы прервать их, он с этой целью всемерно настаивает на их продолжении и окончании.
Если происходит важное событие, он либо упорно стоит на своем, либо уступает, в зависимости от того, что ему выгоднее; а если его предусмотрительность позволила ему предугадать новый оборот дел, он либо ускоряет его, либо замедляет, смотря по тому, что это сулит государству, ради которого он трудится, и таким образом направляет события сообразно своим видам. Он принимает в расчет все: время, место, обстоятельства, собственную силу или слабость, особенности тех наций, с которыми ведет переговоры, нрав и характер лиц, с которыми общается. Все его замыслы, нравственные правила, политические хитрости служат одной задаче — не даться в обман самому и обмануть других.
13
Характер французов обязывает их государя быть серьезным.
14
Одно из несчастий государя заключается в том, что он всегда боится выдать тайны, которых у него так много. Счастье для него, если находится верный человек, способный переложить это бремя на свои плечи!
15
Монарху не хватает лишь одного — радостей частной жизни. Утешить его в столь великом лишении могут только бескорыстная дружба и преданность друзей.
16
Истинный монарх находит порой отраду в том, что на время забывает, кто он такой, сходит с подмостков и, сняв трагический плащ и котурны, играет перед наперсником роль обыкновенного человека.
17
Ничто не делает такой чести государю, как скромность фаворита.
18
Фаворит всегда одинок: у него нет ни привязанностей, ни друзей. Он окружен родственниками и льстецами, но не дорожит ими. Он оторван от всех и как бы всем чужд.
19
Нет сомнений, что фаворит, наделенный известной силой и высотой духа, часто испытывает смущение и замешательство, видя, насколько низки, мелочны, льстивы, угодливы и притворно внимательны к нему люди, заискивающие в нем, окружающие его и бегущие за ним, как лакеи; оставаясь с ними наедине, он платит им за раболепие презрением и насмешкой.
20
Позволите ли дать вам совет, о сановники, министры, фавориты? Не уповайте на то, что ваши потомки сумеют поддержать вашу славу и честь вашего имени: титулы забываются, милости приходят к концу, должности утрачиваются, богатства иссякают, таланты вырождаются. Правда, у вас есть дети, достойные вас и — скажу больше — способные удержаться на высоте, достигнутой вами. Но кто поручится, что и внуки ваши будут такими же? Если вы не верите мне, взгляните хоть раз на тех, кого вы обычно не удостаиваете взглядом, кого вы презираете: при всей вашей знатности у вас и у них общие предки. Будьте же добродетельны и человечны. А если вы спросите меня: «Что это нам даст?» — я отвечу: «Будьте человечны и добродетельны, и вы сделаетесь хозяевами своей посмертной судьбы, перестав зависеть от ваших потомков. Вы обретете уверенность, что ваше имя проживет столько же, сколько просуществует государство, и что тогда, когда людям станут показывать развалины наших замков или, может быть, всего лишь то место, где они высились встарь, мысль о ваших достохвальных деяниях все же будет свежа в памяти народов. С любопытством глядя на ваши портреты ж на медали, выбитые в вашу честь, люди скажут: «Человек, на чье изображение мы смотрим, бестрепетно и смело говорил со своим повелителем и больше страшился причинить ему вред, чем вызвать его неудовольствие. Благодаря этому человеку его государь стал еще великодушнее и милостивее и мог с полным правом говорить о своей столице и своем народе: «Мой добрый город, мой любезный народ». А вот портрет другого. Видите, как решительны его черты, как строг, важен, величав весь его облик? Его слава возрастает год от году, самые великие политики не выдерживают сравнения с ним. Он задался высокой целью — укрепить власть государя и водворить в стране спокойствие, унизив вельмож. Ни мятежи, ни заговоры, ни измена, ни угроза смерти, ни тяжкие недуги — ничто не могло его оторвать от этого замысла. Он нашел, сверх того, время, чтобы приступить к делу, продолженному и завершенному впоследствии одним из наших лучших и величайших королей, — к искоренению ереси».
21
Самая тонкая и благовидная приманка, на которую ловят вельмож их управляющие, а королей — их министры, состоит в настойчивых советах постоянно приобретать и обогащаться. Какое мудрое наставление, какое полезное и благое правило! Вот уж поистине золотые россыпи, сущее Перу, — по крайней мере, для тех, кому удавалось внушить эту мысль своим повелителям!
22
Народу выпадает великое счастье, когда монарх облекает своим доверием и назначает министрами тех, кого назначили бы сами подданные, будь это в их власти.
23
Искусство входить во все подробности и с неусыпным вниманием относиться к малейшим нуждам государства составляет существенную особенность мудрого правления; по правде сказать, короли и министры в последнее время слишком пренебрегают этим искусством, хотя весьма желательно видеть его в монархе, им не наделенном, и чрезвычайно отрадно наблюдать в монархе, им отличающемся. В самом деле, возрастают ли безопасность и благоденствие народа только оттого, что государь раздвигает границы своей страны, превращая вражеские владения в провинции своего королевства; что он выходит победителем из всех битв и осад и настигает врагов как на поле боя, так и в самых неприступных крепостях; что другие нации призывают друг друга на помощь, дабы объединенными усилиями остановить его, а он, невзирая на тщетные их попытки, продвигается все дальше и постоянно берет верх над ними; что последние надежды противников рушатся ввиду несокрушимого здоровья этого монарха, которое позволяет ему с радостью видеть, как принцы — его внуки, поддерживая и приумножая его славу, выступают в поход, овладевают грозными твердынями, покоряют новые государства, командуют старыми испытанными военачальниками не столько по праву сана и рождения, сколько по праву таланта и мудрости, идут по величавым следам своего победоносного деда и подражают ему в доброте, благоразумии, справедливости, бдительности, бесстрашии? Короче говоря, какая мне, равно как и всему народу, была бы польза от того, что государь удачлив, что он сам и его близкие шествуют по дороге славы, что отечество мое стало грозным и могущественным, если бы я сам жил под гнетом печали, тревог и нищеты; если бы, избавленный от набегов неприятеля, я подвергался зато опасности стать жертвой убийц, бесчинствующих на площадях и улицах столицы, и больше боялся грабителей и разбойников на городских перекрестках, чем в дремучем лесу непроглядной ночью; если бы спокойствие, порядок и чистота не делали пребывание в городах приятным, а достаток не украшал их всеми радостями светского общения; если бы, беззащитный и никем не поддерживаемый, я страдал на своей ферме от соседства вельможи и не был огражден законом от посягательств последнего; если бы я не имел к своим услугам учителей, и притом отличных, чтобы наставлять моих детей в искусствах и науках, которые когда-нибудь упрочат их положение в жизни; если бы мне было труднее, чем ныне, когда повсеместно процветает торговля, носить тонкие ткани, питаться свежим мясом и покупать все это по дешевой цене; если бы, наконец, благодаря попечениям государя я не был столь же доволен своим жребием, сколь он доволен своим, которым обязан собственной доблести?
24
Восемь или десять тысяч человек для государя — все равно что монета, которой он платит за крепость или победу; стараясь сделать это подешевле, щадя людей, он уподобляется тому, кто торгуется, потому что знает цену деньгам.
25
Все процветает в стране, где никто не делает различия между интересами государства и государя.
26
Именовать государя «отцом народа» — значит не столько воздавать ему хвалу, сколько называть его настоящим именем и правильно понимать истинное назначение монарха.
27
Между долгом монарха по отношению к подданным и долгом подданных по отношению к монарху есть связь или, точнее, обоюдная зависимость. Не берусь судить, какой из них тягостней и обременительней, ибо здесь пришлось бы сделать выбор между беспрекословной готовностью оказывать почтение и помощь, служить, подчиняться и покорствовать, с одной стороны, и обязанностью быть всегда добрым и справедливым, заботиться, защищать и покровительствовать — с другой. Утверждение, что государь волен в жизни и смерти подданных, означает лишь, что преступления людей ставят их судьбу в зависимость от законов и правосудия, носителем которого является монарх; добавлять же, что он неограниченный властелин достояния своих подданных и может, не задумываясь, без разбора и отчета, распоряжаться им, — значит говорить языком льстеца и выражать мнение фаворита, хотя и тот не посмел бы повторить это на смертном одре.
28
Порой на закате погожего дня вы видите, как большое стадо, рассыпавшись по холму, мирно щиплет тимьян и чабрец или пасется на лугу, поросшем мягкой и сочной травой, до которой не добралась коса крестьянина. Рядом с овцами стоит усердный и заботливый пастух: он не сводит с них глаз, идет вслед за ними, перегоняет их на новое пастбище. Если они разбрелись, он их собирает; если появился жадный волк, он спускает пса, и тот прогоняет хищника. Он кормит их и стережет. Не успевает заняться заря, как он уже в поле; он уходит домой не раньше, чем зайдет солнце. Как он прилежен и бдителен, как тяжела его служба! Кому, по-вашему, живется приятней и привольней — пастуху или овцам? Стадо ли создано для пастуха или пастух для стада? Вот бесхитростное олицетворение народа и государя, если только последний — подлинный государь.
Монарх, окруженный роскошью и пышностью, — это пастух в одежде, усыпанной золотом и каменьями, с золотым посохом в руке, с овчаркой в золотом ошейнике, на парчовой или шелковой сворке. Какая польза стаду от этого золота? Разве оно защитит его от волков?
29
Какое положение сулит больше счастья, нежели то, которое ежеминутно дает одному человеку возможность облагодетельствовать тысячи людей? Какое место чревато большими опасностями, нежели то, на котором он ежечасно рискует причинить вред миллионам?
30
Если здесь, на земле, нет более естественной, заветной и великой радости для человека, чем чувствовать себя любимым, и если короли — тоже люди, может ли им показаться чрезмерной цена, которою покупается сердце народа?
31
На свете нет таких правил и приемов, которые всегда и безошибочно помогали бы мудро править людьми: тут нужно применяться к времени и обстоятельствам, а это зависит от благоразумия и дальновидности тех, кто правит. Поэтому нельзя управлять безупречно, не обладая глубочайшим умом, но и при таком условии это было бы, пожалуй, невозможно, если бы привычка народа к покорности и повиновению не облегчала дела наполовину.
32
Обязанности людей, занимающих первые должности в государстве, где правит великий король, всегда несложны и выполняются ими без всяких усилий: все идет само собою, престиж и гений государя проторяют сановникам дорогу, избавляют их от трудностей и ведут страну к такому благоденствию, которое превосходит их ожидания. Вся их заслуга — в умении повиноваться.
33
Если трудно приходится человеку, который обременен семьей, если нелегко отвечать даже за самого себя, то каково тому, кто несет на себе бремя судеб целого королевства! Вознагражден ли государь за свои тяжкие труды раболепством придворных и той радостью, какую доставляет ему неограниченная власть? Я думаю о неизведанных, неверных и опасных путях, которыми он порою идет во имя спокойствия страны; я вспоминаю о крайних, но необходимых средствах, к которым он часто прибегает ради высоких целей; я знаю, что ему придется отвечать за благоденствие своего народа перед самим богом, что в его руках добро и зло, что неведение не послужит ему оправданием, — и я задаю себе вопрос: «Хотел бы я царствовать? Стоит ли человеку, сколько-нибудь счастливому в частной жизни, отказываться от нее ради венца? Не слишком ли тяжек королевский сан даже для того, кто облечен им по праву рождения?»
34
В каких только дарах небес не нуждается мудрый правитель! Он должен родиться от венценосцев; отличаться властным и величавым обликом, который внушает почтение придворным и действует на воображение народа, всегда жаждущего увидеть государя; постоянно быть ровным в обращении, чуждым колкой насмешливости или достаточно благоразумным, чтобы сдерживать свою склонность к ней; не позволять себе угроз и упреков, не поддаваться гневу и держать всех в повиновении.
Он должен обладать быстрым и проницательным умом; искренним и открытым сердцем, чья кажущаяся бесхитростность привлекала бы к нему друзей, слуг и союзников; умением быть сдержанным, скрытным, непроницаемым во всем, что касается его намерений и планов, серьезным и важным на людях, кратким, точным и полным достоинства в совете и во время бесед с послами других держав.
Он должен оказывать милости так, чтобы их считали истинными благодеяниями; правильно выбирать людей, достойных награды; раздавать должности и чины в соответствии с умом, талантами и характером соискателей; не делать ошибок при назначении министров и военачальников.
Он должен отличаться твердостью, постоянством и решительностью суждений, чтобы каждое его начинание могло предстать в самом лучшем и выгодном свете; прямотой и справедливостью, достойной подражания и столь неуклонной, что, вопреки собственным интересам, он будет становиться порою на сторону народа, союзников и даже противников; острой и безошибочной памятью, дабы не забывать нужд, лиц, имен и просьб подданных; многосторонностью, позволяющей думать не только о внешних сношениях, торговле, правилах государственной мудрости, политических целях, расширении границ, завоевании новых областей и постройке множества неприступных крепостей для обороны последних, но и о потребностях самого государства, о частностях его внутренней жизни, об искоренении ложной, подозрительной и враждебной трону ереси, если она распространена в стране, об очищении жестоких и богопротивных нравов, если они царят в его владениях, о преобразовании законов и обычаев, если они влекут за собой злоупотребления, о создании неусыпной полиции для удобства и безопасности горожан, о постройке великолепных зданий, придающих блеск и величие городам.
Он должен сурово карать низменные пороки, собственным примером способствовать торжеству благочестия и добродетели, защищать церковь, ее права и вольности, опекать подданных, как родных детей, постоянно стараться облегчать их участь, уменьшая подати и взимая их так, чтобы не разорять население.
Он должен быть талантливым полководцем, всегда бодрым, прилежным, трудолюбивым, повелевать несметными армиями, самолично командовать ими, сохранять хладнокровие в минуты опасности и щадить свою жизнь лишь ради спасения государства, ставя благо и славу его выше собственной безопасности. Он должен обладать неограниченной властью, которая не оставит места для происков, интриг, заговоров, сотрет неизмеримое расстояние, отделяющее порою вельмож от простолюдинов, сблизит их и равно приучит к повиновению; обширными познаниями, которые позволят ему смотреть на все собственными глазами, действовать без промедления и самостоятельно, чтобы его полководцы, даже находясь вдали от него, оставались лишь его генералами, а министры — только министрами; глубокой мудростью, которая поможет ему вовремя начинать войну, побеждать, умело пользоваться победой, заключать мир, нарушать его, а иной раз, смотря по обстоятельствам, навязывать его неприятелю; умением класть предел своему пылкому честолюбию и жажде завоеваний, находить, невзирая на тайных и явных врагов, досуг для игр, празднеств, зрелищ, покровительствовать искусствам и наукам, задумывать и осуществлять постройку великолепных зданий; высоким и могучим духом, который вселит в подданных любовь и почтение, в иноземцев — страх, превратит двор и все государство в одну семью, сплоченную вокруг ее главы и повергающую в трепет весь мир своим единством и согласием.
Все эти изумительные добродетели представляются мне неотъемлемыми признаками государя. Правда, они редко соединены в одном лице: для этого нужно слишком многое сразу — ум, сердце, внешность, характер. Вот почему я считаю, что монарх, совмещающий в себе перечисленные свойства, вполне заслуживает имя Великого.
Глава XI О человеке
1
Стоит ли возмущаться тем, что люди черствы, неблагодарны, несправедливы, надменны, себялюбивы и равнодушны к ближнему? Такими они родились, такова их природа, и не мириться с этим — все равно что негодовать, зачем камень падает, а пламя тянется вверх.
2
В одном отношении люди отличаются редким постоянством, отступая от него, лишь когда дело касается мелочей: меняется все — одежда, язык, манеры, понятия о приличии, порою даже вкусы, но человек всегда зол, неколебим в своих порочных наклонностях и равнодушен к добродетели.
3
Стоицизм{195} — это пустая игра ума, выдумка, столь же неосуществимая, как и государство Платона{196}. Стоики уверяют, будто можно смеяться над своей бедностью; быть равнодушным к обидам, неблагодарности, утрате житейских благ, потере родных и друзей; хладнокровно смотреть смерти в лицо, словно это — пустяк, не стоящий ни радости, ни скорби; противостоять как наслаждению, так и боли; чувствовать, как в тело вонзается железо, как его обжигает пламя, и не издать ни единого вздоха, не уронить ни одной слезы. Измыслив такой образец добродетели и постоянства, стоики соизволили наречь его мудрецом. Они не попытались исправить пороки, подмеченные ими в человеке, не обличили почти ни одной его слабости. Вместо того чтобы нарисовать картину его отталкивающих или смешных недостатков и тем самым способствовать его исправлению, они начертали пред ним недостижимый идеал совершенства и героизма и призвали его стремиться к невозможному. Этот мудрец, существующий лишь в их воображении, по самой природе своей стоит выше любых событий, любых горестей: самый мучительный приступ подагры, самые острые колики не вырвут у него ни единой жалобы; небо и земля могут рушиться — они не увлекут его в своем падении, он устоит и на развалинах вселенной. А между тем человек, существующий в действительности, выходит из себя, надсаживается от крика, отчаивается, сверкает глазами и задыхается, потеряв собаку или разбив фарфоровую безделушку.
4
Неуравновешенность духа, неровность характера, непостоянство сердца, неуверенность в поступках — все это слабости нашей человеческой натуры, но слабости различные: при всем их кажущемся сродстве наличие одной из них у человека не обязательно предполагает наличие остальных.
5
Трудно сказать, чего больше заслуживает нерешительность — жалости или презрения, и неизвестно, что опаснее — принять ошибочное решение или не принимать никакого.
6
Человек непостоянный являет собой не одного человека, а многих сразу: он становится иным с каждой новой прихотью, с каждым новым поступком; в данную минуту он уже не тот, кем был в предыдущую, а в следующую будет не тем, что сейчас, — он всегда предстает в новом облике. Не спрашивайте, каков его душевный склад, каково умонастроение; спрашивайте, сколько у него душевных складов, сколько разных умонастроений. Уж не обознались ли вы? Неужели тот, с кем вы заговорили, в самом деле Эвтикрат? Как он холоден с вами сегодня! А еще вчера он искал вашего общества, всячески старался вас обласкать, на зависть прочим его друзьям. Да узнал ли он вас? Напомните же ему, как вас зовут.
7
Меналк[55] спускается по лестнице, открывает дверь, собираясь выйти из дому, но тут же ее затворяет: он заметил, что на нем ночной колпак. Он оглядывает себя и видит, что выбрит лишь наполовину, что шпага у него висит на правом боку, чулки совсем сползли, а рубашка не заправлена в панталоны.
Он идет по улице и внезапно получает удар в живот или по лицу. Он долго не понимает, в чем дело, наконец открывает глаза и, опомнившись, видит перед собой оглоблю повозки или позади себя конец доски, которую несет на плече столяр. Однажды Меналк налетел на слепого, запутался у него в ногах, и оба упали навзничь в разные стороны. Несколько раз ему случилось оказаться на пути государя и загородить тому проход, причем он всегда спохватывался так поздно, что едва успевал прижаться к стене и дать дорогу.
Принимаясь что-нибудь искать, он сердится, кричит, горячится, зовет к себе всех слуг поочередно, жалуется, что всё у него кладут не на место и теряют; хотя перчатки у него на руках, он требует их, уподобляясь той женщине, которая долго не могла найти свою маску, забыв, что уже надела ее.
Он появляется в королевских апартаментах и проходит под люстрой, парик его зацепляется за нее и повисает в воздухе; придворные видят это и смеются. Меналк смотрит на них ж смеется громче всех, отыскивая глазами того, на ком нет парика, кто выставляет напоказ уши.
Вот он прогуливается по городу. Ему кажется, что он заблудился; он встревоженно осведомляется у прохожих, что это за улица; те называют ему как раз ту, на которой он живет; тогда он входит к себе в дом — и тотчас же выбегает обратно, полагая, что ошибся. Он выходит из Дворца правосудия, видит у подъезда карету, принимает ее за свою и садится в нее; кучер, уверенный, что везет хозяина, трогает и едет домой; Меналк вылезает, проходит через двор, поднимается по лестнице, через приемную и спальню попадает в кабинет. Здесь все ему знакомо, все привычно: он садится, отдыхает — он дома. Возвращается хозяин. Меналк встает ему навстречу, учтиво здоровается, просит садиться и начинает занимать гостя; он говорит, задумывается, опять говорит. Раздосадованный хозяин дома приходит в недоумение; Меналк удивлен не меньше, но не подает виду: он уверен, что имеет дело с докучным и праздным посетителем, который рано или поздно уйдет. В надежде на это он набирается терпения, и лишь к ночи ошибка кое-как разъясняется.
В другой раз, приехав с визитом к даме и вообразив затем, что не она принимает его, а он ее, Меналк располагается в ее кресле и отнюдь не собирается уходить; он находит, что эта особа не в меру затянула визит, и с нетерпением ждет, когда же она поднимется и оставит его в покое; но так как визиту не видно конца, а время позднее и Меналк проголодался, он просит даму отужинать с ним; та смеется — и так громко, что возвращает его к действительности.
Он женился днем, к вечеру забыл об этом и первую брачную ночь провел вне дома. Через несколько лет он потерял жену: она скончалась у него на руках, он присутствовал при ее погребении, а наутро, когда ему сказали, что завтрак подан, он спросил, доложено ли об этом его супруге и готова ли она выйти к столу.
Тот же Меналк, войдя в церковь и приняв слепого нищего, который прислонился к двери, за колонну, а его чашку для милостыни — за кропильницу, опустил туда руку и уже поднес пальцы ко лбу, как вдруг услышал, что колонна заговорила и громко молится за даятеля. Он прошел в глубь храма; ему показалось, что перед ним налой; он грузно опустился на колени; сооружение прогнулось под ним, упало на пол и попыталось закричать. Меналк с удивлением обнаружил, что придавил коленями ноги какого-то маленького человечка, налег всем телом ему на спину, обхватил руками его плечи и, скрестив вытянутые пальцы, сдавил ему нос и заткнул рот. Он сконфуженно удалился и преклонил колени в другом месте. Там, решив помолиться, он вытащил молитвенник и увидел, что это ночная туфля, которую он сунул в карман, выходя из дому. Не успел он покинуть церковь, как его нагнал ливрейный лакей и с улыбкой спросил, не унес ли он туфлю его преосвященства. Меналк показал ему свою и заявил: «Других у меня нет», — тем не менее, обшарив себя, извлек туфлю епископа ***ского, которого он перед тем навестил; тот был болен, грелся у камина, и Меналк, уходя, поднял его туфлю с полу, приняв ее за свою упавшую перчатку. Теперь, уже без епископской туфли, он отправился восвояси.
Как-то раз он проиграл в карты все содержимое своего кошелька. Намереваясь продолжать игру, он поднялся к себе в кабинет, открыл шкаф, достал шкатулку, взял оттуда сколько хотел денег и, как ему показалось, поставил ее на место. Но едва он запер шкаф, как оттуда раздался лай. Удивленный таким чудом, Меналк вторично открыл дверцу и разразился хохотом, увидев, что запер не шкатулку, а свою собаку.
За игрой в триктрак он просит пить, ему приносят воды. Тут приходит его черед метать. Он берет рожок в левую руку, стакан — в правую и, мучимый жаждой, отправляет в рот кости, чуть-чуть не проглотив заодно и рожок, выплескивает стакан на доску и обливает того, с кем играет.
Сидя в комнате у близкого знакомого, он плюет на постель и бросает свою шляпу на пол, не замечая несообразности своего поведения. Катаясь по реке, он спрашивает, который час; ему подают часы; он берет их и тут же, не думая больше ни о времени, ни о часах, швыряет их в реку, словно они ему мешают.
Сочиняя длинное письмо, он несколько раз подряд посыпает написанное песком, а песок стряхивает в чернильницу. Но это еще не все: он пишет второе письмо и, запечатав оба послания, путает адреса. Некий герцог и пэр получает один из двух конвертов, вскрывает его и читает: «Мэтр Оливье, по получении сего потрудитесь немедля доставить мне потребный запас сена…» Другой конверт получает арендатор Меналка. Он вскрывает его и велит прочесть себе письмо. Оно гласит: «Монсеньер, смиренно и всепокорнейше получив приказ, который вашей светлости благоугодно было…» Меналк пишет ночью еще одно письмо и, запечатывая его, нечаянно гасит свечу, после чего удивляется, почему он ничего не видит, и долго не может сообразить, что же, собственно говоря, произошло.
Он спускается по лестнице Лувра, кто-то идет ему навстречу. Меналк восклицает: «Вас-то мне и нужно!» — берет человека под руку, увлекает его вниз, проводит через несколько дворов, входит с ним в разные залы, выходит из них; наконец он смотрит на того, кого тащил за собой добрых четверть часа, удивляется, видя подле себя человека, с которым ему не о чем говорить, отпускает его руку и поворачивает в другую сторону.
Иногда он задает вам вопрос и, прежде чем вы соберетесь ответить, уже уходит. В другой раз он на бегу спрашивает вас о здоровье вашего отца и, когда вы говорите, что тот очень плох, уже издали кричит вам, что ему приятно это слышать. Вы в третий раз попадаетесь ему на пути. Он уверяет, что счастлив видеть вас, что заходил к вам кое о чем побеседовать, потом смотрит на вашу Руку, восклицает: «Какой прелестный рубин! Это балас?» — поворачивается и идет своей дорогой. Вот оно — то важное дело, о котором он хотел потолковать с вами!
Приехав в деревню, он объясняет вам, как мудро вы поступили, что не отправились вместе с двором в Фонтенебло, а проведете осень в своих владениях; затем говорит с другими о других вещах и, возвратившись к вам, объявляет: «Вы прекрасно провели бы время в Фонтенебло — там отличная охота». После этого он начинает о чем-то рассказывать, забывает кончить, тихонько хихикает, разражается пришедшей ему на ум тирадой, отвечает на собственные мысли, вполголоса напевает, насвистывает, разваливается в кресле, издает жалобный вздох, зевает… Ему кажется, что он находится в одиночестве.
Когда он у кого-нибудь обедает, на его тарелке постепенно накапливается целая гора хлеба, равно как ножей и вилок. Соседи его в отчаянии, ибо он быстро лишает их возможности всем этим пользоваться. Недавно в застольный обиход ввели для удобства большую разливательную ложку. Меналк берет ее, погружает в супницу, наполняет, подносит ко рту и с изумлением видит, как ее содержимое разливается по его рубашке и камзолу. Во время обеда он забывает пить, а если, вспомнив об этом, находит, что ему налили слишком много вина, то выплескивает половину в лицо соседу справа, спокойно допивает остаток и не понимает, почему все хохочут, когда он выливает лишнее.
Однажды он захворал, его уложили в постель, друзья приехали его навестить; в спальне вокруг его кровати сидят мужчины и женщины; они беседуют с ним, а он в их присутствии откидывает одеяло и плюет на простыни.
Его ведут осматривать монастырь картезианцев, украшенный картинами превосходного художника; монах, который объясняет их содержание, заводит речь о святом Бруно, долго распространяется об истории с каноником{197} и показывает картину, ее изображающую. Меналк во время рассказа унесся мыслями далеко за стены монастыря; наконец он спохватывается и спрашивает инока, кто же был осужден на вечные муки — каноник или святой Бруно.
Случай сталкивает его с молодой вдовой. Меналк говорит с нею о ее супруге, осведомляется, от чего тот умер; разговор растравляет горе женщины, она разражается слезами, рыдая, долго рассказывает о недуге мужа, припоминает день накануне болезни, когда покойный чувствовал себя еще хорошо, и описывает его кончину; Меналк слушает с явным вниманием и вдруг спрашивает: «Сударыня, да разве он был у вас только один?»
Вот он целое утро торопит поваров, встает из-за стола, не дождавшись десерта, прощается с домочадцами и уходит. Днем его видят в разных местах города, но только не там, где у него было назначено неотложное свидание, ради которого он прервал обед и вышел из дому пешком, боясь, как бы карету не подали слишком поздно.
Слышите, как он кричит и бранится, сердясь на кого-то из слуг? Он удивляется, куда тот девался. «Где он может быть? — спрашивает Меналк. — Чем он занят? Что с ним? Если он сейчас же не явится, я его уволю». Приходит лакей. Меналк грозно спрашивает, где он был; тот отвечает, что был там, куда его послал хозяин, и обстоятельно отчитывается в исполненном поручении.
Порой Меналк кажется вам совсем не таким, каков он на самом деле: глупым — ибо он почти не слушает, а говорит еще меньше; сумасшедшим — ибо он не только громко разговаривает сам с собой, но вдобавок еще гримасничает и непроизвольно подергивает головой; грубым и высокомерным — ибо вы здороваетесь с ним, а он даже не глядит на вас, а если и глядит, то не отвечает на приветствие; неучтивым — ибо он рассуждает о банкротстве в присутствии членов семьи, отмеченной этим позорным пятном, о казнях и эшафоте — с человеком, чей отец сложил там голову, о низком происхождении — с богачами, выдающими себя за дворян. Сверх того, он воспитывает при себе своего побочного отпрыска под видом слуги, пытается скрыть это от жены и детей — и тем не менее сто раз на дню, сам того не замечая, зовет его сыном. Он решил женить законного сына на дочери финансиста и, вспоминая о своей родовитости и своих предках, то и дело твердит, что Меналки никогда не заключали неравных браков. Наконец, в обществе он всегда рассеян и невнимателен к предмету разговора. Он думает и говорит одновременно, но то, о чем он говорит, редко соответствует тому, о чем он думает, поэтому он не умеет рассуждать связно и последовательно: там, где он заявляет «нет», часто следовало бы сказать «да», а где говорит «да», там — не сомневайтесь в этом — он хочет сказать «нет». Давая столь уместные ответы, он отнюдь не спит — глаза у него широко раскрыты, но это ему не помогает: он не замечает ни собеседника, ни окружающих, ни кого бы то ни было. Даже когда он особенно общителен и внимателен к вам, вы вряд ли вытянете из него что-нибудь, кроме: «Да, действительно», «Верно», «Отлично!», «Вы не шутите?», «Вот оно как!», «Думаю, что да», «О, боже!» — и прочих немногословных восклицаний, причем даже их он употребляет не к месту. Мыслями он всегда далеко от тех, кто с ним рядом. Он с серьезным видом говорит своему лакею «сударь», а другу — «эй, малый», именует принца крови «вашим преподобием», а иезуита — «вашим высочеством».
Вот он у обедни. Священник чихает. Меналк говорит ему: «Бог в помощь!» Вот он приходит к судье. Тот, человек серьезного нрава, почтенного возраста и высокого положения, расспрашивает его о каком-то происшествии и осведомляется, так ли все было; Меналк отвечает: «Да, мадемуазель».
Как-то он возвращается в город из поместья. Его ливрейные лакеи решают ограбить хозяина, им это удается: они спрыгивают с запяток, приставляют ему к горлу факел вместо ножа и требуют кошелек; Меналк подчиняется. Прибыв домой, он рассказывает о случившемся друзьям; те расспрашивают его о подробностях; он отвечает: «Узнайте у моих людей — они были при этом».
8
Неучтивость — не особый порок, а следствие многих пороков: пустого тщеславия, отсутствия чувства долга, лености, глупости, рассеянности, высокомерия, зависти. Будучи лишь внешним проявлением нашего характера, она не делается от этого менее отвратительной, так как всегда остается недостатком явным и очевидным. Правда, она не всегда одинаково оскорбляет нас — все зависит от того, чем она вызвана.
9
Сказать о человеке, который вспыльчив, непостоянен, сварлив, угрюм, вздорен, капризен: «Такой уж у него нрав», — значит не извинить его, как полагают многие, а необдуманно объявить эти большие недостатки неисправимыми.
Люди слишком беззаботно относятся к тому, что называют своим нравом; им следовало бы помнить, что быть добрыми недостаточно — они должны еще казаться добрыми, коль скоро стремятся быть приветливыми, дружелюбными, благожелательными, короче говоря — людьми. Никто не требует от лукавцев мягкости и гибкости: у них и без того довольно этих качеств, которые служат приманкой для простаков и помогают в уловках; но хочется, чтобы люди добросердечные были всегда уступчивы, ровны, отзывчивы и чтобы хоть изредка можно было усомниться в бесспорности истины, гласящей: злые вредят, а добрые мучают.
10
Люди в большинстве случаев сперва гневаются, потом наносят обиду; некоторые же поступают наоборот: сначала оскорбляют, потом сердятся. Удивление, в которое вас это повергает, не оставляет места для злопамятства.
11
Люди слишком мало дорожат случаем доставить радость ближнему; порой кажется, что они занимают должности лишь для того, чтобы иметь возможность оказывать услуги, но не пользоваться ею; первое, что приходит им в голову, — отказ; согласие они дают, лишь хорошенько подумав.
12
Точно взвесьте, чего вы можете ждать от людей в целом и от каждого из них в отдельности, и смело вступайте в свет.
13
Если бедность — мать преступлений, то недалекий ум — их отец.
14
Человек неглупый редко бывает до конца бесчестным: прямой и острый ум рано или поздно выводит его на стезю самообуздания, порядочности, добродетели. Тому, кто упорствует в дурных поступках, равно как в заблуждениях, не хватает здравого смысла и проницательности; такого не исправишь сатирой: она обличит его недостатки, но сам он не узнает себя в ней, как глухой не расслышит обидных слов. Для блага честных людей и в интересах общества желательно, чтобы негодяй был не вовсе лишен ума.
15
Бывают пороки, которыми мы никому не обязаны, ибо они заложены в нас от природы и усугублены привычкой; бывают и такие, которые мы приобретаем, хотя они нам не присущи. Иной человек родится приветливым, отзывчивым, услужливым, но под воздействием тех, с кем живет и от кого зависит, скоро изменяет своим склонностям и даже своей натуре: он делается угрюмым, желчным, неузнаваемым, вечно пребывает в несвойственном ему расположении духа и в конце концов сам удивляется, когда он успел стать таким черствым и неблагожелательным.
16
Многие недоумевают, почему люди не живут единым народом, не говорят на одном языке, не подчиняются общим законам, не придерживаются одинаковых обычаев и веры; я же, памятуя о разнообразии умов, вкусов и чувств, удивляюсь, когда вижу, что семь или восемь человек живут под одной крышей, в одних и тех же стенах и составляют одну семью.
17
Бывают странные отцы, до самой смерти занятые лишь одним: дать детям основания не слишком скорбеть о ней.
18
Душевный склад, нравы и поведение большинства людей отличаются удивительной непоследовательностью. Бывает, что человек всю жизнь угрюм, вспыльчив, скуп, угодлив, принижен, старателен, корыстен, хотя родился веселым, добродушным, ленивым, щедрым, гордым, смелым и чуждым всякой низости: житейские невзгоды, положение, в котором он находился, и неотвратимый закон необходимости взяли верх над его природными свойствами и решительно изменили их. В глубине души подобный человек и сам не знает, что он такое: слишком много было обстоятельств, которые переделали, изменили, исказили его истинный облик. Он совсем не таков, каков есть и каким кажется.
19
Жизнь коротка и безотрадна: она вся уходит на ожидание. Мы откладываем отдых и радости на будущее, часто на то время, когда уже утрачиваем лучшее, что имеем, — здоровье и молодость. Это время наконец наступает, но и тогда мы не перестаем ждать исполнения наших желаний; мы ждем и тогда, когда приходит недуг, сводящий нас в могилу. Если бы даже нам удалось исцелиться, мы снова принялись бы ждать.
20
Желая чего-нибудь, мы безоговорочно сдаемся на милость того, от кого надеемся это получить; но стоит нам увериться, что отказа не будет, как мы начинаем раздумывать, вступаем в переговоры и ставим условия.
21
Мы привыкли к тому, что человек всегда несчастлив, что любое благо неизбежно покупается ценой многих жертв; поэтому все, что дается легко, кажется нам подозрительным: нам трудно допустить, что дело, которое стоило нам так мало усилий, способно принести выгоду и что, правильно рассчитав, можно так просто достигнуть поставленной цели. Люди убеждены, что заслуживают успеха, но редко надеются на него.
22
Человек, который утверждает, что не родился счастливым, мог бы, по крайней мере, радоваться благополучию друзей или родных. Зависть отнимает у него даже эту радость.
23
Что бы я ни говорил выше, тот, кто недоволен жизнью, может быть, и не прав. Люди, по-видимому, рождены для неудач, горя, бедности, и мало кому удается их избежать; а раз на человека могут обрушиться любые невзгоды, он должен быть к ним готов.
24
К людям так трудно подступиться в делах, они так несговорчивы во всем, что сулит малейшую выгоду, так жаждут обмануть и не вдаться в обман, так дорого ценят свое достояние и так дешево — достояние ближнего, что я, признаться, не понимаю, как и каким образом удается им заключать браки, контракты, сделки, мир, перемирие, договоры и союзы.
25
У некоторых людей величие подменяется надменностью, твердость — бесчеловечностью, ум — плутовством.
Плуты склонны думать, что все остальные подобны им; они не вдаются в обман, но и сами не обманывают других подолгу.
Я охотно бы предпочел быть и слыть глупцом, чем сделаться плутом.
Никто не обманывает с благими намерениями: плут всегда усугубляет ложь коварством.
26
Водись на свете поменьше простаков, было бы меньше и тех, кого называют хитрецами или ловкачами, кто чванится умением обманывать и всю жизнь получает за это награды. Разве в противном случае гордился бы собою и своим промыслом такой человек, как Эрофил, чьи плутни, неверность слову и двоедушие всем известны, а между тем не только не принесли ему вреда, но, напротив, доставили благосклонность и милости тех, кому он либо оказал плохую услугу, либо не оказал никакой?
27
Уста прохожих на улицах и площадях больших городов только и произносят такие слова, как «вызов в суд», «опись имущества», «допрос», «долговая расписка», «протест векселя». Неужто в мире нет хоть капли справедливости? Неужто он населен людьми, которые хладнокровно добиваются того, чего им никто не должен, и упрямо отказываются возвращать то, что должны сами?
Гербовая бумага — позор человечества: она изобретена, дабы напоминать людям, что они дали обещание, и уличать их, когда они отрицают это.
Какой мир воцарился бы в самых больших городах, если бы людей не снедали страсти, корысть, несправедливость! Заботы об истинных нуждах и пропитании не доставляют нам и трети наших хлопот.
28
Ничто так не помогает рассудительному человеку терпеливо сносить огорчения, чинимые ему родными и друзьями, как размышления о порочности человечества и сознание того, насколько трудно людям быть верными, постоянными, великодушными и ставить дружбу выше собственной выгоды. Понимая, как мало им дано, он не станет требовать от них умения проходить сквозь стены, летать по воздуху и соблюдать справедливость. Он может ненавидеть весь род людской, столь чуждый добродетели, но он прощает отдельным людям и, руководствуясь возвышенными мотивами, даже любит их, хотя сам меньше всего стремится заслужить подобную снисходительность.
29
Есть блага, которых мы жаждем так пылко, что одна мысль о них приводит нас в восторг и упоение; однако, добившись их, мы относимся к ним гораздо спокойнее, чем можно было ожидать, и часто не столько наслаждаемся ими, сколько жаждем новых, еще больших благ.
30
Бывают ужасные несчастья и жестокие неудачи, о которых страшно помыслить: мы впадаем в отчаяние, стоит нам только их себе представить; однако, когда они нас постигают, мы находим в себе такие силы, каких не подозревали, грудью встречаем невзгоду и оказываемся более стойкими, чем сами могли предположить.
31
Порою получить по наследству хороший дом, стать владельцем чистокровной лошади, породистой собаки, ковра или часов достаточно для того, чтобы большое горе смягчилось, а большая утрата стала менее ощутимой.
32
Предположив, что люди могли бы вкушать бессмертие здесь, на земле, я сразу же задаюсь вопросом, сумеют ли они в таком случае устроить свою жизнь разумнее, чем сейчас, когда они смертны.
33
Несчастье трудно переносить, счастье — страшно утратить. Одно стоит другого.
34
Жизнь — это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут.
35
Ирина{198}, не считаясь с расходами, приезжает в Эпидавр и отправляется в храм Эскулапа посоветоваться с оракулом о своих недугах. Первым делом она жалуется на изнеможение и усталость; бог отвечает, что это объясняется длительным путешествием. Она уверяет, что по вечерам у нее пропадает аппетит; бог рекомендует ей быть умеренной за обедом. Она добавляет, что подвержена бессоннице; бог предписывает ей спать только по ночам. Ирина спрашивает, отчего она полнеет и как помочь этой беде; оракул отвечает, что ей следует вставать с постели до полудня и почаще пользоваться для передвижения собственными ногами. Она говорит, что ей вредно вино и что у нее бывает несварение желудка; оракул велит ей пить воду и соблюдать диету. «У меня портится зрение», — печалится Ирина. «Носи очки», — советует Эскулап» «Я слабею, у меня уже нет ни былого здоровья, ни сил», — продолжает она. «Ты просто стареешь», — объясняет бог. «Каким же путем избавиться от такой напасти?» — «Самым простым, Ирина, — умереть, как это сделали твоя мать и бабка». — «Что за совет ты мне даешь, о сын Аполлона! — восклицает Ирина. — Неужели это и есть твоя премудрость, которую так превозносят люди и так чтит весь мир? Разве ты открыл мне что-нибудь новое и необычайное? Разве я сама не знала всего, чему ты меня учишь?» — «Почему же ты не воспользовалась этим, вместо того чтобы ехать ко мне издалека и сокращать свои дни долгой дорогой?» — возражает бог.
36
Кончина наступает однажды, а ждем мы ее всю жизнь: боязнь смерти мучительней, чем сама смерть.
37
Тревога, страх, уныние не избавляют от смерти, а, напротив, ускоряют ее; тем не менее я полагаю, что излишняя веселость тоже не к лицу людям, поскольку они смертны.
38
Неизбежность смерти отчасти смягчается тем, что мы не знаем, когда она настигнет нас; в этой неопределенности есть нечто от бесконечности и того, что мы называем вечностью.
39
Вздыхая о цветущей юности, ушедшей и невозвратимой, мы должны помнить, что скоро наступит дряхлость и тогда придется сожалеть о зрелом возрасте, из которого мы еще не вышли и который недостаточно ценим.
40
Мы боимся старости, хотя не уверены, что доживем до нее.
41
Мы надеемся достигнуть старости, но боимся состариться. Это значит, что мы любим жизнь и страшимся смерти.
42
Уступить природе и поддаться страху смерти гораздо легче, чем вооружиться доводами рассудка, вступить в борьбу с собою и ценой непрерывных усилий преодолеть этот страх.
43
Если бы одни из нас умирали, а другие нет, умирать было бы крайне досадно.
44
Жизнь отделена от смерти длительным промежутком болезни для того, по-видимому, чтобы смерть казалась избавлением и тем, кто умирает, и тем, кто остается.
45
С точки зрения милосердия смерть хороша тем, что кладет конец старости.
Смерть, упреждающая одряхление, более своевременна, чем смерть, завершающая его.
46
Сожаление о неразумно растраченном времени, которому предаются люди, не всегда помогает им разумно употребить его остаток.
47
Жизнь есть сон; старик — это человек, который спал дольше других: он начинает пробуждаться лишь тогда, когда приходит время умирать. Если он мысленно возвращается при этом к прошедшим годам, то нередко оказывается, что они неотличимы друг от друга, ибо не были ознаменованы ни добрыми делами, ни похвальными поступками, которые позволили бы ему ощутить всю длительность прожитого: он просто видел смутный, однообразный, бессвязный сон. Тем не менее, как всякий, кто просыпается, он чувствует, что спал долго.
48
В жизни человека всего три события: рождение, жизнь, смерть. Он не чувствует, как родится, страдает, умирая, и забывает жить.
49
Есть возраст, не оставляющий в памяти никаких следов, возраст, когда разум еще не пробудился и человек, подобно животному, живет инстинктом. За ним следует другой, когда разум зреет и развивается, когда он мог бы указывать нам дорогу, если бы его не затемняли и как бы не сводили на нет врожденные пороки и многочисленные страсти, непрерывно сменяющие друг друга и постепенно подводящие нас к третьему и последнему возрасту. В эту пору разум, вошедший уже в полную силу, должен был бы служить нам особенно плодотворно, но он быстро охлаждается и притупляется годами, недугами и горестями, а затем и вовсе ослабевает, подточенный одряхлением тела. Увы, к этим трем возрастам и сводится вся человеческая жизнь.
50
Дети дерзки, привередливы, вспыльчивы, завистливы, любопытны, своекорыстны, ленивы, легкомысленны, трусливы, невоздержны, лживы и скрытны; они легко разражаются смехом или слезами, по пустякам предаются неумеренной радости или горькой печали, не выносят боли и любят ее причинять, — они уже люди.
51
У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас, взрослых, они умеют пользоваться настоящим.
52
На первый взгляд у всех детей характер одинаковый, все они ведут себя на один лад, и лишь пристальное внимание помогает уловить разницу между ними. Эта разница увеличивается по мере возмужания разума, ибо вместе с ним развиваются страсти и пороки — единственное, что делает людей столь различными между собой и столь противоречивыми.
53
Дети, в отличие от стариков, наделены воображением и памятью и на редкость умело пользуются этими свойствами в своих играх и развлечениях: благодаря им они повторяют то, что слышали, перенимают то, что видели, и научаются всем ремеслам, либо прибегая к ним в своих каждодневных забавах, либо подражая телодвижениям и жестам ремесленников; благодаря им они то присутствуют на пирах и вволю угощаются, то переносятся во дворцы и очарованные сады, то, даже играя в одиночку, видят себя разряженными в богатые наряды и окруженными пышной свитой, то предводительствуют армиями, дают сражения и упиваются победами, то беседуют с королями и самыми могущественными вельможами, то сами становятся государями, управляют подданными и распоряжаются сокровищами — листьями и песком; благодаря им они владеют искусством, которое утрачивают в дальнейшем, — умеют быть вершителями своей судьбы и хозяевами собственного счастья.
54
Нет такого внешнего изъяна, такого телесного несовершенства, которого не подметили бы дети: они умеют обнаружить его с первого взгляда и назвать таким словом, что лучше и не скажешь; когда же они становятся взрослыми, у них появляются те самые недостатки, над которыми они когда-то потешались.
У детей одна забота — выискивать слабое место у своих наставников, а равно и у всех, кому они должны подчиняться; стоит детям его обнаружить, как они берут верх над взрослыми и пере-стают с ними считаться. Лишившись по какой-то причине своего превосходства над детьми, мы по той же причине уже не можем обрести его вновь.
55
Лень, нерадивость, праздность, эти столь присущие младенчеству пороки, не сказываются у детей в играх: здесь они проворны, старательны, привержены к порядку и правилам, нетерпимы к ошибкам товарищей и готовы подолгу повторять одно и то же, если оно им не удается, — несомненное предзнаменование того, что в будущем они, возможно, станут пренебрегать долгом, но всегда сделают все ради наслаждения.
56
Ребенку все представляется огромным — дворцы, сады, здания, утварь, люди, животные; взрослому столь же огромными кажутся житейские блага и — смею добавить — по той же причине: он сам невелик.
57
Дети в общении между собою начинают с народоправства, когда все они сами себе господа, но, что вполне естественно, недолго придерживаются его и вскоре переходят к единовластию. Кто-нибудь из них выделяется, то ли благодаря живости ума, то ли по причине телесного превосходства, то ли из-за большей осведомленности в различных играх и правилах, на которых эти игры основаны; другие подчиняются ему; так рождается самодержавная форма правления, где все зиждется на прихоти одного.
58
Можно ли сомневаться, что дети наделены способностью мыслить, оценивать, последовательно рассуждать? Правда, проявляется она в мелочах, но ведь это дети и у них еще мало опыта; правда, выражается она неумело, но тут виноваты не дети, а их родители и наставники.
59
Взыскивать с детей за проступки, которых они не совершили, или хотя бы строго наказывать их за мелкие провинности — значит лишиться всякого их доверия и уважения. Они точно и лучше, чем взрослые, знают, что заслужили, и почти всегда заслуживают того, чего боятся. Им известно, виновны ли они в том, за что их карают, и несоразмерное наказание портит их не меньше, чем безнаказанность.
60
Люди живут слишком недолго, чтобы извлечь урок из собственных ошибок. Мы совершаем их в течение всей жизни и достигаем такой ценой лишь одного — исправляемся за минуту до смерти.
Ничто так не поднимает дух, как сознание избегнутого промаха.
61
Признаваться в своих грехах трудно, мы стремимся скрыть их и свалить вину на других: вот почему мы предпочитаем духовного наставника исповеднику.
62
Ошибки глупцов порою так разительны, их так трудно предвидеть, что они ставят мудрецов в тупик и полезны лишь тем, кто их совершает.
63
Предвзятость низводит самого великого человека до уровня самого ограниченного простолюдина.
64
Из тщеславия или ради приличия мы ведем себя так же и совершаем те же поступки, что и повинуясь склонности или чувству долга. Недавно в Париже один человек умер от недуга, которым заразился, ухаживая за нелюбимой женой во время ее болезни.
65
В глубине души люди желают, чтобы их уважали, но тщательно скрывают это свое желание, ибо хотят слыть добродетельными, а добиваться за добродетель иной награды (я имею в виду уважение и похвалу), чем сама добродетель, — значит признать, что вы не добродетельны, а тщеславны, ибо стремитесь снискать уважение и похвалы. Люди весьма тщеславны, но очень не любят, когда их считают тщеславными.
66
Человек тщеславный равно получает удовольствие, говоря о себе как хорошее, так и дурное; человек скромный просто не говорит о себе.
Смешная сторона тщеславия и вся постыдность этого порока полнее всего проявляются в том, что его боятся обнаружить и обычно прячут под личиной противоположных достоинств.
Ложная скромность — самая утонченная уловка тщеславия. С ее помощью человек тщеславный кажется нетщеславным и завоевывает себе всеобщее уважение, хотя его мнимая добродетель составляет противоположность главному пороку, свойственному его характеру; следовательно, это ложь. Ложное чувство собственного достоинства — вот камень преткновения для тщеславия. Оно побуждает нас добиваться уважения за свойства, действительно присущие нам, но неблаговидные и недостойные того, чтобы выставлять их напоказ; следовательно, это ошибка.
67
Говоря о том, что их затрагивает, люди признаются только в своих самых незначительных недостатках, да еще в таких, которые предполагают наличие выдающихся талантов и больших достоинств. Например, жалуясь на слабую память, мы тем самым даем понять, что с нас довольно нашей рассудительности и понятливости; мы принимаем упреки в рассеянности и мечтательности, ибо это наводит на мысль об уме; мы не отрицаем, что отличаемся неловкостью и не умеем работать руками, ибо утешаемся тем, что отсутствие этих маловажных способностей восполняется у нас умственной и духовной незаурядностью, о которой знают все; мы признаем, что ленивы, но делаем это в таких выражениях, которые свидетельствуют о бескорыстии и отсутствии честолюбия; мы не краснеем за нашу неопрятность, потому что небрежность в мелочах равнозначна приверженности к вещам важным и существенным. Человек военный, рассказывая, как однажды, не в свой черед и без всякого на то приказа, он очутился в траншее или в ином опасном месте, объясняет это излишним рвением или любопытством и не забывает прибавить, что его генерал сделал ему за это выговор. Точно так же человек сильного ума, даже истинный гений, тот, кто от рождения наделен такой мудростью, которую другие безуспешно тщатся приобрести с годами; чей дух закален испытаниями; кто легко несет бремя многочисленных, тяжких, разнообразных, трудных и важных забот; чьи дальновидность и проницательность успешно противостоят любому повороту событий; кто, отнюдь не изучив всего, что сочинено об искусстве управления и политике, относится тем не менее к числу великих мужей, созданных для власти, мужей, дела которых послужили источником вышеупомянутых сочинений; кто, творя великое, не имеет времени читать о приятном и забавном, но не упускает случая лишний раз, смею так выразиться, перечитать и перелистать свою жизнь и деяния, — даже такой человек способен заявить, не умаляя уважения к себе, что он никогда не держал в руках книги и никогда ничего не читает.
68
Люди нередко пытаются скрыть или преуменьшить свои слабости тем, что откровенно признаются в них. Один говорит: «Я невежда», — и в самом деле ничего не знает; другой жалуется: «Я стар», — и ему действительно седьмой десяток; третий заявляет: «Я не богат», — он и вправду беден.
69
Считать скромностью то внутреннее чувство, которое умаляет человека в собственных глазах и, представляя собой неземную добродетель, называется смирением, — значит вовсе отрицать существование скромности или принимать за нее нечто совершенно иное. Человек от природы придерживается самого высокого мнения о своей особе, гордится собой и хорошо думает только о себе; скромность его состоит лишь в том, что никто от этого не страдает. Она — чисто внешнее качество, которое держит в узде его взгляды, жесты, слова, тон и принуждает его хотя бы для виду обходиться с окружающими так, как будто он и в самом деле считается с ними.
70
Мир населен людьми, которые, по привычке сравнивая себя с окружающими, всегда отдают предпочтение себе и поступают соответственным образом.
71
Вы говорите, что надобно быть скромным; человек благородной души ничего большего и не требует. Только сделайте при этом так, чтобы люди не притесняли тех, кто уступает из скромности, не сокрушали тех, кто поддается.
Говорят также: «Одеваться следует скромно». Личности выдающиеся ничего другого и не желают, но свет жаждет прикрас, и ему их дают; он алчет пышности, и ее ему являют. Есть люди, которые уважают лишь того, у кого тонкое белье и платье из дорогой ткани; не всякий откажется добиться уважения такой ценой. Бывают места, где нужно уметь себя показать: вас впустят или не впустят туда в зависимости от того, широк или узок золотой позумент на вашем камзоле.
Жак Калло
Книжная лавка в дворцовой галерее» (офорт)
72
Тщеславие и чрезмерное самомнение вынуждают нас подозревать окружающих в высокомерном к нам отношении, что порою верно, а порою — нет. Человеку скромному такая щепетильность чужда.
73
Как необходимо подавлять в себе тщеславие, которое внушает нам, будто все взирают на нас с удивлением и почтительностью, говорят меж собой лишь о наших заслугах и постоянно хвалят нас, так нужно и обладать известной уверенностью в себе, запрещающей подозревать людей в том, что, перешептываясь, они обязательно злословят о нас, а смеясь — потешаются лишь над нами.
74
Почему Алкипп здоровается сегодня со мной, улыбается мне и, боясь упустить меня, выпрыгивает из кареты? Я не богат, иду пешком — было бы естественно, если бы он меня не заметил. Не потому ли он так внимателен ко мне, что я видел, как он ехал в одном экипаже с вельможей?
75
Мы так полны собой, что всё относим к нашей особе. Мы любим, когда люди, даже нам незнакомые, разглядывают нас, показывают на нас, здороваются с нами. Если они этого не делают, они гордецы: мы ведь хотим, чтобы каждый сразу угадывал, кто мы такие.
76
Мы ищем счастья вне нас, во мнении людей, которых считаем льстивыми, неискренними, несправедливыми, преисполненными зависти, капризов, предубеждений. Какая нелепость!
77
Принято считать, что смеяться можно лишь над тем, что смешно; однако встречаются люди, которые смеются над чем угодно. Если вы глупы и опрометчивы, если вы совершаете у них на глазах ложный шаг, они смеются над вами; если вы умны, говорите лишь разумные вещи и выражаете их подобающим образом, эти люди все равно смеются.
78
Те, кто с помощью силы и несправедливости отнимает наше достояние и посредством клеветы лишает нас чести, несомненно, питают к нам ненависть, но это еще не значит, что они окончательно перестали нас уважать; поэтому не исключено, что мы вновь проявим к ним добрые чувства и в один прекрасный день вернем им наше расположение. Напротив, насмешку невозможно простить, ибо она с особенной язвительностью выражает оскорбительное презрение, разрушает последнее прибежище человека — уважение к себе, делает его смешным в собственных глазах, убеждает в заклятой вражде насмешника к нему и тем самым обязывает быть непримиримым.
С какой чудовищной быстротой поддаемся мы нашей склонности осмеивать, чернить и презирать окружающих и в то же время гневаться на тех, кто осмеивает, чернит и презирает нас самих!
79
Здоровье и богатство, избавляя человека от горького опыта, делают его равнодушным к себе подобным; люди же, сами удрученные горестями, гораздо сострадательнее к несчастьям ближнего.
80
Празднества, зрелища, музыка, по-видимому, сообщают людям высокой души большую отзывчивость к невзгодам ближних и друзей.
81
Благородный человек выше обид, несправедливости, горя, насмешек; он был бы неуязвим, будь он чужд состраданию.
82
Перед лицом иных несчастий как-то стыдно быть счастливым.
83
Мы быстро подмечаем в себе малейшие достоинства и медленно обнаруживаем недостатки. Человек никогда не забудет, что у него красивые брови, изящные ногти, но он почти не помнит, что крив на один глаз, и вовсе не понимает, что лишен ума.
Аргирия снимает перчатки и показывает хорошенькую ручку; она не преминет приоткрыть башмачок, который наводит на мысль о маленькой ножке; она смеется и над вещами забавными, и над вещами серьезными, чтобы щегольнуть зубками; она не прячет ушки под парик — они у нее прелестны; но она никогда не танцует, ибо недовольна своей талией — она у нее слишком полна. Она блюдет свою выгоду во всем, кроме одного: любит поговорить, хотя не одарена умом.
84
Люди почти ни во что не ставят добродетели и боготворят совершенства тела и ума. Тот, кто, невозмутимо и ни на минуту не сомневаясь в своей скромности, скажет вам о себе, что он добр, постоянен, искренен, верен, справедлив и не чужд благодарности, не дерзнет заявить, что у него острый ум, красивые зубы и нежная кожа: это было бы чересчур.
Впрочем, две добродетели — смелость и щедрость — приводят всех в восхищение, ибо ради них мы забываем о жизни и деньгах — двух вещах, которыми весьма дорожим; вот почему никто не назовет себя вслух смелым или щедрым.
Никто, в особенности без должных к тому оснований, не скажет, что он наделен красотой, великодушием, благородством: мы настолько высоко ценим эти качества, что, приписывая их себе, не скажем об этом вслух.
85
Как ни похожи друг на друга зависть и соперничество, между ними лежит та же пропасть, которая отделяет порок от добродетели.
Соперничество и зависть направлены на один и тот же предмет — имущество и достоинства ближнего, с той, однако, разницей, что первое — это обдуманное, смелое, откровенное стремление, которое оплодотворяет душу, помогает ей извлечь урок из великих примеров и нередко возносит ее выше того, чем она восхищается; вторая же, напротив, есть безудержный недобрый порыв и как бы невольное признание чужого превосходства. Она доводит нас до того, что мы отрицаем всякие достоинства за человеком, ими наделенным, или, если их все-таки приходится признать, отказываем ему в похвале и заримся на заслуженную им награду. Это бесплодная страсть, которая ничего не дает человеку, напротив, лишь сосредоточивает на мыслях о себе и своей репутации; делая его черствым и безразличным к деяниям и трудам ближнего, она преисполняет его удивлением всякий раз, когда он видит, что в мире есть люди с дарованиями, отличными от его собственных, или с такими же, какие он приписывает себе. Это постыдный порок, который укореняет в человеке тщеславие и самоуверенность и убеждает его не столько в том, что у него больше ума и заслуг, чем у любого другого, сколько в том, что лишь он один обладает умом и заслугами.
Зависть и соперничество могут иметь место только между людьми одинакового рода занятий, способностей и положения. Люди, занимающиеся грубыми ремеслами, особенно склонны к зависти; между теми, кто посвятил себя свободным искусствам или изящной словесности — художниками, музыкантами, ораторами, поэтами и всей пишущей братией, — должно быть только соперничество.
Зависть не чужда недоброжелательства, иногда они неразрывны, но первая может и не сопровождаться вторым, как бывает в тех случаях, когда ее вызывает в нас то, что недоступно нам по нашему положению, — огромное состояние, милости двора, пост министра.
Будучи направлены на один предмет, недоброжелательство и зависть сливаются и усиливают друг друга; единственное различие между ними заключается в том, что первое относится к человеку, а вторая — к его положению в свете.
Человек умный не станет завидовать кузнецу, выковавшему добрую шпагу, или скульптору, изваявшему красивую статую. Он понимает, что их ремесла требуют знания правил и приемов, о которых он не имеет понятия, и умения обращаться с инструментами, вид, название и назначение которых ему неизвестны. Стоит ему вспомнить, что он не учился этому ремеслу, как он перестает огорчаться, что не владеет им. Напротив, он способен завидовать министрам и государям и даже ненавидеть их, словно разум и здравый смысл, которые даны ему так же, как им, суть единственные орудия, необходимые для управления государством и руководства делами общества, и могут не опираться на обычаи, законы, опыт.
86
Людей совершенно тупых и глупых мало, недюжинных и блестящих — еще меньше. Степень одаренности большинства людей колеблется между двумя этими крайностями. Промежуток между ними заполнен ограниченными дарованиями, которые тем не менее весьма нужны обществу, выгодны государству, сочетают в себе приятное с полезным и проявляются в способностях к торговле, финансам, военному делу, мореплаванию, ремеслам, в хорошей памяти, светскости, умении играть в разные игры и вести беседу.
87
Ум всех людей, вместе взятых, не поможет тому, у кого нет своего: слепому не в пользу чужая зоркость.
88
Каким великим благом, почти столь же важным, как рассудок, была бы для нас способность сознавать, что мы его потеряли! Однако утрата рассудка несовместима с сознанием этой утраты. Точно так же понимание того, что нам не хватает ума, было бы не менее ценно, чем самый ум, ибо в таком случае мы могли бы достигнуть невозможного: даже не обладая умом, избежать глупости, дерзости и самомнения.
89
Человек посредственного ума словно вырублен из одного куска: он постоянно серьезен, не умеет шутить, смеяться, радоваться пустякам. Неспособный подняться до великого или хотя бы забыться и отдаться малому, он даже не позволяет себе поиграть с собственными детьми.
90
О глупце все говорят, что он глуп, но никто не дерзает отвести душу и сказать ему это в лицо; он так и умирает в неведении.
91
Какой разлад между умом и сердцем! Философ живет не так, как сам учит жить; дальновидный и рассудительный политик легко теряет власть над собой.
92
Разум, как и все в нашем мире, изнашивается: наука, которая служит ему пищей, в то же время истощает его.
93
Люди маленькие часто бывают отягчены множеством бесполезных достоинств: им негде их применить.
94
Есть люди, которые не гнутся под тяжестью власти и милостей, быстро свыкаются с собственным величием и, занимая самые высокие должности, не теряют от этого голову. Те же, кого слепая и неразборчивая фортуна незаслуженно обременяет своими благодеяниями, наслаждаются ими неумеренно и заносчиво; их взгляды, походка, тон и манеры долго еще выдают удивление и восторг, в которые их повергло собственное возвышение, и они преисполняются такой безудержной спесью, что лишь падение может их образумить.
95
Человек рослый и сильный, с широкими плечами и грудью, легко и непринужденно несет огромный груз, причем у него еще свободна одна рука; карлика раздавила бы вдвое меньшая тяжесть. То же и с высокими должностями: они делают людей великих еще более великими, ничтожных — еще более ничтожными.
96
Есть люди, которым странности идут лишь на пользу: они переплывают такие моря, где другие терпят крушение и тонут; они достигают успеха такими путями, на которых его обычно не находят; их чудачества и безумства приносят такие плоды, какие другим приносит лишь глубочайшая мудрость. Держась около сильных мира сего, которым они посвящают все свое время, ибо возлагают на них свои заветные надежды, они не служат им, а забавляют их. Люди достойные и надежные полезны вельможам, эти же им необходимы. Они до седых волос состоят при своих покровителях, потешая их острословием, ибо это единственный подвиг, за который они могут ждать награды. С помощью шутовства они добиваются высоких должностей и ценою неизменной веселости делают серьезную карьеру. Наконец, после смерти они обретают такой жребий, какого не опасались и не чаяли: воспоминание об их успехе служит предостережением для всех, кого прельщает их судьба.
97
Мы вправе требовать от людей, однажды оказавшихся способными на благородный, героический, прославленный всем миром поступок, чтобы они, не показывая, насколько это великое усилие их опустошило, до конца дней своих вели себя так же мудро и осмотрительно, как ведут себя порою даже люди заурядные; чтобы не позволяли себе низостей, недостойных составленной ими себе репутации; чтобы пореже смешивались с толпой и не давали ей случая присмотреться к ним, дабы ее восторженное удивление не сменилось равнодушием, а может быть, и презрением.
98
Иным людям легче украсить себя множеством добродетелей, чем избавиться от одного недостатка. На их несчастье, он как раз меньше всего соответствует их положению и делает их особенно смешными в глазах света, умаляя их достоинства и мешая им приобрести безупречную репутацию. От них не требуют, чтобы они стали еще образованней и неподкупней, еще ревностней стояли за умеренность и порядок, строже блюли верность долгу, рачительней пеклись о всеобщем благе; от них хотят только, чтобы они не были влюбчивы.
99
Иные люди с годами становятся столь непохожими на самих себя умом и сердцем, что каждый, кто судит о них по тому, какими они были в ранней молодости, впадает в ошибку. Одних, некогда благочестивых, умных, образованных, лишает этих достоинств изнеженность — непременная спутница слишком безоблачного счастья. Других, кто начал жизнь с погони за наслаждениями, поглощавшей все силы их ума, несчастья приводят затем в монастырь, научив их мудрости и умеренности. Это обычно люди незаурядные, на которых можно положиться: честность их испытана в долгих невзгодах и закалена терпением. Они отличаются изысканной учтивостью, приобретенной ими когда-то в обществе женщин и ставшей для них естественной, любовью к порядку, рассудительностью, а иногда и выдающимися талантами, которыми они обязаны затворнической жизни и вынужденному досугу в дни неудач.
Вся наша беда в том, что мы не выносим одиночества. Отсюда — карты, роскошь, легкомыслие, вино, женщины, невежество, злословие, зависть, надругательство над своей душой и забвение бога.
100
Человеку, по-видимому, мало своего собственного общества: темнота и одиночество вселяют в него беспокойство, беспричинную тревогу и нелепый страх или в лучшем случае скуку.
101
Скука пришла в наш мир вместе с праздностью; она в значительной мере объясняет склонность человека к наслаждениям, картежной игре, обществу. Тот, кто любит труд, не нуждается в развлечении.
102
Большинство людей употребляет лучшую пору жизни на то, чтобы сделать худшую еще более печальной.
103
Есть произведения, которые начинаются альфой и кончаются омегой. В них есть все: хорошее, дурное и отвратительное; в них не забыт ни один жанр. Как они изысканны, как вычурны! Их называют плодами игры ума. Наше поведение — такая же игра: принявшись за что-нибудь, мы непременно хотим дойти до конца. Порою нам лучше отступиться и найти себе другое занятие, но ведь продолжать начатое труднее, а значит, более почетно; поэтому мы продолжаем, препятствия лишь усугубляют нашу решимость, тщеславие подгоняет нас и берет верх над разумом, который покоряется и сдается. Этот тонкий побудительный мотив можно обнаружить в наших самых высоконравственных делах — даже в делах веры.
104
По-настоящему трудно дается нам лишь одно — исполнение долга, ибо оно предполагает такие поступки, которые мы все равно вынуждены совершить, хотя они не приносят нам одобрения — единственного, что толкает нас на похвальные дела и поддержи-вает в наших начинаниях. Н. любит выставлять напоказ свое благочестие. Оно принесло ему место попечителя о бедных, сделало его хранителем отпускаемых на них средств и превратило его дом в подобие богадельни, где происходит раздача милостыни и целый день снуют серые сестры{199} и люди с отложными воротниками. Весь город взирает на его добрые дела и превозносит их. Кто усомнится в том, что он честный человек? Разве что его кредиторы.
105
Геронт умирает от старости, не успев составить завещание, которое собирался написать лет тридцать. Ввиду кончины ab intestato его наследство делит между собой десяток родственников. Жизнь Геронта давно уже поддерживалась только заботами его жены Астерии, которая с молодости посвятила себя мужу, ни на миг не отходила от него, была опорой его старости и своими руками закрыла ему глаза. Он же оставил ей так мало, что она не сможет прожить, если не найдет себе другого старика.
106
Дожить до глубокой старости и держаться за свои должности и бенефиции, вместо того чтобы продать их или просто передать другому, — значит пребывать в убеждении, что вы не из числа тех, кто смертен; если же вы все-таки знаете, что можете умереть, значит, вы любите себя и только себя.
107
Фауст — гуляка, мот, распутник, человек неблагодарный и заносчивый, но Аврелий, кому он приходился племянником, всю жизнь любил его и, умирая, оставил ему все свое состояние.
Фронтин, другой племянник Аврелия, двадцать лет был слепо предан этому старцу и славился своей порядочностью, но так и не снискал расположения дяди, чья кончина принесла ему лишь ничтожный пенсион, который выплачивает Фауст, единственный наследник покойного.
108
Ненависть — столь длительное и неискоренимое чувство, что самый верный признак близкой смерти больного — это примирение его с недругом.
109
Ключ к сердцу человека — сочувствие страстям, поглощающим его душу, или сострадание к недугам, снедающим его тело; к этому сводится вся заботливость, которую можно к нему проявить. Вот почему теми, кто здоров и умерен в желаниях, труднее управлять, чем прочими.
110
Слабости и жажда наслаждений рождаются вместе с человеком и вместе с ним умирают. От них его не избавляют ни удачи, ни горести: они — плод первых и возмещение за вторые.
111
Влюбленный старик — одно из величайших уродств в природе.
112
Лишь немногие помнят, как трудно было им в молодости соблюдать умеренность и целомудрие. Отказываясь от погони за наслаждениями в угоду приличиям, из пресыщенности или ради здоровья, человек первым делом начинает осуждать ее в других. Такое поведение во многом объясняется нашей приверженностью к тому, с чем мы порываем: нам хочется, чтобы все лишились того блага, которое стало нам недоступным. Это значит, что мы им завидуем.
113
Старики становятся скупыми не из боязни впасть в нужду, ибо многие из них настолько богаты, что подобное опасение не может у них возникнуть; да и с какой стати этим дряхлым людям бояться утраты жизненных благ, от которых они сами отказываются в угоду своей скупости? Ни при чем тут и стремление оставить побольше средств детям, ибо человеку не свойственно любить других сильнее, чем себя; к тому же бывают скупцы, у которых нет наследников. Этот порок скорее всего — следствие возраста и особенности душевного склада стариков, которые предаются ему столь же естественно, как молодежь гонится за наслаждениями, а люди зрелые преследуют честолюбивые цели. Скупость не требует ни расточения сил, ни юности, ни здоровья: чтобы сберегать доходы, не нужно ни суетиться, ни хлопотать — достаточно лишь прятать деньги в сундук и во всем себе отказывать. Это удобно для стариков, которые тоже должны питать какую-нибудь страсть, ибо ведь и они — люди.
114
Есть люди, которые живут в скверных домах, спят на жестких постелях, одеваются плохо, а едят еще хуже, покорно терпят летний зной и зимнюю стужу, добровольно отказываются от общества себе подобных и влачат свои дни в одиночестве; которые страдали вчера, страдают сегодня и будут страдать завтра; которые, живя точно под бременем вечного покаяния, тем самым нашли способ, как прийти к вечной гибели самым мучительным путем. Это — скупцы.
115
Воспоминания юности дороги старикам: они любят те места, где провели ее, людей, с которыми познакомились в ту пору; они употребляют слова, которые были тогда в ходу, им нравится прежняя манера петь, старинные танцы, тогдашние моды, утварь, экипажи. Они и теперь не в силах порицать то, что служило их страстям, способствовало их наслаждениям и доныне еще воскрешает прошлое в их памяти. Разве в силах они предпочесть новые обычаи и нынешние моды, чуждые им, ничего хорошего им не сулящие и придуманные молодыми людьми, которым это дает столь большие преимущества перед стариками?
116
Как излишняя небрежность в одежде, так и чрезмерная щеголеватость равно подчеркивают дряхлость и умножают морщины стариков.
117
Старик, если только он не очень умен, всегда высокомерен, спесив и неприступен.
118
Старец, проведший жизнь при дворе, наделенный сильным умом и хорошей памятью, — это бесценный источник сведений о прошлом и кладезь мудрых истин. Он — живая история века, расцвеченная такими примечательными подробностями, которых не найдешь в книгах. У него мы учимся правилам поведения в свете и в частной жизни, всегда безошибочным, потому что они выведены из опыта.
119
Молодые люди переносят одиночество легче, нежели старики, ибо их развлекают страсти.
120
Фидипп, человек уже старый, утончен во всем, что касается приятностей жизни; он изыскан даже в пустяках; еду, питье, отдых и моцион он превратил в искусство и тщательно соблюдает мелочные правила, которые сам же придумал, чтобы окружить свою особу удобствами; он не пожертвовал бы ими даже ради любовницы, если бы режим позволял ему завести ее. Он обременяет себя ненужными мелочами, превращенными привычкой в необходимость. Тем самым он лишь укрепляет узы, привязывающие его к жизни, и стремится употребить остаток ее на то, чтобы сделать расставание с ней еще более мучительным. Неужели мало ему одного страха смерти?
121
Гнатон живет только для себя, все остальные для него как бы не существуют. Ему недостаточно сидеть за столом на почетном месте — он один занимает три стула. Пренебрегая тем, что обед приготовлен не только для него, но и для всех собравшихся, он завладевает целым блюдом, всласть угощается за каждой переменой и не принимается за одно кушанье, пока не отведает от всех, — он смаковал бы их все разом, если бы мог. За едой он не пользуется прибором, хватает мясо руками, вертит его, отделяет от костей, раздирает и расправляется с ним так, что другие гости, если только они не сыты, вынуждены насыщаться объедками. Он являет их глазам все виды отвратительной неопрятности, отбивающей аппетит даже у самых голодных: сок и соус каплют у него с усов и бороды; накладывая себе рагу, он роняет куски в чужую тарелку или на скатерть, так что по пятнам можно проследить путь этих кусков. Поглощая пищу, он громко чавкает и пучит глаза; стол для него все равно что кормушка; время от времени он пускает в ход зубочистку, а затем снова принимается за еду. Куда бы он ни попал, он всюду чувствует себя как дома: на проповеди или в театре он располагается так же непринужденно, словно у себя в спальне. В карете он может сидеть лишь сзади, — по его словам, на всех остальных местах он бледнеет, ему становится худо. Путешествуя в компании, он всегда попадает в гостиницу раньше спутников и умеет оставить за собой лучшую комнату и лучшую постель. Он все обращает себе на пользу: лакеи его знакомых бегают по его делам так же, как его собственные. Он завладевает всем, что попадает под руку, — чужой одеждой, чужими экипажами. Он докучает всем, не заботится ни о ком, не жалеет никого, знает лишь одни болезни — свои (он страдает полнокровием и разлитием желчи), не скорбит ни о чьей смерти, боится лишь собственной и, чтобы спастись от нее, охотно согласился бы истребить весь род человеческий.
122
Клитон всю жизнь знал лишь два дела — обедать днем и ужинать вечером: он явно создан только для пищеварения. У него лишь один предмет для разговора — перечисление блюд, которые он ел на последнем званом обеде: он рассказывает, сколько там подавалось супов и каких именно, перебирает жаркие и соусы, точно помнит количество кушаний в каждой перемене, не забывает ни закусок, ни десерта, ни приправ, может назвать все вина и ликеры, которые он там пил. Он владеет кулинарным жаргоном в таких тонкостях, что пробуждает во мне желание не есть за одним столом с ним. Он обладает безошибочным гастрономическим нюхом, который никогда ему не изменял; вот почему он ни разу не подвергся страшной опасности съесть плохо приготовленное рагу или отведать посредственного вина. Он знаменитость в своем роде, так как довел искусство насыщения до наивысшего предела; нет человека, который ел бы так много и с таким увлечением. Поэтому он верховный судья во всем, что касается лакомой еды; никто не дерзает любить то, чего он не одобряет. Его уже нет: он испустил дух прямо за столом, давая обед даже в последний день жизни. Где бы он сейчас ни был, он ест; если он вернется на землю, то лишь затем, чтобы есть.
123
Руфин начинает седеть, но еще крепок; у него свежее лицо и живой взгляд, которые сулят ему еще, по крайней мере, лет двадцать жизни; он бодр, весел, шутлив и беззаботен; он всегда смеется от всего сердца, даже в одиночестве, даже без повода; он доволен собой, своими близкими, своим скромным достатком и уверяет, что счастлив. Потеряв единственного сына, молодого человека, который подавал большие надежды и обещал стать украшением рода, он возложил на других труд оплакать его, объявив: «Мой сын умер, это убьет его мать», — и утешился. У него нет ни пристрастий, ни друзей, ни врагов; никто ему не противен, все ему нравятся, везде ему удобно; он вступает в разговор с первым встречным так же открыто и доверчиво, как и с теми, кого именует старыми друзьями, и сразу выкладывает ему все свои шутки и анекдоты. Люди подходят к нему, расстаются с ним, а он ничего не замечает; начав что-нибудь рассказывать одному, он досказывает это уже другому, сменившему первого.
124
Н. одряхлел не столько от лет, сколько от болезни: ему не больше шестидесяти восьми, но он страдает подагрой и почечными коликами. У него изможденное лицо землистого оттенка, предвещающее скорую смерть. Тем не менее он мергелюет свои земли, рассчитывая, что после этого ему лет пятнадцать не придется их унавоживать; он сажает молодой лес в надежде на то, что меньше чем за двадцать лет на этом месте вырастет тенистая роща; он воздвигает на ***ской улице дом из тесаного камня, скрепленный по углам железными скобами, и уверяет слабым, хриплым, прерывающимся от кашля голосом, что здание простоит века; каждый день он обходит стройку, опираясь на руку слуги; он показывает друзьям, что уже сделано, и объясняет, что еще намерен сделать. Он строит не для детей — у него их нет; не для наследников — людей пустых и состоящих с ним в ссоре; он строит для себя, хотя завтра умрет.
125
Все знают Антагора в лицо, оно всем примелькалось; приходский сторож или каменный святой, чья статуя украшает главный алтарь собора, вряд ли знакомы нам лучше, чем он. Утром его видят во всех отделениях и канцеляриях парламента, вечером — на всех улицах и перекрестках города. Вот уже сорок лет, как он ведет тяжбы, и скорее расстанется с жизнью, чем с этим занятием. За это время во Дворце правосудия не было ни одного крупного дела, ни одной долгой и запутанной процедуры, к которым он не имел бы касательства хотя бы в качестве свидетеля; его имя не сходит с уст адвокатов и согласуется со словами «истец» и «ответчик» так же естественно, как существительное с прилагательным. Он — всем родня и всеми ненавидим: нет семьи, с которой он не судился бы и которая не судилась бы с ним. Он то накладывает арест на имение, то опротестовывает секвестр, то представительствует в суде на основании committimus[56], то выступает как судебный исполнитель, а сверх того, каждый день присутствует на собраниях кредиторов; всюду его выбирают конкурсным синдиком, он терпит убытки при каждом банкротстве и все-таки выкраивает время для визитов. В гостиных к нему привыкли, как к старому дивану; он рассуждает там о своей тяжбе и передает новости. Вы расстаетесь с ним у одного знакомого в Маре и вновь встречаетесь в Сен-Жерменском предместье, куда он поспел раньше вас и где снова рассказывает все те же новости и толкует все о той же тяжбе. Если вы судитесь сами и на другой день с зарею вас обещал принять по вашему делу один из судей, вы добьетесь у него аудиенции не раньше, чем он окончит разговор с Антагором.
126
Некоторые люди тратят всю свою долгую жизнь на то, чтобы отвечать по искам одних и вчинять иски другим, и умирают от старости, причинив столько же зла, сколько испытали сами.
127
Секвестр, опись имущества, тюрьмы, казни — все это, разумеется, необходимо; но, оставив в стороне правосудие, законы и денежные расчеты, я все равно не перестану удивляться жестокости, с которой человек относится к себе подобным.
128
Порою на полях мы видим каких-то диких животных мужского и женского пола: грязные, землисто-бледные, спаленные солнцем, они склоняются к земле, копая и перекапывая ее с несокрушимым упорством; они наделены, однако, членораздельной речью п, выпрямляясь, являют нашим глазам человеческий облик; это и в самом деле люди. На ночь они прячутся в логова, где утоляют голод ржаным хлебом, водой и кореньями. Они избавляют других людей от необходимости пахать, сеять и снимать урожай и заслуживают этим право не остаться без хлеба, который посеяли.
129
Дон Фернандо — ленивый, невежественный, злоречивый, задиристый, плутоватый, невоздержный, наглый провинциал, но он всегда готов обнажить шпагу против соседей и по малейшему поводу рискует жизнью; он убивал людей, он сам будет убит.
130
Провинциальный дворянин, человек, не нужный ни отечеству, ни семье, ни себе самому, часто бездомный, оборванный и лишенный каких-либо достоинств, сто раз на дню повторяет, что он благороден, с презрением говорит о выскочках в меховых мантиях и бархатных шапочках, всю жизнь рассуждает о своих дворянских грамотах и титулах и уверяет, что не променял бы их на канцлерский жезл.
131
Жизнь каждого из нас представляет собой бесконечно разнообразное сочетание власти, милостей, талантов, богатства, высокого положения, знатности, силы, предприимчивости, способностей, добродетели, порока, слабости, глупости, беспомощности, низости происхождения и подлости. Эти обстоятельства, переплетаясь у разных людей на тысячи разных ладов и восполняя друг друга, определяют нашу сословную принадлежность и место в обществе. Сверх того, люди, которые всегда знают слабые и сильные стороны ближнего, воздействуют друг на друга в соответствии со своим разумением: признают одних равными себе, чувствуют, когда другие превосходят их, и понимают, когда сами превосходят третьих; так возникают непринужденная дружба, или почтительное уважение, или презрительное высокомерие. Поэтому в общественных местах и всюду, где бывает стечение народа, мы ежеминутно сталкиваемся и с теми, с кем жаждем заговорить и поздороваться, и с теми, кого стараемся не заметить и уж подавно не подпустить к себе. Порою знакомство с одними нам лестно, а с другими — зазорно; порою тот, чьей близостью мы гордимся и с кем нам хочется побыть на людях, сам стесняется нашего общества и покидает нас. Бывает и так, что человек, который гнушается нас и держится с нами свысока в одном месте, в другом сам оказывается тем, кого гнушаются и с кем держатся свысока другие. Словом, тот, кто презирает нас, довольно часто сам вызывает к себе презрение. Как все это низко! Если верно, что люди, ведя себя друг с другом столь нелепо, всегда в чем-то выигрывают с одной стороны и непременно в чем-то проигрывают с другой, то не большего ли добьются они, если откажутся от надменности и спеси, не подобающих слабому человеку, придут ко всеобщему согласию и научатся проявлять друг к другу взаимную благожелательность, которая выгодна тем, что избавляет нас не только от боязни претерпеть унижение, но и от опасности унизить других?
132
Вместо того чтобы пугаться или стыдиться слова «философ», каждому из нас следовало бы покороче познакомиться с философией[57]. Знать ее подобает всем; претворять ее истины в жизнь полезно людям любого возраста, пола и положения. Она помогает нам мириться с чужим счастьем, с предпочтением, отдаваемым недостойным, с успехом злых, с утратой наших сил или красоты; она дает нам оружие против бедности, старости, болезней, смерти, докучных глупцов и злорадных насмешников; она учит нас жить без любимой женщины или тернеть ту, с которой мы живем.
133
Люди в одно и то же время открывают душу мелким радостям и позволяют брать над собой верх мелким горестям: в природе нет ничего, что могло бы сравниться в непостоянстве и непоследовательности с их умом и сердцем. Исцелиться от этого можно, лишь познав истинную цену житейских благ.
134
Найти тщеславного человека, считающего себя достаточно счастливым, так же трудно, как найти человека скромного, который считал бы себя чересчур несчастным.
135
Я лишь потому не кляну судьбу, не сделавшую меня государем или министром, что слишком хорошо знаю, какова участь виноградаря, солдата и каменотеса.
136
Истинно несчастен человек лишь тогда, когда он чувствует за собой вину и упрекает себя в ней.
137
Большинство людей, стремящихся к цели, способны скорее сделать одно большое усилие, чем упорно идти избранной дорогой: из-за лени и непостоянства они часто утрачивают плоды лучших своих начинаний и дают обогнать себя тем, кто отправился в путь поздней, чем они, и шел медленней, но зато безостановочно.
138
Я беру на себя смелость утверждать, что люди лучше умеют составлять планы, нежели выполнять их; им легче решить, что нужно сказать или сделать, чем сказать или сделать то, что нужно. Часто, обсуждая какое-нибудь дело, мы решаем о чем-то умолчать, но затем — то ли по горячности, то ли из-за несдержанности в речах, то ли в пылу разговора — первым делом разглашаем наш секрет.
139
Люди нерадивы в том, что составляет их долг, но считают за честь (вернее, из тщеславия убеждают себя в этом) проявлять энергию в делах, им чуждых и не свойственных ни их положению, ни характеру.
140
Разница между поведением человека, совершающего не свойственные ему поступки, и его истинным характером та же, что между личиной и лицом.
141
Телеф наделен умом, но, по правде говоря, в десять раз меньшим, чем он полагает; следовательно, все, что он говорит, делает, намечает, задумывает, в десять раз превышает его умственные способности и не соответствует ни его силам, ни задаткам. Этот вывод не вызывает сомнений. Перед Телефом как бы воздвигнут барьер, который ограничивает его и предупреждает, что дальше идти нельзя, но он не обращает на это внимания и выходит за пределы своей сферы. Он сам находит свою слабую сторону и показывает себя именно с этой стороны: говорит о том, чего не знает, или о том, что знает плохо; затевает то, что ему не по плечу; стремится к тому, что превышает его возможности, и в каждом деле пытается сравняться с лучшими. У него много хороших и похвальных качеств, но он всё портит желанием выдать их за редкие и несравненные: люди сразу видят, что он не то, чем кажется, и лишь с трудом угадывают, каков он на самом деле. Телеф — человек, который не способен верно себя оценить, который не знает себя. Характер его примечателен неумением ограничиться тем, что ему свойственно, что присуще только ему.
142
Человек самого недюжинного ума не всегда бывает ровен: вдохновение то осеняет, то покидает его, за подъемами следуют спады; в последнем случае — если только ему не чужда осмотрительность — он старается поменьше говорить, ничего не пишет, не дает воли воображению и держится подальше от себе подобных. Можно ли неть, если горло простужено? Не разумнее ли подождать, пока восстановится голос?
Глупец подобен автомату, механизму, пружине: собственная тяжесть увлекает его, движет, поворачивает, причем всегда в одном направлении и всегда с одинаковой скоростью. Он однообразен и неизменен: кто видел его раз, тот уже видел его во все минуты и периоды жизни. В лучшем случае он напоминает быка, который умеет мычать, или дрозда, который умеет свистеть: все в нем предуказано и предопределено его природой и, осмелюсь сказать, породой. Труднее всего заметить в нем душу: она бездействует, не совершенствуется, спит.
143
Глупец не подвластен смерти: если с ним и случается то, что у нас принято называть кончиной, он, по правде говоря, лишь выигрывает от нее, ибо начинает жить как раз в ту минуту, когда другие умирают. Тогда его дух принимается думать, мыслить, рассуждать, приходить к выводам, выносить суждения, — словом, делать все, чего не делал раньше; он высвобождает себя из той массы плоти, в которой был как бы погребен без дела, без движения, без всего, что его достойно. Я сказал бы даже, что он стыдится тела с его грубыми и несовершенными органами, к которому был так долго прикован и которому сумел придать лишь облик недоумка или законченного глупца; он становится ровней великим душам, вдохновлявшим сильные умы и большие дарования. Дух Алена{200} в такие минуты неотличим от духа великого Конде, Ришелье{201}, Паскаля или Ленжанда{202}.
144
Ложная деликатность в поступках, частной жизни и поведении названа так не потому, что она притворна, а потому, что мы проявляем ее в таких обстоятельствах и применительно к таким предметам, которые не заслуживают этого. Наоборот, ложная деликатность вкусов и нрава ложна именно потому, что всегда является притворной и напускной. Так, Эмилия кричит что есть мочи, подвергаясь ничтожной опасности, которая вовсе ее не страшит; другая женщина из жеманства бледнеет при виде мыши; третья обожает фиалки и падает в обморок, почуяв запах тубероз.
145
Кто осмелится вообразить, что он способен удовлетворить все желания человека? Может ли задаться такой мыслью самый щедрый и могущественный монарх? Что ж, пусть он попробует ее осуществить; пусть поставит себе одну цель — доставлять людям удовольствие; пусть откроет свой дворец придворным, даст им доступ даже в свои покои; покажет им зрелища в садах, один вид которых — сам по себе зрелище; устроит для них изысканнейшие игры, концерты, развлечения; прибавит к этому вкуснейшие яства и полную свободу; сам войдет в их общество и предастся тем же забавам; невзирая на все свое величие, станет с ними любезен и, несмотря на свой героический облик, будет человечен и приветлив, — все равно им этого будет мало. Людям в конце концов приедается даже то, что сначала их очаровывало; рано или поздно они сбежали бы даже из-за стола богов и нектар показался бы им приторным. Они без колебания порицают то, что совершенно, руководствуясь при этом тщеславием и изощренной привередливостью: если верить им, у них такой тонкий вкус, что его не могут удовлетворить никакие старания, никакие поистине царские затраты. Объясняется это также их злобностью, которая доходит до того, что человеку приятно отравлять радость, которую испытывают другие, исполняя его же собственные прихоти. Однако те же самые люди, которые обычно так льстивы и угодливы, могут представать в совершенно ином свете, — иногда они становятся настолько неузнаваемы, что даже в царедворце виден человек.
146
Манерность жестов, речи и поведения нередко бывают следствием праздности или равнодушия; большое чувство и серьезное дело возвращают человеку его естественный облик.
147
У людей нет характера, а если и есть, то проявляется он в том, что они лишены характера последовательного, постоянного и выражающего подлинную их сущность. Они глубоко страдают, когда им приходится быть всегда одинаковыми и не изменять своей склонности к порядку или беспорядку. Если они иногда отдыхают от одной добродетели, воспитывая в себе другую, то еще чаще отвыкают от одного порока, приучаясь к другому. Страсти их противоречивы, слабости взаимно исключают друг друга. Им проще переходить от одной крайности к другой, чем вести себя так, чтобы один поступок вытекал из другого. Враги умеренности, они во всем — и в дурном и в хорошем — впадают в преувеличения, которых сами же не могут вынести и которые смягчают тем, что бросают начатое дело и принимаются за другое. Адраст был так развращен и распутен, что ему оказалось легче последовать за модой и впасть в ханжество, чем сделаться просто порядочным человеком.
148
Почему те же самые люди, которые невозмутимо встречают величайшие несчастья, исходят желчью и теряют над собой власть при самых незначительных огорчениях? Такое поведение не может быть продиктовано мудростью, ибо добродетель всегда остается добродетелью и ни в чем себе не изменяет; очевидно, оно объясняется пороком, и понятно каким, — тщеславием, которое пробуждается и поднимает голову лишь при таких обстоятельствах, когда мы можем обратить на себя внимание, представ перед людьми в выгодном свете, но не дает о себе знать во всех остальных случаях.
149
Мы редко раскаиваемся в том, что сказали слишком мало, но часто сожалеем о том, что говорили слишком много: избитая и банальная истина, которую все знают и которой никто не следует.
150
Приписывать своим врагам то, в чем они не грешны, и лгать, чтобы опозорить их, — значит давать им огромное преимущество перед собой и наносит вред самому себе.
151
Сколько преступлений, не только скрытых, но даже явных и всем известных, не было бы совершено, если бы человек умел краснеть за себя!
152
В том, что иные люди не идут по стезе добра так далеко, как могли бы, виноваты их первые воспитатели.
153
Известная духовная ограниченность помогает иным людям идти по стезе мудрости.
154
Детям нужны розги и ферула{203}, взрослым — корона, скипетр, бархатные шапочки и меховые мантии судей, ликторские фасции{204}, барабаны и мундиры. Разум и правосудие, лишенные своих атрибутов, никого не убедят и не устрашат. Человек по своей природе духовен: он руководствуется зрением и слухом.
155
Тимон, как и всякий мизантроп, может быть суров и озлоблен душою, но внешне он всегда учтив и церемонен: он держит себя в руках и не позволяет себе быть с людьми накоротке. Напротив, он ведет себя с ними пристойно и серьезно, уклоняясь от всякой фамильярности с их стороны. Он не желает ни познакомиться с ними поближе, ни стать их другом и уподобляется в этом смысле женщине, приехавшей с визитом к другой.
156
Разум похож на истину: он один. К нему всегда идут одной дорогой, удаляются же от него тысячью путей. Гораздо проще постигнуть разумного человека, чем изучить людей взбалмошных и глупых. Тот, кто встречался в жизни лишь с учтивыми и рассудительными людьми, либо не знает человека вовсе, либо знает его только наполовину. Характеры и нравы многообразны, но светские отношения и учтивость делают людей внешне одинаковыми и уподобляют их друг другу, приучая к одному и тому же поведению, которое всем приятно, всем кажется естественным и заставляет предполагать, что иного и быть не может. Напротив, человек, который попадает в общество простолюдинов или уезжает в провинцию, вскоре — если только он не лишен глаз — делает любопытные открытия, видит новые для себя вещи, о которых он не подозревал и не имел ни малейшего представления, постоянно обогащает свой опыт и все глубже познает род людской, чуть ли не с математической точностью исчисляя, во скольких отношениях человек может быть несносным.
157
Основательно изучив людей и поняв лживость их мыслей, чувств, склонностей и привязанностей, мы должны признать, что непостоянство обходится им дешевле, чем могла бы обойтись последов ате льность.
158
Сколько на свете душ слабых, вялых, холодных, которые могли бы дать пищу сатире, хотя у них и нет серьезных недостатков! Сколько у человека странных и смешных сторон, на которые никто не обращает внимания, мимо которых проходит воспитание и мораль! Все это — единственные в своем роде пороки, которые не передаются другим людям, ибо они присущи не столько человечеству в целом, сколько каждому человеку в частности.
Глава XII О суждениях
1
Ничто так не похоже на искреннюю убежденность, как злобное упрямство; отсюда — партии, заговоры, ереси.
2
Мы не можем относиться к одним и тем же вещам всегда одинаково: вслед за увлечением неизменно приходит отвращение.
3
Великое удивляет нас, ничтожное отталкивает, а привычка примиряет и с тем и с другим.
4
Привычка и новизна исключают друг друга, и обе равно притягивают нас.
5
Только люди с низменной душой могут рассыпаться в похвалах тем, о ком до их возвышения отзывались пренебрежительно; такое поведение пристало лишь черни.
6
Монаршие милости не исключают высоких достоинств, но и не предполагают их.
7
Удивительно, что при всей нашей спеси, самодовольстве и вере в безошибочность нашего суждения мы сразу же теряем способность здраво рассуждать, как только речь заходит об оценке достоинств ближнего: мода, благосклонность толпы или монаршая милость подхватывают и уносят нас, как поток. Мы гораздо чаще хвалим то, что расхвалено другими, нежели то, что похвально само по себе.
8
Я знаю, как трудно человеку хвалить или одобрять то, что больше всего заслуживает похвалы или одобрения, и не уверен поэтому, что добродетель, достоинства, красота, благие дела и прекрасные творения сильнее и непосредственнее воздействуют на нас, нежели зависть, ревность и недоброжелательство: святоша[58] поминает добрым словом не святого, а такого же святошу, как он сам; если красивая женщина превозносит красоту другой женщины, мы не ошибемся, заключив, что она красивее той, которую превозносит; если один поэт хвалит стихи другого, можно биться об заклад, что они плохи и не заслуживают внимания.
9
Люди мало нравятся друг другу и не склонны одобрять ближнего: его поступки, поведение, мысли, речь — ничто им не нравится, ничто не по вкусу. Слушая рассказ, внимая разговору или читая книгу, они мысленно представляют себе, как поступили бы сами при тех же обстоятельствах, что подумали или написали бы о том же предмете, и так полны собственными мыслями, что для чужих уже не остается места.
10
Большинство людей так привержены к пустякам или к своим прихотям, так легко перенимают друг у друга пороки и чудачества, что стремление казаться не таким, как все, было бы естественным и не противоречило бы здравому смыслу, если бы только мы умели не заходить в нем слишком далеко и оставаться в пределах разумного.
«Поступай, как другие» — сомнительное правило; за исключением обстоятельств чисто внешних и маловажных — обычаев, моды или приличий — оно всегда означает: «Поступай дурно».
11
Будь люди действительно людьми, а не медведями или пантерами, будь они честны и справедливы к себе и другим, что сталось бы с законами, с их текстами и многотомными комментариями к ним, с исками о праве собственности, с актами о введении во владение, со всею так называемой юриспруденцией, а равно и с теми спесивцами, которые только потому так важничают, что им дана власть блюсти и отправлять правосудие? Отличайся люди искренностью и прямодушием, излечись они от предубеждений, кто согласился бы тратить время на ученые диспуты, схоластику и контроверзы? Соблюдай они воздержание, целомудрие, умеренность, кому был бы нужен таинственный лекарский жаргон — сущие золотые россыпи для тех, кто им владеет? Какая жалкая участь ожидала бы вас, законники, врачи, богословы, если бы мы поклялись себе стать благоразумными! Сколько так называемых великих людей оказались бы ненужными как в делах мира, так и в делах войны! Сколько исчезло бы бесполезных искусств и наук, доведенных ныне до высшей степени утонченности и совершенства, хотя необходимы они лишь потому, что служат лекарством от бед, единственная причина которых — наша склонность к злу! Как много со времен Варрона{205} появилось такого, чего не знал Варрон! Не хватит ли с нас и той учености, которой обладали Платон и Сократ?
12
В церкви на проповеди, в опере или в картинной галерее мы со всех сторон слышим противоположные мнения об одном и том же предмете. Поэтому я склоняюсь к мысли, что в любой области можно творить как прекрасное, так и посредственное — на то и на другое найдутся любители. Не бойтесь даже безобразного: отыщутся поклонники и у него.
13
Феникс певучей поэзии возрождается из пепла; слава его погибла, но потом мгновенно ожила. Публика, этот непогрешимый и бесповоротный в своих приговорах судья, изменила мнение на его счет. Одно из двух: либо она ошибалась прежде, либо ошибается сейчас. Человек, который сегодня решится сказать, что иные сочинения К.{206} плохи, встретит такой же отпор, какой встретил бы вчера, скажи он тогда: «К. — хороший поэт».
14
Ш — и был богат, а К — ль беден{207}, хотя «Девственница» и «Родогуна» заслуживали совсем не того приема, какой был им оказан. Мы вновь и вновь спрашиваем себя, почему в любом деле один преуспевает, а другой терпит неудачу, забывая, что причиной тому — наша собственная сумасбродная несправедливость; уступая ей, мы обходим лучших и выбираем худших, если это идет на пользу нашим делам, наслаждениям, здоровью и жизни.
15
Звание комедианта считалось позорным у римлян и почетным у греков. Каково положение актеров у нас? Мы смотрим на них, как римляне, а обходимся с ними, как греки.
16
Батиллу достаточно было стать мимом, чтобы римские матроны начали за ним гоняться; Роя танцевала на подмостках, а Росция и Нерина пели в хоре, — этого оказалось довольно, чтобы привлечь к ним толпу поклонников. Тщеславие и беззастенчивость, следствия чрезмерного могущества, отбили у римлян охоту соблюдать тайну и быть скрытными; им нравилось превращать театр в арену своих любовных похождений, они не испытывали ревности к толпе, заполнявшей амфитеатр, и делились с нею прелестями своих любовниц; вкус их был так неразвит, что они заботились лишь об одном — показать, что они любят комедиантку, даже если она некрасивая женщина и дурная актриса.
17
Ничто так не помогает уяснить себе истинное мнение людей об изящной словесности и науках, а также о пользе последних для государства, как отношение к тем, кто посвятил себя такой деятельности. Любое, даже самое грубое, ремесло, даже самое низкое звание куда быстрее дают надежные и ощутимые преимущества, нежели занятия литературой и наукой. Комедиант, развалившись в карете, с ног до головы обдает грязью Корнеля, который идет пешком. Для многих слова «ученый» и «буквоед» — это синонимы.
Нередко богач разглагольствует о науке, а ученым приходится хранить молчание, слушать и рукоплескать, если они не хотят прослыть педантами.
18
Нужна известная смелость, чтобы не стыдиться репутации ученого у людей, питающих глубокое предубеждение против мужей науки, за которыми они отрицают учтивость, любезность, общительность, почитая их кабинетными затворниками и книжными червями. Невежество — состояние привольное и не требующее от человека никакого труда; поэтому невежды исчисляются тысячами и подавляют ученых числом как при дворе, так и в столице. Если те в свое оправдание ссылаются на пример д'Эстре{208}, Арле, Боссюэ, Сегье, Монтозье, Варда, Шевреза, Новьона, Ламуаньона, Скюдери[59], Пелиссона и множества других, чья ученость не уступала учтивости; если они дерзают напомнить славные имена Конде, Конти, герцогов Шартрского, Бурбонского, Мэнского и приора Вандомского — принцев, умевших сочетать отменные и высокие познания с поистине аттическим красноречием и римской светскостью, им без обиняков возражают, что это — исключения; если они приводят самые веские доводы, последние все равно тонут в шуме толпы. Между тем людям следовало бы не осуждать ученых столь бесповоротно, а, напротив, дать себе труд сообразить, что умы, которые, так много сделав для науки, помогают нам правильно мыслить, судить, говорить и писать, тем самым способствуют и облагораживанию нравов.
Нужно очень немногое, чтобы отличаться утонченностью манер, и очень многое, чтобы отличаться утонченностью ума.
19
«Это же ученый! Значит, он не способен ни к каким делам, я не доверил бы ему даже заведовать моим гардеробом», — говорит политик, и он, разумеется, прав. Д ' Осса, Хименес{209}, Ришелье тоже были ни на что не годными людьми и бездарными министрами — они ведь отличались ученостью! «Он знает по-гречески, — продолжает государственный муж, — это книжник, философ!» Но тогда любая афинская фруктовщица, по всей вероятности говорившая по-гречески, тоже, несомненно, была философом, а Биньон и Ламуаньон, которые знали этот язык, — пустыми книжниками! Какой вздор, какую чепуху нес великий, мудрый и столь разумный Антонин, утверждая, что «народы были бы счастливы{210}, если бы император сам был философом или к власти пришел философ», то есть книжник.
Языки — это всего лишь ключ, открывающий доступ к науке, но презрение к ним бросает тень и на нее. Дело не в том, древний ли это язык или новый, мертвый или живой, а в том, груб он или обработан, со вкусом или без вкуса написаны книги, созданные на нем. Предположим, что наш французский язык через столько-то веков разделит участь греческого и латинского и на нем перестанут говорить; неужели того, кто будет читать Мольера и Лафонтена, тоже объявят тогда педантом?
20
Я упоминаю имя Эврипила, и вы говорите: «Это остроумец», — как сказали бы о том, кто тешет бревно: «Это плотник», — а о том, кто кладет стену: «Это каменщик». Но где же мастерская человека, чье ремесло, по-вашему, заключается в остроумии? Какая у него вывеска? Можно ли узнать его по платью? Какие он употребляет инструменты — клин или молот и наковальню? Где он рубит или колет, где выставляет свой товар на продажу? Ремесленник гордится своим ремеслом. А гордится ли Эврипил своим остроумием? Если да, значит, он глупец, разменивающий свой ум на мелочи, низкая и бесчувственная душа, которой недоступно и то, что по-настоящему умно, и то, что поистине остро. Если же нет, тогда он действительно человек рассудительный и умный.
Вам, наверно, случалось иногда сказать о буквоеде или плохом поэте: «Он остроумец». А разве себя самого вы почитаете человеком, лишенным ума? Если нет, значит, он у вас не туп и вы тоже остроумны. Но я вижу, что это слово кажется вам чуть ли не оскорблением. В таком случае я согласен: именуйте так Эврипила и употребляйте это выражение с насмешкой, как делают глупцы, не понимающие смысла слов, или невежды, которых оно утешает в недостатке образованности, им недоступной.
21
Не говорите мне о слоге, чернилах, бумаге, пере, типографщике и печатном станке! Пусть никто не дерзает уверять меня: «Ты так хорошо пишешь, Антисфен! Что же ты медлишь? Неужели мы не дождемся от тебя какого-нибудь ин-фолио? Рассмотри все добродетели и все пороки в последовательном и методичном труде, которому не было бы конца (следовало бы еще добавить: «и который никто не станет читать»)». Нет, я навсегда отрекаюсь от того, что называлось, называется и будет называться книгой. Берилла падает в обморок при виде мыши, я — при виде книги. Вот уже двадцать лет обо мне толкуют на площадях, но разве мои яства стали изысканнее, разве я теплее одет, разве холод не проникает ко мне в комнату, разве я сплю на пуховой перине? «Но вы достигли славы, у вас громкое имя», — возражаете вы. Но не то же ли это самое, что ветер, гуляющий в кармане? Заменяют ли они хоть крупицу того металла, который доставляет человеку все, что ему нужно? Жалкий стряпчий, приписывая лишнее к счету и получая мзду за то, чего не делал, выдает дочь за графа или судью. Человек, носивший красную или светло-коричневую ливрею, становится правой рукой откупщика и вскоре затмевает богатством хозяина: тот все еще простой горожанин, а он уже купил себе дворянство. Б. составляет себе состояние, показывая марионеток; Б. Б. — продавая речную воду в бутылках. Другой шарлатан приезжает к нам из-за гор с пустым сундучком и не успевает снять поклажу с плеч, как на него дождем сыплются пенсионы; вот он уже готов вернуться туда, откуда прибыл, только теперь его имуществом набиты фургоны, влекомые мулами. Меркурий — это Меркурий, и только, но его интриги, и уловки ценятся так высоко, что за них платят не только пенсионами, но милостями и отличиями. Впрочем, оставим в стороне незаконные доходы. Черепичник получает деньги за свою черепицу, каждому работнику оплачивают его время и труд. А как воздают сочинителю за то, что он думает и пишет? Щедро ли вознаграждают его даже тогда, когда мысли его глубоки? Обставляет ли он свой дом, получает ли дворянство благодаря тому, что разумно мыслит и хорошо пишет? Люди должны быть одеты и выбриты, дома их должны закрываться на крепкие запоры, но необходима ли им образованность? Какая нелепость, глупость, безумие повесить над входом в свое жилище надпись: «Здесь живет писатель или философ! — продолжает Антисфен. — Нет, дайте мне, если можно, доходное место, которое позволит мне украсить мою жизнь, одалживать друзей, давать тем, кто не в состоянии вернуть взятое, и писать для забавы, для развлечения, как Титир свистит или играет на флейте{211}. Только при этом условии я согласен писать, уступив настояниям тех, кто берет меня за горло и твердит: «Пиши!» Пусть на обложке моей новой книги они прочтут: «О красоте, добре, детине, идеях и первичных началах, сочинение Антисфена, торговца морской рыбой».
22
Будь послы чужеземных государей обезьянами, обученными ходить на задних лапах и объясняться с нами через толмача, мы и то были бы менее удивлены, нежели теперь, когда слушаем их меткие ответы и здравомыслящие речи. Из предубеждения против чужой страны, усугубленного национальным чванством, мы забываем, что разум живет под любыми широтами и что мудрые мысли встречаются всюду, где есть люди. Мы не хотели бы, чтобы к нам относились так же, как мы сами относимся к тем, кого почитаем варварами; наше варварство проявляется в недоверии к тому, что другие народы умеют рассуждать не хуже, чем мы.
Не все чужеземцы — варвары, и не все наши соотечественники — люди цивилизованные, равно как не всякая деревня[60] неотесана и не всякий город учтив. В известном уголке некоей приморской провинции одного великого европейского королевства крестьяне любезны и обходительны, горожане же и чиновники, напротив, из поколения в поколение отличаются грубостью.
23
При всея чистоте нашего языка, изысканности одежды, утонченности нравов, превосходных законах и белой коже мы кажемся некоторым народам сущими варварами.
24
Расскажи нам жители Востока, что у них принято напиваться некоей жидкостью, которая ударяет в голову, мутит рассудок и вызывает рвоту, мы воскликнули бы: «Какое варварство!»
25
Этот прелат — редкий гость при дворе, он не умеет вести светскую беседу, его не увидишь в женском обществе; он не играет ни в большую, ни в малую приму{212}, не бывает на празднествах и спектаклях, чужд каким бы то ни было проискам и не способен интриговать; он безвыездно пребывает в своей епархии и занят лишь тем, что наставляет народ словом и поучает его собственным примером; он истощает свое достояние милостыней, а тело — покаянием, ведет строго христианский образ жизни и соревнуется с апостолами в рвении и благочестии. Но вот времена изменились, и при новых порядках ему уже грозит более высокий сан.
26
Хорошо бы дать понять людям известного характера и серьезных (чтобы не сказать больше) занятий, что им вовсе незачем доказывать свое умение играть в карты, петь и развлекаться, как это делают все, ибо, видя их столь шутливыми и общительными, никто не поверит, что в других обстоятельствах они умеют быть и верны долгу, и суровы. Нельзя ли даже внушить им, что такое их поведение несовместимо с той самой светскостью, которою они кичатся, ибо человек светский сообразует свои манеры со своим положением, избегает контрастов и старается всегда быть одинаковым, чтобы не показаться странным и смешным?
27
Нельзя судить о человеке с первого взгляда, как мы судим о картине или статуе, а нужно проникнуть в глубины его души. Достоинства обычно окутаны покровом скромности, недостатки прикрыты маской лицемерия; только немногие сердцеведы умеют сразу постичь характер ближнего, ибо и совершенная добродетель, и закоренелый порок обнаруживают себя лишь постепенно, да и то под давлением обстоятельств.
28
Отрывок
…Он сказал, что ум этой красавицы подобен алмазу в роскошной оправе, и, продолжая разговор о ней, добавил, что подобное сочетание высокой души и телесной прелести так пленяет рассудок и сердце каждого, кто говорит с нею, что человек бессилен решить, увлечен ли он ею или просто удивляется ей: в Артенисе есть и то, без чего нет совершенной дружбы, и то, что может завести вас гораздо дальше. Слишком молодая и обаятельная, чтобы не возбуждать восхищения, и в то же время слишком скромная, чтобы стремиться покорять сердца, она ценит в мужчинах только их добродетели и видит в них только друзей; живая по натуре и способная глубоко чувствовать, она поражает и чарует вас; владея искусством поддерживать самую изысканную и утонченную беседу, она умеет, сверх того, оживлять ее удачными остротами, которые не только доставляют слушателям удовольствие, но и устраняют потребность в ответе; она говорит с вами, как женщина, которая не сведуща в науках, но слышала о них и старается приобрести побольше познаний; она внимает вам, как человек, который много знает и способен оценить ваши слова, так что ни одно, произнесенное в ее присутствии, не пропадает даром. Отнюдь не вступая с вами в спор на манер Эльвиры, которой больше нравится слыть женщиной живого ума, нежели выказывать здравый смысл и рассудительность, она становится на вашу точку зрения, усваивает ваши взгляды, развивает и украшает их, и вы всегда уходите довольный собою, сознавая, что мыслили правильней и вели беседу красноречивей, чем сами того ожидали. Не зная тщеславия и тогда, когда говорит, и тогда, когда пишет, она не пытается блистать изысканностью слога там, где всего важнее смысл, ибо понимает, что секрет красноречия — в простоте. Если нужно оказать кому-нибудь услугу и заручиться для этого вашей помощью, Артениса предоставляет Эльвире прибегать к выспренним риторическим прикрасам, которые та заимствует из книг и пускает в ход по любому поводу: она воздействует на вас лишь своей искренней, пылкой и убежденной готовностью быть человеку полезной. Преобладающая ее черта — любовь к чтению и к обществу людей выдающихся и прославленных, причем она окружает себя ими не столько для того, чтоб они знали о ней, сколько для того, чтобы самой их знать. Уже сейчас можно предугадать, какой мудрой и добродетельной она станет с годами, ибо ведет она себя безупречно, воодушевлена наилучшими намерениями и придерживается самых безошибочных правил, какими только может руководствоваться женщина, окруженная множеством поклонников и льстецов. Для того чтобы ее достоинства засияли полным блеском, ей недостает, пожалуй, только случая или того, что называется публикой, ибо она живет довольно замкнуто и даже ищет уединения, хотя ее отнюдь нельзя назвать нелюдимой.
29
Красивая женщина хороша и без прикрас: она сохраняет всю свою прелесть даже тогда, когда одета просто и украшена только своей привлекательностью и молодостью; бесхитростная грация так озаряет ее лицо, так облагораживает малейшее ее движение, что никакие ухищрения моды, никакой наряд не сделают ее еще более опасной для мужчин. Точно так же порядочный человек достоин всякого уважения сам по себе, независимо от внешнего вида, который он придает себе, чтобы казаться более величавым или добродетельным: облик реформата, чрезмерная скромность, убогий наряд, широкополая шляпа ничего не прибавят к его внутреннему благородству, не подчеркнут его достоинств, а лишь приукрасят их и, пожалуй, лишат естественности и непринужденности.
Заученная величавость смешна: тут крайности сходятся, правильное же решение, как всегда, — в золотой середине, то есть в чувстве собственного достоинства; кто стремится выглядеть величавым, тот никогда в этом не преуспеет — он лишь станет напыщенным. Величавость либо не дается вовсе, либо дается от природы; поэтому утратить величавый вид гораздо легче, нежели приобрести его.
30
Когда одаренный и прославленный человек угрюм и неприступен, он отпугивает молодых людей, отвращает их от добродетели и наводит на мысль, что следовать ее стезею слишком трудно и скучно; напротив, приветливостью и общительностью он дает им полезный урок и убеждает в том, что можно быть веселым и в то же время трудолюбивым, преследовать серьезные цели и все же не отказываться от пристойных удовольствий, то есть становится для них достойным подражания примером.
Жак Берен Первый.
«Лавка торговца вышитыми тканями,
который показывает образцы для мужского гардероба» (гравюра).
31
Не следует судить о человеке по лицу — оно позволяет лишь строить предположения.
32
Умное выражение лица у мужчины можно сравнить с правильностью черт у женщины: это самый заурядный род красоты.
33
Человек, чей ум и способности всеми признаны, не кажется безобразным, даже если он уродлив, — его уродства никто не замечает.
34
Какого искусства требует порой естественность! Сколько времени, опыта, внимания и труда мы тратим на то, чтобы танцевать так же легко и непринужденно, как ходим, петь — как говорим, говорить — как мыслим, и как не просто вложить в разученную речь, которая произносится на людях, столько же силы, живости, пыла и убежденности, сколько мы без всяких стараний и подготовки выказываем в частной беседе!
35
Не следует обижаться на человека, который, будучи мало знаком с нами, тем не менее отзывается о нас дурно: его нападки относятся не к нам, а к призраку, созданному его воображением.
36
Есть множество мелких условностей, обязанностей, правил приличия, связанных с местом, временем и определенным кругом людей; ум бессилен угадать их заранее, но они легко постигаются из опыта. Судить о человеке по отступлениям, которые неизбежны, пока он не освоился с правилами, — это все равно что судить о нем по отделке ногтей или прическе и всегда чревато ошибкой.
37
Я не уверен, что о человеке можно судить по первому его проступку, вызванному крайней необходимостью, сильной страстью, порывом.
38
Прямая противоположность тому, что говорят о делах и людях, часто и есть истинная правда о них.
39
Следует постоянно быть начеку и следить за каждым своим словом, чтобы в пределах хотя бы часа не высказать двух противоположных мнений об одном и том же предмете или человеке в угоду приличиям и светской благопристойности, которые невольно побуждают нас не противоречить никому из собеседников, даже если их взгляды совершенно несхожи.
40
Пристрастность обрекает человека на множество мелких неприятностей: поскольку немыслимо, чтобы те, к кому он благоволит, были всегда удачливы и разумны, а те, кто ему не по душе, — неудачливы и неловки, он часто попадает на людях впросак либо из-за промахов своих друзей, либо из-за успеха тех, кого он не любит.
41
Человек, который склонен к предубеждениям и все же осмеливается занимать светскую или духовную должность, — это все равно что слепой, пожелавший рисовать, немой, решивший произнести речь, или глухой, рассуждающий о симфонии. Впрочем, нет, мои сравнения слишком слабы и дают лишь неполное представление о вреде, причиняемом предвзятостью. Следует прибавить, что она — недуг, страшный, неизлечимый, заражающий каждого, кто приближается к больному, и обращающий в бегство всех — равных, низших, родных, близких и даже врачей, которые могут вылечить пациента, лишь если он сам поймет, что болен, и согласится прибегнуть к лекарствам, то есть научится слушать других, поменьше доверять самому себе, поглубже вникать в дело и всячески просвещать свой ум. Льстецы же, плуты, клеветники, словом, те, чей язык служит лишь корысти и лжи, — это шарлатаны, которые, пичкая доверчивого больного тем, что им выгодно, отравляют и медленно убивают его.
42
Декарт советует судить{213} о предмете лишь после тщательного и досконального его изучения; это правило настолько прекрасно и верно, что его следует применять и к нашим суждениям о людях.
43
Дурное мнение, которое люди составляют себе о нашем уме, нравственности и манерах, тем менее оскорбительно для нас, чем неблагороднее и низменнее те, кто им по вкусу.
Пренебрежение к человеку достойному восходит к тому же источнику, что и восхищение глупцом.
44
Глупец — это человек, у которого не хватает ума даже на то, чтобы быть самовлюбленным.
45
Человек самовлюбленный — это тот, в ком глупцы усматривают бездну достоинств.
46
Нахальство — это самовлюбленность, доведенная до предела: человек самовлюбленный утомляет, докучает, надоедает, отталкивает; нахал отталкивает, ожесточает, раздражает, оскорбляет; второй начинается там, где кончается первый.
Человек самовлюбленный — это нечто среднее между глупцом и нахалом: в нем есть кое-что и от того и от другого.
47
Пороки порождаются развращенностью души; недостатки — порочностью характера; смешные стороны — недостатком ума.
Смешной человек — это тот, кто выглядит глупцом, пока бывает смешон.
Глупец смешон всегда: это его отличительная черта; человек не лишенный ума тоже бывает смешным, но недолго.
Промах делает смешным даже умного человека.
Глупец всегда глупец, фат всегда фат, нахал всегда нахал, смешным же бывает и тот, кто вправду смешон, и тот, кто лишь кажется смешным людям, которые привыкли видеть смешное там, где его нет и не может быть.
48
Резкость, грубость, неотесанность — это пороки, от которых иной раз не свободны даже умные люди.
49
Тупица — это глупец, который не раскрывает рта; в этом смысле он предпочтительней болтливого глупца.
50
Одни и те же слова выглядят остротой или наивностью в устах человека умного и глупостью — в устах глупца.
51
Если бы глупец боялся сказать глупость, он уже не был бы глупцом.
52
Словоохотливость — один из признаков ограниченности.
53
Глупец стеснен в каждом своем движении, фат держится непринужденно и самоуверенно, нахал ведет себя нагло, человек достойный отличается скромностью.
54
Человек самодовольный — это тот, кто соединяет ловкость в мелочах, громко именуемых делами, с крайней ограниченностью ума.
Прибавьте человеку самодовольному каплю ума и еще немножко дел — и он превратится в спесивца.
Пока над спесивцем только смеются, он остается спесивцем; если от него начинают плакать, значит, он уже превратился в гордеца.
55
Благовоспитанный человек — это нечто среднее между человеком ловким и человеком добродетельным, хотя он ближе к первой из двух этих крайностей.
Расстояние, отделяющее человека благовоспитанного от человека ловкого, с каждым днем уменьшается и вот-вот исчезнет.
Ловкий человек — это тот, кто скрывает свои страсти, не упускает своей выгоды, многим ради нее жертвует и умеет приобретать или беречь богатство.
Благовоспитанный человек — это тот, кто не грабит на большой дороге, никого не убивает и не предает свои пороки огласке.
Каждый знает, что человек добродетельный не может не быть благовоспитан; любопытно другое: не всякий благовоспитанный человек добродетелен.
Человек добродетельный — это тот, кто не считает себя святым, не хочет быть святошей[61] и довольствуется тем, что он добродетелен.
56
Талант, вкус, ум, здравый смысл — все это различные, но вполне совместимые достоинства.
Между здравым смыслом и хорошим вкусом та же разница, что между причиной и следствием.
Между умом и талантом то же соотношение, что между целым и частью.
Могу ли я считать умным человеком того, кто ограничил себя рамками какого-нибудь одного искусства или даже науки и, достигнув совершенства в своей области, не выказывает во всем остальном ни рассудительности, ни памятливости, ни живости, ни добронравия, ни порядочности, кто не способен меня понять, кто не умеет ни думать, ни выражать свои мысли, — например, музыканта, который сперва чарует меня своей игрой, а потом словно прячется в тот же футляр, куда кладет лютню? Стоит этому человеку выпустить из рук инструмент, как он превращается в машину, лишенную какой-то важной части и потому ни на что не годную.
А что такое ум в игре? Как определить его? Требует ли игра в ломбер или шахматы предусмотрительности, тонкости, ловкости? Если требует, то почему в них порой замечательно играют глупцы, а самые одаренные люди не поднимаются даже до уровня посредственности и, взяв в руки карту или фигуру, приходят в смущение и теряют присутствие духа?
Но в мире бывает кое-что еще более удивительное. Вот перед нами человек. Он неотесан{214}, неуклюж и туп на вид, не умеет ни поддержать беседу, ни рассказать, что видел; однако стоит ему взяться за перо, и перед вами образцовый рассказчик: у него говорят даже камни, деревья и бессловесные животные; его сочинения — сама легкость, изящество, сама естественность и тонкость.
Вот другой — он прост, робок{215}, прескучный собеседник, вечно путает слова, судит о достоинствах своей пьесы лишь по деньгам, полученным за нее, не умеет ни продекламировать, ни даже просто хорошо прочитать то, что сам же сочинил. Но на какую высоту поднимается он в своих творениях! Здесь он стоит вровень с Августом, Помпеем, Никомедом, Ираклием: он царь, и притом великий, он политик и философ; герои, которые говорят и действуют в его стихах, — гораздо более римляне, чем римляне исторические.
Вот вам третье чудо{216}. Представьте себе человека обходительного, кроткого, благожелательного, уступчивого и вместе с тем крутого, гневливого, вспыльчивого, капризного; он простодушен, непринужден, доверчив, шутлив, легкомыслен — сущее седовласое дитя; но дайте ему сосредоточиться или, вернее, предоставьте свободу его гению, который бурлит в нем, так сказать, без его участия и ведома, — и как вдохновенно, возвышенно, образно зазвучит его неподражаемая латынь! «Да это, наверно, другой человек!» — воскликнете вы. Нет, это все тот же Теодат. Он кричит, беснуется, катается по полу, опять вскакивает, мечет громы и молнии, но тут же вновь начинает сиять отрадным и ярким светом. Скажем прямо: он говорит, как безумец, и мыслит, как мудрец, облекая истины в смешную, а верные и меткие суждения в нелепую форму, и вы с удивлением видите, как сквозь шутовство, гримасы и кривлянья сперва проглядывает, а потом в полном блеске предстает перед вами здравый смысл. Что могу я прибавить? Он сам не подозревает, как хороши могут быть его слова и поступки; в нем как бы живут две души, которые не знают друг друга, не связаны между собой, проявляются поочередно и каждая в своей особой сфере. В этом поразительном портрете не хватало бы последнего штриха, не упомяни я, что он ненасытно жаден до похвал, готов выцарапать критикам глаза и тем не менее достаточно податлив в душе, чтобы внять их замечаниям. Теперь я и сам начинаю сомневаться, не изобразил ли я здесь два различных лица; впрочем, у Теодата, пожалуй, есть еще и третье: он добрый, остроумный и превосходный человек.
57
Что встречается реже, чем способность к здравому суждению? Разве что алмазы и жемчуга.
58
Иной человек признанного таланта, всюду почитаемый и любимый, мал и ничтожен у себя дома, ибо не способен внушить родным уважение к себе. Другой, напротив, — истинный пророк, но только в своих четырех стенах, в кругу близких и родных, которые боготворят его; там он упивается хвалой своим редким и беспримерным достоинством, с которыми, однако, ему волей или неволей приходится расставаться, как только он выходит за пределы своего дома.
59
Едва человек начинает приобретать имя, как на него сразу ополчаются все; даже так называемые друзья не желают мириться с тем, что достоинства его получают признание, а сам он становится известен и как бы причастен к той славе, которую они сами уже обрели. Его стараются не замечать до последней возможности; лишь когда государь скажет свое слово, осыпав его наградами, все проникаются к нему расположением и он занимает место среди выдающихся людей.
60
Мы часто не в меру хвалим посредственность и стараемся поднять ее до высоты истинного таланта либо потому, что не любим подолгу восхищаться одними и теми же выдающимися людьми, либо потому, что, умаляя таким образом их славу, делаем ее менее оскорбительной и нестерпимой для нас самих.
61
Бывают люди, которые на всех парусах несутся по ветру монаршей милости; они мгновенно теряют из виду землю и мчатся вперед; все им улыбается, все удается; за каждый шаг, за каждый поступок их осыпают похвалами и наградами; стоит им где-нибудь появиться, как все бросаются их обнимать и поздравлять. Но в стороне возвышается утес, о подножие которого разбивается любая, самая мощная волна; влияние, богатство, угрозы, лесть, власть, милость — ничто не может его поколебать. Имя ему — народное мнение; наталкиваясь на него, эти люди идут ко дну.
62
Обычно, судя о трудах ближнего, мы непроизвольно сравниваем их с той работой, которой занимаемся сами. Вот почему поэт, поглощенный мыслями о великом и возвышенном, невысоко ценит искусство оратора, нередко посвященное будничным делам; тот, кто пишет историю своей страны, не понимает, как может разумный человек тратить жизнь на придумывание небылиц и поиски рифмы; точно так же бакалавр-богослов, погруженный в изучение первых четырех столетий христианства, почитает скучной, пустой и бесполезной любую другую науку, в то время как его самого, наверно, презирает геометр.
63
У иного довольно ума, чтобы преуспевать в своей области и даже поучать в ней других, но слишком мало, чтобы не рассуждать о том, чего он не понимает: он смело выходит за пределы своих знаний, но тут же сбивается с пути и при всей своей одаренности начинает говорить как глупец.
64
Говорит ли Герилл с друзьями, произносит ли речь, пишет ли письмо, — он вечно приводит цитаты. Утверждая, что от вина пьянеют, он ссылается на царя философов; присовокупляя, что вино разбавляют водой, взывает к авторитету римского оратора. Стоит ему заговорить о нравственности, и уже не он, Герилл, а сам божественный Платон глаголет его устами, что добродетель похвальна, а порок гнусен и что оба они могут войти в привычку; он считает своим долгом приписывать древним грекам и латинянам избитые и затасканные истины, до которых нетрудно было бы додуматься даже самому Гериллу. При этом он не стремится ни придать вес тому, что говорит, ни блеснуть своими познаниями: он просто любит цитировать.
65
Сострить и сознаться в том, что острота принадлежит нам, нередко означает рисковать ее успехом: если слушатели — люди умные или почитают себя таковыми, они постараются ее не заметить, ибо считают несправедливым, что придумали ее не они, а кто-то другой. Напротив, передать ее как бы с чужих слов — значит снискать ей одобрение, ибо в таком случае ее принимают как некий факт, о котором никто не обязан был знать заранее; при этом она метче попадает в цель, возбуждает меньше зависти и никого не задевает; если она смешна — люди смеются, если достойна восхищения — восхищаются.
66
О Сократе говорили{217}, что он не рассуждает, а бредит и что вообще он — преисполненный мудрости безумец, но те греки, которые так отзывались об умнейшем из людей, сами были безумцами. «Какие нелепые портреты рисует этот философ! — возмущались они. — Что за странные и неслыханные нравы он описывает! Где он нашел, заимствовал, откопал такие невероятные мысли? Какие краски, какая кисть! Это же просто химеры!..» Они ошибались. Да, то были чудовища, то были пороки, но списанные с натуры, и притом так живо, что всем внушали страх. Сократ был чужд цинизму; он порицал дурные нравы, но не называл их носителей.
67
Человек, разбогатевший благодаря своей житейской ловкости, знаком с неким философом, с его правилами, нравственным обликом, поведением и, не представляя себе, что люди могут задаваться иными целями, нежели те, к которым всю жизнь стремился он сам, думает о нем: «Как мне жаль этого сурового блюстителя нравов! Он человек конченый, сбившийся с пути. Таким, как он, не доплыть до гавани счастья даже при попутном ветре!» И этот богач прав, — разумеется, со своей точки зрения.
«Если те, кого я хвалил в своем сочинении, забывают обо мне, я не виню их за это, — говорит Антисфий. — Что я для них сделал? Они ведь действительно достойны были похвалы. Но я был бы не склонен прощать тех, чью порочность я бичевал, не называя их по именам, если бы, конечно, они после этого исправились, что было бы для них большим благодеянием. Однако, поскольку таких чудес не бывает, я заключаю, что вторым, равно как и первым, не за что питать ко мне признательность.
Пусть люди завидуют мне и отказывают в награде за мою книгу, — продолжает этот философ. — Им не удастся умалить мою известность, а если даже удастся, кто помешает мне презирать их?»
68
Быть философом — хорошо, слыть им — не слишком полезно. Не вздумайте называть кого-нибудь философом: это слово почитается у нас чуть ли не бранным, и так будет до тех пор, пока люди, переменив свои взгляды, не возвратят ему первоначальный возвышенный смысл и не окружат его должным уважением.
69
Есть философия, которая помогает нам стать выше честолюбия и жажды успеха; уравнивает нас, — что я говорю! — возносит выше богачей, вельмож и сильных мира сего; учит презирать важные должности и тех, кто их раздает; избавляет как от желания искать, беспокоиться, домогаться, докучать, так и от чрезмерных радостных волнений, когда нашу просьбу исполняют. Есть и другая философия, которая предписывает нам претерпевать все эти тревоги ради ближних и друзей. Она лучше первой.
70
Прийти к заключению, что иные люди не способны мыслить здраво, и заранее отвергнуть все, что они говорят, сказали и скажут, — значит избавить себя от множества бесполезных споров.
71
Чем больше наши ближние похожи на нас, тем больше они нам правятся; уважать кого-то — это, по-видимому, то же самое, что приравнивать его к себе.
72
Те самые недостатки, которые кажутся нам невыносимыми в других, имеются и у нас, только они расположены как бы в центре тяжести; поэтому мы не замечаем их и не тяготимся ими. Порою, говоря о ком-нибудь, человек рисует портрет настоящего чудовища и не видит, что изображает самого себя.
Мы быстро избавились бы от своих недостатков, если бы сперва откровенно сознались в них сами, а уж потом начали бы подмечать их в окружающих: при этом условии они предстали бы нам такими, как есть, и внушили бы к себе заслуженное отвращение.
73
У благоразумия две точки опоры — прошлое и будущее: человек, наделенный острой памятью и дальновидностью, никогда не станет бранить ближних за то, что, может быть, делал он сам, или осуждать их за поступки, совершенные при таких обстоятельствах, которые когда-нибудь принудят и его поступить точно так же.
74
Ни полководец, ни политик, ни ловкий игрок не могут обойтись без помощи удачи, но они стремятся к ней, подготавливают и делают ее почти несомненной; они не только умеют воспользоваться благоприятным случаем, что недоступно трусам и глупцам, но благодаря своей проницательности и принятым заранее мерам не упускают ни одной возможности и ставят на несколько карт сразу: выйдет одна — они выиграют, выйдет другая — тоже выиграют, а нередко одна и та же карта приносит им несколько выигрышей сразу. Таких людей следует хвалить и награждать не только за их дальновидность, но и за удачливость, ибо у них она становится своего рода добродетелью.
75
Выше великого политика я ставлю только того, кто не жаждет им стать, ибо с каждым днем все больше убеждается, что этот мир не стоит того, чтобы тратить на него силы.
76
Даже самый лучший совет нередко вызывает в нас неудовольствие: достаточно уже того, что он исходит не от нас самих; высокомерие и прихоть подстрекают нас пренебречь им, а если мы все же следуем ему, то лишь по размышлении и в силу прямой необходимости.
77
Какое поразительное счастье сопутствовало этому фавориту до конца его дней! Кто еще наслаждался им так полно, непрерывно, безраздельно? Ему было дано все: самые высокие должности, доверие государя, огромное богатство, несокрушимое здоровье и легкая смерть. Но как строго спросится с него за жизнь, столь украшенную милостями, за те советы, которые он давал, и за те, которых не дал или не захотел принять, за добро, которого он не сделал, за зло, которое причинил сам или через других, — словом, за все его благоденствие!
78
В смерти есть своя выгода: оставшиеся в живых начинают нас хвалить, часто лишь потому, что мы уже мертвы; в этом случае и Катону и Пизону — одна честь{218}.
«Ходит слух, что Пизон умер. Это большая потеря! — восклицаете вы. — Он заслуживал долгой жизни, потому что был человек достойный, умный, обходительный, твердый, смелый, надежный, великодушный, верный!» Не забудьте только прибавить про себя: «Дай бог, чтобы слух не оказался ложным!»
79
Одобрение, с которым отзываются об иных людях за их прямодушие, бескорыстие и честность, звучит не столько похвалою им, сколько поношением всему роду человеческому.
80
Один приходит на помощь беднякам, но пренебрегает собственной семьей и отпускает сыну нищенское содержание; другой возводит новое здание, а сам еще не заплатил кровельщику, который отделывал ему дом десять лет назад; третий не скупится на подарки, сорит деньгами и разоряет кредиторов. Спрашивается, можно ли считать добродетелями милосердие, щедрость и великодушие, когда их выказывает человек несправедливый? Не побуждают ли его к ним вздорная прихоть и тщеславие?
81
Справедливость по отношению к ближнему следует воздавать безотлагательно; медлить в таких случаях — значит быть несправедливым.
Хорошо поступает тот, кто без промедления поступает, как должно; тот же, кто делает добро, лишь вдоволь наслушавшись похвал за свое будущее благодеяние, поступает очень дурно.
82
Порою о вельможе, который дважды в день устраивает обильные трапезы и всю жизнь тратит на пищеварение, говорят, что он умирает с голоду. Такими словами мы хотим лишь сказать, что он небогат или что дела его плохи. Это выражение следует понимать фигурально, в прямом же смысле оно относится не столько к вельможе, сколько к его кредиторам.
83
Видя, как учтивы, любезны и обходительны пожилые люди обоего пола, я составляю себе высокое мнение о том, что принято называть минувшими временами.
84
Слишком доверчивы те родители, которые полагают, что будущность их детей всецело зависит от воспитания; но глубоко заблуждаются и те, которые ничего не ждут от него и готовы им пренебречь.
85
Даже согласившись с теми, кто утверждает, что воспитание бессильно изменить душу и нрав человека, что оно не затрагивает его сердца, а лишь придает ему внешний лоск, я все равно буду утверждать, что оно ему не бесполезно.
86
Чем меньше человек говорит, тем больше он выигрывает: люди начинают думать, что он не лишен ума, а если к тому же он действительно неглуп, все верят, что он весьма умен.
87
Тот, кто думает только о себе и о сегодняшнем дне, неизбежно совершает ошибки в политике.
88
Быть уличенным в преступлении — большое несчастье; не меньшее несчастье — попасть под ложное обвинение. Если даже суд оправдает и обелит вас, вы все равно останетесь виновным в глазах народа.
89
Один человек ревностно блюдет церковные обряды, строго исполняет все предписания религии; никто его за это не порицает, но и не хвалит — на него просто не обращают внимания. Другой десять лет пренебрегал ими, затем обратился, и вот уже все им не нахвалятся и не налюбуются на него. Не знаю, как другие, а я порицаю его за столь долгое забвение своих обязанностей и радуюсь, что он вспомнил о них.
90
Льстец равно невысокого мнения и о себе и о других.
91
Глядя на иных людей, забытых при раздаче наград, все удивляются: «Почему о них забыли?» Бели бы их не обошли, все стали бы спрашивать: «С какой это стати о них вспомнили?» В чем причина такой непоследовательности? В характере ли этих людей, в нашем ли непостоянстве или в том и другом сразу?
92
Мы вечно ломаем себе голову: кого назначат канцлером после такого-то, кто будет примасом Галлии, кого изберут папой? Мы идем и дальше: каждый по своему желанию и прихоти мысленно назначает на высокую должность даже того, кто более стар и дряхл, нежели человек, уже занимающий ее; а так как высокий сан отнюдь не убивает своего носителя, но, напротив, ободряет его и придает ему новые душевные силы, то нередко бывает и так, что сановник хоронит своего предполагаемого преемника.
93
Опала тушит ненависть и злобу: кто больше не раздражает нас сыплющимися на него милостями, тот снова для нас хорош. Мы готовы простить ему любые достоинства и добродетели, он безнаказанно может быть даже героем.
Человек, впавший в немилость, со всех сторон плох: его добродетелей и достоинств никто не замечает, их дурно истолковывают и даже почитают за пороки; пусть он безмерно отважен, не страшится ни огня, ни меча, идет на бой с врагом так же бестрепетно, как Баярд{219} или Монтревель[62], — все равно он хвастун, все равно над ним смеются и он никогда не станет героем.
Я, разумеется, сам себе противоречу, но вините не меня, а тех, чьи суждения я здесь привожу; в обоих случаях это один и тот же человек — изменилось только его мнение.
94
Довольно и двадцати лет, чтобы люди изменили свое мнение о самых важных вещах, даже о таких, которые казались бесспорными и незыблемыми. Я не дерзну утверждать, что огонь жарок не сам по себе, а только благодаря ощущениям, возникающим у нас, когда мы приближаемся к нему, ибо опасаюсь, как бы в один прекрасный день он не стал столь же горячим, каким был прежде. Не больше настаиваю я и на том, что прямая образует с другой прямой два прямых угла или два любых, но равных двум прямым: я побаиваюсь, как бы люди не открыли что-нибудь новое, после чего мое утверждение станет смешным. Точно так же дело обстоит и со всем остальным. Я повторяю вместе со всей Францией: «Вобан{220} непогрешим», — но кто поручится, что вскоре мне не начнут внушать, что он, подобно Антифилу, совершает ошибки даже в фортификации, в которой не имеет себе равных и почитается высшим судьей?
95
Послушайте, как люди в раздражении и запальчивости честят друг друга! Ученый у них непременно буквоед, судья — выскочка или крючкотвор, финансист — лихоимец, человек благородного происхождения — дворянчик. И вот что удивительно: эти злобные клички, придуманные ненавистью и гневом, входят в обиход и начинают выражать самое холодное и невозмутимое презрение.
96
Вы суетитесь и всячески выказываете свое рвение, особенно когда неприятель бежит и победа несомненна или когда город уже сдался; во время боя или осады вы стараетесь появиться в десяти местах, чтобы не быть ни в одном, упреждаете приказы полководца из боязни, как бы их не пришлось выполнять, и сами ищете опасности, а не ждете ее, чтобы встретить грудью. Уж не притворна ли ваша доблесть?
97
Ставьте людей на такие посты, которые можно защищать с риском для жизни, но и с надеждой ее сохранить: человек любит и славу и жизнь.
98
Видя, как человек любит жизнь, трудно поверить, что он может любить что-нибудь еще сильнее; между тем жизни он предпочитает славу, хотя слава — это всего-навсего мнение, составленное о нем тысячами людей, неизвестных ему и не принимаемых им в расчет.
99
Любопытство того, кто, не будучи ни военным, ни придворным, едет на театр войны вслед за двором и присутствует при осаде, не участвуя в ней, истощается довольно быстро, стоит ему хоть издали увидеть поле боя (как бы потрясающе оно ни выглядело), грохочущие бомбы и пушки, осадные работы, боевые линии и приступ. Осада идет, а город все держится; льют дожди, люди выбиваются из сил, тонут в грязи; они вынуждены сражаться с неприятелем и с непогодой сразу. Враг может в любую минуту ворваться в наше расположение, наша армия, того и гляди, будет зажата между городом и неприятельскими войсками. Сколько треволнений! Заезжий гость ропщет: «Неужели так уж невозможно снять осаду? Так ли уж важна для судеб государства еще одна крепость? Не разумней ли склониться пред волей неба, которое против нас, и прервать кампанию до лучших времен?» Ему непонятна непреклонность — в душе он называет ее упрямством — полководца, который не отступает перед препятствиями, все больше воодушевляется с каждой новой трудностью, бодрствует по ночам и рискует жизнью днем, чтобы довести начатое до конца. Но едва лишь город капитулировал, как этот павший духом человек принимается разглагольствовать о важности одержанной победы, предсказывает ее последствия, преувеличивает как ее значение, так опасности и позор, ожидавшие нас в случае отступления, и уверяет, что наша армия непобедима. Возвращаясь вместе с двором, он проезжает через города и села и пыжится от гордости при виде жителей, глазеющих из окон; по дороге он чувствует себя триумфатором и храбрецом, словно тоже брал крепость; вернувшись домой, он оглушает вас потоком таких слов, как «фланг», «равелин», «фоссебрея», «куртина», «апроши»; описывает места, куда его занесло из любопытства и где он все время рисковал головой; перечисляет случаи, когда, возвращаясь из таких мест, он чуть не попал в плен или чуть не погиб, и умалчивает лишь о том, как ему было страшно.
100
Запинка в речи или проповеди — наименьшая из неприятностей, возможных в жизни. Она не умаляет ни одного достоинства оратора: его ум, здравый смысл, воображение, нравственность, ученость — все остается при нем. Нельзя, однако, не удивляться тому, что люди, почитающие эту неприятность чем-то постыдным и смешным, сами напрашиваются на нее, предавалась долгим и бесполезным разглагольствованиям.
101
Кто не умеет с толком употребить свое время, тот первый жалуется на его нехватку: он убивает дни на одевание, еду, сон, пустые разговоры, на размышления о том, что следует сделать, и просто на ничегонеделанье; ему некогда ни заниматься делом, ни предаваться удовольствиям; у того, кто распоряжается временем разумно, его достаточно на все — даже на досуг.
Любой министр, как бы он ни был занят, каждый день теряет впустую, по крайней мере, часа два, а сколько это составит за целую жизнь! Люди более низкого звания берегут свое время еще меньше. Какое безмерное и повсеместное расточительство того, что так драгоценно и чего нам вечно не хватает!
102
Есть создания божьи, которые носят имя людей и наделены бесплотной душой, но тратят всю жизнь и силы на то, чтобы тесать камень, — это слишком просто и, значит, непочтенно. Есть и другие, которые дивятся первым, но сами вовсе ни на что не годны и проводят дни свои в полной праздности, — это еще менее почтенно, чем тесать камень.
103
Большинство людей слишком часто забывают, что у них есть душа, и предаются таким делам и занятиям, которые, по всей видимости, ее не требуют; поэтому сказать о ком-нибудь: «Он мыслит», — значит лестно о нем отозваться; подобное утверждение по привычке считается похвалой, хотя, воздавая ее, мы ставим человека немногим выше лошади или собаки.
104
«Чем вы развлекаетесь? Как проводите время?» — спрашивают меня и люди умные, и глупцы. Скажи я им, что просто открываю глаза и смотрю, подставляю ухо и слушаю, пекусь о своем здоровье, досуге, свободе, — они не удовлетворятся таким ответом: настоящие, великие, единственные блага для них не в счет. Им интересно другое: играю ли я в карты, бываю ли в маскарадах?
Разве может человек считать благом такую свободу, которая чересчур велика, бесполезна и внушает ему лишь желание быть менее свободным?
Свобода — это не праздность, а возможность свободно располагать своим временем и выбирать себе род занятий; короче говоря, быть свободным — значит не предаваться безделью, а самолично решать, что делать и чего не делать. Какое великое благо такая свобода!
105
Цезарь не был слишком стар, когда задумал завоевать мир;[63] блаженство состояло для него в том, чтобы славно прожить жизнь и оставить по себе великое имя. Природа столь щедро наделила его гордостью, честолюбивым нравом и крепким здоровьем, что лишь покорение всей земли казалось ему достойной целью. Александр же был чересчур молод для серьезных замыслов; следует только удивляться, что в столь юные годы женщины и вино не помешали его походам.
106
Юный принц{221}, отпрыск августейшего рода, любовь и надежда подданных, ниспосланный господом на счастье земле и затмивший своих предков сын героя, в котором он видит пример для подражания, уже доказал миру своими божественными дарованиями и несоразмерной с годами доблестью, что детям героев легче стать героями, нежели прочим смертным[64]{222}.
107
И Если даже земле суждено существовать лишь сто миллионов лет, все равно она переживает сейчас пору младенчества, начальные годы своего существования, а мы сами — почти современники первых людей и патриархов, к которым нас, наверно, и станут причислять в грядущем. Сравним же будущее с прошлым и представим себе, сколько нового и неизвестного нам люди познают еще в искусствах и науках, в природе и даже в истории! Сколько открытий будет сделано! Сколько различных переворотов произойдет на земле, во всех империях, во всех государствах! Как безмерно наше нынешнее невежество и какой малый опыт дали нам эти шесть-семь тысяч лет!
108
Кто идет медленно и не спеша, тому не длинна никакая дорога; кто терпеливо готовится в путь, тот непременно приходит к цели.
109
Ни к кому не ходить на поклон и не ждать, что придут на поклон к вам, — вот отрадная жизнь, золотой век, естественное состояние человека!
110
Общество и свет — удел людей, состоящих при дворе и населяющих города; природа же существует только для обитателей деревни; они одни живут или, по крайней мере, сознают, что живут.
111
Зачем так холодно обходиться со мной, зачем негодовать на мои нечаянные слова о неких молодых придворных? Разве ты тоже порочен, Фразилл? Ты — первый, кто говорит мне об этом. До сих пор я знал только, что ты немолод.
Да и вы все, принявшие за личное оскорбление то, что я сказал о некоторых вельможах, зачем вы так громко кричите? Ведь рана нанесена не вам! Разве вы тоже высокомерны, коварны, склонны к злым насмешкам, лести, лицемерию? Я этого не знал и метил не в вас: я говорил о вельможах.
112
Благоразумное поведение и дух умеренности отодвигают человека в тень; славу и всеобщее восхищение можно стяжать лишь великими добродетелями или, быть может, великими пороками.
113
Успех всегда располагает{223} нас к тому, кто его добился: будь этот человек вельможей или простолюдином — мы восхищаемся им, приходим от него в восторг; безнаказанное преступление превозносится чуть ли не так же, как добродетельное деяние, а удача заменяет чуть ли не все добродетели вместе. Если поступок не может быть оправдан даже успехом, — значит, это черное, низкое, мерзостное злодейство.
114
Людей нетрудно прельстить внешней благовидностью дела и ловко найденными доводами в защиту его; они охотно одобряют любые честолюбивые планы знатного человека, с увлечением говорят о них, пленяются их смелостью и новизной, которые сами же им приписывают, привыкают к ним, перестают сомневаться в успехе — и вдруг видят, что они не удались; тогда с той же уверенностью в своей непогрешимости эти люди заявляют, что замысел был необдуман и заранее обречен на провал.
115
Иной замысел так величав и чреват такими важными последствиями, о нем столько говорят, от него столько ждут или так его опасаются, — смотря по тому, добро или зло он несет народам, — что от него зависят слава и будущность того, кем он выношен: выйдя на сцену в столь пышном убранстве, этот человек уже не может сойти с нее, так ничего и не сказав. Даже поняв наконец, к каким страшным последствиям приведет его затея, он все-таки не имеет права отступить: это было бы еще хуже, чем потерпеть неудачу.
116
Человек злонамеренный не может стать великим. Вы вольны расхваливать его дальновидность и широкие замыслы, восхищаться его образом действий, превозносить его умение выбрать наилучшие средства и кратчайшие пути к цели, но если сама цель дурна, значит, она неразумна, а где нет разума, там нет и величия.
117
Умер враг{224}, предводитель грозной армии, уже готовый перейти Рейн; он умел воевать, его опытность могла бы привлечь на свою сторону удачу. Но разве мы жгли потешные огни и торжествовали по поводу кончины? И, напротив, бывают люди, которые от рождения вызывают ненависть к себе и с годами становятся пугалом для народов. Именно этим, а не страхом, который внушают их победы, как одержанные, так и возможные, следует объяснять ликующие клики, исторгаемые у народа известием об их смерти, и радостный трепет, охватывающий всех, даже детей, как только по городам и весям разносится слух, что земля избавлена от одного из таких людей.
118
«О, времена, о, нравы{225}! О, злосчастный век, столь обильный дурными примерами, век попранной добродетели и победоносного, торжествующего преступления! — восклицает Гераклит. — Я хочу быть Ликаоном или Эгисфом{226}: никогда еще не было случая удачнее, обстоятельств благоприятнее для процветания и благоденствия подобных злодеев. Некто сказал: «Я переправлюсь через море, отниму у моего отца родовые владения{227}, изгоню его самого с женой и наследником из его земель и государства». Сказал и сделал. Казалось бы, короли должны отомстить ему за оскорбление, нанесенное им всем в лице одного из них. Но нет, они на его стороне и чуть ли не подстрекают его: «Переправляйтесь через море, отнимите у вашего отца его земли, докажите миру, что изгнать короля из его владений не труднее, чем отобрать у простого дворянина замок или согнать арендатора с земли, что между нами и нашими подданными больше нет никакой разницы, что нам наскучило отличаться от них. Пусть все видят, что народам, которые господь отдал под нашу руку, не возбраняется покидать, предавать и выдавать нас, что они вправе переходить на сторону чужеземца, что не им должно страшиться нас, а нам — их».
Можно ли взирать на это, не проливая слез и оставаясь невозмутимым? Каждый сан дает его носителю определенные права, каждый сановник возвышает голос, спорит и действует, чтобы отстоять их, лишь короли сами отказываются от своих прерогатив. Только один из них, неизменно добросердечный и великодушный{228}, открывает свои объятия семейству изгнанника. Остальные же составляют против него коалицию, словно вознамерясь отмстить ему за то, что он защищает их общее дело. Дух распри и зависти заставляет их забыть честь, веру, государственные, более того — свои личные и династические интересы. Дело идет не об избрании на престол, а о преемстве, о наследственных правах, и тем не менее человек берет верх над монархом. Некий государь, избавивший Европу{229} и самого себя от заклятого врага и стяжавший этим славу разрушителя огромной империи{230}, тут же отрекается от этой славы ради войны за сомнительные цели{231}. Тот, кто призван быть третейским судьей и посредником{232}, медлит и по-прежнему лишь обещает свое посредничество, хотя уже давно мог бы начать переговоры с пользой для дела.
О пастухи и поселяне, обитатели крытых соломой хижин! — продолжает Гераклит. — Если до вас не доходят даже отголоски событий, если ваши сердца не потрясены безмерностью человеческой злобы, если в ваших краях говорят не о людях, а лишь о лисицах и рысях, дайте мне приют, поделитесь со мной вашим ржаным хлебом, напоите меня водой из ваших водоемов!»
119
Вы, карлики, почитающие себя великанами, если росту в вас шесть-семь футов, и готовые показываться за деньги, как ярмарочные дива, если достигаете восьми; бесстыдно именующие себя высочеством и величеством, хотя эти слова приложимы разве что к горам, которые вознеслись над облаками к небу; надменные и хвастливые твари, презирающие остальных животных и в то же время столь ничтожные рядом с китом или слоном, — подойдите сюда, людишки, и ответьте Демокриту.
У вас вошли в поговорку алчность волка, свирепость льва, злобность обезьяны. А что такое вы сами? Вы прожужжали мне уши, доказывая, что человек — разумное животное. Но кто дал ему такое определение — волки, обезьяны, львы? Не сам ли он так себя назвал? Смешно смотреть, как вы приписываете все пороки вашим собратьям-животным и оставляете за собой все достоинства; дайте им возможность сказать, чем они почитают себя, и увидите, как они обойдутся с вами. О люди, я уже не говорю о вашем легкомыслии, о ваших безумствах и прихотях, которые ставят вас ниже крота и черепахи, ибо те благоразумно живут своей смиренной жизнью, неизменно следуя путем, предначертанным природой! Нет, я имею в виду другое. Если сокол легко взмывает в воздух и метко бьет куропатку, вы говорите: «Великолепная птица!» Если борзая настигает и берет зайца на бегу, вы говорите: «Хороший пес!» Поэтому вы вправе называть храбрецом человека, который, охотясь на кабана, умеет загнать, измучить и пронзить зверя. Но при виде двух собак, которые лают и бросаются друг на друга, кусают и рвут одна другую, вы говорите: «Экие глупые животные!» — хватаете палку и разгоняете их. Если бы вам сказали, что тысячи котов со всех концов страны сбежались на какое-нибудь поле и, вдоволь намяукавшись, яростно вцепились друг в друга зубами и когтями, что после этой свалки на месте осталось девять — десять тысяч кошачьих трупов с каждой стороны и что воздух на десять лье вокруг был отравлен смрадом, вы воскликнули бы: «Какой неслыханно отвратительный шабаш!» А с каким воем, с какой свирепостью могли бы проделать то же самое волки! А если бы коты или волки стали доказывать вам, что они любят славу и что только ради нее затеяли это побоище с риском искоренить и начисто уничтожить собственную породу, разве поверили бы вы этому или, даже поверив, не посмеялись бы от всей души над глупостью этих жалких зверей? Вы-то ведь разумные животные, вы стремитесь отличаться от скотов, вооруженных только зубами и когтями, и поэтому изобрели копья, пики, дротики, сабли и палаши, тем самым доказав свою мудрость: голыми руками вы причинили бы ближнему не много вреда, разве что выдрали бы ему волосы, раскровенили лицо и в лучшем случае выцарапали глаза, в то время как теперь, запасшись удобными инструментами, можете наносить друг другу раны, достаточно глубокие для того, чтобы вся ваша кровь вытекла до капли и ничто не спасло вас от смерти. Но, становясь год от году все разумнее, вы далеко превзошли этот устарелый способ самоистребления: у вас есть маленькие шарики, которые, попав в голову или грудь, убивают наповал; есть у вас и другие шары, потяжелее и побольше, которые разрывают человека пополам и выпотрашивают его или, упав на крышу, пробивают все потолки от чердака до погреба и поднимают на воздух ваш дом вместе с вашей только что родившей женой, младенцем и кормилицей. Вот она, ваша слава, любительница переполоха и охотница до шума!
Впрочем, у вас есть и оборонительное оружие — стальное одеяние, которое вам полагается надевать перед боем; этот поистине прекрасный наряд напоминает мне о тех четырех знаменитых блохах, которых показывал встарь некий искусный фокусник, содержавший их в пузырьке; каждой он приладил каску на голову, латы, наручни и наколенники — на тело, копье — к бедру, и в этом полном вооружении они скакали и прыгали в своей склянке. Представьте себе, что существует человек ростом с гору Афон{233}. Это вполне возможно: душа способна оживить даже такое огромное тело, ей будет в нем просторнее. Так вот, будь у этого исполина достаточно острое зрение, чтобы разглядеть у себя под ногами вас со всем вашим оборонительным и наступательным оружием, что подумал бы он о вас, мелюзга в боевом снаряжении, о вашей так называемой войне, кавалерии, пехоте, приснопамятных осадах и достославных битвах? Эти слова не сходят у вас с языка, весь мир вы делите на полки и роты, все человечество превратилось у вас в эскадроны и батальоны. Со всех сторон только и слышишь: «Он взял город, другой, третий, выиграл одну битву, две битвы, прогнал неприятеля, побеждает на море, побеждает на суше». О ком это вы говорите — об одном из вам подобных или о гиганте ростом с Афон? Да все о том же человеке с бледным, бескровным лицом{234}, у которого на костях нет даже десяти унций мяса, так что он, того и гляди, упадет от первого дуновения ветра; тем не менее он шумит за четверых, учиняет всеобщий пожар, выуживает в мутной воде целый остров; в другом месте ему наносят поражение, преследуют его, но он прячется в болотах{235} и слышать не хочет ни о мире, ни о перемирии.
Он еще с юных лет показал, на что он способен, укусив в грудь свою кормилицу: бедняжка умерла от укуса. По-моему, этим сказано уже достаточно. Короче говоря, он родился подданным и стал властелином, а те, кого он укротил и впряг в ярмо, идут за плугом и трудятся, не жалея сил; эти смирные люди страшатся даже помыслить о свободе, ибо сами удлинили кнут и надставили кнутовище для того, кто их погоняет. Они сами постарались усугубить свое рабство, помогли этому человеку переправиться за море, приобрести новых вассалов и захватить новые владения; правда, для этого он вытолкал своего отца и свою мать из их родного дома, но подданные с готовностью пособили ему и в этом столь похвальном предприятии. Люди по ту и по сю сторону моря совокупными усилиями стремятся сделать его как можно более опасным для самих же себя: пикты и саксы усмиряют батавов, а батавы — пиктов и саксов{236}. Что ж, пусть они даже гордятся тем, что беспредельно покорны ему, — такая гордость в обычае у рабов. Однако что я слышу о тех, кто носит корону, — не о графах и маркизах, которыми земля полнится, но о государях? Стоит этому человеку свистнуть, и они уже сбегаются к нему, обнажают голову еще в приемной и не раскрывают рта, пока к ним не обратятся с вопросом. Неужели это те самые монархи, которые так щепетильны и чувствительны во всем, что касается их ранга и места, которые на своих съездах проводят целые месяцы в спорах о первенстве? Чем отплатит им этот новоявленный архонт за столь слепую покорность, чем воздаст за такое преклонение?
Наверно, тем, что, давая битвы, он всегда будет выигрывать их, и притом лично, защищая города — заставлять противника снимать осаду и с позором отступать, если только неприятель не прикрыт от него океаном. Может ли он поступить иначе, не совершая несправедливости по отношению к тем, кто превратился в его придворных? Пожалуй, в числе их скоро окажется сам Цезарь{237} (по крайней мере, он уже сейчас к его услугам), ибо архонт и его союзники, как в случае поражения, которое маловероятно, хоть и возможно, так в случае успеха и отсутствия какого бы то ни было сопротивления, непременно обрушатся на Цезаря, чье могущество вселяет в них зависть и чья религия им ненавистна, отнимут у него орла и оставят ему и его наследникам лишь серебряную перевязь на гербе и родовые владения. Как бы то ни было, сделанного не воротишь: все эти государи добровольно предались тому, кого им следовало больше всего опасаться. Не о них ли сказано у Эзопа: «Пернатых некоей местности встревожил и переполошил живший по соседству лев, его грозный рык повергал их в ужас. Они бросились искать спасенья у кота, который сначала взялся защитить их от льва и принял под свое покровительство, а затем сожрал всех пташек поодиночке».
Глава XIII О моде
1
Люди глупы и ничтожны — доказать это нетрудно. Взять хотя бы, к примеру, их подчинение моде даже в том, что касается еды, образа жизни, здоровья и совести. Они находят дичину несъедобной, потому что она вышла из моды, честят чудаком того, кому кровопускание помогло исцелиться от горячки, и давно уже не зовут к ложу умирающих Теотима: теперь принято считать, что его кроткие и спасительные увещевания годны лишь для простонародья, поэтому у Теотима появился преемник.
2
Любителю редкостей дорого не то, что добротно или прекрасно, а то, что необычно и диковинно, то, что есть у него одного. Модное и труднодоступное он ценит больше, чем совершенное. Собирательство для него не развлечение, а страсть, которая если и уступает в силе честолюбию и любви, то лишь потому, что предмет ее очень мелок. Страсть эта распространяется далеко не на все, что редко и примечательно, а только на что-то одно, редкое и в то же время модное.
Вот перед вами любитель цветов: каждый день на рассвете он спешит куда-то в предместье, где у него сад, а домой возвращается уже на закате. Вы видите его? Он стоит неподвижно, словно врос в землю среди своих тюльпанов, и созерцает «Бриллиант»; он пялит на него глаза, потирает руки, присаживается на корточки, чтобы лучше его разглядеть, млеет от восторга; нет, никогда в жизни он не видел ничего прекраснее! От «Бриллианта» он переходит к тюльпану «Восточный», от «Восточного» к «Вдове», к «Золотистой парче», «Агату», потом снова возвращается к «Бриллианту»; тут он останавливается окончательно, любуется им до полного изнеможения, садится возле него и в конце концов, восхищаясь красотой каймы, бархатистостью и яркостью тонов, забывает, что пора обедать. Какой у этого тюльпана великолепный венчик или, что то же самое, какая великолепная чашечка! Он не наглядится на цветок, не нарадуется ему; при этом он восхищается не богом, не природой, а лишь луковицей тюльпана, которую не уступит сейчас и за тысячу экю, хотя охотно отдаст ее даром, когда в моде будут не тюльпаны, а гвоздики. Этот разумный человек, наделенный душой, верующий в бога, исполняющий церковные обряды, возвращается к себе обессиленный, голодный, но вполне довольный проведенным днем: он навестил свои тюльпаны.
Заговорите с другим о богатом урожае, великолепных хлебах, обильном сборе винограда — он вас и слушать не станет: его интересуют лишь фрукты; заведите речь о винных ягодах и дынях, скажите, что в этом году груши гнутся под тяжестью плодов, что персики прекрасно уродились, — для него все это пустой звук, он вам даже не ответит, потому что увлекается только сливами; но не вздумайте рассказывать ему о ваших сливах, он признаёт один лишь сорт — любой другой, о котором вы упомянете, вызовет у него насмешливую улыбку: он подведет вас к дереву, ловко сорвет эту бесподобную сливу, разделит ее пополам, одной половинкой угостит вас, другую отправит себе в рот, восклицая при этом: «До чего сочна! Вы чувствуете? Божественно! Ни у кого больше нет такой сливы!» Ноздри у него раздуваются, он едва скрывает тщеславную радость, напуская на себя подобие скромности. О, божественный человек! Могу ли я не восхвалять его, не восхищаться им? Пройдут века, а он все будет жить в памяти людей. Пока он еще пребывает на земле, я должен во всех подробностях рассмотреть его фигуру, выражение лица, черты: ведь он единственный из смертных, владеющий подобной сливой.
Вы встречаете третьего, и он рассказывает вам о своих собратьях-собирателях, особенно о Диогнете. «Я дивлюсь на него, — говорит он, — и с каждым днем все меньше его понимаю. Вы, быть может, думаете, что, собирая медали, он хочет углубить свои познания, что для него каждая медаль — это непреходящее свидетельство определенного события, яркий и убедительный памятник древней истории? Ничуть не бывало! Как вы полагаете, почему он тратит столько сил на поиски головы? Уж не потому ли, что ему хочется собрать полную серию медалей с изображением римских императоров? Если таково ваше мнение, то вы совершаете еще большую ошибку: Диогнет знает о медалях только то, что они бывают стертые, полустертые и хорошо сохранившиеся; у него есть одна шкатулка, где все места, кроме одного, заняты; эта пустота режет ему глаза, и он готов убить все свое время и состояние только на то, чтобы ее заполнить».
«Не хотите ли посмотреть мои эстампы?» — говорит Демокед, только что осудивший Диогнета. Он раскладывает их перед вами и начинает показывать. Вы обращаете его внимание на один эстамп — грязно-серый, неотчетливый, сделанный с дурной гравюры и к тому же годный для украшения не столько кабинета, сколько Малого моста или Новой улицы в праздничный день. Демокед не отрицает, что гравировка плохая, да и рисунок неважный, но, уверяет он вас, это работа некоего итальянца, весьма неплодовитого, оттисков с гравюры было сделано мало, во Франции их нет вовсе, и он, Демокед, купил этот экземпляр за огромные деньги и не променяет его на самый лучший эстамп. «Я глубоко опечален, — продолжает Демокед. — Боюсь, что вообще перестану собирать эстампы. Понимаете ли, у меня полный Калло{238}, за исключением одного-единственного эстампа; правда, он не из лучших, скорее даже из наименее примечательных, но только его мне и недостает для полного собрания. Я уже двадцать лет охочусь за ним и вот теперь утратил всякую надежду найти: это очень тяжко».
Некто насмехается над людьми, которые из-за снедающего их беспокойства или из любознательности отправляются в долгие путешествия; у них нет при себе записных книжек; они не пишут ни воспоминаний, ни статей, ездят, чтобы видеть, но ничего не видят или сразу забывают увиденное, жаждут осмотреть очередную башню или колокольню, стремятся переплыть очередную реку, лишь бы она звалась не Сеной и не Луарой, покидают родной край только затем, чтобы вернуться назад, живут на чужбине ради того дня, когда из дальних странствий приедут домой. Мой собеседник прав, нападая на этих людей, и я внимательно его слушаю.
Но вот он говорит, что книги учат большему, чем путешествия, и дает понять, что у него обширная библиотека. Я выражаю желание осмотреть ее, прихожу к нему, но не успевает он довести меня до лестницы, как мне становится дурно: воздух у него в доме пропитан запахом черного сафьяна, в который переплетены книги. Желая подбодрить меня, хозяин орет мне прямо в ухо, что у всех его книг — золотой обрез и тиснение, что он собрал у себя такие-то и такие редкие издания, что галерея забита ими сверху донизу, за исключением разве нескольких пустых полок, да и те раскрашены весьма искусно, — кажется, будто на них тоже стоят книги; сам он, по его словам, ничего не читает и в галерею эту никогда не заглядывает, однако, чтобы доставить мне удовольствие, готов подняться туда вместе со мною… Его уговоры тщетны: я благодарю хозяина за любезность, но так же, как он сам, отнюдь не стремлюсь ближе познакомиться с кожевенной мастерской, которую он именует библиотекой.
Иные, будучи не способны ограничить свою жажду знаний какой-нибудь определенной областью, изучают все науки подряд и ни в одной не разбираются: им важнее знать много, чем знать хорошо, интереснее нахватать побольше знаний, чем глубоко проникнуть в один-единственный предмет. Любой случайный знакомец кажется им мудрецом, от которого они ждут откровений. Жертвы суетной любознательности, они в конце концов разве что выбиваются из полного невежества: таковы плоды их долгих и тяжких усилий.
Другие владеют ключом от всех наук, но никогда в них не проникают: всю жизнь они корпят над языками, на которых говорят жители востока и севера, жители обеих Индий и обоих полюсов, наконец — жители Луны. Они считают истинно достойными внимания и труда лишь те наречия, которые давно забыты, лишь те надписи, которые сделаны самыми странными и таинственными знаками. Они искренне жалеют того недалекого человека, который посвятил себя изучению родного языка или в крайнем случае еще латыни и греческого, постоянно читают разного рода историйки, но так и не знают истории, бегло проглядывают множество книг, но ни из одной не извлекают пользы. Когда дело касается событий и принципов, эти люди подобны бесплодной почве, зато они словно житницы для обильнейшего урожая всевозможных слов и выражений. Память их до отказа наполнена, она уже больше ничего не вмещает, но головы все равно пусты.
Некий горожанин больше всего на свете любит здания: он выстроил себе такой красивый, роскошный и пышно изукрашенный дом, что жить в нем невозможно. Хозяин, не дерзая поселиться в этом дворце и не находя в себе мужества сдать его внаем какому-нибудь вельможе или финансисту, до скончания дней ютится на чердаке, между тем как анфилада парадных комнат и мозаичные полы отданы во власть приезжим англичанам и немцам, которые осматривают жилище нашего горожанина наравне с Пале-Роялем, Л…г…ким{239} и Люксембургским дворцами. В эту великолепную дверь непрерывно стучатся гости: все хотят осмотреть дом, но никто не вспоминает о его владельце.
Знаем мы и таких собирателей, у которых дочери на выданье лишены приданого. Да что я говорю: они раздеты, разуты, а порою и голодны. Эти люди так бедны, что отказывают себе в пологе над кроватью и в белых простынях. Причина их бедности совсем близко, рядом: это комната, сплошь заставленная, забитая бюстами прекрасной работы, уже заросшими грязью и покрытыми толстым слоем пыли. Их распродажа принесла бы хозяину достаток, но он все не решается с ними расстаться.
Дифил начал с одной птицы, а теперь их у него тысячи; вместо того чтобы оживить его дом, они превратили его в сущий ад. Двор, гостиная, лестница, прихожая, спальни, кабинет — все это один огромный птичник; там стоит дикий шум, отнюдь не похожий на веселый щебет: даже осенние ветры не свистят так пронзительно, даже полая вода не разливается с таким грохотом; людские голоса не более слышны в этой неразберихе звуков, чем лай комнатной собачонки в приемном зале, где придворные ждут выхода монарха. То, что вначале было приятным развлечением, стало тяжким трудом, с которым Дифил едва справляется: целые дни, — те самые дни, которые, промелькнув, никогда не возвращаются, — он сыплет зерно своим питомцам и убирает за ними нечистоты. Дифил взял к себе на службу человека и платит ему немалые деньги только за то, что этот искусник подсвистывает чижам на флажолете и заставляет канареек высиживать птенцов; правда, он не только тратится, но и сберегает: у его отпрысков нет учителей, и они не получают никакого образования. Измученный собственной прихотью, он запирается вечером, но по-настоящему вкусить отдых может лишь тогда, когда отдыхают птицы, когда этот маленький народец, любимый Дифилом за песни, перестает наконец неть. Даже во сне Дифил видит птиц; более того — он сам становится птицей, у него вырастает хохолок, он щебечет и порхает с ветки на ветку; порою ему даже грезится по ночам, что он линяет или высиживает птенцов.
Мыслимо ли перечислить все породы собирателей? Услышав, как некто рассказывает о своем «леопарде», о своем «перышке», о своей «музыке»[65] и выхваляет их так, словно на земле нет ничего чудеснее и удивительнее, догадаетесь ли вы, что речь идет о раковинах, которые он хочет продать? Впрочем, что ему еще остается делать, если он сам покупает их на вес золота?
Вот этот любит насекомых, и у него ежедневно новые приобретения: во всей Европе не сыскать человека, у которого было бы столько бабочек всех размеров и цветов. Вы собираетесь нанести ему сейчас визит? Это неосмотрительно, ибо он в таком горе и унынии, так брюзжит, что все его домочадцы дрожат от страха. Он понес невосполнимую потерю: подойдите к нему поближе, взгляните на то, что повисло у него на пальце, безжизненное и бездыханное, — это гусеница, но какая!
3
Ни в чем так не проявлялось всесилие моды и ее тиранство, как в обычае драться на дуэли. Освященный тем, что на дуэлях присутствовали короли, обязательный, как некий благочестивый обряд, этот обычай отказывал трусу в праве на жизнь, приносил его в жертву храбрецу и принуждал к поведению, свойственному лишь тем, кто наделен мужеством; более того — он ставил в зависимость от неразумного, бессмысленного поступка честь и доброе имя и даже оправдание или осуждение людей{240}, обвиненных в тягчайших преступлениях. Дуэль пустила такие крепкие корни в умы и сердца, так прочно вошла в сознание народа, что исцеление его от этого безумия стало одним из прекраснейших деяний великого короля{241}.
4
Одному мода приписывала талант полководца и государственного мужа, другому — красноречивого проповедника, третьему — стихотворца, а потом она всех ввергла в забвение. Но может ли человек, наделенный выдающимися способностями, вдруг утратить их? Действительно ли он лишился таланта или просто вышел из моды?
5
Мода на человека проходит быстро, как всякая мода, но если случайно этот человек и впрямь незауряден, он не исчезает бесследно, от него что-то остается: он по-прежнему исполнен достоинств, только их уже мало кто ценит.
Добродетель тем и хороша, что, довольствуясь собою, она не нуждается ни в поклонниках, ни в приверженцах, ни в покровителях: отсутствие поддержки и похвалы не только ей не вредит, но, напротив, оберегает ее, очищает и совершенствует. Восхваляемая модой или вышедшая из моды, она все равно остается добродетелью.
6
Скажите людям, в особенности сильным мира сего, что такой-то исполнен добродетели, — и они вам ответят: «А нам-то какое дело?»; что он умен, обходителен, остроумен, — и они промолвят: «Тем лучше для него»; что он образован, начитан, — и они спросят, который час или какая погода на дворе. Но сообщите им, что какой-нибудь Тигеллин одним махом выдувает стакан водки и способен за обедом повторить этот подвиг несколько раз, — и они воскликнут: «Где он? Приведите его к нам завтра, нет, сегодня же вечером. Обещаете?» Его приводят, и тот, кому место разве что на ярмарке, в балагане, где он может выступать за деньги, вскоре становится своим человеком в домах вельмож.
7
Ничто так не возвышает человека в общем мнении и не вводит его в моду, как игра по большой, да еще разврат. Разве может даже самый учтивый, любезный и остроумный собеседник — будь то даже Катулл{242} или его ученик — выдержать сравнение с тем, кто за один присест проигрывает сто пистолей?
8
Женщина, вошедшая в моду, похожа на тот безымянный синий цветок, который растет на нивах, глушит колосья, губит урожай и занимает место полезных злаков; им восхищаются и его ценят лишь потому, что такова внезапно возникшая, случайная и преходящая прихоть моды. Сегодня все гонятся за этим цветком, женщины украшают себя им, а завтра он снова окажется в пренебрежении, годный разве что для простонародья.
Напротив, женщина, наделенная подлинными достоинствами, — это цветок, названный не только по своему цвету, но имеющий собственное имя, любимый всеми за красоту и аромат; он — украшение и гордость природы, он издавна известен и дорог людям, которые любуются им ныне, как любовались во времена наших отцов. Пусть кто-то питает к нему злобу или зависть — ему ничто не может повредить: это лилия или роза.
9
Евстрат плывет по морю в своем челне, наслаждаясь ясным небом и прозрачным воздухом: по всем приметам попутный ветер еще долго будет благоприятствовать плаванию, но вдруг он стихает, небо заволакивается тучами, надвигается гроза, вихрь подхватывает ладью и бросает ее в пучину. Евстрат на секунду появляется на поверхности, изо всех сил плывет к берегу, он вот-вот спасется, но огромная волна захлестывает его, и все считают его погибшим; он выныривает во второй раз, надежды на его спасение возрождаются — и снова морской вал погребает его в бездне вод. Евстрата больше не видно: он утонул.
10
Вуатюр и Сарразен{243} были так под стать своему веку, что, казалось, все ждали их появления; случись им хоть немного замешкаться — и они были бы уже не столь своевременны. Я даже осмелюсь выразить сомнение в том, что им удалось бы достичь того, чего они достигли, родись они сейчас: легкая беседа, кружки, тонкие шутки, веселые и доверительные письма, дружеские сборища, куда допускались только действительно остроумные люди, — всего этого уже нет. И пусть мне не говорят, что Вуатюр и Сарразен могли бы воскресить былой уклад жизни: я могу согласиться лишь с тем, что эти столь одаренные люди блистали бы и в наши дни, но уже совсем в другом роде, ибо женщины теперь либо кокетки, либо богомолки, либо картежницы, либо честолюбивы, либо все это, вместе взятое. Жажда милостей и любовных интриг, пристрастие к игре и духовным наставникам заняла в их сердце место, которое прежде отводилось остроумным людям.
11
Глупый и пустой человек носит широкополую шляпу, камзол с откидными рукавами, штаны на шнуровке и туфли; с вечера он уже начинает думать о том, как и где сможет обратить на себя внимание. Разумный человек носит то, что ему советует его портной; презирать моду так же неумно, как слишком рьяно ей следовать.
12
Одним не нравится мода, которая делит туловище мужчины на две равные части и непомерно удлиняет талию, другие бранят моду, превращающую женскую голову в постамент многоэтажного сооружения, прихотливо задуманного и возведенного: волосы, предназначенные природой для того, чтобы обрамлять лоб, зачесаны кверху, подняты, поставлены дыбом, и скромные, милые лица женщин становятся надменными и вызывающими физиономиями вакханок. Короче говоря, нападкам подвергается любая мода, хотя, пока она длится, ее самые затейливые ухищрения кажутся приятными, красивыми и привлекают одобрительное внимание — а ничего другого от нее и не требуют. Во всем этом я нахожу достойным удивления только легкомыслие и непостоянство людей, которым поочередно кажутся изящными и пристойными вещи, несовместимые одна с другой: эти люди сегодня носят, как потешные маскарадные костюмы, ту самую одежду, которая в прошлом — и, кстати сказать, совсем недавнем — служила им парадным облачением для важных и торжественных случаев.
13
Н. богата, у нее хороший аппетит и крепкий сон; она мнит себя счастливой и вдруг обнаруживает, что мода на прически неожиданно изменилась и она отстала от моды!
14
Ифий{244} приходит в церковь и видит на ком-то новомодные туфли, смотрит на свои — и краснеет от стыда: ему кажется, будто он раздет. Он явился к мессе, чтобы показать себя, а вместо этого старается спрятаться, и потом весь остаток дня ноги его не дозволяют ему выйти за порог спальни. У него нежные руки — и он умащает их благовонным бальзамом; красивые зубы — и он часто смеется, складывает губы бантиком и охотно улыбается. Он то и дело поглядывает на свои ноги, смотрится в зеркало и вполне доволен своей особой. Ему удалось выработать себе звонкий и приятный голос, и, к счастью, он от природы умеет картавить. Ифий изящно склоняет голову, с приятной томностью поводит глазами, ходит плавно и старается выглядеть стройным; он красит щеки, но редко, в виде исключения; к тому же он носит штаны и шляпу и не носит серег и жемчужных ожерелий, — поэтому я и не поместил его портрет в главу о женщинах.
15
Люди охотно следуют моде в повседневной жизни, но упорно пренебрегают ею, когда им случается позировать художникам: они предвидят или чуют, как смешно будет выглядеть на портрете их наряд, когда, потеряв прелесть новизны, он выйдет из моды. Поэтому они предпочитают диковинные облачения и драпировки, подсказанные им фантазией художника, которые никак не идут ни к их лицу, ни к осанке, ни к характеру, ни к положению. Они принимают принужденные или нескромные позы, напускают на себя грозный, свирепый, неестественный вид, который превращает молодого аббата в воина, судью — в фанфарона, горожанку — в Диану, скромную и робкую женщину — в амазонку или Афину Палладу, невинную девушку — в Лаису{245}, а доброго и великодушного вельможу — в скифа, в какого-то Аттилу.
Не успевает одна мода сменить другую, как ее самое уничтожает новая мода, уступающая, в свою очередь, дорогу следующей, которая тоже отнюдь не является последней: таково легкомыслие людей. Пока происходят эти бурные перемены, пока один за другим устаревают и предаются забвению наряды, проходит столетие, и вдруг обнаруживается, что самая старая мода и есть самая привлекательная и радующая глаз. Теперь, когда прошли годы, когда изменились времена, она снова пленяет нас на портретах, как безрукавный кафтан воина-галла или римская тога — в театрах или как халат[66], покрывало[67] и тюрбан[68] — на гобеленах и картинах.
Портреты наших отцов воскрешают не только их лица, но и одежду, прическу, оружие[69] и все безделушки, которыми при жизни они любили себя украшать. Мы можем отблагодарить их только тем, что постараемся с такой же точностью запечатлеть себя для наших потомков.
Жак Калло. «Дама в маске».
«Раскланивающийся кавалер» (офорты).
16
В былые времена придворные носили штаны с широкой кружевной отделкой и камзол, не признавали париков и были вольнодумцами. Теперь это не принято; они носят парики, одежду в обтяжку, гладкие чулки и отличаются благочестием: все решает мода.
17
Хотя это и противно здравому смыслу, но еще совсем недавно придворный, отличавшийся благочестием, казался смешным чудаком; мог ли он надеяться, что так скоро войдет в моду?
18
На что только не пойдет придворный, чтобы возвыситься, если ради этого он готов даже притвориться благочестивым!
19
Краски растерты, холст натянут, но как мне запечатлеть на нем человека — беспокойного, легкомысленного, непостоянного, многоликого? Я рисую его благочестивцем, и мне кажется, что я правильно уловил черты сходства, но он вдруг меняется и становится вольнодумцем. Хоть бы он подольше побыл в этом дурном обличий, чтобы я мог верно изобразить всю порочность его ума и сердца! Но мода не стоит на месте: он снова благочестив.
20
Тот, кто глубоко изучил нравы двора, знает, что такое истинная добродетель и что такое ханжество; его уже никто не проведет.
21
Пренебрегать ранней обедней{246}, считая эту службу устарелой и немодной; занимать себе место в храме задолго до начала вечерни; знать наперечет всех, кто бывает в капелле и стоит сбоку; уметь всегда быть на виду и никогда не становиться в тень; думать в божьем храме и о боге и о своих делах; принимать там посетителей, отдавать приказы, посылать с поручениями и ожидать ответа; пропускать мимо ушей Священное писание, но смиренно слушать своего духовного наставника; полагать, что от его репутации зависит и собственная святость, и спасение души; презирать всех, чей наставник не столь моден в свете, и едва с ними здороваться; внимать слову божьему всегда в одном и том же храме или если его проповедует этот прославленный духовный наставник; посещать лишь те обедни, которые служит он, и причащаться лишь у него; окружать себя богословскими книгами, но не помнить о существовании Евангелий, апостольских посланий и творений отцов церкви; читать и изъясняться на таком языке, который был неведом в первые века христианства; на исповеди поминать чужие пороки, умаляя собственные, каяться в своих страданиях и в своем долготерпении, как в грехе, виниться в том, что еще недалеко продвинулся по пути самосовершенствования; вступив в тайный заговор с одними людьми, злоумышлять против других; ценить лишь себя и своих присных; не верить самой добродетели; упиваться благами судьбы и милостями власть имущих, жаждать их только для себя, отказывать в помощи людям достойным, ставить милосердие на службу честолюбию, надеяться, что богатства и почестей достаточно для спасения души, — таковы в наше время мысли и чувства благочестивцев [70].
Благочестивец — это такой человек, который при короле-безбожнике сразу стал бы безбожником.
22
Для благочестивцев существует лишь один грех — плотская невоздержность, вернее сказать — невоздержность явная и осуждаемая. Ферекид и Ференика стремятся только к одному: он — умело притвориться, что смотреть больше не хочет на женщин, она — внушить всем, что не изменяет мужу. Оба они играют в карты по большой, не платят долгов, радуются несчастью ближнего и наживаются на нем, раболепствуют перед вельможами, презирают людей маленьких, восхищаются собственными добродетелями, сохнут от зависти, лгут, злословят, интригуют, строят козни — иной жизни для них не существует. Что ж, не мешайте им, иначе они постараются присвоить себе славу тех истинно добродетельных людей, которым не менее, чем скрытые пороки, чужды гордыня и несправедливость.
23
Если мне доведется встретить придворного, который не ведает зазнайства и честолюбия, равнодушен к роскоши, не строит своего благополучия на несчастье соперников, справедлив, печется о тех, кто от него зависит, платит долги, не лжет и не злословит, воздержан в еде и не любострастен; который молится, даже когда короля нет в церкви, и притом не только губами, не обливает холодом и высокомерным презрением всякого, кто ниже его, не напускает на себя сурового или скорбного вида, не ленив и не празден, рачителен в исполнении своих многочисленных и важных должностей, может и хочет посвятить помыслы и старания трудным и благим делам, особенно таким, от коих зависит благо народа и государства; который так высок душой, что я не посмел бы назвать здесь его имя, и так скромен, что, не будучи названным, не узнал бы себя в этом портрете, — если, повторяю, я встречу подобного человека, я скажу о нем: «Он поистине благочестив или, вернее, ниспослан своему веку как образец непритворной добродетели, дабы людям легче было распознать ханжество».
24
Постель Онуфрия застлана серой саржей, но перины у него пуховые, а простыни полотняные; одежда у него простая, но удобная — летом легкая, зимой очень теплая; он носит сорочки из тончайшей ткани, но тщательно скрывает их под верхним платьем. Онуфрий никогда не говорит: «моя власяница» или «мой бич для смирения плоти» — он вовсе не желает прослыть ханжой, — хотя таков он и есть, — напротив, он хочет считаться человеком благочестивым, каким отроду не был; правда, ничего не говоря, он все же внушает ближним мысль, что носит власяницу и истязает себя бичом. В комнате у него всюду лежат книги; откройте их, и вы увидите, что это «Духовная борьба», «Христианский дух» и «Святой год»{247}, — книги иного рода он держит под замком. Вот он шагает по улице и уже издали замечает, что навстречу ему идет человек, перед которым следует притвориться благочестивым: потупленный взор, медлительная и скромная поступь, сосредоточенный вид — все эти уловки ему знакомы, и он отлично играет свою роль. Он входит в церковь, внимательно осматривается, а потом, сообразно с тем, кто там находится, либо преклоняет колена и начинает молиться, либо не делает ни того, ни другого; если возле него остановится человек, облеченный властью и к тому же добродетельный, он будет не только молиться, но и размышлять вслух, испуская при этом громкие стенания и вздохи; как только добродетельный человек проходит дальше, Онуфрий, углядев это краешком глаза, сразу успокаивается и перестает стенать. Вот он снова является в божий храм, расталкивает прихожан и выбирает себе такое место, чтобы все видели, как смиренно он склоняется перед господом; если до его слуха долетают смех и болтовня придворных, которые в церкви шумят больше, чем в приемной вельможи, он шикает так громко, что заглушает разговоры, и вновь предается размышлению, сравнивая этих господ с собою — в свою пользу, конечно. Он и носу не кажет в церкви, где можно прослушать две обедни, проповедь и всю вечернюю службу, оставаясь наедине с богом; нет, Онуфрий любит проявлять свое благочестие перед многочисленными прихожанами, он признает лишь те храмы, куда стекается много народу: там он не останется незамеченным, там его обязательно все увидят. Постится он два, в крайнем случае три дня в году, и без всякого повода; но вот подходит великий пост, и тут у него начинает болеть грудь, кружиться голова, он кашляет, недомогает и, снисходя к настойчивым просьбам, уговорам, мольбам окружающих, прерывает пост в самом начале. Если его просят рассудить какой-нибудь семейный спор или сказать, кто из тяжущихся прав, — он всегда будет на стороне сильнейшего, иначе говоря — более богатого: ему и в голову не приходит, что тот или та, у кого больше доходов, может быть несправедлив. Если ему удается войти в доверие к человеку состоятельному, от которого можно ждать важных услуг, стать его другом и приживалом, он ни за что не будет соблазнять его жену или, во всяком случае, ухаживать за ней и объясняться ей в любви; если он сомневается в ее умении молчать, то скорее предпочтет улизнуть, оставив в ее руках край своей одежды; не рискнет он и прельщать ее благочестивыми речами, ибо прибегает к ним не по привычке, а вполне обдуманно: он не станет пускать их в ход, если это может сделать его смешным. Онуфрий знает, где найти женщин, более склонных к мужскому обществу и более податливых, чем жена его друга; впрочем, он проводит с ними время себе на выгоду: все кругом говорят, что Онуфрий живет в благочестивом уединении, и как не поверить этому, когда через некоторое время наш герой снова появляется в обществе, усталый, изможденный, всем своим видом показывающий, что нисколько себя не бережет. Однако ему вполне подходят и женщины, которые цветут и наслаждаются жизнью под сенью благочестия, с той лишь оговоркой, что Онуфрий пренебрегает старухами, а из молодых предпочитает миловидных и хорошо сложенных, — названные качества для него весьма притягательны. Эти женщины уходят — уходит и Онуфрий; они возвращаются — возвращается и он; они остаются — он не двигается с места: так всюду и везде он услаждает себя их обществом. И разве можно упрекнуть его в этом, если они, как и он, благочестивы? Он не преминет ловко извлечь пользу из слепой, доверчивой привязанности своего друга: просит у него денег взаймы или обставляет дело так, что этот человек сам ему предлагает, да еще с упреком в нежелании прибегать к дружеской помощи; порой под грошовый долг дает расписку, уверенный, что этот долг никто не потребует; сокрушенно заявляет, что ни в чем не нуждается, — это значит, что ему нужна лишь маленькая сумма денег; зато в другой раз начинает так расхваливать щедрость своего покровителя, что тот хотя бы из самолюбия раскошеливается на щедрую подачку; но, само собой разумеется, он и не думает наследовать ему или получить в дар все его состояние, особенно если бы для этого пришлось тягаться с законным сыном: благочестивец не может быть ни скупым, ни бессовестным, ни своекорыстным, ни даже несправедливым. Онуфрий не понимает, что такое истинное благочестие, но он хочет казаться благочестивым и, весьма ловко изображая набожность, под ее прикрытием устраивает свои дела: поэтому он очень осторожен и держится подальше от семей, где есть дочь на выданье и сын, которого нужно пристроить к месту; слишком священны и нерушимы права детей, их нельзя попрать, не наделав шума, а Онуфрий не желает лишних толков, ибо они могут дойти до ушей монарха, от которого он тщательно скрывает свои интриги, иначе будет разоблачен и предстанет перед людьми в истинном свете. Он предпочитает вести наступление на дальних родственников — их можно обижать с меньшим риском попасться. Онуфрий — гроза двоюродных братьев и сестер, племянников и племянниц, верный друг и поклонник богатых дядюшек; он считает себя законным наследником всех богатых и бездетных старцев; если такой старец хочет, чтобы его родственники все-таки получили после него наследство, он должен во всеуслышание опровергнуть притязания Онуфрия. Если последнему не удается полностью прибрать к рукам состояние своих друзей, то уж большую часть он обязательно присвоит: чтобы осуществить этот достойный замысел, достаточно небольшой клеветы или даже легкого злословия, а этим искусством Онуфрий владеет в совершенстве. Он не оставляет свой талант втуне и даже выдает его за особую доблесть, утверждая, что иных людей надо обязательно выводить на чистую воду: естественно, к ним принадлежат все, кого он не любит, кому хочет навредить или кого жаждет обобрать. Порою он добивается своей цели, даже не давая себе труда раскрыть рот: если при нем заговорят об Эвдоксе, он в ответ лишь улыбнется и вздохнет; его станут расспрашивать, но он не ответит; да и зачем ему отвечать? Он уже достаточно сказал.
25
Почему ты не смеешься, Зелия, почему, изменив своему обыкновению, не болтаешь и не шутишь? Куда девалась твоя веселость? «Я разбогатела, — говоришь ты. — Теперь наконец можно расправить крылья и свободно вздохнуть». Смейся громче, Зелия, хохочи до упаду: к чему человеку богатство, если оно приносит с собой печаль и угрюмость? Подражай вельможам, рожденным среди роскоши: они тоже порою смеются, если у них есть к тому склонность. Следуй же своему нраву, пусть не говорят о тебе, что, хорошо устроившись и получив несколько тысяч ливров годового дохода, ты впала в уныние. «Я пользуюсь милостями некоей особы», — говоришь ты. Я догадывался об этом; и все же, Зелия, продолжай смеяться, даже мне улыбнись мимоходом, как в былые дни: не бойся, я не позволю себе ни малейшей вольности, не стану развязным, не подумаю дурно о тебе и о твоем новом положении, буду по-прежнему считать, что ты богата и в милости. «Я благочестива», — говоришь ты. Вот теперь я все понял, Зелия; мне не следовало забывать, что над спокойствием и весельем, даруемыми чистой совестью, взяли верх дурное расположение духа и суровость, которые и отражаются теперь на твоем лице: они сейчас в почете, и никого не удивляет, что высокомерными и презрительными женщины становятся не потому, что красивы или молоды, а потому, что благочестивы[71].
26
За истекший век мы весьма преуспели в искусствах и постигли науку во всех ее тонкостях; даже спасать душу мы обязаны теперь по определенным правилам и следуя определенной методе: эта область науки украшена всеми лучшими и возвышеннейшими достижениями человеческого разума. У благочестия, точно так же как у геометрии, свой язык и свои, так сказать, научные термины. Кто не знает их, тот не может быть ни благочестивцем, ни геометром. Первые христиане, обращенные апостолами, не владели этими терминами: у бедняг только и было, что вера и деяния, они только и умели, что славить господа и вести добродетельную жизнь.
27
Богобоязненному монарху нелегко очистить нравы царедворцев и привить этим людям истинную набожность: зная, что они ни перед чем не остановятся, дабы угодить ему и возвыситься, монарх действует осторожно, терпеливо, скрытно, боясь ввергнуть весь двор в ханжество и кощунственное лицемерие. Он больше полагается на бога и на время, чем на свое рвение и талант.
28
У всех сильных мира сего всегда было в обычае раздавать пенсионы и награды музыкантам, учителям танцев, шутам, флейтистам, льстецам и угодникам: эти люди, обладающие очевидными заслугами и несомненными талантами, умеют развлекать вельмож и облегчать им бремя их величия. Все знают, что Фавье — отличный танцор, а Лоренцани сочиняет прекрасные мотеты{248}; но кто знает, действительно ли добродетелен благочестивец? Для него ничего нет ни в частной кассе монарха, ни в государственной казне — и не без основания: в этом деле лицемерам раздолье, а их награждать нельзя, — не то придется поощрять плутов и притворщиков и выплачивать пенсионы ханжам.
29
Надо полагать, что благочестие двора скоро передастся и столице.
30
Истинное благочестие всегда является источником душевного покоя, помогает терпеливо сносить жизнь и делает желанной смерть, чего никак нельзя сказать о ханжестве.
31
Каждый час — и сам по себе, и в связи с нами — неповторим: стоит ему истечь, как он исчезает навеки, и возвратить его нам не смогут даже миллионы веков. Дни, месяцы, годы погружаются в бездну времени, и самого этого времени тоже не станет: оно — лишь точка в необозримых просторах вечности, и ее нетрудно стереть. Время порождает мелкие и быстротекущие явления, неустойчивые и непрочные, зовущиеся модой, величием, милостью, богатством, могуществом, властью, независимостью, наслаждением, радостью, достатком. Что станется с ними, когда исчезнет самое время? Долговечнее времени лишь одна добродетель, столь мало взысканная модой.
Глава XIV О некоторых обычаях
1
Не всякому по средствам купить себе дворянство.
Если бы некоторым людям[72]{249} удалось вымолить хоть полгода отсрочки у своих кредиторов, они стали бы дворянами.
Другие ложатся спать мещанами, а проснувшись, обнаруживают, что они дворяне[73].
Как много развелось у нас дворян, чьи отцы и старшие братья — простые мещане!
2
Иной не признает родного отца, потому что он держал лавку или сидел в канцелярии суда и был всем известен, зато похваляется дедом — благо тот давно умер, никому не известен и поэтому им уже не попрекнут, — большими доходами, важной должностью и знатной родней жены; короче говоря, чтобы доказать благородство своего происхождения, ему недостает только титула.
3
Слово «реабилитация» стало таким ходким в судах, что совсем вывело из моды и употребления привычное нашему слуху старинное французское понятие «жалование дворянской грамотой». Реабилитация означает, что человек, наживший богатство, всегда благороден по происхождению; более того — он просто обязан быть благородным. Правда, отец его пал так низко, что ходил за плугом, или работал мотыгой, или был коробейником, или носил ливрею, но сам он должен быть восстановлен в исконных правах своих предков, дабы вновь обрести фамильный герб (конечно, не тот, что выбит на его оловянной посуде, а тот, который он сам придумал); иными словами, жалование дворянской грамотой ему уже не подходит, оно пристало лишь мещанину, который пока еще только ищет способа разбогатеть.
4
Крестьянин, который уверяет всех, будто он видел чудо, в конце концов сам начинает этому верить; человек, долго скрывавший свои года, убеждает себя, что он и впрямь молод; точно так же мещанин, привыкнув утверждать, что какой-то его прадед был бароном или владел замком, проникается счастливой уверенностью в благородстве своего происхождения, хотя сам же и выдумал эту басню.
5
Покажите мне такого состоятельного и удачливого мещанина, у которого не было бы герба с геральдическими фигурами, щитодержателями, нашлемником, девизом и даже боевым кличем. Но куда девалось различие между каской и шлемом? Его не существует, сами эти названия забыты, никто не думает, куда помещать такие эмблемы — посередине или сбоку, и какой шлем выбрать и сколько в нем должно быть решеток. В наше время люди не интересуются такими мелочами, они прямо переходят к коронам: так оно проще, тем более что все считают себя достойными корон и охотно их себе присуждают. Те из мещан, у которых еще сохранилось подобие стыда и совести, не решаются украсить свой герб короной маркиза — они согласны и на графскую корону; некоторые из них поступают совсем просто: велят перерисовать ее со своих вывесок на свои же кареты.
6
Если вы родились не в городском доме, а в крытой соломой хижине или в лачуге, примостившейся у самого болота, вам достаточно назвать эту хижину или лачугу замком — и все поверят, что вы дворянин.
7
Захудалый дворянчик хочет прослыть маленьким сеньором и достигает своей цели; знатный сеньор жаждет титуловаться принцем и пускает в ход столько хитроумных уловок, что с помощью громких имен, местнических споров, новых гербов и новой генеалогии (составленной отнюдь не Озье{250}) он становится наконец маленьким князьком.
8
Знатные вельможи в своем поведении и образе жизни равняются на еще более знатных, которые, в свою очередь, не желая ни в чем уподобляться тем, кто стоит ниже их, охотно отказываются от подобающих им почестей и отличий, стараясь освободиться от этих тягостных оков ради более удобного и привольного существования. Их приближенные немедленно перенимают и эту простоту, и эту скромность: дело грозит кончиться тем, что, побуждаемые гордыней, они начнут жить так же неприхотливо, как простой люд. Какая неприятность!
9
Иные люди носят три имени сразу, так как боятся, что каждое в отдельности недостаточно знатно; одно они предназначают для деревни, другое для города, третье для должности, для того места, где служат. Есть и такие, у которых простое двусложное имя, но стоит им выбиться из нищеты, как они начинают его облагораживать разными приставками. Этот вычеркивает один слог — и его обыкновенное имя сразу превращается в знаменитое, другой меняет одну лишь букву — и из Сира становится Киром{251}. Некоторые вовсе отказываются от своих вполне почтенных имен и принимают другие, более известные, хотя от этой замены они только проигрывают, ибо теперь их все время сравнивают с теми великими людьми, которые когда-то так звались. Есть и такие, что родились под сенью парижских колоколен, но желают слыть итальянцами или фламандцами, как будто безродный мещанин не везде одинаков! Они удлиняют французские имена итальянскими окончаниями, считая, как видно, что, раз человек иностранец, значит, он из благородных.
10
Нужда в деньгах примирила дворян с разбогатевшими выскочками, и теперь старинная знать уже не может хвалиться чистотой рода.
11
Скольким детям был бы на руку закон, гласящий, что дворянин тот, у кого мать дворянка! Но скольким он был бы невыгоден!
12
В свете можно по пальцам пересчитать такие семейства, которые не были бы одновременно в родстве и со знатнейшими вельможами, и с простолюдинами.
13
Принадлежать к дворянскому сословию не так уж плохо; каких только льгот, привилегий и вольностей не дает человеку титул! Неужели вы полагаете, что община пустынножителей[74] приобрела права дворянства только для того, чтобы ее сочлены числились в благородных? Нет, они не так суетны: их прельщали доходы от этого звания — и, уж конечно, лучше получать доходы таким путем, нежели откупом соляной пошлины. Я разумею здесь не отдельных членов общины, — их обет воспрещает им столь мирские помышления, — а всю общину в целом.
14
Я должен сделать здесь заявление, чтобы заранее предупредить читателей: если в один прекрасный день я окажусь достойным внимания какого-нибудь вельможи и он поможет мне наконец возвыситься, то пусть все имеют в виду, что происхожу я от Жофруа де Лабрюйера{252}, который во всех хрониках числится одним из знатнейших французских сеньоров, сопровождавших Готфрида Бульонского, когда он отправился отвоевывать Святую землю: Жофруа — мой предок по прямой линии.
15
Если благородное происхождение относится к числу добродетелей, то его пятнает все, что недобродетельно; если же оно не является добродетелью, то вообще мало чего стоит.
16
Когда думаешь о принципах, лежащих в основе некоторых явлений, то сами эти явления кажутся не только удивительными, но и просто непонятными. Если взять, к примеру, иных аббатов, которые по роскоши нарядов, изнеженности и тщеславию затмевают самых знатных особ обоего пола, увиваются вокруг женщин наравне с маркизами и финансистами и одерживают верх над последними, то возможно ли поверить, что по своему сану и даже по самому смыслу слова «аббат» они являются пастырями, отцами святых монахов и смиренных отшельников и должны подавать им пример? Как силен, как тиранически властен обычай! Боюсь, что в недалеком будущем какой-нибудь юный аббат явится в общество в одеянии из серого бархата с разводами — наподобие епископа, или весь в мушках, с нарумяненными щеками — наподобие женщины! О более серьезных прегрешениях против священнического достоинства я уж не говорю.
17
У нас есть доказательство того, что мерзости языческих богов, всяких нагих Венер и Ганимедов, Каррачи изображал по заказу князей церкви, именующих себя преемниками апостолов; доказательство этому — палаццо Фарнезе{253}.
18
Даже прекрасное перестает быть прекрасным, когда оно неуместно; в основе всякой благопристойности лежит разум, поэтому там, где нет благопристойности, нет и совершенства. Не следует в капелле исполнять жигу, нехорошо произносить проповедь, словно монолог с театральных подмостков; нельзя украшать храмы мирскими изображениями[75], — например, помещать в одном и том же святилище образ Христа рядом с «Судом Париса»; не подобает лицам, посвятившим себя церкви, ездить в таких экипажах и с такой свитой, будто они светские люди.
19
Сказать ли мне наконец во всеуслышание то, что я думаю о так называемой прекрасной вечерне{254}, о мирском убранстве храма божьего, о местах, за которые прихожане заранее платят деньги, о книжках[76], раздаваемых в церкви, словно это театр, о встречах и свиданиях, о неумолчном шепоте и громкой болтовне, о человеке, который поднимается на кафедру и сухо, равнодушно произносит проповедь с одной лишь целью: собрать побольше народу и занять его, пока не заиграет оркестр, да что там оркестр — пока не грянет хор, который давно уже спевается? Пристало ли мне говорить о том, что меня снедает рвение к дому божьему, и отдергивать легкую завесу, скрывающую таинства, которые стали свидетелями такой непристойности? Как! Только потому, что у т..т..цев еще не пляшут, я соглашусь назвать это зрелище церковной службой?
20
Что-то не видно людей, которые давали бы обеты или отправлялись поклониться святым в надежде на то, что господь дарует им разум более кроткий, душу более благодарную, жизнь не столь злонамеренную и неправедную, что он исцелит их от тщеславия, суетности и глумливости!
21
Что может быть несообразнее, чем толпы христиан обоего пола, которые собираются по определенным дням в зале и рукоплещут людям, отлученным от церкви именно за то, что они доставляют вышеупомянутым христианам заранее оплаченное удовольствие! На мой взгляд, следует либо закрыть театры, либо менее сурово отзываться о ремесле комедиантов.
22
В так называемые святые дни монах исповедует, а священник мечет громы и молнии с кафедры против монаха и его приверженцев. Иной раз благочестивая женщина, выйдя из исповедальни, слышит, что проповедник обличает ее в кощунстве. Неужели среди князей церкви нет никого, кто мог бы принудить к молчанию пастыря или воспретить на время деятельность варнавита{255}?
23
За бракосочетание с прихожан берут больше, чем за крестины, а крестины стоят дороже, чем исповедь: таким образом, с таинств взимается налог, который как бы определяет их относительное достоинство. Конечно, в основе этого обычая нет ничего дурного, и никому — ни пастырям, совершающим священный обряд, ни мирянам — не приходит в голову, что они что-то продают или покупают; однако, имея в виду людей недалеких и маловеров, следовало бы и тут соблюдать благопристойность.
24
Румяный и пышущий здоровьем пастырь в тонком белье, отороченном венецианским кружевом, восседает в церкви рядом с теми, кто носит пурпур и горностай{256}. Здесь он и занимается пищеварением, в то время как фельян или францисканец, покинув келью или пустынь, где живут по обету и велению совести, отправляется читать проповедь ему и его пастве, чтобы потом получить за это деньги, как за штуку ткани. «Какая непонятная строгость! — воскликнете вы, перебив меня. — И как она неожиданна и неуместна! Неужели вы хотите отказать этому пастырю и его подопечным в слове божьем и пище духовной?» Напротив, я хочу, чтобы он сам раздавал эту пищу утром и вечером, в храмах и жилищах, на городских площадях и на кровлях домов; хочу, чтобы за этот почетный и утомительный труд брался только тот, кому талант, призвание и мощные легкие помогают честно заслужить щедрые приношения и богатые дары. По правде говоря, я не думаю винить священника, ибо таков обычай, который он перенял у своего предшественника и передаст своему преемнику, но самый обычай, странный и лишенный смысла, я не могу одобрить так же, как четырехкратное взимание платы за службу на похоронах: за себя, за свой сан, за присутствие и за помощь.
25
Тит священствует вот уже двадцать лет, но так и не получил повышения, хотя вакантные места бывали не раз. Ни его таланты, ни образ мыслей, ни примерная жизнь, ни мнение паствы, — ничто не помогает ему выдвинуться: всегда словно из-под земли появляется другой священник, которому и отдают это место. Тит снова обойден и остается в тени. Но он не жалуется: таков обычай;
26
«Я распоряжаюсь хором, — говорит церковный староста. — Кто может обязать меня являться к заутрене? Мой предшественник не присутствовал на этой службе, а чем я хуже его? Нет, я не унижусь до этого и всегда буду блюсти свое достоинство». «Я не о своих интересах пекусь, — говорит схоластик, — а о церковных; было бы величайшей несправедливостью, если бы главный каноник подчинялся клиру, а казначей, архидиакон, исповедник и главный викарий не зависели от него». «У меня все основания, — говорит генерал ордена, — не бывая на заутренях, требовать положенное мне содержание: я уже добрых двадцать лет пользуюсь правом спокойно спать по ночам и собираюсь кончить, как начал, ни в чем не погрешив против привилегий моего сана. Я недаром стою во главе капитула: что другим воспрещено, то мне дозволено». Так они наперебой доказывают друг другу, что не обязаны славить бога, что давным-давно установленный обычай освобождает их от этого, и вкладывают в свои споры столько рвения и жара, словно соревнуются между собой, кто из них больше пропустит церковных служб. В ночном безмолвии звучит перезвон колоколов, но их мелодичный призыв, пробуждающий клириков и певчих, убаюкивает каноников, погружая их в спокойный, сладкий сон, овеянный приятными грезами. Встают они поздно и отправляются в церковь получать деньги за то, что хорошо выспались.
27
Разве мы могли бы поверить, если бы сами не были тому свидетелями, что наши ближние так упорствуют в отказе от вечного блаженства? Что только людям в особых одеждах, пускающим в ход трогательные и выспренние, хотя и заученные речи, восклицания и шепот, слезы и размашистые жесты, которые доводят их до седьмого пота и полного изнеможения, — что только этим людям удается вырвать у вполне разумного христианина, больного неизлечимой болезнью, согласие спасти свою душу от вечных мук и не обрекать ее на гибель?
28
Дочь Аристиппа тяжело больна; она посылает за отцом, чтобы перед смертью примириться с ним и вернуть себе его расположение. Как поступит этот мудрый человек, у которого весь город спрашивает совета? Согласится ли на столь разумный шаг? Побудит ли сделать то же самое и свою жену? Или они не двинутся с места, пока в это не вмешается их духовный наставник?
29
Мать, которая отдает свою дочь в монастырь не потому, что таково призвание и твердая воля девушки, а по собственному почину, отвечает перед богом уже не только за свою душу, но и за душу дочери, служа как бы порукой за нее. Такая мать избежит вечной погибели, только если спасется дочь.
30
Некто, играя по большой, проматывает почти все свое состояние; однако с теми крохами, которые он еще не успел просадить какому-нибудь Амбревилю, ему удается выдать замуж старшую дочь; у младшей один путь — в монастырь: она избирает его только потому, что ее отец — картежник.
31
Сколько на свете было девушек — добродетельных, здоровых, набожных, готовых посвятить себя богу, но недостаточно богатых, чтобы принести обет бедности в богатом монастыре!
32
Та, что колеблется, где ей принять постриг — в аббатстве или в обычном монастыре, решает извечный вопрос, какой образ правления лучше, — народоправство или деспотия{257}.
33
Когда о человеке говорят, что он сделал глупость и женился по страстишке, это значит, что он вступил в брак с Мелитой, которая молода, хороша собой, рассудительна, бережлива и любит его, но менее богата, чем Эгина, которую прочили ему в жены, хотя у Эгины не только большое приданое, но и немалые способности транжирить деньги — свою часть, а заодно и состояние мужа.
34
В былые времена брак считался столь серьезным делом, что его обдумывали долго, всесторонне и тщательно. Женившись, мужчина связывал себя навеки со своей женой, хороша она была или плоха; у супругов были общий стол и дом, общая постель, и они не могли откупиться друг от друга пенсионом: никому в голову не приходило, что, имея детей и хозяйство, можно открыто пользоваться радостями холостой жизни.
35
Если мужчина избегает показываться на людях с чужой женой — он проявляет вполне уместную скромность; если ему неприятно бывать в обществе с женщиной сомнительной репутации — это также можно объяснить; но как понять недостойное чувство, которое заставляет мужчину стыдиться собственной жены, не позволяя ему всюду появляться с ней, хотя он сам навеки избрал ее своей подругой, питает к ней любовь и уважение, считает ее своей радостью, своим счастьем, неизменной своей спутницей, гордится и ею самой, и ее умом, достоинствами, добродетелями и происхождением? Почему бы ему в таком случае не стыдиться своего брака?
Я отлично знаю силу обычая, знаю, как он владеет умами, подчиняя себе поведение людей, даже когда это нелепо и безрассудно; тем не менее я уверен, что у меня хватило бы бесстыдства гулять на глазах у всех по аллее Королевы в обществе женщины, которая была бы моей женой.
36
Если молодой человек женится на женщине старше его годами, в этом нет ничего постыдного и бесчестного; напротив, такой брак порою можно назвать разумным и предусмотрительным. Но если он дурно обращается со своей благодетельницей, если снимает маску, тем самым открывая ей глаза на то, что она стала жертвой неблагодарного лицемера, — вот тогда его поведение гнусно. Притворство оправдано лишь в том случае, когда невозможно не изображать дружеской привязанности; обман простителен, только если честность равносильна жестокости. «Но эта женщина чересчур зажилась!» А вы разве договорились с ней, что, подписав документ, который сделал вас богатым и освободил от долгов, она сразу же умрет; что, совершив сие благое деяние, она должна принять опий или цикуту и окончить свое существование? Неужели она не имеет права жить? И даже если вы испустите дух раньше той, которую вы совсем было собрались похоронить в отличном гробу и под торжественный колокольный звон, — разве можно порицать ее за это?
37
В мире уже давным-давно был изобретен некий способ приумножать свое добро;[77] им пользуются люди, принятые в свете, но его осуждают просвещенные законники.
38
В нашем государстве всегда существовали должности, как бы нарочно придуманные для того, чтобы обогащать одного человека за счет многих: имущество и деньги частных лиц текут к нему непрерывным и неиссякаемым потоком. Нужно ли добавлять, что они либо вовсе не возвращаются к своим владельцам, либо возвращаются слишком поздно? Это бездонная пропасть, это море, которое, поглотив речные воды, больше уже не отдает их, а если и отдает, то воды эти струятся по скрытым, подземным каналам, меж тем как море по-прежнему остается все таким же глубоким и полноводным; оно вволю насладилось ими и теперь выплескивает их за ненадобностью.
39
Безвозвратные вложения[78]{258}, некогда столь незыблемые, неприкосновенные и свято хранимые, стали с течением времени и с помощью тех, кому они доверены, потерянными вложениями. Есть ли на свете лучший способ удвоить свои доходы и сберечь их? Как иначе поступить с этими вложениями? Войти в восьмерину или откупить пошлины? Стать скрягою, финансистом или управляющим?
40
У вас есть серебряные или даже золотые монеты, но этого мало: тут все решает количество. Постарайтесь собрать их как можно больше, сделайте из них пирамиду — остальное я беру на себя. Вы не можете похвастаться ни благородством происхождения, ни умом, ни талантом, ни опытом, — что ж из того! Пусть ваша пирамида растет, и я вознесу вас так высоко, что вы не будете снимать шляпу даже перед вашим хозяином, если у вас имеется таковой; более того — будет весьма странно, если при ваших запасах металла, которые день ото дня все умножаются, я не заставлю хозяина снимать шляпу перед вами.
41
Вот уже десять лет хлопочет Оранта по справедливому и важному делу, от которого зависит ее благосостояние; лет через пять она, возможно, выяснит, перед какими судьями и в каком суде ей придется хлопотать до конца своих дней.
42
У нас многие одобряют недавно введенный в судах обычай прерывать защитников, лишая их возможности проявить красноречие и остроумие и принуждая держаться в рамках сухих фактов, доказывающих справедливость дела и правоту подзащитных. Эти суровые правила — которые не могут не тревожить защитников, ибо им приходится опускать самые блестящие тирады; которые изгоняют красноречие из единственного места, где ему следует процветать; которые рано или поздно превратят гласный суд в немое судилище, — эти правила иные люди обосновывают столь веским и неоспоримым аргументом, как ускорение процедуры; хотелось бы, однако, чтобы об ускорении иногда вспоминали и в других случаях, чтобы о нем думали не только во время слушания дела, но и в канцелярии, чтобы с писаниной[79] поступали так же, как с защитительными речами.
43
Долг судей — вершить правосудие, а их ремесло — оттягивать его; многие судьи знают свой долг и продолжают заниматься своим ремеслом.
44
Истец, который добивается предварительной встречи с судьей, не оказывает ему чести: он либо не доверяет его проницательности и даже беспристрастию, либо хочет перетянуть на свою сторону, либо домогается несправедливости.
45
Порою истец проигрывает справедливую тяжбу только потому, что он влиятелен или пользуется расположением двора, состоит в дружбе или в родстве с судьей, ведущим его дело: этот судья так хочет прослыть неподкупным, что становится несправедливым.
46
Лучше уж, чтобы судья был распутником, нежели дамским угодником и юбочником: первый скрывает, с кем он водит знакомство и кто его любовницы, поэтому к нему никак не подступиться, тогда как слабости второго известны всем и доступ к нему может открыть любая женщина, которой он хочет понравиться.
47
Религия и правосудие идут у нас как бы рука об руку, и сан судьи внушает почти такое же благоговение, как сан священника. Судья не может, не уронив себя, танцевать на балу, появляться в театрах, носить богатое, бросающееся в глаза платье; поэтому меня удивляет, что понадобился закон, требующий определенной одежды для судей, которая должна придавать им большую важность и внушать к ним большее уважение.
48
Чтобы постигнуть какое-нибудь ремесло, ему нужно учиться; в любом деле — от самого простого до самого сложного — существуют годы ученичества, подготовки к будущей должности, когда ошибки не так уж существенны, и, напротив, они порою помогают совершенствоваться. Свои правила есть даже у войны, хотя она по самой своей сути является порождением путаницы и беспорядка. Люди не дерзают уничтожать друг друга на поле битвы целыми полками и отрядами, предварительно не обучившись этому: они должны убивать, следуя определенной методе. У нас есть военная школа, но где, скажите, школа для судей? В судейском деле есть обычное право, законы, традиции; чтобы изучить и усвоить их, потребно немалое время, а его нет: молодой человек, сменивший указку на пурпурную мантию и сделавшийся судьей только потому, что родители купили ему эту должность, единолично распоряжается жизнью и имуществом ближних — в этом и состоит его ученичество, его ознакомление с ремеслом.
49
Выступая в суде, оратор обязан быть неукоснительно честным, иначе он превращается в краснобая, который умышленно искажает обстоятельства дела, недобросовестно коверкает цитаты, клевещет и не менее поддается ненависти и гневу, чем его клиенты; короче говоря, он становится одним из тех защитников, о которых говорят, что им платят деньги, чтобы они препирались с противной стороной.
50
«Да, — говорит некто, — он должен получить эти деньги, право на его стороне. Однако для этого ему необходимо соблюсти небольшую формальность. Если он забудет о ней, его дело будет проиграно, следовательно, он лишится денег и, безусловно, — права на них. Итак, постараемся добиться того, чтобы он забыл о формальности». Вот это я и называю совестью стряпчего.
Прекрасным девизом для судейского сословия, полезным для публики, здравым, справедливым и мудрым, был бы девиз, прямо противоположный тому, который гласит, что форма должна брать верх над содержанием.
51
Пытка — это удивительное изобретение, которое безотказно губит невиновного, если он слаб здоровьем, и спасает преступника, если он крепок и вынослив.
52
Наказанный преступник — это пример для всех негодяев; невинно осужденный — это вопрос совести всех честных людей.
Я, пожалуй, решусь утверждать, что никогда не стану вором или убийцей; но если я стану утверждать, что меня никогда не осудят за воровство или убийство, я выкажу себя очень легковерным человеком.
Печальна судьба невиновного, который из-за поспешности судопроизводства объявлен преступником; но не печальнее ли жребий его судьи?
53
Если бы мне рассказали, что во времена оны нашелся некий судья или судейский, который был обязан обнаруживать воров и наказывать их, отлично знал их всех в лицо и по именам, помнил все их преступления, то есть что именно, как и сколько они украли, и так приобщился к этому миру, так глубоко проник в его гнусные тайны, что смог однажды вернуть некоему влиятельному лицу ценную безделушку, украденную у того в толпе, когда он возвращался с какого-то сборища; если бы мне добавили, что, действуя таким образом, чиновник замял дело, а суд, узнав об этом, наказал его, — я решил бы, что все это — события минувших дней, утратившие за давностью всякое правдоподобие. Да и как можно поверить, что такие вещи случаются и в наши дни, что это всем известно и доказано, что и поныне еще существует пагубная близость между судейскими и преступниками, что она даже превратилась в своего рода игру и вошла в обычай?
54
Сколько на свете людей, которые сильны со слабыми, тверды и непреклонны с простым народом, высокомерны с маленькими людьми, суровы и жестоки в мелочах, отвергают скромные приношения, не внемлют ни родным, ни друзьям, но не способны устоять против женщин!
55
Даже человек, пользующийся милостями сильных мира сего, может проиграть тяжбу.
56
К распоряжениям, сделанным умирающими в завещаниях, люди относятся как к словам оракулов: каждый понимает и толкует их по-своему, то есть согласно собственным желаниям и выгоде.
57
Об иных людях можно сказать, что смерть не столько скрепляет своей печатью их последнюю волю, сколько, отнимая у них жизнь, освобождает от нерешительности и беспокойства. Разозлившись на кого-нибудь при жизни, они писали завещания, потом успокаивались, рвали на части это свидетельство своей минутной прихоти и обращали его в пепел. В их шкатулках лежало не меньше завещаний, чем календарей на их столах: что ни год, то новое. Второе было отменено третьим, третье — четвертым, составленным лучше, чем предыдущее, а четвертое — пятым собственноручным документом. Если у того, в чьих интересах скрыть завещание, не хватает на это времени и бесстыдства или нет к тому удобного случая, ему приходится смиренно принимать все оговорки и условия завещателя, ибо где яснее проявляется характер непостоянных людей, как не в этой бумаге, которую они подписали напоследок и уже не смогли или не успели еще раз переделать?
58
Если бы не существовало завещаний, устанавливающих права наследования, то, быть может, отпала бы и надобность в судах, которые разбирают тяжбы претендентов на наследство; у судей осталась бы одна печальная обязанность — отправлять на виселицу воров и поджигателей. Кто прячется в закрытых ложах трибуналов, стоит у судейского барьера, теснится на пороге или в самих залах судебных заседаний? Вы думаете, наследники ab intestate?[80] Нет, эти всегда получают положенную им по закону часть, а тяжбами занимаются лица, недовольные какими-нибудь условиями или оговорками, сделанными покойным, лишенные им наследства, несогласные с завещанием, написанным спокойно, по зрелом размышлении, человеком в здравом уме и твердой памяти, который к тому же советовался с осведомленными людьми. Бывает так, что документ составлен стряпчим по всем правилам судебного жаргона, в нем не упущена ни одна уловка, он подписан и завещателем и свидетелями и даже парафирован — и все же именно это завещание оспаривается и объявляется недействительным.
59
Титий присутствует при чтении завещания; глаза у него опухли и влажны, сердце сжимается при мысли о смерти человека, которому он надеется наследовать. Завещатель в одной статье отказывает ему должность, в другой — городскую ренту, в третьей — поместье; по дополнительному параграфу Титий становится владельцем дома, полностью обставленного и расположенного в центре Парижа. Естественно, что горе Тития безмерно, и слезы потоком струятся у него из глаз. Да и как их удержать! Он уже видит себя важным чиновником, у него два хорошо обставленных дома — в деревне и в столице, карета, отличный стол. «До чего же добр и благороден был покойник! Никто на свете не может с ним сравниться!» Но к завещанию сделана приписка, нужно ее прочесть: согласно ей все состояние умершего переходит к Мевию, а Титию предстоит по-прежнему жить в предместье, расставшись с мечтою о ренте и титулах. Титий сразу успокаивается, глаза его высыхают: теперь черед сокрушаться Мевию.
60
Разве закон, воспрещающий человеку убивать человека, не разумеет под орудиями убийства все, что может явиться причиной смерти: яд, кинжал, огонь, воду, засаду, любое применение силы? Разве закон, который лишает супругов права передавать друг другу свое состояние, имеет в виду только прямые и непосредственные пути передачи и не принимает во внимание косвенных? Как же в таком случае был введен фидеикомисс{259}, как возможно это установление? Человек, любя свою жену, отказал все имущество преданному другу: потому ли он это сделал, что исполнен к нему благодарности, или потому, что полностью верил ему и по опыту знал, как он справедлив? Разве мы станем завещать тому, кто, по нашему мнению, может не вернуть завещанное лицу, которому в действительности мы хотели бы все отдать? Тут нет надобности в специальных обещаниях, устных или письменных, в договорах и клятвах: люди отлично знают, чего они могут ждать друг от друга в подобных случаях. Однако, если наследство передано кому-то по фидеикомиссу, почему такой наследник теряет доброе имя, если он присваивает имущество себе? Чем вызваны куплеты и сатиры, хулящие такого человека? Как можно сравнивать его с хранителем вклада, который растратил вклад, или со слугой, присвоившим деньги, врученные ему хозяином для передачи другому лицу? Это несправедливо: разве так уж бесчестно не сделать щедрого дара и сохранить то, что принадлежит нам по закону? Страшная путаница, тяжкое бремя этот фидеикомисс! Если, уважая закон, мы оставляем наследство себе, нас уже не считают порядочными людьми, а если, почитая волю умершего друга, выполняем его желание и все отдаем вдове, мы становимся правонарушителями и преступаем закон, который, видимо, не согласуется с общественным мнением. Впрочем, мне не пристало говорить здесь ни «люди ошибаются», ни «закон неправ».
61
Мне приходилось слышать разговоры о том, что такие-то лица или такие-то корпорации оспаривают друг у друга право первенства, — например, президент парламента и кто-нибудь из пэров. На мой взгляд, отступает та из двух сторон, которая старается избежать встреч в собрании: она как бы чувствует свою слабость и сама присуждает первенство сопернику.
62
Тифон поставляет вельможе собак и лошадей, да и чего только он ему не поставляет! Обласканный сильным мира сего, Тифон обнаглел: в своей провинции он творит все, что ему вздумается, — убивает, вероломно обманывает, поджигает жилища соседей, — и чувствует себя безнаказанным. Дело доходит до того, что обуздывать Тифона приходится самому государю.
63
Рагу, ликеры, соуса, закуски — эти слова должны были бы звучать странно и непонятно для французов. Даже в мирное время они неуместны, ибо служат только роскоши и чревоугодию, но как дико слышать их в годы войны и общественных бедствий, на виду у неприятеля, накануне боя или во время осады! Кто из историков сообщает, какой стол держал Сципион{260} или Марий? Где сказано, что Мильтиад{261}, Эпаминонд{262} или Агесилай{263} любили вкусно поесть? Мне бы хотелось, чтобы, говоря о каком-нибудь генерале, люди сперва обсуждали в подробностях выигранные им битвы и взятые города, а потом уже восхищались его утонченностью{264}, опрятностью и роскошью; впрочем, было бы неплохо, если бы упомянутый генерал вообще не старался заслужить подобную хвалу.
64
Гермипп в рабстве у своих так называемых маленьких удобств: ради них он готов пренебречь установленными обычаями, модой, требованиями приличий. Везде он ищет удобств, ни одно не ускользает от его внимания, меньшие он отвергает ради больших; он превращает это занятие в настоящую науку и ежедневно придумывает какое-нибудь новшество. Пусть другие обедают и ужинают — для него это пустые слова: он ест, только когда голоден, да и то лишь те блюда, которые ему в эту минуту по душе; он самолично наблюдает, как ему приготавливают постель: он должен выяснить, кто из прислуги легок на руку и сможет особенно угодить ему. Из дому он выходит редко и всему предпочитает свою спальню, где не бездельничает, но и не трудится, не работает, а хлопочет, окружив себя всем, что может понадобиться человеку, который принял лекарство. Обычно люди живут в жалкой зависимости от столяра или слесаря, а вот у Гермиппа есть и напильник на случай, если понадобится что-нибудь обточить, и пила, если потребуется отпилить, и клещи, если придет нужда вытащить гвоздь. Вообще у него есть все существующие на свете инструменты, притом, с его точки зрения, они и лучше и удобнее тех, какими обычно пользуются ремесленники: среди этих инструментов вы найдете и те, что он изобрел сам, — необыкновенные, небывалые, безымянные, назначение которых он уже успел забыть. Никто не сравнится с ним в умении за короткое время и без особых усилий сделать никому не нужную работу. Чтобы пройти из спальни в гардеробную, ему приходилось делать десять шагов, но or так все переставил, что теперь приходится делать только девять: подумайте, сколько шагов он сбережет в течение жизни! В других домах люди поворачивают ключ, тянут дверь к себе или толкают ее от себя — и она отворяется. Но ведь это так утомительно! Гермипп ухитряется избежать и этого движения. Каким образом? Это его тайна. Он великий мастер по части пружин и механизмов — тех, по крайней мере, без которых все обходятся. Свет в его комнаты проникает не через окна, он нашел способ подниматься и спускаться у себя в доме не по лестнице и старается теперь найти возможность входить и выходить более удобным путем, чем через дверь.
65
Люди никогда не доверяли врачам и всегда пользовались их услугами. Врачи дают за дочерьми богатое приданое и покупают сыновьям судейские и церковные должности, комедия и сатира кричат об этом, но сами же насмешники и приумножают доходы врачей. Вчера вы были здоровы, а сегодня вдруг заболели, — и вам, естественно, необходим человек, который по самому своему ремеслу обязан уверять вас, что вы не умрете. Пока люди не перестанут умирать и не утратят охоты жить на свете, врачей будут осыпать насмешками и деньгами.
66
Хороший врач — это человек, знающий средства от некоторых недугов или, если болезнь ему незнакома, зовущий к больному тех, кто сможет ему помочь.
67
Печальные следствия, к которым приводит наглость шарлатанов, заставляют нас ценить врачей и искусство врачевания: врачи не препятствуют нам умирать, а шарлатаны нас убивают.
68
Карро Карри приезжает к нам, запасшись снадобьем, о котором он говорит, что это быстродействующее лекарство, хотя правильнее сказать, что это медленно действующий яд: рецепт снадобья — тайна, переходящая от отца к сыну в его семье, но он его еще улучшил. Хотя предназначено оно для страдающих резями, Карро Карри лечит им также перемежающуюся лихорадку, плеврит, водянку, апоплексию и эпилепсию. Напрягите память, назовите первую пришедшую вам в голову болезнь. «Кровотечение», — говорите вы? Он лечит и кровотечение. Он честно признает, что никого еще не воскресил из мертвых и никому не вернул жизнь, однако утверждает, что с его помощью люди дотягивают до глубокой старости. Правда, его отец и дед умерли молодыми, но это — несчастное стечение обстоятельств. Врачи берут за свои визиты то, что им дают, — иной раз им просто говорят слова благодарности, — а вот Карро Карри так уверен в своем снадобье и его действии, что, не колеблясь, требует платы заранее и берет прежде, чем даст. Если болезнь неизлечима — тем лучше: тогда она особенно достойна и его снадобья, и его стараний. Вручите же ему несколько кошельков с деньгами по тысяче франков в каждом, составьте акт на пожизненную ренту или подарите одно из ваших поместий — самое маленькое, конечно, — а после не мечтайте больше о своем выздоровлении, как не будет заботиться о нем и Карро Карри. Пример этого человека наводнил нашу страну людьми, фамилии которых оканчиваются на «о» или «и» — фамилии весьма почтенные, внушающие трепет и пациентам и болезням. Сознайся, Фагон{265}, твои врачи со всех факультетов излечивают иных пациентов на короткое время, а иных и совсем не могут излечить; между тем люди, которые заимствовали знахарский опыт у своих отцов и получили знания, так сказать, по наследству, клятвенно заверяют больных, что те полностью исцелятся. А ведь человеку, страдающему смертельным недугом, так сладостно ждать выздоровления и так отрадно чувствовать себя сносно, испуская последний вздох! Смерть подходит к нему незаметно, не внушая ужаса: она настигает больного, прежде чем он успеет приготовиться к ней и смириться. О Эскулап-Фагон, распространяй по всей земле хину{266} и рвотное; старайся проникнуть во все тайны целебных зелий, дарованных человеку для продления его жизни; наблюдай с небывалой еще остротой зрения и внимательностью за признаками болезни, за влиянием на нее климата, времени года и телосложения больного; лечи каждого так, как подобает при его недуге; изгоняй из человеческого тела, чья деятельность тебе известна, как твои пять пальцев, самые загадочные или застарелые болезни, но не пытайся исцелить болезни ума, ибо они неизлечимы: оставь Коринне, Лесбии, Канидии, Тримальхиону и Карпу их слабость — вернее, безумное пристрастие — к шарлатанам{267}.
69
В нашем государстве терпят шарлатанов и хиромантов, людей, которые составляют гороскопы и гадают на картах и на решете, узнают прошлое и предрекают будущее, глядя в зеркало и в сосуд с водой. Надо сказать, что эти люди, бесспорно, приносят пользу: они предсказывают мужчинам, что те разбогатеют, девушкам — что они выйдут замуж за своих возлюбленных, сыновьям — что их зажившиеся на свете отцы в конце концов умрут, а молодым женам старых мужей — что их ждет утешение. Таким образом, эти люди за гроши обманывают тех, кто хочет быть обманут.
70
Что сказать о магии и колдовстве? Теория, лежащая в их основе, темна, принципы туманны, запутанны и похожи на принципы учения о духовидении. Однако люди умные и здравые рассказывают о некоторых поистине удивительных явлениях, при которых присутствовали они сами или их друзья, также вполне достойные доверия. Было бы одинаково неосторожно полностью поверить таким рассказам или целиком их отвергнуть: на мой взгляд, здесь, как и во всем, что касается вещей сверхъестественных, выходящих за рамки обычного, следует держаться середины между слепой верой и вольнодумным отрицанием.
71
Чем больше языков человек усвоит с малолетства, тем для него лучше; потому родителям следовало бы приложить все старания, чтобы обучить им своих детей. Языки полезны для лиц любых сословий, ибо открывают доступ к познаниям столь же легким и приятным, как и глубоким. Но стоит отложить эти занятия на более позднее время, которое называется молодостью, — и у человека уже не хватает способностей или прилежания, чтобы по собственному почину одолеть их. Впрочем, даже если у него и хватит прилежания, придется убить на заучивание языков те время, которое он мог бы посвятить их применению в жизни, придется зубрить слова в том возрасте, когда хочется проникнуть в суть выражаемых ими вещей, придется признать, что наши первые и лучшие годы были понапрасну потеряны. Большие запасы познаний можно приобрести лишь тогда, когда все само собой врезается в душу, когда память свежа, податлива и остра, когда ум и сердце еще не ведают страстей, забот и желаний, когда к занятиям побуждают ребенка те люди, от которых он зависит. На мой взгляд, у нас так мало истинно образованных людей, или, если хотите, так много людей поверхностных именно потому, что мало кто помнит о необходимости изучать языки.
72
Работа над подлинниками — занятие необыкновенно полезное: это самый короткий, верный и приятный путь к приобретению познаний. Прибегая к подлиннику, вы все получаете из первых рук, черпаете из источника; поэтому читайте и перечитывайте его, заучивайте наизусть, цитируйте при случае, вникайте в смысл во всей его глубине, сложности и противоречивости, старайтесь постичь идеи автора, делайте из них выводы. Я советую вам поставить себя на место первых комментаторов текста: пытайтесь до всего дойти сами и только в крайнем случае следуйте ходу их мыслей и перенимайте их точку зрения. Помните: их взгляды — не ваши, поэтому вам легко в них запутаться, тогда как мнения, рожденные вашим собственным разумом, навсегда остаются при вас; их легко вспомнить, когда вы приходите к кому-нибудь за советом, когда вы спорите или просто беседуете. Кроме того, вам будет приятно убедиться, что вас не остановили трудности, казалось бы непобедимые, перед которыми стали в тупик комментаторы и ученые, столь изобретательные, хитроумные и полные никому не нужной эрудиции, ибо они блистают ею там, где и без них все ясно и понятно даже непосвященным. Применяя эту методу, вы увидите, что лишь из-за человеческой лени педантам удалось так увеличить библиотеки, нисколько их не обогатив, и похоронить тексты под грудой комментариев; при этом лень действует против самой себя и самых дорогих своих интересов, ибо, чем боль-гае на свете книг и исследований, тем больше надобно трудиться — а как раз трудиться лени и не хочется.
73
Что руководит людьми, когда они выбирают себе тот или иной образ жизни, ту или иную пищу? Забота о здоровье и правильном режиме? Не думаю. Один народ ест мясо после плодов; другой — плоды после мяса; третий начинает трапезу одними плодами, а кончает другими. Разум ли тут причиной или обычай? Разве о здоровье думают мужчины, когда носят глухие камзолы с воротниками и брыжами, — те самые мужчины, которые так долго ходили с открытой грудью? Разве они пекутся о пристойности, когда носят одежду, в которой умудряются казаться голыми? И разве женщины, открывающие грудь и плечи, крепче здоровьем и равнодушнее к требованиям приличия, чем мужчины? Можно ли назвать скромностью то чувство, которое побуждает женщин закрывать не только ноги, но даже ступни, и в то же время требует от них, чтобы они обнажали руки выше локтя? Кто внушил некогда людям, что на войне надо либо защищаться, либо нападать и потому следует всегда иметь при себе оборонительное и наступательное оружие? Почему они отказываются от него ныне, почему посылают безоружных и одетых в одни куртки землекопов работать под перекрестным огнем противника, между тем как сами надевают высокие сапоги, даже когда едут на бал? Были мудры или простоваты наши отцы, которые сочли бы этот обычай вредным для государя и страны? Впрочем, каких героев почитаем в нашей истории мы сами? Дюгеклена, Клиссона, Фуа, Бусико — а ведь все они носили шлем и панцирь{268}!
Кто может объяснить, почему иные слова{269} в нашем языке процветают, а другие стали отверженными? Ains[81] погибло, и даже гласная, которой оно начинается, такая удобная для связывания его с предыдущим словом, не спасла его: оно уступило дорогу другому односложному слову[82] — своей, можно сказать, анаграмме. Certes[83] прекрасно в своей старости и на закате дней все еще полно сил: поэзия любит его, и наш язык весьма обязан авторам, которые, невзирая на нападки критиков, употребляют его в прозе. Мы не должны были отказываться от слова maint[84] — это истинно французское слово так легко укладывается в любое выражение! Moult[85] хотя и перешло к нам из латыни, также в свое время было очень в ходу, и я не вижу, чем beaucoup[86] лучше, нежели moult. Каким только гонениям не подвергалось саг[86], хотя заменить его у нас нечем: не найди оно защитников среди людей образованных, быть бы ему изгнанным из языка, которому оно так долго служило. В дни своего расцвета cil[87] было одним из прелестнейших французских слов, поэты скорбят о том, что оно состарилось. Douloureux[88] так же естественно происходит от слова douleur[89], как от слова chaleur[90] происходят слова chaleureux и chaloureux[91]. Последнее употребляется все реже, хотя оно было полезно языку и точно выражало то, что лишь частично выражает chaud[92]. Рядом с valeur[93] должно было сохраниться valeureux[94], рядом с haine — haineux[95], с peine — peineux[96], с fruit — fructueux[97], с pitié — piteux[98], с joie — jovial[99], с foi — féal[100], с cour — courtois[101], с gîte — gisant[102], с haleine — halené[103], с vanterie — vantard[104], с mensonge — mensonger[105], с coutume — coutumier;[106] существуют же вместе с part — partial[107], вместе с point — pointu и pointilleux[108], с ton — tonnant[109], с son — sonore[110], с frein — effrené[111], с front — effronté[112], с ris — ridicule[113], с loi — loyal[114], с coeur — cordial[115], с bien — benin[116], с mal — malicieux[117].
Heur[118] легко было поместить там, где не станет bonheur;[119] создав такое истинно французское прилагательное, как heureux[120], оно перестало существовать. Поэты иногда еще пользуются: им, но не столько по доброй воле, сколько по требованию размера. Issue[121] процветает, а породившее его issir[122] упразднено, в то время как fin[123] здравствует, а его детище finer[124] умерло; cesse и cesser[125] существуют на равных правах. Verd не образует больше verdoyer[126], fête — fêtoyer[127], larme — larmoyer[128], deuil — se douloir и se condouloir[129], joie — s'éjouir[130], хотя то же слово joie образует se réjouir и se conjouir, точно так же как orguefl образует s'enorgueillir[131]. Прежде о людях говорили собирательно gent;[132] это легко произносимое слово вышло из употребления, а вместе с ним и слово gentil[133]. Мы говорим diffamé[134], но забыли, что происходит оно от устарелого fame[135], часто произносим curieux[136], но не помним cure[137]. Мы отказались от si que в пользу de sorte que или de maniére que[138], от de moi в пользу pour moi или quant à moi[139], от je sais que c'est qu'un mal в пользу je sais ce que c'est qu'un mal[140], хотя говорить по-старому было проще: в первых двух случаях помогала аналогия с подобными же латинскими выражениями, а в последнем — фраза была на одно слово короче и ее удобнее было произносить в надгробных речах. Обычай выбрал par consequent вместо par conséquence[141], но en conséquence вместо en conséquent[142], façons de faire вместо maniéres de faire[143], но maniéres d'agir вместо façons d'agir;[144] предпочел глагол travailler глаголу ouvrer[145], être accoutumé — souloir[146], convenir — duire[147], faire du bruit — bruire[148], injurier — vilainer[149], piquer — poindre[150], faire ressouvenir — ramentevoir[151]. Pensées заняли место pensers[152], которые так чудесно выглядели в стихах. Мы говорим grandes actions, а не prouesses[153], louanges, а не loz[154], méchanceté, а не mauvaiseté[155], porte, а не huis[156], navire, а не nef[157], armée, а не ost[158], monastére, а не moustier[159], prairies, а не prées…[160] А ведь все эти одинаково прекрасные слова могли бы жить рядом в языке, безмерно обогащая его! Обычай путем прибавления, изъятия, перестановки или изменения нескольких букв обратил fralater в frelater[161], preuver в prouver[162], proufit в profit[163], froument в froment[164], pourfil в profil[165], pourveoir в provision[166], pourmener в promener[167], pourmenade в promenade[168]. Тот же обычай требует, чтобы прилагательные habile, utile, facile, docile, mobile, fertile[169] одинаково оканчивались и в мужском и в женском роде, тогда как vil[170] в женском роде дает vile, a subtil[171] — subtile. Он изменил старинные окончания некоторых слов, превратив scel в sceau[172], mantel в manteau[173], capel в chapeau [174], coutel в couteau[175], hamel в hameau[176], damoisel в damoiseau[177], jouvencel в jouvenceau;[178] при этом мы никак не можем сказать, что французский язык много выиграл от этих замен и подстановок. Так ли уж полезно для языка во всем подчиняться обычаю? Не лучше ли стряхнуть гнет его деспотической власти? А если следовать обычаю, то надо вместе с тем прислушиваться и к голосу разума, который подсказывает нам, как избежать путаницы, и вместе с тем помогает определять корни слов и связь, существующую между живым языком и языками, его породившими.
Лучше ли писали наши предки, чем пишем мы? Превосходим ли мы их в умении выбирать нужные слова, в изяществе слога, в ясности и сжатости изложения? Об этом много спорят, но не могут прийти ни к какому решению. Споры эти вовек не кончатся, если мы будем следовать примеру тех, кто сравнивает какого-нибудь бездарного писаку прошлого века с нашими самыми прославленными авторами, стихи Лорана{270}, которому платили деньги, чтобы он больше не писал их, со стихами Маро и Депорта{271}. Чтобы найти правильный ответ, нужно противопоставить один век другому и сопоставить одно превосходное произведение с другим, например, лучшие рондо Бенсерада и Вуатюра с теми рондо, которые я привожу ниже; история сохранила нам эти стихи{272}, но кто и когда их написал, мы не знаем.
Давным-давно, меж рыцарей блистая, Ожье неверных в их стране разил. Он, жалости к язычникам не зная, Великие дела там совершил. Изъездил свет от края и до края И воду юности себе добыл. Был стар Ожье. Ушла весна младая, А вместе с ней погас и юный пыл Давным-давно. Но лишь водой волшебной он омылся, Как тут же на глазах переменился И стал таким, как в прежние года… Увы, увы! Все это — небылицы. Мне жаль вас, перезрелые девицы: Вам в той воде уже пришла нужда Давным-давно. Сей славный муж — пример для всех времен, Достойный лавров и хвалы премногой: В обман нечистой силою введен, Он сочетался браком с козлоногой. До правды все же доискался он, Но страх отринул, совладал с тревогой, За что был до небес превознесен Людской молвой, придирчивой и строгой, Сей славный муж. Узнав, как он отважен и умен, Дочь короля взяла его в полон, Хотя слыла средь многих недотрогой. С кем жить спокойней — с женщиной земной Иль с ведьмою хвостатой и двурогой — Постигнуть мог с отменной полнотой Сей славный муж.Абраам Босс.
Гравюра из серии «Девы неразумные».
Глава XV О церковном красноречии
1
Христианская проповедь превратилась ныне в спектакль. Евангельское смирение, некогда одушевлявшее ее, исчезло: в наши дни проповеднику всего нужнее выразительное лицо, хорошо поставленный голос, соразмерный жест, умелый выбор слов и способность к длинным перечислениям. Никто не вдумывается в смысл слова божьего, ибо проповедь стала всего лишь забавой, азартной игрой, где одни состязаются, а другие держат пари.
2
Светское красноречие, процветавшее при Леметре, Пюселе и Фуркруа{273} в залах судебных заседаний, теперь уже не в ходу там; оно переселилось на церковную кафедру, где ему не должно быть места.
Красноречие царит ныне даже у подножия алтаря, там, где свершаются таинства; миряне судят проповедников, бранят их или одобряют, но они равно холодны и к той проповеди, которая им по вкусу, и к той, которой они недовольны. Оратор одним нравится, другим нет, но в обоих случаях он никого не исправляет, ибо и не пытается никого исправить.
Смиренный ученик внимает словам учителя, извлекает пользу из его наставлений и, в свою очередь, становится учителем. Человек, преисполненный гордыни, критикует проповедь, словно это книга какого-нибудь философа, и в конце концов так и не набирается ни христианских добродетелей, ни ума.
3
Пока не явится человек, который, проникшись духом Святого писания, начнет просто и убедительно толковать народу слово божье, до тех пор у ораторов и риторов отбоя не будет от поклонников.
4
Цитаты из светских книг, ненужные отсылки, пустой пафос, антитезы, гиперболы больше не в ходу; скоро проповедники перестанут рисовать в своих речах портреты великих людей и ограничатся толкованием Евангелия, которое всегда волнует сердца и обращает слушателей к истинной вере.
5
Он появился наконец — человек, которого я не чаял увидеть в наше время и все же ожидал с таким нетерпением! Придворные рукоплескали ему — одни потому, что наделены разумом, другие потому, что стараются соблюдать благопристойность. Вещь неслыханная! Они покинули королевскую капеллу, дабы вместе с народом внимать слову божьему из уст этого святого человека[179]. Но столица оказалась другого мнения: прихожане — вплоть до церковных старост — покинули храмы, где он проповедовал; пастыри были стойки, но паства разбежалась, привлеченная ораторами соседних церквей. Мне следовало бы предвидеть это и не утверждать, что едва такой человек явится, как все пойдут за ним, едва он заговорит, как все кинутся его слушать: я должен был знать, как неодолима в человеке — да и во всем сущем — сила привычки! Вот уже тридцать лет, как люди внемлют риторам, декламаторам, перечислителям и без ума от всех, кто живописует в полный рост или в миниатюре. Еще совсем недавно проповедники сочиняли такие неожиданные, блестящие, острые концовки и переходы, которые были под стать эпиграммам; должен признать, что теперь они стали скромнее и речи их подобны обыкновенным мадригалам. Каждая проповедь неукоснительно, с математической точностью предлагает вашему вниманию три раздела: в первом доказывается то-то, во втором — то-то, в третьем — то-то. Таким образом, сначала вас убедят в одной истине, и это будет первым разделом речи; потом убедят во второй, и это будет вторым разделом; напоследок убедят в третьей, и это будет третьим разделом. Первый раздел просветит вас по части одного из важнейших догматов вашей веры, второй — по части второго, не менее важного, последний — по части третьего, важнейшего из всех; впрочем, за недостатком времени его придется отложить до следующей проповеди; наконец, чтобы несколько сократить проповедь и составить план… «Опять план! — восклицаете вы. — Какое длинное вступление к речи, на которую остается всего лишь три четверти часа! Чем старательнее втолковывают мне и разъясняют ее суть, тем больше я запутываюсь». Вы совершенно правы: таково обычное следствие нагромождения мыслей, которые, по существу, сводятся к одной-единственной и непомерно утомляют память слушателей. Нынешние проповедники так цепляются за эти длиннющие разделы, словно без них нет истинной веры и благодати. Но как, скажите на милость, могут хоть кого-нибудь наставить подобные апостолы, если паства с трудом понимает, о чем они ведут речь, не способна уследить за ходом их доказательств, то и дело теряет нить рассуждения? Я не прочь бы прервать буйный поток их красноречия просьбой остановиться и дать хоть минуту передышки себе и своим слушателям. Суетные проповеди, слова, брошенные на ветер! Времена всенародных толкований Евангелия прошли, их не вернули бы даже святой Василий{274} или Иоанн Златоуст{275}: паства разбежалась бы по другим приходам, лишь бы не слышать их голосов, их простодушных назиданий. Люди, — во всяком случае, большинство людей, — любят пышные фразы и периоды, восхищаются тем, чего не понимают, и верят, что достигли высот премудрости, если высказывают предпочтение первому или второму разделу, последней или предпоследней проповеди.
6
Меньше века тому назад французская книга состояла из страниц, написанных по-латыни, в которых были вкраплены французские фразы и слова. Одна за другой шли выдержки, примечания, цитаты. В вопросах брака и завещания судьями выступали Овидий и Катулл; вместе с пандектами Юстиниана{276} они приходили на помощь вдовам и сиротам. Духовное было столь прочными узами связано со светским, что они не разлучались даже на церковной кафедре: с нее поочередно звучали слова то святого Кирилла, то Горация, то святого Киприана, то Лукреция. Положения святого Августина и отцов церкви подкреплялись цитатами из поэтов. С паствой беседовали по-латыни, к женщинам и церковным старостам долгое время обращались по-гречески. Чтобы так плохо проповедовать, нужно было очень много знать. Иные времена, иные песни: текст берется по-прежнему латинский, но проповедь произносится на французском языке — и притом отличном! Евангелие даже не цитируется. Сегодня, чтобы хорошо проповедовать, можно почти ничего не знать.
7
Церковные кафедры больших городов избавились наконец от схоластического богословия, изгнав его в провинциальные городишки и деревни, где оно должно просвещать умы и наставлять на путь истинный землепашцев и виноградарей.
8
Если проповедь нравится народу своим цветистым слогом, доступной всем моралью, умелыми повторениями, блестящими выпадами и живыми описаниями, — значит, проповедник умен; но этого мало: истинно мудрый проповедник пренебрегает подобными красотами, столь противными духу Евангелия; он проповедует просто, горячо, по-христиански.
9
Проповедник-оратор так красиво описывает иные пороки, останавливается на таких щекотливых подробностях, изображает грешника таким умным, изысканным и утонченным, что мне, безусловно, захочется стать похожим на этого грешника, если только какой-нибудь апостол, чья проповедь ближе к духу христианской веры, не отвратит меня от порока, столь соблазнительно описанного.
10
Хорошая проповедь — это речь, построенная по всем законам ораторского искусства, согласно всем правилам человеческого красноречия, безукоризненная и украшенная всеми ухищрениями риторики. Знатоки не упускают в такой речи ни единой подробности, ни единой мысли: они без труда следят за оратором, и когда он пускается в перечисления, и когда возносится к вершинам пафоса; загадкой она остается только для народа.
11
Какую великолепную и назидательную речь мы только что слушали! В ней были затронуты самые существенные догматы религии, приведены самые неоспоримые доводы в пользу обращения на путь истинный; какое огромное впечатление она должна была произвести на умы и души слушателей! Они покорены, взволнованы, растроганы до такой степени, что втайне даже готовы предпочесть эту проповедь Теодора предыдущей.
12
Мягкость и снисходительность в вопросах нравственности не приносит успеха проповеди: ничто в ней не задевает, не щекочет любопытства мирянина, который куда меньше, чем принято думать, боится сурового поучения и, напротив, склонен одобрить такую суровость в том, кто по долгу своему призван ее проповедовать. Таким образом, в церкви существует как бы две категории поборников строгой морали: одни обязаны говорить правду во всей ее наготе, без прикрас и смягчений, другие жадно слушают ее, ценят, приходят в восторг, рассыпаются в похвалах — и продолжают жить, как прежде, не хуже и не лучше.
13
Великих людей, преисполненных высокой добродетели, можно упрекнуть в том, что они принизили искусство красноречия или по меньшей мере испортили слог большинства проповедников: вместо того чтобы присоединить свой голос к гласу народа и возблагодарить господа, ниспославшего людям столь драгоценные дары, эти ораторы, сделавшись панегиристами и вступив в союз с поэтами и писателями, даже перещеголяли последних в сочинении посвятительных посланий, стансов и прологов; Священное писание они заменили потоком похвал — справедливых, но продиктованных своекорыстием и не приличествующих ни им, ни их сану, похвал, которых к тому же от них никто не требует. Хорошо еще, если, прославляя в храме господнем героя, они скажут хотя бы два слова о боге и таинствах — истинном предмете их проповеди. Случалось и так, что оратор, который приготовился толковать святое Евангелие — достояние всех людей — в расчете на присутствие одного-единственного лица, вдруг узнавал, что этот слушатель, задержанный случайными обстоятельствами, не придет; совсем растерявшись, он уже не мог произнести перед собранием христиан христианскую проповедь, предназначенную не для них, и предпочитал уступить место другому оратору, которому ничего не оставалось, как в наспех составленной речи вознести хвалу господу.
14
Слушатели боялись, что Теодул произнесет более блестящую проповедь; на этот раз они остались вполне довольны им самим и его речью: пусть уж он поменьше чарует их ум и слух, лишь бы не возбуждал в них зависти.
15
Ораторы в одном отношении похожи на военных: они идут на больший риск, чем люди других профессий, зато быстрее возвышаются.
16
Если вы занимаете определенное положение в обществе и при этом все ваши таланты сводятся к умению произносить скучные речи — что ж, произносите их, проповедуйте: «для человека, желающего возвыситься, любая слава лучше, нежели безвестность. Теодат произносил неуклюжие, однообразные, усыпительные речи — и был за это осыпан милостями.
17
В былые времена вознаграждали большими диоцезами таких проповедников, которые в наши дни не получили бы за свое красноречие даже простого прихода.
18
Этот проповедник-панегирист чуть не сгибается под бременем титулов и званий, которыми он осыпан; его имя красуется на больших афишах — и на тех, что разносят по домам, и на тех, что развешивают на улицах; написаны эти афиши такими огромными буквами, что их так же невозможно не заметить, как, скажем, городскую площадь. Если, ознакомившись со столь блестящей выставкой слов, вы захотите познакомиться с сутью дела и послушаете самого оратора, вы поймете, что в бесконечном перечне его званий все же не хватает одного: звания дурного проповедника.
19
Праздность женщин и обыкновение мужчин сбегаться туда, где собирается прекрасный пол, создают славу дурным ораторам и поддерживают ее даже тогда, когда она начинает меркнуть.
20
Справедливо ли, чтобы пастырь с церковной кафедры, перед святым алтарем, произносил на похоронах речь во славу и честь умершего, не задумываясь, был ли тот при жизни действительно достоин похвалы, но твердо помня, что судьба наградила его знатностью и могуществом? Разве человек славен только тем, что он именит и ему дана власть над другими людьми? Почему не принято публично произносить панегирики тому, кто всю жизнь отличался добротой, справедливостью, кротостью, верностью и благочестием? Так называемое надгробное слово пользуется тем большим успехом у многочисленных слушателей, чем меньше оно проникнуто истинно христианским духом или, если угодно, чем ближе к мирскому красноречию.
21
Оратор старается своими речами снискать епископский сан; истинный вероучитель стремится наставить паству на путь истины. Второму следовало бы предоставить то, чего добивается первый.
22
Всем известны такие служители церкви, которые, вернувшись после недолгого пребывания в языческих странах, похваляются числом обращенных, забывая прибавить, однако, что эти люди или давно уже были обращены, или так и не обратились. Они почитают себя ничуть не ниже Венсана{277} и Ксавье{278}, — словом, настоящими апостолами, — и убеждены, что их усердный труд и благотворная деятельность заслуживают награды гораздо большей, чем простое аббатство.
23
Иной ни с того ни с сего вдруг берет перо, бумагу и решает: «Сочиню-ка я книгу!» — хотя весь его талант сводится к желанию заработать пятьдесят пистолей. Я тщетно взываю к нему: «Вот пила, Диоскор, выпили что-нибудь, или обточи, или смастери колесные ободья — и ты заработаешь не меньше». Он, видите ли, не обучен этим ремеслам. «В таком случае копируй, надписывай, поступи, наконец, правщиком в типографию, но только не пиши». Но он желает писать и, главное, печататься, а так как в типографию не полагается отправлять чистую тетрадь, то он марает в ней, что в голову взбредет. Он с удовольствием написал бы, что Париж стоит на Сене, что в неделе семь дней, что на улице идет дождь. А так как подобные утверждения не подрывают ни религии, ни государства и не причиняют вреда публике — разве что портят ей вкус и приучают читать пошлейший вздор, — то книга проходит цензуру, ее издают и вскоре переиздают, как это ни позорно для нашего века и ни унизительно для хороших писателей. Другой человек точно так же решает про себя: «Хочу стать проповедником», — и начинает проповедовать. И вот уже он стоит на церковной кафедре, хотя весь его талант и призвание заключаются в том, что ему нужен бенефиций.
24
Если служители церкви не проповедуют с кафедры, а упражняются в риторике, значит, сердца их преисполнены мирской суеты или нечестия. Но есть и другие священники, которые всем своим обликом внушают доверие. Стоит им подняться на кафедру, как паства, собравшаяся послушать их, начинает испытывать волнение; их вид склоняет сердца к истине, а слова довершают дело.
25
Епископ города Мо{279} и отец Бурдалу{280} напоминают мне Демосфена и Цицерона. Этих мастеров церковного красноречия постигла судьба их великих предшественников: один развел племя дурных критиков, другой — отвратительных подражателей.
26
Церковное красноречие особенно трудно потому, что мирское и ораторское начала в нем должны быть незаметны слушателям. Какое надо проявить искусство, чтобы нравиться и в то же время наставлять! Проповедник идет проторенной дорогой, и все заранее знают, что он скажет, ибо он повторяет уже много раз сказанное. Предмет его проповеди значителен, но привычен и хорошо знаком; положения неоспоримы, но выводы из них давно известны; тема возвышенна, но кому под силу достойно говорить о возвышенном? Иные таинства легче объяснить на уроке катехизиса, чем в ораторской речи. Даже проповедь морали, столь обширной и разнообразной, ибо в нее входит все, что относится к людским нравам, вращается вокруг одной и той же оси, рисует одни и те же картины, ограничивает себя рамками, куда более тесными, чем, скажем, сатира. После обычного обличения суетных почестей, богатств и наслаждений оратору остается только окончить свою речь и отправить слушателей по домам. Если порою люди плачут, если их трогает проповедь, то, отдавая должное таланту и всему облику проповедника, мы все же признаем, что тут говорит за себя сам предмет и наша в нем кровная заинтересованность, что слезы и волнение вызваны не столько подлинным красноречием говорящего, сколько мощью его голоса. Наконец, проповедник, в отличие от адвоката, не может заинтересовать слушателей новыми обстоятельствами, происшествиями, неслыханными приключениями, не может решать запутанные вопросы, строить смелые догадки и предположения, а ведь все это приходит на помощь таланту, дает ему силу и размах и не только не стесняет красноречия, а, напротив, поддерживает и направляет его. Проповедник прибегает к источнику, откуда черпают все, и стоит ему удалиться от этих всем доступных мест, как он становится туманным и отвлеченным, впадает в декламацию, — словом, перестает проповедовать Евангелие. Ему необходимо обладать одним лишь качеством — благородной простотой, но до нее нужно возвыситься, а это требует редкого таланта, не свойственного большинству людей. Способности, воображение, знания и память чаще всего служат им только для того, чтобы избегать этой простоты.
Ремесло адвоката утомительно и кропотливо; оно требует от того, кто им занимается, не только глубоких знаний, но и незаурядных способностей. В то время как проповедник, сочинив на досуге несколько проповедей, читает их наизусть, уподобляясь наставнику, которому никто не осмеливается противоречить, и потом неоднократно повторяет их с небольшими изменениями и постоянным успехом, адвокат произносит сложнейшие защитительные речи в присутствии судей, которые могут лишить его слова, и противной стороны, которая может его прервать; он должен быть всегда готов к возражениям; ему приходится в один и тот же день выступать в различных инстанциях по различным делам. У себя дома он тоже не находит покоя и отдыха, не может отгородиться от клиентов; двери его открыты всем, кто приходит докучать ему своими вопросами и сомнениями; он не укладывается в постель, его не растирают бальзамом, не подают ему прохладительного питья, к нему в спальню не стекаются люди без различия пола и звания, чтобы похвалить его за изящество языка и утонченность оборотов, успокоить по поводу того места в речи, где он чуть было не сбился, рассеять тревогу, снедающую его из-за процесса, который он вел менее энергично, чем другие дела; он отдыхает от длинных речей, проводя долгие часы за писанием бумаг и сменяя, таким образом, одну работу другой, одно бремя — другим. Дерзну утверждать, что в своей области он является тем, чем были некогда первые апостолы.
Таким образом, дав определение судебному красноречию и ремеслу адвоката, с одной стороны, церковному красноречию и миссии проповедника — с другой, мы невольно приходим к выводу, что легче проповедовать, чем защищать в суде, но куда труднее хорошо проповедовать, чем хорошо защищать.
27
Как велико преимущество живого слова перед писаным! Люди поддаются очарованию жеста, голоса, всей окружающей их обстановки. Если они хоть немного расположены в пользу говорящего, они сперва приходят в восторг, а уж потом стараются понять, о чем он говорит; не успеет он начать, как они твердят, что речь будет превосходной, вслед за тем засыпают, а когда оратор уже кончает свое слово — просыпаются и говорят, что речь была превосходной. У писателя нет таких пылких сторонников: его произведение читают на досуге в деревне или в тиши кабинета; люди не собираются вместе, чтобы ему рукоплескать, и уж подавно никто не плетет интриг, чтобы унизить всех его соперников и добыть ему сан прелата. Как бы хороша ни была его книга, ее читают с предвзятым мнением, что она заурядна, перелистывают, сличают отдельные места; это не звуки, которые тают в воздухе и забываются: что написано, того не сотрешь. Книгу порой стараются раздобыть за несколько дней до начала продажи, чтобы поскорее ее выбранить, и самое утонченное удовольствие, доставляемое ею, — это возможность ее покритиковать. Если ее страницы изобилуют удачными местами — читатели сердятся и, опасаясь, как бы она не начала им нравиться, в конце концов откладывают в сторону именно потому, что она хороша.
Отнюдь не все считают себя ораторами, не все хотят или дерзают притязать на умение говорить плавно и образно, на хорошую память, на право носить духовное одеяние и называться проповедником. Но зато всякий уверен, что он умеет мыслить и пишет еще лучше, чем мыслит: поэтому он недоброжелательно относится ко всем, кто мыслит и пишет не хуже, чем он сам. Короче говоря, скорее нравоучитель будет награжден саном епископа, чем самый одаренный писатель получит простой приорат, а что касается милостей, то на первого они так и сыплются, меж тем как достойный автор весьма рад, когда он остается при своем.
28
Когда дурные люди преследуют вас ненавистью, люди добродетельные советуют вам смириться перед богом и не поддаваться тщеславию, одолевающему вас из-за того, что вы не нравитесь вашим недоброжелателям. Точно так же, когда люди, которые во всем видят посредственность, бранят книгу, написанную вами, или речь, произнесенную публично — в суде ли, с церковной ли кафедры или в ином месте, — смиритесь: помните, вы подвергаетесь опаснейшему и утонченнейшему искушению впасть в грех гордыни.
29
Я полагаю, что проповеднику следовало бы в основу каждой своей проповеди класть только одну истину, но существенную, грозную, назидательную; он должен развить ее и до конца исчерпать, отказавшись от всяких разделов, обдуманных, выверенных, отшлифованных и подробно разработанных; выбросить из головы то, чего нет в действительности, то есть не думать, что вельможи и светские люди наставлены в вере и своих обязанностях, и смело обучать катехизису этих умников и знатоков. Пусть долгие часы, потребные на сочинение длинной проповеди, он употребит на столь глубокое обдумывание предмета, чтобы слова и обороты рождались сами собой и свободно лились из глубины сердца; пусть вверится после такой подготовки силе своего таланта и волнению, внушенному величием самой темы, избавив себя тем самым от огромного напряжения памяти, которое пристало не столько человеку, занятому важным делом, сколько тому, кто побился об заклад и вспоминает нечто, относящееся к предмету спора, — подобное напряжение связывает жесты и уродует лицо; пусть исполнится воодушевления, убедит умы, встревожит сердца и посеет в слушателях не боязнь того, что оратор вот-вот запнется, а трепетный ужас, идущий из совсем иного источника.
30
Пусть тот, кто еще не настолько добродетелен, чтобы забыть о себе, проповедуя слово божье, не впадает в отчаяние, убоявшись строгих правил, здесь ему предписываемых: они не запрещают ни выказывать ум, ни стремиться к высоким должностям. Кто сравнится в таланте с человеком, проповедующим по-апостольски, и кто более, чем он, заслуживает епископского сана? Разве недостоин был этого сана Фенелон{281}? И разве мог бы государь обойти его сей высокой должностью, не будь он предназначен для иной?
Глава XVI О вольнодумцах
1
Слово «вольнодумцы» равнозначно по-французски выражению «люди, сильные духом», но известно ли вольнодумцам, какая ирония таится в этой равнозначности? Есть ли на свете человек более слабый, чем тот, кто сомневается в первооснове своей природы, бытия, чувств, сознания и не представляет себе, что с ним станется, когда его земное существование придет к концу? Какое, должно быть, отчаяние охватывает того, кто предполагает, что душа его столь же материальна и тленна, как камень, пресмыкающийся гад или иные низшие твари! Не большей ли силы и величия достигает наш разум, приемля идею существа, стоящего выше остальных существ, сотворившего их и заключающего их в себе, существа всесовершенного, непорочного, изначального и бесконечного, существа, подобием и, смею сказать, частью которого является наша бесплотная и бессмертная душа?
2
Человек смиренный и человек слабый равно восприимчивы к впечатлениям, но первый воспринимает хорошее, а второй — дурное; иными словами, первый исполнен убежденности и веры, второй — упрямства и развращенности. Таким образом, смиренный дух приемлет истинную религию, а слабый или вовсе отрицает ее, или создает себе взамен нее ложную. Вольнодумец, мнящий, что он — человек, сильный духом, тоже лишен религии или сам себе ее изобретает; следовательно, он — человек, слабый духом.
3
Я называю людьми мирскими, суетными и низменными тех, чей ум и сердце привязаны к ничтожному клочку Вселенной, на котором они живут, именуя его Землею; тех, кому безразличны и не нужны духовные ценности; тех, кто так же ограничен, как их владения и поместья, которые можно измерить, исчислить в арпанах и обнести межевыми знаками. Меня не удивляет, что, располагая столь ничтожной точкой опоры, они шатаются при малейшей попытке познать истину; что столь узкий кругозор не дает им проникнуть в надзвездные просторы и узреть бога; что, не отдавая себе отчета, насколько душа выше материи и чего она достойна, они не сознают, как трудно ее утолить, как мало для нее Земли и всех суетных благ, как необходимо для нее присутствие всесовершенного существа, то есть бога, и какую глубокую потребность испытывает она в религии, которая указует ей путь к нему и служит порукой несомненности его бытия. Напротив, я без труда понимаю, как естественно и легко такие люди впадают в неверие и равнодушие и ставят бога и религию на службу политике, то есть тому, что упорядочивает и украшает здешний мир — единственное, о чем, по их мнению, стоит печься.
4
Иных людей окончательно развращают длительные путешествия, в которых они утрачивают даже ту малую веру, что у них еще оставалась: наглядевшись на различные религии, обряды и нравы, они уподобляются тому, кто входит в лавку, не зная заранее, какую ткань ему надо купить, — каждая лишь усугубляет его нерешительность, в каждой он находит свои прелести и достоинства, теряется, не может ничего выбрать и уходит, так и не сделав покупки.
5
Бывают люди, которые готовы стать набожными и верующими лишь при том условии, что нечестие и вольномыслие сделаются достоянием всех и, следовательно, признаком заурядного ума. Вот тогда эти люди откажутся от своих заблуждений: они, видите ли, покорны моде и веяниям времени лишь в мелочах и пустяках, а в таком важном и серьезном деле, как религия, хотят быть независимы. Рисковать будущей жизнью — значит, по их мнению, выказать своего рода храбрость и неустрашимость; они считают к тому же, что людям известного звания, широты ума и воззрений не к лицу бесхитростная вера, свойственная ученым и простонародью.
6
Наслаждаясь здоровьем, люди сомневаются в существовании бога, равно как не видят греха в близости с особой легких нравов;[180] стоит им заболеть и опухнуть от водянки, как они бросают наложницу и начинают верить в творца.
7
Прежде чем мнить себя вольнодумцем и безбожником, человеку следует заглянуть к себе в душу и тщательно взвесить, способен ли он, по крайней мере, не изменить своим взглядам и умереть так же, как жил; если у него не хватает мужества идти избранным путем до конца, он должен смириться и жить так, как хочет умереть.
8
Всякая шутка в устах умирающего неуместна; если же она касается определенных предметов, она гибельна. Что может быть печальнее, чем участь острослова, который даже ценой спасения души пытается перед смертью рассмешить тех, кого оставляет?
Что бы, по нашему мнению, ни ожидало нас за гробом, смерть сама по себе настолько серьезна, что ей приличествует не зубоскальство, а твердость.
9
Во все времена встречались люди широкого ума и большой образованности, которые тем не менее состояли в настоящем рабстве у вельмож, разделяли их вольномыслие и до смерти несли на себе его иго, невзирая на свои познания и вопреки своей совести. Они всю жизнь жили для своих покровителей, словно это было их высшей целью. Они стыдились их покинуть, стать такими, какими, возможно, были на самом деле, и губили себя из чрезмерной почтительности или слабости. Но разве есть на земле вельможи столь вельможные и сановники столь сановные, чтобы мы жили и веровали так, как им вздумается, как требуют их склонности и прихоти, и чтобы, даже умирая, мы из угодливости уходили из этого мира не так, как нам лучше, а так, как им больше нравится?
10
Я требую, чтобы тот, кто не желает жить, как другие, и покоряться общим для всех правилам, имел убедительные к тому основания, мог подкрепить их неопровержимыми доводами и знал больше, чем остальные.
11
Покажите мне воздержного, умеренного, целомудренного и справедливого человека, который решился бы отрицать существование бога. Я допускаю, что, утверждая это, он был бы вполне бескорыстен и беспристрастен; беда лишь в том, что такого человека нет.
12
Мне было бы крайне любопытно взглянуть на того, кто искренне полагает, что бога нет: он сообщил бы мне, по крайней мере, какие неоспоримые доводы убедили его в этом.
13
Невозможность доказать, что бога нет, убеждает меня в том, что он существует.
14
Бог сам осуждает и наказывает тех, кто его оскорбил, ибо только он судья во всем, что его касается; это было бы несправедливо, не будь он воплощением истины и справедливости, то есть богом.
15
Я чувствую, что бог есть, и не чувствую, что его нет: этого с меня достаточно, и никакие умствования не помешают мне прийти к выводу, что бог существует. Это заключение вытекает из самой моей природы: я слишком легко воспринял этот принцип в детстве и слишком естественно верил в него, будучи зрелым человеком, чтобы усомниться в его истинности, хотя кое-кто и не согласен с ним. Впрочем, я не уверен, что такие люди бывают, но если даже они встречаются, это доказывает лпшь одно: в семье не без урода.
16
Атеизма не существует: у вельмож, которых чаще всего в нем подозревают, слишком ленивый ум, чтобы решать, есть бог или нет. Они настолько беспечны, что им нет дела до этого важнейшего предмета, равно как до природы души и смысла истинной веры; они ничего не отрицают и ничего не принимают, — они об этом просто не думают.
17
Сколько бы ни было у нас здоровья, сил и ума, мы сполна растрачиваем их на помыслы о других людях и о нашей собственной, пусть даже самой ничтожной, выгоде. Напротив, приличия и обычай как бы обязывают нас думать о нашей душе лишь тогда, когда у нас остается ровно столько разума, сколько нужно, чтобы понять, как его мало.
18
Одному вельможе кажется, что он падает в обморок, а на самом деле он умирает; другой угасает незаметно, каждый день теряет силы и, наконец, испускает дух. Грозные, но бесполезные уроки! Никто не думает об этих столь примечательных и столь несходных между собой событиях, они никого не волнуют, люди обращают на них так же мало внимания, как на увядший цветок или засохший лист, — они жаждут освободившихся должностей и разузнают, заняты ли эти места и кем.
19
Разве люди так добры, постоянны и справедливы, чтобы мы возлагали на них все наши надежды и не нуждались в боге, к которому мы могли бы обратиться за помощью, когда над нами тяготеет незаслуженный приговор, когда нас преследуют и предают?
20
Если вольнодумца смущает и ослепляет то, что есть в религии высокого и великого, значит, он человек не сильный, а слабый духом; если же, напротив, его отталкивает то, что в ней есть смиренного и бесхитростного, значит, он воистину силен — сильнее даже, чем такие ученые, возвышенные и тем не менее веровавшие мужи, как Лев{282}, Василий, Иероним{283} и Августин.
21
«Отцы церкви, учители церкви! Какие громкие имена и какая скука, сухость, холодная набожность, а подчас и схоластика в их сочинениях!» — восклицают те, кто никогда их не читал. Как были бы удивлены такие люди, составившие себе столь далекое от истины представление об отцах церкви, если бы прочли их творения, где больше тонкости и проникновенности, блеска и ума, красот слога и остроты суждения, живости и непринужденного очарования, чем во многих книгах нашего века, которые так пленяют читателей, приносят славу своим авторам и преисполняют их тщеславием! Как отрадно верить и знать, что твою веру разделяют, поддерживают и объясняют столь высокие души и столь сильные умы, в особенности если вспомнить, что сравниться с блаженным Августином по обширности, глубине и проникновенности знаний, по чистоте и возвышенности философских принципов, по умению их применить и развить, по убедительности выводов, по достоинствам слога, по благородству морали и чувствований могут разве что Платон и Цицерон.
22
Человек от природы лжив, истина же проста и нага; он жаждет прикрас и выдумок, поэтому истина не для него: она нисходит с неба в готовом, так сказать, виде и во всем своем совершенстве, а человек любит только то, что создал сам, — небылицы и басни. Посмотрите на простонародье: оно вечно что-нибудь измышляет, перевирает и преувеличивает по причине своего невежества и глупости. Спросите даже у самого порядочного человека, всегда ли он правдив в речах; не ловит ли себя порой на выдумках, к которым его толкают легкомыслие и тщеславие; не случается ли ему ради красного словца прибавить к рассказу подробность, которой не было в действительности. Возьмите любое событие, происходящее чуть ли не у всех на глазах: его видят сто человек, и каждый из них описывает его по-своему; осведомитесь об этом событии у сто первого, он все равно изложит дело на свой лад. Как же после этого верить в то, что происходило давным-давно, за много веков до нас? Как полагаться на самых достоверных историков? И можно ли принимать историю всерьез? Говорят, Цезаря убили в сенате. Да был ли вообще Цезарь?
«Какая недоверчивость! — скажете вы. — Какие нелепые сомнения, какая излишняя щепетильность!» Вы смеетесь, даже не снисходя до возражений, и, пожалуй, вы правы.
Предположим теперь, что источник, где упомянут Цезарь, не есть светское сочинение, написанное рукою лживых от природы людей и случайно найденное в библиотеках среди других рукописей, которые содержат как правдивые, так и вымышленные истории; что, напротив, это святое и богодухновенное творение, которое являет всем зрячим признаки своего неземного происхождения и которым вот уже почти два тысячелетия руководствуется множество людей, не позволивших себе за эти века изменить в нем хотя бы букву и почитающих своей священной обязанностью хранить его в первоначальной неприкосновенности; что, наконец, сама религия предписывает незыблемо верить всем утверждениям, содержащимся в этой книге, где говорится о Цезаре и его диктатуре. Сознайся, Луцилий, что в таком случае ты начнешь сомневаться в том, был ли Цезарь.
23
Никакая музыка не достойна восхвалять господа и звучать в его святилище, никакая философия не способна достаточно возвышенно говорить о божественном промысле, о боге, его могуществе, его деяниях и его таинствах: чем она отвлеченнее и тоньше, тем она суетней, тем бессильней объяснить вещи, познание которых требует от человека только бесхитростности и к тому же доступно ему лишь до известного предела. Пытаться разумом постигнуть бога, его совершенство и его, смею так выразиться, поступки — значит идти дальше древних философов, апостолов и отцов церкви и заниматься долгими и бесполезными поисками источника истины там, где его не может быть. Стоит отринуть такие атрибуты создателя, как благость, милосердие, всеправедность и всемогущество, которые дают нам столь высокое и преисполненное любви представление о боге, как мы, несмотря на все усилия нашего воображения, немедля придем к понятиям сухим, бесплодным, бессмысленным, предадимся пустым, несовместимым со здравым смыслом и в лучшем случае слишком утонченным и замысловатым умствованиям, а углубляясь все дальше в эту новую метафизику, начнем терять веру.
24
До каких только крайностей не доходят люди во имя той самой религии, в которую верят так мало и которой следуют так нерадиво!
25
Умствуя каждый на свой лад, люди искажают ту самую религию, которую с таким пылом и рвением защищают от иноверцев; сообразно своим взглядам они то прибавляют к ней, то изымают из нее множество мелких, но порой существенных подробностей, причем твердо и неколебимо держатся той формы, которую сами ей придают. Таким образом, можно сказать, что у всякого народа, в общем, одна вера и что в то же время у него их множество, ибо почти каждый человек, в частности, исповедует свою собственную.
26
В разное время при дворах поочередно господствуют и процветают два сорта людей — вольнодумцы и лицемеры; первые ведут себя просто, непринужденно, весело, открыто, вторые — тонко, хитро и коварно, причем до крайности жадны к милостям и гонятся за ними во сто раз неистовей, чем первые: они хотят навсегда присвоить их, распоряжаться ими, делить их между себе подобными и не подпускать к ним других; чины, должности, звания, бенефиции, пенсионы, почести — все им желанно, все должно принадлежать только им; а всех остальных, кто не связан с ними, они почитают людьми, недостойными возвышения, и объявляют их наглецами, если те все-таки дерзают надеяться на награду. Представьте себе толпу масок на балу: они берутся за руки, пляшут, увлекают друг друга, делают круг за кругом и все продолжают плясать, не впуская в хоровод никого из присутствующих, как бы он того ни заслуживал; общество томится, всем до смерти скучно смотреть на пляски и не плясать самим; кое-кто ворчит, а самые благоразумные собираются с духом и уходят.
27
Есть два рода вольнодумцев: собственно вольнодумцы, которые хотя бы почитают себя таковыми, и лицемеры, которые больше всего боятся прослыть вольнодумцами; вторые тем опаснее, чем искуснее они притворяются.
Лицемер либо не верит в бога, либо издевается над ним. Я предпочитаю быть учтивым, поэтому говорю: он не верит в бога.
28
Если религия есть благоговейный страх перед божеством, то что же должны мы думать о тех, кто дерзает оскорблять его земное подобие — государя?
29
Скажи кто-нибудь, что сиамское посольство прибыло к нам с тайной целью побудить христианнейшего короля отречься от христианства и допустить в свое государство талапуанов{284}, которые проникли бы в наши дома, принесли бы туда свои книги, искусными речами обратили бы в свою веру наших жен, детей и нас самих, воздвигли бы в наших городах пагоды и выставили бы там идолов из металла для всеобщего поклонения, мы встретили бы столь нелепую новость только презрительным смехом. В то же время мы сами проплываем шесть тысяч лье по морю с единственной целью обратить в христианство жителей Индии, Сиама, Китая и Японии и всерьез делаем этим народам такие предложения, которые не могут не показаться им в высшей степени бессмысленными и странными. Тем не менее они терпят наших монахов и священников, иногда слушают их, дозволяют им строить церкви и выполнять свою миссию. Чем объяснить такую разницу между ними и нами? Не могуществом ли истины?
30
Не каждому подобает быть благотворителем и собирать у своих дверей бедняков, со всех концов города приходящих туда за милостыней. Напротив, каждый из нас ежедневно сталкивается с тайной нищетой, которую может облегчить либо своими силами и немедленно, либо предстательствуя за нее перед другими. Точно так же не каждому дано быть проповедником или законоучителем, всходить на кафедру и возвещать с нее слово божье; но кто из нас не встречает порой вольнодумцев, которых следует смирить и вернуть на путь истинный кроткой и задушевной беседой? Человек, в течение своей жизни обративший к богу хоть одного ближнего, прожил ее недаром, и земля носила его не напрасно.
31
Есть два мира: в одном мы пребываем недолго, затем покидаем его и уже не возвращаемся, ибо вступаем в другой, и притом навсегда. Для первого нужны милости, власть, дружба, слава, богатство; для второго — лишь презрение ко всему этому. Выбор за нами.
32
Кто прожил день, тот прожил век: Солнце, Земля, Вселенная, наши чувства — все неизменно; сегодня и завтра схожи, как две капли воды. Новое приносит нам лишь кончина, ибо после нее мы перестаем быть телом и становимся только духом. Однако человек, всегда столь падкий до нового, почему-то нелюбознателен в том, что касается смерти; от природы он беспокоен, ему быстро наскучивает все, но жизнь — никогда; пожалуй, он согласился бы жить даже вечно. То, что он видит, когда смерть уносит его ближних, поражает его сильнее, чем то, что ему известно о ней: болезнь, горе, вид трупа отбивают у него охоту познать иной мир, и нужна глубокая вера, чтобы примирить его с неизбежностью.
33
Если бы господь позволил нам выбирать между смертью и вечной жизнью, то, хорошо подумав над тем, что значит не видеть конца бедности, рабству, скуке, болезни или вкусить богатства, величия, наслаждений и здоровья лишь для того, чтобы с течением времени все это непременно превратилось в свою противоположность, и быть, таким образом, игралищем радости и горя, мы вряд ли смогли бы на что-нибудь решиться. Природа берет этот труд на себя и решает сама, обрекая нас неизбежной смерти, которую нам облегчает религия.
34
Будь моя вера ложной, она была бы самой искусной ловушкой, какую только можно себе представить, западней, которую нельзя ни миновать, ни обойти. Как величавы и возвышенны ее таинства! Как последовательно, убедительно, разумно ее учение! Как чисты и невинны проповедуемые ею добродетели! Как вески и неопровержимы свидетельства ее силы, явленные нам в течение трех долгих веков миллионами самых мудрых и здравых людей, которых сознание ее истинности поддерживало в изгнании, в заточении и пред лицом смерти в минуту казни! Перелистайте историю, припомните все ее события от самого сотворения мира, даже раньше того, как он был сотворен. Найдете ли вы в ней что-нибудь подобное? Может ли сам бог изобрести нечто более для меня убедительное? Как избежать этой ловушки? Куда повернуть, где искать дорогу не то что лучшую, а хотя бы равную той, которая ведет к ней? Нет, если мне суждено погибнуть, я погибну на избранном мною пути. Конечно, мне легче вовсе отрицать бога, нежели добровольно согласиться на столь искусный и благовидный обман, но я все обдумал и не могу быть атеистом; следовательно, я возвращаюсь к моей вере, покорствую ей, и спорить больше не о чем.
35
Вера либо истинна, либо ложна. Если она вымысел, значит, добродетельный человек, монах или отшельник зря потеряли шестьдесят лет жизни, и только, — больше им ничто не угрожает. Но если она основана на истине, то человека порочного ожидает страшная участь: одна мысль о муках, которые он себе готовит, приводит в трепет мое воображение; ум бессилен постичь их, слова — выразить. Поэтому, даже допуская, что вера менее истинна, чем это считается, человек все равно не может избрать путь более спасительный, нежели стезя добродетели.
36
Не знаю, стоит ли доказывать существование бога людям, дерзающим его отрицать, и заслуживают ли они большего к себе внимания, чем то, которое уже уделено им в этой главе: невежество, главная черта их характера, делает их невосприимчивыми к самым убедительным доводам и самым последовательным рассуждениям. Пусть они все же прочтут то, что следует далее, но не думают, что этим исчерпывается все, могущее быть сказанным о столь ослепительной истине, как бытие творца.
37
Сорок лет назад я еще не существовал и не властен был сам наделить себя существованием, равно как сейчас, уже существуя, я не могу не существовать; следовательно, я начал и продолжаю существовать благодаря чему-то, что находится вне меня, что пребудет после меня, что выше и сильнее меня. Если это не бог, пусть мне скажут, что это такое.
Предположим, что я обязан своим существованием только силам всеобъемлющей природы, которая всегда, даже в бесконечно отдаленные времена, была такой же, какой мы видим ее сейчас[181]. Но эта природа может быть либо только духом, и тогда она — бог, либо материей, и тогда она не способна создать мою душу, либо, наконец, соединением духа и материи, и тогда духовное начало в ней я именую богом.
Предположим, что то, что я называю своей душой, представляет собой частицу материи, существующую благодаря силам всеобъемлющей природы, которая тоже есть не что иное, как материя, которая всегда была, которая всегда пребудет такою, какой мы видим ее сейчас, и которая не есть бог[182]. Но даже в этом случае то, что (каково бы оно ни было) я называю своей душою, способно мыслить: если даже это материя, она не может не быть мыслящей, ибо во мне, хотя бы сейчас, когда я излагаю эти рассуждения, несомненно, есть нечто такое, что мыслит, и никто не убедит меня в противном. Итак, если то, что есть во мне и что мыслит, обязано своим появлением и существованием всеобъемлющей природе, которая всегда была и пребудет вечно и которую это нечто признает своим первоисточником, то неизбежен вывод, что всеобъемлющая природа должна либо мыслить сама, либо быть совершеннее и выше того, что мыслит; если же устроенная таким образом природа есть материя, то придется заключить далее, что всеобъемлющая материя тоже мыслит или превосходит совершенством то, что мыслит, и стоит выше него.
Продолжаю. Если материя такова, какой мы ее предположили, и если она не химера, а действительно существует, она не может быть полностью недоступна нашим чувствам; если даже она не раскрывается перед ними сама, мы все же постигаем ее, взирая на те многообразные сочетания ее частиц, из которых состоят тела и которыми определяется различие между последними; следовательно, все эти различные тела суть материя; а так как, в силу нашего предположения, это такая материя, которая мыслит или стоит выше того, что мыслит, из сказанного вытекает, что раз она такова в некоторых телах, то такова же и во всех остальных и что она мыслит, принимая форму камня, металла, моря, меня самого (ибо я тоже тело) и вообще любой частицы, из которой слагается; в таком случае тем, что есть во мне, что мыслит и что я называю своей душою, я обязан совокупности грубых, земных и осязаемых тел, которые составляют всеобъемлющую материю, или наш видимый мир. Но это абсурд.
Если, напротив, всеобъемлющая природа (какова бы она ни была) не является совокупностью всех этих тел или каким-то одним из них, то неизбежен вывод, что она — не материя и не может быть воспринята нашими чувствами; если она к тому же мыслит или более совершенна, нежели то, что мыслит, приходится заключить, что она — дух или существо высшее и более совершенное, нежели дух; если же то, что мыслит во мне и что я называю своей душою, не может найти свой первоисточник и начало ни в себе самом, ни, как уже было доказано, в материи и должно искать его во всеобъемлющей природе, то я не стану спорить о словах, но этот первоисточник всякого духа, сам являющийся духом и стоящий выше всего, что является духом, я назову богом.
Короче говоря, я мыслю, следовательно, бог существует, ибо тем, что мыслит во мне, я обязан не самому себе, поскольку я не властен был наделить им себя в первый раз и не волен сохранить его хотя бы на одно мгновение теперь; не обязан я им и такому существу, которое стояло бы выше меня и было бы материально, ибо невозможно, чтобы материя стояла выше того, что мыслит; следовательно, я обязан пм существу, которое выше меня и которое есть не материя, а бог.
38
Из того, что всеобъемлющая и мыслящая природа полностью исключает наличие в ней чего бы то ни было материального, неизбежно следует вывод, что каждое существо, коль скоро оно мыслит, не может содержать в себе ни единой частицы материи, ибо хотя всеобъемлющее мыслящее существо заключает в себе неизмеримо больше величия, мощи, свободной воли и разума, нежели отдельное мыслящее существо, оно все-таки исключает материальное начало не более полно, чем отдельное мыслящее существо, поскольку и в том и в другом случае степень этого исключения бесконечно велика и поскольку то, что мыслит во мне, так же не может быть материей, как не может быть ею и бог; следовательно, раз бог есть дух, моя душа тоже духовна.
39
Я не знаю, способна ли собака выбирать, помнить, любить, бояться, воображать, мыслить; поэтому, когда мне говорят, что ее поступки вытекают не из страстей или чувств, а представляют собой естественное и необходимое следствие устройства ее организма, которое определяется особым расположением частиц материи, я готов согласиться с таким утверждением. Но я мыслю, и это не подлежит сомнению; какая же связь может быть между мыслью и тем или иным расположением частиц материи, то есть их размещением в пространстве, имеющем три измерения — длину, ширину, глубину — и делимом по всем этим направлениям?
40
Предположим, что все материально и мысль моя, равно как и мысль других людей, представляет собой лишь следствие особого расположения частиц материи. Кто же тогда привнес в мир мысль о вещах нематериальных? Разве способна материя содержать в себе такую чистую, простую и нематериальную идею, как представление о духе? В состоянии ли она породить то, что отрицает и даже исключает ее самое? Как может материя быть мыслящим началом в человеке, если оно и есть доказательство того, что человек нематериален?
41
Есть существа, которые живут недолго, ибо они составлены из весьма разнородных и плохо совместимых частей; бывают другие, более простые по составу и живущие поэтому дольше, но в конце концов все же погибающие, ибо и они состоят из частей, на которые их можно разделить. Свойственное же мне мыслящее начало должно пребывать очень долго, ибо это существо чистое, однородное, беспримесное и, следовательно, не имеющее оснований погибнуть, поскольку ничто не может разложить или расчленить существо простое и не состоящее из отдельных частей.
42
Душа видит цвет с помощью органа зрения и слышит звук с помощью органа слуха; она может перестать видеть или слышать, если ей изменят эти органы или исчезнут воспринимаемые предметы, но не перестанет при этом существовать сама, ибо душа — отнюдь не то, что видит цвет или слышит звук, а только то, что мыслит. Как же может она перестать быть тем, что она есть? Субъект мысли исчезнуть не может, ибо доказано, что он не материален; объект мысли пребудет до тех пор, пока существуют бог и вечные истины; следовательно, мысль нетленна.
43
Не могу себе представить, как может исчезнуть душа, которую бог преисполнил мыслью о бесконечности и всесовершенстве его существа?
44
Луцилий, взгляни на этот клочок земли, превосходящий изяществом и красотою все соседние с ним местности: вот здесь — квадраты зелени вперемешку с прудами и фонтанами, вон там — аллеи, окаймленные живыми изгородями, которые защищают тебя от северного ветра; с одной стороны перед тобою густая роща, спасающая от солнца даже в самые знойные дни, с другой — прелестный вид; у ног твоих струится река — Линьон или Иветта; раньше она терялась под ивами и тополями, теперь ее русло одето камнем; за нею — нескончаемые тенистые дорожки, ведущие вдаль, к дому, окруженному фонтанами. «Какое счастливое совпадение! — воскликнешь ты. — Сколько красот собрал здесь воедино случай!» Нет, ты, конечно, скажешь иначе: «Как удачно здесь все придумано и устроено! Какой во всем вкус, как все разумно!» Я соглашусь с тобой и прибавлю, что здесь, наверно, живет один из таких людей, которые, едва успев где-нибудь поселиться, уже призывают Ленотра, чтобы тот расчертил и разбил им сад. Но что такое этот клочок земли, для благоустройства и украшения которого потребовалось все искусство опытного мастера, если и сама-то Земля — всего лишь повисший в воздухе атом? Послушай же, что я скажу.
Луцилий, ты находишься где-то на этом атоме и занимаешь на нем не много места, из чего следует, что ты очень мал; у тебя есть глаза, это две совсем уж незаметные точки, но обрати их к небу, и чего только ты не увидишь! Вот полная Луна. Хотя свет ее — лишь отражение солнечного, она прекрасна, ярка и кажется такой же большой, как Солнце, и уж подавно большей, чем остальные планеты: Луна — самое ничтожное из небесных тел, поверхность у нее в тринадцать раз меньше, чем у Земли, объем — в сорок восемь раз, диаметр, равный семистам пятидесяти лье, — в четыре. Очевидно, она представляется тебе такой большой лишь по причине близости ее к нам, удаленным от нее примерно на тридцать земных диаметров, что составляет всего сто тысяч лье; расстояние, проходимое ею, не идет ни в какое сравнение с огромной окружностью, которую описывает в небесных просторах Солнце, ибо известно, что Луна делает лишь пятьсот сорок тысяч лье в день, что составляет всего двадцать две тысячи пятьсот лье в час и триста семьдесят пять — в минуту; тем не менее, чтобы она могла совершить этот путь, скорость ее должна в пять тысяч шестьсот раз превышать скорость почтовой лошади, делающей четыре лье в час, и в восемьдесят раз — скорость любого звука, например, пушечного выстрела или грома, пролетающего двести семьдесят семь лье в час.
А что получится, если сопоставить удаленность от нас, размеры и скорость движения Луны и Солнца! Их нельзя даже сравнивать, в чем ты сейчас и убедишься. Вспомни только, что диаметр Земли равен трем тысячам лье, а диаметр Солнца в сто раз больше и, значит, составляет триста тысяч лье. Но если такова его ширина в любой плоскости, то каковы же его поверхность и объем! Можешь ли ты представить себе его размеры, если, даже сложив миллион таких планет, как наша Земля, мы все равно получим объем меньший, чем объем Солнца? «Насколько же оно удалено от нас, если судить по его видимой величине!» — изумишься ты и будешь прав: расстояние до него чудовищно; доказано, что от Земли до Солнца должно быть не меньше десяти тысяч земных диаметров, то есть тридцать миллионов лье, а возможно, и в четыре, шесть, десять раз больше, ибо у нас нет способа, позволяющего точно измерить эту дистанцию.
Чтобы твоему воображению было легче себе ее представить, предположим, что с Солнца на Землю падает мельничный жернов; сообщим ему наибольшую скорость, которую он способен развить, — пусть даже такую, какой не достигают предметы, падающие с огромной высоты; допустим также, что он постоянно сохраняет эту скорость, не увеличивая ее, не убавляя и делая, таким образом, пятнадцать туазов в секунду, что равняется половине высоты самых высоких башен или девятистам туазам в минуту, которые мы для облегчения счета округлим до тысячи; тысяча туазов — это пол-лье; следовательно, за две минуты жернов пролетит одно лье, за час — тридцать, а за день — семьсот двадцать; всего, до падения на Землю, ему нужно пролететь тридцать миллионов лье, на что потребуется сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть дней, то есть больше, чем сто четырнадцать лет. Но не пугайся, Луцилий, а слушай дальше. Расстояние от Земли до Сатурна превышает расстояние от Земли до Солнца, по крайней мере, в десять раз, то есть составляет не меньше трехсот миллионов лье, так что наш жернов, будь он брошен на Землю с Сатурна, летел бы более тысячи ста сорока лет.
Приняв в соображение такое расстояние до Сатурна, напряги свою фантазию и сообрази, если можешь, как неизмерим тот путь, который эта планета ежедневно проходит над нашими головами: диаметр окружности, описываемой Сатурном, превышает шестьсот миллионов лье, а длина ее, следовательно, — тысячу восемьсот миллионов лье; английской лошади, пробегающей десять лье в час, потребовалось бы двадцать тысяч пятьсот сорок восемь лет, чтобы покрыть такое расстояние.
Знай, Луцилий, я еще не все сказал о чудесах видимого мира или, как ты иногда выражаешься, о чудесных следствиях случая, который ты почитаешь единственно возможной первопричиной всего сущего. Случай — еще более удивительный мастер, чем ты думаешь. Выслушай же меня и познай все могущество твоего божества. Известно ли тебе, что расстояние в тридцать миллионов лье от Земли до Солнца и в триста миллионов лье от Земли до Сатурна так мало в сравнении с расстоянием от Земли до звезд, что какое бы то ни было сопоставление этих величин просто неуместно? В самом деле, сопоставимо ли то, что, несмотря на всю свою величину, все же поддается измерению, с тем, что не может быть измерено? Мы не знаем, какова удаленность звезд; она, смею так выразиться, безмерна, и тут нам не помогут ни углы, ни синусы, ни параллаксы: наблюдай один человек за неподвижной звездой из Парижа, а другой — из Японии и проведи они мысленно две прямые от своего глаза до наблюдаемого светила, эти линии не образуют угла, но сольются в одну линию — настолько ничтожны земные просторы в сравнении с таким расстоянием. Впрочем, вышеприведенный пример можно отнести и к Солнцу и к Сатурну, о звездах же следует сказать нечто большее. Если бы два человека — один с Земли, а другой с Солнца — одновременно наблюдали за одной и той же звездой, оси зрения обоих наблюдателей не образовали бы сколько-нибудь заметного угла. Поясню свою мысль по-другому: человеку, находящемуся на звезде, наше Солнце и наша Земля, разделенные тридцатью миллионами лье, показались бы одной точкой; это доказано.
Мы не знаем также, каково расстояние от одной звезды до другой, сколь бы близкими между собой они нам ни казались. Если верить нашему зрению, Плеяды почти соприкасаются друг с другом; звезды в рукояти ковша Большой Медведицы как бы насажены одна на другую, взгляд с трудом различает разделяющую их часть неба, они кажутся двойной звездой, и тем не менее все искусство астрономов бессильно определить расстояние между ними. Что же тогда говорить о взаимоудаленности двух звезд, дистанцию между которыми различает даже наш глаз, и уж подавно — о расстоянии между двумя звездами, противостоящими друг другу! Как бесконечно длинна должна быть мысленная прямая, соединяющая их! Какова окружность, которой она служит диаметром! Не легче ли добраться до дна бездонной пропасти, чем вычислить объем шара, одним из сечений которого является вышеназванный круг? Можно ли после этого удивляться, что столь необъятные звезды представляются нам всего лишь крохотными искорками? Не следует ли скорее изумляться тому, что даже на таком страшном удалении они все-таки видны глазу и сохраняют свои очертания? А ведь мы даже не можем представить себе, сколько звезд ускользает от нашего зрения; правда, мы умеем определять число небесных тел, но только тех, которые оно воспринимает; а как сосчитать те, которых мы не замечаем, хотя из них состоит, например, Млечный Путь — светящаяся полоса, видимая на небе в ясные ночи, тянущаяся от севера к югу и настолько от нас удаленная, что глаз различает не отдельные составляющие ее звезды, а лишь белизну этой небесной дороги, где они рассыпаны?
Итак, я стою на Земле, которая не что иное, как песчинка, которая ни на чем не держится и словно висит в воздухе. Вокруг нее, на высоте, превосходящей все наши понятия, вращается почти бесконечное число огненных шаров невыразимой и потрясающей воображение величины, которые вот уже более шести тысяч лет изо дня в день проносятся через безмерные и беспредельные просторы неба. С тебя мало этого? Ты жаждешь услышать еще что-нибудь не менее чудесное? Так вот, представь себе, Земля сама с непостижимой скоростью вращается вокруг Солнца, центра Вселенной, и все эти шары, все эти колоссальные движущиеся тела не препятствуют вращению соседних, не мешают друг другу, не сталкиваются между собой; в самом деле, что сталось бы с Землею, если бы мельчайшее из них по ошибке встретилось с нею? Напротив, все они занимают свои места, блюдут предустановленный порядок и так невозмутимо следуют назначенным им путем, что ничей слух не способен услышать их ход, а простолюдины даже не подозревают об их существовании. О, несравненная предусмотрительность случая! Даже разум не сумел бы устроить все это обдуманнее! Меня смущает только одно, Луцилий: эти огромные тела так точны и постоянны в своем беге, вращении и взаимодействии, что даже некие крохотные животные, затерянные в одном из уголков того неизмеримого пространства, которое называется Вселенной, нашли, понаблюдав за светилами, способ безошибочно предсказывать, в какой точке своего пути окажутся последние через две, четыре, двадцать тысяч лет начиная с сегодняшнего дня. Вот это и озадачивает меня, Луцилий. Если столь непререкаемые законы соблюдаются лишь благодаря случаю, то что же такое тогда порядок и закон?
Более того — я спрошу тебя: что же такое сам случай, тело или дух? Существо, живущее особой, отдельной и отличной от других существ жизнью, или только форма, только внешняя примета жизни этого существа? Когда игральный шар натыкается на камень, мы говорим, что это — случай; отличается ли он от того случая, о котором сейчас идет речь? Если, в силу такого случайного столкновения с камнем, шар покатится не прямо, а вбок, если его движение из самостоятельного станет отраженным, если он прекратит вращение вокруг своей оси и начнет кататься из стороны в сторону или подпрыгивать, вправе ли я буду заключить, что движение шара вообще вызвано только этим случаем? Не естественнее ли предположить, что он движется либо сам по себе, либо от толчка руки, метнувшей его? И если колесики часов сообщают друг другу вращательное движение с той или иной скоростью, то разве я буду из-за этого с меньшим любопытством исследовать причину такого движения и определять, вращаются ли колесики сами по себе или же их приводит в движение тяжесть гири? Однако ни колесики, ни игральный шар не сообщают себе движения сами, то есть не движутся благодаря самой своей природе, поскольку они в конце концов останавливаются, не меняя при этом своей природы; очевидно, они получают движение извне, от какой-то посторонней силы. Точно так же: разве изменится природа небесных тел, если они остановятся? Разве они перестанут при этом быть небесными телами? Не думаю. Однако они движутся, и притом не сами по себе, то есть не благодаря своей природе. Следовательно, источник их движения следует искать вне их. Ищи, Луцилий, и, что бы ты ни нашел, я назову этот источник богом.
Предположим, что эти колоссальные тела неподвижны; тогда, разумеется, незачем спрашивать, кто сообщает им движение; но даже в таком случае нам могут задать вопрос, кто создал эти тела, подобно тому как вполне уместно осведомиться, кем сделаны вышеупомянутые колесики часов или игральный шар. Предположим далее, что любое из этих колоссальных тел представляет собой случайное скопление атомов, связанных и сцепленных между собою благодаря форме и строению своих составных частей; тогда я возьму один из таких атомов и спрошу: «Кто создал этот атом? Что он такое — материя или разум? Было ли у него представление о собственном бытии, прежде чем он начал быть?» Если да, то он существовал до того, как обрел существование, то есть одновременно и был и не был. А если он сам сотворил свое существо и форму, в которой оно существует, то почему он стал телом, а не духом? А может быть, этот атом вообще изначален, вечен и ему нет конца? Не делаешь ли ты этот атом богом, Луцилий?
45
У клеща есть глаза, он сворачивает в сторону при виде опасных для него предметов; чтобы лучше его рассмотреть, пустите это животное ползать по черному дереву и преградите ему дорогу самой маленькой соломинкой — оно тотчас же переменит направление. Неужели хрусталик, сетчатка и зрительный нерв его глаза тоже плод игры случая?
В капле воды под воздействием подмешанного к ней перца обнаруживается бесчисленное множество мельчайших животных, очертания которых помогает нам различить микроскоп; они передвигаются с невероятной быстротой, словно чудовища, живущие в беспредельном море; каждое из этих животных в тысячу раз меньше клеща, и тем не менее каждое из них есть тело, которое существует, питается, растет и должно обладать мышцами, сосудами, соответствующими нашим венам, артериям и нервам, а также мозгом, распределяющим животные соки по организму.
Пятнышко плесени величиною с песчинку оказывается под микроскопом скоплением отчетливо различимых растений, одни из которых цветут, другие плодоносят, третьи только покрываются почками, а четвертые уже вянут. Как невероятно малы должны быть корни и фильтры, добывающие пищу для этих мельчайших растений! Если же вспомнить, что у этих растений есть семена, как у дубов или сосен, и что вышеназванные мельчайшие животные размножаются так же, как слоны и киты, то есть воспроизводя себе подобных, наше удивление еще более возрастет. Кто же сотворил столь хрупкие и крошечные создания, которые ускользают от нашего глаза и размеры которых суть величины почти такие же бесконечные, как размеры неба, только, в противоположность последним, бесконечно малые? Не тот ли, кто, сотворив небо и светила, эти колоссальные массы, подавляющие нас своим объемом, удаленностью, скоростью, длиной проходимого ими пути, без труда приводит их в движение?
46
Бесспорно, что Солнце, небеса, светила и влияния их служат человеку так же, как воздух, которым он дышит, или Земля, по которой он ходит и которая его носит; если же эта бесспорная истина нуждается в том, чтобы мы подкрепили ее соображениями разума или правдоподобия, то они тоже налицо, так как небеса и все, что они содержат, отнюдь не могут сравниться по благородству и достоинству с самым последним из людей — жителей Земли, поскольку между небесами и человеком существует такое же соотношение, как между материей, не способной чувствовать и представляющей собой просто трехмерное пространство, и тем, что есть дух, разум, мысль; если мне возразят, наконец, что человеку для поддержания жизни хватило бы и меньшего, я отвечу, что бог тем не менее явил в этом случае лишь ничтожную долю своего могущества, величия и благости, ибо он в состоянии сделать бесконечно больше сделанного им и видимого нами.
Весь мир, если он создан для человека, есть буквально ничто в сравнении с тем, что бог готов сделать для человека, как доказывает нам религия; следовательно, покоряясь силе истины и сознавая свои преимущества, человек не впадает ни в тщеславие, ни в гордыню, ибо с его стороны было бы глупостью и слепотой не верить той цепи доказательств, при помощи которых религия открывает ему его дарования, способности, возможности и учит его сознавать, что он есть и чем может стать. «Но Луна тоже обитаема — или, по крайней мере, может быть обитаема», — возражаешь ты. Но при чем здесь Луна, Луцилий? Если бог есть, то разве для него что-нибудь невозможно? Ты, наверно, хотел спросить, одни ли мы во Вселенной так взысканы богом и нет ли на Луне других людей или существ, которых бог удостоил бы тех же милостей, что и нас? Луцилий, это — пустое любопытство, праздный вопрос! Земля действительно обитаема, ибо мы живем на ней и знаем об этом; у нас есть доказательства, свидетельства и уверенность во всем, что касается бога и нас самих; пусть же те существа, — каковы бы они ни были, — которые населяют небесные тела, сами думают о себе: у них свои заботы, у нас — свои. Ты наблюдал Луну, Луцилий, ты не хуже любого астронома знаешь все пятна на ней, все ее впадины и возвышенности, ее удаленность, объем, орбиту и фазы. Что ж, изобрети новые инструменты, будь еще точнее в наблюдениях, попробуй убедиться, что Луна обитаема. Если это так, ответь, каких животных ты видишь там и похожи ли они на людей? Являются ли они людьми? Позволь-ка мне тоже посмотреть, и, если мы сойдемся на том, что Луну действительно населяют люди, мы подумаем над тем, христиане ли они и взыскал ли их бог своими милостями наравне с нами.
47
В природе все изумительно и величаво, все носит на себе печать творца; даже то, что порою случайно и несовершенно, предполагает закономерность и совершенство. О, тщеславный и самонадеянный человек! Сумей создать хотя бы того червяка, которого ты попираешь ногой и презираешь. Жаба вселяет в тебя отвращение? Попробуй сделай ее, если можешь. Каким несравненным мастерством владеет тот, кто творит такие создания, которые не только восхищают, но и пугают людей! Я не требую, чтобы ты изготовил у себя в мастерской умного человека, статного мужчину, красивую женщину, — такой труд тебе не по плечу; создай хоть горбуна, безумца, урода, и я уже буду доволен.
Короли, монархи, государи, помазанники божьи (все ли ваши гордые титулы я перечислил?), сильные мира сего, люди великие, могущественные и готовые даже объявить себя всемогущими! Нам, простым смертным, для наших посевов нужен хоть слабый дождь, — что я говорю! — хоть немного росы; дайте же нам ее, ниспошлите земле хоть каплю влаги.
Устройство, красота и внешние проявления природы понятны каждому; ее первопричина и происхождение — нет. Спросите у женщины, почему стоит ее прекрасным глазам открыться — и они видят; спросите о том же ученого, — ответа не последует.
48
Миллионы лет, сотни миллионов лет, — словом, любой промежуток времени есть лишь краткий миг в сравнении с бытием бога, который вечен; все просторы Вселенной не более как точка, мельчайший атом в сравнении с его безмерностью. Если мое утверждение верно, — а в этом нет сомнения, ибо конечное несопоставимо с бесконечным, — то, спрашивается, имеет ли какое-нибудь значение человеческая жизнь, или песчинка, именуемая Землей, или та частица Земли, которою владеет и которую населяет человек? В жизни преуспевают злые, говорите вы. Согласен, некоторые из них преуспевают. Добродетель на Земле всегда поругана, а порок торжествует. Не спорю — иногда бывает и так. «Это несправедливо». Ничуть не бывало! Прежде чем делать такой вывод, нужно, по крайней мере, доказать, что злые безусловно счастливы, что добродетель постоянно унижена, а преступление всегда безнаказанно; что время, когда добрые терпят, а злые благоденствуют, сколько-нибудь длительно; что так называемые благоденствие и удача не есть обманчивая видимость и минутный призрак; что та Земля, тот атом, где добродетели и преступление так редко получают воздаяние по заслугам, — это единственный уголок мировой сцены, в котором совершается правосудие и раздаются награды.
Как из того, что я мыслю, я заключаю, что я дух, так из того, что я по желанию могу совершать или не совершать какое-нибудь действие, я вывожу, что я свободен; свобода же — это выбор, иными словами — добровольное решение творить добро или зло, совершать похвальные или дурные поступки, то есть быть добродетельным или преступным. Если бы преступление безусловно оставалось безнаказанным, это, разумеется, было бы несправедливостью; но, кто знает, не остается ли оно безнаказанным только на Земле? Предположим, однако, вместе с атеистами, что в мире царит несправедливость. Всякая несправедливость есть отрицание или нарушение справедливости; следовательно, всякая несправедливость предполагает справедливость, а всякая справедливость есть то, что согласно с верховным разумом. Но, спрашивается, может ли разум не желать, чтобы преступление было наказано? Это столь же немыслимо, как треугольник, в котором меньше трех углов. Далее: всякое согласие с разумом есть истина; это согласие существовало всегда, следовательно, оно принадлежит к числу вечных истин; истина же должна познаваться умом, иначе она не истина; таким образом, познание истины тоже вечно, и это познание есть бог.
Разоблачение самых таинственных преступлений, совершая которые злодеи приняли все меры предосторожности, происходит так просто и так легко, что кажется, будто один только господь и мог привести все к такой развязке; до нас дошло такое множество подобных примеров, что, если бы кто-нибудь вздумал объяснить их чистой случайностью, ему пришлось бы заодно убедить нас в том, что случайность испокон веков была равнозначна закономерности.
Жак Калло. «Слепой с собакой».
Офорт из серии «Нищие».
{285}
49
Если предположить, что все без исключения люди, населяющие Землю, смогут наслаждаться изобилием и ни в чем не испытывать недостатка, то из этого необходимо следует, что никто на Земле не будет наслаждаться изобилием, а, напротив, все будут терпеть нужду во всем. Есть два вида богатства, к которым сводятся все остальные, — это деньги и земля. Если все разбогатеют, кто будет возделывать землю и трудиться в рудниках? Те, кто живет далеко от рудников, не пожелают туда спускаться; те, кто населяет девственные и необработанные земли, не станут их засевать; выход, естественно, придется искать в торговле. Но если у людей будут в изобилии все блага и никому не придется жить своим трудом, кто станет перевозить из края в край слитки драгоценного металла или товары, предназначенные для обмена, посылать за море корабли, управлять ими, водить караваны? Пропадет все, что полезно и необходимо для жизни. Если исчезнет нужда, исчезнут искусства, науки, изобретения, механики. К тому же равенство имущества и богатств повлечет за собой равенство званий, уничтожит всякое повиновение, вынудит людей самим себе прислуживать, не прибегая к чужой помощи, лпшит законы смысла, сделает их бесполезными, породит безвластие, насилия, оскорбления, убийства и безнаказанность.
Напротив, если предположить, что все люди станут бедны, Солнце напрасно будет всходить для них на горизонте, согревать и оплодотворять Землю, небо — изливать на нее дожди, реки — орошать ее и приносить во многие страны изобилие и плодородие, море будет напрасно раскрывать людям свои глубины, а скалы и горы — свои недра, давая возможность извлечь оттуда спрятанные там сокровища.
Если же принять, что одни из людей, рассеянных по лицу Земли, должны быть богаты, а другие бедны и наги, то станет ясно, что нужда сближает, связывает и примиряет людей; одни служат, повинуются, изобретают, трудятся, возделывают, совершенствуют; другие пользуются их трудом, дают им пропитание, помогают им, защищают их, управляют ими; всюду царит порядок, и во всем познается бог.
50
Если на одной стороне сосредоточены власть, наслаждения, праздность, а на другой — покорность, заботы, нищета, то в этом повинна только людская злоба, а не бог, ибо если бы так распорядился бог, он не был бы богом.
Известное неравенство житейских положений, поддерживающее порядок и приучающее к повиновению, есть дело рук божьих, то есть предполагает божественное установление; слишком большая их несоразмерность, которая обычно наблюдается между людьми, есть дело рук человеческих, то есть вытекает из права сильного.
Крайности всегда порочны, ибо исходят от человека; равновесие всегда справедливо, ибо исходит от бога.
Если читатель не одобрит эти «Характеры», я буду удивлен; если одобрит, я все равно буду удивляться.
Примечания
1
Например, фраза «Я иду сегодня в театр» может означать, что именно я (а не моя жена, мой брат, моя сестра, мой друг) иду (а не остаюсь дома) сегодня (а не завтра, не послезавтра) в театр (а не в парк, не на концерт).
(обратно)2
Янсенизм — религиозное течение во французском католицизме, воспринявшее некоторые черты протестантизма (учение о предопределении и благодати). Этическая бескомпромиссность янсенистов и проявленная ими готовность к мученичеству перед лицом королевского деспотизма и иезуитской церковной политики сделали янсенизм привлекательным учением для оппозиционно настроенных и нравственно чутких людей таких, как Паскаль и Расин.
(обратно)3
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, с. 254.
(обратно)4
Там же, с. 254–255.
(обратно)5
Эта многозначность придает афоризмам Ларошфуко глубину и сложность, благодаря ей «Максимы» избежали обычной участи многих парадоксов — со временем устаревать, становиться тривиальными.
(обратно)6
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, с. 143.
(обратно)7
Ты сказал скорее как поэт, чем как человек (лат.) {47}.
(обратно)8
Ни в чем излишка (лат.){50}.
(обратно)9
Излишнюю пышность урежет (лат.) {52}.
(обратно)10
«Обо всем познаваемом» (лат.) {57}.
(обратно)11
Человек признателен за благодеяния лишь до тех пор, пока надеется отплатить за них; когда эта надежда исчезает, признательность превращается в ненависть (лат.) {58}.
(обратно)12
Человек неспособен постичь{60} соединенна духа с телом, а между тем это и есть человек (лат.).
(обратно)13
«Об общественном мнении, властвующем над миром» (итал.).
(обратно)14
Пятна на солнце (лат.).{67}
(обратно)15
Озарил светочем земли (лат.) {71}.
(обратно)16
Это свирепое племя, для него нет жизни без войны (лат.) {75}.
(обратно)17
Везде я искал покой (лат.).
(обратно)18
Сильнее воздействует страх, нежели вера (лат.) {83}.
(обратно)19
Ослепление пустяками (лат.) {84}.
(обратно)20
Память об однодневном госте (лат.) {85}.
(обратно)21
Нам уже ничего не принадлежит{87}; то, что я называю «нашим», — понятие условное. Преступления совершаются на основании сенатских решений и плебисцитов. Некогда мы страдали из-за наших пороков, теперь страдаем из-за наших законов (лат.).
(обратно)22
И так как он не ведает истины{89}, дарующей освобождение, для него благо быть обманутым (лат.).
(обратно)23
Об истинном праве (лат.) {91}.
(обратно)24
Перемены по вкусу сильным мира сего (лат.) {100}.
(обратно)25
Уход и возвращение (лат.).
(обратно)26
О, смехотворнейший из героев! (итал.)
(обратно)27
Центробежная сила (лат.).
(обратно)28
Я — человек, испытавший (горе) (лат.).
(обратно)29
Стремления отогнать (лат,).
(обратно)30
Сгустком зла (лат.).
(обратно)31
Победи зло добром (лат.).
(обратно)32
Мы намеревались предупредить, но не обидеть, принести пользу, но не ранить, улучшить нравы людей, но не оскорбить человека. Эразм{109} (лат.).
(обратно)33
Хотя Моисей и не считается писателем.
(обратно)34
Обед во время охоты в Шантильи.
(обратно)35
Изысканная закуска в лабиринте Шантильи.
(обратно)36
Сцена мятежа — обычная развязка заурядных трагедий {135}.
(обратно)37
Агата.
(обратно)38
Дети, внуки, потомки королей.
(обратно)39
Притворное благочестие.
(обратно)40
Богомолке-ханже.
(обратно)41
Не прибавляя слова «господин».
(обратно)42
Не прибавляя слова «господин».
(обратно)43
Не прибавляя слова «господин».
(обратно)44
Люди, притязающие на особую чистоту речи.
(обратно)45
Подражание Монтеню.
(обратно)46
Генриха Великого.
(обратно)47
Философ и автор стихотворных трагедий.
(обратно)48
Извещение о похоронах.
(обратно)49
См. «Обычаи королевства Сиамского».
(обратно)50
Заплатил в казну деньги за важную должность.
(обратно)51
Сирано.
(обратно)52
Сен-Сорлена.
(обратно)53
Сожжен на костре двадцать лет тому назад.
(обратно)54
Кабинетом называют в Париже место, куда порядочные люди сходится для беседы.
(обратно)55
Это не столько самостоятельный характер, сколько перечень примеров рассеянности. Если они забавны, количество их не может оказаться чрезмерным: вкусы различны, и люди должны располагать выбором.
(обратно)56
Полномочия (лат.).
(обратно)57
Мы, конечно, имеем в виду лишь ту, которая вдохновляется христианской верой.
(обратно)58
Ханжа.
(обратно)59
Мадемуазель Скюдери.
(обратно)60
Это выражение употреблено здесь в переносном смысле.
(обратно)61
Ханжой.
(обратно)62
Генерал-лейтенант маркиз де Монтревель, главный инспектор кавалерии.
(обратно)63
См. «Мысли» г-на Паскаля, гл. 31, где он утверждает противоположное.
(обратно)64
В опровержение низменной латинской пословицы {222}.
(обратно)65
Название раковин.
(обратно)66
Одежда жителей Востока.
(обратно)67
То же.
(обратно)68
То же.
(обратно)69
Наступательное и оборонительное.
(обратно)70
Ханжей.
(обратно)71
Притворно.
(обратно)72
Ветеранам.
(обратно)73
Ветераны.
(обратно)74
Монастырь, купивший должность королевского секретаря.
(обратно)75
Вышивками.
(обратно)76
Имеется в виду мотет, переведенный стихами на французский язык Л. Л.
(обратно)77
Долговые расписки и залоговые квитанции.
(обратно)78
В кассы для приема на хранение.
(обратно)79
Протоколами.
(обратно)80
Наследники по закону (лат.).
(обратно)81
Но (франц.).
(обратно)82
Mais.
(обратно)83
Конечно;
(обратно)84
неоднократный, не один;
(обратно)85
очень, весьма;
(обратно)86
ибо, поскольку;
(обратно)87
этот;
(обратно)88
болезненный;
(обратно)89
боль;
(обратно)90
тепло;
(обратно)91
горячий, пылкий;
(обратно)92
теплый, горячий;
(обратно)93
доблесть, ценность;
(обратно)94
доблестный, ценный;
(обратно)95
ненависть — ненавистный;
(обратно)96
тягота, горе — тяжкий, горестный;
(обратно)97
плод — плодовитый;
(обратно)98
жалость — жалкий;
(обратно)99
радость, веселье жизнерадостный;
(обратно)100
вера, верность — верный;
(обратно)101
двор — придворный, учтивый;
(обратно)102
жилище — расположенный, лежащий;
(обратно)103
дыхание — запыхавшийся;.
(обратно)104
хвастовство — хвастун;
(обратно)105
ложь — лгать;
(обратно)106
обычай — обычный, привычный;
(обратно)107
часть — частичный;
(обратно)108
точка, острие — остроконечный — обидчивый, мелочный (франц.).
(обратно)109
Звук — звучащий, громкий;
(обратно)110
звук — звучный;
(обратно)111
узда — разнузданный;
(обратно)112
лоб — дерзкий, наглый;
(обратно)113
смех — смехотворный;
(обратно)114
закон — верный;
(обратно)115
сердце — сердечный;
(обратно)116
благо — благодушный;
(обратно)117
зло — злобный;
(обратно)118
час;
(обратно)119
счастье;
(обратно)120
счастливый;
(обратно)121
выход;
(обратно)122
исходить;
(обратно)123
хитрый;
(обратно)124
ловчить;
(обратно)125
прекращение — прекращать;
(обратно)126
зеленый — зеленеть;
(обратно)127
праздник — праздновать;
(обратно)128
слеза — плакать;
(обратно)129
горе — горевать, печалиться;
(обратно)130
радость — радоваться, веселиться;
(обратно)131
гордость — гордиться;
(обратно)132
народ, люд;
(обратно)133
человеческий;
(обратно)134
бесславный;
(обратно)135
слава;
(обратно)136
любопытный;
(обратно)137
забота, внимание;
(обратно)138
так что, таким образом;
(обратно)139
что касается меня;
(обратно)140
я знаю, что такое недуг;
(обратно)141
следовательно;
(обратно)142
вследствие;
(обратно)143
характер поступков;
(обратно)144
способ действий;
(обратно)145
работать;
(обратно)146
иметь обыкновение;
(обратно)147
подобать;
(обратно)148
шуметь;
(обратно)149
оскорблять, бранить;
(обратно)150
колоть;
(обратно)151
напоминать;
(обратно)152
мысли;
(обратно)153
подвиги;
(обратно)154
похвалы;
(обратно)155
злобность;
(обратно)156
дверь;
(обратно)157
корабль;
(обратно)158
войско (франц.).
(обратно)159
Монастырь;
(обратно)160
луга;
(обратно)161
подделывать (вино);
(обратно)162
доказывать;
(обратно)163
прибыль, выгода;
(обратно)164
пшеница;
(обратно)165
профиль;
(обратно)166
провизия, запас;
(обратно)167
вести на прогулку;
(обратно)168
променад, место для прогулок;
(обратно)169
ловкий, полезный, легкий, послушный, подвижный, плодородный;
(обратно)170
подлый;
(обратно)171
тонкий, деликатный;
(обратно)172
печать;
(обратно)173
плащ, пальто;
(обратно)174
шляпа;
(обратно)175
нож;
(обратно)176
поселок;
(обратно)177
юный дворянин;
(обратно)178
юнец (франц.).
(обратно)179
Капуцин отец Серафим.
(обратно)180
Распутницей.
(обратно)181
Обычное утверждение вольнодумцев.
(обратно)182
Довод вольнодумцев.
(обратно)Комментарии
1
«Максимы» Ларошфуко впервые увидели свет в 1664 году. Книга была напечатана в Голландии, в Лейдене, в типографии Эльзевира (хотя на титульном листе значилось: в Гааге, у Жана и Даниеля Стекера), и включала 188 афоризмов. Однако автор назвал это издание «дурной копией» и в 1665 году опубликовал в Париже, у Клода Барбена, книгу «Максимы, или Моральные размышления» («Réflexions ou Sentences et maximes morales»), содержащую 317 максим, текст которых сильно отличался от текста голландского издания. При жизни Ларошфуко Клод Барбен выпустил еще четыре одобренных автором издания «Максим»: в 1666 году (302 афоризма), 1671 году (341), 1675 году (413), 1678 году (504). Все эти издания выходили без имени автора, оно стало обозначаться только в XVIII веке. Позднее к «Максимам» стали присоединять «Размышления на разные темы» («Réflexions diverses») — 19 небольших трактатов на темы морали, при жизни автора не выходивших.
Наиболее авторитетным вплоть до настоящего времени остается издание «Максим» в собрании сочинений Ларошфуко, предпринятом Л.-Д. Жильбером и Ж. Гурдо (1868 г.), послужившее основанием для всех последующих изданий.
На русском языке «Максимы» появились впервые в 1781 году, когда журнал Н. Новикова «Московское ежемесячное издание, …служащее продолжением «Утреннего света» опубликовал 53 афоризма Ларошфуко, переведенные с итальянского Алексеем Малиновским (ч. 1, апрель). На рубеже XVIII–XIX веков было издано еще несколько любопытных переводов избранных максим: «Дух изящнейших мнений, избранных большею частию из сочинений г. Рошефокольда и прочих лучших писателей. Перевел и избрал Н… С». М., Университетская типография, у Н. Новикова, 1788; «Нравоучительные мысли герцога де ла Рошефоко. Перевод с французского Е. Т. (Елизаветы Татищевой)». М., Университетская типография, у Ридигера и Клаудия, 1798; «Свойства и действия страстей человеческих, из сочинений г.г. Вольтера, Вейсса, Руссо, Рошефукольда и других новейших писателей». СПб., при Императорской Академии наук, 1802; «Мысли герцога де Ла Рошфуко, извлеченные из высшего познания мира и людей. Перевел с французского Иван Барышников». М., 1809; «Нравственные рассуждения герцога де ла Рошфуко, переведены с французского Дмитрием Пименовым. С предисловием, содержащим в себе критические замечания о переводах и словесности, писанным князем Борисом Голицыным». М., в типографии Платона Бекетова, 1809.
Русскому читателю середины XIX — начала XX века имя Ларошфуко было менее известно. Необходимо, однако, отметить публикацию его афоризмов, предпринятую Л. Н. Толстым («Избранные мысли Лабрюйера, с прибавлением избранных афоризмов и максим Ларошфуко, Вовенарга и Монтескьё. Перевод с французского Г. А. Русанова и Л. Н. Толстого». М., изд-во «Посредник», 1908). В кратком сопроводительном очерке Толстой так определил значение творчества французского моралиста: «Собрание мыслей Ларошфуко была одна из тех книг, которые более всего содействовали образованию вкуса во французском народе и развитию в нем ясного ума и точности его выражений. Хотя во всей книге этой и есть только одна истина, та, что самолюбие есть главный двигатель человеческих поступков, мысль эта представляется с столь разных сторон, что она всегда нова и поразительна. Книга эта была прочитана с жадностью. Она приучила людей не только думать, но и заключать свои мысли в живые, точные, сжатые и утонченные обороты. Со времени Возрождения никто, кроме Ларошфуко, не сделал этого» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 40. М., 1956, с. 281).
Наиболее полное русское издание произведений Ларошфуко вышло в серии «Литературные памятники» («Мемуары. Максимы». Под ред. Б. Г. Реизова. Л., «Наука», 1971). Избранные максимы вошли также в издание: «Ларошфуко. Максимы и моральные размышления». Под ред. А. А. Смирнова. М. — Л., Гослитиздат, 1959.
В настоящем томе перевод выверен по изданию: La Rochefoucauld. Oeuvres completes. Bibliothèque de la Pléiade. Gallimard, 1964.
(обратно)2
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЮ
Стр. 31. …добралась до Голландии… — Речь идет о голландском издании «Максим» 1664 г.
(обратно)3
…я и помещаю здесь письмо… — Имеется в виду «Рассуждение по поводу «Максим», которое открывало первое авторское издание 1665 г. Установлено, что автором «Рассуждения» был Анри де Лашапель-Бессе, эрудит, суперинтендант строений, искусств и мануфактур.
(обратно)4
Стр. 32. …зоилами этой книги… — то есть несправедливыми критиками. Зоил (IV в. до н. э.) — древнегреческий ритор и литературный критик, печально прославившийся своим осуждением поэм Гомера.
(обратно)5
…составить Указатель… — Речь идет о кратких предметных указателях, которыми сопровождались прижизненные издания «Максим»; их можно встретить и в изданиях XVIII в.
(обратно)6
МАКСИМЫ
Стр. 32. Наши добродетели… — Этот афоризм, помещенный в качестве эпиграфа, — своего рода квинтэссенция философского содержания книги Ларошфуко; он появился только в четвертом издании «Максим» (1675).
(обратно)7
Стр. 33. …война между Августом и Антонием… — Речь идет о войне Октавиана Августа (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.), римского императора с 27 г. до н. э., против Марка Антония (83 г. до н. э. — 30 г. до н. э.), римского политического деятеля и полководца, состоявшего в союзе с египетской царицей Клеопатрой (69–30 гг. до н. э.).
(обратно)8
Стр. 34. …сквозь этот покров. — Возможно, намек на герцогиню де Лонгвиль (1619–1679), друга молодости Ларошфуко, которая к концу жизни сделалась фанатично верующей.
(обратно)9
Стр. 35. …герои отличаются… только большим тщеславием. — Эта максима как бы подводит итог опыту Ларошфуко — участника Фронды. В неспособности фрондеров-аристократов поставить общие интересы выше личного честолюбия Ларошфуко видел одну из причин неудачи Фронды.
(обратно)10
Стр. 37. …соразмерно нашим опасениям. — Возможно, намек на королеву Анну Австрийскую (1602–1666). После смерти своего мужа, короля Людовика XIII (1601–1643), она подпала под влияние кардинала Мазарини (см. прим. к стр. 72) и никак не вознаградила преданность, проявленную Ларошфуко в годы правления Ришелье (см. прим. к стр. 403). Такими же размышлениями о безволии и неблагодарности королевы Анны навеяны максимы 237, 299.
(обратно)11
…неспособным к великому. — Намек на короля Людовика XIII, о котором Ларошфуко так писал в своих «Мемуарах»: «У него был мелочный ум, направленный исключительно на копание в пустяках, а его познания в военном деле приличествовали скорее простому офицеру, чем королю». (Ф. де Ларошфуко. Мемуары. Максимы. Л., «Наука», 1971, с. 5. В дальнейшем цитаты из «Мемуаров» Ларошфуко даются в этом переводе, по этому изданию).
(обратно)12
Стр. 38. …хорошее или плохое состояние органов тела. — Ларошфуко рассматривал психологию с материалистических позиций, полагая, в соответствии с представлениями того времени, что моральный тип человека формируется его физиологией.
(обратно)13
В привязанности или равнодушии философов… — Имеются в виду философы античности (см. также максиму 54).
(обратно)14
Стр. 41. …чем дож в событиях, происходящих в Венеции. — Дож — выборный пожизненный глава Венецианской купеческой республики (VII–XVIII вв.). Первоначально власть дожей носила почти неограниченный характер, но после попытки некоторых из них превратить эту должность в наследственную Большой и Малый советы Венеции начинало XII в. свели роль дожей лишь к номинальному представительству.
(обратно)15
Стр. 42. …более выгодную позицию. — В своих «Мемуарах» Ларошфуко с горечью пишет о том, что каждый эпизод Фронды заканчивался примирением недавних заклятых врагов, с готовностью жертвовавших общим благом ради личных корыстных интересов.
(обратно)16
Стр. 43. …тому афинскому безумцу… — Речь идет об эпизоде, о котором рассказывают древнегреческие писатели III в. Афиней (в трактате «Пирующие софисты») и Элиан (в «Пестрых рассказах»): излеченный от безумия афинянин, о котором идет речь, утверждал впоследствии, что никогда не бывал так счастлив, как наблюдая благополучное возвращение в гавань чужих кораблей.
(обратно)17
Стр. 44. …становятся понятными только издали. — В первоначальном варианте этой максимы (голландское издание 1664 г.) говорится: «Поступки великих людей, как и статуи, следует рассматривать с определенной точки. Среди них есть такие, которые надо видеть вблизи, чтобы лучше различить все подробности, но есть и такие, о которых можно правильно судить лишь с некоторого отдаления». Создавая этот афоризм, автор, безусловно, помнил о тех «великих людях», с которыми свела его судьба накануне и в период Фронды.
(обратно)18
Стр. 45. …нужно знать его во всех подробностях… — На основании этой и некоторых других максим можно утверждать, что Ларошфуко во многом разделял теорию познания философа-рационалиста Рене Декарта (1596–1650), основанную на дедукции, то есть выведении одних истин из других, достоверно установленных, и был хорошо знаком с принципом «разделения трудностей», изложенным Декартом в «Рассуждении о методе» (1637).
(обратно)19
Стр. 46. …когда он хочет обмануть нас. — Описывая в «Мемуарах» историю переговоров герцога Карла Лотарингского с Мазарини (при этом герцог предавал свою партию), Ларошфуко начинает рассказ словами: «Однако… нет ничего легче, чем попасться впросак в то самое время, когда чрезмерно погружен в мысли о том, как обмануть другого…» («Мемуары», с. 135).
(обратно)20
Стр. 47. Иногда достаточно быть грубым… — В этой максиме отразились долгие наблюдения автора над характером герцога де Бофора (1616–1669) из дома Вандомов, сыгравшего большую роль в возмущениях знати. Ларошфуко-психолога интересовало, как можно добиться любви окружающих, обладая столь малопривлекательными качествами.
(обратно)21
Стр. 50. …а помогает их проявить судьба. — Под словом «судьба» Ларошфуко, следуя традициям своего времени, понимает воздействие на человека внешней среды, тем самым разделяя материалистические воззрения философа Пьера Гассенди (1592–1655) на психологию.
(обратно)22
Стр. 51. Деяние и замысел… — Можно предположить, что истоком этого афоризма было размышление о причине неудачи Фронды — несоответствии замыслов и поступков аристократии.
(обратно)23
Стр. 53. …а из-за их собственных проступков. — Этот афоризм, имеющий самый общий смысл, можно, по мнению ряда исследователей, соотнести также с гибелью на эшафоте в 1674 г. шевалье де Рогана, возглавившего политический заговор против короля и правительства.
(обратно)24
Стр. 55. …превозносили бы принца Конде… опорочить маршала Тюренна… — Принц Конде, Луи II де Бурбон (1621–1686) — представитель младшей ветви Бурбонского дома. Талантливый полководец, за победы в Тридцатилетней войне получил титул «Великий». Один из главных вождей Фронды. Маршал Тюренн (Анри де ла Тур д'Овернь, виконт; 1611–1675) — выдающийся полководец, прозванный «Великий Тюренн». В годы Фронды некоторое время поддерживал Конде, затем сражался против него, перейдя на сторону короля.
(обратно)25
Стр. 56. …похожи на песенки… — Имеются в виду «водевили», городские народные песенки, злободневные по содержанию, очень распространенные в XVII в.
(обратно)26
Стр. 65. …ради успеха самих переговоров. — Намек на многочисленные политические переговоры, которые вели фрондеры с двором и друг с другом, создавая непрочные коалиции в надежде получить те или иные преимущества. Ларошфуко был активным участником таких переговоров, проявляя не только несомненные дипломатические способности, но и неподкупную честность и принципиальность.
(обратно)27
Стр. 67. Соки нашего тела… — В силу уровня знаний своего времени Ларошфуко полагал, что физиологическая жизнь человека зависит от соотношения четырех «соков» его организма; в преобладании того или иного из них искали причину психических различий между людьми.
(обратно)28
Стр. 68. …похвалы за наши добрые дела. — Ларошфуко (вслед за П. Гассенди) полагал, что себялюбие — это врожденный первичный инстинкт, и видел в нем основу нравственной деятельности личности, единственную движущую силу человеческих поступков. Эгоизм, вложенный природой в человека, сам по себе не несет зла, он помогает ему счастливо строить свою жизнь; но, живя в обществе, человек вынужден сообразовывать свое поведение с интересами окружающих.
(обратно)29
Стр. 70. Восхвалять государей… — Тут отразились наблюдения Ларошфуко, вернувшегося из ссылки в Париж, над жизнью двора Людовика XIV, всесильного монарха, окруженного безудержной лестью и поклонением.
(обратно)30
Стр. 72. …отпечаток страны, в которой он родился. — Эту максиму связывают обычно с губернатором Гиени герцогом д'Эперноном (1592–1661), гасконцем, так и не научившимся правильно говорить по-французски, и с итальянцем кардиналом Джулио Мазарини (1602–1661), фактическим правителем Франции в период регентства Анны Австрийской.
(обратно)31
Стр. 76. Буриме — импровизация в стихах на заданные рифмы.
(обратно)32
Стр. 78. …отделаться от них. — Вероятно, речь идет о Великом Конде, которому охотно поручали командование армиями, чтобы удалить его от двора, где он постоянно плел политические интриги.
(обратно)33
Стр. 91. Катон и Брут обратились к возвышенным помыслам… — Катон Марк Порций Младший или Утический (95–46 гг. до н. э.) — римский оратор и философ-стоик, противник диктатуры Цезаря, пронзил себя мечом после поражения своей партии; перед смертью перечитывал диалог Платона «Федон», трактующий вопрос о жизни и смерти. Брут Марк Юний (85–42 гг. до н. э.) возглавлял заговор против Юлия Цезаря и был одним из его убийц. Разбитый Антонием и Октавианом при Филиппах, предпочел самоубийство позорному бегству.
(обратно)34
…не так давно некий лакей… — В письме к маркизе де Сабле (в салоне которой зародились «Максимы») от 17 августа 1663 г. Ларошфуко писал: «Он рассказал мне еще об одном лакее, который стал плясать на эшафоте, где его собирались колесовать: вот до чего, мне кажется, должна дойти философия лакея; вам, я думаю, всякое веселье в подобном состоянии показалось бы подозрительным».
(обратно)35
МАКСИМЫ, НАПЕЧАТАННЫЕ ПОСМЕРТНО
Эти максимы дополняют текст последнего прижизненного издания 1678 года. Они извлечены из новонайденной авторской рукописи, из рукописных частных собраний XVII века, из «Дополнения» к изданию «Максим» 1693 года.
(обратно)36
Стр. 91. …издеваются над бобами. — Намек на французскую пословицу: горошина смеется над бобом, — которая приблизительно соответствует русской: «горшок котлу смеется, а оба черны».
(обратно)37
Стр. 97. Старость — вот преисподняя для женщин. — По мнению современника, максима обращена к Нинон де Ланкло (1620–1705), прославленной красавице, хозяйке вольнодумного салона. С большой долей вероятности к ней же можно отнести и максиму 131.
(обратно)38
МАКСИМЫ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ АВТОРОМ ИЗ ПЕРВЫХ ИЗДАНИЙ
В последнее прижизненное издание «Максим» Ларошфуко не включил 79 из ранее печатавшихся афоризмов. Он стремился к ясности и краткости своего произведения, поэтому некоторые схожие максимы были слиты в одну, повторения исключались; Ларошфуко отказался от изречений, которые прямо или косвенно соотносились с высказываниями других авторов; наконец, вычеркнул несколько афоризмов, имевших слишком конкретный политический смысл.
(обратно)39
Стр. 102. …как у того афинского безумца… — См. прим. к стр. 43.
(обратно)40
Философы, и в первую очередь Сенека… — Имеются в виду философы-стоики, представители одной из наиболее влиятельных античных философских школ. Их этический идеал — жизнь, согласная с законами природы, а основа счастья — добродетель. Луций Анней Сенека Младший (ок. 4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — римский писатель и философ, крупнейший представитель школы стоиков, воспитатель и советник императора Нерона.
(обратно)41
Стр. 104. …а по назначенному курсу. — Этот афоризм, впервые напечатанный в 1665 г. и прошедший через все издания «Максим», кроме последнего, сатирически направлен против Людовика XIV, а также против тех вельмож, которые безоговорочно подчинились его власти, сделавшись добровольными рабами «короля-солнца».
(обратно)42
…некий итальянский поэт… — Речь идет о Джамбаттисте Гварини (1538–1612) и его драматической пасторали «Верный пастух». Текст Гварини приводится Ларошфуко в рукописи: «Иначе говоря, честность — не что иное, как искусство притворяться честной» (действие III, явл. 5).
(обратно)43
…обкрадыванье казны мы зовем ловкостью… — Намек на нашумевшее дело казнокрада Никола Фуке (1615–1680), государственного деятеля, суперинтенданта финансов, арестованного в 1661 г. и приговоренного к пожизненному заключению.
(обратно)44
…захват чужих земель именуем завоеванием. — Речь идет о многочисленных военных кампаниях Людовика XIV.
(обратно)45
Стр. 107. …нисколько не заботясь о благе общественном. — Намек на положение дел при дворе Людовика XIV, когда абсолютизм во Франции достиг своего апогея. Это высказывание печаталось только в первом издании книги «Максим» (1665).
М. Разумовская
(обратно)46
ПАСКАЛЬ. МЫСЛИ
«Мысли» Паскаля впервые увидели свет после смерти автора, в 1669 году; они были опубликованы по решению совета Пор-Рояля. Это издание, получившее название «предварительного», предназначалось для семьи писателя, для членов совета Пор-Рояля и королевской цензуры. Собственно первое издание появилось в 1670 году под названием «Мысли Паскаля о религии и некоторых других вопросах». Осуществленное также стараниями Пор-Рояля, оно было неполным и искажало текст Паскаля: для публикации были тенденциозно отобраны те фрагменты, которые наиболее согласовались с религиозной доктриной янсенизма. Имелись и стилистические искажения. В течение следующего, XVIII века «Мысли» несколько раз выходили в том же неполном и искаженном виде. Лишь в 1844 году, по инициативе французского философа Виктора Кузена, на основании рукописи Паскаля, было предпринято Фожером новое издание «Мыслей», из которого были устранены искажения, допущенные советом Пор-Рояля, и впервые опубликованы многие фрагменты, ранее не известные читателям. Наиболее авторитетное научное издание «Мыслей» было осуществлено Л. Лафюма в 1951 году на основе первой описи бумаг Паскаля, найденных после его смерти. Здесь дается иное по сравнению с предыдущими изданиями расположение фрагментов и опубликованы некоторые дополнения.
В России «Мысли» Паскаля были известны образованной публике по французским изданиям и вызвали большой интерес. В XIX веке появилось несколько публикаций в русских переводах: И. Буковского (СПб., 1843), П. Первова (СПб., 1888), С. Долгова (М., 1892).
Отклики на «Мысли» можно найти у выдающихся русских писателей. Тютчев заимствовал образ «мыслящего тростника» (стихотворение «Певучесть есть в морских волнах…»). Отзвуки «Мыслей» Паскаля встречаются у Тургенева («Отцы и дети», «Довольно», «Призраки», «Стихотворения в прозе»). Лев Толстой обращался к Паскалю в период своих религиозных исканий; он относил «Мысли» к тем немногим творениям литературы, которые произвели на него «огромное впечатление».
Избранные «Мысли» Паскаля, включенные в настоящий том в новом переводе, в советское время издаются впервые.
В настоящем издании текст Паскаля выверен по изданию: Pascal. Pensées. Paris, ed. de Ch. et M. Des Granges. Gamier Fréres, 1964.
В. Бахмутский
(обратно)47
Стр. 117. Ты сказал скорее как поэт… — Цитата из романа «Сатирикон» римского писателя Петрония (I в.).
(обратно)48
Мы браним Цицерона за напыщенный слог… — Римский оратор Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.) был признан непререкаемым авторитетом в теории красноречия, а его речи — классическим образцом ораторского искусства.
(обратно)49
Стр. 118. …такие замысловатые выражения, как «золотой век», «чудо наших дней», «роковой» и т. д. … — Подобные выражения встречаются у поэтов школы Малерба (1555–1628), одного из основоположников французского классицизма.
(обратно)50
Ни в чем излишка. — Цитата из комедии «Девушка с Андроса» римского поэта Публия Теренция Афра (II в. до н. э.).
(обратно)51
Стр. 119. Эпиграммы Марциала. — Людям по душе язвительная насмешка, но не над кривыми или обездоленными… — Среди эпиграмм римского поэта Марка Валерия Марциала (ок. 40—102 гг.), блестящего мастера этого жанра, часто встречаются насмешки над физическими недостатками тех, к кому они обращены.
(обратно)52
Излишнюю пышность урежет. — Гораций. Наука поэзии, стих 447 (перев. М. Гаспарова).
(обратно)53
120. …в писаниях Монтеня… — Мишель Монтень (1533–1592) — французский мыслитель и писатель периода кризиса ренессансного гуманизма, автор трехтомных «Опытов». Монтень скептически относился к не оправдавшим себя иллюзиям раннего Возрождения о всемогуществе и гармоничности человека. Но, разрушая эти иллюзии, он оставался верен традициям Возрождения. Его идеал — трезво мыслящий, внутренне свободный человек, следующий законам осознанного нравственного долга и чести.
В период светской жизни Паскаля, до переселения в Пор-Рояль, «Опыты» были его настольной книгой. Многие «Мысли» навеяны чтением Монтеня либо содержат полемику с ним. При этом Паскаль понимает и оценивает Монтеня в духе своего времени и в свете своей собственной философии, восхищается им, когда он доказывает несостоятельность и гордыню человеческого разума, но упрекает его в безверии и эпикурействе.
(обратно)54
Стр. 120. …он рассказывает слишком много побасенок и слишком много говорит о себе. — Монтень вводит в «Опыты» множество отступлений и эпизодов, чтобы придать своей книге живость и наглядность. В обращении к читателю, открывающем «Опыты», он говорит: «Содержание моей книги — я сам». Позднее Вольтер в частном письме отмечал: «Прекрасен замысел Монтеня наивным образом обрисовать самого себя, ибо он изобразил человека вообще».
(обратно)55
Стр. 123. «Я поведу речь о сущем», — говорил Демокрит. — Древнегреческий философ Демокрит из Абдеры (ок. 460 — ок. 370 гг. до н. э.) считал, что все в мире состоит из материальных, неделимых частиц — атомов. Паскаль, как видно из текста, оспаривает существование конечной неделимой единицы в природе.
(обратно)56
«Об основах философии». — Имеется в виду трактат французского ученого математика и философа Рене Декарта (1596–1650) (см. также прим. к стр. 126).
(обратно)57
«Обо всем познаваемом» — один из девятисот тезисов, сформулированных итальянским философом раннего Возрождения Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494), принадлежавшим к тем пылким защитникам человеческого всемогущества, с которыми полемизировал Паскаль. «Человек является самым счастливым из всех живых существ и достоин всеобщего восхищения», — говорил Пико делла Мирандола.
(обратно)58
Стр. 124. Человек признателен за благодеяния… — Цитата из труда римского историка Тацита (II в.) «Анналы» (IV, 18).
(обратно)59
Стр. 126. …наделяют их тем, что присуще только духу. — Согласно дуалистической концепции Декарта, разделяемой в данном случае Паскалем, духовное и материальное начала мира оторваны друг от друга. При этом каждая из этих двух субстанций обладает присущим только ей и ее определяющим качеством. Для материл такое качество — протяженность, для духа — мышление. Приписывая телам «стремления» и «склонности», а духу — движение в пространстве, философы, по мнению Паскаля, искажают их природу.
(обратно)60
Человек неспособен постичь… — Цитата из книги «О граде Божием» (XXI, 10), принадлежащей одному из «отцов церкви», средневековому богослову Блаженному Августину (354–430), на которого опирались в своей доктрине янсенисты.
(обратно)61
…заставил его дать мирозданию щелчок… — Паскаль имеет в виду теорию Декарта о строении Вселенной, согласно которой основной и единственный принцип мироздания — всеобщее непрерывное механическое движение, начало которому, первый толчок, дал бог. С другой стороны, бог, по Декарту, остается чуждым Вселенной и мыслится скорее как абстрактное понятие.
(обратно)62
Стр. 127. Эпиктет (I в.) — греческий философ, принадлежавший к поздней стоической школе (см. прим. к стр. 102). В конце XVI — начале XVII в. во Франции распространилось увлечение стоицизмом; в это время были сделаны три перевода «Руководства» Эпиктета на французский язык. Паскаль признавался, что Эппктету вместе с Монтенем он отдавал предпочтение перед всеми другими светскими философами.
(обратно)63
Стр. 129. Пушистые Коты. — Так называет Рабле в главе XI пятой книги «Гаргантюа и Пантагрюэля» алчных чудищ (намек на судей, носивших мантии с горностаевой опушкой).
(обратно)64
…изображение лилий… — Стилизованные белые лилии изображались на гербе французских королей.
(обратно)65
Впрочем, других источников заблуждений у нас тоже предостаточно. — Паскаль выделяет три основных источника заблуждений разума: воображение, привычку и самолюбие. Влияя на наши суждения, они делают нас неспособными познать истинную сущность вещей.
(обратно)66
Стр. 130. Вас в школе учили, будто пустоты не существует… — До середины XVII в. в науке царило мнение, что «природа не терпит пустоты». Не допускал существования пустоты и Декарт. Паскаль известен исследованиями, опровергающими эту общепринятую теорию. В 1646 г. он повторил опыт Торичелли, а в 1648 г. поставил знаменитый опыт с ртутным столбом, доказавший существование воздушного давления, разного на разных высотах и никак не связанного с «боязнью пустоты». Этим вопросам посвящен его «Трактат о тяжести массы воздуха».
(обратно)67
Стр. 131. Пятна на Солнце. — Не совсем ясно, для чего Паскаль упоминает о солнечных пятнах. Открытие этого явления Галилеем произвело в свое время огромное впечатление на современников. Вероятно, говоря о пятнах на Солнце, Паскаль имел в виду, что они предвещают день, когда Солнце погаснет и привычный нам рассвет не наступит.
(обратно)68
Стр. 133. …бунта, поднятого многими европейскими странами против истинной церкви. — Имеется в виду движение Реформации, охватившее в XVI в. многие страны Европы. Протестанты отвергали многие обряды, принятые в католичестве. Лютер, например, отпущение грехов перед причастием считал возможным без предварительной исповеди.
(обратно)69
…те, чья прямая обязанность увещевать ближних… — В этом месте, не называя их прямо, Паскаль пишет об иезуитах.
(обратно)70
Стр. 135. Пример чистоты нравов Александра Великого… пример его пьянства… — Имеется в виду, с одной стороны, великодушие, проявленное Александром Македонским (356–323 гг. до н. э.) по отношению к семье побежденного им персидского царя Дария, с другой стороны — убийство Клита, друга Александра, совершенное им в приступе пьяного гнева.
(обратно)71
Стр. 136. Озарил светочем земли. — Слова из стиха «Одиссеи» Гомера, процитированные Монтенем в латинском переводе: «На нас действуют даже воздух и ясное небо, как гласит известный греческий стих в переводе Цицерона» (II, XII).
(обратно)72
Стр. 139. …Цезарь был слишком стар для такой забавы, как завоевание мира. Она к лицу Августу или Александру… — Александр Македонский вступил на престол и начал свои походы в двадцать лет; Август (тогда еще Гай Цезарь Октавиан) встал во главе римской армии в девятнадцатилетнем возрасте, тогда как Юлию Цезарю к началу галльских завоеваний уже исполнилось сорок лет.
(обратно)73
Стр. 141. …попробуйте лишить его развлечений… это бездеятельное счастье рухнет… — На это заключение Паскаля возражал Вольтер: «Это воображаемое оцепенение несовместимо с человеческой природой… Человек от рождения стремится к действию, как огонь стремится ввысь, а камень — вниз».
(обратно)74
Когда Пирру, пытавшемуся обрести покой… — Речь идет об эпирском царе Пирре (ок. 319–272 гг. до н. э.), известном своими многочисленными походами, о котором Монтень, вслед за Плутархом, рассказывает: «Когда царь Пирр намеревался двинуться на Италию, Кинеад, его мудрый советчик, спросил, желая дать ему почувствовать всю суетность его тщеславия: «Ради чего, государь, затеял ты это великое предприятие?» — «Чтобы завоевать Италию», — сразу же ответил царь. «А потом, — продолжал Кинеад, — когда это будет достигнуто?» — «Я двинусь, — сказал тот, — в Галлию и в Испанию». — «Ну, а потом?» — «Я покорю Африку и, наконец, подчинив себе весь мир, буду отдыхать и жить в полное удовольствие». — «Клянусь богами, государь, — продолжал Кинеад, — что же мешает тебе и сейчас, если ты хочешь, очутиться в таком положении? Почему бы тебе сразу не поселиться там, куда ты, по твоим увереньям, стремишься, и не избежать всех тяжелых трудов и всех случайностей, стоящих на пути к твоей цели?» (I, XLII).
(обратно)75
Стр. 146. Это свирепое племя… — Цитата из «Истории» (XXVI, 17) римского писателя Тита Ливия.
(обратно)76
…(например, стр. 184)… — Вероятно, имеется в виду стр. 184 издания «Опытов» Монтеня 1635 г., которым пользовался Паскаль; там описаны случаи, когда люди, не подавая виду, терпели мучительную боль (в том числе пример спартанского мальчика с лисицей, I, XIV).
(обратно)77
Стр. 147. Причина ее — «неведомо что» (Корнель)… — Имеется в виду стих из трагедии Корнеля «Медея»:
Часто неведомо что, чего нельзя выразить, Захватывает, увлекает нас и заставляет нас любить.
(Действие II, явл. V)
(обратно)78
Нос Клеопатры. — Намек на египетскую царицу Клеопатру (см. прим. к стр. 33), чьей красотой были пленены сначала Юлий Цезарь, а затем Марк Антоний, который женился на ней и вел с нею вместе войну против Рима, закончившуюся гибелью обоих.
(обратно)79
Стр. 149. …Соломон и Иов — счастливейший и несчастнейший из смертных. — Соломон (X в. до н. э.), царь иудейский, был, по библейскому преданию, мудрейшим из людей. Изведав все мирские блаженства, Соломон убедился в их суетности. Иов — тоже библейский персонаж, праведник, которого бог пожелал испытать, обрушив на него все несчастья; но Иов остался тверд в вере и смирении.
(обратно)80
Стр. 149. Кромвель… уничтожил бы королевское семейство и привел бы к власти свое собственное… — Оливер Кромвель (1599–1658) — деятель английской буржуазной революции, в ходе которой был казнен король Англии Карл I Стюарт. Кромвель стал лордом-протектором и в течение шести лет (1653–1658) осуществлял свою диктатуру в стране. После смерти Кромвеля его сын Ричард унаследовал титул лорда-протектора, но уже в 1660 г. произошла реставрация династии Стюартов.
(обратно)81
…тот, кто был в дружбе с английским королем, с польским королем и шведской королевой… — Все три перечисленных монарха по разным причинам лишились престола. Английский король Карл I (1600–1649) был казнен во время революции; польский король Ян II Казимир (1609–1672) был отстранен от власти в 1668 г. магнатской оппозицией, недовольной его политикой, облегчившей шведское нашествие на Польшу; шведская королева Кристина (1626–1689) добровольно отреклась от престола в 1654 г., перешла в католичество и провела остаток жизни в Риме и Париже. Была в дружбе со многими выдающимися учеными своего времени; при ее дворе долгое время жил Рене Декарт, Паскаль преподнес ей в 1650 г. арифметическую машину своего изобретения.
(обратно)82
Стр. 150. …обращать умы и сердца силой и угрозами — значит наполнять их не верой, а ужасом. — В этих словах Паскаль выражает свое отношение к насильственным мерам, к которым прибегала католическая церковь для расправы со своими противниками.
(обратно)83
Сильнее воздействует страх… — Перифраза из Блаженного Августина («Послания» 48 или 49).
(обратно)84
Ослепление пустяками. — Цитата из Библии («Книга премудрости царя Соломона», IV, 12).
(обратно)85
Стр. 151. Память об однодневном госте. — Цитата из Библии («Книга премудрости царя Соломона», V, 14).
(обратно)86
Стр. 157. На небе всего лишь тысяча двадцать две звезды… — В книге «Альмагест», своде астрономических знаний своей эпохи, александрийский ученый Птолемей дал каталог положений и величин 1022 звезд. Долгое время его авторитет был непререкаемым. В начале XVII в., с изобретением телескопа и открытиями Коперника и Галилея, отношение к Птолемею меняется.
(обратно)87
Стр. 159. Нам уж ничего не принадлежит… — Здесь соединены три цитаты: первая — из Цицерона («О границах добра и» зла», V, 21); вторая — из Сенеки («Письма», 95); третья — из Тацита («Анналы», III, 25).
(обратно)88
Стр. 160. …мудрейший из законодателей говорил, что людей… надо надувать… — Имеется в виду Платон («Государство»., V).
(обратно)89
И так как он не ведает истины… — Цитата из Блаженного Августина («О граде Божием», IV, 27).
(обратно)90
…обрекать смерти множество испанцев… — В XVI и XVII вв. между Францией и Испанией неоднократно возникали военные конфликты. После битвы при Дюнах (1658 г.), стоившей обеим сторонам больших потерь, в 1659 г. был заключен Пиренейский мир.
(обратно)91
Об истинном праве. — Начало цитаты из Цицерона, целиком приводимой Монтенем (III, 1): «Об истинном праве и подлинном правосудии мы не имеем твердого и четкого представления; мы довольствуемся тенью и призраками» («Об обязанностях», I, 34).
(обратно)92
Стр. 161. …неспособные сделать справедливость сильной, люди положили считать силу справедливой. — Антуан-Никола Кондорсе(1743–1794), французский энциклопедист, издавший в 1776 г. книгу Паскаля с заметками Вольтера, говорит о сходстве этой мысли с одним из афоризмов английского философа-материалиста Гоббса (1588–1679): «Паскаль как будто приближается здесь к идеям Гоббса, и самый благочестивый из философов своего века разделяет мнение о сущности справедливости и несправедливости с самым неверующим».
(обратно)93
Когда владения переходят во власть вооруженной силы… — Цитата из поэмы «О природе вещей» (XI, 21) римского поэта Лукреция (I в. до н. э.).
(обратно)94
Стр. 162. Если швейцарца назвать человеком благородного происхождения, он оскорбится… — С конца XIII в. до 1798 г. Швейцария оставалась конфедерацией кантонов и «союзных земель», автономных в решении своих внутренних дел. В некоторых кантонах в органы власти могли входить лишь представители бюргерских родов, связанных с различными городскими цехами.
(обратно)95
Стр. 163. Хорош Монтень… — Паскаль спорит со следующим рассуждением Монтеня: «Мы хвалим коня за силу и резвость, а не за сбрую… Почему таким же образом не судить нам и о человеке по тому, что ему присуще? Он ведет роскошный образ жизни, у него прекрасный дворец, он обладает таким-то влиянием, таким-то доходом: но все это — при нем, а не в нем самом. Вы не покупаете кота в мешке. Приторговывая себе коня, вы снимаете с него боевое снаряжение, осматриваете в естественном виде… Почему же, оценивая человека, судите вы о нем, облеченном во все покровы?» («Опыты», I, XLII).
(обратно)96
Стр. 165. Монтень не прав… — Намек на слова Монтеня: «Однако законы пользуются всеобщим уважением не в силу того, что они справедливы, а лишь потому, что они являются законами» («Опыты», III, XIII).
(обратно)97
Стр. 167. Платон и Аристотель… развлекались сочинением один «Законов», а второй «Политики»… — Паскаль подразумевает диалог древнегреческого философа Платона (427–347 гг. до н. э.) «Законы» и трактат Аристотеля (384–322 гг. до н. э.) «Политика», в которых изложены социально-политические воззрения их авторов.
(обратно)98
Стр. 168. Инстинкт и разум — признаки двух различных сущностей. — Две сущности человека по Паскалю — это его состояние до и после грехопадения; человеку свойственно инстинктивное стремление к истине, которую он пытается постичь разумом. Подробнее эту мысль Паскаль развивает в дальнейшем (см. стр. 176, № 395).
(обратно)99
Стр. 170. …Эпаминонд, столь же отважный, сколь благожелательный. — Фиванский полководец и политический деятель Эпаминонд (род. ок. 420–410 гг., ум. в 362 г. до н. э.) прославился не только воинскими доблестями, но также честностью, милосердием и справедливостью.
(обратно)100
Стр. 170. Перемены, по вкусу сильным мира сего. — Эта цитата из Горация взята Паскалем из «Опытов» Монтеня (I, XLII), где она дана неточно.
(обратно)101
Стр. 172. Могущество мух: они выигрывают сражения… — В «Опытах» (II, XII) Монтень говорит о человеке: «Одного солнечного луча достаточно, чтобы сжечь и уничтожить его; достаточно бросить ему немного пыли в глаза (или напустить пчел…) — и сразу все наши легионы даже с великим полководцем Помпеем во главе будут смяты и разбиты наголову».
(обратно)102
…тепло — это движение неких частиц, а свет… — Все процессы в природе, согласно механистической теории Декарта, объясняются движением различных частиц, которыми заполнен мир. Всякое действие передается через давление и толчки; так, свет — это мгновенная передача давления от источника через эфир. Так же объяснял Декарт и ощущения и действия живого организма.
(обратно)103
Стр. 173. …они слыхом не слыхивали о пирронизме… — Пирронизм, или скептицизм — философское направление, возникшее в Греции в IV–III вв. до н. э. Основателем его был Пиррон (ок. 360–270 гг. до н. э.). Скептики подвергали сомнению любое положение и утверждение, высшим принципом их было воздержание от суждения, признание полного своего неведения.
(обратно)104
Стр. 176. Екклезиаст… показывает… — «Книга Екклезиаста, или Проповедника царя Соломона», входящая в Ветхий завет, говорит о суетности светских стремлений и бесплодности человеческой мудрости.
(обратно)105
Стр. 178. Разве считали Павла Эмилия несчастным… Персея считали таким несчастным… — Македонский царь Персей (230–160 гг. до н. э.) был побежден войсками римлян под предводительством консула Павла Эмилия в 166 г. до н. э. Монтень рассказывает: «Когда к Павлу Эмилию явился посланец от несчастного царя македонского, его пленника, передавший просьбу последнего не принуждать его идти за триумфальной колесницей, тот ответил: «Пусть обратится с этой просьбой к себе самому» («Опыты», I, XX).
(обратно)106
Стр. 182. Митон — один из друзей Паскаля, принадлежавший к среде философов-вольнодумцев — «либертинов».
(обратно)107
Стр. 184. Царство Божие в нас самих… — Строка из Евангелия от Луки (XVII, 21).
Н. Мавлевич
(обратно)108
ЛАБРЮЙЕР. ХАРАКТЕРЫ
Произведение Лабрюйера впервые увидело свет в 1688 году в книге «Характеры Теофраста, перевод с греческого, и Характеры, или Нравы нынешнего века». В этом и двух последующих изданиях было 418 оригинальных «характеров» Лабрюйера, которые служили как бы дополнением к книге Теофраста. С 1689 года картина начала резко меняться: издание четвертое этого года содержит уже 764 «характера», принадлежащих перу самого Лабрюйера, а восьмое и девятое (посмертное) издания 1696 года — 1120 оригинальных «характеров». Текст Теофраста занимает в этих изданиях лишь небольшое место. Основным содержанием книги становятся «характеры», созданные Лабрюйером. Все издания вышли без указания его имени, хотя его авторство было широко известно.
Первые отклики на «Характеры» появились еще до их выхода в свет. Так, авторитетный теоретик классицизма и поэт Никола Буало с одобрением отозвался о тех отрывках, которые Лабрюйер прочел ему из «своего Теофраста». «Это очень хороший человек… знающий и достойный», — писал он об авторе. В дальнейшем Буало не раз уважительно говорил об эрудиции, литературном мастерстве и высоких качествах Лабрюйера как моралиста.
Другой современник Лабрюйера, талантливый и остроумный писатель Бюсси-Рабютен, писал: «После того как Лабрюйер показал достоинства Теофраста, он затмил их своим искусством», ибо он «глубже, нежели Теофраст, проник в человеческое сердце. Его портреты не являются плодом фантазии, они срисованы с натуры».
Выдающийся мыслитель эпохи, предшественник просветителей Пьер Бейль, позднее (в письме от 29 октября 1696 г.), говоря о книге Николя «Моральные опыты», добавляет: «Есть другая книга, способная направить ум и воспитывать вкус молодых людей. Это «Характеры, или Нравы нынешнего века» г-на Лабрюйера; эта ни с чем не сравнимая книга переиздавалась восемь или девять раз в Париже в течение небольшого отрезка времени и столько же раз в Лионе и Брюсселе… «Характеры» созданы не ради удовольствия; он [Лабрюйер] изобразил мысли, настроения и недостатки почти всего двора и города». Французские просветители XVIII века рассматривали творчество Лабрюйера также вне связи с сочинением Теофраста. Вольтер в книге «Век Людовика XIV» писал: «К произведениям особого жанра можно отнести «Характеры» Лабрюйера… Стремительный, сжатый и нервный стиль, красочные выражения, оригинальность языка, которая, однако, не противоречила правилам, поразили публику; бесчисленные намеки, которые находили в этом произведении, дополнили его успех. Когда Лабрюйер показал свою рукопись г-ну де Малесье, тот ему сказал: этим произведением вы привлечете многочисленных читателей, но и немало врагов».
Врагов у Лабрюйера, действительно, оказалось много. Нельзя забывать, что его книга вышла в период, когда еще не утихли страсти, разгоревшиеся в конце XVII века в так называемом «Споре древних и новых», то есть в полемике между сторонниками классицизма и убежденными сторонниками современной литературы. Избрание Лабрюйера во Французскую Академию вызвало поток эпиграмм, анонимные авторы которых пытались представить его «опасным» для Академии, «волком, которого впускают в овчарню», обыгрывали его незнатное происхождение, его близость к Расину и другим писателям классицистического направления и т. д. Была даже неудачная попытка нарушить правило обязательного опубликования речи вступающего в Академию ее нового члена.
В России книга Лабрюйера была впервые опубликована в 1812 году под названием «Характеры, или Нравы нынешнего века», перевод Н. Ильина, и сразу же привлекла к себе внимание публики. Многим русским читателям она была уже знакома по оригинальному французскому изданию.
В русской литературе традиции Лабрюйера нашли отражение в творчестве А. Д. Кантемира и Д. И. Фонвизина. А. С. Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург» цитирует его описание жизни французских крестьян. В 1908 году «Избранные мысли Лабрюйера, с прибавлением избранных афоризмов и максим Ларошфуко, Вовенарга и Монтескьё» вышли с предисловием Л. Н. Толстого.
В настоящем томе текст «Характеров» выверен по изданию: La Bruуèrе. Les Caractères. Paris, Gamier Frères. 1962.109
(обратно)109
Стр. 189. Эразм Роттердамский (1466–1537) — один из крупнейших гуманистов эпохи Возрождения, жил долгое время во Франции. Эпиграф взят из письма Эразма, написанного в ответ на критику его сатиры «Похвала глупости». Был включен Лабрюйером в четвертое издание «Характеров», как бы в ответ на критику его собственной книги.
(обратно)110
Стр. 190. …злонамеренных кривотолков. — Лабрюйер опасался, что в его книге многие увидят не обобщение нравов эпохи, а лишь портреты определенных лиц. Действительно, после выхода в свет первого издания «Характеров» появились рукописные «ключи» к ним, составители которых пытались подставить реальные прототипы под названные в книге греческие, римские и французские имена. «Какую плотину воздвигнуть против этого потока разъяснений, который наводнил город и вскоре достигнет двора?» — писал Лабрюйер в 1694 г. После смерти Лабрюйера издатели начали печатать «ключи» в виде примечаний к тексту его книги. В научных изданиях XIX и XX вв. «ключи» подверглись тщательному анализу. Некоторые из них, представляющие наибольший интерес, даны в примечаниях к этому тому.
(обратно)111
Стр. 194. …великого произведения, сочиненного совместно… — Лабрюйер, по-видимому, имел в виду творческую неудачу Корнеля, Мольера и Кино (см. прим. к стр. 409), написавших совместно трагикомедию «Психея» (1671).
(обратно)112
Римский оратор — то есть Цицерон.
(обратно)113
Стр. 196. …мы восстаем против наших учителей… — Лабрюйер имеет в виду писателей Шарля Перро (1628–1703) и Вернара де Фонтенеля (1657–1757), выступивших против подражания античным авторам.
(обратно)114
…примеры берет из собственных произведений. — Фонтенель опубликовал в 1688 г. «Пасторали», сопроводив их «Рассуждением об эклоге». В том же году он выпустил «Свободное рассуждение по поводу древних и новых авторов», в котором утверждал несостоятельность мнения о преимуществе античной литературы перед современной.
(обратно)115
Иные из наших знаменитых писателей… — Согласно всем «ключам» — Буало и Расин.
(обратно)116
Стр. 198. Зелоты — земледельцы и ремесленники в древней Палестине, боровшиеся против римлян. Для Лабрюйера, поклонника античной культуры, — олицетворение невежества.
(обратно)117
Стр. 200. Разбор «Сида». — Имеется в виду «Мнение Французской Академии о трагикомедии Корнеля «Сид» (1638), документ, содержащий скрупулезный литературный анализ этого произведения.
(обратно)118
Стр. 201. Бугур (1628–1702) — грамматик и литератор.
(обратно)119
Рабютен Роже де, граф де Бюсси (1618–1693) — автор «Любовной истории галлов» (1665), серии фривольных картин, в которых скрывался памфлет на Людовика XIV и его двор.
(обратно)120
Крамуази — семья французских типографов XVII в.
(обратно)121
Стр. 202. …чем их писали Бальзак и Вуатюр. — Гез де Бальзак Жан-Луи (1594–1654) — французский писатель, автор ряда трактатов по вопросам литературного языка XVII в. и эпистолярных сборников. Вуатюр Венсан (1598–1648) — салонно-аристократический, «прециозный» поэт; большим успехом пользовались, наряду со стихами, и его письма.
(обратно)122
…перечитал Малерба и Теофиля. — Малерб Франсуа де (1555–1628) — поэт и критик, сыгравший видную роль в формировании французского классицизма. Теофиль де Вио (1590–1626) — поэт-вольнодумец.
(обратно)123
Стр. 203. Ронсар Пьер (1524–1585) — крупнейший поэт французского Возрождения. Возглавлял кружок поэтов под названием «Плеяда». Вслед за Малербом и Буало Лабрюйер не признавал языковых новшеств, которые пытался ввести Ронсар (обогащение французского языка за счет диалектизмов и латинизмов). Однако отношение Лабрюйера к Ронсару как поэту не было столь отрицательным, как у Буало.
(обратно)124
Маро Клеман (1495–1544) — выдающийся лирик эпохи Возрождения, один из предшественников поэтов «Плеяды».
(обратно)125
Белло Реми (1528–1577) — поэт «Плеяды», прозванный «живописцем природы». Модель Этьен (1532–1573) — поэт и драматург, Дю Бартас Гийом (1544–1590) — поэт; также принадлежали к кружку «Плеяды».
(обратно)126
Ракан Оноре де (1589–1670) — ученик и биограф Малерба. Известен своими «Пасторалями».
(обратно)127
Стр. 204. Два писателя высказывали в своих трудах неодобрение Монтеню… — Речь идет, по-видимому, о крупном деятеле янсенизма и одном из авторов «Логики Пор-Рояля» Николе (1628–1695) и о философе Мальбранше (1638–1715), авторе труда «Поиски истины».
(обратно)128
Амио Жак (1513–1593) — переводчик «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха.
(обратно)129
Коэффето Никола (1574–1623) — известный своими проповедями епископ города Марселя.
(обратно)130
Г. Г. — Речь идет о журнале «Галантный Меркурий». Инициалы объясняются тем, что Лабрюйер употребил греческое имя Меркурия — Гермес.
(обратно)131
…опера — это лишь набросок настоящего драматического спектакля… — Размышления Лабрюйера об опере датируются временем, когда этот жанр дискутировался в литературных кругах. Буало, Расин, Лафонтен, Сент-Эвремон выступили с разных позиций против оперы.
(обратно)132
Стр. 204. Амфион. — По-видимому, речь идет о французском композиторе Жан-Батисте Люлли (1633–1687), создателе классической оперы. Люлли придавал меньшее значение театральной технике, нежели маркиз де Суде-рак, возглавлявший до него Королевскую академию музыки. Отдавая должное Люлли как композитору, Лабрюйер не признавал его театральной реформы.
(обратно)133
Стр. 205. Обеим «Береникам» и «Пенелопе»… — Подразумеваются трагедии «Береника» (1670) Расина, «Тит и Береника» (1670) Корнеля и «Пенелопа» аббата Жене (1639–1719).
(обратно)134
Эти хлопотуны создали здесь все… — Речь идет о празднике в Шантильи, устроенном герцогом Конде в честь дофина (наследника престола). …они обескураживают, поэтов… — Наиболее вопиющим примером подобных методов был провал трагедии Расина «Федра» (1677), организованный происками придворной клики.
(обратно)135
Стр. 207. Сцена мятежа — обычная развязка заурядных трагедий. — Имеются в виду трагедии Кино «Смерть Кира», «Агриппа» и другие.
(обратно)136
Стр. 212. …чтобы не уподобиться Дорила и Хандбуру… — Под этими именами современники легко узнали историков Антуана Варила (1626–1696) и Пьера-Луи Мембура (1610–1686), модных в конце XVII в., но быстро утративших свое значение.
(обратно)137
Стр. 219. В. — Имеется в виду, вероятно, художник Клод-Франсуа Виньон (1633–1703) или его брат Филипп (1634–1701), тоже живописец. К. — Вероятно, музыкант Паскаль Колас, ученик Люлли. Автор «Пирама» — Никола Прадон (1638–1698), посредственный драматург. Приобрел печальную известность трагедией «Федра и Ипполит», заказанной ему врагами Расина и поставленной через два дня после премьеры расиновской «Федры».
(обратно)138
Миньяр. — Речь идет, по-видимому, о Пьере Миньяре (1610–1695), художнике, прославившемся картинами на исторические темы и портретами.
(обратно)139
Стр. 220. Эмиль. — Под этим именем подразумевается принц Конде.
(обратно)140
Стр. 223. …о причине ссоры двух братьев и о столкновении двух министров. — Намек на ссору между генеральным контролером финансов при Людовике XIV и одним из его братьев. Столкновения и разногласия между военным министром Лувуа (1641–1691) и министром морского флота Сеньеле (1651–1690) возникли по вопросу о помощи английскому королю Иакову II, свергнутому в 1688 г., во время так называемой «Славной революции».
(обратно)141
Стр. 231. Гистрион — профессиональный актер в древнем Риме и странствующий комедиант в средние века во Франции и других странах Западной Европы.
(обратно)142
Стр. 241. Монторон (Пьер дю Пюже) — один из крупнейших французских финансистов середины XVII в.; Эмери-Мишель Партичелли — министр финансов во Франции в 40-х годах XVII в.
(обратно)143
Стр. 259. …от Заметто, от Ручелаи, от Кончины… — Заметто (1549–1614) — итальянский финансист, жил при королевском дворе во Франции, куда он приехал, сопровождая королеву Екатерину Медичи. Ручелаи, аббат, — флорентийский дворянин, принимал участие в дворцовых интригах в период регентства Марии Медичи (начало XVII в.). Кончини (? — 1617) — фаворит Марии Медичи, некоторое время был министром при Людовике XIII.
(обратно)144
Стр. 270. Бальи — в феодальной Франции чиновник, отправлявший суд от имени короля или сеньора.
(обратно)145
Стр. 272. …в нашем светском обществе существовал кружок… — В 20— 40-х годах XVII в. в Париже существовал салон маркизы Рамбулье, ставший законодателем литературных вкусов аристократии. Во второй половине XVII в. большую известность приобрел салон Мадлены де Скюдери(1607–1701). Как и другие писатели классицизма, Лабрюйер отрицательно относился к аристократическому жаргону — вычурному и манерному «прециозному» языку, на котором изъяснялись и писали литераторы этого толка.
(обратно)146
Стр. 273. Теобальд. — Согласно «ключам», имеется в виду поэт Бенсерад (1612–1691), автор многочисленных балетов, которые имели успех при дворе.
(обратно)147
…чтение некоторых романов… — Речь идет о «прециозных» романах Мадлены де Скюдери, один из которых, «Клелия», стал своеобразным руководством галантных чувств и обхождения.
(обратно)148
Стр. 274. Лукан Марк Анней (39–65 гг.) — римский поэт, автор исторической поэмы «Фарсалия».
(обратно)149
Клавдиан (IV в.) — один из последних поэтов древнего Рима.
(обратно)150
Сенека Луций Анней (ок. 4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — римский философ и драматург, у которого многое заимствовал французский театр XVII в.
(обратно)151
Стр. 275. Гермагор. — Согласно «ключам», прообразом этого характера был некий аббат Поль Пэзрон, полностью забытый историей. Лабрюйер рисует тип педанта, традиционный для французского театра XVI–XVII вв.
(обратно)152
…какой король правит Венгрией… — В 1687 г., при короле Леопольде I, австрийская династия Габсбургов получила наследственные права на венгерскую корону.
(обратно)153
Стр. 276. Кидий. — Согласно «ключам», Лабрюйер дает в образе Кидия сатирический портрет писателя Фонтенеля (см. прим. к стр. 196).
(обратно)154
Лукиан (ок. 120—ок. 180 гт.) — греческий писатель-сатирик.
(обратно)155
Стр. 280. …отдаленное подобие швейцара… — Многие вельможи держали в качестве привратников швейцарцев. Люди, стремившиеся прослыть знатными, заставляли своих привратников подражать им.
(обратно)156
Стр. 281. О…. щ…в — то есть откупщиков.
(обратно)157
Сосий начал с ливреи… — Сосий — имя ловкого слуги в комедиях Плавта, потом — Мольера. Монтескье заметил по этому поводу: «Корпорация лакеев более респектабельна во Франции, чем где бы то ни было; это семинарий крупных вельмож» («Персидские письма», XCIX).
(обратно)158
Стр. 291. Фоконне Жак — откупщик; с 1680 по 1687 г. распоряжался налогами, которые ранее давались на откуп пяти разным лицам.
(обратно)159
Стр. 291. …Декарт… умер в Швеции. — Философ Рене Декарт (см. прим. к стр. 123, 126) вынужден был покинуть Францию, долгое время жил в Голландии, незадолго до смерти переехал в Швецию.
(обратно)160
…боятся понижения пробы, или веса монеты… — Упадок абсолютной монархии во Франции, который начался в конце 1680-х годов, сказался и на монетном деле. Новый экю, выпущенный стоимостью шестьдесят шесть солей, постоянно падал в своей ценности: в августе 1693 г. его принимали только за шестьдесят два соля.
(обратно)161
Стр. 294. …чем у нас их зомбайя… — Зомбайя — пункт придворного этикета в королевстве Сиамском, согласно которому послы должны были приближаться к залу аудиенции на коленях, отвешивая земные поклоны. Французский посол, отправленный Людовиком XIV в Сиам в 1685 г., впервые нарушил этот обычай.
(обратно)162
Стр. 295. Ландскнехт — здесь: карточная игра.
(обратно)163
Стр. 296. Фидий (ок. 500–431 гг. до н. э.) — великий скульптор древней Греции.
(обратно)164
Зевксис (464–398 гг. до н. э.) — прославленный греческий художник.
(обратно)165
Стр. 300. …некая довольно многочисленная корпорация… — Имеются в виду судейские.
(обратно)166
Стр. 301. Гомон и Дюамель — известные адвокаты времен Лабрюйера.
(обратно)167
Стр. 303. Маре — старый торговый квартал Парижа.
(обратно)168
Стр. 304. …мессу у фельянов или францисканцев… — Фельяны — монашеский орден, основанный в XVI в., во Франции существовал как самостоятельная конгрегация с 1630 г.; францисканцы — нищенствующий монашеский орден, существовал с XIII в. Назван по имени его основателя Франциска Ассизского.
(обратно)169
«Голландская газета» — газета, которая пользовалась успехом во Франции, так как в ней свободно рассказывали о нравах Версаля. «Галантный Меркурий». — См. прим. к стр. 204.
(обратно)170
Бержерак Сирано де (1619–1655) — писатель философско-вольнодумного толка. Его плохо знали в XVII в., так как его лучшее произведение «Иной свет, или Государства и империи Луны» было опубликовано с большими купюрами.
(обратно)171
Демаре де Сен-Сорлен (1596–1676) — автор многочисленных романов и трагикомедий; в «Споре древних и новых» принял сторону новых авторов.
(обратно)172
Леклаш Луи (1620–1671) — автор трактата о реформе орфографии и курса по истории философии.
(обратно)173
Барбен — французский издатель XVII в. Выпустил книги Мольера, Расина, Лафонтена и других его выдающихся современников.
(обратно)174
…его лицо мы видим на всех гравюрах, где изображены народ или зрители. — При Людовике XIV эстампы для альманахов подготовлялись лучшими художниками и граверами. Эстампы давали аллегорическое изображение событий года, портреты короля, принцев и полководцев; внизу помещались обычно изображения представителей третьего сословия, которые о благоговением смотрели на короля»
(обратно)175
Уй — деревня в трех лье от Версаля, близ которой Людовик XIV часто производил смотр войскам.
(обратно)176
Стр. 305. Форт Бернарди. — По распоряжению директора военной академии Бернарди, ежегодно сооружался форт для проведения занятий. Учебные сражения привлекали толпы любопытных.
(обратно)177
«Ежегодник нежных душ» и «Листок влюбленных» — сборники романических историй, принадлежащие перу некой г-жи де Виледье.
(обратно)178
Ария неистового Роланда. — Имеется в виду ария из оперы Люлли «Роланд» (либретто Кино по поэме Ариосто «Неистовый Роланд»).
(обратно)179
Стр. 310. Диоцез — в XVII в. округ, подведомственный епископу или архиепископу.
(обратно)180
Стр. 311. …легко перенять в В. — то есть в Версале.
(обратно)181
…скребется в дверь… — Описанная Лабрюйером сцена происходит у двери, которая ведет в покои короля. Придворные, имеющие право присутствовать при утреннем туалете короля, уже вошли. Опоздавшие не имели права стучать, а могли только слегка царапнуть дверь ногтем. В зависимости от ранга просящего его впускали сразу же или вместе со всеми другими, желавпшми взглянуть на короля издали.
(обратно)182
Стр. 313. Орифламма — военное знамя французских королей XII–XV вв.
(обратно)183
Стр. 318. Это не Руссо, не Фабри, не Лакутюр… — Речь идет о реальных лицах. Руссо — популярный в XVII в. кабатчик. Фабри был в 1661 г. сожжен по обвинению в содомии и богохульстве. Лакутюр — придворный портной, впал в безумие и бродил по всем парижским кабакам.
(обратно)184
Стр. 319. Эшевен — в XVII в. должностное лицо, член городского совета.
(обратно)185
Стр. 324. Кассини Жан-Доминик (1625–1712) — астроном, основатель и директор обсерватории в Париже.
(обратно)186
Ложное солнце — оптическое явление в атмосфере.
(обратно)187
Параллакс — термин астрономии: угол, измеряющий видимое смещение светила при перемещении наблюдателя.
(обратно)188
Стр. 326. Театр Арлекина. — Имеется в виду театр итальянских комедиантов, игравших в Париже.
(обратно)189
Стр. 338. …от общества Сократа и Аристида… — В данном случае имеются в виду мудрец, бескомпромиссная честность которого стоила ему жизни, и государственный деятель, справедливость которого навлекла на него немилость.
(обратно)190
Стр. 344. Терсит — персонаж из «Илиады» Гомера, трусливый раб. Его имя стало во Франции нарицательным.
(обратно)191
Лебрен Шарль (1619–1690) — французский художник.
(обратно)192
Стр. 353. Демофил. — Согласно «ключам», персонажи данного пассажа Демофил и Баселид скрывают имена: первый — аббата де Сент-Элена, участника Фронды; второй — де Мулине, противника Фронды.
(обратно)193
Стр. 353. Оливье Леден — цирюльник и доверенный Людовика XI. Впал в немилость и был повешен в 1484 г.
(обратно)194
Жак Кер (1395–1456) — богатый купец из Бурга, ссужал большими суммами французского короля Карла VII.
(обратно)195
Стр. 366. Стоицизм — философское учение в древней Греции и Риме; возникло на рубеже IV–III вв. до н. э. Большое место в философии стоиков занимает этика; основой счастья они считали добродетель, которая создает свободного мудреца. Понятие свободы у стоиков лишено социальной остроты, так как, согласно их учению, человеку не нужны жизненные блага.
(обратно)196
Государство Платона. — В диалоге «Государство» греческий философ Платон (ок. 427 — ок. 347 гг. до н. э.) выступил против афинской рабовладельческой демократии. Он выдвинул утопическую теорию общества, разделенного на философов или правителей, стражу (воинов), а также земледельцев и ремесленников, которые производят все необходимое для государства.
(обратно)197
Стр. 370. …распространяется об истории с каноником… — Речь идет о двадцати двух картинах, изображающих житие святого Бруно (основателя монашеского ордена картезианцев XI в.), которые Эсташ Лесюер (1616–1655) написал для монастыря этого ордена в Париже (большая часть картин хранится в настоящее время в Лувре). Сюжетом одной из них является легенда о том, как во время отпевания каноника Диокреза, проповедника, тайно предававшегося порокам, мертвец поднялся и закричал, что бог справедливо осудил его на вечные муки. Это чудо произвело огромное впечатление на Бруно и побудило его постричься в монахи.
(обратно)198
Стр. 377. Ирина. — Согласно «ключам», имеется в виду маркиза де Монтеспан, фаворитка Людовика XIV; она любила ездить на воды и лечиться от болезней, которыми не страдала.
(обратно)199
Стр. 392. Серые сестры — монахини, ухаживавшие за больными.
(обратно)200
Стр. 403. Ален. — В комедии Мольера «Школа жен» это имя носит глуповатый и смешной крестьянин, слуга Арнольфа.
(обратно)201
Ришелье Арман-Жан дю Плесси, кардинал де (1585–1642) — первый министр при Людовике XIII. С 1624 г. и до своей смерти фактический правитель Франции.
(обратно)202
Ленжанд Жан (1595–1665) — французский епископ, блестящий проповедник. Прославился надгробным словом королю Людовику XIII.
(обратно)203
Стр. 405. Ферула — в средневековой школе линейка, которой били по ладони провинившихся учеников.
(обратно)204
Ликторские фасции — в древнем Риме пучки прутьев, связанные с секирой, которые ликтор, то есть лицо, сопровождавшее представителя высшей администрации, должен был нести за ним.
(обратно)205
Стр. 409. Варрон Марк Теренций (116—27 гг. до н. э.) — римский ученый.
(обратно)206
К. — Филипп Кино (1635–1688) — французский драматург, автор комедий и нескольких слащавых трагедий; Буало высмеял его. Писал либретто к операм Люлли и чрезвычайно преуспевал в этом жанре.
(обратно)207
Ш — и был богат, а К — ль беден… — Лабрюйер противопоставляет заурядного поэта Жана Шаплена (1595–1674), автора плохой поэмы «Девственница», великому поэту Пьеру Корнелю, создателю трагедии французского классицизма. Шаплен был преуспевающим литератором, занимал пост секретаря Академии; Корнель, несмотря на всеобщее признание, постоянно нуждался и умер в бедности. «Родогунда» (1644) — трагедия Корнеля.
(обратно)208
Стр. 410. …ссылаются на пример д'Эстре… — Эстре Сезар д' (1628–1714) — кардинал, член Французской Академии. Далее следуют имена образованных людей, современников Лабрюйера. Арле Франсуа де (1625–1695) — архиепископ Парижский, член Французской Академии. Боссюэ Жан-Бенинь (1627–1704) — епископ Меца, затем Мо, главный воспитатель дофина, церковный писатель. Славился как блестящий оратор. Сегье Пьер (1588–1672) — канцлер при Людовике XIII и Людовике XIV; один из основателей Французской Академии. Монтозье Шарль, герцог де (1610–1690) — воспитатель дофина. Бард Франсуа-Рене, маркиз де (1621–1688) — генерал, одержал несколько крупных побед; его прочили в воспитатели герцога Бургундского. Шеврез, герцог де (1646–1712) — один из наиболее образованных людей своего времени. Новьон Никола Потье де (ум. в 1693 г.) — президент парламента (высшей судебной инстанции какой-либо провинции), член Французской Академии. Ламуаньон Гийом де (1617–1677) — президент парламента, известный познаниями в области юриспруденции. Пелиссон Поль (1624–1693) — историк, член Французской Академии.
(обратно)209
Стр. 411. Д'Осса (1536–1604) — преподавал риторику и философию в Сорбонне, затем стал кардиналом. Хименес (1436–1517) — испанский кардинал и крупный политический деятель; принимал участие в издании собрания сочинений Аристотеля.
(обратно)210
…народы были бы счастливы… — Эту цитату из «Государства» Платона Лабрюйер ошибочно вложил в уста Антонина, римского императора с 138 по 161 г. Согласно римским историкам, эти слова часто повторял преемник Антонина Марк Аврелий (161–180).
(обратно)211
Стр. 413. …как Титир… играет на флейте. — Титир — персонаж из первой эклоги римского поэта Вергилия, мечтательный философствующий пастух.
(обратно)212
Стр. 414. Прима — карточная игра.
(обратно)213
Стр. 418. Декарт советует судить… — Эта мысль Декарта изложена во второй части «Рассуждения о методе».
(обратно)214
Стр. 421. Вот перед нами человек. Он неотесан… — Согласно «ключам», речь идет о Лафонтене.
(обратно)215
Вот другой — он прост, робок… — Речь идет о Корнеле.
(обратно)216
Стр. 422. Вот вам третье чудо. — Речь идет о поэте Жане де Сантеле (1630–1697).
(обратно)217
Стр. 424. О Сократе говорили…. — В данном случае Лабрюйер воспользовался именем Сократа, чтобы ответить на обвинение, которое современники предъявляли ему самому.
(обратно)218
Стр. 427. …и Катону и Пизону — одна честь. — В данном случае мы имеем дело с неоднократно используемым Лабрюйером стилистическим приемом: употреблением имени реального исторического лица для характеристики вымышленного персонажа. Катон Утический (95–46 гг. до н. э.) — римский государственный деятель; защищал республику от посягательств Цезаря. Пизон (ум. в 65 г.) — римский политический деятель, правитель Македонии. Был известен своей жестокостью и алчностью.
(обратно)219
Стр. 430. Баярд Террай де (1473–1524) — французский военачальник, заслуживший известность своим бесстрашием.
(обратно)220
Вобан Себастьен-Лепретр (1633–1707) — французский маршал, круп-вый полководец и военный инженер.
(обратно)221
Стр. 433. Юный принц, — Подразумевается принц Луи (1633–1711), сын Людовика XIV, наследник престола. В конце 80-х годов XIII в. он командовал одной из армий Франции и отличился в сражении.
(обратно)222
В опровержение низменной латинской пословицы. — Имеется в виду пословица: «Сыновья героев недостойны своих отцов».
(обратно)223
Стр. 435. Успех всегда располагает… — Начиная с этого параграфа в ряде мест Лабрюйер высказывает свое отношение к событиям английской «славной революции» 1688 г., в результате которой был свергнут Иаков II Стюарт и английским королем сделался Вильгельм Оранский — штатгальтер Нидерландов, ставленник буржуазии.
(обратно)224
Стр. 436. Умер враг… — Имеется в виду Карл V, герцог Лотарингский (ум. в 1690 г.). Он командовал армией германского императора Леопольда I в начале военной кампании против Франции. Хотя эта смерть избавила Людовика XIV от серьезного противника, он с уважением говорил о нем.
(обратно)225
О, времена, о, нравы! — Ставшие крылатыми слова Цицерона из «Первой речи против Катилины». В параграфах 118 и 119 этого сочинения авторская речь поручается двум крупным философам древней Греции — Гераклиту (576–480 гг. до н. э.) и Демокриту (ок. 470 — ок. 380 гг. до н. э.). В античности образ «смеющегося философа» Демокрита, то есть философа, обличающего пороки людей своим смехом, противопоставляли образу «плачущего философа» Гераклита.
(обратно)226
…я хочу быть Ликаоном или Эгисфом… — Ликаон — царь Аркадии, которого Юпитер превратил в волка в наказание за его преступления («Метаморфозы» Овидия, кн. I). Эгисф — убийца Агамемнона (Эсхил, «Орестея»).
(обратно)227
Некто сказал: «Я переправлюсь через море, отниму у моего отца родовые владения…» — Имеется в виду Вильгельм Оранский, который был зятем английского короля Иакова II.
(обратно)228
Только один из них, неизменно добросердечный и великодушный… — Людовик XIV гостеприимно принял бежавшего из Англии Иакова II.
(обратно)229
Стр. 437. Некий государь, избавивший Европу… — Речь идет о Леопольде I, императоре Германии.
(обратно)230
…огромной империи… — то есть Турции.
(обратно)231
…ради войны за сомнительные цели. — Речь идет о длительных войнах за колонии, которые велись во второй половине XVII в. между Францией и ее торговыми соперниками. В 1686 г., после нескольких военных кампаний, образовалась антифранцузская коалиция — Аугсбургская лига, во главе с Англией, в которую вошли Голландия, Австрия, Испания, Швеция, Савойское государство. Война закончилась полной победой молодой капиталистической державы — Англии над сильнейшим европейским феодальным государством — Францией.
(обратно)232
…призван быть третейским судьей и посредником… — Подразумевается папа Иннокентий XI, чья политика была враждебна Иакову II Английскому.
(обратно)233
Стр. 438. …человек ростом с гору Афон. — Македонский архитектор Динократ (IV в. до н. э. хотел высечь из горы Афон фигуру царя Александра.
(обратно)234
Стр. 439. …о том же человеке с бледным, бескровным лицом. — То есть о Вильгельме Оранском.
(обратно)235
…прячется в болотах… — Намек на то, что в 1672 г. Вильгельм Оранский остановил французскую армию близ Амстердама, приказав сломать плотины и открыть шлюзы.
(обратно)236
Пикты, саксы, батавы — племена, населявшие в период раннего средневековья территории Шотландии, Англии и Голландии.
(обратно)237
Стр. 440. Цезарь. — Имеется в виду император Германии.
(обратно)238
Стр. 442. Калло Жак (1592–1635) — выдающийся французский художник и гравер.
(обратно)239
Стр. 444. Л…г….ким. — Согласно «ключам», подразумевается Ледигиерский дворец (или дворец Лангле).
(обратно)240
Стр. 445. …оправдание или осуждение людей… — По средневековому обычаю, устраивались судебные поединки, исход которых считался доказательством виновности или невинности обвиняемого. Один из последних поединков такого рода имел место в 1547 г. в присутствии Генриха II.
(обратно)241
…одним из прекраснейших деяний великого короля. — В период становления и утверждения абсолютной монархии во Франции вышел ряд указов, запрещавших дуэль (указы кардинала Ришелье, позднее Людовика XIV).
(обратно)242
Стр. 446. Катулл Гай Валерий (ок. 87 — ок. 47 гг. до н. э.) — римский поэт-лирик.
(обратно)243
Стр. 447. Сарразен Жан-Франсуа (1615–1654) — «прециозный» поэт.
(обратно)244
Стр. 448. Ифий. — В «Метаморфозах» Овидия богиня Изис превращает молодую девушку в мужчину, носящего имя Ифий.
(обратно)245
Стр. 449. Лаиса (IV в. до н. э.) — греческая куртизанка, славившаяся своей красотой.
(обратно)246
Стр. 450. Пренебрегать ранней обедней… — Людовик XIV чаще всего посещал вечернюю службу; этим объясняется поведение придворных, о котором идет речь в данном пассаже.
(обратно)247
Стр. 452. «Духовная борьба» — сочинение итальянского монаха Лаврентия Скуполи (1530–1610); «Христианский дух» — сочинение Лучиньи; «Святой год» — сочинение французского церковного писателя Кристофа Луазеля (XVI в.).
(обратно)248
Стр. 455. Мотет — музыкальное произведение для хора на слова латинской литургии.
(обратно)249
Стр. 456. Если бы некоторым людям... — Речь идет об особой категории чиновников (королевских секретарях, советниках ряда королевских учреждений), которые за свою службу получали личное дворянство. После двадцати лет службы они приобретали право на дворянский титул и могли передавать его по наследству. Такие чиновники в отставке назывались ветеранами. Если в силу материальных затруднений они бывали вынуждены продавать свою должность до окончания срока службы, то теряли все свои привилегии.
(обратно)250
Стр. 458. Озье — семья составителей генеалогии французских аристократических родов.
(обратно)251
…из Сира становится Киром. — Сир — имя раба в нескольких комедиях Плавта и Теренция; Кир (IV в. до н. э.) — основатель Персидской империи, видный полководец.
(обратно)252
Стр. 459. …происхожу я от Жофруа де Лабрюйера… — Жофруа де Лабрюйер — лицо историческое. Он принимал участие в Третьем крестовом походе и умер в 1191 г. Жан де Лабрюйер говорит о своем знатном происхождении в ироническом плане.
(обратно)253
Стр. 460. Палаццо Фарнезе — дворец в Риме, расписанный художником Аннпбалом Каррачи (1560–1609); принадлежал кардиналу Александру Фарнезе, позднее вступившему на папский престол под именем Павла III.
(обратно)254
Стр. 461. …о так называемой прекрасной вечерне… — Речь идет о вечерне, которую получили право служить духовные лица монашеского ордена театинцев. В XVII в. театинцы настолько театрализовали вечернюю службу, что она превратилась в особого рода спектакль и пользовалась большим успехом при дворе.
(обратно)255
Стр. 462. …воспретить на время деятельность варнавита? — Варнавиты — римско-католический монашеский орден, основанный в Милане около 1530 г. В данном пассаже речь идет о внутрицерковных распрях.
(обратно)256
…кто носит пурпур и горностай. — Имеются в виду кардиналы, носившие пурпурную мантию, и доктора богословия, мантия которых украшалась горностаем.
(обратно)257
Стр. 464. …народоправство или деспотия. — Аббатиса аббатства назначалась королем; настоятельница монастыря избиралась монахинями.
(обратно)258
Стр. 466. Безвозвратные вложения — вложения капитала при условии получения пожизненной ренты. В данном случае Лабрюйер имеет в виду нашумевшее в 1689 г. дело: банкротство ряда больниц в Париже, вызванное мошенничеством администрации. Многие частные лица потеряли тогда не только свои капиталы, но и ренту.
(обратно)259
Стр. 472. Фидеикомисс — поручение наследнику выдать часть наследства или все наследство третьему лицу.
(обратно)260
Стр. 473. Сципион Африканский Старший (ок. 235–183 гг. до н. э.) — выдающийся римский полководец, как и Марий Гай (156—86 гг. до н. э.).
(обратно)261
Мильтиад Младший (конец VI — начало V в. до н. э.) — афинский государственный деятель и полководец.
(обратно)262
Эпаминонд. — См. прим. к стр. 170.
(обратно)263
Агесилай (397–360 гг. до н. э.) — спартанский царь, одержавший ряд побед в войне с Персией.
(обратно)264
…а потом уже восхищались его утонченностью… — Историки царствования Людовика XIV говорят о неуместной роскоши, которую король и его маршалы ввели в обстановку военных походов.
(обратно)265
Стр. 475. Фагон — врач Людовика XIV, один из крупнейших ученых своего времени.
(обратно)266
…распространяй по всей земле хину… — Хина стала известна во Франции в середине XVII в. Ее применение вызвало большие дискуссии; Фагон был сторонником применения хины.
(обратно)267
…оставь Коринне, Лесбии, Канидии, Тримальхиону и Карпу их слабость… к шарлатанам. — Коринна (V в. до н. э.) — греческая поэтесса. Лесбия. — Под этим именем фигурирует в стихах Катулла возлюбленная поэта, Клаудия. Канидия — героиня пятого эпода Горация. Тримальхион и Карп — персонажи из «Сатирикона», романа, авторство которого приписывалось римскому писателю Петронию (I в. до н. э.), — разбогатевший вольноотпущенник и один из его гостей.
(обратно)268
Стр. 478. …а ведь все они носили шлем и панцирь! — Лабрюйер перечисляет выдающихся полководцев: Дюгеклен Бертран (1320–1380) — коннетабль, то есть главнокомандующий королевской армией при Карле V. Клиссон Оливье де (1336–1407) — коннетабль при Карле VI. Фуа Гастон де (1331–1391) — полководец. Бусико Жан-Лемэнгр де (1364–1421) — маршал Франции.
(обратно)269
Кто может объяснить, почему иные слова… — Лабрюйер был одним из первых писателей XVII в., кто отметил обеднение словаря французского литературного языка в результате ориентации Французской Академии на речь двора и высшего общества. Некоторые лингвистические наблюдения Лабрюйера расходятся с определениями, которые даются в словаре Французской Академии и других словарях XVII в.; эти расхождения помогают сегодня уточнить историю того или иного слова; многие из слов, которые Лабрюйер считал выходящими из употребления, впоследствии вновь заняли свое место во французском языке.
(обратно)270
Стр. 480. …стихи Лорана… — Лабрюйер имеет в виду французского поэта XVII в. Лорана, в частности, не принесшее славы поэту стихотворное описание придворного празднества в Шантильи.
(обратно)271
…со стихами Маро и Депорта. — Маро. — См. прим. к стр. 203. Депорт Филипп де (1546–1606) — французский поэт эпохи Возрождения; писал любовные стихи в духе Петрарки.
(обратно)272
…история сохранила нам эти стихи… — В «Сборнике разных рондо», опубликованном в 1640 г., эти два стихотворения входили в раздел «Античных рондо». Автор их неизвестен.
(обратно)273
Стр. 482. …красноречие, процветавшее при Леметре, Пюселе и Фуркруа… — Речь идет о парижских адвокатах, известных в XVII в. Один из них, Бонавантюр Фуркруа, поэт и юрист, был другом Расина и Мольера.
(обратно)274
Стр. 483. Василий (329–379) — греческий священник, автор посланий по вопросам религиозной доктрины и морали.
(обратно)275
Иоанн Златоуст (347–407) — патриарх Константинополя. Прославился своим красноречием.
(обратно)276
Стр. 484. Пандекты Юстиниана. — Имеется в виду сборник решений римских юристов, являвшийся в древности справочником по правовым вопросам. Юстиниан (483–565) — византийский император, при котором была проведена кодификация римского права.
(обратно)277
Стр. 487. Венсан де Поль (1576–1660) — основатель монашеской конгрегации сестер милосердия, миссионеров и детских приютов.
(обратно)278
Ксавье Франсуа (1506–1552) — священник-миссионер в Индии.
(обратно)279
Стр. 488. Епископ из города Мо — то есть Жак-Бенинь Боссюэ.
(обратно)280
Бурдалу Луи (1632–1704) — церковный проповедник.
(обратно)281
Стр. 492. …разве недостоин был этого сана Фенелон! — Фенелон Франсуа де Сальньяк де Ламот (1651–1715) — один из образованнейших людей своего времени, воспитатель внука Людовика XIV, член Французской Академии, писатель-моралист.
(обратно)282
Стр. 496. Лев — то есть римский папа Лев I (440–461).
(обратно)283
Иероним (330–419) — ученый-богослов, автор многочисленных сочинений, причисленный католической церковью к лику святых.
(обратно)284
Стр. 499. Талапуан — сиамское название буддийских аскетов или монахов.
Т. Хатисова
(обратно)285
К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ
В настоящем томе воспроизведены гравюры французских художников XVII века. На суперобложке помещены гравюры Клода Лоррена «Гавань у крепости» и Жака Калло «Большая охота».
(обратно)
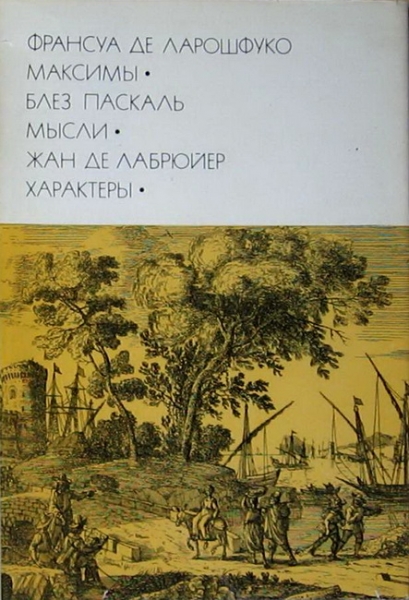


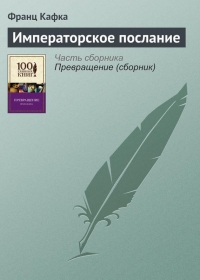
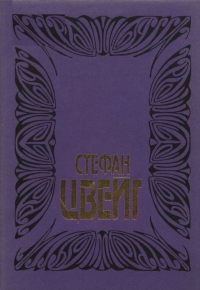
Комментарии к книге «Франсуа де Ларошфуко. Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры», Франсуа VI де Ларошфуко
Всего 0 комментариев