Чтения по случаю 80-летия Юза Алешковского ч. II
ЮЗ!
Ветер изгнания
Борис Хазанов
Посвящается Юзу Алешковскому,
другу и писателю, который не
принадлежит ни родине, ни чужбине,
а лишь самому себе и русской литературе.
I
С тех пор, как существует цивилизация, существует эмиграция, с тех пор, как существуют рубежи, существует зарубежная литература. Основоположником русского литературного рассеяния можно считать князя Андрея Курбского, но генеалогия изгнанной литературы много старше. Поистине у литературного эмигранта есть право гордиться древностью своей участи. Череда предков за его спиной уходит в невообразимую даль. На берегу Понта его тень греется у огня рядом с Назоном. Вместе с Данте в чужой Равенне не он ли испытывал злобную радость, заталкивая папу Бонифация в ад? Столетия мало что изменили в его судьбе. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен. Александр Герцен покоится на кладбище в Ницце за три тысячи верст от Москвы. Немецкий поэт Карл Вольфскель писал из Новой Зеландии друзьям: «Сюда-то уж они не доберутся». Он лежит на окраине Окленда, под камнем с надписью Exsul poeta, «поэт-изгнанник». На могиле Иосифа Бродского, на острове-погосте Сан-Микеле в Венецианской лагуне написано только имя. Ура, мы свободны!
«Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник. Полынью пахнет хлеб чужой».Это реминисценция Данте, это у него сказано о горьком хлебе чужбины (lo pane altrui). Предполагается, что дома хлеб сладок. Как бы не так. Ахматова не могла признаться себе, что она эмигрант в собственном отечестве.
II
Слово exsilium, изгнание, вошедшее в новые языки, встречается у авторов I века и спустя два тысячелетия означает все то же. Изгнать, значит прогнать насовсем, чтобы духу твоего не было. Изгнанный умирает для тех, кто остался и самим этим фактом как бы приложил руку к его изгнанию. Так было со всеми; и с нами, разумеется. Между тем мы не умерли. Прошли годы, кое-что изменилось, и о нас вспомнили на бывшей родине, чтобы торжественно объявить нам, что мы, беглецы и беженцы, принадлежим прошлому: граница стала проницаемой, эмиграция утратила свой резон, дорога «домой» открыта.
Но изгнание – это пожизненное клеймо, бывают такие неустранимые стигматы. Изгнание, если угодно, – экзистенциальная категория. Можно объявить его недействительным, сделать его нереальным невозможно. Византийская пословица гласит: когда волк состарился, он издает законы. Разве мы не византийцы? Мы слишком хорошо знаем эту страну. В новом обличье она кажет нам прежний оскал.
Мы жили в век полицейской цивилизации. Ее памятники обступают каждого, кто приезжает в Москву; только ли памятники? Но даже если бы их больше не было в помине. Даже если бы гигантская опухоль в центре столицы была вырезана, если бы вместе с комплексом зданий тайной полиции была снесена вся многоэтажная храмина коррупции, дикости, привычного измывательства и произвола, – возвращение оказалось бы для изгнанника новой эмиграцией. С него хватит одной.
III
Разумеется, это человек прошлого. Все часы остановились в тот день, когда он уехал. Родина, как лицо умершей женщины на фотографии, стоит перед его глазами, какой он видел ее в последний раз. Он не в состоянии поверить, что на самом деле она жива, и снова замужем, и рожает детей, и даже чего-то достигла в жизни. Все его существо – сознает он это или нет – противится предположению, что «у них там» может выйти что-то путное. Не оттого что он кипит ненавистью к оставленной родине, отнюдь нет; но потому, что он так устроен. Это не должно удивлять. Это можно было легко заметить у эмигрантов первого послереволюционного призыва: будущее, на которое они так упорно возлагали свои надежды, было не что иное, как прошлое. Они грезили о стране, которой на самом деле давно не было; а та страна, которая продолжалась, казалась им безнадежной. Солдат, раненный в деле, считает его проигранным, сказано у Толстого. Эмиграция пожимает плечами, когда слышит об успехах отечества, не потому, что она желает ему зла, а потому, что она так устроена, потому что обременена памятью и живет этой памятью. С изгнанием ничего не поделаешь, изгнание – это отъезд навсегда. Билет в одну сторону, побег с концами. Вынырнуть ночью за бортом, вылезти из подкопа по ту сторону тына, вышек с прожекторами, штрафных полос и проволочных заграждений; уйти в небытие, в потусторонний мир, или, лучше сказать, уйти из потустороннего мира в широкий мир, из рабской зарешеченной страны на волю.
IV
За эту удачу нужно было платить. В сущности, за нее надо было расплатиться всей прожитой жизнью. Государство, наградившее беженца пинком в зад, вместо того чтобы расправиться с ним, как оно привыкло расправляться с каждым, в ком подозревало хотя бы тень несогласия, – не довольствовалось тем, что ограбило его до нитки, отняло все его права, его достоинство и достояние. Нужно было истребить его прошлое, зачеркнуть все, что он сделал, выскоблить всякую память о нем. Отныне его имя никогда не будет произноситься. Все, что он написал, подлежит изъятию. Его не только нет, его никогда не было. Зато никуда не денется, никогда не пропадет его пухлое дело с грифом «Хранить вечно». Зубастая пасть хранит память об ускользнувшей добыче. Авось когда-нибудь еще удастся его сцапать.
Между тем изгнанник увозит, вместо имущества и «корней», нечто бесценное и неискоренимое. В камере для обысков в аэропорту Шереметьево-2, в последние минуты, его раздевают, как водится, догола, но самого главного не находят. Волчьи челюсти щелкают, ловя пустоту. Невидимая валюта, то неуловимое, что он захватил с собой, – это язык. Язык! Неотчуждаемое богатство, крылья, которые вырастают у сброшенного со скалы, язык, не напрасно названный жилищем бытия. Язык возрождается в каждом из нас и переживет всех нас, и через голову современников и правителей свяжет нас с традицией.
Никто не относится к языку так ревниво, никто так не страдает от надругательства над языком, как эмигрант. Гейне назвал Библию портативным отечеством вечно скитающегося народа. Единственное и неистребимое отечество, которое изгнанник унес с собой, – язык.
V
Но ведь там, где он бросил якорь, все называется по-другому, и даже если ему не чужд язык приютившей его страны, он тотчас заметит, что и думают здесь по-другому. Его язык – так, по крайней мере, ему кажется – непереводим. Благословение писателя-эмигранта, родная речь, – это вместе с тем и его тюрьма. Не сразу доходит до него, что он притащил с собой свою собственную клетку. Любой язык представляет собой замкнутый контур мышления, но русский изгнанник затворен вдвойне, он прибыл из закрытой страны, из гигантской провинции; самая ткань его языка пропахла затхлостью и неволей. Власть воспоминаний, привычки и повадки, привезенные с собой, мешают ему спокойно и с достоинством вступить в новый мир; то, что называется культурным шоком, есть психологический или скорее психопатологический комплекс растерянности, неуверенности, ущемленного самолюбия и страха признаться самому себе, что ты не понимаешь, куда ты попал. Счастье обретения свободы, то необыкновенное, неслыханное счастье, от которого рвется грудь, и о котором не имеют представления те, кто остался, – обернулось разочарованием. Душевная несовместимость становится причиной смешных и печальных faux pas, спотыканий, осечек. О них отчасти могут дать представление первые пробы пера на чужбине и даже обыкновенные письма родным. Отчет новосела о жизни в другой стране – документация недоразумений.
Вопреки распространенному мнению, первые впечатления ошибочны. Девять десятых того, что было написано и поспешно распубликовано русскими беженцами вскоре после прибытия в Европу или Америку, подтверждают это. «Свежий глаз» наблюдает поверхность, ничего не зная о том, что под ней, он не может отрешиться от стереотипов, от иллюзий и предубеждений, он не столько наблюдает, сколько ищет в увиденном подтверждение чему-то затверженному, когда-то услышанному, где-то вычитанному; свежий глаз на самом деле совсем не свежий и невольно искажает пропорции, преувеличивает значение второстепенного и побочного, не замечает главного.
VI
Знание языка не ограничивается умением понять, о чем говорят; скорее это умение понять то, о чем умалчивают. Настоящее знание языка – это знание субтекста жизни. Неумение понять окружающих, а еще больше непонимание того, о чем они не говорят, что разумеется само собой, превращает новичка в инвалида. Сочувствуя ему, с ним невольно обходятся, как с несмышленышем. Простой народ принимает его за слабоумного. Но и самые скромные познания в языке – роскошь для подавляющего большинства русских эмигрантов, не исключая интеллигентов. О писателях нечего и говорить. Вот одно из следствий жизни в закрытой стране. Горе безъязыкому! Он как глухонемой среди шумной толпы, как зритель кино, где выключился звук. Что происходит? Действующие лица смеются, бранятся, жестикулируют. Он глядит на них, как потерпевший кораблекрушение – на островитян. Как письмо из клочков бумаги, он тщится сложить смысл из разрозненных, с трудом пойманных на лету слов. Когда же мало-помалу он овладевает туземным наречием, многое, о, сколь многое остается для него зашифрованным, невнятным, неизвестным; научившись кое-как читать текст жизни, он не знает контекста. Но он – писатель и помнит о том, что искусство гораздо больше интересуется вытесненным, нежели разрешенным, скрытым, чем явным, подразумеваемым, чем произносимым. Он писатель и может писать только о том, что знает досконально. Это знание ему не приходится добывать. У него открытый счет в банке памяти, и он может брать с него сколько захочет. Вот почему литература изгнанников обращена к прошлому, к тому, что оставили, как конники князя Игоря, за холмом.
VI
Эмигрант переполнен своим прошлым. Он должен его переварить. Условия самые подходящие: переваривание начинается, когда процесс еды в собственном смысле закончен – когда перестают жить прежней жизнью. Забугорная словесность чаще всего не ищет новых тем. И когда она «возвращается», то кажется многим на родине устарелой. При этом не замечают, что она создала и освоила нечто, может быть, более важное: новое зрение.
Люди, ослепленные предрассудками или оболваненные пропагандой, думают, что изгнание обрекает пишущего на немоту. Власть, приговорившая литератора к остракизму, преуспела вдвойне, заткнув ему глотку на родине и выдворив его на чужбину. Теперь он окончательно задохнется. Кому он там нужен? Вырванный из родной почвы, он повиснет в воздухе. Так ей кажется. И она радостно потирает руки. Свои грязные волосатые руки, где под ногтями засохла кровь.
Между тем ботанические метафоры более или менее ложны. Они были ложны и сто лет назад. Потому что литература – сама себе почва. Литература живет не столько соками жизни, сколько воспоминаниями: память – ее питательный гумус. Искусство бездомно и ночует в подвалах: в подземелье памяти. Если труд и талант составляют две половины творчества, то память – его третья половина. Когда независимость влечет за собой кару, когда писательство, не желающее служить кому бы то ни было, объявляется государственным преступлением, когда родина, а не чужбина приговаривает писателя к молчанию и ставит его перед выбором: изменить себе или «изменить родине», – тогда эмиграция предстает перед ним как единственная возможность отстоять свое достоинство. Тогда изгнание – единственный способ сохранить верность литературе. Эмигранту – и это тоже часть традиции – присуще непомерное самомнение. Он утверждает, что он «не в изгнании, а в послании». С неслыханной заносчивостью он повторяет слова, приписываемые другому изгнаннику – Томасу Манну: «Wo ich bin, ist der deutsche Geist». Где я, думает он, там торжествует свободное слово, там русский язык и русская культура.
VIII
Он уверен, что настоящая литература не страдает от дистанции, наоборот, нуждается в дистанции – и во времени, и в пространстве. Литература жива не тем, что видит у себя за окошком, – в противном случае она вянет, как только спускается вечер, и на другой день о ней уже никто не вспомнит, – но жива тем, что стоит перед мысленным взором писателя, на экране его мозга: это просто «осознанное» (воплощенное в слове) сознание.
Литература питается не настоящим, а пережитым, она не что иное, как praesens praeteriti, сегодняшняя жизнь того, что уже миновало. Литература – дело медленное: дерево посреди кустарников публицистики. Литература, говорит он себе, является поздно и как бы издалека. Мы не совершим открытия, указав на главный парадокс ускользнувшей, очнувшейся на другом берегу словесности. Это – творчество подчас в самых неблагоприятных условиях, так что диву даешься, как оно может вообще продолжаться. Самое существование эмигрантской литературы есть нонсенс. Нужно быть сумасшедшим, чтобы годами предаваться этому занятию, нужно обладать египетским терпением и фанатической верой в свое дело, чтобы все еще корпеть над своими бумагами, все еще писать – в безвестности и заброшенности, без читателей, без сочувственного круга, посреди всеобщей глухоты, в разреженном пространстве. Никто вокруг не знает языка, на котором пишет изгнанник (unus in hoc nemo est populo, жалуется Овидий, ни одного человека среди этого народа, кто сказал бы словечко по-латыни!). Если его страна и возбуждает у окружающих некоторый интерес, то это интерес чаще всего политический, а не тот, который может удовлетворить художественная словесность; обыкновенно от такого автора ждут лишь подтверждений того, о чем уже сообщили газета и телевизор. Безнадежная ситуация. И вместе с тем – вместе с тем это писательство, которому жизнь в другой стране предоставляет новый и неожиданный шанс.
IX
Выбрав удел политического беженца и отщепенца, писатель лишился всего. Черт возьми, тем лучше! Он одинок и свободен, как никто никогда не был свободен там, на его родине. Пускай он не решается описывать мир, в котором он оказался, который ему предстоит осваивать, может быть, всю оставшуюся жизнь. Зато он живет в мире, который прибавляет к его внутреннему миру целое новое измерение, независимо от того, удалось ли в него вжиться. Нет, я не думаю, что век национальных литератур миновал, как миновал век национальной музыки и национальной живописи. Но литература, увязшая в «национальном», обречена, это литература провинциальных углов и деревенских околиц. Жизнь на чужбине обрекает писателя на отшельничество – что из того? Зато он видит мир. Ветер Атлантики треплет его волосы. Зато эта жизнь, огромная, необычайно сложная, несущаяся вперед, оплодотворяет его воображение новым знанием, наделяет новым зрением, новым и неслыханным опытом. Об этом опыте не догадываются те, кто «остался». Недаром встречи с приезжими соотечественниками так часто оставляют у него чувство общения с людьми, которым как будто не хватает одного глаза. Расстояние имеет свои преимущества, о них хорошо знали классики. Гоголь в Риме, Тургенев в Париже, Достоевский, создавший в Дрездене едва ли не лучший из своих романов, – нужны ли еще примеры? Взгляду из прекрасного далёка открывается доселе неведомый горизонт.
X
Оставив злое отечество, писатель-эмигрант хранит ему верность в своих сочинениях, но не ностальгия, а память движет его пером. Да, он по-своему верен отечеству, только это такое отечество, которого уже нет. (Может быть, никогда и не было.) В этом, собственно, простое объяснение, почему эмигранты обыкновенно воспринимаются как «бывшие». «Надтреснутые чашки», как выразился о немецких эмигрантах Эрих Носсак. Изгнанники производят впечатление инвалидов истории. Так оно и есть. Только подчас эти инвалиды шагают вперед бодрее других. Во всяком случае, упреки в том, что они «оторвались», совершенно справедливы. Действие «Улисса» приурочено к июньскому дню 1904 года, книга пишется во время Первой мировой войны. Величайший исторический катаклизм сотрясает Европу – а чудак корпит над сагой о временах, теперь уже чуть ли не допотопных. «Человек без свойств» создается в межвоенные годы и годы Второй мировой войны, а в огромном романе не наступила еще и первая; действие происходит в государстве, которого давно нет на карте. «Доктор Фаустус» начат 23 мая 1943 года, бомбы сыплются на Германию, но роман и его герой, разговоры, споры, события – все это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Ничего не осталось от старой России, о которой пишет Бунин, – пишет, как в забытьи, ничего не видя вокруг.
Эмигрантская проза, как жена Лота, не в силах отвести взгляд от прошлого. Парадокс, однако, в том, что прошлое может оказаться долговечнее настоящего. У прошлого может быть будущее – настоящее же, как ему и положено, станет прошлым.
XI
Лозунг Джойса: exile, silence, cunning. В несколько вольном переводе – изгнание, молчание, мастерство. Превосходная программа, если есть на что жить. Автор «Улисса» сидит в Триесте по уши в долгах. Роберт Музиль в Швейцарии сочиняет воззвание о помощи: нечем платить за квартиру, не на что жить. Жалкая нищета российской «первой
Ergo quod vivo durisque laboribus obsto, Nec me sol icitae taedia lucis habent, Gratia, Musa, tibi! nam tu solacia praebes, Tu curae requies, tu medicina venis. Tu dux et comes es… *волны» – общеизвестный сюжет. Вопрос, который задает себе писатель-изгнанник, есть, собственно, вопрос, который рано или поздно встает перед каждым пишущим, только в нашем случае он приобретает драстический характер: кто его затащил на эту галеру? Почему, зачем и для кого он пишет? Вопрос, на который нет ответа.
То, что делает проблематичным любое писательство и вдвойне сомнительным – писательство в изгнании, есть именно то, что делает его необходимым; воистину мы околели бы с тоски, когда бы не «муза». Чем бессмысленней и безнадежней литературное сочинительство, тем больше оно находит оснований в самом себе. И можно спросить – или это все та же заносчивость отщепенцев? – можно поставить вопрос с ног на голову: не есть ли эмиграция идеальная модель творчества, идеальная ситуация для писателя?
* Итак, за то, что я жив, за то, что справляюсь с тяжкими невзгодами, с докучливой суетой каждого дня, за то, что не сдаюсь, – тебе спасибо, муза! Ты утешаешь меня, ты приходишь как от- дохновение от забот, как целительница. Ты вожатый и спутник… – Овидий.
XII
Всевозможные эмигрантские исповеди оставляют впечатление тяжелого невроза. Но это вовсе не общий удел. На самом деле эмиграция – это, знаете ли, большая удача. Это значит не петь в унисон, не шагать в ногу; не кланяться ни режиму, ни народу, не принадлежать никому. Хорошо быть ничьим. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен.
Умерший в эмиграции публицист и поэт Илья Рубин писал:
Над нами небо – голубым горбом, За нами память – соляным столбом, Горит, объятый пламенем, Содом, Наш нелюбимый, наш родимый дом.Хорошо быть чужим. Умереть, зная, что «там» по тебе никто не заплачет. Дом сгорел, возвращаться некуда, разве только в тот вечный приют, где есть место для всех нас: в русскую литературу.
P.S. Лучшее в мире стихотворенье
Я перечитываю Строки Гусиного Пера и, как прежде, испытываю недоумение. Вдумываюсь в эту прелестную прозу (если это проза), наслаждаюсь музыкальным стихом (если это стихи) и не знаю, как их оценить. Старая, въевшаяся привычка искать за текстом нечто скрытое и подразумеваемое, нечто требующее истолкования, привычка «интепретации», комментаторский зуд – мешают мне воспринять эти маленькие шедевры просто и прямо, такими, каковы они есть.
Что это: пародия, стилизация, искусство водить читателя за нос, изящные пустячки, мнимая мудрость? Или подлинная мудрость жизни, преподнесённая в экзотически-шутовском наряде? Где, как сказал по другому поводу германский поэт, кончается ирония и начинается небо?
Я знаю, что мой друг, чьё кулинарное искусство не уступает словесному, на сей раз потчует меня необычным, непривычным блюдом. Щедрый вельможа и опасный царедворец, почтивший меня дружеским расположением, тот, с кем в былые дни мы прогуливались между красными, как огонь, колоннами Запретного Града, под жёлтыми крышами императорского дворца Гугун в Пекине, тот, с кем сидели за чашами с душистым напитком забвения в павильоне Цянь-циньгун, что означает «Соитие Неба и Земли», ныне удалился на покой в отдалённое поместье на восточной окраине мира, в заокеанских колониях Поднебесной. Там он предался любимому занятию. Там я впервые услышал его декламацию – то были Строки Гусиного Пера. Там был я представлен высокой гостье, неувядающей красавице и возлюбленной поэта, воспетой им под именем фрейлины И.
Сам же он скрылся под псевдонимом, изобразив себя изгнанником в отдалённой провинции, скромным бражником и нищим поэтом, мудрецом и отшельником, познавшим покой и волю, не тоскующим, если позволено будет цитировать, по «лишней паре яиц».
Я не пытаюсь более разгадывать тайну этих строк – читаю и перечитываю, и твержу наизусть:
…Лучшее в мире стихотворенье Накорябала веткой ива На чистой глади Янцзы… …Два бамбуковых деревца. Отдохну между ними, Вспоминая голенастых девчонок… …Лишняя пара яиц ни к чему однолюбу. Слепой стороной не обходит говно. Дереву нечего посоветовать лесорубу. Самурай не обмочит в похлёбке Рукав кимоно…Мюнхен, июль 2010
Сказ в творчестве Юза Алешковского
Присцилла Майер
Все оригинальные писатели сталкиваются с непониманием – Юз Алешковский в их числе. Создавая новый язык в каждой из своих книг, некоторых он отталкивает тем, что употребляет «непечатные» слова, тогда как другие, Иосиф Бродский, например, провозглашают его великим мастером русского языка. Разногласия, пожалуй, проистекают из того, что присутствию «матерщины» в его текстах придается слишком большое значение. А ведь если обратиться к русской литературной традиции, окажется, что он пишет на те же темы, что и лучшие писатели России, и пользуется приемом сказа, как это делали Лесков, Зощенко и Шварц.
Для Алешковского важен разговорный язык, а мат, как и воровской жаргон, – это всего лишь наиболее эмоционально окрашенные его разновидности. Любая литературная традиция определяется, в той или иной степени, соотношением «высокого» и «низкого» в ее лексике. В России разница между нормативным литературным языком образованной части общества и различными группами разговорного языка, включая диалекты и профессиональный жаргон, заметно стерлась в эпоху возросшего социального угнетения. Языком массы (массовой культуры) стал язык журналистских клише. Именно в нем обрела опору идеологически обусловленная советская культура.
Искусственная и потому бессодержательная литература социалистического реализма вкупе со средствами массовой пропаганды непоправимо изуродовали печатное слово. Когда после смерти Сталина снова стало возможно говорить в литературе собственным голосом, оказалось, что советские писатели попали в ситуацию языкового застоя: нескомпрометированного русского языка в их распоряжении просто не осталось. Нужен был новый, независимый язык. И многие серьезные советские писатели в своих попытках воссоздания подлинной национальной литературы стали обращаться к разговорной речи: деревенская проза ввела в литературу говор неграмотных крестьян, юношеская проза – молодежный сленг, лагерная проза – смесь элементов уголовной и «низкой» лагерной речи, отличающейся резкостью, непристойностью и лаконизмом. Фазиль Искандер, рисуя простых жителей Абхазии, увидел советскую жизнь в ее комической ипостаси – в устах пастухов расхожие советские клише звучат особенно нелепо.
Именно этот диссонанс между казенным языком и человеческой речью является формообразующим фактором в книгах Алешковского. Каждое его произведение тяготеет к устному рассказу. И оказывается при ближайшем рассмотрении, что такой рассказ-монолог – это всегда спор с советской идеологией, чуждой нравственному и философскому пафосу русской литературы. Тонко используя прием сказа, Алешковский дает открытое словесное выражение непрекращающегося спора с властью, который ведут лучшие писатели России.
Сюжеты у Алешковского, как правило, анекдотичны, в основе рассказа-монолога лежит какой-то невероятный случай. Кульминацию образуют не события, а столкновение лексики из разных стилей в пространстве рассказа, смысл которого – это обнажение конфликта между голосами. Например, в финале рассказа «Маскировка» (1980) герой, помещенный в сумасшедший дом, вправду сходит с ума, когда понимает, что всю жизнь жил обманутым и что его преданность режиму – это чудовищная ошибка. Рассказ завершается бредовой тирадой, где в речь алкоголика вплетены советские лозунги и пародии на обрывки реклам: «Ой, молчу. Не надо звать санитаров! Молчу. Но я скажу еще всего лишь одно слово: Люди! Не грейте на костре портвейна! Люди! Ешьте тресковое филе! Оно вкусно и питательно! Долой «Солнцедар»! Ша-а-ай-бу!»
Монолог героя у Алешковского, если пользоваться терминологией Бахтина, представляет собой на самом деле непрерывный диалог с вездесущим Оппонентом, именуемым в народе «Софья Власьевна» (то есть советская власть). Модель Бахтина, указывавшего на существующую в эпосе дистанцию между повествованием и читателем, можно использовать для описания официозной советской идеологии. И когда герои Алешковского ниспровергают эпические нормы, это – явление той же природы, что и сократические диалоги или раблезианский бунт против средневекового мировоззрения, как он трактуется у Бахтина. Герой разговаривающий служит антитезой герою эпическому. У Алешковского рассказчик – это преступник и (или) сумасшедший. Он создан языковыми средствами – игрой разных форм живой разговорной речи с включением пародированных официозных оборотов, что образует сложную комбинацию стилей, и представляет собой карнавализованный персонаж, средствами стилистического «снижения» и смеха разрушающий страх и пиетет, рожденные эпической дистанцией.
Герой Алешковского, произносящий монолог, всегда шизофреничен, у него в душе, как у Голядкина из «Двойника» Достоевского, звучит одновременно и подлый голос Оппонента. Герой изо всех сил старается разъединить эти два препирающихся внутренних голоса, найти свое собственное чувство правды, свое самоощущение, очистить свое сознание от советской «софистики». Официозное сознание само по себе тоже шизофренично, поскольку имеет дело с двойственной (истинной/ложной) реальностью, но тут за двуличием стоит глубокий цинизм, поэтому драматического эффекта не создается. Голоса, присущие герою и Оппоненту, а также чужой голос, усвоенный героем, аранжируются Алешковским в форме вариаций на одну тему – разрушение личности средствами языка в советском государстве.
Герой романа «Кенгуру» (1981), Фан Фаныч, рассказывает свою историю дружку Коле, который фигурирует лишь как невидимый зритель. Наличие слушателя, конечно, служит формальной мотивацией для монологической формы повествования, но, кроме того, Коля – верный друг, единственный из друзей Фан Фаныча, кто не предал его на допросе, и потому воплощающий собой душевную чистоту. Фан Фаныч же – мошенник, человек с множеством имен и лиц. С самого начала в романе у него есть антагонист, агент КГБ Кидалло, который уже десять лет «выдерживает» его, приберегая для особо важного дела. Он заставляет Фан Фаныча сочинять сценарий своего предстоящего показательного судебного процесса, т. е. придумывать для себя образ государственного преступника (само преступление, понятно, значения не имеет), потому что так надо КГБ.
Насколько этот мотив характерен для советской психологии, можно видеть в сцене демонстрации фильма, рассказывающего о том, как Фан Фаныч изнасиловал в московском зоопарке кенгуру Джемму: «Я заметил, что начинаю во время этой картины болеть за чекистов ‹…› я начал именно желать ‹…› чтобы Фан Фаныча скорей, падлу такую, схватили и чтобы не ушел он, паразитина, от возмездия! ‹…› Я взволнованно привстаю, когда берут в ресторане «Арагви», прямо из танго ‹…› но это опять, к сожалению, оказываюсь не я». Верный друг Коля – с одной стороны и Кидалло – с другой воплощают две противоборствующие силы, истины и лжи, которые переплетаются в сознании Фан Фаныча.
В романе «Рука» герой по прозвищу Рука обращается с речью к одному из своих врагов – важному чиновнику Гурову. Рука сделался следователем КГБ, чтобы отомстить членам карательного отряда, которые во время кампании по борьбе с кулаками убили его родителей. Герой принимает внешний облик Оппонента, становясь сотрудником КГБ, но при этом старается сохранить верность своей изначальной идее. Такая противоестественная раздвоенность сводит его с ума. Полюс чистой мотивации представлен голосами убитых родителей, но все кончается тем, что они заклинают своего сына отказаться от кровавой мести, да только уже поздно: он стал одержимым и так же кровожаден, как и те, кому он мстит.
В «Синеньком скромном платочке» (1982) шизофрения и диалог с Оппонентом выражены открыто, прямым текстом: герой пишет из психиатрической клиники письмо Леониду Ильичу Брежневу, умоляя, чтобы тот вернул ему имя и цельность. Раздвоение личности выражено буквально: левая нога пишущего похоронена в могиле Неизвестного солдата, с которым они, оказывается, были на фронте корешами, – он пал смертью храбрых, находясь в траншее бок о бок с автором письма, и тот, дабы избавиться от своего предосудительного происхождения, обменялся с убитым солдатскими жетонами. В результате Неизвестный похоронен под его именем, а он взял имя покойного друга и стал зваться Леонидом Ильичом Байкиным. Присвоенное имя связывает героя с официальными сферами («Леонид Ильич Брежнев» плюс «байка», т. е. вранье), да еще ему досталась чужая слава как Неизвестному солдату. И Петр Вдовушкин (так зовут на самом деле автора письма), он же – Байкин, пытается исправить положение. А вот два его соседа по палате смирились и окончательно уступили свою индивидуальность официальной личине: один стал Лениным, другой – Марксом.
И, наконец, в сборнике под названием «Книга последних слов» голоса, участвующие в диалоге, впервые оказываются четко разделенными. Здесь каждую новеллу предваряет описание реального судебного случая, взятого из советского учебника по криминалистике. Показания преступника опровергают обвинение. Немудрящим разговорным языком простодушных обывателей, замешенным на стереотипной советской фразеологии, излагаются истинные события, приведшие к преступлению, в котором обвиняется подсудимый. И получается, что одно и то же событие рассказывается как бы на двух разных языках: сумасшедшей официальной логике противопоставляется обыденная наивная правда индивидуумов, оказавшихся беспомощными жертвами абсурдного официального мира, которому они, по мере своего разумения, пытаются противостоять.
Алешковский демонстрирует, как средствами языка можно и неузнаваемо изменить, и наглядно выявить правду. Доказывая, что бюрократический язык и логика, им порожденная, неизбежно приводят к безумию, Алешковский в качестве мерила естественности использует поведение животных – их ведь не совратить словесными уловками и умозрительными построениями. Так, жертва изнасилования кенгуру Джемма служит своего рода символом всех безвинных мучеников Сталина, недаром Фан Фаныч несколько раз произносит тост за зверей в зоопарке как своих товарищей по заключению. От Гурова в «Руке» убегают псы, не стерпев его извращенного цинизма. Животный инстинкт не только безошибочно подсказывает путь к самосохранению – благодаря ему звери оказываются образцом преданности и любви: верный пес спас Байкина, т. е. Вдовушкина, от гибели на фронте.
Люди доведены духовной и материальной нищетой советской жизни до такой степени деградации, что вынуждены в поисках утраченного психического здоровья возвращаться к своим биологическим основам. Универсальные природные потребности – инстинкт пола и самосохранения – являются для Алешковского как бы мерилом правды. А там, где нет правды, происходит извращение самих природных инстинктов: Рука сжигает свою первую жертву во время оргии начальников, среди обжорства и разврата.
Наши тела с их естественными потребностями честны; они говорят нам правду, как учит о том мэтр Рабле.
Ноготь на мизинце ноги спасает Фан Фаныча от безумия, когда Кидалло пробует ему внушить, что будто бы он народился вне времени, в космическом полете – верный ноготь знай себе растет. Все телесные функции являются мерой человечности. Нога Сталина оказывается единственным членом Партии (Алешковский использует здесь игру значений слова «член» – политического и физиологического), у которого достало храбрости сказать вождю правду.
В «Синеньком скромном платочке» опять же нога приравнивается к совести: Петр Вдовушкин испытывает угрызения из-за того, что предал свою ногу – отдал ее на погребение в чужой могиле и отрекся от нее, спасаясь от нежелательных ассоциаций с врагами народа.
Открытое обсуждение сексуальных материй в советской печати никогда не допускалось, и для Алешковского это – еще одна ложь, поддерживаемая русской письменной традицией. Запрет на элементы языка, связанные с сексуальной природой человека, аналогичен лишению его права на еду – что Алешковский изо всех советских тягот воспринимает особенно болезненно. Сексуальные ощущения служат в текстах Алешковского индикатором глубинного душевного состояния героев. В «Николае Николаевиче» сексуальность Николая используется во имя советской науки – он сдает сперму для одной исследовательской лаборатории. Он – советский Дон Кихот, чье опозоренное копье направляется не против, а в защиту материалистических ветряных мельниц. Зародыш, зачатый в пробирке, погибает, что подтверждает мнение одного из профессоров, что «вся советская наука – суходрочка», а «марксизм-ленинизм – это очевидный онанизм». Но половая функция Николая находится в прямой зависимости от его психики, и потому он чутко реагирует на художественные качества предлагаемой ему литературы.
Сходную роль выполняет и член Фан Фаныча в «Кенгуру». Фан Фаныч не способен пользоваться услугами дам, которых присылает к нему в камеру Кидалло, вполне, ка залось бы, привлекательных с виду, – его сексуальность зависит от морального неприятия всего того, что они для него знаменуют.
Руку карательный отряд лишил мужской способности, и эта утрата, за которую он так одержимо мстит, приводит его вообще к потере человеческого облика.
Алешковский, стремясь возвратиться хотя бы к самой элементарной духовной цельности, использует как бы сырой язык, еще не подвергшийся обработке, не сведенный к формуле и не получивший признания правящих сил. Это – разговорный язык. Главными героями, как правило, он избирает людей необразованных, так как его цель – представить совершенно свежий, не испорченный книжной наукой взгляд на мир. Расстояние от уголовника до «образованного» забавно проявляется в «Кенгуру», где «международный урка» Фан Фаныч оказывается в среде узников лагеря – старых большевиков.
«…Не дождетесь, бляди, нашего поражения, сколько бы вы ни тешили себя на нарах! Расстановка сил на международной арене снова в нашу, а не в вашу пользу! Поняли, кадетские и эсерские рожи? У нас бомба водородная появилась! Съели, гаденыши? Ты бы посмотрел, Коля, что стало при этом известии твориться в бараке! Эти зачуханные, опухшие, седые, худые, забитые, голодные, бледные зэки заплясали от радости, начали трясти друг другу руки, обниматься, целоваться, а один, жилистый такой, с бородкой и в пенсне, слезы вытирает и говорит Дзюбе: – Да поймите вы, наконец, гражданин надзиратель, что у вас и у нас одна конечная цель – мировая коммуна, и если мы разыгрываем на самодельных международных аренах классовые бои, то это исключительно из желания, чтобы некоторые наши тактические и стратегические задумки стали орудием в борьбе пролетариата против фашизма и капитала».
Ругательная речь «здоровенного хохла» Дзюбы, лагерного охранника, и болтливость Фан Фаныча контрастно противопоставлены интеллигентному разговору заключенного Чернышевского, начетчика-марксиста, как ни в чем не бывало продолжающего счастливо существовать в окаменевшем мире основополагающих трудов, хоть теперь и за колючей проволокой концентрационного лагеря, который эти же труды и породили.
Чтобы взорвать сложные языковые конструкции, на протяжении полустолетия властвовавшие в стране, нужен крепкий язык, и некоторые герои Алешковского употребляют в речи мат. Для Алешковского табуированные матерные выражения служат святой цели. Русский литературовед-структуралист Борис Успенский показал, что, в ряде случаев восходящий к язычеству, мат функционально эквивалентен молитве. Он считался даже действеннее, чем молитва, когда требовалась защита от всевозможных злых духов, особенно от дьявола. Так что это как бы очистительное заклинание, освежающее гнилой язык, на котором поневоле говорит каждый советский гражданин. Матерщина как антитеза фальшивому казенному языку – это для советской литературы в ее лучших образцах ходовой аргумент против диалектического материализма. А полюсами в языке героев Алешковского являются, с одной стороны, свинцовый бюрократический жаргон, а с другой – библейский распев, в котором фразы часто вводятся союзом «ибо», образуя интонационный контрапункт.
В «Кенгуру» философские рассуждения всегда адресуются Коле: «Много есть в жизни такого, Коля, что мне теперь ясно. Но как понимать этот немой смех над всем, что кажется особенно жутким в нашем существовании? Что он означает? Может быть, то, что внутри нас имеется Душа, которую не смог изничтожить дьявол своим адским оружием – отчаянием?»
Другая крайность – пародирование лозунгов: «Руки прочь от исторической необходимости, ублюдки международной арены!». Пародийный эффект создается за счет столкновения ложной абстракции – «историческая необходимость» – и реального, практического призыва – «руки прочь». Еще один прием, которым пользуется Алешковский для нагнетания бессмыслицы, состоит в том, что лозунги громоздятся один на другой, утрачивая при этом всякий смысл, превращаясь в нечто нелепое: «‹…› в случае неизбежного давления на светоч коммунизма и оплот безопасности во всем мире для производства бомб и ракет, и солидарности с врагами США ‹…›».
Центральная тема творчества Алешковского – сохранение духовной чистоты индивидуума, который способен противостоять клише своих угнетателей благодаря тому, что хорошо знает жизнь, мир, и прежде всего – собственное тело. Эта тема связывает творчество Алешковского с основным направлением западноевропейской литературы XIX-XX вв. Его романы – психологические, так как исследуют расколотое сознание целого народа, утратившего способность различать очевидную ложь; но они и политические, поскольку открыто и яростно направлены против советской власти; а также метафизические, ведь в них описана борьба Добра и Зла.
В своем нравственном и философском анализе советской ситуации Алешковский идет от языка, он показывает, какую важную роль играет язык в судьбе человека.
Несколько русских писателей последнего времени – Венедикт Ерофеев, Фазиль Искандер, Эдуард Лимонов пошли по этому же пути, используя контрасты разных языковых уровней в спектре между языком «естественных» людей Абхазии и полуграмотным русским Нью-Йорка.
В лице Юза Алешковского русская литературная традиция остается верной себе и отстаивает прежние ценности с той же страстью, с тем же воистину религиозным пафосом, что и во времена Достоевского и Толстого.
«И тогда я начал носить повязку на глазах, чтобы оскверненные слова моего великого и могучего языка не кололи мне глаза, чтобы они не оскорбляли моего зрения и не плевали мне в сердце и в душу».
Русская литература 20 века: исследования американских ученых, Санкт-Петербург 1993, стр.526-535 (Перевод М.Бернштейн и М.Штейнберг)
Песня о Сталине: тюремные песни и ирония
Cюзанна Фуссо
Осип Мандельштам дал, наверное, лучшее определение оригинальности в поэзии: «Поэзия дышит и ртом и носом, и воспоминанием и изобретением».
(1) «Песня о Сталине» Юза Алешковского, написанная в 1959 году, остается бессмертной благодаря именно этому счастливому сочетанию традиции и новаторства. По ряду всем известных исторических причин, «жалобы узника» широко представлены как жанр в русской песне. В «Песне о Сталине» можно заметить все основные темы и приёмы этого жанра. Алешковский красноречиво продолжает главнейшие темы: физических страданий от тяжёлого принудительного труда в страшном климате и нравственных страданий невинно осуждённого. Песня Алешковского кончается словами зека не сомневающегося в том, что он не зря пожертвовал своей жизнью на благо родины:
Я верю: будет чугуна и стали На душу населения вполне. (2)Мотив неправедного обогащения за счёт страждущих крестьян и рабочих, рефреном повторяется в разных
вариантах в дореволюционных тюремных песнях:
Всё, чем держатся их троны Дело рабочей руки…(Л.П. Радин «Смело, товарищи, в ногу!»
1896 (?) 1897)
За тяжким трудом, в доле вечного рабства, Народ угнетённый вам копит богатства…(Г.М. Кржижановский
«Беснуйтесь, тираны»,
1898) (3)
Самое удивительное в «Песне о Сталине» это «забота» заключённого о вожде, который тоже сидит в своей крепости, хотя условия их заключения подчёркнуто разные:
Вам тяжелей, вы обо всех на свете Заботитесь в ночной тоскливый час, Шагаете в кремлёвском кабинете, Дымите трубкой, не смыкая глаз. И мы нелёгкий крест несём задаром Морозом дымным и тоске дождей, Мы, как деревья, валимся на нары, Не ведая бессонницы вождей.Вспомним известную дореволюционную песню, в которой заключённый думает о царе, сидящем в своём дворце:
А деспот пирует в роскошном дворце, Тревогу вином заливая, Но грозные буквы давно на стене Чертит уж рука роковая!(Неизв. автор «Вы жертвою пали
в борьбе роковой»,
1870-ые г.)
И то же в другой:
А хозяин сему дому (Александровский централ), Здесь и сроду не бывал. Он живёт в больших палатах, И гуляет, и поёт, Здесь же в сереньких халатах Дохнет в карцере народ.(Неизв. автор «Далеко, в стране Иркутской»,
1906) (4)
Несомненно, что именно эти отголоски и повторения давно знакомых мотивов придают «Песне о Сталине» качество народной, не сочинённой каким-то одним автором, но кочующей от исполнителя к исполнителю в устной народной традиции.
Тем не менее, у песни есть автор, к тому же весьма искусно владеющий выразительными возможностями поэтической словесности. Изысканность мастерства Алешковского состоит в том, что в песню заключённого он внёс современное восприятие человека середины 20-го века. Его новаторство заключается в двух главных и взаимосвязанных компонентах: юморе и иронии, почти совсем отсутствующих в дореволюционных тюремных песнях. Они полны серьёзного негодующего пафоса, речь в них идёт о жизни и смерти, а о таких делах не шутят. В песне Алешковского напротив – её серьёзность заключается как раз в её несерьёзности. Вместо того, чтобы негодовать по поводу несправедливости своего заключения, герой Алешковского даёт почувствовать эту несправедливость, якобы покорно воспринимая все ужасы происходящего:
В чужих грехах мы сходу сознавались, Этапом шли навстречу злой судьбе, Но верили вам так, товарищ Сталин, Как, может быть, не верили себе.Юмор и ирония совершенно очевидны в восхвалении сталинской мудрости, его учёных достижений, его героизма в борьбе с царизмом, в сочувствии его легендарной бессонице, вызванной заботами о родине. Но, конечно, самым сильным и самым смешным, одновременно грустным, у Алешковского является его приём использования советских штампов в свете индивидуального опыта личности. Он снова и снова демонстрирует нам как советские абстракции и клише воспринимаются отдельным человеком. Семь из одиннадцати строф песни, опубликованной в 1996-ом году в «Собрании сочинений» Алешковского, являют нам примеры подобного приёма.
Во-первых, это, конечно, вызывающая ироничность обращения «товарищ» в первой строфе. Иллюзорность возможности такого обращения каждого простого советского гражданина к великому вождю как к «товарищу Сталину» моментально обнажает замечание заключённого, что в настоящее время у него один товарищ – серый волк. Расхожая фраза «обостренье классовой борьбы» становится ужасающе и отчётливо реальной в образе конвоиров, которые «словно псы, грубы». Революционным лозунгом газеты РСДП Ленин сделал слова «Из искры возгорится пламя», а у Алешковского эта вдохновляющая революцинеров «искра» превращается в костёр, обогревающий замерзнувших заключённых. Точно так же Алешковкий обращается с одной из любимых сталинских поговорок: «Лес рубят – щепки летят», – и её переносный смысл сразу же превращается в буквальный – исполненный исторической трагедии. У Алешковского рубка леса становится реальной деятельностью для заключённых строгого режима:
Вы снитесь нам, когда в партийной кепке И в кителе идёте на парад… Мы рубим лес по-сталински, а щепки – А щепки во все стороны летят.Такой поворот заставляет слушателя вернуться к метафорическому смыслу и грозной силе поговорки, когда «щепки» это уже не просто кусочки древесины, но человеческие жизни. Похожее отстранение совершается и с выражением «на душу населения» в последней строфе песни:
Дымите тыщу лет, товарищ Сталин! И пусть в тайге придётся сдохнуть мне, Я верю: будет чугуна и стали На душу населения вполне.Таким образом оправдывается приём Алешковского использовать метафору в буквальном смысле, потому что мы неизбежно начинаем воспринимать слово «душа» в его первоначальном смысле, а не в избитом выражении «на душу населения». Противопоставление мёртвой материи чугуна и стали человеческой душе, принесённой им в жертву, является великолепным концом песни, посвящёной именно этой теме.
В 1952-ом году, ещё до смерти Сталина и до своего освобождения, Алешковский написал «Песенку свободы», произведение намного более простое и прямолинейное, чем «Песня о Сталине». В ней герой жалуется на тяготы арестантской жизни: холод, голод, изнурительный труд. Он прочувствованно, хотя может быть и немного наивно, славит свободу:
Снова надо мною небо голубое, Снова вольным солнцем озарён, И смотрю сквозь слёзы на белую берёзу, И в поля российские влюблён. (5)Только в 1959-ом году, уже через несколько лет после освобождения из лагеря, Алешковский сумел трансформировать свой опыт, мастерски используя иронию и юмор, в произведение, которое нашло отзвук в людях по всему Советскому Союзу, известной части которых пришлось отсидеть свой срок.
Одна из лучших тюремных песен была написана аристократом, графом Алексеем Константиновичем Толстым. Описывая в своих «Колодниках» (1854) страдания каторжников, бредущих в цепях по пыльной дороге, он предугадал судьбу своей песни:
Что, братцы, затянемте песню, Забудем лихую беду! Уж видно такая невзгода Написана нам на роду! (6)И действительно, песня Толстого стала популярной среди заключённых и ссыльных, помогая им забыть об их невзгодах и бедах, исполняя ту самую функцию утешения и забвения, о которой в ней поётся. «Песня о Сталине» была создана через шесть лет после смерти Сталина, но она появилась в стране, которая тогда в ней нуждалась. Несмотря на то, что хрущёвский режим позволил людям, хотя бы на короткое время, попробовать осознать что же происходило с одной шестой частью суши в сталинскую эпоху, советские граждане всё ещё чувствовали себя своего рода заключёнными.
И хотя «Песня о Сталине» рассказывала им о человеческих страданиях, веками запечатлеваемых в стихах и песенных текстах, именно эта песня дошла и до зеков и до вольняшек, потому, что была воплощена в жизнь и сознание общества очень простыми современными художественными средствами, по иронии судьбы, а может быть самой поэзии, всегда кажущимися загадочно удивительными.
Перевод И. Алешковской Коннектикут,
2010
Молитва матерщинника
Александра Свиридова
– Сделай, пожалуйста, мне копию «Руру», – попросила я Алешковского однажды.
Юз сделал и прислал с изумительной дарственной:
«Жрице важнейшего изискусств от рулета Алешковского»…
Чтобы судить художника «по законам, им самим над собою признанным», как рекомендовал это делать А.С.Пушкин, Юзу Алешковскому нужен критик равного масштаба личности и мировосприятия. Таким мог бы быть Михаил Бахтин – единственный в российской словесности знаток непреложных законов, царящих в раблезианско-свифтовском мире. Увы – Бахтин не прочтет, и яркое карнавальное шествие персонажей Ю.Алешковского обречено на неполное понимание. Мои размышления над миром его героев – не более, чем попытка анализа произведений Ю.Алешковского с позиций благодарного читателя.
Деревенские Боги
В огромном ареале написанного Алешковским меня завораживает сочинение «Руру» – «Русская рулетка», поскольку в нем Юз явил миру образец невероятно целомудренной, глубоко религиозной литературы. Главным событием этого сочинения является представленная читателю новая форма контакта материального мира сущностей с миром тонким – надсущностным. И новизна эта состоит в сокращении дистанции, на которой прежде в российской словесности отстояли друг от друга Бог и Человек.
«Руру», опубликованная в девяностые годы XX века в российском журнале «Искусство кино», – это локальная история, явившая забытое классическое триединство – времени, места, действия. «Деревенская поэзия» – определил Алешковский «Руру» по жанру и атрибутировал сообразно.
В некой деревне, на самом ее отшибе посадил он пить классических троих: двух деревенских мужиков и одного городского, заезжего. «Сочинитель», назвал его Ю. Алешковский. К этим троим присоединится попозже четвертый, несколько нарушив гармонию и ритм триединства. Но ненадолго: один из стартовых трех – Федор – вскоре отойдет от стола, за которым останутся снова трое. Уснет в лопухах и, как обнаружится в развязке, – вечным сном. Такая простая сценическая площадка… Но простота обманчива, как и все в этой прозрачной поэтичной вещи. Сценическая площадка «Руру» обрамлена в виньетку причудливой геодетерминированности: посвящение, пролог-экспозиция, где дана маркировка местности, настораживает внимательного читателя откровенной казуистикой, и не напрасно… «Посвящается крестьянке Нью-Хемшира…», «… когда мы возвращались в Париж из Бургундии…» и «Вспоминаю свое пребывание в 1982 году в бывшей Смоленской губернии, под Ельней»… – дано в первых трех абзацах.
Первый акт драмы заявлен в прологе в виде фрагмента приватного письма. Он разыгрывается во Франции. Некая Ира «налопалась лягушек в Бургундии», и у нее случился жар как аллергическая реакция. Потом в Париже ей полегчало. На этом сообщении автор резко обрывает пролог буколики скупо взятым в скобки «Из письма». И следом за французским прологом – по прямой ассоциации – возникает российская деревня 1982 года. Трое пьющих без закуски на отшибе и – в кульминационной точке – русские лягушки, выловленные одним из алкашей и съеденные всеми тремя. Но это не все. Внутри ассоциативно возникшей матрешки из двух лягушек – французской и российской – возникает третья, глубинная, затаенная – прародительница двух последующих колен лягушек «Руру»: русская лягушка, выловленная в русской реке французским солдатом армии Наполеона в 1812 году!
Так формируется еще одно триединство: три лягушки, три поколения лягушек, три случая контакта двух культур и традиций – Франции и России – на уровне лягушек. Знакомое фантасмагорическое снижение патетического до комического, так присущее творчеству Алешковского в целом. Царить внутри композиции дано первой пралягушке 1812 года, т. к. именно она воспета в стихах: алкаш Федор сложит поэму о ней и только после «Оды лягушке» уснет и умрет, словно выполнив ниспосланное свыше поручение.
Такова внешняя – временная – граница «Руру»: причудливая история многообразного поедания лягушек в пространстве двух стран на протяжении двух веков, прелестная в своем изяществе и логике абсурда, когда невероятное плетение невинных случайностей выстраивается Алешковским (ли?) в стройную закономерность. Но не в сюжете дело… Гармонично выстроенная композиция – только башня, в которой развиваются события внутреннего свойства. События драматические, с трагической развязкой.
Один из героев – Степан, – деревенский сумасшедший по социальному статусу и мудрец в иерархии автора, вместе с участковым милиционером неожиданно для приблудившегося Сочинителя – лирического героя повести – сыграют в русскую рулетку. По всем правилам, доставшимся России уже от другой войны – во Вьетнаме, – где возникла «руру». Так линия наследования лягушек сменится генеалогией войн: от войны 1812 года с Наполеоном будет переброшен мостик к войне неизвестно с кем во Вьетнаме, и – дабы закрепить окончательно прозрачную апелляцию к надличностной социальной памяти, Ю. Алешковский введет еще одно географическое наименование: «Афганистан». Предъявит третью войну. И трех алкашей в российской деревне посадит пить не просто так, а на поминках: пришла похоронка на погибшего в Афганистане паренька из этой деревни на Смоленщине. Так в элегичный мирный пленер заданной буколики ворвется война. А дальше – подсядет к поминальному столу милиционер, достанет из кобуры пистолет… Кто-то предложит сыграть в «руру».
Первым в лоб себе выстрелит герой Степан и останется жив. Потом вложит дуло себе в рот милиционер и спустит курок… И тоже – чудом – останется жив. А умрет совсем другой человек, точнее – третий: поэт, сказитель баллады о ловле лягушек, сам ловец – Федор. Он не станет играть в «руру». Он встанет от стола с сивухой и пистолетом, отойдет, приляжет на травку неподалеку и умрет тихо сам по себе – без выстрелов – во сне. Так ли уж «сам»?
На уровне метафизики его физическая смерть есть прямое следствие всех прозвучавших выстрелов – от 1812 года начиная, и сам умерший – по энергетике – окажется жертвой: то ли убитым, то ли самоубийцей. Ибо энергия насилия, разлитого в мире, коснется чела всех участников застолья, но сконцентрируется и закрепится навечно на челе только одного из них.
Вся эта причудливая история разыграется на глазах случайно забредшего в российскую деревню Сочинителя и всплывет в его памяти многие годы спустя в далекой от Смоленщины Франции…
История завораживает обилием прозрачных культурологических ассоциаций. И только когда осваиваешь целиком это гармонично выстроенное произведение, открывается, что не в лягушках дело и даже не в выстрелах русской рулетки… Дело в другом. Сочинителю – лирическому герою, т. е. самому Юзу Алешковскому, с неожиданной ясностью, как Менделееву во сне – периодическая система, – открывается простая и внятная картина божественного промыслительного мироустройства. Открывается через механизм примитивной американской головоломки – игры в пазлы, с правилами которой писатель знакомит читателя. Алешковский подробно и ненавязчиво описывает игру, в которой из мелких кусочков – фрагментов разрезанной изначально цельной картины – складывается эта самая картина. И Господь Бог открывается Сочинителю персонажем, складывающим картину своего мира, в которой сам Сочинитель – и герой и автор – не более чем фрагмент Божественного «пазла».
Именно это открытие в современной русской литературе представляется мне событийным. Прежде всего потому, что писатель нашел – обнаружил и предъявил – «действующую модель» демиургова строительства. Увидел себя – маленький фрагмент – с точки зрения Бога. И тем самым приоткрыл вектор вертикали взаимоконтакта Человек – Бог. Сочинитель, оставаясь на протяжении всего повествования самым неярким, непроявленным персонажем, лишенным индивидуальных черт и особенностей, самым неглавным и неколоритным, – выходит на авансцену по уровню собственной внутренней высоты. На протяжении всего сюжета он только смотрел и слушал. Его остраненность, дистанцированность от других персонажей располагалась в горизонтальной плоскости: Сочинитель был не над своими случайными собутыльниками, а вне, особняком: равный среди равных по одному – главному на момент прозрения – параметру: как пьющий среди пьющих.
Неожиданно вектор контакта сместился, и обнаружилось размежевание: Сочинитель оказался городским – среди деревенских, уезжающим – среди остающихся, соглядатаем, свидетелем – среди покушающихся на убийство себя и – самое главное – посредником между людьми и Богом. Страшно выговорить, но – функционально – Сочинитель Алешковского выступил невольно в роли священника, принимающего исповедь. Не он сам, а другие герои по- ставили его выше себя и ситуации, в которую они попали, играя в «руру». И одному Сочинителю по воле Божией открылось двойное зрение: способность одномоментно узреть – по горизонтали – деревенских мужиков и их быт, и – по вертикали – задрав голову повыше в небо – прозреть Божий умысел и промысел.
Роль свидетеля, которому завещают: «Запомни нас такими», отвели Сочинителю герои. Роль интерпретатора, переводчика, ибо им самим до Бога далеко. И Сочинитель вступил в контакт с Богом, минуя посредников – напрямую: вне храма, вне попов, без третьих лиц. И в этот момент наивысшего подъема, на вершине прозрения Сочинителя происходит следующая невероятная вещь: Сочинитель обнаруживает собственное уравнивание с деревенскими мужиками, которых, казалось бы, он априорно оставил внизу. Он сам оказывается внизу – фрагментом среди фрагментов, деталью среди деталей в непостижимом «пазле» Бога. В момент, когда ему открывается высота Верха, именно с этой – Божественной – высоты Сочинитель и находит самого себя Внизу.
И это уравнивание себя с деревенскими алкашами, уменьшение себя происходит без самоуничижения. Без неизменного опостылевшего «Смирись, гордый человек!». Напротив, со всей гордыней и инакостью, единственно за счет установления точного масштаба в системе координат Верх – Низ, Сочинитель становится маленькой деталью, но – исключительно в контексте пасьянса Бога. И в момент, когда Сочинитель достигает крайней степени самоуменьшения, происходит следующий перевертыш и открывается вещь, абсолютно крамольная: это удивительное произведение, завораживающее ритмом размеренного верлибра – редкий образец стихотворения в прозе! – не имеет вовсе всех представленных персонажей! Каждый из трех участников застолья с лягушками в свою очередь оказывается только фрагментом самого Сочинителя. А сам Сочинитель в этот момент становится равным Богу, ибо – Творец. По образу и подобию Божию. И это в его персональном «пазле» уживаются и сосуществуют и пьяница поэт, и психопат-мудрец, и участковый с пистолетом. Но ни одним из них, взятым в отдельности, Сочинитель не исчерпывается. Эта троица сильна своим триединством только внутри Сочинителя и, как положено Троице, – нераздельна и неслиянна… Все эти трое – и есть он сам, Сочинитель. Из створок его складнем раскрывшейся души вышли Трое и сели за стол, накрытый им на отшибе смоленской или нью-хэмпширской деревни… Напились, стрелялись, один даже умер… И все это случилось внутри одного Человека-Творца. Так обнаруживается, сколь велик Сочинитель, что умещаются в нем многие его персонажи, но и он – Сочинитель – мал в масштабе Бога.
Вектор, направленный вверх, привычно обнаружил Бога, и огромный внутренний мир Сочинителя – со всеми поэтами, пьяницами, участковыми и лягушками, с наполеоновскими солдатами, Смоленщиной и Парижем, – весь микрокосм автора стал деталью в игре Бога, компонентом Его макрокосма. Художественный факт того, что Сочинитель уменьшился, – ситуация достаточно новая. Прежде уменьшались герои произведений либо – погружались в другой контекст, контекст другого масштаба. Как Гулливер Джонатана Свифта – оставаясь неизменным, перемещался в мир Великанов и познавал участь лилипута. Но сам сочинитель – Свифт – оставался собой.
Юз Алешковский впервые уменьшил автора. И такому – новому – автору открылся достаточно новый Бог. Бог-творец – это не ново, но Бог-ребенок, играющий в мир, складывающий цветную картинку мира из мелких деталей, – это дерзкое открытие Алешковского. Бог, не знающий конца своего замысла! Бог – взятый в процессе созидания мира. И в «Руру» не дождаться того момента, когда Бог поглядит на то, что сотворил, и скажет, что это «хорошо есть»… Бог Алешковского лишился статики. И мир, творимый таким Богом, открылся незавершенным. Но сокращение дистанции между человеком и Богом оказалось обусловлено еще и позицией самого Бога: не только Сочинитель воспарил в своем озарении, но и Бог Алешковского сошел с небес ниже обычного. Это не Бог античной Греции, сошедший на землю, а Бог, проходящий над землей, словно авиатор на бреющем полете, так, что можно разглядеть, чем он, Бог, занят.
Юзу Алешковскому удалось сократить дистанцию до невиданной короткости. И сделано это без фамильярности и богохульства, без богостроительства и богоискательства. На смену этим традиционным для русской литературы «упражнениям» пришло свободное богопостижение. И Бог открылся – как должно, накоротке. И гармонично выстроенное сочинение оказалось не более чем молитвой, что и потребовало от автора белого стиха. «Собирай нас почаще, Господи!» – ключевая фраза сочинения. Я не знаю аналогов такого диалога накоротке в российской словесности, хоть и приходит на память смелая попытка европейца Бекета установить новый тип контакта – «В ожидании Годо». Но Годо Бекета не пришел. Думаю, потому, что сценический вектор ожидания героев был устремлен по горизонтали: они смотрели на дорогу, ожидая, что Он явится к месту встречи тем же путем, каким пришли туда герои пьесы. Алешковский же поднял голову вверх: и к Богу, и к себе, пришедшему от Бога.
В этой смене положения вектора ожидания и есть тайна обаяния открытия Алешковского. И это – дань новому времени. Ибо жить и писать в России ХХ века и делать вид, что не существует страшной молитвы тридцать седьмого года, засвидетельствованной и приведенной в повести кинописателей Фрида и Дунского: «Господи, ебаный мой Боже, если ты все это видишь, что же ты не стреляешь?», вырвавшейся из уст заключенного в момент лагерных испытаний, – нельзя. Делать вид, что такого – неканонического, внехрамового контакта не было, – ханжество. Все было. Был на Руси 1917 год, была и есть власть Антихриста. Были богохульство и поругание, осквернялись храмы, и творилось великое зло. Связь с Богом нарушилась, и ищет Россия пути к ее восстановлению и не находит: не дает Бог покаяния грешникам. Но потребность в Боге мучает всех: мужиков и баб, пьющих и трезвенников, поэтов и прозаиков, зэков и участковых. И Юз Алешковский приподнимает завесу тайны: делится личным опытом, как найти этот путь – путь постижения Бога, как обратиться к Богу, как увидеть его и как разглядеть себя – маленького – в огромном Божьем мире.
Бог творил человека по образу и подобию своему, и именно Творец в душе Алешковского сотворил новую модель взаимодействия с Богом на короткой дистанции: без храма, священника, без причастия и святой воды. «Бог есть!» – радостно обнаружил пьющий сивуху лирический герой и поделился своим открытием с читателем. Поразительная по своей простоте, плодотворности и доступности поставленная и решенная задача. Все, что осталось привычного у Бога Алешковского, – то, что Он – вверху, и то, что Он творящ. Новое – то, в каких экстремальных условиях открывается Бог: на краю. Функция Бога в современном мире – это функция лекаря, к которому бегут опрометью, когда остальные припарки не помогли. Такое функциональное отношение к Богу снято Алешковским: он ничего у Бога не просит – никаких милостей для себя. «Собирай нас почаще» – это не просьба, а некое пожелание Богу, то есть – складывай, Господи, свой «пазл» почаще, так, чтобы мы оказались друг к другу поближе – на любом краю любой деревни, сообщай нам почаще, что Ты – есть, что мы для Тебя – есть и имеем хоть какой-то, но смысл. Самая смиренная молитва с самой невинной просьбой – об участии: поставь нас на место, Господи! Яви свой умысел и промысел. Все в воле Твоей в нашей «руру»: и выстрел, и осечка…
Юз Алешковский, словно истинный сын, сдал этим произведением экзамен Отцу на право родства. И выдержал экзамен с честью. Что делает «Руру», в отличие от других – мирских – произведений Алешковского, повестью религиозной и храмовой. Где в качестве храма выступает сама природа, а Сочинитель Алешковского растворяется в ней, как растворен в ней Бог, тем самым снова и снова сокращая дистанцию.
Городские Бесы.
Минуло четверть века, как Юза Алешковского нет в городе Москве и в Стране Советов. Он изъял себя из Москвы и России, но никогда не пытался изъять Москву и Россию из себя. Сохранил ее настолько, что сегодня в Алешковском Москвы больше, чем в самой Москве: один из его последних романов, «Перстень в футляре», навеки запечатлел бассейн «Москва», сооруженный на месте храма Христа Спасителя, а сама Москва уже благополучно уничтожила бассейн и служит обедню в храме-«ремейке», сооруженном на месте бассейна «Москва».
«Рождественский роман», уточнил Ю. Алешковский в подзаголовке, указывая на то, что речь в романе пойдет о гоголевском часе: ночи перед Рождеством и события закрутятся и закружатся в белой московской метели конца девяностых XX века. В очередной раз мастер, снискавший славу хулигана, ошеломляет внимательного читателя религиозной литературой. И если в «деревенской поэзии» – «Руру» – Ю. Алешковский явил образец диалога накоротке с Создателем, то в городском – «московском» – романе «Перстень в футляре» автор знакомит мир с бесами современной Москвы.
Сюжет романа прост: в рождественскую ночь пьяный москвич, герой романа, попадает в ряд передряг. Едва не гибнет, но к рассвету еле живой добирается до храма, где находит спасение. Это – внешнее. Внутренний сюжет – история ста- новления парадоксального характера главного героя – псевдофилософа Гелия. Классово происходящий из «пролетарской буржуазии» – выкормыш благополучной партийной среды и семьи, – половозрелым юношей он встречается в бассейне «Москва» с девушкой Ветой, на которой намерен жениться. Именно здесь – в бассейне – Вета читает ему стихотворение Б. Пастернака, где есть такие строки:
«О Боже, волнения слезы мешают мне видеть тебя… Кончаясь в больничной постели, Я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, И прячешь, как перстень, в футляр».Из стихотворения следует, что Бог – есть, а Гелий – как и всякий другой человек – «изделье» Бога. В ответ на это известие Гелием внезапно овладевает неистовый гнев. Он отрицает свое божественное происхождение, на чем роман с Ветой заканчивается. А причиной гнева оказываются маленькие бесы, в большом количестве плавающие в воде бассейна «Москва» – в сущности, луже, образовавшейся на месте взорванного в тридцатые годы храма Христа Спасителя.
Бесы бассейна «Москва» вселяются в героя-атеиста и москвича, подчиняя его волю себе… Далее проходит жизнь героя до следующего приступа бесовского гнева, который овладевает им много лет спустя в ночь перед Рождеством и едва не приводит его к гибели. Но – Бог милостив, и Гелий спасен: к рассвету он оказывается в храме, где случайно обнаруживает, что в гробу, ожидая отпевания, покоится его первая любовь – та самая Вета…
Такой вот «московский роман» родился у русского писателя в Америке.
Одно из открытий романа – герой: современный мужчина с фантасмагорическим именем Гелий Револьверович, с не менее невероятной профессией – АТЕИСТ. Автор создает образ «нового человека»: продукта эпохи, среды. Новый по всем параметрам и, тем не менее, узнаваемый в каждой подробности собирательный образ выходца из партийной элиты. Трагичный и фарсовый в равной степени. Обремененный всеми условностями класса, к которому принадлежит. Это сочетание новизны и узнаваемости одномоментно строится по принципу, некогда определенному Кантом в отношении к сознанию малообразованных, но нахватанных молодых людей: принципу «лоскутного одеяла». Каждый лоскуток – узнаваем, но такого одеяла из лоскутов никто не потрудился сложить до Алешковского.
Автор прослеживает подробности происхождения своего героя. Восстанавливает его родословную, процесс формирования и становления как продукта «эпохи развитого социализма», определенной социальной культуры. Уточняет детали и подробности его образования, и вся кропотливая работа сводится к тому, чтобы по достижении образом некой «критической массы» взорвать его, чтоб разнесло героя на мелкие куски – «лоскуты» Канта, – каждый из которых был бы верно опознан читателем.
Загадочный тип «советского человека» впервые отслежен с педантизмом и скрупулезностью. С прозорливой беспощадностью по отношению к выкормышам ненавистного советского режима Алешковский выходит на уровень футурологической антиутопии и создает колоритный образ биоробота с запрограммированными мышлением и сознанием. Программа, заложенная в черепную коробку героя Алешковского, сформирована была в 1917 году человеконенавистниками, прорвавшимися к власти, – в кровавом бреду революционеров с револьверами, память о чем сохранилась в отчестве героя (от «отечество»): Револьверович. Генотип героя – на клеточном уровне – смоделирован автором из всех известных ложных посылов революции и действует по закону железной логики революционного абсурда, достигая апофеоза в главном «научном» открытии Гелия Револьверовича: бесы – есть, а Бога – нет. Это – триумф дегенеративности системы, отпрыском которой является гомункул Алешковского.
Гелий Алешковского – это Пигмалион и Франкенштейн в одном лице. Франкенштейн – поскольку создан системой и восстал на нее, прародительницу: атеист, входящий в храм Божий. Пигмалион – поскольку возлюблен ваятелем Алешковским. В нем, уходящем корнями в октябрь семнадцатого, читаются черты всех лицемеров нынешней власти в России, стоящих с пустыми лицами на Пасху в соборе Кремля и пожимающих руку Патриарха-однопартийца, прости Господи…
Алешковский ставит атеиста с диссертацией «Штурм небес как основной методологический принцип атеистического воспитания советской художественной интеллигенции» посреди Москвы в ночь перед Рождеством, и такое соединение – Рождества с атеистом – обещает яркую химическую реакцию. Рождество – время, которое астрономы отмечают паузой в деятельности солнечного светила – точкой зимнего солнцестояния на экваториальной карте звездного неба. Время, в которое многовековой солярный миф отдает планету Земля во власть темных сил, активных в предсмертной агонии. Минута глубокой зимней беззвездной ночи, когда гипотетический вертикальный канал, соединяющий метафизический Верх и Низ, открыт, как труба для ветров, с обеих сторон, и обитатели теологического Низа стремятся подняться как можно выше до утренней – Вифлеемской! – звезды и отхватить себе кусок пожирнее. Это – хронотоп настоящего. Но зрелый муж Гелий помнит свою первую встречу с бесами в прошлом, когда он юношей плавал в бассейне «Москва»… И это – важное «обстоятельство места» на горизонтали географического пространства Земли, России, Москвы.
Сегодня бассейн «Москва» канул в Лету, а все годы советской власти он был не только бассейном, но еще и памятником. Многоуровневым памятником – как славе, так и позору России. Бывший до бассейна грандиозный храм воздвигнут на пожертвования верующих во славу победы России в войне 1812 года с Наполеоном. Далее – храм был взорван, и возникший на его месте бассейн стал памятником сталинизму. Нынче – это бездарный памятник волюнтаризму нуворишей, решивших воспроизвести в пластмассе некое подобие былой роскоши на прежнем – многажды оскверненном – месте… Фактически Лужков и компания, слив воду, поставили памятник роману Алешковского…
С момента, когда сталинский динамит оказался покрепче камней, сложенных во славу Христа, бассейн в центре Москвы стал точкой столкновения Верха и Низа, местом победы дьявольских сил: ибо Храм пал! То есть лужа романа Алешковского – абсолютный энергетический ноль. И в этом месте победившей воли Антихриста – в прокаженном месте! – кощунством звучит известие из уст вожделенной девушки, что герой-атеист – изделие Бога. Герой протестует, встает на дыбы, и поднимают его бесы, которые овладевают героем в бесовском месте. Ибо бесы знают, что свято место пусто не бывает: и если они не займут место внутри героя, туда может войти Бог. Так открывается ДНО падения героя, донный мир нечистой силы, московской преисподни, дно романа. И это удивительная пластическая подробность: в бассейне как объекте понятие «дна» срабатывает жестко и одномерно: низ, ниже которого пасть нельзя. Так обретает границы карта мира романа, проявляется система координат, крестовина графика, где в точке «ноль» стоит герой, человек без Бога. Вертикаль Бог – Бес в точке «ноль» пришпиливает его булавкой к ткани романа. Атеист Гелий в разомкнутом пространстве бассейна «Москва» – бассейн без крыши! – под куполом небес, где голубое небо смотрится в голубую лужу, оказывается евангельской свиньей, в которую входят бесы…
И если в Евангелии Христос изгонял бесов из бесноватого человека, то в романе Алешковского бесы возвращаются в человека, отринувшего Христа. Именно библейская притча, положенная в основу ключевого конфликта героя, позволяет мне считать роман «Перстень в футляре» религиозной литературой.
Бесы Евангелия имели ряд особенностей: у них не было лица и тела, но, несмотря на это, ясны были их параметры и масштаб: бесноватый человек сообщал Христу, что имя им – Легион, а сами бесы, покидая человека и переходя в свиней, захватили СТАДО, то есть – емкость впору! Бесы были контактными: сами просили Христа позволить им войти в стадо свиней. Осталось неизвестным, что и как Христос говорил бесам, чтобы они оставили бесноватого, но, чтобы вместить их всех, даже Христу потребовалось СТАДО. Завладев свиньей, как транспортным кораблем, бесы падали в воду, когда обезумевшие свиньи бросались со скалы и тонули. Сценарий Евангелия заканчивается печально: хоть бывший бесноватый кротко затих у ног Христа, пастухи разгневались и изгнали Мессию, так жалко им было погибших свиней… С тех пор, наверное, и повелось, что пастуху свинья дороже Пророка…
Но куда деваются бесы? Они остаются в воде, согласно вульгарной логике… И в российской словесности бесы возникали на фоне водной глади: пушкинский Черт плавал перед Балдой, Булгаков выводил свою нечисть посидеть на лавочке подле Патриарших (!!!) прудов…
Юз Алешковский в своем романе селит бесов в бассейне «Москва», но меняет масштаб: его бесы – такая мелочь, что на весь их «легион» оказывается достаточно одного атеиста и одного дохлого жареного поросенка с московского рождественского застолья, которого выбросят из окна в ночь… Бесы, как персонажи русской классической литературы, известны давно. Само множественное число – «бесы» – привычно для российской словесности со времен А.С. Пушкина. Для России нынешней бесы – это прежде всего апелляция к «Бесам» Ф.М. Достоевского, с которых ныне принято одномерно считывать большевиков, гениально предсказанных Федором Михайловичем. Наследуя ряду традиций, Алешковский создает принципиально новый тип бесов.
Бесы Алешковского отличаются от всех предыдущих прежде всего субстанцией и размерами. Они бесплотны: «плазменные», прозрачные, мерцающие зеленоватым светом, чрезвычайно мелкие – маленькие, мерзкие, измельчавшие за две тысячи лет с момента распятия Христа. Им дан статус глистов, бактерий, микробов, пронизывающих пространство воды. И такие параметры бесов делают их страшно далекими рождественским чертям классической литературы. Они – не роскошный Мефистофель средневековой Германии и даже не пудель. Не недуг, по Томасу Манну поразивший мозг композитора Леверкюна в романе «Доктор Фаустус». Они внеположны герою, как у Т. Манна, но субстанция их ближе к бледным спирохетам, поразившим мозг Ницше-Леверкюна, с той только разницей, что спирохеты Алешковского снуют снаружи, не проникая в мозг.
Это гнус, москит – в отличие от плотских и плотных чертей Пушкина, Гоголя, Достоевского, Булгакова. Они ближе к Гнусику Клайва Льюиса («Письма Баламута»), но, в отличие от бесов мирных протестантов, они необаятельны и лишены индивидуальных черт. ПЛАЗМА, данная через функцию, разъедающая сомнением, – вот бесы Алешковского. И эта их личина и есть самое опасное – для автора! – откровение. Ибо Гете, Пушкин, Гоголь, Достоевский и даже Булгаков – льстили «черному ведомству», создавая образ мрази в объемах, соразмерных человеку.
Алешковский лишил бесов «маскировки» (термин Ю. А.): разоблачил, дезавуировал, низвел до нераспознаваемости,«опустил» мразь до размера мрази. Тем самым предавая огласке главную тайну инфернального дна: его нераспознаваемость. Юз Алешковский дешифрует библейскую притчу, разворачивает ее до масштабов романа, приземляет до реальности и переносит в Москву. Погружает читателя в знакомый раблезианско-свифтовский мир нарушенных соразмерностей, где атеист Гелий оказывается Гулливером в стране лилипутских бесов, а Христом предстает изгнанное пастухами-большевиками христианство Руси…
Автор делает то, что опущено в притче: открывает драму бесноватого. Приподнимает завесу над процессом сотворения чуда и, в противовес статике и заданности библейской притчи, создает напряженный процесс перемещения бесов. Динамика романа функционально стала экспозицией притчи: Алешковский вывел на сцену бесноватого до его встречи с Христом, до крика «Спаси!» и так приоткрыл скрытый мир бытия самого Легиона. Равно как и последующее переселение бесов в поросенка сделал процессом, педантично проследив, кто, за кем, как и куда – в какое отверстие – ушел… Алешковский раздробил процесс перехода бесов на мелкие фазы, снизив пафос притчи до фантастического реализма, где на одном клочке суши сошлись не Сын Божий и Человек страдающий, а бес и атеист встретились в бассейне в центре города, оставленного Богом. В столице страны, от которой отвернулся Бог. Алешковский делает важное открытие: бес не страшен сам по себе. Страшна оставленность Богом. Мелкие безобидные бесы овладевают Гелием, а следствием этого оказывается то, что уходит любовь: и чувство, и женщина.
Так бес Алешковского предстает не наличием зла, а отсутствием добра – любви, любовного счастья и Бога. Автор определяет, что сие есть – АД атеиста: оставленность Богом и Любовью. А дальше – рассматривает подробности: как образовавшуюся пустоту пытаются заполнить и сам герой, и его бесы. Это горчайшие страницы романа, когда привычный способ заполнения пустоты водкой обретает новую деталь: на краю стакана, свесив лапки, сидит маленький зеленоватый бес… То, что прежде было прерогативой допившегося до белой горячки русского мужика, – отныне стало достоянием культуры. И это тоже – открытие Алешковского.
Благодаря повести «Руру» мы знаем, каков ОН – тот, которого якобы нет в «Перстне…». Бог автора, в которого не веруют в Москве и России герои романа. И формула «Его – нет, а они – есть» – это открытие Гелия-атеиста. Но сам автор прекрасно знает, что они – это тоже часть единого Божьего мира. А потому – Юз Алешковский потешается над своим героем: сам того не ведая, атеист Гелий оказывается человеком верующим, признающим, правда, только нижний уровень тонкого мира. И такой герой прав: свою личную оставленность Богом он считывает как отсутствие Бога вообще. Но автору, Сочинителю Бог открыт, и Ю. Алешковский рассматривает своего героя в контексте вертикали: от низа, открытого герою в образах, доступных его восприятию, – до верха, закрытого для героя до поры, отведенной ему автором.
Атеист-то верующий, – вот в чем светлый апофеоз романа. Чтобы увидеть это, следовало просто подняться ступенькой выше. Герой этого не смог, зато смог автор: Алешковский поднялся и над героем, и над его миром. И увидел атеиста как фрагмент Божьего мира, и привел его в храм.
Герой, оставаясь в плену собственных предрассудков, выжил только за счет своей обращенности к Богу. Атеист – он еще не обратился в веру, но уже пошел, пополз в сторону храма, и эта новая для него адресность дала новый жизненный импульс и самому герою, и произведению в целом. В романе «Перстень в футляре» Юз Алешковский привел героя в храм, а литературе вернул ее исконную роль пастыря. Два великих дела сделал художник, мало ведая о том, – как и должно быть в истинном творчестве.
Нью-Йорк, сентябрь 1993 г.
Юз!
Лев Лосев
Апология
Вот уж кто награжден каким-то вечным детством! Старость – замедление, а Юз быстр. Легок на подъем. Поехали! В Вермонт за водой из водопада, в русскую лавочку за килькой, в Москву на презентацию книги, в Чикаго на день рождения подруги знакомого зубного врача. Смена настроений стремительна. Ну его… Московские тусовки омерзительны. Чудовищно скучная баба. Разве ж это килька?… А может, все-таки?.. Поехали! В Нью-Йорк к четырем утра на рыбный рынок. Во Флориду купаться. В Италию с заездом в Португалию… Реакции, как у летчика-испытателя. В июне 1983 года мы были вместе на одной конференции в Милане, а потом наметили несколько дней полного отдыха в Венеции. Утром сели в поезд, болтали, поглядывали в окно на скучные ломбардские пейзажи, слегка выпивали, закусывали. В Вероне поезд остановился на втором пути, а по первому пути, прямо по шпалам, набычившись, таща в каждой руке по чемодану, шел поэт Наум (Эма) Коржавин. Очень плохо видящий, он в этот момент целеустремления, видимо, и не слышал ничего – а навстречу ему быстро шел поезд. От ужаса я обомлел. А Юз рванул вниз окно и зычно крикнул: «Эма, ты куда?». Не удивившийся Коржавин мотнул головой и крикнул в ответ: «В Верону». Дикие русские возгласы привлекли внимание железнодорожника на первом перроне. Он спрыгнул на рельсы и оттолкнул вбок Коржавина с чемоданами. Через секунду промчался встречный. Юз плюхнулся на свое место и сказал: «Эма Каренина…»
Острый интерес к игрушкам – магнитофонам, приемникам, апельсиновыжималкам, электрическим зубным щеткам с переключением скоростей. Картинкам, пластинкам, машинкам. Иногда он даже краснеет, так ему хочется. И по-детски быстро интерес к новой игрушке пропадает. Было бы разорительно, если бы не блошиные рынки и «гаражные распродажи». Как-то мы ехали к морю и Юз, конечно, тормознул, завидев кучу хлама, выставленную у крыльца одного дома и в открытых дверях гаража. Среди ломаных ламп и щербатых тарелок он приглядел небольшое сооружение, изделие художника-любителя – чучело птички сидит на домике – и приобрел вещицу за один доллар. Мы отъехали, завернули за угол, Юз опять остановил машину, вылез и аккуратно положил уже опротивевшую покупку на обочину дороги.
Я подозреваю, что для него не существует неодушевленных предметов. Он вступает в сложные и противоречивые отношения с вещами по всему диапазону изменчивых чувств, от любви до ненависти. У него в романе «Смерть в Москве» есть причудливый андерсеновский мотив – милые живые вещи томятся в плену у заживо мертвого коммуниста.
Я привез к Юзу в гости своего петербургского друга Владимира Васильевича Герасимова, несравненного эрудита. Был теплый апрельский вечер, мы пошли погулять по университетскому городку, Герасимов, впервые приехавший в Америку, рассказывал нам разные любопытные вещи об американской провинциальной архитектуре. Юз заинтересованно слушал. Но вот его внимание привлек сучок, валявшийся на асфальте. Юз поднял сучок и вставил себе в ширинку. Потом заменил прутиком. Потом сосновой шишкой. Потом одуванчиком. Флора продолжала подбрасывать ему фаллосы вплоть до конца прогулки, когда Юз проворно вскарабкался на старую яблоню, сел верхом на толстенный сук, торчавший почти параллельно земле, сидел там, болтая ногами и хохоча, и яблоневый сук с белым цветеньем на конце действительно казался нам продолжением Юза.
Карнавализация, оппозиция верх-низ, веселая бахтинщина шестидесятых годов идет в дело, когда критики берутся за Юза. Сам он когда-то сказал со вздохом: А низ материально-телесный У ней был ужасно прелестный.
Говорят, Бахтину Юзов экспромт очень понравился. Экспромты рождаются у него легко и непрерывно, как пузырьки на шампанском. Они так органичны, что кажутся ничьими, фольклором, например, каламбурный тост «За пир духа!».
Юз Алешковский, Иосиф Бродский и Лев Лосев (фото из архива Ю.
Алешковского)
Или двустишие с рифмой исключительной точности и глубины:
Пора, пора, е…. мать, Умом Россию понимать.Впервые я увидал этот текст в семьдесят восьмом году пришпиленным на дверях конференц-зала, где собрались советологи, в Вашингтоне. На протяжении последующих двадцати с лишним лет его цитировали то как народную частушку, то как «гарик» Губермана, разве что к тезисам Лютера на дверях виттенбергского собора не относили этот стишок.
Я бы раз и навсегда дисквалифицировал критиков за употребление словосочетания «Алешковский и Лимонов». Лимонов – даровитый человек, но дело не в этом. Дело в том, что их объединяют как авторов «неприличного». Это все равно как сравнивать кошку с табуреткой по признаку четвероногости. Неприличие Юза лингвистическое – из небогатства основного русского табуированного словаря (дюжина сексуальных и эсхатологических терминов) русская грамматика позволяет и народная фантазия творит принципиально неограниченное множество насыщенных эмоциональными оттенками речений. Юз не инкрустирует свою прозу вульгаризмами, как это делали писатели прошлого для создания речевых портретов простонародных персонажей, а оседлывает могучую стихию просторечия. Впрочем, почему же «оседлывает»? Менее анахроничная метафора будет и поточнее: как гениальный сёрфер, мчится он по пенистым гребням валов, куда ему нужно. Ненормативная речь крайне редко употребляется у него для описания сексуальных моментов, она скорее океанический эрос, из которого возникают мифы. Он мчится по этим волнам, как гениальный сёрфер или как мальчик на дельфине. А точка назначения у него всегда высока – тайна бытия, тайна божества.
Неприличие Лимонова – вовсе другого рода, в прямом смысле слова порнографического: выставляются напоказ подсознательные перверсивные импульсы. Ненормативной лексики у Лимонова очень мало – «попки» и «письки» куда похабнее.
Потрясающий художественный эффект возникает, когда «последние вопросы» задаются не осторожным нормативным языком, а живой речью, которая сама в процессе непрерывного становления. Дело тут не в травестии, не в том, что получается смешно. Впервые я слышал «Николая Николаевича» от своего друга художника Ковенчука. Сам обладая редким чувством слова, он прочитал где-то самиздатского «Николая Николаевича» и запомнил наизусть большими кусками. Он декламировал мне фрагменты фантастического текста, и мы беспрерывно хохотали. Можно было бы сказать: «И его декламация сопровождалась взрывами смеха». Артиллерийский обстрел тоже неизбежно сопровождается взрывами, однако не шума ради стрельба ведется, а на поражение. Язык волен, автор мудр, читатель весел.
Творчество веселое, вольное и мудрое – нетрудно проследить его русскую родословную: Зощенко, Достоевский, письма Пушкина.
И не гнушался добрый мир общинный Матриархальной лексикой обсценной.Тот же Герасимов рассказывал мне, как в послевоенный год маленьким мальчиком он был привезен на лето в глухую деревню. Там его сразу принялась задразнивать стая оголтелых сверстниц. Затравленное городское дитя, он заорал на хулиганок: «Идите к черту!». Появилась бабушка, суровый матриарх, и не без испуга в голосе попеняла ему: «Нехорошо так ругаться, его поминать». – «А они пристают…» – «А ты им скажи: “Идите на х…!”, а его не поминай». Сейчас многие стали благочестивы и вспомнили о средневековом запрете на матерную речь как проявление язычества. Один уважаемый Алешковским философ сказал мне: «Я вашего Алешковского читать не буду, потому что матерщина оскорбляет Божью Матерь». Здесь, я думаю, проявилось искреннее религиозное чувство и полное отсутствие чувства языка. Если правило веры не прочувствовано в живом опыте, а применяется априорно, оно есть суеверие. Значение любых, без исключения, слов контекстуально. В трогательной старинной легенде статуя Богородицы улыбнулась бродячему клоуну, который по незнанию молитв от души пожонглировал перед Ней.
Можно представить себе и продолжение легенды – набежали ханжи, завизжали: «Перед святыней какие-то палки кидать в воздух – на костер поганца!» «А некоторых Господь простит за то, что хорошо писали», – говорил Бродский, ссылаясь на английского поэта. Собственно говоря, у Одена в качестве прощающей инстанции назван не Бог, а Время: Время, которое нетерпимо к храбрым и невинным и уже через неделю равнодушно к прекрасной внешности, поклоняется языку и помилует всех тех, кем он [язык] живет; прощает им трусость, высокомерие, слагает почести к их ногам. Время, которое таким странным образом извинило и помиловало Киплинга с его взглядами, которое помилует и Поля Клоделя, прощает и его [Йитса] за то, что хорошо писал.
Некоторая логическая запинка в подстрочнике объясняется тем, что оригинал написан подпрыгивающим шаманским размером, четырехстопным хореем со сплошными мужскими окончаниями и парными рифмами, размером, воспроизведенным Бродским в третьей части стихов «На смерть Т.С. Элиота». Стихи «На смерть Т.С. Элиота», как известно, лишь отчасти написаны как отклик на смерть Элиота, а более как отклик на то близкое к откровению душевное потрясение, которое испытал Бродский, когда, листая английскую книжку в темной ссыльной избе, наткнулся на вышеприведенные строки Одена. В первой части триптиха Бродский заставляет Время представительствовать Бога, выполнять ангельскую (посланническую) миссию: «Уже не Бог, а только Время, Время зовет его». Отсюда и подстановка в высказывании «Некоторых Господь простит за то, что хорошо писали», которое стало для Бродского личным символом веры.
Нет ничего удивительного в том, что Бродский любил Юза. Кто Юза не любит! Интересно то, что, подыскивая определение для таланта Алешковского, он назвал Моцарта, т. е. в своей иерархии поместил Юза на высший уровень. Моцартианское начало Бродский увидел только в двух современниках – Алешковском и Барышникове. «В этом безумии есть система»: с точки зрения Бродского, эти художники, подобно Моцарту, не выражают себя в формах времени, а живут формами времени, т. е. ритмом («Время – источник ритма», – напоминает Бродский). Ритмы времени проявляются в музыке, движении, языке, которые, говоря словами Одена, «живут людьми». Те, кто интуициям поэта предпочитает основательную философию, найдут сходные представления о единстве Времени и Языка у Хайдеггера. По поводу украинского философа, чью работу о Хайдеггере он с интересом читал, Юз все же сказал: «Нехайдеггер!»
Больше всего я люблю «Синенький скромный платочек» (1982). Помню, как начал читать в первый раз и почти сразу перешел на чтение вслух – невозможно было отказать языку, гортани в таком празднике. …И написал автору: «Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка… exubОrance образов, красок, характерных выражений, которая вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, несоразмерного, но verve и тон удивительны». Нет, это не я написал Алешковскому, это мой тезка, Лев Николаевич Толстой, написал Николаю Семеновичу Лескову. Цитату я выбрал из статьи Эйхенбаума о Лескове («“Чрезмерный” писатель»). В этой статье развивается важный тезис о неотделимости литературного процесса от общеинтеллектуального, в первую очередь от развития философской и филологической мысли. Новое знание о природе языка и мышления открывает новые перспективы воображению художника, а по ходу дела создаются и новые правила игры. В середине двадцатого века распространилось учение о диалогизме, иерархии «чужого слова» у Алешковского становятся чистой поэзией.
В «Платочке» смешиваются экзистенциальное отчаяние и бытовой фарс, и результат реакции – взрыв. Подобным образом в трагическом Прологе к «Поэме без героя» проступает «чужое слово» самой смешной русской комедии:
…А так как мне бумаги не хватило, Я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает…Сравните:
АННА АНДРЕЕВНА. Что тут пишет он мне в записке? (Читает.) «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мне было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек… (Останавливается.) Я ничего не понимаю: к чему же тут соленые огурцы и икра?
ДОБЧИНСКИЙ. А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости: там какой-то счет был прописан.
Буквально на приеме проступающего чужого слова и написан «Платочек». Одноногий ветеран, пациент дурдома Вдовушкин, пишет «крик чистосердечного признания» на обороте истории болезни маньяка, вообразившего себя «молодым Марксом», а когда Вдовушкин уходит в туалет покурить, свое вписывают то «молодой Маркс», то другой несчастный, вообразивший себя Лениным: «А главное, санитары регулярно бьют меня по головке, по головке, по рукам, по ногам, по настоящему, по мудрому, по человечьему, по ленинскому, огромному лбу». Но и Маркс, и Ленин, и Вдовушкин пишут поверх некоего вечного текста. Какого – становится ясно в середине книги, когда судьба заносит героя в послевоенный колхоз. Вдовушкин живет там, как библейский патриарх, окруженный женами, детьми и стадами: «Вскоре и детишки начали вслед за мулятами-жеребятами появляться. Мальчики все один к одному, пятеро пацанов… Благодаря моей хозяйственной жиле, имели мы трех неучтенных коров для ребятни».
…И дети мои – вокруг меня; когда во млеке омывались мои шаги…(Книга Иова, глава 29;
перевод В. Аверинцева)
Вся жизнь Иова-Вдовушкина – цепь мучительных потерь. Он теряет родителей, друга, ногу, имя, жену, нерожденного ребенка, возлюбленную, собаку, свободу, зрение, голос. Жизнь состругивается с этого человека, так что остается одна перемученная и вопящая, обратясь к небу, душа:
Если бы взвесить скорбь мою и боль положить на весы! Тяжелее она, чем песок морей; оттого и дики слова мои!(Там же, глава 6)
А еще спрашивают: отчего Алешковский пользуется диким русским языком? «Оттого…», от скорби тяжелой. Великий Гоголь говорил о смехе сквозь слезы, но это не было его собственным forte. Пушкин смеялся, а потом загрустил, слушая «Мертвые души», но не плакал же. И никогда никто не хохотал над «Шинелью». (Плакал от умиления дружбой Чичикова и Манилова только наивный мальчик в повести Добычина.) После Шекспира единственный трагический писатель, который умел смешить до слез (и после слёз), это Достоевский. Радужные переливы ужасного-смешного в монологах Мармеладова, Лебедева, Лебядкина, Кириллова и Дмитрия Карамазова никаким мастерством не объяснишь – только вдохновением. А вдохновение не объяснишь в терминах психологии, оно загадочно.
Как-то раз я был свидетелем вдохновенного наития. Ни воспроизвести, ни объяснить увиденное я не берусь. Рассказываю только, чтобы свидетельствовать непонятность, необъяснимость явления.
Лет десять-двенадцать назад мы оказались с Юзом в одно время в Нью-Йорке, ночевали в квартире Бродского, который уехал надолго в Европу. Наутро мы собирались разъезжаться по домам и, пока мы собирались, подъехал грузовик с вещами более долгосрочного постояльца: на все время отсутствия Иосифа к нему вселялся его друг Дерек Уолкотт (тогда еще не нобелевский лауреат, но что замечательный поэт, я уже знал, так как читал роман в стихах «Омерос», эпос карибского захолустья, написанный «поверх» «Одиссеи» Гомера). Мы вручили Уолкотту переходящие ключи и задержались немного поболтать, пока грузчики таскали коробки с книгами и чемоданы. Кстати, грузчики переговаривались между собой по-русски, мрачные биндюжники с Брайтон-Бич.
Юз по-английски говорил плоховато, так что я еще и переводил туда-сюда. Не помню почему, но в разговоре выскочило имя Пабло Неруды. Я сказал, что это поэт с непомерно раздутой репутацией, Уолкотт согласился, а Юз неожиданно завитийствовал: «Фотографы, вахтеры, операторы подъемных кранов, соскребательницы гуано… Дорогие братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои…». Нет, я предупредил, что не смогу передать, как это было смешно, и объяснить, отчего это было смешно! Оттого, что крепкий, подтянутый Юз вдруг сделался похожим на пухлого лауреата международной ленинской премии? Оттого, что что-то от блатного «раскидывания чернухи» было в бессмысленно напыщенных руладах (почти точных, между прочим, цитатах)? Ну что там я мог перевести, сходу и давясь от смеха, но – и это было само необъяснимое – Уолкотт все понимал и так же, как и я, хохотал до слез.
Грузчики между тем перекуривали и поглядывали на нас с тяжелым презрением. Видимо, мы в их глазах были расовыми предателями и наше веселье усугубляло их горечь необходимости прислуживать чернокожему.
Есть у Алешковского повесть «Маскировка». Выдумана она так: убогая советская действительность на одной шестой земной поверхности оказывается маскировкой, скрывающей подлинную, подземную, жизнь: «Как спутник американский пролетает над Старопорховым, так у наших гастрономов очереди выстраиваются, вроде бы мясо, масло и колбасу дают, автобус переваливается по колдоебинам, пионерчики маршируют, поют песни про вечно живого Ильича, грузины гвоздику продают, бляди куда-то бегут за дубленками, в парках драки, в баньках парятся, театры, конечно, танцульки – одним словом, видимость жизни заделывается, маскировка…» И т. д., и т. п. – полсотни страниц повести Алешковского, «бедной, жестокой, скотской и краткой», как жизнь проглоченного гоббсовым левиафаном человека. Как старомодный читатель, я не могу не сопереживать эту жизнь с пьяными, глупыми, добрыми, жалкими персонажами «Маскировки». До слез жалко Дуську, которой не досталось трескового филе.
Исключительность Юза – не просто в дивной энергии его поэтической речи, а в добродушии, душевной доброте, Доброте Души.
«Тот самый Юз»,
«Литературная газета», 7 ноября 1999 г.
Все идет Юзом
Лев Рубинштейн
Вспоминать о нем вообще всегда весело. А тут повод. Хороший повод, побольше бы таких. Существует такая премия, премия имени Пушкина, иначе называемая премией Фонда Альфреда Топфера. Это немецкая премия, присуждаемая русским писателям. Так иногда бывает. На днях в московском Доме журналиста ее вручили в тринадцатый раз. Вручили Юзу Алешковскому.
В домжуре играл камерный ансамбль, произносились – по-русски и по-немецки – речи. Цветы, президиум. Все как всегда. Но нет, что-то было не так, что-то странным образом сопротивлялось безнадежному в своей основе юбилейно-премиальному жанру. Почему-то не так мучительно хотелось выйти покурить, как это бывает обычно. Какая-то необременительность была во всем. Речи были не длинны и вполне уместны. В зале спонтанно возникали какие-то обаятельно-нелепые мизансцены. Отключался и включался микрофон. Кто-то путал какие-то бумажки. Чей-то мобильник безустанно играл «Синий платочек». Веселая чушь. Кто-то рядом со мной сказал: «Все идет Юзом».
Юз Алешковский из числа тех авторов 60-70-х годов, кто не то чтобы даже не хотел, а просто органически не мог дышать пыльным и кислым воздухом учреждения, называемого «советской литературой». Это не всегда был сознательный выбор. Просто кто-то мог, а кто-то не мог. Служащие этого учреждения, то есть советские писатели, подразделялись на тех, для кого цензура была как мать родная (их называли «соцреалистами»), и других (которые «прогрессивные», то есть будущие прорабы перестройки), которые вступали с цензурой в сложные и лукавые отношения, вследствие чего возникла особая эстетика, позже названная «эзоповской». Суть этой эстетики была в том, что искусство, в сущности, сводилось к искусству обманывать начальство. Попадались в этом деле подлинные виртуозы. Нехорошо это, по-моему, нечестно. Партия и правительство доверили тебе быть писателем, а ты вон чего делаешь. Ай, как некрасиво. Но это ладно, это тема отдельная, да и не актуальная уже теперь. Или пока еще не актуальная. Посмотрим. Несоветских писателей при разной, мягко говоря, степени одаренности объединяло одно: «Никакой цензуры для меня быть не может». Эту ситуацию каждый решал так, как понимал, и так, как умел. Каждый нарушитель конвенции нарушал ее по-своему. Кто-то окунался в поэтику абсурда, кто-то впадал в архаику, богоискательство, мистицизм, кто- то занялся выяснением отношений с языком.
Иосиф Бродский в своем предисловии к одной из книжек Алешковского написал, что в данном случае не язык является инструментом писателя, а писатель служит инструментом языка. Сказанное, разумеется, применимо не к одному лишь Алешковскому, но к нему – в полной мере.
Юз был из тех немногих, кто довольно рано распознал, вернее, почуял отравленность, тотальную лживость так называемого культурного языка. Того самого «великого и могучего», что запятнал себя позорным коллаборационизмом. «Поэзия после Освенцима», язык после ГУЛАГа требовали радикальной ревизии. А потому Алешковский не занимался перемещением маргинальных или периферийных тем в зону большого стиля. Совсем наоборот – разговор о самых фундаментальных вопросах бытия велся на языке московской подворотни, на языке ночной шоферской пельменной, на языке обитателей пивняка у Тишинского рынка. Эта зона была еще свободной. Простите за невольный каламбур.
Проблему цензуры он решил самым радикальным образом, столь же решительно, сколь и изощренно вводя в прозу тот слой лексики и фразеологии, который принято называть ненормативным. Мат, короче говоря, мат, да еще и какой подчас густопсовый. Неподцензурность приняла форму нецензурности. Одним из признаков литературного и академического фрондерства было написание слова «Бог» с большой буквы. Алешковский не с большой даже, а с огромной буквы произносит совсем другие слова. Да, да, те самые.
Писателю Алешковскому удалось то, что удалось мало кому. Он стал автором фольклора. Песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый» или «Окурочек» долгое время считались народными. Ходивший по рукам «Николай Николаевич» – эта энциклопедия русской жизни – долгое время был анонимен и приписывался то одному, то другому. Но Юз еще и персонаж фольклора. По городу и миру разносились его многочисленные экспромты, и не всегда было понятно, что сказал он, а что ему приписывают. Цитировать его хочется постоянно, но медиаэтикет не дает развернуться душевному порыву. А есть ли что-нибудь без мата? Мало, но есть. Вот, например, что запомнилось:
«Сталин – это Ленин, данный нам в наших ощущениях». Блеск.
А вот образец квазияпонской лирики. Без мата, но тоже ничего себе:
Пусть династию Сунь Сменяет династия Вынь.Все это приходится цитировать по памяти, по законам фольклора.
А церемония награждения закончилась тем, что его все-таки уговорили спеть пару-тройку песен. И он спел их под гитару Андрея Макаревича, который, к слову сказать, весьма достойно справился со смиренной ролью аккомпаниатора.
Я слушал эти вечные (не побоюсь такого слова) песни, Бог знает, в которую сотню раз, и в очередной раз ощущал, как из этой дворовой интонации, из речевого низа чудеснейшим образом извлекается на свет божий самое потаенное, что там есть, а именно – хрупкое целомудрие. Вечное чудо, к которому не привыкнешь.
«Юз, у тебя есть хоть что-нибудь святое?» – спросили его однажды. Он ответил моментально и по-римски лаконично. Он сказал: «До х…я». И одним и очень коротким словом объяснил, до какой степени у него много всякого святого.
По-моему, так оно и есть.
Январь 2001
Мифо-поэтическое мышление в романе Ю. Алешковского «Смерть в Москве»
Джон Коппер
Теме смерти присущи некоторые неотъемлемые литературные свойства. В то время, как сама по себе смерть порой означает не более, чем акт великодушия, к примеру, самопожертвование, которым завершается «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса, или толчок к монументальной саморефлексии, как в «Гамлете», проблема того, как смерть вписывается в литературное произведение, еще имеет и формальный аспект – это вопрос концовки. Вопрос, главный для человека на пороге смерти и для окружающих, – что же остается после смерти? – для литературного произведения и его читателей неизбежно олитературивается: остается ли еще что-нибудь прочитать или узнать? Наслаждение, испытываемое читателями или зрителями, естественно настраивает их против момента завершения повествования. Это наслаждение неверующих – после того, как над текстом опустится занавес, уже не будет ничего. В тех случаях, когда повествование воплощается в подлинно популярных формах, доступных множеству слушателей или читателей, оно приобретает способность присоединить к себе серийные продолжения. Таковы роман XIX века, устные рассказы Древней Греции и средневековой Европы, теледетективы наших дней. Мы привязываемся к их вечной незавершенности.
Нам трудно выключить телевизор, отбросить в сторону роландов цикл или Диккенса. Повествование в современный период – после французской революции – обогатилось, в частности, совмещением двух явлений: смерть как событие в сюжете и смерть как исчерпанность текста. Поскольку для современной литературы особенно характерна ирония, двойная перспектива, проблема бессмертия, проблема сознания, продолжающего жить после смерти, становится не просто вопросом жизни после текста, но и вопросом жизни внутри текста, голосов, звучащих вне умирающего сознания. Нет большей иронии, чем смерть, и нет более подходящего обстоятельства для писателя, желающего использовать несовпадение различных точек зрения. Смерть как бы разделяет текст на отсеки, содержащие разные формы сознания.
Наверное,эта золотая жила – тема смерти – была почти полностью отработана к моменту появления зарождения «пост-модернизма». В романе повести «К маяку» Вирджинии Вульф смерть становится главой-интерлюдией, отделяя персонажей от их собственных смертей, и, после смерти, от их переделки в памяти тех, кто их пережил. В части «Содом и Гоморра», озаглавленной «Между ударами сердца», Пруст описывает впечатление, оставленное в сознании героя умершей бабушкой. В романе «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера размышления самоубийцы в последний день его жизни объединены с другими главами, которые посвящены роли сознания на пороге уничтожения. Только в более поздних текстах отношение между литературой и неумирающим сознанием пересматривается. В «Поминках по Финнегану» Джеймса Джойса смерть не притупляет и не освежает сознание скончавшегося или умирающего героя. Взамен сознание разрастается, поглощая все произведение. В «Воображение мертво, вообразите» Сэмюэля Беккета агрессивный минимализм художественного мира есть отражение бессилия литературного воображения, приводящего к смерти искусства и к исчезновению текста. В этих сочинениях уже не поддерживается иронический баланс между тем, что находится внутри, и тем, что находится вне умирающего сознания.
С точки зрения разработки темы смерти «Смерть в Москве» Юза Алешковского следует отнести к литературе классического периода XIX века. Несомненно, роман – наследник двух выдающихся русских произведений о смерти: более очевидна связь со «Смертью Ивана Ильича» и не столь очевидна – с «Обломовым». Во всех трех произведениях разум протагониста иронически выстроен в столкновении беспорядочного сознания с беспорядочным миром. И в этот сюжет – сам по себе иронический – повествователь включает иронический голос того, кто выжил.1
«Смерть в Москве» – хроника последних часов жизни партийного руководителя Льва Захаровича Мехлиса, самого видного, после Лазаря Кагановича, еврея в окружении Сталина. Мехлис умер в феврале 1953-го года, на месяц раньше Сталина. Действие романа происходит в московской квартире Мехлиса, и повествование поделено между размышлениями самого Мехлиса и свободными подробными комментариями повествователя. Размышления Мехлиса относятся к историческим реалиям, от революции и ленинского наследия к Сталину, к событиям, разворачивающимся вокруг заговора врачей, к Политбюро и надвигающемуся вопросу наследования власти, к его, Мехлиса, собственному месту в советской истории, которое видится ему в виде статьи в энциклопедии.
Основной неисторический материал романа – это сексуальные отношения Мехлиса с двумя «Верочками», одна из которых замужем за учителем истории, другая – за учителем географии. Верочки знают все кремлевские слухи и частенько делятся партийными сплетнями с Мехлисом. Размышления Мехлиса питаются тем, что он видит и слышит в своей заставленной мебелью квартире. Так, обнаружив в «Правде» внезапное сообщение о своей собственной смерти, он решает, что это очередная шуточка Сталина, но затем, включив радио, слышит траурную музыку. В конце романа умирающего Мехлиса выносят из квартиры учитель истории и учитель географии.
И в «Обломове», и в «Смерти в Москве» действие про- исходит, в основном, в квартирах, до предела заваленных вещами. Герои обоих повествований заключены в узком пространстве и проводят большую часть времени в постели, там, где минимальная физическая подвижность сочетается с максимальной свободой размышления. «Смерть Ивана Ильича» начинается в более обширном пространстве, но сужается до пределов спальни в «новом» доме Ивана Ильича – пародийная аллегория обители Божией, описанной Христом, – который Иван Ильич украшает будущими орудиями своей же собственной смерти. Любая попытка описать универсальную (в смысле Проппа) модель русского классического нарратива о смерти должна включать в себя момент обращения к знакомым предметам за руководством, приход к узнаванию себя через, в буквальном смысле слова, свои «приобретения», и наблюдение за тем, как на пороге смерти становится непослушным и отодвигается внешний мир. Отражавший ранее упорядочения сознания, мир домашних предметов теперь становится хаотичным и равнодушным окружением, тропом сопротивления, с которым сталкивается разум, пытающийся самоупорядочиться через память. Подобное использование сделанных человеком вещей в качестве приема ограничения приходит на смену сходному обращению к природе в романтизме, и этот прием Алешковский заимствует для «Смерти в Москве». Мир того, что неподчинено герою, начинает охватывать все большую область, пространство «продолжающейся жизни», которое противостоит внутреннему миру героя, миру, который сужает смерть.
Таким образом Алешковский – внимательный ученик Толстого и Гончарова. Он развивает мотив «иронии смерти», выдвигая и поддерживая пространственную метафору, характерную для образности «Смерти Ивана
Ильича» и «Обломова». Тем не менее, у Алешковского этот сложный образ существенно отличается от первоначальных форм XIX века. И если есть что-то новое в использовании Алешковским пространственного топоса, так это та смелость, с которой он вводит переносные значения, что напоминает нам философские рассказы Эдгара По и фантазии Натаниэля Хоторна, тогда как в русской литературе этот способ повествования был мало представлен.
Квартира Мехлиса уставлена трофеями Третьего Рейха, который в свою очередь был самым отъявленным грабителем ХХ века. У Мехлиса есть клавесин, принадлежавший Геббельсу, ковер, подаренный Герингу Муссолини и бюст на первый взгляд в парике, который на самом деле оказывается скальпом раввина из Кёльна и был надет на бюст Гиммлером. Сама сцена явно нереалистична, инсценировка не в манере «как оно есть», а «как будто бы». Переносные значения доходчивы: 1) советские чиновники ничем не отличаются от нацистских; и 2) сталинское окружение захватило талисманы культуры разрушителей, позабыв о том, что нацистская культура сама оказалась недолговечной. Размышляя о своей жизни, Мехлис видит только реликвии смерти, и даже если бы подразумеваемое значение образов еще не было совсем ясно, Алешковский заставляет Мехлиса постоянно наталкиваться, спотыкаться, перекладывать свои безделушки. Например, в квартире есть шотландская арфа, эмблема эоловой арфы, возможно, самого конкретного образа трансцендентности в современной европейской литературе. Но арфа начинает звучать только тогда, когда ее бросают, об нее спотыкаются или швыряют в телевизор, – так что она рождает только полную какофонию. С помощью символов, таких, как скальп и арфа, Алешковкий нарушает принятый в реализме критерий различения вероятного поведения от невероятного и приводит свое искусство в соответствие с требованиями нереалистических жанров.
Еще в предисловии Хоторна к «Дому о семи фронтонах», в определении нереалистического жанра, фантазии, делается попытка узаконить подобный прием: «Предполагается, что [роман] стремится к воспроизведению, с мельчайшей точностью, не просто возможного, но и вероятного течения человеческой жизни, [фантазия], хотя и непростительно грешит, сворачивая в сторону от правды человеческого сердца, имеет достаточно права на изображение правды в тех обстоятельствах… когда автор сам выбирает или создает.» 2
Второе нарушение принципов реалистического повествования «Смерти в Москве» – это использование фантастики. Кульминация романа находится ближе к концу, когда Мехлис, спящий в своей квартире, видит в аллегорическом сне «Вершину власти». Этот сон – инверсия гончаровского сна Обломова. «Вершина власти» – это трибуна на Мавзолее Ленина, шаткая обзорная площадка, обогреваемая через пол теплоцентралью Мавзолея. Когда стайка голых пионерок марширует мимо, напоминая образы булгаковской «черной субботы», нагота из эротической становится бестиальной: Мехлис видит, что руководители на «вершине власти» – голы ниже пояса, и их нижние половины звероподобны. Ноги-то у всех вождей-вовсе и не ноги, а дикие копыта, покрытые грязновато-жидковатой сивой, гнедой, буланой, пегой и прочими щетинами. Только у Сталина… поставившего, понимаете, себя над партией и народом… нагуталиненные копытища донизу прикрыты густыми, как у породистых битюгов, чубами щетинищи… но, что особенно удивительно, бабки-то у всех вождей разные… У брюхатого Кагановича кривовато-тонюсенькие, словно у рахитичной антилопы. У Берии – тоже, но с какими-то грязными наростами. А вот у кащеистого Суслова – опухшие, слоновьи тумбы. Аккуратные, в общем-то, мослы лишь у жопоморды Маленкова и у лаптя кромешного Никиты… (стр. 201-202).
Пытаясь устоять на ногах, Мехлис хватается за ногу Суслова, но все-таки падает. Обрушиваясь вниз, Мехлис видит, что «вершина власти» – это вершина горы. Он видит людей, которые пытаются вскарабкаться вверх, втыкая альпенштоки в черепа трупов, наваленных на пути. У подножия горы, словно лес стрел, устремлены вверх острия часовых стрелок. Вот-вот будет он проколот насквозь зубцами Времени – в этот момент Мехлис пробуждается от жуткого сна. Часовые стрелки символизируют смерть самого Мехлиса, и ясно показывают, что власть большевиков, чтобы возвести свою постройку, отказалась от истории. 3
Теперь мы переходим к еще к одной особенности романа, которую нельзя отнести к реализму. «Смерть в Москве» описывает видного исторического деятеля сталинского периода. Роман XIX века редко обращается к историческим фигурам, помещая их на периферию повествования, поскольку основные усилия направлены на создание типических образов: обыкновенный чиновник Иван Ильич, ленивый помещик Обломов, который, в конце концов, в буквальном смысле, превращается из имени собственного в имя нарицательное. Автор «Смерти в Москве», как сразу же видно, кажется не заинтересован в типическом.
Последовательное построение символических структур, опора на фантазию и особое внимание к выдающейся личности – вызывает в памяти не только определенные черты романтической литературы ХIХ века, но и особенности мифа.
В «Смерти в Москве» есть множество обращений к классической мифологии. Крупская, Стасова и Землячка описаны как три фурии (а в конце действуют как три Судьбы [стр. 256]). Теплоцентраль усыпальницы Ленина напоминает подземные реки в Дельфах, образ позволяющий читателю видеть в Ленине современного оракула (стр. 201). Но связь Алешковского с мифом идет дальше простого цитирования. В свободной интерпретации, миф – это набор верований, закодированный в сюжетной форме. Это, как правило, рассказ о происхождении чего-либо и поскольку, по определению, мифы можно пересказывать, они дают нам нынешние, «самые последние» объяснения того, как произошел нынешний порядок вещей. Казалось бы, агностицизм исключает использование мифа в любом неироническом контексте, и действительно, значительная часть замысла Алешковского направлена на разрушение, по крайней мере, двух могущественных мифов советского периода: утопии марксизма и культа личности Сталина. Вместо коммунистического человека – алчный интриган. Сталин, именуемый «Хозяин» – с большой буквы – есть божество страха, ненавидимое возглавляемым им пантеоном остальных партийных вождей. Аллюзии к теократии пародийны. Этот аспект «Смерти в Москве» не вызывает удивления, поскольку он соткан из той же материи, что и реалистическое повествование. И всё же, в романе «Смерть в Москве» есть три особенности, которые выходят за рамки реалистического жанра: фантазия, аллегория и изображение известного исторического деятеля как носителя общего опыта. Эти черты, вероятно, предполагают, что отношения с мифологией имеют здесь не только полемический характер.
Сама логика мифа сложна. Во-первых, необходимо различать миф и повествования, использующие миф. Согласно этому различию, мифы – это «ядра» мифов («первоначальные мифы» по Фрейденберг), которые по определению: 1) важны в каждой детали и потому лаконичны; 2) оживляют предметы природы или концепции, или космические процессы. К примеру, в греческой мифологии, Небо и Земля производят на свет Время, Океан и Память. Этот миф оживляет природу (небо и земля) и концепцию (Время), представляя хронологию творения по аналогии с человеческим размножением. Этот миф очень прост: хронология – метафора причинности, а люди -олицетворение концепций. Говоря литературным языком, это влечет за собой переход имен нарицательных в имена собственные, и их одушевление.
Древние греки брали существительные вроде «хронос» и «мнемозина» и производили божества: Хронос и Мнемозина. Впрочем, если внимательнее посмотреть на мифы, они почти всегда содержат материал, не требующийся для описания концепции или природных явлений. Нетрудно увидеть, как происходит это разрастание мифа. Подсознательное понимание мира задает сюжетную линию аллегории, как бы абстрагирована от опыта она ни была, и, в какой-то момент, в ответ на это понимание, рассказ обретает самостоятельную жизнь, рождает свои собственные сюжетные продолжения. Если Зевс и Гера, как изначальные образы странствующего воина и хранительницы домашнего очага, суждены жить в состоянии конфликта, то они должны из-за чего-то ссориться. Так тема земных подружек Зевса появляется, чтобы удовлетворить требования сюжета. В такой разветвленной мифологии, как греческая, переплетение повествований порой приводит к прямым пересечениям: история о Европе – это и пример супружеской неверности Зевса, и объяснение того, как сама Европа получила свое имя. Иногда же, вместо того, чтобы служить описанием двух событий в системе мифа, миф как бы теряет свою первоначальную функцию. Аполлон и Гелиос – оба боги солнца. Аид – сразу и подземный мир и его бог, но не бог смерти, каковым является Танатос.
Таким образом, многие боги перестают представлять явления, но становятся лишь ответственными за них, получают их во владение, в основном тратя время на придворные интриги на Олимпе. Их истории становятся изобретательно фантастичны и приобретают, в скептическую эпоху, причудливую филигранность «Метаморфоз» Овидия.
Сталинский период располагал к мифотворчеству, потому что причины переворотов и потрясений этого периода редко были на поверхности. Мифы приписывают деяниям деятелей и событиям причины. Этим объясняется тот интерес, который вызывает Мехлис – всем известный советский чиновник, малое божество сталинской Валхаллы. Мифическая притягательность Мехлиса – его высокая должность. Как «проводящий в жизнь» сталинскую политику, он всего лишь осовремененная мифологическая версия «производящего дождь» или «производящего землетрясения». Кроме того, миф порождает еще и свои собственные независимые истории. Становится очевидно, что как раз аспекты романа Алешковского, выходящие за рамки реалистической традиции, и есть те особенности мифа, которые ведут к созданию сложного сюжета. Мехлис вновь и вновь уносится в воображаемые и подлинные разговоры со Сталиным, делает политические заявления, нападает на оппонентов и без конца ищет оправдания официальному антисемитизму и антисионизму, оттенки которых фактически неразличимы. В романе с овидианской улекательностью создаются самые разные побочные сюжеты. Например, в какой-то момент, находясь у себя в квартире, Мехлис слышит шум, что позволяет повествователю начать разговор о «звуках детства» и о «метафизике звука».
Не в том ли милый, неуловимо-лукавый, нежно-заигрывающий смысл любого собрания звуков, то есть гармонии, равно, как и звука одинокого, в первые наши дни нелегкого обвыкания с даром Жизни, что любые звуки кружатся, падают, трепещут, взвиваются, посиживают, перепархивают, носятся, словно птицы-ласточки, чайки, попугаи, воробушки, соколы, совы, журавли, синички, – одним словом, шастают любые звуки, пропадая и, к счастью, возникая вновь, как раз промеж устрашившим нас до ужаса, бытием и вполне беззаботной вечностью, разрушаемой зачастую намеренно легкомысленно не пчелами, не черепахами, не ягуарами и китами, но лишь людьми, в безлюбовных праздных оргазмах, и простите за выражение, безответственных зачатиях?…
…И через какое-то время все звуки мира, лишаясь божественной свободы, попадают в плен либо к вещам, либо к явлениям и к живым тварям, не говоря уж о чудесном пленении звука словом, становятся, звуки на взгляд поверхностный, всего лишь рабскими свойствами всего их пленившего, (р. 246)
Мехлису представляется, что по телевидению и по радио объявляют о его смерти, и он начинает швыряться вещами в телевизор. Здесь мы попадаем в царство импровизации. «Ядро» мифа (первоначальный миф) забыто, и Мехлис становится, подобно сварливым и обидчивым божествам древней Греции, личностью как таковой. Аллегория так же, как высокое положение Мехлиса, берет свои истоки в мифе. Пример, описывающий происхождение аллегории, приводится в конце романа. Преждевременное сообщение о смерти Мехлиса указывает на утрату упорядоченной хронологии в культуре, отказавшейся от истории. И если это было еще недостаточно ясно читателю, то в последней сцене это становится очевидно: два пьяных учителя – истории и географии, подхалтуривающие в городском морге, вламываются в квартиру Мехлиса, крадут у него томик Фукидида и уносят его самого, еще живого, к смерти. Аллегорическое прочтение здесь достаточно прозрачно. География и история – пространство и время – остаются после смерти Мехлиса, но только в советском, пьяном, варианте. Это позволяет пофилософствовать о РУССКОЙ ИСТОРИИ:
«…Вещий Олег сам знает, когда ему сби… кстати, ты заметил, Вась-Вась, что, если бы он не сбирался отмстить неразумным хазарам, а разумно использовал их способности, энергию и географическую неприкаянность, то нынешние рыла «из грязи в князи» сегодня бы не в Африку лезли, а собирали пустую посуду в проклятых «рюмочных» и «бутербродных»? (стр. 255)
Тема «пьянства» вызывает дальнейшее текстуальное расширение, равно отвлекающее, хотя, на каком-то уровне, вполне осмысленное, как например, путаница мадам Де Сталь с романом Н.Островского: «Мадам де Сталь. Вась-Вась, как она закалялась! Как она закалялась!» (стр. 251) Повествование отходит, или, еще лучше, исходит из аллегории, мифические элементы теряют свой всеопределяющий характер, и истории, побочные сюжеты – умножаются.
Третья нереалистическая черта «Смерти в Москве», фантастическое, – следствие аллегорической структуры романа. Настаивать на том, что любое, самое невероятное событие, происходящее на уровне аллегории, должно в то же время читаться реалистически -означает, что мы имеем дело с фантастикой в определении Цветана Тодорова. 4
Более того, как указывает А.Синявский, это смешение уровней характерно для мифотворческого аппарата социалистического реализма, в котором последовательность реалистических эпизодов постоянно нарушается в результате требования кодифицировать действие в образцовых формах, перевести его в план теологической системы. 5
Проблема такого рода литературы заключается в том, что в ней трудно отличить нереалистическое изображение от неверного, или, другими словами, потенциальную аллегорию от неправды. Роман Алешковского пародирует эту двузначность социалистического реализма.
В «Смерти в Москве», как и в «Кенгуру» того же Алешковского, случаются невозможные вещи, и персонажи утверждают, что совершают невероятные действия. Это же утверждают и персонажи в канонических советских текстах, вроде «Цемента» Федора Гладкова.
Если в «Смерти в Москве», по мере демифологизации советской истории, в то же время используются многие условности мифа, то каковы же, в конечном итоге, отношения романа с мифом? Мы находим ответ в языке романа. Внешне далеко не благочестивая манера повествования, кажется, имеет воинственно профанический характер, последовательно разоблачающий мистику. Повествование Алешковского богато раговорными выражениями, как ни у кого другого со времен И.Бабеля и М.Зощенко, и полно такой изящно-отборной брани, какая есть в непристойных стихах Пушкина. Сочетания ученых рассуждений и импровизационной игры слов напоминают блистательную одержимость Рабле. Как и рассуждения Панурга, этот роман лучше всего читать вслух.
Тем не менее,любой анализ наиболее характерных черт сложной стилистики Алешковского выявит ее близость к религиозной речи и религиозному ритуалу. Во-первых, язык романа – это язык заклинательный. Слова распадаются на слоги, которые можно выпевать: «Зверье, загнан, тупик класс, бор… клетки желнаркомом… в глаз, мольба о прощ… не прост, сердц. отстук. морзе… высш. мер… высш. мер. высш. мер… выр… род… чел…» (стр. 88-89). Периодически, звуки складываются в длинные аллитерированные предложения’ «Он знает, за что поддеть, на что подсадить, да подсечь побольнее и помотать, понимаете, помотать…» (стр. 144). Слоги тоже разделяются и формируют «семьи» слов. «Ус» в «безусловно», любимое слово Мехлиса, превращается в «ус» Сталина, плодя целый рой колючих словечек: Чувство облегчения тут же зловредно улетучилось, а Л.З. вмиг облепила, кусаючи, жаля, подкалывая, стая мухообразных словечек… УСтал… устав… уСтряловщина… усыпальница… УСкакать… УСнуть… успеть… устраниться… усыпленный… УСоп… УСушка… (стр. 223)
В основе этой ассоциативной игры лежат две языковых теории, и обе применимы к роману Алешковского. Первая из них – теория мимесиса, подражания, выдвинутая Платоном в «Кратиле», разработанная позже в работе Джамбатисты Вико о мифо-эпическом мышлении и получившая свое окончательное фарсовое обличив в сталинский период в языковых теориях Н.Я.Марра. Поскольку Сталин, в свете романа, – фигура центральная, определяющий фактор советского существования, семема «ус», относящаяся к образу Сталина, непременно появляется с устрашающей регулярностью во множестве русских слов, в которых ее устойчивая семантика неизбежно и неоднократно напоминает о вожде. Но отрывок с «усом» также относится и к Достоевскому. В повести «Бобок», тоже истории распадающегося сознания, язык постепенно лишается своих социальных функций, и в результате, остается всего одно пошлое словцо. Болезненно впечатлительные персонажи Достоевского не рождают того комбинаторного лингвистического великолепия, которое разрастается в сознании Мехлиса, но объединяет оба произведения то, что в осадок языкового распада выпадает слово-символ.
Во-вторых, неожиданные фразы из окостеневшего словаря, советского политического жаргона, пунктиром пробивают тон повествования: «жертвы исторически необходимых заблуждений» (стр. 88). Вот что приходит Мех- лису в голову во время полового акта: В самом половом акте, в голове его беспорядочно мелькали вдруг приметы и образы служебной действительности, он холодел от их враждебного явления и сам себя раздражительно вопрошал: «какой съезд… какая, понимаете, пятилетка?… да вы что?… где очередные задачи?… орден Ленина?… ложа Большого?… Депутат?… ну знаете…» (стр. 108)
Как отмечала Присцила Мейер, для стиля Алешковского характерно наслоение политической лексики на совершенно неполитическую речь. 6
В рассказе «Смерть овчарки», например, обвиняемый Мирошниченко завершает изложение своих поступков словами: Напоследок мы со свояком налопались от пуза телятины и распили, конечно, литровочку за мою предстоящую тюремную жизнь. Думаю, что и вы также поступили бы на моем месте. А в остальном я полностью поддерживаю нашу партию в ее продовольственной программе и в борьбе за разоружение американского империализма. 7
В «Смерти в Москве» голос Юрия Левитана объявляет из репродуктора о трудовых достижениях советских швей (стр. 150). Развернуто цитируется некролог о смерти Мехлиса из «Правды» (стр. 142-143). Базисом личности у персонажей Алешковского является государственная религия марксизма-ленинизма, но формируется личность в отступлении от предписанной политической линии. Как и в романе Джойса «Портрет художника в юности», религиозная лексика загромождает индивидуальное сознание застывшими формулами, и грань между человеком религиозным и человеком частным оказывается под угрозой исчезновения.
В-третьих, в текст вводится еврейский лексикон: «зайгезунд» или слова мамы Мехлиса «Партийная работа – далеко не цимес». Наряду с расслоением и рекомбинацией звуков, смесь еврейской и советской лексики, создает словесный и тематический коллаж, который выявляет отношение к прошлому, настоящему и будущему. Еврейская тема в романе определяет историю и вообще прошлое, но иудаизм, представляемый у Алешковского в проблеме мучений евреев евреями, сохраняется в «Смерти в Москве» лишь на уровне словаря. Язык повседневной советской жизни относится к настоящему, но большевистские мечтания удерживаются только в коммунистических завываниях Левитана. Будущее представлено через аллитерации и алфавитные игры, предзнаменование того времени, когда Мехлиса уложат в гроб Большой Советской Энциклопедии и в алфавитном порядке поместят «…рядышком с “Мехико”, “меховой промышленностью”, и “турецким султаном Мехмедом II”» (стр. 238). Так, место Мехлиса в энциклопедии становится погребением между двух статей, и сама Энциклопедия может рассматриваться как огромное кладбище советской культуры. Тогда получается, что в романе Алешковского язык больше не нагружен значением, мифологические системы иудаизма и большевизма не срабатывают, и выживают только слова, да и то не организованные в соответствии с кодами культуры, а лишь бездумно поставленные в алфавитном порядке. Различные лексические уровни «Смерти в Москве», таким образом, используются Алешковским, чтобы устранить самое возможность мифологического языка мифа. Тем не менее, если прервать обсуждение на этой точке, в стороне останется самый существенный языковой пласт романа – мат. Непристойные выражения последовательно редуцируют речь до именования частей тела и их функций.
Говоря словами Розенблюма, которого пытает Мехлис во время расследования дела врачей: «А о кале вы способны сказать что-нибудь больше, чем то, что кал – это говно?» (стр. 116). Течение повествования круто сворачивает в сторону тела, а язык снижается до скабрезности. Посредством повторения, мат в романе становится фоновым лексическим уровнем, к которому возвращаютя все другие стили речи, и заменяет собой отжившие ритуалы. Лео Спитцер писал, что в иудаизме права тела сосуществуют с притязаниями Создателя на бессмертную душу. Возможно, мат Алешковского основывается на этой иудейской концепции, окружая дискурс тела ореолом религии. 8
Но ни в коем случае, Алешковский не предлагает иудаизм в качестве доктрины спасения, после того, как он так убедительно ее отверг. Взамен, мат превращается в ритуальное заклинание, привораживание «нормальности», решительный призыв к здравому смыслу.
Чтобы понять взаимоотношения мата и мифа в романе Алешковского, необходимо вернуться к модели первоначального мифа и к сюжетам, которые на ней основаны. Как мы уже видели, роман Алешковского как бы заполняет миф сюжетами, которые обладают всеми признаками распространенного мифа. Но тогда встает вопрос о самом первоначальном мифе. Вполне очевидным кандитатом для такого мифа могла бы быть статья о жизни Мехлиса в энциклопедии. И здесь, в «Смерти в Москве», проявляется понимание мифологичекого процесса. Поскольку миф включает в себя повествование о началах в форме, которая продолжает оставаться приемлемой в культуре, миф ритуализируется повторением, и, как статья энциклопедии, не только грозит дать объяснение сегодняшней действительности, но и сакрализовать ее. Альтернативный первоначальный миф в «Смерти в Москве», уровень, к которому в тексте неизбежно обращаются многие побочные сюжеты и голоса, – бранная речь. В противоположность впечатлению, складывающемуся из-за статьи в энциклопедии и состоящему в том, что происхождение советского полиса, «нынешнего положения вещей», можно описать как ряд «подвигов», совершенных вереницей мехлисов, в романе утверждается, что начало «нынешнего положения вещей» можно описать только матом. Условности мифа использованы в романе не только, чтобы разрушить миф, но и чтобы заменить тот миф, который обманывает – статья энциклопедии – тем, который действительно объясняет мир вокруг, не искажая и не маскируя его.
Подводя итоги, скажем, что «Смерть в Москве» соединяет традиции, унаследованные от русской литературы XIX века, с определенными чертами, которые обычно не связывают с этим направлением: повествование о видной исторической личности, аллегория и фантазия.
Те же особенности характеризуют и миф. Традиции реализма в «Смерти в Москве» использованы отчасти для разрушения мифа, но также и для того, чтобы дать более правдивый рассказ о сталинском государстве, чем тот, что даёт энциклопедия. Как раз в изображении Мехлиса и кремлевского руководства текст Алешковского наиболее современен. В русской художественной литературе историческим фигурам отводились различные места: периферия, описанная в благочестивом тоне; периферия, описанная в едком, язвительном тоне; центральное место, данное в героическом духе. Портреты Екатерины Великой в «Капитанской дочке» и Бетховена в «Последнем квартете Бетховена» Владимира Одоевского относятся к первому решению. Изображения Наполеона в «Войне и мире» или Сталина из «В круге первом» Солженицына – примеры язвительного тона. Петр Первый Алексея Толстого парадигматический протагонист, поставленный в героический контекст. Но в поздней советской литературе появилась четвертая модель, согласно которой чиновники, обычно Сталин, ритуально и систематически низвергаются. Вспоминаются портреты партийных работников из «В кругу друзей» Владимира Войновича, рассказы Фазиля Искандера из цикла «Сандро из Чегема» и «Кенгуру» того же Алешковского.
Большинство этих сатирических произведений антиагиографическое. Переворачивая традицию «положительного» героя, они отвергают идею, что социалистическая художественная литература воспитывает, является «зеркалом добродетели», а не «зеркалом действительности». Но «Смерть в Москве» явно выходит за рамки этого установленного жанра. Роман может воспользоваться оружием реализма, чтобы разоружить миф, но нереалистическая лексика предпологает, что мифы обладают ценностью только в том случае, если их функции объяснения не позволено стать сакральной, а потому – предсказуемой. Эрнст Кассирер отметил, что типичный ветхозаветный пророк в своей борьбе с идолопоклонством «должен ввести в мифическое сознание чужеродное для него напряжение, неопознаваемую им оппозицию, чтобы разложить и разрушить это сознание изнутри». 9
В своем стремлении деконструировать идеальный образ советского государства Алешковский обращается к риторике осмеяния и оскорбления. Но такой мат уже содержит альтернативу Алешковского: антиидеалистический, приземленный, иронический дискурс. «Смерть в Москве» можно рассматривать как книгу-видение ветхозаветного пророка-обличителя. Поскольку персонажи Алешковского очерчены столь негативно, они лишены потенциального спасения, присущего эсхаталогическому пророчеству или даже видениям Обломова и умирающего Ивана Ильича. Есть определенное текстовое различие между положением лицом к Лимбу и положением лицом к Джудекке. Герои Алешковского, как один из них сам говорит, «в рукопашной схватке» с теми, кто следует библейским добродетелям, и как активные силы зла они не могут включиться в миф искупления и спасения. 10
А язык может. В конце концов, именно мат разрушает миф Мехлиса о самом себе, и, самое главное, мат приводит роман к завершению. Как только Мехлис умирает при жизни, повествование заканчивается, поношение сработало, и в пространстве, окружающем жизнь Мехлиса, остается миф мата, вечно готовый к употреблению. Хотя протагонист исчерпывает повествование своими лживыми заявлениями, профаническая речь остается. И читатель этому свидетель.
1 Цитаты приведены по книге Юз Алешковский. «Смерть в Москве». (Benson, Vt.: Chalidze Publications, 1985).
2 Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gables. Centenary Edition of the Works of Nathaniel Hawthorne, vol. 2 (Columbus: Ohio State Univ., 1965), p.1
3 Здесь заимствованы образы из вступительной главы «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэролла. Само падение, образы часов, белые перчатки вождей, предметы, летящие вниз вместе с Мехлисом, – бумаги, очки, стебли травы и мертвые тела – все это напоминает полет Алисы в фантазию в начале «Алисы в стране чудес».
4 Определяя фантастику как «колебание» между естественным и сверхъестественным прочтением, Тодоров особо оговаривает необходимость исключить аллегорию. (Tzvetan Todorov, The Fantastic, trans. Richard
Howard (Ithaca: Cornell Univ., 1980), p.32) Тодоров имеет в виду такую аллегорию, которую можно прочитать, т.е. «объяснить», только как аллергию. Но если сверхъестественные события текста заставляют нас
верить в них, как в «Смерти в Москве», то вопрос, оправдывает ли аллегория включение сверхъестественных событий в повествование, становится маловажным.
5 «(Современные советские писатели пытаются) соединить несоединимое: положительного героя, закономерно тяготеющего к схеме, к аллегории – и психологическую разработку характера… возвышенный идеал – и жизненное правдоподобие». Синявский продолжает: «А совершенно правдоподобная картина жизни… не поддается описанию на языке теологических умопостроений»… Андрей Синявский, «Что такое социалистический реализм». В книге «Фантастический мир Абрама Терца», Международное литературное содружество, 1967, стр. 443-444.
6 Priscilla Meyer, «Skaz in the Work of Juz Aleshkovskij», Slavic and East European Journal 28:4 (1984), 455-461.
7 Юз Алешковский, «Смерть овчарки» в сборнике «Книга последних слов, тридцать пять преступлений» (Benson, Vt.: Chalidze Publication, 1984), стр. 64.
8 Leo Spitzer, «Three Poems on Ecstasy: John Donne, St. John of the Cross, Richard Wagner,» in Essays in European and American Literature, ed. Anna Hatcher (Princeton: Princeton Univ., 1962), p. 150. Присцилла Мейер
использует работу Бориса Успенского, в которой мат рассматривается как функциональный «эквивалент молитвы». Она утверждает, что скабрезности Алешковского имеют «сакральное назначение». (Meyer, p.460).
9 Ernst Cassirer, Mythical Thought, trans. Ralph Manheim (New Haven: Yale Univ., 1970), p.241.
10 «Мы в рукопашные схватки с людьми, променявшими моральный кодекс строителя коммунизма на пресловутые заповеди: не убивай, не лги, не отбивай жену у дружка, не воруй и так далее.» («Икра для Билли» в сборнике «Книга последних слов», стр. 135-136).
Автор выражает благодарность А. Никитину, переводчику этой работы на русский язык, а также профессорам Л.Лосеву и М.Гронасу, любезно согласившимся уделить своё время для внимательного прочтения оригинального текста и перевода. На английском языке эта статья, озаглавленная «Mythopoetic Thinking in Aleshkovsky’s Smert’ v Moskve», была опубликована в California Slavic Studies, vol. 14 (1992), pp. 195-208.
Автор благодарит издательство Калифорнийского университета, предоставившее ему разрешение опубликовать перевод этой статьи на русский язык.
Юз Алешковский как собственный текст
Сергей Бочаров
В Юзе есть гениальность такая, какая не умещается в тексты. И во все его Собрание сочинений трехтомное, которое я воспринял как его последнюю шутку. Надо ведь: Юз – и Собрание сочинений.
Мне жаль, что нынешний Юз-прозаик, даже – представьте себе, романист – романист, поставим так ударение, – как-то заслонил его раннюю лирику, его старые песни. В тех первых песнях – я их все-таки больше всего люблю, может быть, потому, что иные из них рождались у меня на глазах, – что он делал в тех песнях? Он в них послал весь этот наш советский порядок на то самое. Но сделал это не как хулиган, а как поэт, у которого песни стали фоль клором и потеряли автора. В позапрошлом веке было такое – «Среди долины ровныя…», «Не слышно шуму городского…», «Степь да степь кругом…». Тогда – «Степь да степь…», в наше время – «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Новое время – новые песни. Пошли приписывать Высоцкому или Галичу, а то кому-то еще, но ведь это до Высоцкого и Галича, в 50-е еще годы. Он в этом вдруг тогда зазвучавшем звуке неслыханно свободного творчества – дописьменного, как назвал его Битов, – был тогда первый (или один из самых первых).
«Интеллигенция поет блатные песни». Блатные? Не без того – но моя любимая даже не знаменитый «Окурочек», а «Личное свидание», а это народная лирика.
Обоев синий цвет изрядно вылинял, в двери железной кругленький глазок, в углу портрет товарища Калинина, молчит, как в нашей хате образок … Дежурные в глазок бросают шуточки, кричат ЗК тоскливо за окном: – Отдай, Степан, супругу на минуточку, на всех ее пожиже разведем.Лироэпос народной жизни.
Садись, жена, в зелененький вагон…В те 60-е бывало так, что за одним столом исполняли свои песни Юз Алешковский (не под гитару, а под такт, отбиваемый по столу ладонями) и Николай Рубцов. И после «Товарища Сталина» и «Советской пасхальной» звучали рубцовские «Стукнул по карману – не звенит…», «Потонула во мгле отдаленная пристань…» (Я в ту ночь позабыл все хорошие вести, все призывы и звоны из кремлевских ворот, я в ту ночь полюбил все тюремные песни, все запретные мысли, весь гонимый народ… – впрочем, это дописьменное нельзя прописывать текстом вне музыкального звука). Аудиторию же составляли Владимир Соколов, Вадим Кожинов, Лена Ермилова, Ирина Бочарова, Ирина Никифорова, Андрей Битов, Герман Плисецкий, Анатолий Передреев, Станислав Куняев, Владимир Королев, Георгий Гачев, Серго Ломинадзе…
Попробуем представить уже лет 15 спустя эту компанию за одним столом…
Было чувство – иллюзорное, потому что такое чувство всегда иллюзия, что подтверждает близкое будущее, но и реальное тоже, потому что все же происходил поворот исторического руля, и скрип его был нам слышен – было чувство, что выходим из исторического кошмара, который только что был осознан; очередные сумерки свободы брезжили, и что-то происходило в нравственном мире; нравственность оживала, и парадоксально-стихийным образом в немалой мере она росла оттуда, из тех пластов и жизни, и языка, в каких зачинались эти новые звуки и эти песни.
Говорят: он ввел, узаконил «ненормативную лексику». Но лицемерный эвфемизм не хуже ли этой лексики? Бахтин называл это: непубликуемые сферы речи. Согласимся, признаем – скверна. А вот Бахтин тот же самый, с которым, кстати, был знаком Алешковский, исследовал причины неистребимой живучести этого скверного языка. Неистребимой живучести – это неслабо сказано; значит, есть функция жизни, которую вынужден этот скверный язык выполнять. Да, скверна – но только этому языку нет замены, когда нужно кое-что оценить. А то, как Андрей Битов сказал как раз по случаю Алешковского – разоблачили и осудили, но ведь не прокляли.
«Николай Николаевич» был написан – но вначале был наговорен, устно рожден и записан – на новом повороте руля от скончавшихся шестидесятых к пасмурному застою – и не случайно, конечно, хронологически и исторически совпал синхронно с «Москвой-Петушками». Помню, как Юз, восхищаясь, завидовал: – Ну, почему не я придумал этих ангелов, обманувших Веничку с хересом?
В «Николае Николаевиче» Алешковский нашел свой сюжет, сюжетное поле и свой прием – он спустил большую политику в материально-телесный низ, каковую формулу ведь недаром как раз тогда же дал нам все тот же Бахтин. Особое поле, своя территория Алешковского в литературе – спустить большую политику в самый низ. Лысенковско-сталинская борьба с генетикой – наукой о жизни – дала сюжет о столкновении жизни в самых ее коренных проявлениях, низменных и глубоких одновременно, с тщедушной, призрачной политикой. И вообще потому «Николай Николаевич» – это роман о любви. Вот телесная жизнь – стихия вечная. Это то, что в истории не изменяется. Все изменяется, а телесная жизнь все та же. И она дает поэтому комическую, смешную точку зрения на идеи и на историю, и особенно на политику. На всю преходящую относительность их. Несостоятельность перед вечной стихией телесной жизни. Перед человеческим телом, анализирует другой философ литературы и друг Бахтина, Лев Пумпянский, природу комического у Гоголя, «которое – тело – есть последняя и неразложимая внеисторическая реальность». Оттого телесные нелепости и провалы, падения, подзатыльники и оплеухи так грубо и мощно работают на снижение всяких высоких вещей, подлежащих снижению.
А вообще – роман о любви. О пробуждении женщины – вечной спящей царевны – ударом известным местом по ее хрустальному гробику, чтобы он на мелкие кусочки разбился и осколочек в сердце застрял. Грубая и нежная поэтика миниромана «Николай Николаевич».
Телесная жизнь развенчивает историю и политику у Петрония и Рабле. И у Гоголя. Вот и у Алешковского, в котором жив Рабле – это не комплимент ему, а факт. Со своим словарем он чистый писатель и даже сентиментальный писатель, моралист, как кто-то о нем сказал. Всегда с котенком за пазухой, которого надо отогреть ценою собственного тепла, как в его рождественской сказке «Перстень в футляре». Сам Юз Алешковской своей интересной персоной это самый живой и лучший собственный текст.
Выступление на вручении Алешковскому международной литературной премии, 26 мая 2001 г.
20 строк, как 200 грамм
Сергей Гандлевский
В авантюрные и праздничные 90-е годы, когда разом рухнул один постылый до зевоты порядок вещей, а другой, нынешний, никому из нас и в дурном сне не мог присниться, все – кто во что горазд – старались выжить. Я, например, переводил с подстрочника по 10 шиллингов за штуку приторные гимны каких-то австрийских евангелистов, а жена вспомнила, что она историк по образованию, и взялась репетиторствовать, благо казенная идеология улетучилась, как нечистая сила при первом крике петуха, и сдавать историю теперь можно было и по старинке – по Ключевскому и Соловьеву.
Одним из учеников стал симпатичный и вежливый Алеша Алешковский. Жена моя на редкость немногословна, поэтому громкая фамилия ученика всплыла в семейном разговоре только в связи с каким-то бредовым, подстать радостно-бредовым временам, поручением – передать кому-то через Алешковского младшего чуть ли не запонки Галича (наверняка, все перевираю за давностью лет, но уж пусть остается как есть). Услышав фамилию замечательного писателя, я отвел молодого человека в сторону до или после занятий, бдительно уточнил степень его родства с автором «Николая Николаевича» и на правах училкина мужа попросил Алешковского-сына переписать кассету с отцовскими песнями, давней моей слабостью. И кассета появилась, правда, «диетическая», в чем-то схожая с безалкогольным пивом: благовоспитанный юноша постеснялся дарить учительнице имеющуюся у него запись вечеринки, где отцовские песнопения перемежал нетрезвый, не в последнюю очередь Юзов, мат-перемат – и Алеша малость подчистил ленту. Получилось что-то вроде Апулея или Рабле, адаптированных для детей младшего и среднего возраста.
На «Осенний романс» я не сразу обратил внимание, потому что в одиночку и в компании без счета крутил заведомые шедевры – «Окурочек» и «Советскую лесбийскую», а когда обратил – решил, что Алешковский поет что-то очень проникновенное, но чужое – настолько романс выбивается из авторского балладного канона. (Годы спустя, когда мы с Юзом познакомились, я спросил осторожно, его ли этот романс. Осторожно именно потому, что мне он сильно нравился, и я опасался, что, окажись романс приблудным, мои восторги могли бы задеть авторское самолюбие.) Вот он:
Осенний романс
Под сенью трепетной осенних желтых крыл на берегу божественной разлуки – ненастная листва и птах тоскливы звуки, и ветер северный, и прах земли уныл. И долго я стою над стынущим ручьем, и часто я брожу в холодном мирозданье, прижавшись, как скрипач, задумчивым плечом к багряной веточке, к музыке увяданья. Примечу белый гриб – чело пред ним склоняю. А вот часов и дней не замечаю я… Любезной осенью все лучше понимаю, тварь благодарная, премудрость Бытия… Как сладок до поры существованья сон и все в нем чудится мне образ жизни краткой: падучая звезда на небесах времен над мглой и хаосом вселенского порядка… Зима берез в моем саду и грусть могил, и другу милому я жму с любовью руки под сенью трепетной осенних желтых крыл на берегу божественной разлуки.На первый, да и на второй взгляд, эти 20 строк – элегический second hand, даже как-то неловко делается за собственную чувствительность и запотевшие очки. Но, протирая очки и ища причину прилива чувств, понимаешь, что здесь автор намеренно и уверенно шьет белыми нитками – обнажает прием, говоря научно. И точно так же, как чачу на Кавказе, чтобы добру не пропадать, гонят из выжимок винограда, отходов винного производства, Алешковский приготовил «самогон» изрядной крепости из лиризма б/у. Штамп на штампе, но в груде анонимно-элегического вторсырья изредка и по контрасту особенно заметны оригинальные авторские словосочетания, вроде «божественной разлуки» (расхожий романтизм клянет, а не превозносит разлуку), или – образы с хорошей литературной родословной, скажем: поклон «белому грибу» («гриб» – не- романтическая флора, это – вполне державинский прозаизм); «брожу в холодном мирозданье» (умение запросто пересечь границу быта и абстракции отсылает к обэриутам)… Есть отсылки и к литературе более низкой пробы (незваный «скрипач» с каэспешной поляны, или финальное «козинское» рукопожатье, впрочем, уместное в романсе). Но, конечно же, погоду делают отборно-пародийные худсредства. Однако именно счастливо найденная пропорция между личным авторским и безличным жанровым началами и придает стихотворению прелесть.
Из лексики и интонаций, неприкасаемых для менее одаренного и независимого поэта, Юз Алешковский непринужденно складывает душемутительный и, вместе с тем, утрированно-наглядный романс. А то, как при полном попустительстве сочинителя «гуляют» слова от варианта к варианту, свидетельствует о завидной авторской интуиции: у песни, имеющей шанс уйти в народный репертуар и, следовательно, обреченной на застольно-дорожное соавторство, сумма уместных слов эстетически существенней их строгой очередности. И в этом есть свой резон: ведь в главные (и самые банальные!) мгновения жизни – когда мы провожаем кого-нибудь в последний путь или склоняемся над колыбелью новорожденного, когда встречаем весну или осень и проч. (нужное подчеркнуть) – на язык просятся вовсе не «лучшие слова в лучшем порядке», а драгоценная человеческая чушь с пятого на десятое, в которой не то что другим – себе стесняешься признаться!..
Юз Алешковский талантливо сделал эту «чушь» содержанием стихотворения и, как нередко случается в поэзии, мы по следствию – взволнованно- бессвязному бормотанию лирического героя – восстанавливаем уважительную причину эмоционального смятения: очень знакомые «демисезонные» переживания с соответствующим ходом мыслей впридачу. И именно психологически достоверная «банальность» «Осеннего романса» и оставляет впечатление попадания в «яблочко»! Будто кто-то хватил грамм двести, и его мотает по лону природы с перехваченным от умиления горлом и глазами на мокром месте. И этот «кто-то» – читатель собственной персоной.
Когда я спросил Алешковского, как его угораздило сочинить такое, и на пальцах объяснил объективные, на мой взгляд, затруднения и препятствия, которые он так артистично преодолел, Юз без ложной скромности ответил одним-единственным словом – «свобода».
Ни убавить, ни прибавить.
Москва, 2010
Как написать оперу.
Яков Якулов
Если я когда-нибудь решусь написать оперу – шаг, требующий в наши дни воинской доблести и весёлой безрассудности новобранца, то в поисках оных, а также сюжета и вдохновения непременно открою трёхтомник Юза Алешковского, живущий в моей библиотеке уже второе десятилетие и им же подаренный. Почему непременно? Во-первых, потому, что словосочетание «написать оперу», т. е. «оперуполномоченному» – (затёртый каламбур из древнего советского анекдота) – уж очень в духе самого автора будущего либретто; а во-вторых, благодаря весьма неожиданному и в той же степени забавному обстоятельству, что как раз в данном случае никакого либретто мне и не понадобится. Вообще, читать оперные либретто мучительно – медвежья шкура животного слова наспех кроится тупоумными ножницами скорняка – либреттиста. Ещё недавно защищавшая дикую свободу своего хищного хозяина, она теперь обнимает вешалку, – сомнительное меховое изделие, смирившееся со своей участью. Заказчик – композитор, соучастник варварского убийства, получив товар, открывает первый чистый лист партитуры и довершает содеянное. Слова, как и все вещи на свете, обладают свойствами, поэтому литература может быть всякой – цветной и чёрно-белой, вязкой на ощупь, как воспоминание, и, как воспоминание же, терпкой на вкус; с запахом вишнёвого сада, рыцарской стали и общественного супа. Внутри слова бывает холодно, как в раю и грустно, как на вокзале, а в пустотелой бесконечности междометий и тире часто мерцает стеклянная ниточка одинокого горизонта.
Для музыканта, приговорившего мир к пожизненной немоте, амнистии подлежат сущности, по праву первородства получившие голос – стихии ветров и вод, аккорды грома и гудящий шелест леса. А также всё живое – способное как на крик, так и на молчание. Звук – это слово, лишённое гражданства, пугливый беженец, как от места жительства отречённый от своего первоначального значения. Он присваивает себе чужие адреса и имена слов и объявляет себя легитимным. Именно так, скитаясь, бродяжничает он в детeрминированной строгости русской словесности, пока не находит надёжного пристанища в прозе Платонова, Зощенко и Алешковского. И здесь он вдруг получает паспорт, вернее сразу два – слово растворяется в звуке в «бес», а, значит и во «все» – смысленности своих значений, а звук благодарно оркеструет слово, как мёртвый нотный знак под смычком скрипача.
В прозе Алешковского не бормочут, не ворчат под нос, не причитают вполголоса – а поют хором. Хор этот – случайно собравшийся, робкий, но всё-таки влекомый любопытством жалкий комочек человечьей протоплазмы, одетый в спецодежду – монтёры, истопники, бутафоры и убощицы. Водопроводчики – жрецы служебных сортиров, вохровцы и их небритая детвора – все те, кому никогда не ступить на вощёный балетный пол рампы, где голосит механическая дива в ветхом оперном золоте.
Повествовательная ткань у Алешковского насквозь вокализирована интонацией доверительного похмельного разговора; интонацией, пожалуй, им одним услышанной и записанной. Текст легко избегает вивисекции, оставляя либреттиста без работы, а композитора без монополии на авторство – мелодия настолько явно проступает сквозь поверхность слова, что остаётся лишь записать её нотами. А весёлый абсурд оперного действия с раскатистыми страстями, поющими парикмахерами и круглой тыквой дирижёра, торчащей на грядке оркестрового огорода – весь этот хор невольников бельканто удивительно точно соответствует макабрическому сюрреализму мира Алешковского, как, впрочем, и всей картине существующего бытия, населённого его лихими героями.
Бостон, 2010
З А Я В Л Е Н И Е
Инна Агрон
В Редакционную Коллегию Всемирной Литературной Энциклопедии, Составителям хрестоматий и литературных пособий для старших классов средних школ и гуманитарных ВУЗов России, Очередному Поэту-Лауреату Американской Библиотеки Конгресса от Хозяйки русского магазина Березка /гор.Бостон/, выпускницы кулинарной школы Rhode School of Cuisine /гор. Теул Сур Мер, Прованс, Франция/ ИННЫ АГРОН
Бесспорно – Алешковский – Мастер слова. Известный факт. Почти что аксиома. Но он еще – большой Художник плова! Горжусь, что с этим пловом я знакома! Я не берусь судить его романы: Мне нравится, а дальше – как хотите… Когда ж о плове речь ведут гурманы, Здесь я готова выступить как критик. Была в том плове мудрость аксакала… И ароматы душного гарема… Так утонченно в нем всего хватало!.. … Я этот плов ничем не запивала, Но это – моя личная проблема… Среди простых поэтов поварешки Юз где-то там, на самой верхотуре! Пусть он войдет в анналы по кормежке! Нельзя его отдать литературе! У вас там много – гоголи, толстые – А кто у нас?! И вспомнить не сумею! Кто на скрижалях?! Никого! Пустые!… Я вас прошу, отдайте корифея! Нет, пусть литература. Пусть писатель. Пускай стоит на «А» в библиотеке! Но мы напишем: «Пловосозидатель. Прожил сто лет. Варил в 20м веке. Век 21й – без холестерина. Живых жиров уничтожая крохи С ним вместе бой вела жена Ирина, Одна из лучших женщин той эпохи. Период этот нам не интересен. Несовместимы кухня и диета. 20й век – вот век его расцвета!» …Я знаю – проза, масса дивных песен… Не отдадим!! И нас простят на это. А я – гурман с хорошим аппетитом – Всегда войти в историю готова! Пускай напишут скромненько, петитом: «Друг. Современница. Ценительница плова.»МИНИ-рецензии
Марк Захаров Режиссер театра и кино
Юз Алешковский – феноменальный синтез российской печали и сарказма. Его «Рука» в семидесятые годы повергла меня в счастливое изумление, а «Синенький скромный платочек» довел до опасного гомерического хохота.
Приход Юза к массовому читателю был умело задержан его возлюбленным КГБ. Это похоже на то, как если бы только сегодня мы вдруг сумели увидеть фильмы Тарковского.
Михаил Барышников Танцовщик, балетмейстер
Ни одна из книг Юза Алешковского никогда не оставляла меня равнодушным потому, что сам автор неизменно искренен в смехе над уродствами советсткой действительности, в болениях за достоинства жизни и в сострадании к людям, долгое время считавшимся винтиками. Что касается блестящих словесных пируэтов Юза Алешковского, исполненных чувства вкуса и любви к речи живых людей, а не бессловесных винтиков, то пируэты эти всегда будут казаться непозволительно свободными лишь любителям строевого шага и поклонникам ходьбы на одном месте.
Фазиль Искандер Писатель
Юз Алешковский необычайно остроумный писатель как в своих знаменитых песнях, так и в своей прозе, пока менее знаменитой. Его социальная критика всегда выражена в остропарадоксальной форме. Язык его богат, и, пожалуй, это единственный русский писатель, у которого непристойные выражения так же естественны, как сама природа.
Булат Окуджава Поэт
У русской литературы трагическая судьба. Это как постоянный признак, как клеймо. Чем истинней, чем значительней литератор, тем явственней проявляется это свойство в его работе. Юз Алешковский из этого племени. Как бы ни шутил, как бы ни увертывался, а вечное это клеймо не сходит с его страниц.
Тофик Шахвердиев Кинорежиссер
Ум и пошлость исключают друг друга. Пошлость есть воплощение глупых амбиций, несоответствие претензий и сути. Юз Алешковский все расставляет по своим местам и приводит в соответствие. В том числе и мат. Его блатные песни совсем не блатные, а пошлость он так и понимает, как пошлость. Вроде грязи под ногами. Земля не бывает без грязи – а на ней стоим. То, что мы вычитываем у Юза, куда выше. Приходится запрокидывать голову, чтобы понять себя и что там у нас под ногами.
Николай Петров Пианист
Юз Алешковский – крупный писатель, которому удалось создать узнаваемую, свойственную лишь ему манеру письма. Его романы, полные ненависти к коммунизму и всем мерзостям советской жизни, поражают стремительностью и яростью, читаются на одном дыхании. Роман-монолог “Рука”, на мой взгляд, является одним из самых ярких обличений сталинского террора.
Андрей Макаревич Музыкант
В книгах Алешковского – редкая свобода полета мысли и замечательная точность ее словесного воплощения. Кроме того, они – безупречный тест на ханжество и отсутствие чувства юмора. Впрочем, одного без другого не бывает. Я благодарен судьбе за то, что мы с Юзом встретились и даже что-то вместе делали.
Андрей Олеар
СТИШУТКА
Я приставал с утра сегодня к Музе, интимности повышенной хотел, чтоб родилось чего-нибудь о Юзе. Она – Феми(д/н)а, я – её наркомвнудел! Она была маруха центровая, подкатывал я к ней и так и сяк; чего не заливал ей, подливая! – чтоб оказалась, падла, на сносях. Я гнул с подходцем и дышал на ушко: «Давай, давай! Пора уже рожать!», – но Муза – прежде страстная подружка – зевала и пыталась возражать. Она твердила: вновь «творить кумира», мол, не с руки, мол, всем давно дала… На свет с тобой произвела Шекспира, Иосифа тебе я родила! Ты не подумай – я всегда готова, когда зовут, тем более – нальют, цветасто матерятся через слово – так, что бледнеет праздничный салют. Дружок, скажу по чести: ты не годен! До чёрта было у меня других имён: Уолкотт, Фрост, Верлен и даже Оден… Был и талант-в-законе всех времён. Ах, как он мог! Так вряд ли кто-то сможет, всем до него – что пёхом до луны. Марлон с Брандо при нём не вышли рожей, калибром – африканские слоны. В литературе, как на зоне, пусто, одна тупая, мелкая фарца… По матери высокое искусство признало в Юзе своего отца. Живите ж тыщу лет, товарищ Юз, и собой нам гарантируете Вы, что не проснёмся как-нибудь в Союзе, где «ум, честь, совесть» стоят головы. Он не сбежит, он фраер не таковский! – пусть тянет до последнего звонка столетний срок в культуре Алешковский – любовником РОДНОГО языка.21 сентября 2010 г.
Мы ееннно и ннаапосслледоокк. . ссл л
Милые, самые любимые на свете люди, мама и папа, которых я так обожал выводить погулять на час-два, а то и больше!
Вы и Даня, почти тринадцать лет делали мою жизнь – по-человечески девяностолетнюю – счастливой, полной любви, ласок, всяких забот, путешествий на тачке, вкусной жратвы, хрящиков, съедобных мослов, веселейших игр с мячиками и палками, прогулок по лесам, плаванья в океанских волнах, прудах, озерах и даже во флоридской реке, где меня чуть-чуть не слопал крокодил. Я как чуял, что вы спасете меня от лишних болей и неудобств проклятой старости, поэтому спокойно уснул на ваших руках – ушел туда, где все мы пребывали до рождения и куда возвращаемся в свой час, – тем более уснул совершенно уверенным в вашей вечной памяти обо мне.
Мысленно и напоследок я успел со всегдашней любовью облизать ваши морды.
Привет всем моим друзьям. До встречи.
Ваш сын и брат – мистер Яшкин.
Об авторах
Бродский Иосиф Александрович.
Поэт. Родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. В 1964 году против него возбуждено уголовное дело по обвинению в тунеядстве. Его арестовали, судили и приговорили к пятилетней ссылке в Архангельскую область. В 1965 году Бродскому разрешают вернуться в Ленинград. В 1966 и 1967 годах в Ленинграде опубликованы 4 его поэмы, однако большинство поэтических произведений И. Бродского передавались на Запад, где вышли «Стихотворения и поэмы» (1965), «Остановка в пустыне» (1970). В 1972 году эмигрировал. После Вены и Лондона переезжает в США. Пишет стихи, прозу на двух языках, преподает в университете. Переводит на русский язык английских поэтов-метафизиков и польского поэта-эмигранта Чеслава Милоша. Сборник эссе «Меньше чем единица» в 1986 году признан лучшей литературно-критической книгой США. И. Бродскому присуждается звание профессора в Мичиганском университете, а также в колледже им. Смита, Королевском колледже, Колумбийском университете в Нью-Йорке и Кембриджском университете. В 1978 г. он становится профессором литературы и почетным доктором Йельского университета. С 1979 г. И. Бродский – член Американской академии искусств и литературы. В 1987 г. И. Бродскому присуждена Нобелевская премия по литературе «за многогранное творчество, отмеченное остротой мысли и глубокой поэтичностью». В 1992-м ему присвоено звание поэт-лауреат США. Умер в США 28 января 1996 г., завещал похоронить его в Венеции.
Битов Андрей Георгиевич.
Прозаик. Родился 27.05.1937 в Ле нинграде в потомственной Петербургской семье, так что первые воспоминания относятся к блокадной зиме 1941/1942 гг. Учился в школе в Ленинграде, потом в Ленинградском Горном институте, где начал писать в 1956 году. В 1957 г. был исключен и служил в строительных частях на Севере. Первая книга «Большой шар» вышла в 1963 г. В 1978 г. роман «Пушкинский дом» вышел в США, в 1979 г. был одним из составителей альманаха «Метрополь», куда и вовлек Юза Алешковского, в результате Алешковский уехал, а Битов остался. Встретиться удалось лишь в 1987 г. в связи с Горбачевскими переменами в СССР. Итоговым произведением А.Битова явилась «Империя в 4-х измерениях», своего рода прустовская эпопея о жизни СССР с 1945 г. до его распада в 1991 г. («Империя» переведена на английский и последовательно издана в США). Президент Русского PEN-клуба с 1991 года. Вице-президент PEN International с 2001 г. Живет в Москве и Петербурге, отец четырех детей, дед четырех внуков.
Шамборант Ольга Георгиевна.
Родилась в 1945 году в Москве в семье недобитых врагов советской власти. К литературе и сочинительству испытывала тягу с самого раннего детства, однако пытаться получить гуманитарно-идеологическое образование побрезговала. В 1969 г. закончила биологический факультет МГУ и всю жизнь, то есть, по настоящее время, трудится на ниве “биологии молекулярной”. Писать прозу в жанре “выхода из положения” начала только при временном перестроечном разгуле свободы слова. Первая публикация была в Независимой тогда еще газете и в том же году в Новом Русском Слове. Впоследствии циклы эссе регулярно публиковала в Новом мире, Постскриптуме, прежних Итогах и т.д. В Питерском издательстве Пушкинский Фонд в 1998 и в 2003 гг. вышли две книги: “Признаки жизни” и “Срок годности”. Ольга Шамборант познакомилась с Юзом Алешковском в 1968 году и непрерывающуюся, несмотря на частные и глобальные катаклизмы дружбу с ним считает одной из основных опор личного бытия.
Хазанов Борис
Прославился своим отрицательным отношением к литературе, писательству и писателям. Преодолевая отвращение, опубликовал два десятка книг. Политические взгляды: убеждённый реакционёр. Требует восстановления монархии в России, запрещения абортов, миниюбок, езды на мотоциклах, игры на электронных гитарах, крышках от стульчаков, барабанах и саксофонах. Живёт в Мюнхене. Псевдоним Геннадия Файбусовича, родился в 1928 г. в Ленинграде. В 1945 г. поступил в Московский универ- ситет,отделение классической филологии. В 1949 году арестован, приговорён к 8 годам по статье 58, пункт 10 (антисоветская агитация и пропаганда). В 1955 г. «условно- досрочно» освобождён без права проживания в Москве и крупных городах. Окончил Медицинский институт, работал врачом. Защитил диссертацию Кандидата медицинских наук. С 1974 г. – научный редактор журнала АН СССР «Химия и жизнь». Стал писателем, участником подпольного самиздатского журнала. Подвергался обыскам, допросам, конфискации рукописей и пр. Состоял под следствием. Получил указание покинуть страну и в 1982 г. эмигрировал в Западную Германию. Соиздатель и редактор журнала «Страна и мир» в Мюнхене (1984-1992). Автор книг и статей. Переведен на немецкий, французский и др. языки. Лауреат ряда литературных премий.
Майер Присцилла.
Профессор русского языка и литературы Уэслиан университета, Мидлтаун, Конетикут. Автор первой монографии о Владимире Набокове «Pale Fire, Find What the Sailor Has Hidden», 1988. Перевела произведения Гоголя, Зощенко, Гладилина, Алешковского. Редактировала английский перевод сборника рассказов Андрей Битова «Жизнь в ветренную погоду», Ардис, 1986. Автор статей о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Достоевском, Толстом, Набокове и советской прозе 1960-1970 годов. В настоящее время работает над книгой о восприятии русскими писателями французской литературы – Как русские читают французов: Лермонтов, Достоевский, Толстой.
Фуссо Сюзанн
Профессор русского языка и литературы Уэслиан университета, Мидлтаун, Конетикут. Автор книг о Гоголе и Достоевском, редактор книг о русском восприятии Америки, о Гоголе, и о Каролине Павловой. Переводчица произведений Гоголя и Владимира Сергеевича Трубецкого. Автор работы о литературной деятельности журналиста Михаила Каткова. Свиридова Александра А. Литератор. Окончила сценарный факультет Всесоюзного Государственного Института кинематографии, г. Москва. С 1993 живет в Америке. Автор ряда фильмов, книг прозы, статей в периодических изданиях России, США и Европы.
Борисов Георгий
Болгарский поэт, главный редактор журнала «Факел».
Рубинштейн Лев.
Поэт. Родился в Москве в 1947 году. Окончив филологический факультет Московского педагогического института в 1971 году, многие годы работал библиотекарем в институтской библиотеке. Создатель нового жанра – «стихов на карточках». Первая публикация состоялась в 1979 году в парижском журнале «А-Я». С 1989 года печатается на роди не, однако активнее издается за рубежом. Книги вышли во Франции (1993) и Германии (1994). В составе антологий переведен на английский, немецкий, французский, шведский, польский и другие языки. В России готовится издание книги «Регулярное письмо». Участник международных поэтических фестивалей в Гетеборге, Сан-Франциско, Милане, Париже, Эссене, Гамбурге. Был стипендиатом Берлинской академии в 1994 году. Живет в Москве.
Лосев Лев Владимирович.
Поэт. Родился в 1937 году в Ленинграде. Окончил университет, работал редактором в детском журнале, писал стихи и пьесы для детей. С 1976 года в США преподает русскую литературу в Дартмутском колледже. Автор шести сборников стихов и многочисленных литературно-критических работ. Умер 6 мая 2009 г., в Нью-Хемпшир, США.
Коппер Джон.
Профессор Русской и сравнительной литературы. Заведующий кафедрой сравнительной литературы Дартмут Колледжа. Преподавал в Университете Калифорнии в Лос- Анжелесе (УКЛА). Вместе с Ленор Гренобль редактировал «Эссе об искусстве перевода» и издал более 25 статей о творчестве Андрея Белого, Бориса Поплавского, Николая Гоголя, Льва Толстого и Романа Якобсона. Сейчас пишет книгу о политике метафоры в модернистской прозе.
Бочаров Сергей
Научный сотрудник ИМЛИ РАН, автор книг и статей.
Гандлевский Сергей
Русский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Лауреат премий «Антибукер», Малая Букеровская, «Северная Пальмира», Аполлона Григорьева, «Поэт».
Якулов Яков
Сочинитель звуков.
Олеар Андрей
Поэт, переводчик, член Союза российских писателей, автор поэтических сборников. Первым в мире перевёл на русский язык всё англоязычное поэтическое наследие Иосифа Бродского.
Резо Габриадзе
Автобиография
Я родился 29 июня 19з6 года в Кутаиси в семье выходцев из крестьян: отец – из монастырских, мать – из семьи каменотесов. В деревне, откуда происходила мать, моя фамилия разветвляется на Гурешидзе, Брегвадзе и Баланчивадзе. Учился в советской школе со средней успеваемостью. Далее идет физическая работа. Я был бетонщиком на строительстве Ингургэса. Чтобы избежать армии, я часто поступал в институты и учился во многих. Был даже в металлургическом. Окончил же я факультет журналистики Тбилисского государственного университета. Со второго курса печатался на четвертых страницах незначительных и невлиятельных газет. Четвертая страница тогда была маленькой форточкой в живую жизнь.
В начале 60-Х судьба занесла меня в Москву на Высшие сценарные курсы, где тогда преподавали выдащиеся кинематографисты Трауберг, Герасимов, Тарковский и мой педагог Алексей Каплер – человек с чрезвычайно слож ной советской судьбой. Со мной учились Андрей Битов, Рустам Ибрагимбеков, Грант Матевосян, Владимир Маканин, Мурза Габаров, Калихан Исхаков, Серафим Сакка. Далее я много работал на киностудии «Грузия-фильм» В качестве режиссера, сценариста и художника. Сделал более 35 фильмов.
1979 – основал группу марионеточников.
1981 – учрежден Тбилисский театр марионеток.
С 1981 по 1991 поставлены спектакли: «Альфред и Виолетта», «Бриллиант маршала де Фантье», «Осень нашей весны», «Дочь императора Трапезунда». «Осень нашей весны» удостоена Государственной премии.
1994-1995 – был художественным руководителем Театра кукол им. Образцова (Москва).
1994 – открытие памятника Чижику-Пыжику на Фонтанке (Петербург), Рабиновичу (Одесса).
1995 – открытие памятника Носу майора Ковалева (Петербург). 1996 – спектакль «Песня О Волге» в Санкт-Петербургском театре Сатиры на Васильевском острове.
1997 – удостоен премии «Триумф». За спектакль «Песня О Волге» получил «Золотую маску» (национальная театральная премия России) и «Золотой софит» (театральная премия Петербурга).
Многочисленные выставки живописи и графики по датам устанавливаются с трудом.
Юз!
Чтения по случаю 80-летия Юза Алешковского
Под редакцией – Присциллы Майер и Александры Свиридовой
Автор проекта – Александра Свиридова
Рисунки – Резо Габриадзе
Дизайн и верстка – Борис Будиянский
Обложка – Радик Шварц
Корректор – Вера Кинша
Набор – Ирина Соловьёва
Тираж – 1000 экз.
Document Outline

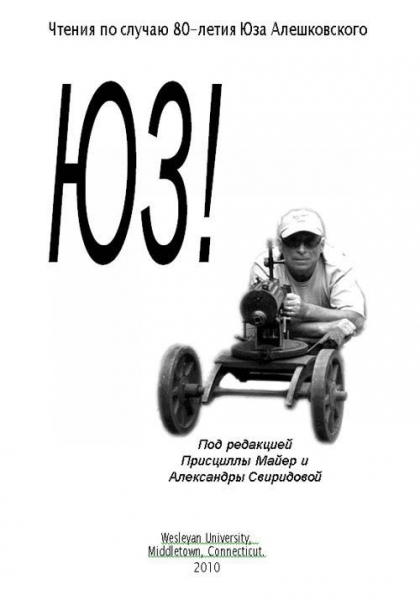


Комментарии к книге «Чтения по случаю 80-летия Юза Алешковского ч. II», Юз Алешковский
Всего 0 комментариев