Франс Эмиль Силланпяя Избранная проза
Вместо предисловия
У этой книги нет традиционного для «Художественной литературы» развернутого предисловия, в котором заранее давалось бы толкование и оценка творчества автора, почти незнакомого русскому читателю.
Из произведений Ф. Э. Силланпяя до сих пор в переводе на русский язык были опубликованы лишь роман «Праведная бедность» — отдельной книгой в 1964 году, оставшейся «не замеченной» критикой, да рассказы «Доярка Санни» и «Осенний дождь» — в 1982 году, в одном из томов «Библиотеки финской литературы» среди рассказов 23 других финских писателей. (Обе книги были выпущены «Художественной литературой».) Эти ранее опубликованные переводы мы не включили в данный сборник, чтобы дать в наше время острейшего дефицита бумаги больше места тем романам, повестям и рассказам Ф. Э. Силланпяя, которые раньше на русский язык не переводились. Вернее, в разное время, давно, переводчики предлагали издательствам некоторые вещи Силланпяя, но тогда им не суждено было быть опубликованными, поскольку «автор не поднимается до верного показа классовой борьбы, остается на позициях абстрактного гуманизма и страдает излишним биологизмом».
На сей раз мы хотели было вместо предисловия ограничиться отрывком из книги воспоминаний Ф. Э. Силланпяя «Парень жил своей жизнью», в котором он с присущим ему мягким юмором сам рассказывает, как стал писателем.
Однако оказалось, что этого недостаточно. Представляется все же необходимым предварить книгу краткими биографическими сведениями о писателе, ибо даже само имя Силланпяя очень мало известно русскому читателю, хотя это классик финской и мировой литературы, лауреат Нобелевской премии.
Франс Эмиль Силланпяя родился 16 сентября 1888 года в финской глубинке, километрах в пятидесяти к северо-западу от Тампере, в семье безземельного крестьянина. У Прану и Мийны Силланпяя до рождения Франса Эмиля было двое детей — сын и дочь, не прожившие и трех лет. Это обстоятельство во многом предопределило бережное отношение родителей к Франсу Эмилю — единственному выжившему ребенку. Прану и Мийне пришлось во многом отказывать себе, чтобы дать образование сыну и обеспечить ему так лучшую долю. Ведь деньги для этого, с точки зрения крестьянина-бедняка, требовались колоссальные.
Для поступления в университет в Финляндии в пору юности Ф. Э. Силланпяя (как и ныне) требовалось получить полное среднее образование, то есть окончить гимназию или лицей. Сейчас это практически доступно любому финну, но тогда было достаточно сложно — особенно для бедняков и малоимущих. Проблемы были не только материальные. Преподавание большинства предметов в высшей школе Финляндии велось тогда на шведском языке, а выходцы из финскоязычной деревни владели им слабо, и это затрудняло для них поступление в университеты и саму учебу в них. К тому же шведы в течение веков были в Финляндии «нацией господ» и составляли большинство в студенческой среде. В этой среде могли чувствовать себя ровней лишь финны из очень богатых семей. Об этих обстоятельствах стоит упомянуть здесь, ибо намеки на них содержатся во многих произведениях Ф. Э. Силланпяя, включенных в эту книгу.
Ф. Э. Силланпяя был принят в Императорский Финляндский Александровский университет в мае 1908 года. Но до этого он прошел полный курс лицея в Тампере. Там он квартировал у своей родственницы, муж которой был видным профсоюзным деятелем. Юный Силланпяя иногда даже помогал ему, когда нужно было сочинить какой-нибудь текст. В Тампере 17-летний Силланпяя наблюдал и события революционного 1905 года, но сам на всю жизнь остался довольно аполитичным человеком. Уже после обретения Финляндией независимости, будучи известным писателем, он печатался в периодических изданиях самых разных партий, но отнюдь не из-за политических пристрастий, а от постоянной нужды в деньгах. Он печатался всюду, куда его приглашали, оставаясь при этом на одних и тех же гуманистических позициях. В первую очередь сказанное относится к его публицистике, ибо книги он выпускал лишь в двух крупнейших финских издательствах, сначала в «Вернер Сёдерстрём» и позднее в «Отаве». Переводы для этой книги и выполнены по текстам 8-томного издания сочинений Ф. Э. Силланпяя, выпуск которого был начат издательством «Отава» в Хельсинки в 1988 году к 100-летию со дня рождения писателя и завершен осенью] 991 года.
Силланпяя удалось закончить лицей лишь благодаря тому, что он был одним из лучших учеников и ректор лицея рекомендовал его домашним учителем финского языка в семью богатого тампереского заводчика Лильерооса. Ибо к 1905 году родители будущего классика настолько обеднели, что не могли уже оказывать сыну никакой материальной поддержки. У Лильерооса ему пришлось учить едва ли не всю семью. Впоследствии Лильероос оказал своему домашнему учителю поддержку и при поступлении в университет, и во время учебы там.
В университете Силланпяя собирался изучать медицину, для чего требовалось, уже будучи студентом, выдержать своего рода экзамен и прослушать курс предварительных лекций по некоторым предметам, в том числе и по биологии. Биологией Силланпяя, по его собственным словам, занимался особенно охотно. В это же время происходит его основательное знакомство с мировой литературой. Правда, Франс Эмиль еще в Тампере прочитал некоторые произведения Л. Н. Толстого и участвовал в диспуте по роману «Анна Каренина». В университетские годы Силланпяя особенно увлекся творчеством Августа Стриндберга и даже предлагал в 1910 году издательству «Вернер Сёдерстрём» перевести роман А. Стриндберга «Сын служанки». (Издательство отвергло предложение студента Силланпяя, и этот роман был переведен на финский язык только в 1960 году.) Много позже, в 1937 году, в интервью одной шведской газете Силланпяя сказал, что хотел бы написать книгу о Стриндберге. Привлек внимание Силланпяя и бельгиец Морис Метерлинк, и главным образом своими философскими статьями. Силланпяя даже перевел «Сокровища смиренных», этот перевод был опубликован в 1918 году. В студенческие годы были прочитаны им «Обломов» Гончарова, произведения популярных тогда в финском обществе Тургенева и Лермонтова, а также датчанина Хермана Банга и Анатоля Франса. Большую роль в становлении будущего писателя сыграло знакомство с семейством его приятеля — Яренфельтами, имение которых — Туусула — было своеобразным центром финской культуры. Там он познакомился с композитором Жаном Сибелиусом, художником Акселем Галлен-Каллелой и другими выдающимися музыкантами, художниками, общественными деятелями.
Однако столичная жизнь продолжалась недолго. Хельсинки и в те времена был дорогим городом. К 1912 году почти разорился Лильероос. Материальной поддержки ждать было неоткуда. Долги Силланпяя выросли до огромной суммы — 16 тысяч марок. К тому же Франс Эмиль в эти годы несколько раз тяжело болел, а весной 1913-го даже перенес корь. Ко всему этому прибавился и глубокий душевный кризис. Стало ясно, что закончить университет он не сможет. В канун Рождества, 23 декабря 1913 года, он вернулся к родителям в бедную избушку «Тёллимяки». Это возвращение и последовавшие затем первые серьезные успехи на литературном поприще лучше всего описаны в отрывке из воспоминаний Силланпяя «Как я стал писателем».
В 1916 году Ф. Э. Силланпяя опубликовал свой первый роман «Жизнь и солнце», и в этом же году он женился. Затем в течение пяти лет он выпускает второй роман «Праведная бедность» (1919) и несколько сборников рассказов. В это же время он продолжает начавшуюся еще в 1914 году журналистскую работу, сотрудничает в периодических изданиях, пишет статьи, путевые очерки, заметки, миниатюры, рецензии… Весной 1920 года, расплатившись со своими долгами студенческих лет, он начинает неподалеку от родных мест строительство двухэтажного дома для своей все увеличивающейся семьи. И влезает в новые долги. В эту «виллу» Силланпяя переезжает к Рождеству 1920 года, и хотя она на многие годы остается недостроенной, будет стоять некрашеная и архитектурно уродливая, Франс Эмиль даст ей название «Достижение» («Саавутус»). Через несколько лет «Достижение» перейдет в собственность издательства «Вернер Сёдерстрём» в покрытие долгов писателя, но он и его семья будут продолжать там жить.
Наблюдения и впечатления детства, юности, студенческих лет и гражданской войны, шедшей в Финляндии с января по май 1918 года, легли в основу подавляющего большинства произведений Силланпяя и почти всех произведений, включенных в эту книгу. Более того, проза Силланпяя вообще во многом автобиографична, большинство действующих лиц имеют конкретных прототипов и действие происходит в реально существовавших или даже существующих и поныне хуторах и деревнях, сохранивших в романах и рассказах Силланпяя свои настоящие названия. (Следует напомнить, что финская деревня отличается от нашей тем, что состоит из многочисленных разбросанных по округе хозяйств, нередко удаленных друг от друга. В центре наиболее крупных деревень обычно бывают церковь, лавка, различные учреждения.) Финские литературоведы — исследователи творчества Силланпяя точно установили, с кого списан тот или иной образ, где в окрестностях Хямеенкюро находится тот или иной дом, хутор или даже сарай, которые описаны в том или другом произведении Ф. Э. Силланпяя. Конечно, и люди, и все окружающее их не списаны с натуры буквально, однако многие черты, позволяющие установить сходство, писателем сохранены.
Ф. Э. Силланпяя прожил долгую жизнь. Он умер в 1964 году. Но лучшие его вещи, по признанию всех исследователей его творчества, были написаны им в период с 1916 по 1936 год. Как раз тогда, и особенно в 20–30-е годы, им были созданы те произведения, которые дали возможность Шведской академии присудить ему в 1939 году Нобелевскую премию. Именно произведения того периода (но, конечно, далеко не все) и включены в настоящий сборник. При этом следует, видимо, упомянуть, что и более поздние его романы «Август» и «Великолепие и нищета человеческой жизни», опубликованные соответственно в 1941 и 1945 годах, были начаты и частично написаны еще в начале 30-х годов. Например, большую часть романа «Август» Силланпяя еще в 1933 году передал в издательство «Отава», которое первоначально надеялось, что выпустит его в 1937 году. Закончить оба этих романа Силланпяя по-настоящему не смог. Фактически дело обстояло так, что редакторы «Отавы» сами компоновали присылаемые писателем в издательство время от времени странички рукописи. Но если в прежние годы Силланпяя после редактуры сам рукою мастера наводил «последний глянец», то эти два романа благословения автора в их окончательном виде не получили. Одна из причин этого в том, что сразу же после своего пятидесятилетия Ф. Э. Силланпяя тяжело заболел и лишь в 50-х годах выпустил две новые книги — «Парень жил своей жизнью» (1953) и «Солнце в зените» (1956). Но это были уже книги воспоминаний.
В два последние десятилетия своей жизни Ф. Э. Силланпяя довольно много писал и публиковал небольшие заметки в периодике, но особенно известны и популярны в Финляндии были его Рождественские проповеди, с которыми он выступал по радио. Первую такую проповедь он произнес в 1945 году. Инициаторами этого были генеральный директор финского радио Хелла Вуолийоки, получившая международную известность как драматург, и заведующий театральным отделом радио писатель Матти Курьенсаари. Всего Силланпяя, которого тогда всюду в Финляндии называли не иначе как Таата («Отец» или «Батюшка»), произнес 19 таких проповедей, последнюю в 1963 году. Вообще же публицистика Ф. Э. Силланпяя, его рецензии, фельетоны, заметки, Рождественские проповеди могли бы составить довольно толстый том или даже два. По понятным причинам в настоящем сборнике нам пришлось ограничиться лишь художественной прозой разностороннего мастера.
И в заключение еще об одной особенности этой книги. В Финляндии существует «Общество Ф. Э. Силланпяя», которое занимается охраной архитектурных и природных памятников, связанных с жизнью и творчеством писателя, пропагандирует его творчество, проводит семинары литературоведов и даже иногда выпускает книги, как, например, «Силланпяя в финской литературе», в которой собраны статьи исследователей творчества Силланпяя из Финляндии, Германии, Швеции, Англии, Венгрии… Увы, русского исследователя творчества Силланпяя не нашлось! Зная о наших трудностях с бумагой, «Общество Силланпяя» помогло найти спонсоров, и концерн «Кюро», бумажная фабрика которого находится в тех местах, где родился, жил и творил Силланпяя, подарил издательству бумагу, необходимую для выпуска этой книги. И здесь уместно выразить большую благодарность и «Обществу Ф. Э. Силланпяя», и концерну «Кюро» во главе с генеральным директором Каем Матикайненом за их бескорыстную помощь, а также доктору философии, известному исследователю творчества Ф. Э. Силланпяя Пану Раяла и Анни Хелене за советы при составлении сборника и консультации некоторых переводов.
Составитель Геннадий МуравинКак я стал писателем (Отрывок из книги воспоминаний «Парень жил своей жизнью»)
Заниматься литературным творчеством я начал, будучи еще мальчишкой, неумелым учеником народной школы. Об этих начинаниях мне уже доводилось писать — ведь о таких вещах, по поводу которых невинный еще ребенок обращался с молитвами к Богу небесному и плакал горючими слезами, седобородый пожилой мужчина распространяется охотно и с легкостью. Мне, познавшему все перипетии писательства, доставляет теперь тихую радость то, что даже в нынешнем моем положении я еще помню обо всем таком. Помню то спокойное, тихое мартовское воскресенье, когда на заходе солнца я, десятилетний, сидел рядом с крепкой, здоровой батрачкой-скотницей на краю ее кровати и слушал, слегка потрясенный, как она читала в «Аамулехти»[1] длинную статью, в которой трогательно рассказывалось о примулах Хилье Лийнамаа. «Маленькая при-му-ла ве-рис…» — запиналась служанка, произнося латинское название, и я таращил на нее свои большие карие глаза.
Следующим эпизодом на этом пути вспоминается, пожалуй, та несчастная история с К. Э. С. Я послал в детский журнал «Който» свою стряпню и в вечерней молитве умолял, чтобы она им там приглянулась, но… не приглянулась. Помнится, то были стихи о трезвости и религиозно-мечтательная проза, но эта Алли Трюгг-Хелениус не удостоила их вниманием. А я в здании народной школы в Хайкиярви Суоя, будучи учеником «тети» Аманды Унто, сильно волнуясь и немного дрожа, листал и перелистывал новые номера «Който». Но на страницах не было того, что я искал, просто не было. Пока… вот… пока там не оказалось одной заметки, под которой стояли инициалы: К. Э. С. Глаза мои уставились на эти заглавные буквы. Ведь я же был Ээмиль Силланпяя, да еще Кансакоулулайнен[2]. Итак, К. Э. С. был не кто иной, как я. Тот самый, кто написал сей опус, заполнявший целую страницу. Я столь сильно суетился по этому поводу, что и мать стала о чем-то догадываться, а вскоре увидела и саму публикацию. Ее старые глаза тепло заблестели. И вот уже фартук полетел на спинку кровати, ладони слегка пригладили покрасневшее лицо перед зеркалом, и… легко заводящаяся бабенка уже семенила наискосок через двор, к школе, держа в руке ту историю, подписанную «К. Э. С.»
Затем, когда учительница тоже увидела эту публикацию, она, наверное, почти догадалась, что означает подпись. И особенно буква «К». Возвращая Мийне[3] журнал, она, разумеется, как-то оценила все это. Спустя несколько минут уже на школьном дворе учительница спросила у меня насчет этого дела, и особенно насчет этого злосчастного «К». Вот и пришлось ей объяснить, что это означает «Кансакоулулайнен», после чего учительница посмотрела на меня немного отчужденно и многозначительно.
А затем появилось и «Ф. Э. Силланпяя» — полностью, окончательно исключив любую возможность неверного истолкования. И появилось это там же, в «Който», и подписался так я сам. Но тогда я уже был учеником 1-го класса Финского реального лицея в Тампере, и на той странице в «Който» была бросающая в дрожь история об одном химическом соединении, которое записывается С2Н5ОН, о таком соединении самих по себе скромных и невинных элементов, которое оказало потрясающее воздействие на духовно-физическое состояние некоего тампереского плотника. По дороге в лицей я видел этих плотников, обшивающих досками распивочную, а позже — одного из них, здоровенного мужика, шлепнувшимся ничком о землю и оставшимся так валяться на тогдашней улице Ууделлакату, которую, насколько я знаю, переименовали впоследствии в Сатакуннанкату. Тот мужчина, будучи сильно «под мухой», пошел было, пошатываясь, по безлюдной улице, но свалился наземь и не сразу смог подняться. Так выглядели удручающие последствия употребления алкоголя. И под его воздействием, наряду с воздействием и других факторов, Ф. Э. Силланпяя и вступил в финскую литературу. То был поистине первый шаг — весьма возможно, что и ошибочный.
И затем однажды — уже старшеклассником — я оказался «летним сотрудником»[4] редакции «Аамулехти» в Тампере. У меня были приятельские отношения — почти что платонические — с дочкой некоего русского торговца, — вот я и устроился на лето в городе, в редакции. В тот самый период, насколько помнится, в одном из воскресных номеров «Аамулехти» были опубликованы какие-то мои стихи. И одна уважаемая, интеллигентная дама, будучи в гостях в доме, где я тогда квартировал, высказалась по их поводу. Она судила несколько свысока, и это несколько гасило мое литературное рвение. Вот и все, что сохранилось в моей памяти.
В конце мая 1908 года я стал студентом. Как и в другие периоды моей жизни, я и теперь продолжал предаваться тому же туманно-зыбкому пороку, или же сохранял свою предосудительную привычку, можно назвать это и так. Ибо в высшей школе я возился с пробирками и ретортами, но в то же самое время в печатном органе под названием «Хельсингин кайку», насколько помнится, появилась моя новелла под названием «Свадебная ночь» — не больше и не меньше. И в ней, как я помню, молоденькая невеста, вернее уже новобрачная, отдает то, что она могла дать именно в эту свадебную, первую брачную ночь, но не своему мужу, а другому мужчине. Все это, представьте, было напечатано в нашем любимом отечестве, на нашем прекрасном родном языке и в весьма уважаемой газете!
Какое-то время спустя проводился конкурс рассказов, когда не сочли возможным выдать целиком одному высшую из обещанных премий, а разделили ее сумму поровну, и я, таким образом, оказался одним из двух обладателей половин той премии. А затем и от корпорации — Корпорации хямелесцев[5] — я получил маленькую поощрительную премию как раз в тот критический период жизни, когда учеба была вроде бы оставлена, но и ничем другим я тоже еще не стал.
А позже, после тяжких материальных и глубоких душевных потрясений и падений и других поэтических вещей, случившихся в моей жизни, я, проучившийся пять лет в высшей школе и полностью деградировавший, окончательно вернулся в Тёллимяки, в избу моих родителей, обнищавших и захиревших. Произошло это в канун Рождества 1913 года.
Было уже восемь часов вечера, но оказалось, что я еще могу похлестаться веником в сауне — меня продолжали ждать даже так невозможно поздно. И я парился один в этой маленькой сауне, где позже провел так много благоговейных мгновений. Я сидел на невероятно маленьком полке спиной к каменке, слушал, как громкое шипение воды, переходящей в пар, становится как бы едва слышным всхлипыванием и в конце концов превращается в жаркое безмолвие. Там было самое подходящее место для размышлений о закончившихся блужданиях и начала подведения кое-каких итогов. Туда прокралось, набиваясь в товарищи, важное, второе «я» мужчины. В память возвращалось далекое счастливое детство, и не как умозрительное воспоминание, а как непосредственное ощущение. Согревающееся тело, казалось, возвращается в чисто мальчишеское состояние. Тот мальчишка, бывало, бежал из сауны прямо в кровать, под одеяло, и сворачивался клубочком, — в удобнейшей в мире позе, как некогда — в тихие, вневременные недели до рождения…
Я понял яснее, чем за несколько часов до этого, что годы молодых блужданий окончательно завершились, что приходит пора мужской зрелости. Меня затребовала обратно здешняя непритязательная жизнь, дух которой как бы сгустился в этом паре сауны в канун Рождества. Там как бы открылись и проявились те жизненные силы, которые все время таились в ожидании и теперь обрели возможность взяться за меня.
Однако поскольку родители были в положении незавиднейшем, то перед сыном возник немой вопрос: а есть ли у господина кусок хлеба? К моему глубокому потрясению, которое мне все же удалось скрыть, матушка с ее горячим сердцем обо всем догадалась и окутала меня своим сочувствием, но проблемы это решить не могло. Для жизни тут требовалось молоко и хлеб, картошка и дрова, а самоотверженной любви, даже самой утонченной и поэтической, тут было недостаточно.
Я до сих пор ломаю голову и не могу никак понять, каким чудом в то время жили там, в Хямеенкюро, в лачуге на Хейниярви, и сводили концы с концами. Правда, избенка стояла на землях, принадлежащих родственнику, зажиточному хозяину, и Прансу с Мийной кое-что там делали, суетились, но в хозяйственных делах там с родством не больно-то считались — разве что хозяин устраивал с помощью Прансу и Мийны кое-какие интимные дела, за что им иногда перепадал какой-нибудь мешок зерна или воз дров, но это было негусто. Атмосфера в семье часто бывала ненастной.
Как я уже когда-то рассказывал, находившимся там неподалеку большим государственным ведомственным домом распоряжался бывший студент, отпрыск рода, известного деятелями культуры, и мы вскоре успели немного подружиться, в результате чего нередко проводили время от заката до восхода солнца, что давало повод при моем возвращении домой маленьким словесным перепалкам в родной избушке. И как-то мой отец сказал между прочим: «У того, другого, хотя бы дом есть — покуда он в нем хозяйничает, — но у тебя-то нет ничегошеньки». На что вернувшийся домой сын пробурчал: «О чем это старик там толкует?..» Но именно тот обмен репликами дал сыну начало первой принесшей ему успех новеллы, которую он назвал «Из лона родного дома», подписал «Э. Сювяри» и на последние пенни отправил почтой в тогдашнюю «Ууси суометар»[6].
Если бы это было возможно, то с большим удовольствием я бы заново пережил вновь то душевное волнение, которое испытал тогда. Возникшее вначале напряженное ожидание длилось дня два, не дольше, затем довольно скоро — насколько помню… в Хейккин день[7] 1915 года — в «Суометар» была напечатана подвалом та новелла, написанная Э. Сювяри. Деньги оттуда, известное дело, тоже прибыли без особого выцарапывания, и гонорар оказался, вопреки моим ожиданиям, изумительно щедрым. Последствия таких событий для моей души — принимая во внимание состояние, в каком я находился, — угадать нетрудно. Я отдал матери полученные деньги и уговаривал ее слегка освежить на них обстановку в доме. А перед собой положил новую бумагу и написал второй рассказ, теперь уже гораздо увереннее, чем «Из лона…». Его напечатали так же скоро и красиво, и гонорарные деньги пришли «будто с конторской полки», как говорят в Хямеенкюро. Словом, жизнь моя, как выражаются в подобных случаях, сделала порядочный рывок вверх. Опись хлеба насущного, согласно катехизису, начала проясняться и укрепляться, и в моих рассуждениях, и в выражении моих глаз появилась энергичность, вполне естественная для мужчины в таком возрасте. Ее еще усилило незабываемое событие. Господин, подписавшийся «Э. Катила», ответственный секретарь «Ууси суометар», написал мне, что некоторые люди в его ближайшем окружении, причем люди весьма критичные, согласны с его мнением. Осмелюсь сказать, что это письмо означало в моей жизни решительно много. Напевая себе под нос, я шел по весеннему шоссе и в качестве бывшего биолога, превратившегося теперь в поэта, принимал ту лавину восхвалений, которые возносил мне на каждом шагу животный мир. Итак, жизнь моя не была пропащей. Бумага и ручка — не самые дорогие орудия труда, денег теперь было столько, что там, в Тёллимяки, мы — Прансу, Мийна и их Ээмиль — уж как-нибудь сведем концы с концами.
Итак, продолжим!
Следующей вехой на моем успешном литературном пути было событие, которым я могу особенно гордиться, даже больше, чем всеми полученными мною премиями. Мне захотелось для вящего юмора сделать паузу, откашляться, прежде чем скажу то, что собираюсь сказать: событие было воистину грандиозным, ибо я оказался тем финноязычным писателем, к которому первым обратился издатель. То есть не я подыскивал себе издательство, а издательство само нашло меня, к тому же старое и престижное — «Вернер Сёдерстрём» из Порвоо. Тогдашний его директор-распорядитель, который зря распоряжений не давал, пошел так далеко, что велел кому-то из подчиненных написать в редакцию «Ууси суометар» и узнать, кто такой этот Сювяри. Спросила ли у меня редакция разрешения раскрыть псевдоним — теперь уже точно не помню, но, как бы там ни было, по прошествии какого-то времени получил я из Порвоо письмо от старого доброго приятеля, Мартти Райтио, который был тогда в издательстве, в отделе художествен ной литературы, «мастером», как титуловали всех господ этой конторы. Так титуловали уже и папашу Вернера, хотя, подобно всем этим «мастерам» моего времени, он имел на самом-то деле всего лишь звание студента. В том письме, присланном Райтио, говорилось, что его фирма обратила внимание на некоторые подвалы в «Суометар» и выяснила, что за «братец» скрывается под псевдонимом Сювяри. «Сёдерстрём», дескать, могла бы заинтересовать моя дальнейшая литературная продукция, и мне предлагается через него, Райтио, «вступить в отношения», и если таких вот проб пера, подобных опубликованным, у меня имеется и больше, то было бы хорошо мне прибыть, показать их и немного побеседовать.
И затем так получилось, что одним прекрасным вечером в поезде, идущем в Порвоо, сидел весьма обнадеженный господин, который совсем незадолго до того пребывал в отчаянии и не знал, как жить дальше. Прибыв в Порвоо и устроившись там, он на следующий день не спеша направился в высокочтимую мастерскую по производству книг и предстал перед ее немногословным, но вызывающим почтительные надежды господином «директором» Ялмари Янти.
(……)
Ярко светило солнце, когда я, представ перед издателем, назвался, изложил свое дело и рассказал также, что, помимо новелл, у меня находится в работе более крупное произведение. Он объявил, что готов издавать меня, но коль скоро дело обстоит так, то он надеется, что начнем с романа. И пока я буду его дописывать, они возьмут на себя заботу о моих денежных делах.
С той аудиенции я возвращался в глубокой задумчивости. И сразу же уехал домой.
Не помню уже точно, было ли затем что-либо достойное внимания, пока в один прекрасный день я вновь не оказался в Порвоо, в отеле «Сеурахуоне», на верхнем этаже, в угловой комнате со стороны двора, а передо мною были ручка, чернила и чистая бумага. И я вовсю писал «Жизнь и солнце». Писал в среднем по восемь страниц в день и вечером предоставлял Мартти Райтио подбадривать меня теми дарами, которыми угощал «Социс-магистр».
(……)
Вот так я дописал там «Жизнь и солнце». Директор-распорядитель читал готовые странички по мере их написания и только покашливал, но ничего не говорил. Когда же все было готово, он сказал, что, мол, мы это берем и вы получите обычный процентный гонорар, но выпустит книгу издательство «Кирья» в Хельсинки. Дело было в том, что «Сёдерстрём» обзавелся контрольным пакетом акций в вышеназванном издательском акционерном обществе и таким образом сделал его своим вспомогательным предприятием. Туда и отсылали те принятые, могущие иметь успех рукописи, которые в чем-либо не соответствовали параграфам устава самого «Вернера Сёдерстрёма», гласившим, что произведение не должно оскорблять религиозно-моральные и национально-патриотические чувства. А в «Жизни и солнце» та первая пара принципов была, похоже, не вполне соблюдена. Поэтому-то немногословный директор и объявил: дескать, мы упакуем рукопись в пакет и вы лично сможете отвезти его в Хельсинки и подписать там контракт — точно такой же, какой вы подписали бы и тут, хотя издателем выступит тамошнее «Кирья».
Директором-распорядителем хельсинского «Кирья» был Эйно Райло, и он позднее в каком-то фельетоне рассказал эту забавную историю: мол, приехал какой-то незнакомый молодой человек, выложил на краешек стола перед директором издательства рукопись, сказал, что это, дескать, для вас, и спустя пятнадцать минут вышел из кабинета с готовым контрактом и даже деньгами в кармане.
Но я помню, что Райло еще сказал при этом: «Однако тут имеется поручительство епископа». И рукопись была отправлена в набор.
Маленькие добрые превратности судьбы — так можно охарактеризовать ту цепь событий, благодаря которым я сделался писателем.
Poika eli elämäänsä Перевод Г. МуравинаСвадебная ночь (Случай из жизни, 1910)
В день ее свадьбы Оскару было не по себе. Будучи приглашенным, он не пошел на церемонию обручения, да и потом промедлил. Когда же он наконец явился туда, пробст уже успел уйти, а в людской танцевали.
Хозяйка оказалась в прихожей и сказала, поздоровавшись с ним за руку: «Добро пожаловать!» — и еще спросила, где же это он задержался. Оскар ответил, что голова побаливала.
— Молодые-то уже здесь, иди туда, — подбодрила она Оскара и скрылась в домашней пекарне.
Ольга сидела в дальнем конце стола, на лавке, рядом с мужем и, кокетливо смеясь, болтала с учительницей, сидевшей пообочь справа. Но взгляд Ольги то и дело устремлялся к двери; заметив Оскара, она оставила свое место и поспешила поздороваться с ним. Оскар протянул ей нарцисс, который принес из материнского сада. Девушка боязливо оглянулась на людскую, полную гостей, затем захлопнула у себя за спиной дверь и прикрепила цветок на грудь.
— Спасибо, что пришел… только теперь. Скоро будет попурри[8], и мне следует еще побыть здесь. Пойди хотя бы туда, в комнату. Ты грог пьешь?
Она провела Оскара, который еще не успел ничего промолвить, в заднюю комнату дома, где сидели пожилые мужчины. Хозяин дома встал, чтобы поздороваться, и предложил пропустить по рюмочке.
— Вот так-то, здесь, в глуши, можешь маленько и выпить, не сочтут за грех — Он многозначительно глянул на стол — Тут все имеется. Давай наливай, чего там.
Оскар объяснил, что, мол, не страшно, если и сочтут, сел за стол и с нарочито послушным видом осушил стаканчик. Затем толковали о выписке и пришли к выводу, что книгочею, к тому же бедному, негоже слишком увлекаться этим. В конце концов Оскар услышал свой голос, рассказывающий забавные студенческие байки, веселящие пожилых мужчин.
Но в людской в это время началось попурри. Вышло несколько пар, и прошло несколько минут, прежде чем танец заладился. Оскар следил за развитием танца с замиранием сердца, и когда начались последние фигуры, незаметно покинул комнату. В дверях людской он задержался до тех пор, пока его взгляд, обращенный на танцующих, не встретился со взглядом Ольги. Их взгляды устремились навстречу друг другу, как две тайные молнии, и никто не заметил их сверканья.
Юноша вошел в амбар. Значит, здесь суждено произойти их последнему свиданию, в этой постройке, хранящей уже много такого, о чем дано вспоминать лишь им двоим, постройке, повидавшей жизнь и обольстительно улыбающейся и в страдании, переплавленном в слезы.
Но ей еще не доводилось видеть того, чему предстояло произойти на сей раз.
Юношеский любовный пыл разгорался, молодой человек мысленно рассуждал сам с собой:
«Есть ли у меня право все по-прежнему прижимать ее к своей груди теперь, когда она уже обвенчана с другим? Есть, ибо я люблю ее. Дает ли любовь такое право? Дает или нет, но сейчас она моя, моя!»
И в памяти его мелькали видения, и из сердца его растекалась по всему телу горячая энергия.
На столе стояли розы и незабудки — свадебные цветы. Они издавали тонкий аромат. Казалось, будто уже ощущается здесь ее дыхание.
Юноша упал навзничь на постель, покрытую домотканым ковром. Попурри закончилось.
— Ты здесь?.. Мне было так не по себе… Я даже не сразу ответила «да» там, в церкви, и все уставились на меня. Но потом я уже была веселой и во время попурри думала о тебе все время. Знаешь что? Я считаю, что это все же правильно…
— Что?
— Что я вышла за него.
— Теперь ты его?
— Нет. Теперь-то я твоя.
— Моя?
— Не веришь, хотя обнимаешь меня?
— Целовались?
— Нет. Здесь. Да я бы и не позволила.
— А ты не боишься?
— Чего? Никто ведь не знает, что мы тут вдвоем.
— Нет, но…
— Ты меня упрекаешь?
— Что ты, что ты!
Он поцеловал ей руку, и в тот же миг ему показалось, будто воздух вздрогнул от какого-то разлада. Девушка приподнялась, села и прижала руки к пылающим щекам.
Они немного помолчали, острота момента еще не притупилась. Само мгновение было тончайшим, что-то могло сейчас разрушиться непоправимо, навсегда. Юноша понял это и еще чуть-чуть продлил молчание, глядя на Ольгу — цветущее, юное создание, в котором с каждой минутой естеством побеждалось сомнение, теряющее последнюю точку опоры. Это должно случиться сейчас или никогда…
Он приподнялся, сел и, притянув девушку к себе, положил рядом, справа. Затем он заглянул глубоко ей в глаза и спросил:
— Значит, ты моя?
— Твоя, твоя, возьми меня, любимый, сейчас, сразу.
И потом прерывистые восклицания, словно вырывались пузырьки из пенящегося бокала.
Они лежали неподвижно, как два мертвеца: юноша на спине, оцепенело, девушка — обвив руками его шею. Оба молчали, не шевелились, и им казалось, что они и не в состоянии пошевелиться, что им так и суждено застыть навсегда.
Нарцисс на груди девушки источал аромат, и внизу, в свадебном зале — в людской широко звучала полька-енка. Они прислушивались к этой снова и снова повторяющейся мелодии, позабыв и друг о друге, и о том, где они находятся. Сейчас свадебная ночь, нет ни прошлого, ни будущего, есть лишь праздничное настоящее.
Со двора послышался шум. Кто-то повторял пьяным голосом: «Невеста, эй, невеста, где невеста?» Его утихомиривал какой-то другой человек, но голос приближался к лестнице в амбар и уже доносился с лестницы:
— Где же, черт возьми, невеста? Я хочу мою невесту!
Они, лежавшие в постели на чердаке амбара, не шевелились.
Внизу, в доме, опять завизжала скрипка, зазвучала веселая полька.
Тот, кто подымался по ступенькам, пьяно срывается вниз. Потом удаляется, топоча. И они в постели снова не слышат ничего, кроме польки и гула свадьбы.
Девушка пододвигается, прижимается теснее.
— Там танцуют на моей свадьбе, слышишь? На нашей свадьбе, нашей… свадьбе.
Юноша не отвечает даже на ласку.
— Через два часа я уеду, слышишь? Уеду. Будь сейчас еще моим, хотя бы это время.
Юноша все еще неподвижен, и опять наступает долгая пауза, они лежат безмолвно.
Наконец девушка встает, смотрит секунду на своего сообщника и, уходя, шепчет в дверях: «Я еще вернусь».
Но она долго не возвращается, и юноша все так же неподвижен. Он уставился было в щель на потолке, потом закрыл глаза; шум свадьбы настолько одурманил его, что он уже ничего не слышит. Это будто внезапное перемещение из одного мира в другой, — мысль в сладостной расслабленности, одолевает истома, и невозможно ощущать себя в тот момент, в котором живешь.
Музыка прекратилась, и слышался лишь гул смеха и разговоров. Оскара осенило: теперь она, точно, придет.
Но Ольга все не шла, и он оставался неподвижен. Он больше не помнил, как долго пролежал, пока наконец не послышались шаги по лестнице, в следующую минуту он ощутил на шее знакомые руки, и Ольга легла рядом. Только на сей раз он оказался между нею и стеной. Ольга переоделась для отъезда, но оставалась все такой же страстной. В темноте сверкали ее глаза, и дыхание было жарким.
Только теперь она ничего не говорила, лишь гладила волосы Оскара и время от времени прижималась к нему со всей силой. Наконец, она прямо-таки вся вжалась в Оскара и прошептала: «Прощай, спасибо, теперь уже мы больше не встретимся».
На этот раз Оскар ответил на ее ласки.
Дребезжание катящихся колес удалилось, веселье стихло. Все реже слышались шаги по двору, изредка кто-то взбегал по ступенькам крыльца. Солнце поднялось уже высоко. Пучок летних утренних лучей проник в амбар сквозь щель в крыше.
Юноша вытащил из-под головы руку, она совсем одеревенела. Пошевелил ногой — та была как чужая. Поднявшись, он сел. Голова кружилась, и когда он ступил во двор, солнце в первый миг ослепило его настолько, что секунду-другую он ничего не видел.
Совсем пуст был теперь двор. А ухоженная трава на нем была в удручающем состоянии, и на ней виднелись следы, оставленные резко развернувшейся повозкой. Служанка доила корову в загоне. Больше не было видно ни одной живой души.
Оскар вышел на дорогу, что вела к берегу озера, и его усталый взгляд мерил залитые солнцем, мерцающие в дымке дали. Словно во сне шагал он по обочине привычной ему дороги, ничего не чувствуя, ни о чем не думая. На полпути он остановился и оглянулся назад. Он видел дом и сад, яблони и баню, клети и хлев и еще колодезный журавль, на верхушку которого, сменяя одна другую, присаживались ласточки. И он почувствовал, что просыпается. Все, что случилось с ним, что однажды началось в тот вечер, когда он возвращался с озера, и теперь кончилось, промелькнуло перед ним единой чередой картин.
Ольга! Это имя только теперь сверкнуло в его памяти. Стало быть, ее больше нет здесь, они расстались навсегда. Он понимал неизбежность этого, но казалось странным, что так произошло на самом деле. И он не мог стереть из памяти ее взгляда, который ему доводилось видеть и безнадежно тоскливым, и полным буйной радости.
Он подошел к береговому обрыву и остановился. Поверхность озера переливалась пологими волнами, посылавшими на берег бодрящий запах камыша. Он прислушивался к тишине, и мысли его опять пытались остановиться.
Но именно в этот момент до него донесся из-за озера, с дороги на склоне холма, удаляющийся стук колес. И словно горячая волна вдруг поднялась по спине и горлу к глазам, и молодой человек, всхлипывая, рухнул на землю в цветущие лесные купыри и колокольчики.
Hääyö Перевод Г. МуравинаЖизнь и солнце (Роман, 1916)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Старая хозяйка Малкамяки, или бабушка.
Элиас, ее сын.
Герцог, товарищ и друг Элиаса.
Богач, товарищ Элиаса.
Новые хозяин и хозяйка Малкамяки.
Ольга, их дочь.
Бруниус.
Вилле и Элиина, хозяева крестьянской усадьбы Корке.
Вяйнё, Люйли, Мартта, Сайма — их дети.
Тааве, работник в усадьбе Малкамяки.
Судья.
Харьюпяя Анна, знакомая Люйли.
Мать Анны.
Старуха с узелком.
Поэт.
Народ на помолвке, на танцах.
Мужчины, парни, женщины, девушки.
Действие происходит утром, днем, вечером и ночью в течение одного лета в окрестностях холмистой гряды, тянущейся чуть в стороне от Малкамяки к Корке, с севера на юг. Год не определен.
_____________
Elämä ja aurinko Перевод Е. КаменскойПролог
Возвращение в дом
Молодой человек возвращается домой в час, когда юное лето только достигло долины. Им словно осыпаны деревья, земля и небесный купол. Еще стоя на дороге, молодой человек видит отворенную створку двери, ведущей в сени, и это придает определенное выражение всему серому домику, на который молодой человек больше не взглядывает. Он приближается, но его шаг становится все тише, словно цель путешествия вдруг отодвигается в неопределенную даль. И уже совсем близко он вовсе останавливается, поворачивает голову и смотрит в сторону, будто хочет унять волнение распахнутой, ждущей двери: «Ну-ну, будет, не стоит так волноваться, ничего такого нет в том, что я возвращаюсь».
Он поднимается по трем ступенькам крыльца и еще раз оглядывается, прежде чем переступает порог, дверь из сеней на кухню открыта, и там хлопочет мать. — Ах вот она где, мать. — Нужно что-то сказать, и он говорит: «Здравствуй». Мать отвечает из кухни, но они не сходятся вместе. Молодой человек поворачивается и идет в избу, закрывает за собой дверь и в первый раз вдыхает родной воздух дома.
Так он возвращается на лето к матери, приходит в три часа пополудни в погожий июньский день, и в первые мгновения ему не по себе. Не случайно он мешкал на дороге, прежде чем войти в дом. Здесь каждый уголок, каждое укромное местечко нежно хранят всегдашнее знакомое настроение, и трудно выбрать, с чего начать освоение этого мира. Он обходит все кругом и в один час растрачивает все впечатления, так что когда он опускается в качалку, ему кажется, будто он и не уезжал отсюда вовсе.
Тихую-тихую мелодию оставили здесь, чтобы удерживать родившееся когда-то настроение. Окружение относилось к ней благосклонно. Просторная стена с дверью посредине принимала на себя вечерний свет, лившийся из двух выходивших на зады окон, а заглядывавшая в боковое окно ветка черемухи словно призывала взглянуть мимо нее на лежащую за окном долину. Долина с ее пологим склоном, со всем, что в ней было, охотно позволяла смотреть на себя, как человек уверенный в своих чарах; и пригожие глаза долго глядели на нее из-за черемуховой ветки, а едва слышная мелодия баюкала дом. Умиротворенная душа словно угадывала слабый травяной дух за окном, а тиканье настенных часов звучало как нескончаемое уверение. И мало-помалу уверения были услышаны и настроили душу человека на согласный лад. В иные мгновения озарений ему открывалась великая простота бытия, жизни; так и теперь его сознание согласно приняло в себя все: тиканье часов, запах молодой травы, нежное угасание дня и самого себя. Как будто его внутренний человек произнес: «Вот я», — и этим высказал и объяснил тайну бытия.
В такие мимолетные мгновения кажется, будто ты один существуешь в мире; но к этому чувству не примешивается ни ужас, ни восторг, в нем нет ни печального, ни радостного оттенка. Тогда бодрствует, ощущает и постигает лишь внутренний, изначальный человек — вечно неизменный, не знающий ни печали, ни радости, ни юности, ни старости. Такие мгновения случаются в жизни всякого, хотя у кого-то, быть может, они остаются незамеченными.
А то иногда покажется, что дух какого-то другого, знакомого мне человека, живого или умершего, витает рядом и пристально наблюдает за моими внутренними движениями. И если я обращу на него свой взор, то и мне откроется его изначальный человек — как бы нагой и беспомощный. И так, покуда внутреннее око не насытится зрелищем; тогда тело шевельнет рукой или ногой, очнется, и изначальный человек погрузится обратно в бездны бессознательного.
Такое внутреннее нечаянное движение произошло в душе сидевшего в качалке человека. Оно было связано с его матерью, которая находилась сейчас тут же рядом, за стеной, с этой пожилой женщиной, сделавшейся вдруг странно чужой, так что, глядя на нее, он подумал: «Это моя мать». Подумал не словами, но вид этого морщинистого лица вызвал в его душе нежное умиление, трогающее душу, подобно собственному отражению в зеркале, но от которого труднее освободиться.
Несколько дней тому назад этому молодому человеку, слишком задержавшемуся вдали от дома, внезапно пришло в голову, будто его мать умерла. Эта мысль мало-помалу сменилась другой: что его мать может в скором времени умереть. Но вместе с этой второй мыслью возникло сильнейшее чувство — догадка о его будущих ощущениях и изумление, что прежде он никогда не думал об этом. А именно: об истовости материнской любви, которую так сладко чувствовать вдали от дома и в непосредственной близости от мировых бурь и потрясений. Материнский образ, являющийся сыну, неподвижен и словно безымянен. И тому приходится в глубинах сокровенного выверять свое отношение к этому образу — к своей матери.
В подобные мгновения истинного прозрения случаются настоящие чудеса. Юное существо, которое, взрослея, легко и непроизвольно отдаляется от мира детства, оставляя и обитающего там всемогущего Отца нашего — Господа, это существо вдруг обращает взгляд на небо и смотрит на своего детского Бога как на доброго знакомца, о котором он никогда не забывал и на милость которого не переставал уповать. И теплая любовная волна заливает душу этого человека, всю отданную сейчас Богу и матери: «Если бы она уже умерла, вот теперь она бы точно почувствовала там, где она есть, эту мою доброту!» И образ матери, с которой молодой и неукротимый сын столько раз ссорился в домашней жизни, теперь разрастается и лучится светом в его воображении. И все, все лучится и светится — вся прожитая им до сего дня веселая беспутная жизнь.
Такова истовость материнской любви, озарившая однажды беспечного молодого человека, слишком задержавшегося вдали от дома. Это длилось от начала ранних сумерек до первых огней, зажженных в домах. И как легко стало после этого жить! Как славно стало петь и смеяться, шагая по улице и встречая приятелей! Как твердо верил он, что его матери суждена долгая-долгая жизнь, а его недавнее душевное волнение — нелепая случайность, воспоминание о котором недолго будет тревожить и преследовать его, потому что скоро потеряется из виду в людском потоке. Жизнь тем и мила, что не требует выставлять напоказ свои тайные душевные движения, а напротив, помогает их скрывать — прежде всего от самих себя.
И тревожащее молодого человека воспоминание совершенно выветрилось в тот же вечер и больше не возвращалось.
Но вот теперь оно снова шевельнулось в его душе, когда он сидел в качалке. На этот раз материнский образ был чуть иным: ведь она сама была близко. У него было чувство, словно мать могла прочесть все его тогдашние и все нынешние мысли о ней; она как будто заглянула и снова вышла, равнодушно бросив: «Ах, оставь, что за глупости!»
Эти переживания длились в душе молодого человека всего лишь краткий миг, подобно тому как созерцание жилок и зубчиков на зеленом листе может на мгновение отвлечь влюбленных во время свидания. Так что пусть теперь благосклонный читатель решительно выкинет из головы все, о чем ему толковали до сих пор, как влюбленные, оторвавшись от созерцания листа, вовсе забывают о нем и устремляются друг к другу. Итак — на дворе лето, и Элиас, сын старой хозяйки Малкамяки, вернулся домой; вот в этом-то событии и таится начало одного летнего рассказа, того рассказа, который со всеми своими глухими отголосками и созвучиями заблестит потом поэтическим блеском; это начало притаилось, как птичье гнездо в цветущем кустарнике. Сам летний воздух полон маленьких и больших тайн. Конечно, поют птицы, и кукуют кукушки, и разносится запах цветов. Но в глубине всего сущего лежит тайна.
* * *
Светила весенняя луна. Какая-то невидимая тяжесть ослабевала, поднималась ввысь и вот уже вовсе исчезла из воздуха. А вместо нее явился совсем особенный свет, днем неразличимый, но теперь, после захода солнца, повисший на макушках деревьев в парке, в желтой накипи цветущих кленов — словно замечтавшись. Это был последний день месяца, и на следующее утро молодого человека разбудил теплый, сухой аромат, напитавший воздух. Он слишком задержался здесь…
Gaudeamus igitur…[9]
Они купили хлеба, мяса и пива, притащили свои покупки в весеннее жилище и пировали все чудное утро напролет. Вдали — над крышами, в просветах между верхушками деревьев и печными трубами, — они видели голубой простор моря. В паузах между песнями они смотрели мечтательно туда, и молодо поблескивавшее море было созвучно их настроению. Все трое были в той поре, когда отрочество осталось позади, а возмужание еще не наступило; зато они обладали и преимуществами обоих возрастов: мальчишеской беспечной и сиюминутной радостью бытия и растущей мужественной силой. Элиас Малкамяки был из них самым красивым: плечистый, со здоровым цветом лица и с ласковыми глазами; из всех троих именно в его натуре ярче проявляла себя эта утренняя пора человеческой жизни. Его ближайшего друга звали Герцогом. Третьим — собственно хозяином комнаты, в которой они сидели, — был Богач.
Речи их были немного сумбурны и для непосвященного темны. В них то и дело попадались словечки, аромат, букет которых составляли воспоминания о совместно пережитых радостях и огорчениях, которые, впрочем, за давностью утратили свою огорчительность. Такие словечки могли повторяться сколько угодно раз — действие их всегда было неизменно. Им не обязательно смеялись, достаточно было улыбки, а улыбка ведь выше смеха. Временами воцарялось молчание… Малкамяки разглядывал рисунки, Герцог подошел к окну и начал напевать себе под нос народную песню. Богач дымил и смотрел на приятелей. Положение требовало каких-то действий. День был в разгаре, и они вышли на согретую солнцем улицу. Они были вместе последние дни, потому что лето уже наступало, и разрушало, и отодвигало в прошлое все, что зима скрепила и сблизила. Лето еще не явилось воочию, но все нарастало и набирало силу. В этом нынешнем его приходе была какая-то печаль, как во всем, чему приходится помимо воли отдаваться, но эта печаль была настолько неуловимой, что ее навряд ли можно было истолковать иначе, как пустою ребяческою фантазией, и каждый полагал ее собственной сердечной причудой. Но в настроение всей троицы, неспешно подвигавшейся по улице, она вносила сейчас особую размягченность.
Они двигались к Прибрежному парку и скоро уже шагали по песчаной аллее. Ближе к морю высилась скала, и дорожка огибала ее. Просторное небо, сверкающее на солнце море и сочная трава — весь зримый облик лета неотступно требовал от них каких-то действий, которые были бы с ним заодно. У подошвы скалы на самом солнечном припеке между кустами открывалась зеленая лужайка. Герцог почти невольно сошел с дороги и зашагал к лужайке напрямик, говоря: «Послушаем-ка, братцы, божественное дыхание лета!» Малкамяки и Богач последовали за ним, каждым своим расслабленным движением подчеркивая блаженную праздность.
Опустившись на траву, они почувствовали себя крохотной частицей окружавшего их искрящегося пространства. Ими овладело то сладостное безмятежное состояние, которое столь свойственно долгим жарким дням в середине лета. Они угадывали лежавший позади город с разогретыми улицами и видели перед собой широкий простор моря, и удивительное согласие между этими двумя явлениями как бы царило в воздухе. Приглушенный шум города и легкий плеск волн словно выражали одно. Друзья почти не разговаривали, изредка кто-нибудь изрекал фразу, не отрываясь от созерцания моря. И каждый хранил про себя, в глубине души, тончайшие внутренние движения и втайне упивался ими.
Потом Герцог негромко запел. Время от времени в стороне, по дорожке, лихо прокатывали сверкающие экипажи, и в них сидели по-весеннему одетые красивые горожанки с перьями на шляпах и улыбками на лицах. Они улыбались троим молодым людям и легко извиняли в такой день их мальчишескую вольность — их сидение на лужайке. То были счастливые мгновения. И душа инстинктивно искала в своих тайниках воспоминание об ином, отдаленном источнике счастья, чтобы мысленно прикоснуться к нему и взглянуть на него теперь, в новом свете. Этот отдаленный источник, это сокровище — нежнейшее из всего, чем человек может владеть. Это крохотный кусочек прошлого… Далекий обширный край, изрезанный перелесками и озерами, вкушает праздничный покой, трава сочувственно перестает расти, отдыхая, небо и земля по-праздничному выметены и прибраны. Они — гости в доме, где по короткости знакомства можно не чиниться и молодежь общается отдельно от старших. В душах молодых радостное смятение, и глаза выдают его. Взгляды двух людей нечаянно встречаются, и никто этого не замечает. Чуть позже молодой человек хочет повторить сладостный опыт, но девушка не поднимает глаз. Только в воротах, когда гости уже уходят по дороге, они снова взглянут друг на друга. И молодой человек не узнает, что это было — правда или шутка, но это останется в нем — маленьким, теплым, тайным комочком. Потом он уедет из тех мест, и с ним вместе уйдет лето… А в городе если порой и виден далекий горизонт, то он кажется чем-то чужим и сторонним, от чего город надежно защищает.
Это маленькое нежное воспоминание чрезвычайно деликатно. Оно появляется только тогда, когда мир вокруг дышит в лад с ним и словно нуждается в нем для полноты настроения. Тогда оно является, и особенная его прелесть состоит в том, что от явления до явления его как бы не существует вовсе.
Качалка все раскачивается, а мелодия временами стремится прозвучать высоким дискантом. Такое с Элиасом Малкамяки делается со вчерашнего дня, словно то вчера еще не кончилось, еще длится тот же долгий час, могущий завершиться только одним. Расставшись накануне вечером с приятелем, Элиас не вернулся тотчас к себе домой, но, перейдя городскую заставу, отправился бродить и, взобравшись на холм, смотрел оттуда на город, казавшийся нарисованным между небом, землей и морем. И эта картина города тоже была сочувственной поверенной его тайны, она уже все знала. Рано утром он двинулся в путь, и вот этот долгий час все еще длился.
Элиас увиделся с матерью, пережил несколько особенных мгновений, с нею связанных, потом сидел в качалке и ждал. Ждал прихода вечера, ждал мягких ночных сумерек. Его воображение волновали трогательные картины: линия горизонта над холмистой грядой и там, на этой гряде, одна прогалина, откуда виден лежащий внизу двор, крыша избы, тропинка к амбару…
Его сердце подпрыгнуло и остановилось — он увидел в окно, кто идет. — Идет сюда! — Уже слышны шаги, он метнулся в горницу. На мгновение перестал слышать бешеный стук сердца. Замер, словно в ожидании выстрела. Потом прозвучал голос.
Глядя в окно, он не обманулся насчет того нового выражения, которое прошедшая зима придала лицу и взгляду гостьи.
Весна Люйли Корке
Снег этой весной сошел быстро. Зима спала, как пелена с глаз, растаяла, не сходя с места, и скоро показалась такой же далекой, как все предыдущие зимы. Отличительная черта зимы — неподвижность, все замирает на своих местах — и материя и дух. Бредущий среди зимы человек передвигается словно по пустыне, вокруг него однообразная и однородная пустота, и порой его посещает чувство, что здешнее время или, скорее, безвременье началось безмерно давно и отныне пребудет вовеки. В разгар зимы в человеке не шевельнется ни единая живая весенняя мечта. Мечты проснутся лишь тогда, когда хоть один из органов чувств человека распознает первые признаки весны.
Зима для Люйли Корке миновала вполне незаметно, так что, ощутив приближение весны, она просто проснулась — или так ей казалось. Ее глаза, разумеется, видели, что творилось в природе в эти последние недели, но мысль скользила мимо, не захватывая ничего из внешнего мира. Тайные слезы, проливавшиеся день за днем в начале осени, усыпили мысль, и так наступила в их доме зимняя тишина; жужжание прялки, мелкие домашние дела, занимавшие день от утренней до вечерней зари, проходили медлительной чередой, не тревожащей сон ее мысли. Кто-то говорил, что нынче Сретение, потом — что Благовещение, и в эту пору на полу, на косяках окон стал появляться к вечеру какой-то теплый сочувственный свет, который непостижимым образом вызвал из глубин и воскресил в памяти давнее детское ощущение, воспоминание, не имевшее ни времени, ни места… Такое и вправду затуманивает разум, но в то же время действует умягчающе, и, очнувшись, чтобы приняться за работу, человек чувствует внутри сладкую расслабленность, как после слез. Этот нечаянный луч, столь сочувственно-благожелательный, что, проливаясь сквозь оконный переплет, слепит глаза и на миг стремится приковать к себе расширенный взгляд темных глаз, этот луч, однако, не мог в начале весны разбудить душу, усыпленную в слезах в сумрачную осеннюю пору ее духом-покровителем. Люйли взглядывала на пятно света, если бывала одна в избе, и принималась снова за работу — чесать шерсть.
Но что не удалось мартовскому дню, сумел сделать апрельский вечер.
Зимой Люйли Корке пряла шерстяную пряжу, собираясь потом ткать. Изготавливались початки, смолкало жужжание прялки, сменяясь скрипом мотовила; готовая нитка наматывалась на рожки, двигались пальцы и губы девушки, отсчитывавшей обороты. Когда оба початка перематывались, тонкие пальцы перевязывали пасмо, сгибали подвижный рожок мотовила, и моток соскальзывал на запястья пряхи, чтобы проворно смотаться в клубок и отправиться в сенной чулан, в корзину из дранки. В апреле клубки уже переполняли корзину, далеко высовываясь за ее края. И мать раза два вскользь промолвила, что шерсти довольно, что впору ее красить… Как-то вечером в среду Люйли тихо порадовалась тому, что «вот этот моток, верно, последний».
У Люйли оставался почти час свободного времени до ужина. Она медленно прошла по двору, мешкая в лучах неяркого света, и остановилась за углом кухни, словно кто-то подал ей тайный знак — весть о лете. Во всем ее облике виднелась неуверенность и непривычка к нынешней праздности. Руки, лицо, даже складки ее передника дышали прилежным трудолюбием, словно всю ее целиком окутывал будничный домашний воздух. Но вокруг разливался апрельский вечер, творивший на земле неисчислимые красоты — те, что длятся лишь миг и тут же сменяются новыми, успевая порадовать разве что гаснущую вечернюю зарю, оставляющую их на земле после себя. Осины во дворе усыпаны лопающимися почками, бурый крап которых делает приметнее лиловый тон неба. Это изысканно-нежное сочетание цветов — самая первая, чистая весенняя греза, которой предается природа прозрачным апрельским вечером. Широкий простор кругом еще не облагорожен, еще видны черная земля, коряги, мертвая прошлогодняя трава, голая деревня внизу и вспухший свинцово-серый лед на озере. Там обитает унылая часть весеннего настроения, оттуда она смотрит взглядом изнемогающей зимы, снизу вверх, на парящие в вышине осины, на девушку возле них — на Люйли Корке. Ей она тщится напомнить об ушедших месяцах, у нее просит немного сочувствия к себе, уходящей. И в глазах девушки на миг появляется печаль. Она думает: «…зима… зима…», взгляд ее расширяется, а в груди просыпается нежная жалость оттого, что она одна-одинешенька. Это обретенное ею душевное богатство, дающее силу, как глубокий покойный сон. Но сила темна и тяжела, и вслед за утихшим волнением может пролиться медленными слезами… но не теперь, когда глаза Люйли устремлены на всходы ржи, чья радостная зелень живит душу. И, словно напоминая ей о более близком, весело вспыхивает огонь в топящейся бане.
Изба, и двор, и весь их родной домашний строй вдруг разом вошли в сознание девушки. Глаз любовно отмечал знакомые особенности стен и потертых ступенек крыльца. Во всем, что окружало, словно таилась притягательная сила, неуловимая для взгляда, исчезавшая, едва взгляд чудесных глаз обращался в ту сторону. Позади избы по-прежнему проживал северный холод, а окна горницы без выражения смотрели прямо перед собой, на луг, напоминая человека, который, не держа ни на кого зла, все же хочет немного побыть один. Туда не дотягивались закатные отблески, но, оставаясь здесь, по эту сторону, они безраздельно царили в атмосфере и настроении усадьбы. Вся округа словно обратилась лицом на запад, в сторону заходящего солнца, вперила в него взгляд и не желала оглядываться.
Вечер убывал по мере того, как в воздухе сгущались сумерки и яснее обозначалось зарево заката. На его фоне четко и холодно проступили обнаженные верхушки ольхи, заросли которой тянулись вдоль Корке, окаймляя спускавшийся со склона к деревне и озеру лес. Лес простирался до самого мыса, завершаясь на его оконечности пышными кустами чернотала. Они стояли в стороне, особняком от лесной толпы, как особы утонченные, прекрасные собой, гибко-изогнутые и заметные издалека. Возле них даже серый лед был окрашен в изысканные тона, а за ними открывалось взору то не выразимое словами событие, отголоском которого и было особое настроение во дворе усадьбы. Два дрозда прилетали туда, покрикивая хором, и, оттого что они летели высоко, солнечные лучи успели позолотить перья на их брюшках. В их изящных голосах словно была видна эта позолота.
Темноглазая дочь хозяев Корке сидела на низенькой скамеечке в бане перед очагом. Неровное пламя освещало ее лицо с левой стороны, и крохотные огневые блики плясали в ее глазах, неотрывно глядящих на прозрачный вечер сквозь квадратное оконце в четыре стекла. Она была словно воплощением навсегда поселившейся здесь грезы. Воздух в бане начал проясняться, дым унялся и завис над грезящей головкой ровной легкой пеленой, которая тихо, едва заметно уплывала наружу в щель под дверной притолокой. Огонь горел ровно и не привлекал внимания. Не было ни слышно, ни видно ничего, что нарушало бы покой; все сущее неотступными, беззвучными увещеваниями силилось задержать наступающее мгновение. Треугольный мотылек приник в уголке к стеклу, и его застывший силуэт вырисовывался на фоне неба.
Здесь Люйли Корке начала просыпаться для весны, и чувство пробуждения волной пробежало по ее телу.
И подобно тому как при пробуждении от сна первая мысль бывает обращена к недавнему сновидению, тут же ускользающему, но остающемуся вблизи как живое существо, так и мысленный взор Люйли обратился к прочной и широкой картине прошедшей зимы. Она не вспоминала отдельные подробности, ей только казалось, что какое-то крупное и длинное живое существо удаляется прочь сквозь сумеречно-туманные заросли. Оно задержится там еще на ночь — это от него та досадная бледность на небе, но уже завтра, при солнечном свете, воображение будет бессильно его вернуть. — Какой я была наивной! Зима уходит, и вот она я, вот мои руки и грудь. Осенью я плакала и была несчастной, а теперь зима прошла, я вижу это ясно в квадратике окна. Потом май, четыре недели и две недели, шесть недель. И вот оная… И еще будут ночи…
Взгляд Люйли сам собой скользнул вниз, к примолкшему в очаге огню. Сумерки так сгустились, что блеск огня давно осилил наружный свет и очертил перед очагом неверный яркий круг. Снаружи небо начинало зеленеть. И путешествовал по стеклу мотылек.
Какая-то долгая, несчастливо начавшаяся пора завершилась, и наступало воистину заслуженное беспечальное время, которое не имело права быть никаким иным. Только счастливым! В воображении проносились танцы, нарядные платья, белые бессонные ночи, прохладная росистая трава, все, столько раз прежде воображенное и никогда не испытанное… — Я девушка. Мне девятнадцать лет. А Вяйнё уже двадцать один, и прошлым летом он уже ходил повсюду и делал что ему вздумается. Мартта и Сайма еще маленькие. Я помню, когда они родились… И я знаю то, чего они не знают.
Какое-то незнакомое жаркое и бурное чувство зашевелилось в груди Люйли; глаза ее горели, и она не могла оторвать взгляда от тлеющих углей. Инстинктивно она попыталась замедлить, отодвинуть наступающее время. Ей начали приходить на ум странные, никогда прежде не посещавшие ее мысли — они вползали тайком и кружили голову, и она не могла различить, что в них хорошо, а что дурно, что гадко, а что прекрасно.
В баню вошла мать готовить все для купания и заметила странное состояние дочери. Она ничего не сказала, только взглянула на Люйли и спокойно занялась делом. Но у Люйли было чувство, что мать уличила ее в чем-то тайном. Она поднялась и вышла на улицу.
— Слей воду с картошки и выложи ее в миску, — крикнула ей вслед мать.
Со двора еще не вовсе исчезло давешнее настроение, и Люйли явственно ощущала его следы, пока шла по дорожке к избе. Но ей уже казалось, что чувства, недавно испытанные ею здесь, принадлежали прошлому, ушедшей зиме. Она бегло взглянула на лесистый склон холма и попробовала вообразить, какой оттуда увидится земля. Воздух похолодал, осины уже пропали в темноте. Вечер как будто подступил вплотную, и в нем была небывалая, затаенная пылкость. Зловещий призрак счастья промелькнул мимо, бросив коварный взгляд на девушку.
Из избы доносилось ровное насвистывание Вяйнё. Значит, он вернулся с работ и сидел один. Люйли прошла прямо на кухню. В очаге под котлом с картошкой горел огонь, рядом стояла Сайма и глядела на огонь. Все было, как бывало прежде, но Люйли казалось, что повторяется какой-то особенный, давным-давно прожитый ею кусочек жизни. Ее чуть-чуть тревожило, что все вокруг было слишком спокойным и обыденным. О чем Сайма думала, почему она молчала? Почему в этот вечер Вяйнё насвистывал один, сидя в потемках, и почему он казался сейчас таким опытным и взрослым мужчиной? Где отец и Мартта? Разве случилось что-нибудь? Ничего, скоро все лягут, и она одна будет не спать. И тогда жизнь снова станет надежной…
Нет, ничего еще не случилось. В Корке поужинали и отправились в баню. Сначала отец с Вяйнё, потом Люйли с девочками. Элиина, хозяйка, в этот раз не пошла.
В воздухе была разлита всегдашняя вечерняя истома — будни! — скрашенная, однако, тем, что ужинали и парились, не зажигая огня. И спать тоже легли не сразу, а еще немного поговорили. Говорили о новых господах в Малкамяки, помянули и вдову старого хозяина, продавшую свое арендное право. Она приходилась дальней родственницей Элиине — это чувствовалось в тоне разговора. О ее сыне Элиасе речь не заходила. О нем упоминали вообще чрезвычайно редко и всякий раз с опаской, словно боялись невзначай коснуться чего-то более важного, к чему он имел прямое отношение. А нынешний вечерний разговор был окрашен в спокойно-безмятежные тона, никто никому не противоречил, и в самой полутьме было что-то непривычно праздничное.
Нет, зримо ничего не происходило, и довольно продолжительное время. Нельзя же в самом деле назвать событием то, что некое юное существо дольше обыкновенного смотрит на небо, с которого бледный румянец не сходит уже всю ночь. Всякий подобный созерцатель временами предается мечтам, что он один в целом мире, и думает при этом о некоторых весьма деликатных предметах, к которым мысль осмеливается обращаться только в такие минуты тихого покоя, когда чистый сон ближних освящает воздух дома. Глаза с подушки смотрят в окно и начинают угадывать бледную звезду, мерцание которой рождает детские представления о небесах и ангелах. Воображение щедро украшает деликатный предмет подробностями необходимых событий, которые, послушные неподвижному взгляду, отправляются в отдаленные пределы, — туда где обитает бледная звезда. Неслышно утекает ночь, и ровное дыхание ближних словно свидетельствует об их неизменном согласии с кем-то, кто со своих высот обращает к ним такие долгие и приятные речи. Временами бледная звезда вспыхивает ярче и как будто приближается к следящим за ней глазам.
Прежние, даже недавние, впечатления отступают назад и кажутся ничтожными. А греза, сон наяву — как она напугала меня вечером! — делается все ярче и вот уже взлетает туда ввысь, к звездному свету… он вернулся домой этим вечером! Бледный свет на небе говорит об этом… он вернулся, он шел по дороге, пока я стояла во дворе. Вот в чем дело, вот ослепительно-радостная разгадка, ускользавшая прежде от меня, порхавшая над обочинами дорог и кронами осин, которую я не могла поймать… Вот разгадка, я мысленно произношу это имя — Элиас! Элиас… он ждет на холме, он идет сюда, я слышу, я вижу его. «Здравствуй… Люйли!» Это я, это мое имя…
Напрягаясь всем телом, Люйли приподнялась, не отрывая взгляда от окна, где в посветлевшем воздухе виднелся пологий спуск. Подле нее ровно дышала Сайма. Кругом слышалось сонное дыхание, оно словно уговаривало ее лечь и уснуть. И окна вторили ему, поглядывая в комнату и как бы соглашаясь: «Да-да, это так, так… так».
И девушка уступила и предоставила светлую ночь самой себе, опустилась на постель и закрыла глаза. Молодой человек, Элиас, предмет всех ее мечтаний, был уже не где-то там, вдали, а подошел и встал рядом. Люйли не стала открывать глаза, они и так смотрели друг на друга… «Люйли, Люйли, скоро настанет лето, скоро… и, конечно, мы… о, мы ведь с осени…»
И так — весь счастливый сон напролет, до самой утренней зари.
* * *
Все душевные волнения, испытанные Люйли Корке в тот апрельский вечер, скоро совершенно забылись, как забывается пышная зелень предыдущих весен. Весне свойственно легко забывать прошлое. Все непрестанно меняется, растет, набирается сил. И нынешний день смотрит на минувший с тем же чувством, с каким взрослый человек вспоминает о своих детских страхах и беспомощности. — Какая я была глупенькая тогда, в апреле! Ведь тогда была еще совершенная зима. Ну да, цвели осины, но зима разве только чуть-чуть подтаяла; мне просто пришлось сделать усилие, чтобы хоть немного оживить то, что зимовало во мне…
Так у Люйли к радости пробуждения в те апрельские вечер и ночь примешивалась печаль. Природный инстинкт еще осенью нашептывал ей, что в самом ее деликатном предмете таится великая скорбь, и, послушная этому инстинктивному голосу, она проспала всю зиму и заставила себя забыть нечаянные летние радости. Зимой это было легко, когда все пребывало в оцепенении и немыслимо было вообразить, что существовало что-то живое под этими ледяными снегами. А оно существовало — крохотный травяной зародыш. И пришла весна, принужденное оцепенение спало, и в душе девушки начала оживать какая-то точка, из которой распространялось и заполняло всю душу беспричинное, бурное, небывалое чувство счастья. Инстинкт твердил, что это чувство — предвестник грядущей скорби, силился заглушить его и вытеснить из мыслей имя. Но весна настигала, и чувство счастья стало необоримым, как безумное влечение. Чувство победило, ее рассудок ослабел и позволил произнести апрельской ночью то единственное имя. Время дышало опасностью, ночь от ночи надвигалось лето. У ступив однажды, удерживаться долее было невозможно, приходилось сдаться. Девственность души была утрачена, погубленная весною. А горевать об утраченном — напрасный труд. Лучше уж вволю насладиться тем, от чего, мнилось, достанет сил отказаться. — Что из этого выйдет? Этого я не знаю. Но пусть пока душа радуется, пусть выпьет полную меру отпущенного счастья, ведь и отпущено оно на короткий срок.
Однажды отдавшись чему-то, с этим свыкаешься и приучаешься смотреть на свое прежнее борение как на наивное ребячество. Люйли казалось, что пространство, в котором она существовала, само собой раздвигается. Ощущение жизни словно переместилось изнутри, из ее груди наружу, в этот сверкающий простор, и ее пульс бился в такт со всей жизнью, расширившейся до необозримых пределов. Она чувствовала себя подвластной учащенному биению этого пульса. Ее сердцу не приходилось больше тоскливо сжиматься, солнце с каждым днем все усерднее отогревало его. Никакие дурные предчувствия больше ее не мучали, и то единственное имя больше не могло смутить ее душу. Она с живым интересом, но спокойно ожидала грядущего и ощущала прибывающую и растущую в душе сдержанность. Этот бурный период ее внутренней жизни был заметен и извне, так что лукавая Мартта однажды уже не удержалась от намеков и вогнала старшую сестру в краску. Но дни бежали все быстрей, и в один месяц Люйли так расцвела и похорошела, что сама стала замечать это по взглядам, которые на нее бросали домашние, что рождало в ней незнакомую приятную истому.
Отмечали то же и посторонние. Как-то в мае Люйли отправилась в деревню за нитками для основы. Уже под вечер возвращалась она домой, идя стороной мимо там и сям стоящих изб. В одной из них возле окна сидели три старые бабки и кофейничали, держа блюдечки на растопыренных пальцах. Разговор был самый оживленный, одна из собеседниц сидела с открытым ртом, ожидая, пока две другие с шумом отхлебнут кофе и она снова получит слово. Наконец одно блюдце опустело, старуха пошире открыла рот, но тут, как назло, кто-то прошел мимо по дороге. Та старуха, что успела допить кофе и как раз ставила блюдце на стол, первая заметила прохожего и скакнула к окну. Две другие засеменили следом, стараясь удержать шаткое равновесие блюдечек на кончиках пальцев. Первая старуха уже возвращалась к столу. «Похоже, дочь Корке», — заметила она. Ее товарки остались у окна и из-под прикрытия следили за проходившей мимо Люйли. К прерванной беседе было уже не вернуться, разговор застопорился, и старухам было неприятно, что новое событие не может служить темой для обсуждения. Ни одна из них не видела Люйли и ничего о ней не слышала изрядно давно, и уж вовсе никто не видел ее такой похорошевшей. Это обстоятельство, разумеется, стоило упомянуть, но сколько-нибудь развить тему не удавалось. Ни эту, ни какую иную, и разговор окончательно расстроился.
Люйли, конечно, заметила старух, и ее сердце гордо забилось, она даже почувствовала симпатию к этим бабушкам. Весь окружающий мир простирался у ее ног, ей казалось, что каждый шаг ее ласкает землю. Воздух был словно напоен теплым дыханием, впервые в эту весну или почти лето. Жужжал шмель в кустах дикой смородины, почки на ее ветках сливались в светлые полосы, которые издали казались висящими в воздухе. Был еще совсем день, но на мгновение свет разгорелся ярче, и почему-то на память пришла шоколадная бабочка, гревшаяся на стене деревенской лавки, а потом вдруг улетевшая. Тогда был полдень. Теперь же большая часть дня прошла, хотя солнце по-прежнему стояло высоко. Днем оно как-то пряталось от людских глаз в необозримом ослепительном далеке. А теперь умерило свое сияние, на него можно было смотреть с улыбкой, и в ответ оно взирало на дитя человеческое с непостижимой веселой строгостью.
Всю дорогу домой мысли Люйли занимали всевозможные подробности, которые предлагал ее вниманию окружающий ландшафт. Словно там, на границе земли и неба, было некое живое существо, смотревшее на нее, все понимавшее и одобрявшее и поэтому особенно притягательное. Это был сам мировой простор, и было предчувствие какого-то иного, еще более великого простора. В первый раз на этом пути к дому она начала осознавать, что взрослеет. Она вспомнила старушек, глядевших на нее из окна, вспомнила, с каким выражением смотрели на нее в последнее время домашние, и спокойное осознание себя впервые пришло к ней.
Она вступила на свой двор и заметила, что сережки на осинах распушились, а часть уже осыпалась на молодую траву. Заметила это вдруг, сию минуту, вернувшись из своего путешествия. И в этом был знак того, что что-то закончилось. Озеро волновалось — этого она тоже не видела прежде. Словно колыхалось далекое ржаное поле с длинными стеблями, зелень которых успела слегка поблекнуть. Люйли вспомнила тот далекий апрельский вечер, когда она сидела в бане у очага, и почувствовала, что та пора ее жизни завершилась. Но что за путаное, что за сумбурное это было время! Каждый день, почти каждая следующая минута отличалась от предшествующих и, едва наступив, тут же стремительно уносилась в прошлое и исчезала в нем. А каким маленьким, каким слишком знакомым увиделся ей теперь родной дом! И молодые березы возле как будто вечно стояли в зелено-желтом облетающем ореоле, прекрасные со своими младенческими листочками. Но Люйли казалось, что их красота напрасна — никто ведь не любуется ею. — А там за холмом, куда я ходила, где такой простор, как там должно быть славно по вечерам! — И с легким вздохом Люйли отправилась со своими нитками в горницу.
В избе было тихо, потом мать спросила кого-то:
— Так что ж, дождалась старушка сына домой?
Значит, у них был кто-то из Малкамяки, Тааве, наверное.
— Да нет еще, — раздался голос гостя, сидевшего на боковой лавке. — В пятницу обещался быть.
В голове Люйли, словно в музыкальном ритме, проплыли слова: «Суббо-та, эт-та суббо-та, вече-ром». Но как славно нынешним вечером дома! Будто воздух из тех просторов приплыл сюда следом за ней и растянулся во всю ширь над крышей, ожидая ее. — Но я ведь буду дома, я больше сегодня не выйду! Интересно, а как Тааве теперь выглядит?
Сидевшие в избе услышали, как Люйли вышла из горницы и подошла к двери.
Тааве поздоровался. Люйли остановилась. Тааве поднялся и протянул руку. Потом мать спросила ее о покупке, и все остальные сидели молча. Потом наступила тишина, и Тааве стал прощаться и ушел. Остались только свои, и в избе все задвигалось, зашевелилось. Спустя долгое время Вяйнё, подмечавший все, сказал:
— В Малкамяки-то, видать, поселилась необыкновенная мамзель, хо-хо!
Вяйнё весело зевнул, словно прибавив: «Что ж, поглядим!»
Ему никто не ответил. Люйли стояла в стороне, предоставленная себе, и находила в своем воображении новый предмет, вызывавший у нее невольную усмешку. Она не могла не улыбнуться Тааве, который совсем смешался оттого, что Люйли Корке прочитала его мысли. Поистине в мире что-то происходило! Но что? Ночь была совсем светлой. И во дворе усадьбы Корке белел приплывший сюда из-за гряды следом за девушкой поджидавший ее воздух.
* * *
Эту ночь и несколько следующих Люйли спала так крепко, как не спала уже давно. Собственно, она не понимала, спит она или бодрствует, она только чувствовала свое сосредоточенное и сильное существование. Молодая кровь, столь долго находившаяся в состоянии брожения, теперь растекалась спокойными, мощными, горячими волнами. И окружающая природа расцвела пышнее и великолепнее. Повсюду поднимались широколистные травы, словно нечаянная прибавка к неверной и упоительной роскоши летнего мира. В старой чаще словно потеплело, когда черемуха вдруг обвесилась кистями. А буйные черемуховые заросли, поднявшиеся на открытых местах, стояли словно накрытые одним низко опущенным цветочным капюшоном, и хотелось тотчас нарвать полную охапку цветов, чтобы поглубже вобрать в себя их дух. Глядя на них вблизи, нельзя было не думать с любовной лаской об этой земле, из которой они черпали силы. Там и сям на холмистой гряде уже витал едва слышный сухой земляной аромат. Это цвела земляника.
Но всего этого дочь хозяев Корке почти вовсе не замечала, ее душа находилась в том же упоенном состоянии, что и природа. Она сама сознательно была частью окружающего мира. И уже отдельно не замечала своего душевного состояния, тем более не скрывала его от других. Существовало много слов и вещей, о которых толковали люди, такие же, как она, но на этом ее мысль задерживалась не более, чем на молитве, которую мать читала по воскресеньям. Одним из таких слов было слово «любовь». Она не знала, что это значит.
Едва ли в эти дни она хоть однажды подумала именно о самом деликатном слове, вернее, она не замечала, что это было единственным, о чем она думала все время. Она пребывала в каком-то дремотном состоянии, но ей было хорошо. Два дня кряду с утра до вечера сматывалась нитка с вороб на вьюшку, и поскрипывание отзывалось в ушах девушки веселой болтовней, к которой она прислушивалась с порозовевшими щеками. Ей вспоминался Тааве и то, что сказал, позевывая, Вяйнё в субботний вечер после его ухода. Ей было приятно, что она тогда все тотчас поняла про Тааве. Бедный-бедный Тааве!
В среду она сновала — прокладывала основу, и вечером Вяйнё стал навивать нить на заднюю колоду кросен, на навой. Окно было открыто, ласточки уже прилетели.
— Придется сходить в Малкамяки, — сказал Вяйнё.
— Зачем тебе? — спросила сестра.
— Схожу за бёрдом для тебя! — Брат валял дурака.
Сестра промолчала, не поднимая глаз от кучи щепок, которые она подкладывала между слоями ниток на навое.
Продевание основы в нитченки заняло четверг и пятницу. Наконец миновал и вечер пятницы. Странно было ложиться в этот вечер на знакомую подушку. Когда она, лежа, смотрела в окно, казалось, что там на улице повеяло прохладой, хотя было, напротив, очень тепло. Она не думала ни о чем и незаметно заснула.
В первую половину субботы она заканчивала с нитченками. Потом устраивала для себя постель в амбаре — Вяйнё уже перебрался спать в клеть. Потом она сменила платье. Казалось, что она обдуманно готовилась совершить что-то запретное. Словно что-то неотступно увлекало ее за собой. И вот — и вот наконец наступила эта минута — она уходила, она шла за бёрдом.
— Вели Элиасу зайти как-нибудь, — сказала мать.
Дочь вышла из амбара и направилась к воротам.
— Разве он вернулся? — безразлично спросила она.
— Как же, вчера еще должен был, ты разве не слыхала, — ответила мать.
— Нет, не слыхала, — сказала дочь, не оглянувшись.
И она пошла, не чуя под собой ног, и напрасными, незамеченными оказались все красоты, которые земля взрастила в ее честь.
В Малкамяки она двинулась к нижнему домику, где жила старая хозяйка. Поздоровалась с ней, сказала о своем деле. Поздоровалась также с ее сыном Элиасом, веселым, разговорчивым и бойко на нее глядевшим. Потом хозяйка отправилась на чердак за бёрдом. Элиас был в это время в горнице, но скоро вошел в комнату.
И тогда настала та неизмеримая во времени кратчайшая минута, которую одна молодая девушка бессознательно ждала всю зиму и осознанно — воображая и упорствуя в своих фантазиях — всю весну. Теперь наступило лето, теплое и безмятежное.
Вот он, этот молодой человек с блестящими глазами, он приближается к ней от двери. Девушка смотрит на него прямо, не отрываясь. Выражение ее глаз странно: можно сказать, что они горят страстной враждой.
Он подходит близко, и девушка взглядывает на дверь, словно ждет еще кого-то.
— Как ты поживаешь? — спрашивает он.
Слова ничего не значат, значит только голос. Он кладет руку ей на плечо.
— Хорошо! — это ответ, и еще слышен короткий смешок.
Свободная рука девушки ложится на его запястье. Его свободная рука обвивает ее. Они оба стоят. Его поза — поза лесного жителя, ждущего услышать хруст ветки. Словно за дверью таится опасность. Слышатся приближающиеся шаги старой хозяйки. Минута кончилась.
— Может, оно широковато; ты сколько сказала — в шесть или в восемь пасм?..
Люйли Корке шла домой. У нее было чувство, что лето тянется очень, очень долго… Ее руки сжимали бёрдо. А-а, ну да, конечно: она ведь пряла зимой. Удивительно, каким славным вдруг показалось то время. Ну да, верно, потом она распетливала на воробах, и сновала, и продевала в нитченки… Что за чудеса, солнце словно и не думает садиться… Люйли чувствовала, что она никогда больше не заснет, во веки вечные. И она шла, шла по прохладной вечереющей летней тропинке к своему дому, в Корке, домой, до-мой, в Кор-ке-е…
Вступление
Начинается поэма лета. Уже обозначилась площадка, на которой развернется действие. Густолиственные берега, холмы и водная гладь, и между ними — рожденные человеческими страстями домашние очаги. В них и вокруг них вечно продолжаются, являя вовне человеческую страсть, движение, бытие, мысль. Вечно продолжаются под небесами, как от века день сменяется сумерками, а зима летом. И вот снова одно некое лето и летние сумерки. Молодая девушка, Люйли Корке, только что вышла из Малкамяки. Отсюда и потечет одушевленный рассказ, ибо вечер не завершен, отнюдь нет. Но пока еще рано, еще не время трогаться в путь, остановимся и помешкаем, словно и не думая двигаться дальше… Потом, позже, когда летний воздух приглушит все порывы и звуки, так что вдали не будет слышна ни музыка, ни гам танцев, разве что кто-то распахнет дверь… А пока помешкаем во дворах, посидим и поглядим на землю вокруг и на горизонт. В их выражении есть выжидательный оттенок.
* * *
Господский дом в Малкамяки и чудная, постоянно меняющаяся природа вокруг… побудем пока здесь.
Дом стоит примерно на середине пологого, обращенного на юг склона долины; над ним уходит вверх неплодородный каменистый косогор, скрашенный кустарником и одинокой рябиной. Подле рябины лежит валун. С какой бы стороны ни подходить сюда, взгляд сам собой останавливается на этом валуне и этой рябине. Весенними вечерами они общим живописным очерком выделяются на фоне неба. Похоже, что валун и рябина неотрывно смотрят на юг, куда удаляется, чуть отступя от кромки воды, крепко сложенная холмистая гряда. Где-то там вдали отходит от берега тот самый мыс, на оконечности которого изящно изгибаются кусты чернотала. Но там — другая усадьба, и ее взгляды гибкий чернотал притягивает так же, как рябина и валун притягивают взгляды Малкамяки и всей стороны окрест.
От этой здешней стороны в ту сторону ведет летняя дорога, бойкая и разнообразная, как приятная беседа. На порядочном расстоянии отсюда есть поросший вербами сырой овраг, на дне которого среди густых папоротников журчит холодный ключ. В этом месте петлистая дорога как бы выказывает путнику особенно живое участие, словно знает наперед о сумятице его мыслей, знает, откуда и куда он идет. Она и не думает потешаться, напротив, она сочувственно подмигивает робкому путнику и как ни в чем не бывало ведет его дальше вверх и снова вниз к ближайшему серому бревенчатому дому…
Но чу: субботнее солнце закатилось. И сразу как будто свежеет и чувствуется сырость. Истаяли последние часы буден, наступила воскресная ночь. Прокрадемся на двор Малкамяки, откуда пылкая поэма начнет свой разбег. В воскресную ночь легко остаться незамеченным. Столько всякой всячины творится повсюду в ночную пору, так отплясывают человеческие мысли, кружатся и несутся вскачь кто куда по тропинкам и дорогам! Скоро где-то случится драка, но это приватное дело не потревожит ни благостного гения летней ночи, ни сонма мельчайших прилежных духов, столь же неисчислимых, сколь неисчислимы распустившиеся цветы и листья.
* * *
На западной стороне заросший травою двор Малкамяки окружен кустами сирени, любимым место обитания воробьев. На двор смотрят два ряда окон господского дома. По выражению этих окон можно догадаться, в каких комнатах живут.
Один ряд светлый, другой розоватый. Светлый ряд — вознесенный наверх и потому более высокомерный. Там обитает Ольга, дочь нынешних хозяев Малкамяки. На нее лучше смотреть украдкой, из какого-нибудь чердачного окошка, когда она проходит по двору. Тогда можно разглядеть хорошенько ее глаза, если, конечно, она не догадается, что на нее смотрят. Глаза у нее, пожалуй, серые, а ресницы и брови черные. Тень от них ложится словно легчайшая вуаль, из-за которой виден твердый и всегда бесстрашный взор, легко подчиняющий себе того, кто слабее.
Стоит барышне из Малкамяки пройти по деревенской улице и спокойно посмотреть в глаза двум парням, стоящим поодаль, как у тех отнимается язык. Едва появившись в усадьбе, она вскружила голову работнику Тааве, вообще-то слывшему крепким парнем. Ольга находила в этом удовольствие, как здоровый человек находит удовольствие в упражнении мускульной силы. Ну а Тааве уже случалось плакать — в один из вечеров, когда вдруг стих ее мелодичный голос, доносившийся с другого конца двора. Тааве в это время читал роман… Таков был малыш Тааве, которого угораздило привлечь внимание Ольги в качестве любопытного явления природы, кое само способно воспламеняться и гаснуть. Произошло это на праздновании новоселья — по прибытии сюда новых господ. С тех пор прошли два весенних месяца, в конце которых молодая женщина сбросила свой весенний наряд и облачилась в летние одежды. Случилось это нынешним утром.
* * *
Первый вечер наступающего лета не мог препятствовать явлению во дворе Малкамяки некоторых догадок относительно будущего. Есть такие человеческие натуры, которые, столкнувшись в одном пространстве, непременно станут мериться силами… В атмосфере носятся и множатся необузданные фантазии на тему грядущих месяцев, разгоряченные прибывающим день ото дня солнечным теплом, чье воздействие неотразимо. Однако определяет физиономию вечера выражение какого-то затаенного огня, какое бывает у молодого человека, отправляющегося ночью на свидание к девушке. Если того вздумают спрашивать, отчего кружится его голова, он только усмехнется и ничего не ответит. Молодым хищником потянется он, поигрывая мышцами, а потом двинется прочь со двора, насвистывая и забавляясь цепочкой часов… Во дворе пока все молчит и как бы выжидает. Сын старой хозяйки Элиас только прибыл в здешние края и впервые обозначился в этой атмосфере. Его видели стоящим возле дома после ухода девушки из Корке.
Первая летняя ночь
Дорога от господского дома начинается между липами и, остерегаясь острых углов, поворачивает влево. По правую руку остается старый хмельник, а сразу за ним выглядывает боковое окно серого домишки. Домишко старинного покроя, с оконными переплетами в шесть стекол и крыльцом на столбиках. Здесь — владения старой хозяйки Малкамяки, или бабушки — матери Элиаса. Сегодня едва она успела встретить сына, как вскоре в ее дом вошла молодая гостья, и пока хозяйка взбиралась на чердак за бёрдом, внизу в комнате молодые люди обнимались.
Она не подозревала ни о неизбежности этого свидания, ни о предшествовавших ему долгих переживаниях. Кому могло прийти в голову, что восемнадцатилетняя красивая девушка не могла сомкнуть глаз апрельской светлой ночью и, лежа в постели, смотрела на звезды и в накатывающей, утратившей время тишине воображала подле себя вот этого молодого человека, теперь и точно дышащего одним с нею воздухом, — кому бы пришло это в голову, видя благовоспитанную улыбку девушки, беседовавшей с матерью молодого человека. Старая хозяйка Малкамяки, втайне любовавшаяся на пригожего сына, тепло отнеслась и к своей двоюродной племяннице, и, подавая ей бёрдо, как бы благословила ее работу, и даже обещала заглянуть, посмотреть на тканину. И все же после ухода Люйли бабушка чувствовала какое-то непонятное беспокойство, хотя ей и не приходило на ум, что это связано с Люйли.
А может быть, беспокойство передалось ей от Элиаса? Ибо едва он заслышал шаги матери и перестал обнимать Люйли, им овладело томительное нетерпение. Он искоса поглядывал на слегка побледневшую Люйли, разговаривавшую с матерью, и страстно желал, чтобы она скорее ушла. Люйли, не присаживаясь, неуверенно протянула руку матери и потом Элиасу. Рукопожатие было вялым — рука чужого недружелюбного человека, от которого хочется быстрее избавиться. Элиас повернулся и ушел в горницу.
Там он сел на диван и застыл, глядя в окно. Он чувствовал, как у него горят глаза, но взгляд его рассеянно скользнул по поверхности, как бы для того, чтобы не видеть выражения на вечереющем лице природы в раме окна или, скорее наоборот, чтобы окружающее могло без помех наблюдать за всеми движениями внутри его. Но в нынешнем отверстом состоянии его душа принимала свои чувства обратно — отраженными от каждого предмета во внешнем мире, принимала, чтобы осознать их. Это извечная и волшебная уловка уединения: человек испытывает нечто, что душа его давно и безотчетно ждет. Мгновение проходит, и душа освобождается от этого безотчетного напряжения. Человек ищет уединенного места, чтобы перевести дух, но спустя минуту уже ощущает, что недавнее переживание, отраженное окружающим миром, угнездилось внутри и присоединилось к череде других прежде бывших переживаний и впечатлений, и он глядит на это прибавление, как исправный работник на добрый результат своего труда. Так ему дается сочувствие и облегчение.
В это короткое время уединения сумеречная комната и видный из ее низкого окошка косогор были куда ближе сердцу Элиаса, чем та лесная дева, чья фигурка подвигалась понемногу к краю этого пространства. Ее еще можно было увидеть из бокового окна жилой комнаты, и уж наверное какой-нибудь из субботних вечерних стражей на нее смотрел. Но в горнице время утекало бесчувственно, секунда за секундой, и Элиас сидел в углу дивана, не замечая ничего, кроме происходившего внутри. Было чудесно провести вечер, отдавшись этому. Жизнь не была пустой. Еще вчера после захода солнца он был в городе, над ним, и глядел сверху на устремленные к ясному небу силуэты башен, крыш, крон деревьев, а потом спустился вниз и по гулким улицам пошел к своему дому; у двери он помедлил — был последний вечер весны, и в ее уходящем свете он отметил особую привлекательность долгих и ровных мощеных мостовых, как бывают привлекательны молодые и легкомысленные горожане, — все это было вчера вечером. Но за один день земная поверхность украсилась еще пышнее и теперь из каждой точки посылала лучи, поражающие человеческие чувства. В неверном сумеречном свете трудно угадать, откуда они исходят, но воздух наполнен ими. С луга поднимается сырой туман — там в низине вьется речушка. В ней нет ничего примечательного, если смотреть на нее издалека и сверху; но стоит по кочковатому краю луга выйти на берег и, наклонившись к самой воде, взглянуть на нее с такого расстояния, она предстанет гигантским извивающимся змеем. Распрямитесь — и это обычная речка, а ваши пальцы, кстати, вымазаны пахучим илом. В этом тоже чувствуется летняя ночь. Жилья вокруг не видно, но вон там спускается к реке обветшалая изгородь. И странно думать, что какой-то человек когда-то ее поставил.
* * *
Как хорошо жить! Где-то в той стороне есть девушка, которая хочет, чтобы я касался ее. Она только что была здесь и ушла. Но в воздухе что-то остается после ее ухода. Она родом отсюда и дальше здешних мест никогда не бывала и не знает, что там, за лесом. Она не знает и себя, не знает, как изгибается ее шея, какие у нее руки. Когда-нибудь ночью в тени кустов я обниму ее и усажу рядом с собой — так, как мне этого хочется… Да… да…
* * *
Десять часов. Элиас, просидевший долгое время на коньке крыши, слез на землю, постоял на углу, глядя на юг. Ему было пора, он чувствовал во всем теле приятную истому, в то время как какая-то точка в мозгу нашептывала ему: «Разве тебе не пора идти?» Но другой голос как будто отвечал: «Куда же мне идти… разве что слушать дроздов!» Как все стронулось в этой тишине, хотя кажется, что ничто не шелохнется и один только дрозд старается вовсю. — Вон в тех домах спят люди, я только недавно видел, как какие-то женщины поднимались из бани в дом с замотанными в полотенца головами. Что они теперь видят во сне? А мать, она легла уже? А в Корке… тоже?..
* * *
Тааве был один в людской. Он не сомневался, что сюда больше никто не придет, и отдался своим фантазиям, утешая себя ими в субботний вечер. Вернувшись из бани, он растянулся на кровати, подложив под голову руки, и принялся фантазировать. Он знал, что никто не придет, и все же терпеливо ждал — у него не было сил признаться даже себе, кого или чего он ждет.
На стене тикали часы, и большая плотно прикрытая дверь оставалась неподвижной; но она притворялась, она готова была повторить в точности все, что было тогда, когда ее однажды отворили и вошли. И ручка двери тоже ждала, что вот-вот кто-то возьмется за нее… И все же она оставалась закрытой, только сгущались ночные сумерки. Тааве наперед знал все, что за этим последует, но пока тянул время. Дух людской расплылся, увеличиваясь в размерах, и подступил ближе, толкаясь в уши легкими волнами и навевая воспоминания о детстве. Но не о подробностях детской жизни, а о чувствах, испытанных в ту пору. Странное расслабляющее ощущение своей невинности охватило молодого мужчину. В этот миг и возник образ Ольги. Она шагнула от двери в сумрак комнаты и сразу посмотрела в его сторону, в ее глазах было ясное без слов, молчаливое согласие. Сюда… сюда — вижу… вижу.
Весь рой воображенных затем неистовых сцен без малейшего труда соединился в его душе с переживанием невинности. Тайное видение счастливой гармонии заворожило и долго не отпускало молодого парня, все еще лежавшего на кровати. Впрочем, у счастья был легко различимый темноватый оттенок. Весь этот поместительный дом, стоящий в долине, отлично виден поющему дрозду с еловой верхушки на вершине холма. В людской этого дома гораздо темнее, чем на открытом воздухе. В углу людской живет и дышит сейчас существо по имени Тааве, хотя об этом, разумеется, трудно догадаться, глядя на дом сверху и из такого далека. Через некоторое время этот Тааве появится на танцах и будет возбужденно разговаривать и хохотать, притворяясь пьяным.
Но в людской еще длилась греза, истощая себя в утекавшем времени, пока чары не начали ослабевать. В мозгу Тааве мелькнула мысль о его смешном ребячестве, он нетерпеливо дернулся и поднялся с кровати. Не зная еще, что предпринять, он подошел к боковому окну и выглянул. — Ну что, поглядим еще разок на чертовку. — Он прошипел это громко и с упрямым видом уставился на одно из окон. Но окно безмолвствовало и не желало говорить о том, что происходит за ним. Второй Тааве стоял все это время рядом и усмехался. Но прислушиваться к нему не хотелось. Он развернулся, все еще не зная, на что решиться, подошел к другому окну, выходившему на зады, взял зеркало и, открыв рот, ощерился. Положил зеркало назад и, сжав зубы, напрягая мышцы, принялся наносить короткие сильные удары по пустому пространству. Рассмеялся… Было уже довольно поздно.
Затем, повинуясь безотчетной мысли, он стал быстро натягивать свою лучшую одежду, чувствуя при этом, что совершает глупость. Куда он собрался идти? Хоть бы где-нибудь были танцы…
Но он отправился. Он шел по краю двора медленно и вызывающе, и ему казалось, что он чувствует на себе пристальный взгляд чьих-то глаз. Он даже видел эти глаза в своем воображении, а стоило повернуть голову, и… И он повернул, стараясь сделать это как можно небрежнее… Никого не было…
Проходя мимо дома старой хозяйки, он совсем замедлил шаги; у окон было ночное выражение, прилежно-сонное и умиротворенное. Трава была сырой от росы; потом ему на глаза попался одинокий цветок на обочине, которого днем здесь как будто не было. — Дома ли Элиас? Он вернулся сегодня днем, но… — У Тааве было подозрение, что Элиас куда-то ушел, и он на мгновение почувствовал себя покинутым и обойденным. Но в ту же секунду он увидел, как почти на околице из-за стены амбара вышел человек, перепрыгнул через изгородь и бодрым шагом направился прочь. Настроение Тааве поднялось: значит, где-то были танцы. И он поспешно устремился следом, мурлыкая себе под нос и постепенно переходя на рысь…
Так двигались в сумраке летней ночи молодые люди кто куда, а неумолчный лесной дрозд самозабвенно распевал, делясь своими замыслами и мыслями.
Дрозд все поет, значит, полночь еще не наступила.
Он поет в густом ельнике. Вершины елей рядами возвышаются друг над другом, подымаясь по пологому склону, у подножия которого тянется сырой овраг. Корни самых нижних деревьев прячутся во мгле оврага, но кажется, что стволы торопятся поскорее вырваться оттуда наверх и не хотят знать ничего о том, что делается внизу. Ведь наверху над цветущими кронами разлита стекающаяся сюда со всех небесных окраин прозрачная, ровная ясность. Здесь на одной из вершин сидит и дрозд, и молодые побеги и шишки по всему склону могут лицезреть его крапчатую грудку и раздувающееся горло. Его голос несется над привольно раскинувшимся роскошным ельником, протянутые ветви, как блаженные и прекрасные руки, поднимают к бескрайнему небу свои младенческие красные шишечки. Вся эта пестро-подробная поверхность отвлекает внимание чрезмерно любопытных и защищает тех, кто скрывается в ее петлистых закоулках. Кстати, есть там и гнездо дрозда, неподалеку от самого певца. А в щели гнезда можно разглядеть спинку самочки и два блестящих глаза.
Энергичное щебетание дрозда окутывает гнездо безопасностью и покоем. Счастье самочки — в ровном и неизменном тепле под ней и в неподвижности густеющего ночного воздуха вокруг. Пока ночь вот так, не шевелясь, слушает пение, ничего дурного не случится. Дрозд словно удерживает на месте воздух и все вокруг своей напевной болтовней, перемежая короткие хвастливые восклицания пространными добродушными пояснениями: отли-ично! отли-ично! — покойно-в-лесу, покойно-в-лесу — именно так, именно так!
Пиу… бумс! Бухнула, распахнувшись, дверь. Вместе с волной музыки и людского шума в белесый сумрак двора вывалился клубок тел — трое сцепившихся парней. Один из них быстро высвободился, а двое других неуклюже перевалились за угол избы. Там свидетелей не было, если не считать не стоящую внимания случайную стену да вытаращившего глаза горизонта напротив нее.
— Забыл, видать, куда пришел… перед сопляками будешь нос задирать…
Один из парней молча пыхтел, прижатый к стене. Раздалась затрещина. Наступила тишина, и только слышалось сопение.
— Ну!
Во дворе раздался говор многих голосов. Первый парень качнулся в сторону и исчез за углом, а другой, прячась в тени сараев, выбрался на дорогу и зашагал прочь, возбужденно и нетерпеливо ожидая в скором времени вознаградить себя за ночную неприятность.
Это было лишь незначительное завихрение в одной из точек пространства. Светлоокая ночь, погруженная в сон наяву, даже не заметила его. Умолк, словно невзначай, дрозд, но ему было пора…
Тааве не хотелось видеть своего добровольного помощника, который вынырнул в ту минуту из-за угла. Страсти улеглись. Пока они шумели, кто-то успел уйти с танцев, следом потянулись другие. Тааве пошел кружным путем и в Малкамяки вернулся совсем с другой стороны. Когда он шел по двору, музыка в доме, где были танцы, смолкла, но все последующее, что происходило с высыпавшей из дома шумной гурьбой, было предуготовлено разными незримыми прошлыми обстоятельствами.
— Дрозд замолчал, — сказал Элиас… — Ты слышишь? Дрозд замолчал.
Люйли ответила, не открывая глаз:
— Уже полночь.
Да. Уже полночь, наконец-то. Страстям пора улечься.
Когда Люйли шла по дороге вдоль полей, возвращаясь вечером из Малкамяки, она пребывала в неописуемом состоянии, вообразить которое не могла даже в самых своих фантастических весенних мечтаниях. Цвела черемуха, листья на березах были уже большие, дорога высохла. Все эти подробности словно хором убеждали ее — и к ним присоединялся ее внутренний голос, звучавший особенно уверенно, — что все они знали и ожидали именно такого развития событий, что они в полной мере разделяют ее переживания по поводу случившегося вечером и положившего начало чему-то новому. Ее собственная душа была на вершине блаженства. Внутри что-то радостно бурлило и подталкивало к каким-то новым впечатлениям, хотя внутренний голос на этот раз ничего ей не нашептывал относительно того, где и какие именно впечатления ее ожидают. Она только чувствовала, что ни есть, ни спать, ни работать она больше не сможет, все это осталось в прошлой жизни и казалось совершенно мелким и ничтожным. И тем не менее она страстно стремилась домой, прочь от Малкамяки, и мысленно гладила знакомую тропинку, бегущую через холмы, откуда были видны крыши Корке с печными трубами и пересеченный дорожками двор. На самом деле в ней пульсировало и билось все то же ожидание, что переполняло ее последние недели, но после краткого свидания с Элиасом тон его изменился. Не все подробности этого свидания были ей приятны, и она как бы скрывала это от себя. Но дойдя до края полей, она оглянулась через плечо и покраснела.
Спеша по лесной тропинке, она, сама того не замечая, напевала какую-то мелодию. Тропинка стелилась и убегала от ее блестящего взгляда вперед, как какое-то приниженное и угодливое существо, след ее вел в глубь леса, пробирался между деревьями, в тени которых вечерний воздух ощутимо свежел. Поспешавшая девушка была одна. Но вдруг она встрепенулась и остановила свой бег, ее темные глаза на мгновение уставились в лесную темь. Так молча стояли друг против друга два различных образа природы: вечный, сущий вне времени лес, в чьих неисчислимых клетках невидимо бродила взбудораженная весной первоначальная жизнь; и дитя человеческое, в биении чьей крови незнаемо повторялись биения тысяч ушедших поколений. Лес и человек смотрели друг другу в глаза — вне и помимо всех минувших эпох, в которые они так непоправимо удалились друг от друга и от первоначальной нераздельной слитости. Но иногда им случается вот так встретиться, и человек угадывает чувством и первоначальную слитость, и разверстую временем бездну, и ему становится страшно — даже если он обуреваем любовным восторгом.
Люйли поспешила дальше и скоро вышла к овражку, где бил ключ, — совсем недалеко от дома. Здесь она присела на валун. Воздух родных мест утишил ее волнение, и она обрела большую способность воспринимать и соображать. Перед ее мысленным взором возникли на миг дом, мать и отец, весь строй их жизни. Потом — оставшаяся там, за холмом, избушка. И Элиас… Мысли Люйли двигались теперь плавно, словно покачиваясь на легких, теплых волнах. Она испытывала спокойное желание, чтобы Элиас снова был рядом с ней, и она подумала и даже стала представлять, как они скоро встретятся где-нибудь здесь на холме. Эта картина делалась все зримее, обрастала плотью, увлекала и рождала череду других сентиментальных картин, непременным и главным лицом которых был Элиас. Все эти воображаемые картины окутывали Люйли и действовали на нее так же, как пение дрозда на самочку в гнезде, — покойно и безопасно показалось ей здесь, и она спрятала лицо в ладонях. Близость дома совершенно освободила лес от всего пугающего, и что-то хорошее и такое возможное билось рядом — у виска, касалось ладони и просилось в ее нежные сны, мерцающие в темноте между закрытыми веками и пальцами. Очнувшись, Люйли помедлила немного и, не отнимая ладоней от глаз, попыталась представить себе цветущие рядом растения — кислицу, мох, ростки черного папоротника; попыталась вслушаться и понять, что беспрестанно повторяет журчащий родник. Потом она встала и пошла к дому.
На дворе Корке царил субботний вечер, это было особенно заметно отсюда, сверху. Колодезный журавль, осины, дверь амбара казались чисто прибранными — завтра воскресенье, праздник. Дорога, ведущая в деревню, готовилась и строила радужные планы, скрытые пока за поворотом. Люйли прошла через двор на крыльцо и сразу к себе в горницу, где поставила бёрдо за кровать, в головах, и бесцельно заходила по сумеречной комнате. В избе собирались, чтобы идти в баню. Ужин прошел.
— Мне не хочется идти в баню… Мне не хочется есть.
Она убрала со стола, побыла на кухне и направилась в амбар, вошла туда и оставила дверь открытой. Шло время, кто-то еще ходил, где-то хлопнула дверь. Девушка лежала, вытянувшись на постели, она слышала звуки, долетавшие из открытой двери, но сознание ее пребывало между сном и явью, в мягкой тишине, убаюканное пением комара. Из долины, с лугов начала подниматься тонкая, влажная мгла и удивительно скоро и уверенно заполнила собою все воздушное пространство, в котором нельзя было различить ни шороха, ни шевеления. Девушка лежала на постели, и ее сознание было подобно туману, собирающемуся над веткой ивы, — не видно, как он растет, а он становится все гуще, гуще… Он густеет в ту секунду, когда отводишь глаза… Влажная прохлада трогает ее руки, она уже давно здесь, уже давно хлопнула последний раз дверь в избе. Девушка поднимается, садится, словно послушная чужой воле, и видит, что в доме на окнах задернуты половинные занавески. Значит, уже ночь, а мгла вносит с собой запах листьев, и ароматом далеких лугов дышит воздух у ее постели.
Дом погружен в глубокий сон, но приоткрытая дверь амбара видна сверху, с прогалины на холме. Это заставляет сердце биться сильнее — как счастливое предзнаменование, которое иногда нежданно-негаданно является человеку на его пути. И если человек замечает это мелькнувшее уведомление, его воображение, пленившись и получив толчок, отыскивает и награждает его подходящим значением. Какая-то крупная птица шумно вылетает из кустов. Это тетерка, которую вспугнули из гнезда. Все, ее больше не слышно. К чему это?
С холма смотрят на открытую дверь амбара глаза, и воображение рисует пленительные картины того, что сейчас происходит за этой дверью. Все это время — совершая переход из Малкамяки, счастливо минуя всяческие большие и мелкие чудеса летней ночи, обходя их стороной, сверху и снизу и упрямо стремясь сюда, к этому валуну, этой тростинке, этим ветвям и этой прогалине, — Элиас удивительно терпеливо прожил его как одно нескончаемо длящееся мгновение. А тот, кто видит приоткрытую дверь, тем более не станет роптать на то, что уходит время, — ведь ночь только начинается. И он дает волю своему воображению, плененному увиденным.
В это самое время Люйли лежала на постели, не раздеваясь, и дремала. Приятная истома все больше овладевала ею и погружала в сон, а похолодевший воздух заставлял ежиться и поджимать ноги. Но вдруг она совершенно очнулась, как будто кто-то вслух произнес над ней, что ночь уже идет и далеко позади остался дневной берег. Она резко поднялась, села, увидела в приоткрытую дверь поросший травой двор, и тоскливое чувство одиночества на секунду сжало ее сердце, словно у маленькой девочки. Это было мгновенное душевное движение, тотчас исчезнувшее, когда она, побуждаемая холодом, встала и направилась к двери. Но внутреннее ее состояние изменилось. Словно вчуже смотрела она на свои недавние мечтания о свидании с Элиасом в лесу, на холме… Она присела на пороге. — Как все перепуталось сегодня вечером! Я ведь уже встретилась с Элиасом, и он касался меня, с тех пор прошло столько времени, потом я еще была там, дома; теперь все хорошо… он не придет сюда… Как странно выглядит изба в этом свете, и там за занавесками спят… а Вяйнё ушел…
Но вдруг на нее словно пахнуло горячим ветром. Она встала, подошла к воротам, увидела стелющийся вдали туман, услышала пение дрозда. С каждым шагом уплотнялось вокруг нее дыхание летней ночи, и, хотя она ступала по земле, где все ей было знакомо, ей казалось, что она уходит все дальше в какой-то удивительный, чужой мир, из которого давным-давно исчезло всякое время, день, солнечный свет.
Она еще не заметила Элиаса. Потому что тот, едва завидев Люйли в проеме двери, опустился на землю и с удивлением стал вдыхать травяной запах. Он не собирался ни смотреть на девушку, ни думать о ней: она уже шла сюда. И она пришла, и так они встретились, как в бесчисленные летние ночи встречаются бесчисленные пары, охваченные первым любовным восторгом.
Оба они испытывали блаженство, впервые обнявшись и не боясь, что им помешают. Но если не считать этого блаженства, то в их ощущениях было много другого, что ни он, ни она не представляли себе заранее. То, что теперь их так неотразимо очаровывало, были, в сущности, мелкие подробности, которые никогда не могли появиться в воображаемой картине и существование которых обнаружилось впервые, — запах одежды и кожи, тяжесть руки на затылке и шее и пальцев на подбородке. Молодой человек никогда еще не целовал женщину, кроме как в воображении, глядя на недоступных красавиц на городских улицах или на танцевальных вечерах. Что касается девушки, то она едва ли вообще знала об этом и никогда не слышала, чтобы это упоминалось в разговорах о таинственных отношениях между парнями и девушками или чтобы кого-то этим дразнили. Вот отчего их первый подобный опыт показался им совершенно особенным. Юноша прежде принял решение, что сейчас он это сделает. А когда поступок был совершен, он с удовлетворением мысленно отметил, что вот теперь он на самом деле целовал женщину, что теперь он знает, каково это, и что рядом с ним лежит девушка, которую он поцеловал. Девушка же не сразу поняла его намерения, но, смутно догадавшись о чем-то, инстинктивно ответила. Это свершилось, и все ее существо погрузилось в сладчайшие глубины и в то же время как будто переродилось и теперь всеми своими чувствами стремилось перетечь в глаза, под закрытые веки, и прижаться к шее юноши, ища у него защиты и не желая ничего другого, как только осязать этот теплый кусок кожи на шее. Ближайшие предметы окружающего мира казались неважными и далекими. Связи времени и места распались и существовали в ее сознании поврозь, размыто и неопределенно, как во сне. Те части ее тела, которые соприкасались с землей, словно стремились оттолкнуться и разорвать и эту связь, а земля продолжала невольно давить на нее и не могла поступать иначе.
И тогда это случилось во второй раз.
Молодой человек глаза не закрывал. Наоборот: все его чувства чудесным образом обострялись благодаря мельчайшим отмеченным им подробностям. Его уши различали переливы дрозда, а глаза тем временем, присмотревшись, разглядели тонкую жилку листа, а потом — морщинки на нижней губе девушки. Происходящее уже не приводило его в трепет, его голова была ясной, так что ему даже захотелось хмыкнуть, увидев, как девушка лежит с закрытыми глазами на его руке. Но когда она их приоткрыла, он почувствовал, как лицо его расплывается в блаженной улыбке. «Девочка, девочка», — шепнул он, и у нее снова появились основания закрыть глаза.
Так проводили свою первую летнюю ночь Элиас и Люйли — на склоне холма, в тени деревьев, под открытым небом, — и им довелось изведать все те же чувства и переживания, что и бесчисленным другим молодым парам в ту же ночь. Но оба они полагали, что такое происходит только с ними. Молодой человек много слышал и много навоображал о таких свиданиях и теперь не мог избавиться от чувства легкого удивления оттого, что изведанная на деле любовная радость оказалась такой простой и бесхитростной, что источник ее — череда мелких чувственных ощущений, имеющих ту особенность, что ни одно из них нельзя было растолковать словами даже самому себе, и одновременно было немного досадно, что за всеми ними так легко наблюдать. И все же, несмотря на все это, у него было чувство как у человека, вдруг разбогатевшего втайне от всех. «Вот — Люйли, а это — я. Она девушка, молодая…» Примерно так он чувствовал, и когда он такими глазами взглянул на ее черты и формы, его любовные переживания помимо его воли начали изменяться и вступили в новую фазу. Осознав это, Элиас надолго задумался, неподвижно уставясь мимо ее волос в землю. И так незаметно для него протекло время до самого того момента, когда замолчал дрозд. И он произнес какие-то слова — к счастью, потому что не заполненная ничем пауза затянулась слишком надолго. Для него она долгой не была, потому что он размышлял, и делал заключения, и наблюдал сам за собой. Но когда он заметил, что его продолжительное пребывание в одном и том же положении выглядит неестественно, то тотчас испугался, что девушка это тоже заметила. Но она пока наслаждалась счастьем — полным и цельным, потому что не размышляла, не проводила наблюдений, не оценивала счастье, а просто отдавалась ему. И словно для совершенной его полноты вновь замелькали перед ней весенние воспоминания, обретавшие именно теперь свою истинную значимость и принадлежавшие нынешней минуте, как часть принадлежит целому.
Всевидящая природа присутствовала здесь в облике летней ночи — подобно великому тихому взору, следившему за тем, чтобы все было в точности так же, как всегда, как вечно. Чутким слухом она улавливала и шум далекого скандала и драки, но глаза ее были устремлены на молодых людей. Однако девушка словно почуяла сверхъестественным образом какое-то неблагополучие. Она села и сказала:
— Пора идти…
И через секунду добавила, улыбаясь и глядя в глаза молодому человеку:
— …ведь даже дрозд замолчал.
И еще через секунду место опустело, и вот уже вчерашний вечер скрылся вдали. И правит короткая светлая ночь, вряд ли успевающая заметить, что именно переменилось тут за вечер. А на востоке уже показывается солнце — влажно-красный блистающий диск. Ходким шагом, с засунутыми в карманы руками и чуть сведя плечи, подвигается вдоль заболоченного поля тень человека. Уже три часа, как он в приятном возбуждении покинул танцы. Теперь он бледен, и яркий свет режет ему глаза, когда он приближается к своей хибарке. Он перепрыгивает через изгородь, и короткий сухой треск потрясает сверкающий воздух. Он огибает амбар и мимо хмельника проскальзывает в омшаник. День разгорается, и шебуршится теленок в своем загоне. Все: последний ночной ходок вернулся, его одежда уже висит на стене, и тикают часы, оставшиеся в жилетном кармане. В невидимую щель смело просачивается румяный луч, словно верный провожатый в ночном походе. Но молодой человек укрывается с головой одеялом, вытесняет все воспоминания о проведенных часах, представляя, что они остались снаружи, за стенами, и, утешенный этим видением, потягивается и погружается в сон.
Нарастающий звон птичьих голосов будто зеленый ответ на брызги солнечного света. Кукушка возвещает о приходе воскресного утра, а ласточки с блестящими грудками носятся туда и сюда по усадьбе. Их щебет вторгается в сознание Тааве, мысли его успокаиваются, и он замечает, что бездумно смотрит во двор, куда неприметно вкралось утро. А когда он обращает взгляд на верхние окна, то обнаруживает, что их теплое сонное выражение, которое удерживало его здесь с самого прихода, то есть с возвращения с танцев, — это выражение исчезло, сменившись другим. Теперь они смотрят с видом холодным и безразличным. — Ступай спать, бедняга!
Но и это еще не конец, еще остаются несколько строк в ночной главе поэмы.
Дочь новых господ в Малкамяки, Ольга, спит в своей постели, пока первое летнее воскресное утро разгорается над дорогами, полями и озерами.
Весь край отдан во власть солнцу. Оно только поднялось над горизонтом, когда запоздавшие гуляки прокрадывались в свои углы, но еще не начинало светить, оно только показалось и с готовностью ждало, пока стихнут последние проявления ночной жизни. И только после этого потянулись те таинственные минуты, которых никто не видит и в которые собственно происходит превращение. Ибо летнее утро решительно ничего не знает об уходящей ночи, оно подобно новому действующему лицу, которое появляется на фоне светлеющего и раздвигающегося неба и начинает декламировать или петь нечто совершенно отличное от того, что нашептывала вчера вечером летняя ночь. Содержание ночи полно тайн и невидимых страстей, побуждающих детей человеческих покидать дома и в поисках приключений уходить, растворяясь в тумане и травяных душистых испарениях. Но поэма воскресного утра так прозрачна и высока, что ей нет нужды что-то прятать. Она не нашептывает свои слова кому-то одному на ухо, не возбуждает ни воинственный дух, ни сладострастные вожделения, кои суть проявления сумеречной природы и оттого не доживают до утра, утро о них не ведает. Маленькая, заросшая травой прогалина на склоне холма над усадьбой Корке кажется случайному утреннему свидетелю внимающей воскресной проповеди, безмолвно произносимой с небес. Из-за холмистой гряды солнце жарче обычного светит на какую-то случайную стену, на ячменное поле и вполне невинно обогревает и скрашивает следы страстей, оставленные здесь прошедшей ночью. Проникая в окно на той самой стене, оно благородно осветляет густой слой пыли, сонно покрывающий все предметы в избе. Кое-где оно падает на лица спящих людей и способствует их пробуждению. Человек пробуждается и замечает, что, пока он спал, все вокруг него покорно сдалось на милость утра, и он поступает так же. Утро просветляет ночные грезы, полные любовных восторгов, таким же образом, как и прогалину на склоне холма, и озаряет ночную жажду мщения тем же благостным светом, что и следы бранных страстей у одной случайной стены. Ближайшие к жилищам пригорки и возвышенности — главные места обитания утреннего солнца; оттуда оно правит окрестностью, оглядывая ее и вслушиваясь в то, как заданный им тон распространяется в воздухе, отзывается в голосе, отражается от каждого предмета на земле и поспешает от деревни к деревне, от храма к храму, чтобы через несколько часов излиться в хоре органных труб.
Но пока только шесть часов. В уши спящего человеческого существа толкается щебет ласточек, но человеческое существо не осознает этого, щебет вплетается в его сновидения. Солнечный луч падает на лоб и щеку, бесцеремонно освещает изгиб приподнятой верхней губы и поблескивающий краешек зубов, так что случись здесь соглядатай, он увидел бы другое, отличное от дневного лицо, словно с того сняли невидимую вуаль… Существо глубоко вздыхает, губы его шевелятся, вздрагивают растрепавшиеся волоски на зачесанных вверх висках.
В тишине раннего утра солнечные лучи уже затопили всю комнату. С особенным пылом они обрушились на гладкую поверхность двери. В двери осталась узенькая щель, благодаря ей можно догадаться, как буйствует солнце в соседней комнате… Но чу! Глаза спящего существа чуть приоткрылись, они кажутся почти голубыми в этом свете. Человек еще не понимает, что проснулся, и лежит не двигаясь, инстинктивно пытаясь удержать ускользающий сон. Кто это был во сне — какой-то юноша промелькнул, усмехаясь… Кто это и что он сказал такое, уходя, что-то веселое, остроумное… Нет, сон не возвращался, а тихая комната со всеми знакомыми вещами уже вторглась в сознание. Но человеческое существо продолжало лежать неподвижно и смотреть на дверную щель, в которую просачивался еще более ослепительный свет. Казалось, что сон ускользнул именно в ту щель и оттуда магнетически действовал на мысли. Но вот что-то начинает происходить. В щели показывается маленькая серая лапка, ощупывающая пространство. Потом легонько скрипит дверь, лапка замирает, и возле нее появляется нежная розоватая мордочка и белая грудка — кошка, маленький котенок. Передняя лапка уже продвинулась далеко вперед, а круглые глаза прикованы к чему-то страшному, лежащему на кровати. Стоит еще очень и очень подумать, прежде чем решаться на дальнейшие шаги, но лицо на кровати не шевелится, и котенок отважно проскальзывает в комнату и останавливается, немного недоумевая, на залитом солнцем половике. Хвост загнут. Опасности не видно, и он резво пробегает вперед, не подавая голоса и еще больше недоумевая по поводу узора на половике, который нельзя поддеть лапой, хотя глаза он прямо-таки режет своим алым цветом. Предмет рядом тоже привлекает его внимание: когда смотришь на него, видна в глубине кайма оконной занавески и белый угол сундука, видно все-все, и заполненный светом воздух, и то, что можно ничего не бояться, и полная свобода! Гип-гоп! На середину комнаты, а потом к двери и обратно на середину, гип-гоп! Мягкое топотанье вдруг замирает, остановка, несколько шагов назад, словно пятясь от невидимого соперника… И внезапное паническое бегство.
С кровати неподвижно следят за бегством глаза. Словно все это — продолжение улетучившегося сна.
А утро набирает силу. Котенок, покончив со скачками и прыжками и отпустив невидимых приятелей, сидит с серьезным видом, словно взрослый, посреди комнаты и смотрит в окно. Потом неожиданно рьяно лижет себе грудку, чихает и снова лижет. Потом его глаза начинают закрываться, и наконец его тельце вытягивается на половике. На него приятно смотреть. Это весенний малыш, он растет с каждым днем и каждый день приближает лето. А вот он уже и заснул.
В комнате опять дремотно. Лежащее на кровати человеческое существо отворачивается, вздыхает и выпрастывает прижатую плечом косу, так что наконец делается видна вся копна черных волос. Давешний сон не хочет возвращаться, но играет и переливается где-то совсем рядом, в соблазнительной близости.
Через некоторое время и котенок и женщина пробуждаются и начинают двигаться по дому.
Воскресенье
Из Корке в церковь ушли Вилле с Элииной, а вскоре ускользнула в деревню и Мартта. Ни Саймы, ни Вяйнё в доме не было. Люйли напевала одна в просторной избе, залитой воскресным солнечным светом. Даже в доме было слышно, как растет и благоухает трава за окном. Вокруг стояла тишина, но слух искал приобщиться к общей радости и, казалось, улавливал шорох падающих лучей.
Все утро Люйли чувствовала себя так вольно и покойно, словно ночью ничего не произошло. Она хлопотала, помогая матери, притом проворнее, чем обычно, а празднично-приподнятое настроение остальных согревало ее — она словно впервые заметила само его существование. Пока домашние были рядом, ее внимание прилежно сосредоточивалось на всякой мелочи, а душа каждый миг силилась заполниться чем-то — чем угодно — на время, пока она не останется одна, не будет предоставлена самой себе. Сияющее воскресное утро как будто терпеливо и втайне от других, но заодно с нею ожидало этого мгновения. Еще все впечатления ночи покоились где-то глубоко, и только изредка посреди домашней суеты поднималась к поверхности легкая волна, как бы шаловливо напоминая, что вся эта хлопотливая деятельность — сплошное притворство и что ты, милая девушка, только и ждешь, чтобы остаться одной и выпустить на свет то, что сейчас таится под спудом.
Но вот установилась тишина, и Люйли вышла на двор убедиться, что Вяйнё и Сайма в самом деле куда-то ушли. И точно — их не было ни видно, ни слышно, зато ласточки носились как угорелые, то вылетая из раскрытых дверей коровника, то влетая внутрь. По их крикам и поведению можно было догадаться, что им тоже нравится оставаться одним. Люйли в расчет они, очевидно, не принимали. Одна ласточка уселась на застреху совсем рядом с Люйли, словно говоря, ладно, мол, девушка, полюбуйся разок моей красивой грудкой. И тут же с видом полнейшего равнодушия ласточка углубилась в размышления о том, какие еще петли стоит опробовать — словно теплый посланец воздушных морей на мгновение вынырнул и пристал к берегу.
Итак, Люйли была одна. Она посидела на крылечке, глядя на ласточек, сосредоточенно рассматривая их движения, металлический отлив оперения, словно это были вещи чрезвычайной важности. Спешить было некуда — она знала, что в доме она одна и что она может наконец сделать то, что собиралась: вытянуться на кровати, спрятать лицо в подушку и позволить своим чувствам выплеснуться наружу и думать, думать об этом… Но пока она еще сидела на крылечке и смотрела вдаль на кусты чернотала на мысу, на деревню и опять на свой двор. И заодно вдруг вспоминала название их усадьбы и свою фамилию и тут же взглядывала на дорожку через двор, и та отчего-то казалась беззащитной и такой знакомой… Отец с матерью сейчас в церкви, молятся…
Последняя мысль подействовала на нее странно расслабляюще, и в этом ощущении разбитости был почему-то неприятный оттенок. Она поднялась и направилась прямо в горницу к своей кровати, напевая почти в голос и энергично размыкая тайники, хранившие ночные впечатления, позволяя им выплеснуться наружу, в пространство, из которого они по сю пору были удалены, дабы бережно храниться отдельно.
Люйли и Элиас никогда ни о чем толком не разговаривали. Будучи дальними родственниками, они, конечно, были знакомы с детских лет, но встречались очень редко, да и то всегда в обществе старших. Мальчиком Элиас иногда играл с Люйли и Вяйнё, который был его сверстником, и в те юные годы весьма резвым, но более робкая Люйли обычно довольствовалась ролью темноглазой зрительницы. Подрастая, Элиас виделся с Люйли все реже, потому что в летнюю пору нечасто бывал дома. Он успел почти вовсе забыть о ее существовании, когда прошлым летом они встретились в центре деревни недалеко от церкви — был какой-то великий праздник. Оба были в сопровождении матерей. Те тотчас принялись беседовать, а их дети, хоть уже и великовозрастные, чинно шли за ними следом в полном молчании. Однако эта встреча обратила на короткое время их мысли к детству, как иногда напоминает о детстве прорвавшееся в прореху туч ослепительное солнце. А в конце лета в одно поистине изумительное воскресенье старушка Малкамяки отправилась с визитом к Элиине Корке вместе с Элиасом; тогда-то и состоялась та встреча, о которой мы как будто уже успели рассказать и которая привела к нынешнему положению — когда тихоня Люйли Корке лежит на кровати и убаюкивает себя упоительными воспоминаниями. И тем не менее вплоть до нынешнего дня они друг с другом ни разу не разговаривали и не произносили ничего, кроме незначащих пустяшных слов, о которых ни один из них не думал и не вспоминал.
Это, однако, не помешало образу летнего Элиаса прочно обосноваться в сознании Люйли за одну ночь — безо всяких приготовлений, постепенных сближений и прочего. Еще вчера утром никакого образа и в помине не было, была тоска, которая все же за прошедшие месяцы изрядно притупилась. Но, проснувшись сегодня утром, Люйли тотчас обнаружила, что образ уже тут и укоренился основательно в ее сознании, что водворен он сюда прошлой ночью и оставлен как бы в качестве напоминания. Эту задачу он выполнил, но на свет был извлечен только теперь. Вот в эту самую минуту, на кровати.
Собственно черты лица молодого человека она в памяти не воскрешала, но зато все его невидимое глазу существо обволакивало и заполняло каждую ее клеточку, как воздух заполняет каждое полое место на многомерной земной поверхности. Девушка закрыла голову руками, она только ощущала близость ослепительных солнечных лучей, которые представлялись ей сейчас улыбкой на его склоненном к ней лице. Само свидание, очевидно, оказывалось закономерным и как бы заслуженным всей предшествовавшей жизнью. Какая-то часть ее души снова и снова переживала то счастливое обстоятельство, что сегодня воскресенье, воистину воскресенье, и что сейчас лето. Можно не торопиться, лето только прибавляется, и впереди бесконечно длинная череда сплошных воскресений, подобных маленьким лучезарным солнцам, начинающим свой путь отсюда и путешествующим дальше по земле, по которой можно бродить, присаживаясь здесь и там, чтобы полюбоваться на луга и веси, воду и солнце.
Девушка, однако, не рисовала в воображении никаких новых свиданий, череда грядущих воскресений представлялась ей прямым и непосредственным продолжением нынешнего воскресенья, то есть этих ее упоительных переживаний на кровати. Жизнь получила завершение, она чувствовала, что испытала все, что ей было отпущено, и что подобное повториться не может. Все напряженное ожидание весенних месяцев, да что там — всей прожитой жизни, мгновенно и сладостно разрешилось. Неужели это случилось этой ночью? Этой ночью! Так вот что мне было уготовано! Он обнимал меня, он целовал… О-о… м-м-м… м-м-м… такое!
Девушка сама заметила свое возбужденное состояние, словно на нее посмотрели в окно, и, не взглянув в ту сторону, приняла положение более естественное для человека, вкушающего положенный воскресный отдых. После чего взялась за прежнее, то есть начала перебирать мельчайшие подробности прошедшей ночи, которые уже отодвинулись вместе с этой последней в прекрасную недосягаемую даль.
Снаружи воскресенье успешно подвигалось вперед, на склонах блаженствовали цветы земляники, подобно широко раскрытым сияющим глазам, которых не может ослепить дневной свет. Мельтешение ласточек длилось уже который час, они проносились, оставляя после себя щебет, как пузырьки воздуха в небесном море. Небо и земля пребывали в согласии и сочувственно взирали на все сущее. А надо всем было солнце.
Девушка села на постели, и по ее глазам было заметно, что она вдруг ощутила свое одиночество. Зрачки ее от пребывания впотьмах расширились, волосы на висках растрепались. Сидя так, она представлялась человеком, вдруг распахнувшим душу навстречу миру и принимающим в себя разлитый снаружи природный дух и строй. В такие мгновения облегчается душа человека, ибо он чувствует заодно с природой и видит свою судьбу слитой со всем миром в единое целое. И неважно в такие мгновения, какая это судьба — темная или светлая, он с одинаковым чувством грустного умиления взирает на нее. Вот что испытывала сейчас девушка, ходившая минувшей ночью на свое первое любовное свидание. Бедняжка, она жила грезами, она воображала, что эта ночь вместила в себя все. Словно той необходимо было все вмещать! Но природа, пребывающая извне, смотрела на все вчуже и понимала, что та ночь канула в прошлое навсегда. И даже сама девушка об этом догадывалась.
Она еще была во власти безмолвного и бесконечно длящегося мгновения вечности, когда явились брат с сестрой, и началась беззаботная болтовня. У Вяйнё был вид, словно он догадывался о ночном приключении Люйли: может быть, он возвращался домой в ту же пору, что и Люйли. И эти его догадки были Люйли приятны. Когда Сайма вышла за дверь, чтобы налить воду в бутылку для цветов, Люйли взглянула брату в глаза и спросила, где были танцы.
— В Замке, понятно, — ответил Вяйнё, как будто на что-то намекая.
И, немного помолчав, добавил:
— Калле врезал Ийвари Вяхямяки.
— А тебе заодно не врезали? — негромко спросила Люйли.
— Врезают не таким, — ответил брат.
Люйли еще задала вопрос:
— А с чего Калле взъелся на Ийвари?
— Да там сначала Тааве с Ийвари сцепился и заехал ему в рожу, Ийвари полез давать сдачи, ну и Калле тогда вывел его на двор.
— Ай да Тааве! — заметила Люйли, чуть улыбнувшись.
Вяйнё тоже понимающе улыбнулся: Тааве был чуть ли не с детства «женихом» Люйли.
Этот короткий разговор со всеми его глухими намеками, понятными только им двоим, вернул Люйли в настоящее. Сияющее воскресенье было потеснено, а ночное свидание несколько поблекло в ее воображении, хотя ей и не хотелось в этом признаться; она просто пыталась пока о нем вовсе не думать. Рассказ Вяйнё как-то досадно оттеснил ее давешние душевные переживания, он с ними не сочетался. Больше они ни о чем не говорили. Вяйнё улегся на кровать отсыпаться, а Люйли пошла в горницу. Она ни о чем не думала, ей просто было хорошо.
Воскресенье неспешно шло, и настроение Люйли стало напоминать то, с каким она утром провожала отца и мать в церковь. Но за обеденным столом речь зашла о вчерашнем походе Люйли в Малкамяки, и мать прямо спросила, вернулся ли Элиас домой. Люйли кое-как ответила, заметив про себя, что от матери не ускользнул ее уклончивый тон. А тут еще и Вяйнё, очевидно все знавший… так что весь обед Люйли старалась ни на кого не смотреть, ни с кем не разговаривать, побуждая таким образом и других к молчанию. Не то чтобы такое положение было ей не по душе, но оно вносило перемену в ее душевный настрой, который нисколько не походил на давешнее состояние, когда она лежала на кровати. Общение с домашними не могло не нарушить совершенную цельность образа, водворившегося в ее сознании прошлой ночью. Люйли чувствовала, что и она уже не та, что была утром, и ею начало овладевать странное и тоскливое чувство разлада. Любимый образ словно поблек, и воображение искало новых средств вернуть ему яркость. Вдруг она заметила, что думает о супружестве, супругах и всем, до этого относящемся. Подобный предмет казался странным и неуместным, особенно при ее нынешних переживаниях. Но, как бы непроизвольно сведя их рядом, она с удивлением обнаружила, что они оказывают друг на друга прямо разрушительное действие. До сих пор само это явление, то есть супружество, занимало ее не больше, чем стоящие в деревне дома или в лесу деревья. Оно не имело ровно никакого касательства к ее миру. Когда в ее сердце впервые проснулась любовь, она не знала имени этому чувству и сочла его собственной сердечной причудой, нимало не связанной с внешним миром и уж тем более с супружеством. Ныне же совершалось коренное изменение. Представление о супружестве, едва появившись, заняло в ее душе центральное место — рядом с любовными переживаниями, отчего тон последних стал заметно иным. И Люйли чувствовала, что это изменение прочно, на долгий срок, и что она вдруг стала взрослым человеком.
Первым инстинктивным побуждением Люйли было воспротивиться такой перемене, но затем она приняла ее, и постепенно ее душевные силы пришли — учитывая все предыдущие превращения — в новое равновесие.
Хотя Люйли была совершенно уверена, что нынешним вечером Элиас не придет, она все же поднялась на холм и пробыла там довольно долго. Образ Элиаса теперь тоже существенно разнился от давешнего. Он не чудился ей сотканным в воздухе, рядом с ней. Она глядела в сторону Малкамяки, представляла дома усадьбы и где-то возле — Элиаса, любимого Элиаса. Она уже ждала его и, зная наверное, что он не придет, тосковала и желала его. Краткий миг тоски, смутно промелькнувшее сомнение… Все это пронеслось, оставив лишь стойкое внутреннее напряжение, вызванное новым порядком вещей.
Когда она спускалась с холма, дрозд уже болтал вовсю. Его голос отзывался в ушах Люйли отдаленным и чуть отстраненным воспоминанием. Одна пора человеческой жизни была начата, прожита и завершена.
Воскресенье в Малкамяки не прошло вовсе без событий. Весь день Элиас вспоминал свой ночной поход и уже твердо решил повторить его сегодня же. Но как раз ближе к вечеру его внимание временно отвлеклось и обратилось в другую сторону. Он увиделся с Ольгой, и ее взгляд привел его в смущение. Взгляд Ольги, вернее его выражение, был необычным оттого, что, увидев Элиаса, она тотчас вспомнила свой утренний сон, вспомнила, что видела Элиаса вечером сидящим на крыше, и почувствовала вдруг к нему, совершенно незнакомому человеку, такую же нежность, как к тому улыбающемуся пареньку во сне.
Оброненная фиалка
В те самые мгновения, когда Элиас входил в Малкамяки, дочь нынешних хозяев, барышня Ольга, томилась слишком тягуче протекающим временем. Никогда прежде она не чувствовала это так отчетливо. Впрочем, переезд сюда и здешнее обитание были чем-то совсем особенным, значение чего Ольга не понимала, но считала, что это не может неким образом не согласоваться со всеми обстоятельствами ее прежней жизни. В конце марта отец вызвал ее из города сюда, прямо на новоселье. В ту пору она жила в столице и только познакомилась с Бруниусом… Новоселье отмечали в самый день ее приезда. Были приглашены несколько родственников и некий пожилой господин, судья, которому отец оказывал особенные знаки внимания и явно желал, чтобы она вела себя так же. И она оказывала. Она догадывалась о подоплеке дела, но, удостоверившись, что судья решительно не опасен, позволила ему ухаживать за собой. Именно судья предложил тогда отправиться в людскую посмотреть на народные пляски, и они пошли.
Работник Тааве — тот, который привез ее днем в усадьбу, — стоял среди прочих в комнате. В случившейся тесноте Ольга оказалась рядом с ним… Ах, все это было так давно, что поросло быльем… а тогда на месте былья лежал санный путь, и это было славно. Судья предпринял все же слабую попытку… На нем был темно-серый костюм и розовая манишка — подробности отчего-то врезались ей в память. В ее воображении костюм с манишкой самостоятельно передвигались в пространстве, а тот, кого именовали судьей, был лишь их содержимым… В тот вечер она живо и весело отплясывала с Тааве, с этим незнакомым пареньком из захолустья. И все у них получалось отлично и слаженно, как у давних знакомых. Но Ольге все чудилось, что они совершают увеселительную прогулку и только на минутку заехали в эти леса.
Однако здесь они и остались, и потекло время. Ольга подолгу спала — и днем, случалось, тоже. Когда она просыпалась после дневного сна, весенний мир казался ей непривычно размягченным. Солнце светило вовсю — и пока она спала, и потом, разве что чуть унимаясь к вечеру. Она смотрела в окно и видела там и сям ведущиеся работы. На земле непрестанно прибавлялось напрасной неразумной пышности, что особенно бросалось в глаза вечером после сна. В несметных точках восставали все новые цветы, им никто не придавал значения, и прежде всего они сами. Они словно наскучили своим существованием. Лето — единственное, что у них было. Вот так — лето за летом, и все. Ольге было двадцать пять. Она еще нигде и никогда не приживалась так, чтобы чувствовать себя дома, и хотя много и охотно общалась с мужчинами, в ней словно присутствовала защитная сила, удерживающая весь внешний мир на границе невидимого круга; так у нее повелось с пятнадцати лет, когда она побывала на одной свадьбе и внимательно пригляделась к невесте и другим женщинам… Но здесь — здесь не было мужчин, и защитной силы в ней слегка поубавилось; она словно очутилась в чужом месте среди незнакомых цветов, под прямыми лучами жаркого солнца. Время тянулось медленно. Она не знала, чем занять свои руки и голову. Как-то она услышала, что в коровнике окотилась кошка — она принесла весь выводок в дом и стала ухаживать за котятами. Она чувствовала, что привязалась к ним, в их слепом тыканье была комичная деловитость. И с ними проходили часы…
После сна Ольга отправилась на прогулку. В коротком синем жакете и с розоватой вуалью на голове она вышла со двора и двинулась вниз по дороге. День клонился к вечеру, утро осталось далеко позади, по ту сторону сна. Ей что-то приснилось, что она уже не помнила, но какая-то тень от этого сна словно витала в воздухе и придавала всему вокруг странно-нездешнее, вневременное выражение. Такие минуты у Ольги случались часто и усиливали ее чувство одиночества. В ее душе не было ощущения сопричастности к этой красоте, вольно раскинувшейся между небом и землей. Она была сама по себе, но это нисколько не печалило ее. Она просто жила и разве что порой гадала о своей жизни. Иногда задавала себе важный вопрос: собирается ли Бруниус сделать ей предложение? Потому что у него на уме несомненно что-то было, когда он обещал приехать сюда летом. — За него я могу пойти, думала Ольга, если и впредь он будет вести себя так же. За ним уж точно будешь как за каменной стеной… как за крепостной… Но прежде мне хотелось бы все-таки кое-что испытать… самой почувствовать, как это — обнимать кого-то… но только безопасно… да, какого-нибудь молодого парня… вроде Тааве… Нет, Тааве не годится, с ним ничего не выйдет. Но как это должно быть восхитительно — самой управлять таким положением. И ведь можно все устроить тайно, никто не узнает, и нечего будет потом стыдиться…
Обдумывая эту возможность, Ольга на миг почувствовала себя так, словно внешний мир придвинулся к ней. — Да-да, в сущности, здешнее уединение тем и мило, что потом можно не стыдиться. Пока я только начинаю размышлять об этом… Но ведь здесь так удобно все устроить, все испытать… только — станет ли мир и жизнь понятнее от этих опытов?
И Ольга после обдумывания этого вопроса пришла к заключению, что ее жизнь все равно останется прежней и что жизнь с Бруниусом все равно предпочтительней.
И тем не менее она хотела испытать и другое… по собственному усмотрению.
Тааве боронил поле; он поздоровался с ней и чуть смутился. Настроение Ольги тотчас поднялось: она почувствовала себя сильнее Тааве и полновластно управляла положением. С довольным видом она проследовала мимо, напевая и уже отмечая в окружающей природе что-то, что было согласно с ее настроением. — Лето, наступает лето, может, оно будет отличаться от других.
Она вернулась домой и села за фортепьяно. Солнце в этот день, казалось, не спешило закатываться. Был вечер пятницы — канун возвращения Элиаса. Позже, лежа в постели и ожидая прихода сна, она придумывала, какие яркие наряды сошьет летом. И правда, это отличное времяпрепровождение. Она заснула незаметно для себя, а встав утром, направилась в гардеробную, чтобы достать выбранное на сегодня лиловое летнее платье с черным шелковым поясом и манжетами. И, только войдя в комнату, поняла, что платья такого у нее нет, что она выбрала его во сне. Этот милый случай определил ее настроение на все утро. О нем с улыбкой напоминал ей и тот дымчатый костюм, на котором она после долгих колебаний остановила свой выбор. День был тихий, погожий, а вечером Ольга узнала, что к старой хозяйке приехал сын.
В тот же вечер, возвращаясь после купания, Ольга в первый раз увидела Элиаса, сидящего на коньке крыши и обращенного лицом на юг. — После ухода Люйли Корке! — Ее взаимоотношения с Элиасом, по сути, начались именно в этот момент, потому что весь оставшийся вечер ее мысли, так или иначе, были заняты им. Ее комнаты находились в мезонине, и оттуда была видна дорога. Но единственный, кого она заметила, был Тааве, в половине десятого удалившийся по направлению к деревне. Ей было приятно, что он ушел. И хотя больше никого увидеть не удалось, она не испытывала ни огорчения, ни досады. Все, казалось, шло отлично, куда лучше, чем во все предшествовавшее время.
В воскресенье после обеда она вышла прогуляться и впервые взяла с собой зонтик. Старая хозяйка с сыном была на улице, и они вместе любовались побегами красных лилий и пионов.
Многие, многие события в природе, столь бурно вздымающиеся со дна лета, в сущности, мимолетны — сегодня только родятся, в ночь вовсю расцветают, а уж назавтра вянут. Так и первое любовное свидание Элиаса и Люйли — уже теперь оно неприметно начинало увядать. Но зачахнет оно не вдруг, еще есть время, прежде чем его цветение вовсе заглохнет. И тогда прощай, крепкая летняя ночь со своими дроздами! Разве что многие твои, ночь, мелкие события и подробности сохранятся, вплетенные в ткань художественного полотна…
Первое чувство Элиаса, когда он проснулся поздно утром, было желание увидеть Люйли. Но чувство это было словно продолжением сна и скоро исчезло. Осталось только какое-то ощущение радостного довольства. Он повалялся в постели, вспоминая свое взбудораженно-смятенное состояние в весенние месяцы, сливавшиеся в его теперешнем бодром представлении в один сплошной час, подчиненный одному настроению, подобно часу этого воскресного утра. Лежа в кровати, он в полной мере ощущал прелесть мира. А цветы черемухи за окном? Они прямо исходили желанием понравиться. Сонные тени окончательно растаяли в лучах солнца. В душе Элиаса установилось на удивление простое и целостное настроение, которое ближе всего можно было передать словами: «Я живу в этом мире». Первоначальные причины этого умиротворенного состояния медленно проплывали в его мозгу. — Подумать, размышлял Элиас, в каких только поэмах я не читал и не слышал о прелести бытия, я так привык к таким формам и способам выражения, что восхищался одними формами и совсем забыл, что сами предметы поэм существуют в действительности. Но разве можно как-нибудь выразить то, что я сейчас чувствую? Прелесть жизни — это вечная и недостижимая цель поэзии. Вот она — всегда тут, всегда доступна для тех, кто способен ощущать. И иногда человек вдруг угадывает что-то о ней. Как я сейчас; неужели кто-нибудь еще может так же чувствовать, как я?!
Элиас попытался извлечь из памяти какое-нибудь прекраснейшее творение, к которому он успел приобщиться, но не смог — мешал яркий солнечный свет. Ни в каком произведении не находил он отклика, связи с этим нынешним чувством. — Вот земная поверхность, на которой я нахожусь в окружении этих стен, на этой кровати. Наверху небо и солнце, а между небом и землей повсюду разлита жизнь, чье выражение, кажется, начинает проясняться. Она словно приготовляет что-то и улыбается на вопросы бедного дитяти человеческого: «Когда она приготовит уже? Сколько времени будет длиться приготовление?» Время? Что это? Такого не существует…
И в мозгу Элиаса снова возникли первоначальные причины его настроения.
Мы люди. Я — человек, и Люйли… человек…
Элиас проговорил это слово почти вслух, думая при этом о Люйли. Ему представилось, что прямо отсюда он обнимает Люйли — в воздухе, где-то над Корке, и отсюда же смотрит туда на нее. А Люйли все понимает и позволяет себя обнять. — У нее есть человеческое тело, руки, ноги, и в ее груди есть человеческая душа, которая стремится ко мне. Когда-нибудь вечером я снова пойду туда на холм, и мы снова обнимемся. Может быть, еще не сегодня. Меня там ждут, ждет живое бьющееся сердце… Так Элиас размышлял, а какой-то голос в душе тихонько твердил, что пойти он может и сегодня. Но Элиас не вслушивался, он оставил решение до вечера; поднялся с постели, чувствуя особенное удовольствие от этого нерешения, и неодетый подошел к окну, словно совершая привычный утренний ритуал. Жаркий луч согревал сквозь стекло его открытую грудь, и мысли его снова обратились к увиденному во сне.
Таково было утро. В полуденные часы Элиас праздно бродил вокруг дома, объятый ровным сиянием и отдаваясь во власть разлитому в природе воскресному строю, подчиняя ему все чувства и настроение. Взгляд его упал на рябину и валун, и он сошел по нижней дороге, чтобы, свернув, подойти к ним поближе. По мере приближения казалось, что они сами спускаются вниз, навстречу: взгляд не мог оторваться от валуна, от поросшего лишайником ствола и отдельных ветвей. Но, стоя рядом, можно было оглядеть окружающие просторы — как бы нечаянно, потому что они не ждали взгляда оттуда, от подножия валуна. Вон дом, вон горизонт. Они пристали этому виду, как волны волнующемуся морю. Элиасу чудилось, что он стоит на крошечном островке; и для полноты ощущений он решил взобраться на камень.
Оттуда открывался вид на южную опушку леса, дальнюю и истонченную, как бы затихающую, как затихают при мощном гласе солнца последние предутренние звуки. Глядя на нее сквозь незаполненное воздушное пространство, невозможно было даже мысленно перенестись туда — разделяющее пространство сковывало воображение. В той дали нельзя было услышать здешний голос или разглядеть лицо — также как нельзя было отсюда разглядеть те лица. И Люйли Корке казалась от этого еще дальше — крошкой в этом огромном пространстве, которую Элиас видел, как все вокруг, но не мог различить. Но вдруг, на краткий миг, чары исчезли, и он взглянул на нее трезвым взором: она была просто девушкой из лесного захолустья. Настроение его переменилось. Солнечный свет улыбнулся недоумевая, и Элиасу захотелось вернуться домой. — Начинается долгое лето, и я проведу его здесь, возле дома… да-да, там Люйли, я помню… Вон и в большом доме живет барышня, это она, видно, вчера вечером шла из бани вместе с другими женщинами… Воскресенье, вчерашний вечер, пение дрозда, Люйли… Мне чего-то недостает, я чего-то хочу, но чего?
Чуть позже Элиас сидел возле дома, и мать вышла к нему на скамейку — «полетничать». Сын не знал, догадывается ли она о его ночном походе. Она не подавала виду, и он сразу настроился благодушно. Пионы и красные лилии бойко поднимались из земли, и мать с сыном одобрительно взирали на них. Вытянулись и гвоздики. Подобные минуты, проведенные в обществе цветов, были едва ли не единственными, когда сын ощущал в себе любовное чувство к матери в ее присутствии. Он выразил это тем, что остался сидеть и слушать ее журчащую болтовню. К тому же ему вспомнилось, как сердечна она была вчера с Люйли — А воскресный день уже повернул к вечеру.
Ага, вон и барышня идет сюда, спускается вниз по дороге. С зонтиком. И глаза у нее, и талия… Здоровается с матерью. Идет дальше. Что она здесь — на все лето?
Как все вдруг изменилось! Неужели это я только что был возле рябины и валуна? Зачем, что я там делал? Какой сегодня долгий день!
— Это что — хозяйская дочь?
— Она.
— Как ее зовут?
— М-м… Ольга вроде.
Оба — и мать и сын — постарались скрыть от себя и друг от друга впечатление, произведенное этой встречей. Элиас украдкой проскользнул в дом, откуда можно было наблюдать за барышней, спускающейся по дороге к долине; вот она остановилась, сошла на обочину, сорвала цветок, оглянулась, нет ли еще таких, и, не найдя, повернула назад к дому. Старушка была еще во дворе, поджидала барышню, чтобы вступить с ней в беседу. А та поднималась не спеша, помахивая зонтиком и скользя взглядом по обочинам — как обычно поступают нашедшие один цветок и ищущие еще или делающие вид, что ищут.
Элиас ощутил вдруг глухую уверенность — в чем, он бы не смог объяснить словами. Она была смущающей, безотчетной, и ее вызвало то, что происходило внизу на дороге, — движения и повороты барышни, покачивание зонтика и собирание цветов, — все то, в чем иной не приметил бы ничего необыкновенного, но что для смотревшего в окно звучало как короткая, дразнящая фраза. Элиас намеренно перешел в горницу, как и вчера, когда примерно в тот же час к дому приближалась другая. — Ага, вот тут и другая к слову пришлась! — Поразительное дело: отчего юное и прекрасное чувство к Люйли не заступило дорогу этому новому вспыхнувшему чувству… Оно словно отошло в сторону, как постороннее, не чувствующее себя причастным к тому, что происходило теперь. В душе Элиаса не было и намека на недавнюю потерянность, нет, в ней радостно шевелилось что-то новое, зарождающееся. И ощущения у него тоже были совсем не грустные, а радостные.
Счастье стремглав мчалось вперед. Слышно было, как барышня беседует с матерью; вот они вошли в дом. Счастье пылало огнем и жгло, был воскресный вечер, и каждый из двоих чувствовал огонь другого. Огонь был один, общий.
Когда Ольга перед этим прошла мимо старушки с сыном и двинулась дальше вниз, она тотчас почувствовала, что прогулка утратила смысл, потому что весь составлявший ее интерес остался позади. Всю дорогу она неотступно ощущала на себе взгляд молодого человека, словно тягучую нить, позволявшую двигаться, но не отпускавшую на свободу. Впрочем, на свободу она не рвалась. Инстинктивно она сошла с дороги и сорвала невзрачную фиалку — Все хорошо, вот только старушка видит… — На мгновение старушка заняла ее мысли, оттеснив сына, и Ольга в воображении подмигнула молодому человеку: «Так, так, я понимаю, можете смотреть, только следите, чтобы ваша мать ничего не заметила».
И, будто условившись с молодым человеком — в эту секунду он как раз перешел в горницу, — Ольга с ленивым и безразличным видом приблизилась к дому, держа в руке ненужную фиалку. Она не могла решить, прикрепить ее к груди или выбросить. — Ну вот, сейчас старушка заговорит.
Старая и молодая женщины разговаривали и улыбались друг другу. Обе не хотели быть нелюбезными, беседа становилась все более задушевной, слова и улыбки так шли к спускающемуся на землю воскресному вечеру, и они все говорили, говорили… Старушка пригласила барышню в дом, ступила на порог, Ольга чуть помешкала, но предложение приняла. Она никогда прежде не заходила к старой хозяйке и теперь полнее переживала все впечатления, как всякий, кто впервые переступает порог дома, где живет интересующий его человек. И в домик старушки с ее приходом вошли новые краски и запахи.
Старушка с сомнением прикинула, предлагать ли гостье сесть в качалку, и призывным тоном произнесла:
— Куда это наш молодой человек запропастился? А-а, вон он где, — заметила она, открывая дверь в горницу. — Иди сюда, составишь гостье компанию. Садитесь, гостьюшка дорогая, а я пока кофе приготовлю, — проговорила она, уже следуя на кухню.
Элиас, прослушав все до последнего слова, еще немного помедлил и вышел в комнату, где сидела Ольга — одна.
Все частности — слова, жесты, взгляды — не имели значения. С точки зрения последующих событий это свидание было решающим, и то, что оно не стало последним, было исключительной заслугой Ольги. Так могло случиться, если бы они повели себя как положено воспитанным людям, и тогда столь многообещающий летний рассказ закончился бы, едва успев начаться. Но в ту самую секунду, когда Элиас занес ногу, чтобы ступить в комнату, Ольга с приятным для себя чувством узнала в нем человека равного себе, и это мгновенно определило ее поведение — тон легкого кокетства. Она тут же отметила произведенное ею впечатление, погрузившее Элиаса в состояние безмолвия. И вполне оценила важность этой минуты. Упорно и спокойно смотрела она на Элиаса, полуприкрыв глаза и улыбаясь. На лице Элиаса трепетала улыбка, то сменяясь серьезной миной, то снова вспыхивая, пока наконец он не отвел взгляд в сторону.
Начало было положено, и на этот раз старушка кое-что все же заметила, хотя ни тогда, ни позже виду не показала. Под ее крышей были два молодых существа, которые в этот праздничный вечер вместе отправились в невидимое странствие по капризным и безрассудным любовным дорогам. — Пусть их, решила для себя старушка, чуя что-то своим старым сердцем, они молодые, пусть, что мне за дело. — Ей было весело смотреть на молодую фигуру, одежду и красивое лицо и развлекать видную гостью неумолчной болтовней.
Летние чары победили и Ольгу. Возвращаясь из гостей, она ощущала такое полное довольство, что это даже возбуждало ее. На повороте она оглянулась, а потом еще раз, приостановившись у липы. — Так-так, теперь он стоит возле окна открыто, больше не смущается. О, а завтра, ведь еще будет завтра… Вот, оказывается, как все тут выглядит, первый раз я так близко вижу… И воздух посвежел… А эту фиалку я бросила на пол; конечно, ребячество, но пусть… Теперь это мой близкий, близкий знакомый… кстати — как его зовут?
Его звали Элиас, и он поднял фиалку с пола, едва Ольга ушла. Фиалка еще хранила цвет зонтика и тонкий аромат — свой ли, руки ли, было неведомо. Кровь бросилась Элиасу в голову, он подошел к окну и дерзко стал смотреть вслед удаляющейся фигуре, жадно пожирая ее глазами. Когда видение исчезло, Элиас уставился на фиалку, как бы ожидая ответа от примолкшего вокруг мира на некий вопрос. Но уставился он внутрь себя, на свое нынешнее состояние, олицетворением коего была фиалка. И она была словно живая, и выражение лица у нее было словно у человека, нежданно-негаданно очутившегося в положении, в котором он бессилен себе помочь. Она словно ожидала, что ее вот-вот вышвырнут.
Но этого не случилось. Ее отнесли в ящик стола и положили там поверх каких-то бумаг.
* * *
Когда-то цветок рос на своем месте, почему — он не ведал, но на том месте, как видно, существовало некое напряжение, сила, противоположная другим, существовавшим где-то еще… Все предметы во всем мире таят в себе такое напряженное противополагание другим предметам. Где-то напряжение разряжается, и то, во что оно разряжается, само становится носителем напряжения… А сорвавшая этот цветок барышня едва удостоила его взглядом, она могла бы с тем же успехом сорвать травинку, потому что сам жест ее был исполнен фальши. Потом она шла, зажав цветок в руке и забыв о его существовании, а потом нарочно обронила на пол. Так из фиалки получилось действующее лицо. А теперь оно упрятано. Вокруг него стенки ящика, затем стены дома, а затем пространство со всем, что в нем есть. Где-то там двигается и Элиас, чье сердце и лицо сейчас равно пылают. Он не знает, чем заполнить пустоту, образовавшуюся с уходом Ольги. Душа и плоть стремятся к обладанию — всем, но пока не намечается ничего. Природа вполне довольна собой. И если вчера вечером казалось, что ни один человек не собирается спать, то нынче все словно только и ждут, когда можно будет лечь. Но безнадежно ложиться с неутоленной, жаждущей душой. — Ольга не придет сегодня ко мне, не придет, хотя я знаю, что она хочет. Может, выйти на улицу, вдруг увидит… Но они не встретились больше в тот день, и воскресный вечер остался для Элиаса немилостивым и безнадежно пустым. В отчаянии он даже вышел со двора и двинулся по той же дороге, по какой шел вчера к Люйли, механически переставляя ноги и словно случайно избрав это направление. — Стоит ли мне идти к Люйли? — Он стоял в двух шагах от того места, где Ольга сорвала цветок. Обернулся на ее дом, и это прибавило ему бодрости. Он отправился к Люйли.
Однако дорогой решимость его поколебалась. Дрозд распевал все так же страстно, но теперь Элиас слышал только звуки, не наполненные содержанием. — Вот и сегодня он поет. Что я скажу Люйли? Я должен быть с ней, раз обещал… — Думая о Люйли, Элиас заметил, что он как бы отворачивается от Ольги. Подобно человеку, провожающему во внутренние покои одну гостью, в то время как в комнате рядом ожидает другая, за которой он ухаживает. Элиас дошел до самого того места, где они были вчера с Люйли, и оттуда взглянул на двор Корке. На секунду им овладело желание сделать что-то отчаянное, спуститься прямо туда в амбар, где Люйли… Но опьянение этой безумной мыслью скоро прошло. Он очнулся, словно со стороны увидел свою взбудораженность и усталость и поплелся восвояси, домой, спать. И тогда откуда-то изнутри к нему вдруг пришло успокоение. Улеглась душевная сумятица, и он смог обратиться мыслями к будущим бесконечно долгим дням, когда у лета можно будет забрать все, что тому полагается отдать.
* * *
Он взглянул еще раз на оброненную Ольгой фиалку и испытал странное чувство — Люйли вдруг показалась ему слишком знакомой и слишком счастливой…
Влюбленность и любовь
Любовные отношения Элиаса и Люйли — виноват, оговорился, — Элиаса и Ольги продолжались и развивались во все утренние, дневные и ночные часы, раздуваемые всеми мыслимыми ветрами. Ольга слушалась своей интуиции и не выпускала из рук бразды правления вплоть до той самой короткой летней мочи, когда приехал Бруниус и выяснилось, что Ольги нет дома.
Утренние часы были самыми восхитительными. Ольга просыпалась от топота мягких лапок и яркого солнца и радовалась, чувствуя, что ночь не оставила и следа от ее вечерних сомнений. Вечерами ее угнетали разные мысли. Иногда ей даже приходило в голову выйти замуж за Элиаса. Это вызывало у нее почему-то приторное, тошнотворное чувство, словно Элиас был ее сыном. Когда она вспоминала в такие минуты его любовные взгляды, выражение лица, вообще все его движения, уловленные ею в течение дня, у нее внутри словно размякало, она слабела и при этом не могла сказать, приятно это ей или нет. А потом мысль легко совершала какой-нибудь головокружительный прыжок, например, от Элиаса к Бруниусу. Часы на стене удивленно тикали. Они недоумевали, почему женщина в такое время не спит.
Но когда все те же мысли являлись утром, дневной свет наделял их более радостным оттенком. В такие утра Ольга чувствовала себя ребенком, у которого в доме внизу есть закадычный приятель Элиас. И день, начинавшийся таким утром, сулил много приятного, и за окном были воздух и солнце, чье постоянное присутствие Ольга ощущала и с которым свыклась. Она вставала в особенном настроении, все, что она делала, ее жесты, все ее движения словно производились под давлением некой внутренней пружинки. Все, на что она смотрела, придавало бодрости; котенок рос не по дням, а по часам — это тоже действовало на душу живительно. Она брала его на руки, прохаживалась с ним по зале, ставила на басовые клавиши фортепьяно, а сама разыгрывала на другом конце пронзительную польку. Утром все было приятно. В уголке сада цвели желтые шары купальницы. За окном наплывало и стихало жужжание шмеля, словно слабеющий отзвук чего-то дальнего, теплого, случившегося еще ранним утром.
Лето взращивало цветы, в увеличении и в самом существовании которых не было никакого прямого смысла. (Рассуждая с точки зрения человека и сравнивая жизнь цветка с жизнью человека.) Но разве справедливо само сравнение? И в чем смысл Ольги, в чем смысл Люйли, в чем смысл Элиаса? Приличествует задаться подобным вопросом в это летнее утро, украшенное цветущими купальницами, когда трое упомянутых людей находятся друг с другом именно в тех отношениях, в каких находятся. И разве каждый из них не существует также отдельно, как весь шар, на котором они обитают — на тисненной цветами земле, под солнцем… Ответ один, от века и вовек.
Ольга сидит, облокотясь, у открытого окна. И хотя ее нынешнее отношение к Элиасу зиждется на эгоистических желаниях, она чувствует к нему теплую симпатию — Ты тоскуешь по любви — не отрицай, не надо, и, потом, тебе так милы его губы, — очерк его верхней губы, в которой виден характер, — его волосы и его гибкий стан… Ей двадцать пять лет, она взрослая женщина. Когда она была пятнадцатилетней девочкой, она оказалась на одной свадьбе. Да-да, речь идет об этой женщине, сидящей у окна, с тех пор она сильно изменилась, развилась. А тогда она долго разглядывала невесту и жениха, потом других женщин и других мужчин, некоторые тоже недавно справляли свадьбы. И она отметила разницу между замужними и незамужними молодыми женщинами. И еще она отметила, что среди незамужних тоже были разные: одни девушки, казалось, постоянно растрачивали что-то в себе и поэтому были более слабыми, чем другие, которые не растрачивали. В невесте чувствовалась напряженность. Она несомненно еще ничего не растратила, и юной Ольге было непонятно, как она вдруг собирается стать женой вот этого своего жениха. И хотя на глазах всех свершалось поистине чудо, остальные гости, очевидно, ничего не понимали и веселились, довольные, будто все шло именно так, как должно. Она даже слышала краем уха веселый шепот, что скоро, да, еще одна свадебка. Но Ольга на этой свадьбе долго не высидела; она улизнула домой, чтобы в тишине вполне насладиться своим приобретенным знанием. Она была довольна тем, что осознала важную вещь и приняла важное негласное решение, а именно: что себя она растрачивать не станет. По возвращении домой она впервые в жизни всерьез, изучающе взглянула на себя в зеркало. Отражение показалось странно чужим, словно она оказалась наедине с каким-то молчаливым человеком; в этом было что-то пугающее и тяжелое. Но она взглянула снова и подумала: «Вот это я — разве я? — да, именно я, и никто другой». Потом она отвернулась, чужое существо исчезло, и сейчас же она с поразительной остротой ощутила каждый кусочек своего тела, ощутила самое себя как что-то ограниченное определенными пределами и отдельное от других. И в ней еще прочнее укрепилась уверенность, что она не станет растрачиваться. С тех пор она избегала смотреть на себя в зеркало такими серьезными и изучающими глазами.
После той свадьбы Ольга бывала и на других, бывала на танцевальных вечерах и всякого рода увеселениях. Ее чуть-чуть пьянило, когда молодые люди во время танца привлекали ее ближе. Она не противилась этому, но на случай приберегала и всякий раз брала предохранительные меры. Сразу после танца она смотрела на этих молодых людей так, словно они были прекрасными и значительными существами, имевшими для нее некое неразъясненное значение, но от разъяснения этого значения она инстинктивно уклонялась. В их домашнем кругу время от времени появлялся какой-нибудь молодой человек, которого отец словно выдерживал перед ней в течение нескольких дней и, замечая, что дело на лад не идет, отпускал на все четыре стороны. Отец никогда не касался этой темы даже намеком, но после каждого исчезавшего молодого человека был уныл — как тот, кому нет удачи в игре; его черная борода сникала, и в ее гуще надолго затаивалась белозубая усмешка.
Все отцовские старания впрок не шли, зато, живя в столице, Ольга сама стала подумывать о замужестве. У нее явилось чувство, что нынешний, такой долгий период ее жизни приближается к концу, что скоро наступит другое время, когда она перестанет получать удовольствие от этого своего живого тела и от своей нерастраченности, а когда не будет этого, то и ничего уже не будет. Но помимо всего прочего, у нее были основания не доверять отцовской осмотрительности и была боязнь перед переменой всего образа жизни. — Нет, нет, нет, сначала я посмотрю Бруниусу в глаза, подумала Ольга, и ей вдруг стало тревожно и немного страшно, как человеку на краю обрыва, увидевшему, что назад пути нет.
В незамысловатой жизни в Малкамяки она вполне ясно разглядела начало нового периода своей жизни. Ее внутренняя пружина, державшая ее десять лет, с невероятной быстротой стала раскручиваться и она чувствовала, что с каждой секундой все больше поддается какому-то невидимому напряжению. А раз так, то в ней пробудилось желание самой ослабить пружину и втайне испытать всю прелесть внезапного расслабления… Она даже потешила себя заранее — приблизив к себе Элиаса. И одна ее часть, трепеща, взирала на другую, которая с необыкновенным хладнокровием, обдуманно действовала…
Но возвратимся, однако, к нашей поэме, к нынешней Ольге, сидящей у окна в пору цветения купальниц.
А ее уж тут нет, и никого нет в окне, только виден воздух, наполняющий залу. Куда она ушла? Вышла из дома, спустилась по тропинке вниз, потом за конюшню, мимо амбара; и вверх — на холм, в мареве красок и запахов земли, мыслей и стремлений…
Цветов на свете много, разных. Но у всякого вида есть свой час в сутках, когда его дух и жизненная сила достигают своей высшей точки. Так, ландыши милее отыскивать в траве вечерами, а голубые глаза вероники ярче светятся в первой половине дня. Вероника лучше всего цветет, когда лето уже вошло в пору, пророс ячмень и осина вся одета листьями. Цветы — повсюду в низкой траве, они сидят в пазухах листьев, как бабочки, венчики их легко слетают, а вместе с ними и две хрупкие, слабые тычинки. Человек, подымающийся на холм, пришел набрать букетик вероники, она первый посланец летнего цветочного изобилия. Лапчатка тоже цветет вовсю, а у герани уже большие листья. Они старинные знакомцы Люйли Корке, которая срезает их для коровы — на ужин. Листья запаривают кипятком, и от них начинает исходить дух, знакомый Люйли с детских лет, с летнего детства.
Цветок вероники можно разглядывать до последней клеточки, погружаясь в его миниатюрный голубой мир, находя жилки и протоки, нектар и пыльцу. Форма и содержание крохотного венчика могут служить безукоризненно голубым эпиграфом к земному повествованию летнего дня о жизни и солнце. Подле каждого цветка берет начало новая глава. Каждый листок — фраза, каждое растение — главка, насекомые — знаки препинания, а благоухание — живой интерес мастера. Над цветами и листьями стоит молодая красивая женщина. Она возвышается на склоне холма и оглядывается; сама она ни на что не смотрит, зато уверена, что смотрят на нее. И поэтому она спускается по склону к озеру, откуда дом не виден. Она доходит до берега и вдыхает его запах. Она не собирается купаться, только расстегивает несколько пуговок на блузке, словно собираясь… — Нет-нет, она никого здесь не ждет, ее просто соблазнила эта мысль — выкупаться. Воздух уже утратил бодрящую свежесть утра. Довольно жарко, и края видимого пространства туманятся дневной дымкой. Женщина стоит на берегу, устремив взгляд в одну точку, глаза ее видят малый мир, а душа угадывает большой. И сама она — промежуточный и отдельный мир посреди этих двух. А за холмом есть еще некто, по которому она тоскует, сама того не желая. Слух ее напрягается, чтобы уловить, уносит ли, не спросясь ее, струящийся воздух ее тоску туда дальше, за холм…
Кружным путем Ольга выходит к тому месту, где однажды сорвала фиалку, и той же дорогой поднимается к дому, мимо окон Элиаса. Элиас стоит у окна, но они не здороваются. Она идет мимо, и Элиас выходит из дома. Ольга останавливается под липой. Элиас словно со стороны видит себя, вот он приближается к ней. Ольга думает словами: «Вот Элиас, вот он подходит. Вот теперь я…»
Сердца обоих оглушительно стучат, забыв о своих хозяевах, а онемевшие души впитывают не то, что произносят губы людей. Ольга опирается о ствол и приподымает ногу в башмачке, она смотрит в глаза Элиасу и твердо выговаривает:
— Завяжи мой шнурок, он развязался.
А робкая душа обмирает, слыша, что произнесли губы. Они сказали: завяжи, ты завяжи…
Это было первым настоящим свиданием Ольги и Элиаса. И после него оба чувствовали, что ими руководила чья-то, чужая, воля, только не их собственная. Страсть обдавала влюбленные сердца жаром, как воздух в безоблачный знойный полдень. День был мучительным, ночь бессонной, а утро полным надежд. Что Ольга делала на следующее утро? Раскручивание пружины шло полным ходом: Ольга рассматривала себя в большом зеркале. Она закрыла дверь на крючок и взяла на руки котенка. Его отражение и он сам производили совершенно одинаковое впечатление, так что Ольга налаживала отношения со своим двойником через посредство котенка, равно прижимавшегося к груди той и этой женщины.
И тогда начало происходить кое-что новое. Глядя на явленную в зеркале обнаженную фигуру, Ольгу охватило неведомое ей благоговейное чувство. Она почти не удивилась красоте этой фигуры, беспокойный ток мыслей впервые за все последние дни и ночи словно остановился и стушевался, а на смену ему пришло чувство счастья и покоя. Безотчетным движением она спустила котенка на пол и вернулась снова к отражению. На лице в зеркале было выражение серьезности, и на мгновение Ольге почудилось, что вот так безмятежно и бесстрастно смотрит она на нечто таинственное и удивительное. Как будто извне, из всего поднебесного пространства начали слетаться незримые духи распустившихся цветов и приникать к коже той женщины в зеркале, как слетаются бабочки к цветущему кусту. Именно туда, к той женщине, к той, которая недавно сказала «ты» Элиасу, к той, которая десять лет охраняла свою непорочность, к той, которая упивалась физическим ощущением своего бытия и которая оставалась прежней. К ней, излучавшей уверенное знание: она останется вечно неизменной и недоступной, какие бы сумасбродства ни позволила себе эта женщина по имени Ольга — станет ли она выходить замуж за какого-то Бруниуса или заведет тайный, короткий роман с каким-то молодым юношей… Душа словно вырвалась от женщины, чье имя было Ольга, бросив ее со всеми ее прелестями, и устремилась навстречу той, другой, ставшей видимой благодаря зеркалу.
После этой зеркальной встречи Ольга вдруг стала ровнее и спокойнее, ее внутренняя жизнь хоть и текла прежним порядком, но как бы очистилась. Она была готова встретиться с Элиасом, но случая не искала. Ей было хорошо. Воспоминание о свидании под липой несказанно тешило, оно нанизывалось крохотной жемчужинкой на драгоценную нить душевных опытов, приобретенных в последние недели. Снаружи мерцало и струилось лето — некое лето, — нынешнее лето, творящее походя тысячу мелких и мельчайших событий на одном только малом и малейшем клочке земли за лесом, событий, которые, быть может, стоят того, чтобы посвятить им несколько строк. Ольга все чаще останавливалась перед зеркалом, не удерживая жеста, инстинктивно поправляющего что-то в платье или прическе, какую-нибудь деталь, о которой едва ли оставил бы свидетельство очевидец бытия, но которая, безусловно, имела свою часть в общем впечатлении, как лист в кроне дерева.
Но вот опять открыли боковое окно в доме старой хозяйки. И Ольга направилась прямо к нему. В комнате сидел Элиас. Выражение лица Ольги было такое, словно она готовилась сказать: «Мы с вами знаем, вы и я, что с нами еще что-то случится. Посмотрим! Все равно до тех пор нам не будет покоя. Что ж, пусть все идет, как задумано…»
Вслух она произнесла:
— Пойдем гулять.
Они отправились на прогулку, испытывая то отчаяние, то восторг и умудряясь счастливо избегать житейских разговоров, убийственных для всего живого. Так продолжалось изо дня в день вплоть до Иванова дня. Они не дотрагивались друг до друга, а поскольку души обоих не успели стать бесчувственными в странствиях по миру, то между ними продолжалась самая интенсивная и богатая оттенками, более глубокая и невидимая связь, которая всегда устанавливается, когда двое любых обыкновенных людей встречаются для любого обыкновенного дела. Сознают они это или нет, но они подчиняются заведенным порядкам. Между молодой женщиной и молодым мужчиной эта невидимая связь достигает такого высокого накала и ее признаки настолько расплываются, что бесполезно пытаться проникнуть в них разумом, он не в силах распутать и удержать разом все нити.
…Но тогда, в тот первый воскресный вечер, Элиас еще не был готов к молчаливому сговору с Ольгой; и только благодаря своему живому инстинктивному чувству Ольге удалось ослабить опасное напряжение — и Элиас мгновенно почувствовал себя непринужденно и свободно. А в следующие дни невидимая связь укреплялась естественным образом, хотя во внешних мелких событиях проявлялась сбивчиво и неясно. Но ничего и не требовалось, если могли встречаться глаза, эти благородные чувствилища… Вот так выпевалась мелодия жизни на этом клочке земли, заросшем деревьями и кустарником; и здесь, на этом самом месте, круглился один из закоулков бескрайних дебрей жизни, чем-то похожий и чем-то отличный от всех прочих закоулков… Элиас непринужденно и свободно ходил на свидания к Люйли; он настолько привык целоваться, что уже не видел в этом ничего особенного, но и обходиться без этого еще не мог. Они лежали на полянке и целовались, целовались без конца — но и только. Люйли не противилась и ничего не говорила. И каждая следующая встреча на холме точно повторяла предыдущую, кроме одной — в понедельник, за день до Иванова дня: в этот вечер их свидание получило некоторые дополнительные оттенки. И поскольку все эти свидания никак не касались отношений с Ольгой, то она о них и не догадывалась.
Снова воскресенье
Вокруг Люйли Корке снова воскресенье. Лето словно воображаемое море, через которое каждый год переправляется жизнь, отплывая от весны и устремляясь к осенним берегам. В нынешнее воскресенье совершался выход в открытое море.
А это лето славно еще тем, что неопытная Люйли Корке успела за прошедшие недели поцеловаться несчетное число раз. Последний раз она занималась этим вчера вечером, вернее, ранней ночью, — Элиас снова приходил на холм. Такая жизнь, разумеется, не проходила бесследно. В ее взгляде и повадке появились большая уверенность и свобода, и это ее домашние замечали ежечасно. Если в Корке приходила какая-нибудь кумушка посудачить, Люйли держалась, может быть, чуточку слишком самоуверенно: она сидела за кроснами и, казалось, вовсе не обращала внимания на то, что говорила гостья. А если уважаемая гостья засиживалась, то Люйли с сонным видом оставляла челнок и выходила из дома — прогуляться, чтобы отдохнуть от работы. Дома она иногда вмешивалась в разговор и произносила что-нибудь с таким выражением, словно знала еще кое-что, но говорить не собиралась. Наедине с собой она обычно напевала, и хотя случалось, что Вяйнё или девочки поблизости, она забывала об этом и вела себя, как если б была одна. Все домочадцы, не перемолвясь и словом, догадывались о происходящем. Однажды за едой разговор зашел вообще о женитьбах, замужествах и невзначай помянули Элиаса. В упоминании проскальзывала нота затаенного интереса, какого-то раздражающего прощупывания почвы, что легко различило чуткое ухо в самом тоне произносимых слов. Люйли почла за лучшее встать из-за стола, но, как бы подливая масла в огонь, с улыбкой произнесла, глядя в сторону:
— Что ж, Элиас красивый парень.
Вот сколь преуспела Люйли с того первого воскресенья. Она смогла во всеуслышание произнести некое суждение по поводу Элиаса, по поводу молодого человека! Следы пылких опытов были налицо.
Воскресные дни были для Люйли самыми удобными, чтобы спокойно оглянуться назад. С высоты нынешнего дня даже прошлое воскресенье казалось немыслимо далеким, а что уж говорить о первом, позапрошлом, воскресенье, воспоминание о котором могло вызвать разве усмешку, настолько все там выглядело ребяческим. То есть ребяческими выглядели ее упоение и фантазии на тему супружества. — Нет, так замуж не выходят; когда выходят замуж, живут отдельно, потом бывают дети, — а у меня только и есть, что моя тканина, где ж все остальное взять? Немыслимо представить, что Элиас раздобудет то, что требуется для семейной жизни. Да нет, об этом даже неприятно думать. Раздобыть все нужно самой и так, чтобы он не знал; а он однажды придет, увидит меня в новом доме и останется… Но вот свадьба и обручение… — С этими картинками воображение Люйли не справлялось и утешалось тем, что очередное свидание чудесным образом разрешит все мыслимые на этом пути трудности. Свидания продолжались: они сидели на лужайке, ложились, обнимались, и целовались, и говорили о всяких пустяках. Потом разговор смолкал, молчать было лучше. Потом они расставались, обнявшись еще раз стоя. Таким было и последнее свидание, а затем наступило воскресное утро. Плыли уже в открытом летнем море, берега скрылись из виду… Утром темноглазая девушка, взойдя на крыльцо, медлит и скользит взглядом над деревней и по оконечности мыса. Даже в этот ранний час по краям собирается жаркая дымка, грядущий погожий день широким жестом заявляет о себе. Воскресенье, скоро в храмах зазвучит орган. Но это воскресенье кажется просторнее, в нем словно что-то грядет, нарастая и пытаясь увлечь. На самом деле все существует внутри девушки и исходит из нее. Это там, в ее пространстве, собирается жаркая дымка, дремавшая, пока она спала, но появившаяся еще прежде, поднятая всеми впечатлениями последних дней, и вот теперь она сгущается… Когда марь тускло густеет по краям неба, начинает казаться, что где-то бушует огонь. Огонь — опасное слово, особенно теперь. Мнится, что он вспыхнул в той стороне, разрастается и надвигается сюда. Отсюда нужно бежать, но ведь в той стороне он и разгорелся… Что это должно означать? Воздух горяч, и густеет марево, но деревья, холмы, травы — все стоит на своих местах. И человек заперт, ему некуда бежать с земной поверхности… Такая фантазия упоительно ужасна… Марево густеет, но люди, животные, земля и растения безмятежны, небо и солнце неизмеримо сильнее их всех. Сегодня грозы еще не будет. Но Люйли уже подхвачена жарким дыханием, она нисколько не походит на ту себя, какой была прохладным счастливым апрельским вечером перед очагом в темной бане, когда рисовала в воображении начало чего-то нового, лето, и предчувствовала летнее плавание — от весеннего берега к осенним. В прошлое воскресенье она думала, что очередные свидания разрешат все мыслимые трудности и определят, как все у них с Элиасом будет. На этой неделе они виделись дважды, второй раз — вчера, совсем поздно, но оба свидания только отсрочили решение и не дали никаких ответов. И вот снова воскресенье, и по краям неба сгущается дымка.
К Люйли приближается событие, которое никогда нельзя возвратить. Оно произойдет чуть позже — под утро, после возвращения с танцев в Иванову ночь. Люйли безотчетно ждет его — она не знает и не умеет назвать то, чего ждет. Воспоминание о вчерашних ласках не заставляет ее сердце учащенно биться. Воспоминание и ее нынешнее состояние словно одной температуры и не могут никак повлиять друг на друга. А когда она представляет себе новые свидания, хотя бы завтрашнее, то воображаемая картина оказывается сродни вчерашней и никак не трогает. Она понимает, что такие встречи будут идти своим чередом, что ей нельзя не ходить на них, надо ходить и ходить, хотя… Во время свидания она впадает в странное состояние полусна-полуяви. Она дышит, но не понимает как — дыхание становится таким же внешним предметом, как поляна, которую она ощущает где-то далеко под головой. Ласки горячат ее не так, как прежде, они только чуть-чуть усугубляют ее состояние, ближе пододвигая к провалу в бессознательное, дальше уводя от осознания этой поляны и этого вечера. Она лежит на поляне, красивая зрелая девушка, и ее видимое, телесное существо состоит из тех же веществ, что и все вокруг нее, но в ней происходят невидимые движения. Сейчас мягкая летняя ночь. И кто знает, что там невидимо происходит, во всех этих веществах вокруг нее… Да, она лежит на поляне, и кровь приливает у нее к голове… Такими бывают эти свидания, и такими они повторяются.
По воскресеньям ткать нельзя, хотя хочется. Даже если она остается дома совсем одна, и тогда она не может сесть за кроены. Завтрашний вечер бесконечно далек, умом не охватить эту бездну времени, за которой скрывается завтрашний вечер. Да и вообще кажется невозможным, чтобы этот воображенный вечер когда-нибудь пришел — он ведь может попросту оскорбиться, что его вообразили, вперед не спросясь. Снаружи между тем пребывает все то же просторное и прочное воскресенье. Там цветы и ржаные поля — все еще…
Что это?! Старая хозяйка Малкамяки! Идет! К нам! С Элиасом!! Радость, что в тебе главное? Внезапное чувство освобождения.
Теперь домочадцам стало все окончательно ясно, теперь они увидели все. Они видели молчаливое ликование Люйли в каждом ее взгляде и движении. И потом само собой, вольно и невозбранно устроилось так, что Элиас и Люйли оказались наедине. Они были во дворе, и Элиас произнес тоном, как бы рассчитанным на посторонние уши: «Покажи-ка мне твой амбар, Люйли!» В амбаре они успели поцеловаться только один раз, потому что во дворе послышались голоса обеих матерей. Элиас размеренно подошел к двери и принялся возиться с засовом, то выдвигая, то задвигая его. Заметил: «За таким запором девушку не страшно оставить, охранит!» Элиина отозвалась со двора: «Сохранность обеспечена!» И довольно улыбнулась.
Воскресное настроение словно чуть-чуть выдохлось во дворе Корке, как бы устав от себя самого. Это стало особенно заметно после ухода гостей. Напряженно-взвинченное состояние Люйли было как сжатая до упора пружина; потом вдруг явилась нечаянная сила, высвобождающая пружину, чувство облегчения затопило все существо Люйли. Но сила оказалась недостаточной и не смогла высвободить пружину до конца, она только сняла часть напряжения, а другая часть так и осталась нетронутой дожидаться угасания праздничного дня, расслабленно клонящегося к вечеру. Когда Элиас струсил в амбаре, услышав голоса обеих родительниц, и вдруг, бросив ее, пошел к двери, чтобы проверить действие засова, Люйли почувствовала внезапную усталость, и ее внутреннее напряжение, не разрядившись, ослабело. Но это не принесло ей ни оживления, ни бодрости. Она смотрела на силуэт Элиаса в дверях, темный на фоне светлого дня снаружи, и смутно ощущала, что Элиас увлекает ее куда-то, куда идти ей не по душе, но куда хочется ему самому. А когда он еще и сказан эту фразу, обращаясь к матери, стоявшей во дворе, то тут Люйли и впрямь почувствовала себя совсем разбитой и изнемогшей на том скучном и напрасном пути, по которому ее упорно ведет Элиас, хотя и видит, что у нее, Люйли, нет сил… А Элиас, не оглянувшись на нее, просто шагнул во двор, и ей тоже пришлось идти следом. И скоро гости ушли. Душа Люйли оцепенела.
Но в Корке заглянули еще одни гости — мать и дочь, — та дочь, с которой Люйли потом пойдет на танцы в Иванову ночь. Девушка спросила, когда они остались вдвоем: «Сюда Элиас Малкамяки приходил?» — «Приходил, с матерью», — подтвердила Люйли. Девушка схватила ее за руку и шепотом спросила: «Ну что, красивый парень?» Люйли усмехнулась. «Он обнимал тебя?» — проговорила девушка тем же замирающим голосом, который напоминал едва слышный аромат ночных цветов. Люйли отрицательно качнула головой, и у нее вырвался такой же короткий смешок, как когда-то в доме старой хозяйки в Малкамяки. Нет, все-таки вызрело что-то новое в этом просторном дне, и слова девушки прозвучали как веселое напутствие. Для этой девушки Элиас был мечтой, о нем она думала и вздыхала. Но весь Элиас, настоящий, целый мир, заключенный в телесную оболочку и названный таким именем, существовал рядом с Люйли, ходил, жил и скоро должен был подступить совсем близко… И сегодняшняя встреча предстала перед Люйли в новом свете, когда она возвращалась чуть впереди матери к дому, проводив последних вечерних гостей. Было легко ждать завтрашнего дня. К тому же сегодня распустилась сирень. И снова пел дрозд. И ведь правда — Иванов день скоро… А вон там — Малкамяки и Элиас, и только недавно он был здесь. Солнышко больше не слепит глаза. Да, такие теперь вечера…
Наступил вечер понедельника, Люйли и Элиас встретились, и Люйли в ласках Элиаса обнаружила нечто новое, нечто такое, что подействовало на нее чрезвычайно возбуждающе, хотя она не могла дать себе отчет, приятно ей это или нет. Но до назначенного срока, до Ивановой ночи, оставалось уже немного.
* * *
Элиасу, который возвращается со свидания в предпоследнюю ночь перед Ивановым днем, то есть в самую короткую ночь, этому рослому, красивому молодому человеку с ласковыми глазами, сейчас двадцать лет.
Его отношения с Люйли, хотя и коренились в раннем детстве, начались все же только в этом году, на переходе весны в лето, и самыми прекрасными мгновениями в них были те, когда он в свой первый вечер увидел с прогалины на лесистом холме приоткрытую дверь амбара и в ту же секунду ощутил уверенность, что Люйли непременно придет к нему сюда и именно теперь. Это была высшая точка, и она не подвергалась сомнениям. Все прочее, что происходило после, было иного разбора и так или иначе относилось к той части человеческого бытия, где правил необязательный случай. Люйли пережила высшую точку тогда же, когда и Элиас, — когда «вдруг на нее словно пахнуло горячим ветром» и она двинулась вверх по тропинке. Для них обоих высшая точка естественным образом разрешилась в первом поцелуе, а дальше уровень поддерживался ровным и неизменным… Но ведь и в другом месте, в Малкамяки, кое-что происходило. Допустим, что однажды на какой-нибудь полянке в лесу случайно встретились бы пришедшие порознь и не подозревающие друг о друге Люйли, Элиас и Ольга, встретились бы и взглянули друг другу в глаза — что бы тогда произошло? Да ничего, три души взглянули бы друг на друга, не узнавая… События идут своим чередом, и человек тут ни при чем; люди, самое большее, могут распорядиться формой, в которую облекается событие, но которая никак не влияет на существо происходящего.
Мысли Элиаса, возвращавшегося домой в самую короткую ночь, были расслабленны и дерзки. Он думал о танцах в Иванову ночь и обо всем, что там бывает. Любовные фантазии его простирались даже до женитьбы на Люйли. — Из Люйли получится прекрасная жена. Да она уже почти моя жена. Пока еще я не мог оставаться с ней, до завтрашней ночи. Но завтра, завтра мы справим свадьбу.
Он почти услышал эти слова, произнесенные вслух, и оглянулся по сторонам, проверяя, слышал ли их живущий неподалеку дух ночи. Но как видно, ночной дух был не прочь услышать ту же мысль в более пространном виде…
Намерение жениться забылось, и Элиас теперь размышлял о том времени, когда он, приобретший такой несравненный опыт, окажется вновь в веселом дружеском кругу. Это напомнило о завтрашних танцах, и воображение живее, чем прежде, нарисовало эту ночь и другие, которые за ней последуют. Так что его внутренний настрой был чрезвычайно созвучен тому, что ожидало его на подходе к Малкамяки.
Самая короткая ночь. — Бруниус
Самая короткая ночь
Солнце садится. Чувства наперебой предлагают воображению впечатления летней ночи: коростель, дым пожога, ольховые листья. Ольга стоит в ольшанике и ищет глазами просвет в листьях для удобного наблюдения. Элиас возвращается домой с той стороны, за Бруниусом послана повозка.
Ольга чувствует, что нынешнее ее положение безумно со всех точек зрения. Этим чувством успели наградить ее листья ольхи, застывшие в покое возле самого лица. И еще низкая трава у ног, которая прислушивается и приглядывается, устремив глаза вверх. Какие обстоятельства учинили это ее положение? Громкое биение сердца говорит о Бруниусе, а ее внутреннее око видит его как некий период, протянувшийся с того танцевального вечера до нынешних тягучих минут, когда он уже где-то неподалеку и приближается к дому. Немножко забавно, что все вышло ровно так, как задумала Ольга, тем более что от нее никаких усилий не потребовалось. И вообще, что такое — Бруниус? Как он выглядит? В городе он выглядит мучеником, оттого что ему приходится ходить и ездить по тем же улицам и совершенно так же, как всем прочим людям. Еще он выглядит так, словно его чрезвычайно беспокоит мысль, знают ли прохожие на улицах, что он богат и образован. Вот таким представляет его сейчас Ольга и тотчас вспоминает, что именно этот самый Бруниус теперь подвигается сюда. Серьезность и забавность сливаются и производят невыразимо странное, но очень сильное впечатление. Летняя ночь не умеет смеяться или плакать, она не подходит близко. Вот эта ночь, потом еще одна, а потом Иванова ночь. Но то, что нынешняя ночь — самая короткая, вряд ли кто-нибудь помнит, кроме Бруниуса, написавшего Ольге: «Буду у тебя в самую короткую ночь».
Пока длился день, Ольга ухитрялась не заглядывать в лицо своего положения. Она беспечно расхаживала туда и сюда, делая кое-какие приготовления к приезду Бруниуса. Солнце уже садилось, когда она смотрела из своего окна на косые закатные лучи, скользившие по красным метелкам щавеля на поле, и на Элиаса, удалявшегося от дома куда-то на юг. Она очнулась от своего созерцания внезапно с чувством какого-то страшного упущения — или ошибки? Ее собственный голос, но не ее нынешней, а ее трехнедельной давности голос, успевший за это время забыться, объявлял ей теперь о ее упущении и о последней возможности его исправить. Но Элиас уходил туда, на юг, а Бруниус с минуты на минуту должен был быть. И если он успеет прежде, то все — мне больше не уйти, никогда. Чувство страшной безысходности начало овладевать Ольгой. Элиас уже пропал из виду. Тени удлинялись с бесчувственной непреклонностью, и самая короткая ночь оповестила о своем приходе.
Ольга попыталась спастись в обществе людей, спустилась вниз, но это не помогло. Она вернулась к себе, где неодолимо влекущее окно тотчас предложило ей давешнюю тоску. Идти было некуда, здесь было единственное место, здесь надо было ждать и следить глазами затем, как убывают бесценные минуты, нужные Бруниусу, чтобы достичь Малкамяки — этого самого дома, куда ее, Ольгу, словно нарочно поместили заранее.
Ольга стояла у окна, упершись взглядом в линию горизонта, и постепенно ее тоска словно утихала. Вечер сменила ночь. И вдруг Ольга увидела вдали возвращающегося Элиаса — прежде, чем успела осознать это. Бруниуса все еще не было. Может, его не должно быть? Кого не должно? Элиас шел сюда, значит, это Бруниус уезжает… Опять тоска и ужас. Ах да, это самая короткая ночь.
Ни о чем больше не думая, она инстинктивно раздвинула низкие занавески и тотчас по мгновенному чувству внутри поняла, что Элиас заметил ее. Словно повинуясь чьей-то воле, она высунулась из окна и сделала движение, чтобы Элиас понял ее намерения. Положение требовало воли и собранности. Ольга выбралась из окна и по приставной лестнице соскользнула вниз, словно боясь, что лестница или заднее крыльцо выдадут ее. На склоне холма она оглянулась — Элиас стоял внизу на поле и смотрел прямо на нее. Ольга вошла в ольшаник и там притаилась, прикрывшись со всех сторон многослойным сумеречным сплетением листьев и стволов, ведущих свою непреложную жизнь. Духом этой чуждой жизни она прониклась в первые же минуты, ее волевая собранность вдруг ослабела, и она взглянула на свое положение глазами этого ольшаника. Где-то там снаружи к ее убежищу приближались Элиас и Бруниус — ведь Бруниус непременно приедет этой ночью. Но сейчас шел Элиас, и Ольга ясно видела из своего тайника, что у него было на уме, что он твердо рассчитывал получить здесь. Ольга видела скрытое лицо Элиаса, и зрелище оказывалось довольно забавным. Она теперь непременно хотела, чтобы он ее нашел. Элиас уже поднимался по склону, и она сильным движением перегнула стройное деревце; резкий треск раскатился по развалистым ольховым дебрям. Ольга опустилась на землю, вытянулась между тонких стволов и в неудобном положении, закрыв лицо руками, стала ждать. Мысли у нее были на удивление ясные, она словно со стороны взирала на свои поступки, и ей было немножко смешно. Она чувствовала два мира: один — между ее пальцами и землей, и к нему не имел отношения другой, оставшийся за ее плечами, где было все ее тело, и ольшаник, и воздух — от края до края неба, и где происходили события, за которыми она прилежно следила из своего маленького мирка. Она слышала и видела внутренним оком, как приблизился к ней Элиас, словно к какой-то находке, и ей было приятно чувствовать, что Элиасу нет доступа в мир, замкнутый между ее закрытыми глазами и землей…
Пауза. Пусть поэма поднимается над сплетением ольшаника к бледному ночному небу. Оттуда многое видно, и — что самое важное — из приятного отдаления.
Прежде всего глаз останавливается на формах земной поверхности. Вся холмистая гряда видна как на ладони. Она подобна гигантскому темно-зеленому валу скошенной травы, тянущемуся с одного края громадного луга до другого. По левую руку — водоем с бесчисленными заводями и бухточками, простирающийся до самой гряды. Жаль, что никогда не придется бродить вдоль его глухих берегов, окаймленных лесом, спускающимся со склонов. Весь этот берег усеян продолговатыми скользкими камнями, между которыми протискиваются узенькие — шириною в ладонь, а то и в палец — тенистые бухточки, выложенные по дну белыми и пестрыми камушками. За этим каменистым и лесистым берегом изгибается дугой травяной берег, над которым возвышается деревня. Вот та избушка повыше деревни, у подножия холма — Корке; далековато ходить Элиасу Малкамяки на свидания к Люйли Корке… Не забывайте, мы смотрим на все это в самую короткую ночь… И отсюда нам видны не только различные формы земной поверхности с ее пашнями, лесами и водоемами. Нам отлично видно, как по правую сторону гряды движется тряская повозка, в которой сидит Бруниус рядом с Таавс… Люйли Корке недавно легла спать, возвратившись со свидания, на котором она заметила в ласках Элиаса нечто новое, и теперь, лежа в постели — вон то серое пятнышко, это амбар, — мечтает о приближающихся танцах. И хотя расстояния между всеми ними мельчайшие, она не видит и не догадывается ни о Бруниусе и Тааве на дороге, ни об Элиасе и Ольге вон в том ольшанике; она засыпает…
Элиас и Ольга лежат, обнявшись, с закрытыми глазами, в ольшанике. Они все еще обнимаются. Ольга чувствует, что теперь она совершенно исправила все упущения, ей невыразимо приятно оттого, что она могла сделать и испытать здесь все, что ей угодно, но ей не было угодно. Ей довольно простого знания, что она могла по собственной прихоти сделать этого мальчика своим, что она вольна в своих действиях и полновластно распоряжается нынешним положением и что ей нечего стыдиться. Ей приятно думать и о том, как энергично она пресекала все инстинктивные поползновения молодого человека. И то, что под конец она потрепала его по голове и поцеловала — все так же с закрытыми глазами. Это был ее первый поцелуй. Потом она шепнула Элиасу: «Я пойду сейчас, а ты подожди!» И мгновенно пропала в ольшанике.
Ночь смотрела глазами ласкового зверя, не умеющего сказать.
* * *
Тааве распрягал лошадь и видел поспешное тайное возвращение Ольги. Он пошел в дом и встал у окна в людской. И скоро увидел сына старой хозяйки, спускавшегося с холма… Тааве лег в постель и стал обдумывать увиденное…
Только недавно поднимались мы в высокое бледное небо и озирали оттуда всю округу и дела, в ней творящиеся. И вот уже небо становится ярче, короткая ночь близится к концу, подступает утро. Из поднебесья уже виден краешек солнца, и теперь брошенный оттуда на землю взгляд рождает новое настроение, не такое, как летней ночью. К тому же многие спят. Правда, в людской большого дома не спит Тааве, погруженный в размышления; и еще один человек в том же доме не спит — Бруниус.
Бруниус
Бруниус без сна лежит в постели. Ольга не так давно вышла из комнаты.
Путешествие доставило Бруниусу новые страдания, потому что все прочие люди тоже, как нарочно, норовили колесить по земле в летние месяцы. Он был вынужден — совершенно один — находиться в их толпе, двигаться вместе с ними, и, конечно, опоздал. А когда он наконец прибыл среди ночи в бесконечно чужой Малкамяки, и его в потемках встретили будущие родственники, и мать Ольги поспешила наверх за дочерью, то той в комнатах не оказалось. Это было тем более удивительно, что прибывший гость был ее собственным гостем, это она его сюда выписала, а они, родители, его видели в первый раз. Так что не оставалось ничего другого, как проводить Бруниуса в предназначенную ему комнату, «которую Ольга днем сама для него приготовляла».
Бруниус вошел в сумеречную комнату и, оставшись в одиночестве, замер посреди нее, вглядываясь в светлые квадраты окон и углы, словно они составляли немое общество, в котором он вдруг очутился. Он был заключен в некий неизвестный ему семейственный круг. В каждой вещи, в сумраке стен таилась часть той Ольги, которую он не знал и которую она сама никогда не показывала. Но теперь, когда Ольги не было, только эта незнакомая ему часть представляла всю ее. Было тихо и тускло-темно. Бруниус еще никогда в жизни не оказывался в положении, из которого не было никакого, решительно никакого выхода.
— Даже если бы можно было немедленно уехать отсюда, думал Бруниус, глядя в окно, то и тогда я не смог бы этого сделать, потому что люди узнают об этой поездке. — Он вспомнил, как он написал Ольге в письме: «Буду у тебя в самую короткую ночь». Неужели он в самом деле написал эту фразу? Неужели это он, Бруниус, очутился теперь…
Дверь словно уплыла в сторону, послышались шаги. Бруниус устремился к дивану и быстро сел. Ольга вошла в комнату, приблизилась к Бруниусу и мягким, одному ему предназначенным голосом сказала:
— Вот ты и приехал.
— Да, приехал… приехал наконец.
Ольга ничего не ответила, потом, после молчания, произнесла:
— Я сидела там, на холме, и ждала, пока ты войдешь в эту комнату.
Живая Ольга была странно близкой и излучала тепло. Но почему-то эта теплота не находила отклика в душе Бруниуса, хотя и действовала на него. Ольга смотрела на Бруниуса, словно собиралась обнять его от избытка какой-то тайной радости. И Бруниус невольно оттаял. По-прежнему сидя на диване, он повторил только что сказанные слова:
— Да, вот я и приехал наконец.
Ольга пододвинулась к нему, оперлась, вставая, о его колено и, как эхо, повторила за ним:
— Вот ты и приехал наконец.
В ее голосе прозвучала сдержанная незнакомая радость. Бруниус попытался обнять ее, но она отстранилась и сказала:
— Завтра я поговорю с отцом.
Бруниус тоже поднялся, они стояли в шаге друг от друга. Ольга подошла ближе, с особой осторожностью положила руки ему на пояс и ласково произнесла:
— А теперь я пойду спать. И ты тоже ложись.
Она удалилась, и Бруниус остался один.
У Бруниуса никогда прежде не было отношений с женщинами. Теперь, после Ольгиного ухода, он лежал на спине и с большим спокойствием взирал на положение, в котором оказался. Отправляясь сюда, он хотя и испытывал легкую тревогу, но все же чувствовал себя хозяином положения. Он думал, что составил себе ясное и верное понятие о значении брака и, рассматривая в одиночестве всю человеческую жизнь с точки зрения брака, глубоко прочувствовал справедливость старых незыблемых принципов этого института. Однако едва он тронулся в путь, разве что чуть тревожась, как тут же начал сталкиваться с вещами, которым не было места в его стройных рассуждениях: с дорожными помехами, работником-возницей, темным домом, Ольгиными родителями и ее отсутствием… А потом с ней самой в этой комнате, ее поведением и ее уходом — Я каким-то поразительным образом привязан к ней, все время вижу ее фигуру перед собой… — И, думая, что именно с этим существом он завтра обручится, он испытывал неприятное удовлетворение. Неприятность чувства проистекала из его чужеродности, подобных чувств он прежде не испытывал и уж точно не желал их. Этому ощущению тоже не было места в системе его рассуждений, тем более в том ее разделе, что касался до взаимоотношений полов…
Боюсь, что Бруниус нечаянно стал чуть ли не главным персонажем в нашем летнем рассказе, когда в самую короткую ночь нагрянул в эти края… Мысли его еще были заняты тем же предметом, когда поднялось солнце. Тааве в людской уже спал.
Иванов день приближался.
В преддверии Иванова дня
1
Поэтический канун Ивановой ночи
Поэтическое вечернее настроение кануна нарождается в уголках, за косяками, во дворах — ибо оно предваряет поэму, — нарождается в назначенный срок, в час, когда солнце перестает слепить. Лето уже в разгаре, березовые листья уже совсем взрослые, а воздух дома перестал быть средоточием всех обитателей: сквозь открытые двери и окна он вытекает наружу, расплывается и разбавляется воздухом двора. Одна из маленьких обитательниц выходит из ворот, идет по распаханному склону, вдоль изгороди, по тропинке к роднику. Молодая березовая поросль видится ей чем-то одушевленным, а ее собственная изба — приземистым и добродушным старичком. Весь их двор словно пялится на горизонт, откуда придет праздник, а вечерний дым, поднимающийся из трубы, напоминает маленькой девочке букет из герани и лютиков.
Когда шалаш на лужайке готов, то огороженный кусочек земли, что оказывается внутри, напитывается совсем особенным духом. Он становится полом, отделенным со всех сторон березовыми стенами; туда приносят низкий детский стол, табуретку и лавку, и если в шалаш еще надо заползать на корточках, опираясь на руки, то ощущение и вовсе необыкновенное, совсем не такое, как снаружи на той же лужайке. К березовой стене скоро поставят люльку с куклой, которая посматривает в просвет из-под ветвей на внешний мир — огромный-преогромный и чуточку незнакомый. Отсюда можно увидеть и край поля — весь в непролазных цветочных зарослях, и рожь, застилающую горизонт — если смотреть в щелочки между листьями. Вход в шалаш прямо против сеней, где по обеим сторонам крыльца воткнуты в плотно утоптанную землю молодые березки. Дверь в сени отворена и в горницу тоже, так что прямо со двора видно окно в горнице, а за ним дикий луг, над которым светит низкое солнце, чьи вечерние лучи озаряют толкущийся комариный рой. На подоконнике пестрый букет из герани и лютиков, за букетом окно, за окном озаренный рой — словно веселые искры сегодняшнего вечернего костра.
На рубеже вечера и ночи подымемся ввысь.
Отзывчивости воздуха хватит и на больший простор, чем здешний, где владычествует старая, пушистая от хвои гряда холмов. Берегов и границ обширного водоема отсюда не угадать, но они окрашены в тот же тон, что и цветы, березы, дворы и скаты крыш. Пунцовое солнце уже видно только наполовину, и алый свет легко скользит над равниной макушек, касаясь лишь самых высоких цветущих вершин, чьи основания вместе с кустарниковыми кущами пребывают в тенистом сумраке, готовые к приходу ночи. Прибывшие на праздник из дальних мест гости возвращаются после короткой прогулки на холм в принявшие их дворы и заходят в избы — ужинать. Их лошади и повозки остаются ночевать во дворах. Березовые шалаши стоят нетронутые. Иванова ночь! Солнце закатилось, спустимся и мы в долину с ее запахами ржаного поля и человеческого жилья.
Когда Иванова ночь так прекрасна и тиха, как эта, она приглушает окрестные черты, которые при дневном свете кажутся самыми приметными. Все мельчайшие, но знаменательные события праздничной ночи, уже начинающие там и сям приключаться с разными людьми, как бы взлетают в сияющее северное небо и там мерцают в такт чуть слышной далекой мелодии. Мелодия расскажет тебе, одинокий наблюдатель, об этих событиях и наполнит твое сердце сладкой печалью, и ты позавидуешь тем людям, с которыми все это приключается в праздничную ночь. Кто-то другой чувствовал то же в прошлую Иванову ночь, но теперь он ничего не помнит: окутанный новым счастливым туманом, он спешит к новой, бледно светящейся двери, успевая на бегу различить тысячи неподвижных цветочных головок, стиснутых в праздничной цветочной толчее. Мелодия смолкла. Восток, запад, север и юг ограничивают пределы пространства, в котором живет этот легкий отзывчивый дух, простертый от одних ржаных полей до других, от дворов к дворам, вдоль заросших купырем обочин и нагретых за день гладких дорог.
И глубину ночи заполняет великая вечная умиротворенная жизнь, чей затаенный огонь сосредоточен в эти ночные часы в немногих там и сям не спящих людях, в их сердцах и глазах, хотя все вокруг кажется погруженным в непробудный сон.
2
Сборы Люйли
Люйли Корке этой ночью идет на танцы. Она собирается втихомолку, никому ничего не говоря, но домашние, конечно, видят ее приготовления. А Вяйнё и сам собирается идти, может быть, уже ушел. Люйли никогда раньше не ходила на танцы, но никто ей не перечит. Ей вообще ничего не говорят.
Люйли одевается в амбаре, потому что для нее сейчас главное, чтобы ей не мешали. Каждая вещь, которую она надевает, словно хочет ободрить ее, каждое прикосновение гребня к волосам словно ласкает и желает счастья. Люйли умеет танцевать, и она будет танцевать с Элиасом сегодня ночью. Сейчас она завяжет пояс.
Настроение ее со вчерашнего дня сильно изменилось: сердце озорно бьется, а в голове мелькают планы, один отчаяннее другого. Она чувствует, что вплотную приблизилась к чему-то новому — как тогда, когда давним воскресным вечером размышляла о супружестве. — Вот говорят все о ночных похождениях, и всегда имеется в виду что-то дурное. А я тоже сегодня отправляюсь в ночное похождение, на танцы! Ну и что, что я девушка, я все равно иду. У меня есть — любовник…
И все это — ночные похождения, танцы, любовник — все ждало за дверью на родном дворе, чтобы составить ей компанию, как только она будет готова. Словно подмигивая, они с веселой улыбкой признавали свою дурную репутацию. Вот девушка появилась на пороге и бросила взгляд на тропинку, по которой еще вчера поднималась на холм. Но теперь она отправилась не туда, а вниз, огибая коровник, к деревне. Ее вечерние прогулки на холм и все, что с ними связано, оставались дома. — Тогда в воскресенье Элиас боялся, что они заметят… Теперь я понимаю… Мы встретимся там и вместе уйдем… поздно ночью… И пойдем… — Она не осмелилась додумать мысль до конца: пойдем ко мне в амбар. Все ее домашние казались девушке какими-то чужими, сторонними людьми, зато образ Элиаса приблизился, на его лице играла та же милая плутоватая улыбка, которая столь удручающе подействовала на нее в воскресенье. Но теперь Иванова ночь. И все прежнее теряет значение, забывается, отодвигается вдаль. А жизнь сосредоточивается на нынешних ощущениях — красивой одежде, чисто вымытой коже. Молодая девушка бодро подвигается вперед и одновременно посматривает по сторонам на лесную поляну, празднично курящуюся разноцветьем — золотисто-желтыми лютиками, лиловой геранью. У стены сенного сарая пышно разросся купырь. А из овражка поднимается необычный на вид, почти черный чертополох, отягченный бутонами, долговязый и худосочный, как пугливый аристократ.
В эту ночь позволено выпить вина даже молодой девушке, которая никогда прежде его не пробовала и им не интересовалась. Но теперь она попробует его вместе с другими, и уж точно никто не посмотрит на нее косо. И так же неприметно для других она глянет наружу, и белая ночь, завладев на минуту ее вниманием, строго укажет ей в присутствии пионов и пеларгонии, что она становится взрослой женщиной.
Люйли была знакома с одной девушкой, с которой, правда, никогда не имела особенно тесных отношений. Дом девушки был примерно на полпути от Корке к Замку. Подыгрывающая судьба тонко подстроила так, чтобы Люйли заранее повстречалась с девушкой и так, самым натуральным образом, условилась с ней идти на танцы вместе. Теперь Люйли зашла за ней. Мать девушки была еще наверху. Старуха одобрительно улыбалась, провожая девушек. А те вышли из дома и отправились навстречу своей судьбе, и крепнущая ночь получила от них дополнительный подпитывающий заряд для своего невидимого сильного духа, заряд, чей срок был недолог, всего несколько часов. С высокого склона Малкамяки ночь уже собрала свою часть, а носитель ее прибудет сюда, когда доберется, — это Элиас, причем не один, а, что удивительно, с Герцогом. Работник Тааве уже где-то здесь и уже что-то выкрикивает. Вся здешняя компания пьяным-пьяна.
Люйли Корке вместе со своей знакомой появляется во дворе и входит в дом. Все пришедшие дорогой мысли мгновенно тонут в шуме музыки и танцев. Сумеречный воздух нашептывает, что Элиас идет.
3
Праздничная баня. — Обручение
Для нового хозяина Малкамяки наступили приятнейшие минуты, зубы его ослепительно блестели, речь сверкала остроумием. Бруниуса он попросил подождать секундочку, а сам подскочил к окну Элиаса и шутливо распорядился: «В баню, в баню!» И, не дожидаясь ответа, поспешил к своему гостю, вместе они медленно стали спускаться к бане. Элиас нагнал их внизу. Представляя его, хозяин прибавил: «Пожил в большом свете и свел с ума не одну даму».
— Невелик труд, когда сводить не с чего, — тут же буркнул Элиас и понял, что сморозил глупость.
С другой стороны, фраза определила его отношение с этим Бруниусом, который со снисходительной улыбкой взирал на него сквозь очки. И к тому же задела хозяина, на некоторое время переставшего сверкать зубами.
Они вошли в предбанник и начали раздеваться. Элиас откровенно веселился: «Так-так, вот в чем дело! Отлично вижу, что у вас двоих какие-то приятные новости. Старик все на что-то намекает и радуется… Ну и туша, о-го-го!.. Все-таки здорово, что сегодня праздничная ночь!»
Одежда и очки были сложены, и от прежнего Бруниуса не осталось ничего, кроме двух широких передних зубов, которые то и дело обнажались под норовившими попасть в рот усами. Это придавало его лицу выражение вечного страдания. Он казался странно беспомощным, конечности по сравнению с туловищем были худы и слабы. Глаза без очков смотрели влажно и мягко. Книгочей!
— Вот ведь какие прыщи на плечах! — забеспокоился хозяин. — Их надо бы сейчас хорошенько веничком пропарить, а завтра на солнышке подсушить. Что — давно они?
Гостю разговор был, очевидно, не по душе. Он пробормотал что-то невразумительное и осторожно полез на полок. Хозяин, однако, развил тему и в заключение добавил:
— Откуда только эта напасть?!
Элиас поддал пару и объяснил:
— От живота.
Так. Как там зубы? Глупость собственных реплик не удручала уже, а смешила его. Но по рассеянности он плеснул на каменку не одну, а три шайки воды кряду. Бруниус, не обнажая зубов, стал слезать вниз.
— Что, слишком жарко? — участливо спросил хозяин.
— Я не привык к финской бане, — с расстановкой, принуждено проговорил Бруниус, самим тоном недвусмысленно выражая отношение к обществу, в котором он оказался.
Они попарились, вымылись. Остывая, Элиас обратился к хозяину:
— А скажите-ка: если я возьму да женюсь — сдадите мне участок, чтоб строиться?
— О чем речь! Жениться — дело хорошее. Должно, и женушку присмотрел?
— Ну, за этим, положим, дело не станет, — с улыбкой ответил Элиас, растирая бицепс на правой руке.
Разговор не клеился. Элиас догадывался, какие усилия прилагает Бруниус, чтобы вынести свое нынешнее положение, в котором главной неприятностью для него было присутствие самого Элиаса. Когда они расставались, хозяин с заговорщицким видом сказал Элиасу:
— Милости просим к нам в дом, чуть попозже. Небольшое семейное торжество!
И они ушли. По мере приближения к дому Бруниус обретал свои обычные черты, временно утраченные во время мытья.
«Зять и тесть!» — подумал Элиас, глядя вслед господам, чьи силуэты четко обозначились в праздничном предвечернем воздухе.
Вся странная сумятица, с некоторых пор воцарившаяся в здешней атмосфере, виделась Элиасу воплощенной в двух этих фигурах, в попытке этих диаметрально разных людей объединиться. Во всяком случае, Ольгин образ сюда никак не прилаживался. Элиас отвел взгляд от дома и обратился к долине, уже дышавшей по-вечернему — словно глотнул свежего воздуха после комнатной духоты. Мысль о том, что он много сильнее Бруниуса, льстила и раздражала. В этом чувстве было что-то детское и неприятное, но он не мог от него избавиться.
— Пойду-ка я все же на танцы. Люйли там. Как-никак, Иванова ночь.
…Ольга в самом деле «не прилаживалась», и тем не менее событие состоялось в тот же вечер. Она прохаживалась по сумеречной зале, где среди других гостей сидел и Элиас, с ясно написанным на лице выражением нетерпения, словно говорившим: «Не допытывайтесь, что это значит, не мешайте игре, в которой вы все равно ничего не поймете. Да, я собираюсь выходить замуж. Да, разумеется, я была с вами там, в ольшанике, третьего дня, вернее — ночи. Ну и что? Какое это имеет отношение к нынешнему вечеру? Будьте любезны, сидите молча и не задавайте вопросов».
Казалось, Ольга не только все сама устроила, но и теперь поглядывает на происходящее откуда-то сверху и энергично руководит всем — как и положено человеку, который только в исключительных случаях берет дело в свои руки. Элиас инстинктивно чувствовал это и как бы со стороны наблюдал за действиями Ольги, в которых никак не мог принять участия. Но с большим удовольствием он провел бы все это время на танцах — пока тут все не закончится.
Торжества продолжились за ужином, но Ольгино лицо напрочь отбивало охоту у всякого гостя блеснуть остроумием. Бруниус явно тяготился своей чужеродностью, да и с невестой, по всей видимости, еще не нашел общего языка. Но так или иначе, все покорялись Ольге.
После ужина пошли на холм жечь костер. Делать было нечего, костер так костер. Но и на холме настроение оставалось прежним — слегка растерянным, пока не случилось то, о чем Герцог, позже выслушавший историю целиком, отозвался так: «Разверзлись небеса, и глас воззвал».
ПЕСНЯ ТААВЕ У хозяев — ай да дочь, подержаться кто не прочь! Ой-ой-ой да ай-ай-ай, подержаться все не прочь. Парень пришлый тут как тут, только сам как дудка худ! Ой-ой-ой да ай-ай-ай, только сам как дудка худ. Хочет девка погулять, тело белое размять! Ой-ой-ой да ай-ай-ай, тело белое размять. Парень страсть как был охоч разминать хозяйску дочь! Ой-ой-ой да ай-ай-ай, разминать хозяйску дочь. Вместе медом угощались, сладко с девкой обнимались! Ой-ой-ой да ай-ай-ай, сладко с бабой обнимались!Песня, как на грех, доносилась отчетливо, и участникам празднества не оставалось ничего другого, как с торжественно-каменными лицами выслушать ее до конца, после чего у подножия холма раздался гогот. Ольга сохраняла совершенную невозмутимость, как бы избавляя других от чувства неловкости. Брови ее были чуть сдвинуты, но рот и глаза улыбались, как у человека, предчувствующего что-то приятное, но еще не знающего в точности, что это будет. Она взглянула на Элиаса. Положение было настолько невозможным, что Элиас, встретив ее взгляд, не выдержал, прыснул и почти кубарем скатился вниз. А когда он на полпути наткнулся еще на Герцога, стоявшего в вытаращенными от всего услышанного глазами, то повалился на землю, к пущему изумлению приятеля, и стал хохотать как сумасшедший.
4
Похождения Тааве
Похождения Тааве начались часов в пять пополудни. До этого он возил и разбрасывал по полю навоз; руки сами делали привычную работу, а мысли тем временем витали далеко. Их стремительный бег проявлялся даже вовне — в движениях, в нескончаемом мурлыканье какого-то мотивчика без слов — слова никак не прорезывались. Работа мысли и мотив двигались в общем согласном ритме. Сначала он накидывал полную тележку мягкого навоза из зимней кучи, потом, чуть мешкая, давая вилам поглубже осесть, брался за поводья и понукал лошадь: «Ну, пошла!» Он продвигался по меже к нижнему концу поля вдоль уже разложенных маленьких кучек. Потом стоял, снова мешкая, возле опорожненной тележки, чуть отряхивал одежду и пускался в обратный путь. Работа была сдельная, и к пяти он с нею справился.
Он пребывал пока в размягченном настроении и не держал зла на господский дом. Все ближе придвигалось время исполнения задуманного дерзкого плана, он уже шел с поля к дому, натянув поглубже фуражку, прикрывавшую глаза от слабеющих солнечных лучей. Мурлыканье постепенно смолкло и сменилось тихим насвистыванием, он въезжал на хозяйственный двор, залитый жидким солнцем. Рябина, цветущая на склоне, уже вовсю праздновала наступление вечера, когда он распрягал неподалеку лошадь.
Тааве было славно думать о своих планах. В людской он преисполнился сладкой грусти при мысли, что навсегда покидает этот обжитой угол, что нынешний вечер последний и что тут остается его кровать. Грусть — чудесное чувство, и Тааве охотно предался ей, как предавался в этой комнате другим, прежним настроениям. Вернувшись после ужина и переменив рабочую одежду на праздничную, он не поспешил в хозяйские покои, но принялся бесцельно расхаживать по просторной комнате, останавливаясь иногда у окон, ухарски заламывая шапку и опять напевая песенку про «ой-ой-ой да ай-ай-ай», — песенка тоже отдавала щемящей грустью.
— Вот в эту дверь она однажды вошла — для меня, я знаю… Однажды вечером, и не спешила уходить… м-м, черт возьми!
Дело было давнишнее. Зато в эту минуту Тааве ясно понял, что своей песенкой, само собой сложившейся нынче в его голове, он Ольгу не оскорбит, даже не заденет. Он представил себе ее лицо, когда она будет слушать его разнузданные куплеты, таким, каким видел его весной во время танцев, с тем же выражением глаз, а тут еще небось и сын старой хозяйки будет слушать…
Мысль о нем резанула Тааве, как скрежетание железа по стеклу — или так, словно он взялся показать свою силу и поднять валун, но не смог сдвинуть его с места. Это сердило, но разум трезво замечал, что камень, во всяком случае, не виноват. В эти два дня в воображении Тааве непрестанно и живо возникали картины того, в чем он подозревал Ольгу и сына старой хозяйки, но Тааве цыкал на себя, и картины на время пропадали. Только теперь, когда было решено тайком исчезнуть нынешней ночью из дома, все представилось более ясным и легким, а сам он казался себе более мужественным. Для большого мира, в котором он намеревался навсегда затеряться, эти обстоятельства оказывались ничтожными, к тому же с бывалым, видавшим виды парнем наверняка случаются дела и похлеще. У такого, например, прожженного типа, как сын старой хозяйки, уж точно приключений хватает, это сразу видно, достаточно посмотреть на его наглую манеру держаться, на его улыбочку и плавные движения; да одни его глаза чего стоят! Тут Тааве снова передернуло от мысли, что там эти двое выделывали в кустах. И сердце его сжалось в унылом, безотрадном предчувствии, что никакая девушка никогда ему не отдастся, что никогда он сам не испытает разнузданных радостей «ой-ой-ой да ай-ай-ай…». Терзали его сомнения и другого рода — сумеет ли он достойно справиться с бутылкой, ждущей его на пути к танцам. Мысли его унеслись в прошлое, он вспомнил, как мальчишкой восхищался взрослыми мужчинами, которым иногда в субботний вечер перепадала возможность выпить… Ах, если б только нынешней ночью у него была девушка! Но вместо некой девушки вообще воображение упорно рисовало ему обольстительный образ Ольги — предмет всех его вожделений.
В таком вот настроении он быстро связал рабочую одежду и сапоги в один узел и сунул его под изголовье. Затем придал головному убору окончательное положение и отправился к хозяину, скрывая за суровым видом свою растерянность.
О вы, древние колдовские силы Ивановой ночи, сделайте так, чтобы Тааве узнал в эту ночь девушку! Посмотрите — все словно создано для этого, так тих воздух, так прекрасна цветущая рябина, так благоухают праздничные одежды и молодая кожа. А как легкомысленна эта ночь, как безумно расточительна! — Но что такое — этот Тааве? — О, это несчастное существо, у которого ни разу во всю его жизнь не было случая проявить свою мужественность — а ведь ему уже почти двадцать… Однажды, правда, он заехал по физиономии одному человеку, но в тот же миг ощутил себя сопливым мальчишкой, случайно попавшим в общество взрослых. И сколько потом он ни пыжился, долго, очень долго не мог он избавиться ст постыдного, трусливого страха… И горько сетовал на судьбу, что ему не довелось стать могучим кулачным бойцом, непревзойденным в ругани и драке, а на танцах — грозой всех парней. Не то чтобы он не мечтал, что еще станет таким, — мечтал, разумеется, в самые возвышенные минуты. Но в такие минуты он просто не помнил себя.
Зато нынешним вечером он проявит себя дважды: первое — заберет у хозяина деньги вперед и сбежит под утро, а второе — приятель из Вяхямяки снабдит его бутылкой.
Хозяин, поглядев в книгу, сказал:
— Ты уже много забрал, а до конца года еще жить и жить. Собираешься куда?
— Домой схожу.
Ольга появилась в дверях, прекрасная и величественная. Тааве не взглянул на нее, он смотрел только на хозяина. И вспоминал свою песенку, еще больше убеждаясь в том, что не только не станет ее петь, но и не расскажет о ней ни одной живой душе.
Ольга сказала отцу, что пойдет в баню, и исчезла. Хозяин выдал деньги, Тааве повернулся и вышел.
Когда одно дело так удачно завершилось, Тааве успокоился и насчет второго — насчет похода в Вяхямяки, хоть там и жил Ийвари. Но теперь это обстоятельство даже радовало его: бывалому парню, такому, как он, не гоже бояться Ийвари! В шапке набекрень размеренным шагом он выступил из дома. — Песенки — это все детские игрушки! На черта она мне сдалась!.. Хоть, конечно, позабавиться с ней можно…
Все приключение с Ольгой кануло в лету! Впереди ждали открытые двери Вяхямяки, как новые друзья, встречающие его ободряющей улыбкой.
И вино растеклось по жилам, и был вечер — канун Ивановой ночи. И стояла кофейная чашка на кухонном столе, по ее полю вился петлистый цветок. А по летнему окну ползла муха. Он вышел на двор и услышал голос коростеля и гулкий стук крови в жилах. А в той стороне была его усадьба, старушка Малкамяки.
Тааве глядел туда широко открытыми глазами и тихонько бормотал: «У хозяев ай да дочь, подержаться кто не прочь…»
Приятно вернуться в дом. А еще приятнее, что стрелка часов подвигается к десяти. Пора на танцы! Тан-цы… тан-цы… вот это слово! Хорошее слово. Первый сорт, как вино. Мысль о девушках больше не занимала Тааве. Не то чтоб не приходила в голову, но сейчас ему это было все равно. А вот музыка, шум…
Откуда-то из-за ржаных макушек лился алый свет. Словно мелодия, доносившаяся сюда с танцев.
— А ну-ка потешим господ песенкой! — сказал Тааве.
Никто не успел ничего понять, а Тааве уже заревел во всю глотку, влажно улыбаясь глазами. Остальные изумленно слушали, и сам Тааве внутри себя тоже слушал и еще больше изумлялся.
Он закончил, и кто-то вдруг оглушительно захохотал, а за ним другие тоже стали хохотать, просто кататься по земле от смеха. И было непонятно, кто Тааве — герой или шут? Он гоготал громче всех, и это наверное значило, что он герой. И уж совсем упрочилось его положение, когда он кинул клич:
— А теперь в Замок!
Возразить было нечего, оставалось только идти. Впервые Тааве верховодил среди парней!
Когда они приближались к Замку, они увидели Люйли Корке и Анну Харьюпяя, входивших во двор.
— Гляньте-ка, девки!
— Думаешь — взять?
— А то! Обеих — двух…
Странно, но у слушателя, сидящего внутри Тааве, разговор вызвал приступ тошноты. Тааве изо всех сил гаркнул, и ему полегчало.
На близком расстоянии оказалось, что музыка играет особенно весело именно оттого, что солнце наконец село.
5
Танцы
Танцы особое место, здесь встречаются пути-дороги многих отдельных людей, по-всякому переплетаются, кружатся вокруг друг друга и наконец под утро расходятся, чтобы идти дальше розно или соединиться с какими-то другими, в других сочетаниях. Если представить, что за каждым пришедшим на танцы тянется красная линия, то какие сплетения и узоры можно было бы увидеть Ивановой ночью, поднявшись ввысь! Там и сям сквозь зелень словно проглядывало бы какое-то существо — вроде гигантского одноклеточного животного, а от его пятнистого тела отходили бы тонкие красные щупальца, шевелящиеся и будто ощупывающие окружающую зелень. Ну, а уж если посчастливилось бы разглядеть, что делается под его пятнистой кожицей (то бишь под крышами домов), то взгляду и там открылись бы красные щупальца, шевелящиеся и сплетающиеся друг с другом.
Тан-цы… тан-цы… как повторял это слово захмелевший Тааве; обозначает же оно, по сути, не тех людей, что пришли сюда, и не мерные движения, производимые ими, но их мысли и чувства. Если человеку, не бывшему на танцах, просто перечислять имена тех, кто на них был, он не получит никакого представления собственно о танцах именно потому, что существеннейшим в них является незримый дух, рождающийся из всех незримых мысленных эманаций и заполняющий тусклый воздух вместе с сухой пылью и звуками музыки. Отдельная личность здесь растворяется; как очарованная движется она в этом смешанном воздухе, словно покачиваясь в густых волнах заповедного моря, сладостно-беззаботно поверяя свои задушевные мысли общему безымянному скоплению. Зато приход и уход каждого участника сопряжены с большей оглаской, и всякий поэтому норовит войти и выйти украдкой. Любой из присутствующих отчетливо сознает свою малость по сравнению с событием в целом. Какой-нибудь заядлый танцор, на минуту выпадающий из круга, замечает стоящие рядом полутемные фигуры. Это слабеющая окраина общего действа, но совершенно необходимая — иначе переход к воздуху внешнего мира был бы чересчур резким. В сознании же стоящих выпавший танцор принадлежит к привилегированному кругу, и его отраженного тепла им, слабо вовлеченным, вполне хватает, чтобы получать удовольствие от происходящего. Но и сама ласковая Иванова ночь, кажется, причисляет себя к тем, кто невидимо стоит поодаль и наблюдает.
Вообще весь народ на танцах составляет единое и в известной мере однородное тело — разве что некоторые его части более энергичны, чем другие, — музыка звучит в лад с мыслями, она собирающая и раскрепощающая сила. Когда же ей не удается вполне выполнить эту задачу, нерастраченный избыток исходит дракой.
Элиас и Герцог появляются среди толпящихся в дверях парней. На лицах обоих следы давешнего бурного веселья и только что совершенных возлияний. Они, пожалуй, даже немного чересчур выделяются среди прочих, но танцы начались давно, и это никого не беспокоит. Люйли в комнате не видно, и Элиас с легкостью примиряется с мыслью, что она вообще не приходила. Ему все равно, он вместе с Герцогом, они вдвоем.
Но тут в дверях возникает хозяйка дома, а за ней Люйли. И на душе у Элиаса теплеет. После последних событий Люйли кажется ему умилительно-простой и послушной его воле. Ночь становится восхитительной, только непонятно, куда теперь девать Герцога!
Глядите-ка, Тааве пригласил Люйли! Они проходят мимо, и в ее темных глазах, взглядывающих на Элиаса, горит какой-то огонь.
— Это кто такая? — спрашивает Герцог.
— Есть тут одна такая, — отвечает Элиас, и Герцог понимает все без лишних слов.
Он глядит на девушек жадным взором. Тааве оставляет Люйли, и Элиас подходит к ней. Сын старой хозяйки Малкамяки танцует с дочерью Корке. Танцуя, они не признаются себе в том, что чувствуют. Они еще окажутся вдвоем этой ночью, это видно с первого взгляда: они уйдут вместе отсюда и еще пройдут сквозь те пространства, где дремлет сейчас угасающий дух вечера — кануна праздничной ночи.
Потому что уже наступила полночь. Девушка Корке снова одна, Элиас Малкамяки только что вышел.
Из-за угла дома показался мутноглазый Тааве и наткнулся на Элиаса. Элиас миролюбиво спросил:
— Какого черта ты придумал эту песню про меня и чужую невесту?
Тааве, бурча что-то, прошел мимо и ничего не ответил. Приколотая к его груди поникшая ветка рябины показывала, как он устал. В дом он не вошел, а скрылся за другим углом. Элиас вернулся обратно и увидел, что Герцог танцует с Анной Харьюпяя, шепчет ей что-то на ухо и та блаженно смущается. Картина обрадовала Элиаса несказанно.
Танцевальная стихия достигла своей высшей точки. Многие уже знали, с кем они уйдут отсюда. Тааве все еще стоял во дворе за тем самым углом, куда прежде зашел; он прислушивался к шуму танцев и вглядывался в ту сторону, где был дом Малкамяки. Губы его искривились, и он заплакал. Некуда ему бежать, никуда он из Малкамяки не пойдет, он не может. Опьянение развеялось, он вспомнил, что он натворил вечером… ему стало невыносимо гадко. Он продолжал стоять и слышал, как кто-то вышел из дома и застонал: «О Господи!» Другой голос сказал: «Иди-иди, нечего тут!» Это, значит, Калле вывел Ийвари во двор. Ийвари выкрикивает имя Тааве, и тот замирает, стоит не дыша. Он инстинктивно цепенеет, как заяц в кустах. Только когда голос Ийвари удаляется и уже почти не слышен, шмыгает Тааве в дом, где по-прежнему мирно танцуют, несмотря на то что народу поубавилось — как и когда, никто не заметил. У Тааве нет сил даже стыдиться, хоть ему и кажется, что все взгляды устремлены на него. Ему везет: он забирается в угол и садится там рядом с музыкантом. Сидя в углу, он видит, как из другой комнаты выходит сын бабушки Малкамяки, обнимая за талию Люйли Корке, и пускается с нею в пляс, и на его губах и в глазах та же раздражающая Тааве улыбка. В каждой складке его пиджака прячется по улыбке, но теперь это Тааве все равно… Потом второй господин танцует с Люйли, а сын хозяйки — с девушкой из Харьюпяя. Кто-то уходит. У Тааве слипаются глаза. Но и сквозь сон он видит, что сын хозяйки собирается увести Люйли, а тот, второй, Анну Харьюпяя. Потом он вспоминает, как Ийвари сказал: «Пусть со мной идет!» Танцующие кажутся ему ужасно серьезными, словно работники на сдельщине. Танцы длятся долго, очень, очень долго. Он засыпает.
Начав с Тааве, сон смыкает многие усталые веки, и звуки польки больше не терзают слух. Присядем — уже день! Замечаете, какой яркий свет, как видна пыль, осевшая на одежду и ботинки! Дверь на улицу распахнута настежь, и оттуда тянет влажной свежестью. Многих из тех, кто был здесь ночью, давным-давно нет, а на лицах оставшихся странное изнеможенно-энергичное выражение. Ни сына старой хозяйки, ни девушки Корке среди оставшихся нет. Сидящий рядом с музыкантом молодой парень просыпается, когда умолкает музыка. Последние гости веселой гурьбой высыпают на двор, где разгорается утро. Танцы Ивановой ночи подходят к концу.
Среди последних и Герцог. Он бодр и оживлен, потому что знает, что самое приятное еще предстоит. Он спрашивает девушку:
— Можно пойти к тебе?
Та отвечает:
— Нет.
— Папа с мамой проснутся?
Та отвечает:
— Да.
Но, говоря это, она улыбается, и голос ее подобен серебристому шелку.
6
После танцев
В пору, когда все это происходит, в уголках, за косяками, во дворах сохраняется поэтическое настроение праздничной ночи — как продолжительное и безучастно-покойное состояние природы, по самой сути своей чуждое всем помолвкам, песням и танцам. В его власти лежат тихие светлые дворы, где дух человеческого жилья разбавляется вольным духом окрестностей. Мягким светом приглушаются окрестные черты, в дневных лучах кажущиеся самыми приметными. С возвышенной гряды поэтический дух озирает гармоническое согласие цветов, берез, скатов крыш, и водной глади, и спящих во дворах повозок, привезших гостей из дальних мест. С гряды он видит и низкое окно горницы, выходящее на дикий отлогий луг. Он скользит над вершинами деревьев, спускается в цветочные заросли, приникает к окну и убеждается, что в комнатке никого нет. Но на подоконнике — тут же за стеклом — стоит пестрый букет из герани и лютиков. Его собрала маленькая девочка, и вот он тут, за стеклом…
Солнце позволяет земле и воздуху провести так четыре часа, даже чуточку больше. Но долее медлить оно не может, земле и воздуху пора оторвать взгляд от своих полутонов и обратить его к солнцу. Однако солнце не желает появляться вдруг и заставать врасплох все открытые взору мельчайшие, тайные подробности. Оно являет себя замедленно, и если его первые редкие лучи случайно обнаруживают что-то такое, оно деликатно делает вид, что еще не проснулось… Но вот свет льется чаще, лучи достигают березового шалаша и заводят с ним веселую и непринужденную болтовню, ничего не подозревая о делах ночи, и свежая гладь листвы светится улыбкой. Лучи проводят время в болтовне с листьями, дожидаясь, пока над горизонтом покажется край самого солнца. Петух тоже замечает его и начинает кукарекать. Наступает время очнуться от сонных грез последним ночным островкам. Лучи светят в самые окна, но всевозможные уголки, косяки и дворы, холмы и скаты крыш умудряются не расставаться с ночным настроением до последнего, делая вид, что их пока все это не касается. А уже утро.
Одно значительное событие завершается, и ему на смену идет другое, но так медлительно, что у земной поверхности, уже приуготовленной к смене ночи днем, есть досуг, чтобы бросить взгляд в сторону. Вчера в час, когда вечер неощутимо придвинулся к ночной границе, молодые люди с затаенным огнем жизни в сердцах и глазах покидали дома и уходили, и между ними и ночной землей существовали согласие и близость. Они спустились с гряды, и с их уходом наступила ночь. Теперь вернулось солнце, и вернулись все те, кто уходил. Но между ними и землей нет прежней пылкой близости, ибо теперь они встречаются на глазах солнца, взирающего сверху на всех них. Они могут разве что безмолвно глянуть друг на друга и на окружающий мир, как бы угадывая свершавшиеся вокруг ночные события.
Люйли и Элиас спускаются по тропинке к Корке. Они не разговаривают, но тем оживленнее идет общение между их душами. Может, оттого они и молчат. Наивысшего напряжения молчание достигло в тот момент, когда они миновали свое обычное место встреч и прощаний. Они прошли его, не задерживаясь, и каждый сделал вид, будто в рассеянности забыл остановиться. Утро было еще свежо, и в их движениях была видна поспешность, словно они торопились к цели, сулящей тепло… Вот в каком состоянии в ранних лучах утреннего солнца Люйли и Элиас входили во двор Корке. У Люйли было хорошее настроение; на танцах она чувствовала, что нравится Элиасу, что она лучше других девушек. Но под утро, заметив, как сблизились Герцог с Анной, ей захотелось немедленно уйти с Элиасом, чтобы не видеть этого. Танцуя, она шепнула ему: «Пойдем отсюда!» С этих слов началось то молчание, которое, не прерываясь, длилось но сей миг, когда они пересекали двор и входили в амбар. Дверь за ними плотно затворилась и в течение двух часов стояла закрытой, в напряженном ожидании. Два томительных утренних часа! Солнечный свет тем временем разгорается вовсю… но пусть ради этого праздничного утра дверь останется закрытой. Пусть прозвучит до конца эта музыкальная пьеса. Инструменты повторяют тему предыдущих свиданий и настроений, а слушатели с напряженным ожиданием смотрят на дверь амбара в глубине сцены. Инструменты превосходно выпевают тему вплоть до первой встречи, когда он спрашивал: «Как ты поживаешь?» — а девушка отвечала: «Хорошо!» Потом тема летних ночей на холме с песнями дрозда… И далее все, что было рассказано вплоть до нынешней минуты, сливается с музыкой, вторя ей и образуя общую картину, где плотно закрытая дверь значит для глаза то же, что игра музыкальных инструментов для слуха…
Но вот мелодия звучит тише и предуведомляет, что сейчас что-то произойдет. Открывается дверь избы в левой части сцены, и на двор выходит отец девушки. Не подозревая об этом, приоткрывается одновременно и дверь амбара, но тут же поспешно захлопывается. Отец замечает это движение и некоторое время неотрывно смотрит в ту сторону. Но к амбару не идет… Музыка передает сдержанное напряжение… Отец возвращается обратно в избу, и через несколько мгновений снова открывается дверь амбара. Молодой человек появляется на пороге и нарочито медленно пересекает двор, словно всем своим видом говоря: «Вы все отлично знаете, что я привык отвечать за свои поступки».
И зрители следят глазами за его фигурой, мерно подвигающейся по утренней праздничной земле, на которой среди разноплеменного цветочного множества там и сям выделяются белые пушистые шарики одуванчиков; фигура подвигается к той стороне, где развертывался предыдущий акт со сценой свидания в ольшанике, свидания в домике и сценой праздничного костра и куплетов.
Дверь амбара остается закрытой.
7
Друзья
Элиас вошел в комнату, посмотрел на кровать, где спал Герцог, и опустился в качалку. Яркий утренний свет вызывал досаду в усталой и холодной душе. Элиас смотрел на друга, и ему казалось, что в то же время он смотрит на все события прошедшей ночи, но как бы сторонним взглядом, словно к нему они не имеют никакого касательства.
Герцог проснулся и, потянувшись, как потягиваются обыкновенно после сна, с задушевной улыбкой взглянул на Элиаса. После паузы голосом полным неги он спросил:
— Ну что, любовь прекрасна?
— Да, сама по себе — да, — ответил Элиас с закрытыми глазами.
— Что же, она отвратительна?
— М-м, не знаю…
— Весьма отвратительна, если хорошенько подумать, и гадка.
— Человек сам оскверняет ее, — сказал Элиас умудренным тоном.
— Когда и чем она оскверняется?
— Тогда, когда она становится, как принято говорить, «счастливой», то есть когда получает завершение.
— Откуда ты почерпнул сию мудрость?
— Из книжек, а, кроме того, недавно сам испытал, как говорится, «вот-вот», — зевая, ответил Элиас и принялся копаться в чемодане Герцога. А тот размышлял, безучастный к этому занятию друга. Так же глядя прямо перед собой, он взял из рук Элиаса бокал и произнес:
— Я тоже недавно почитал на досуге одну книжечку, о свободе воли. Что там говорилось, уже не помню, но мне кажется, что воля хоть и свободна, да только их, этих воль, много. И будничная воля иногда оттесняется волей к празднику, утверждающей себя с необоримой силой. А как только эта исчезает, является вновь будничная воля, слегка пристыженная тем, что дала той похозяйничать в своем святилище. Величайший порок мироздания — это то, что две противоположные воли не могут вместе осуществиться в отношении одного предмета.
Он отпил половину и, пристально глядя на Элиаса, сказал:
— Впрочем, друг мой…
Он не договорил, допил свой бокал, поставил его на пол, вытянулся, лежа на боку, и просто заметил:
— Если б ты только знал, ты б, наверно, заплакал.
Элиас пересел на кровать и, положив ему на плечо руку, сказал:
— Эх, мой друг, если б ты только знал…
Герцог кивнул и ничего не ответил.
Так накопившееся напряжение, снимать которое друзья привыкли в обществе друг друга, чтобы потом расстаться до поры, пока не понадобятся друг другу снова, — это напряжение сейчас излилось благодаря их взаимной дружбе. Они оба уже лежали, и один сказал другому повеселевшим голосом и не поворачивая головы:
— Ну все, прощай, пока.
И второй столь же церемонно ответил:
— Прощай!
А снаружи уже наступил долгий Иванов день. В другой комнате собралась вставать мать Элиаса, но в господском доме пока крепко спали давешние обрученные — Ольга и Бруниус, спал отец Ольги и спал Тааве…
В Корке спала Люйли. А в доме, где были танцы, спала пыль. Это были последние следы Ивановой ночи, ночи, которая никогда не повторится. И этой Ивановой ночи никогда больше не будет, как нет ничего того, что было прежде.
Вторая часть
Под солнцем
Канун — вершина праздника.
Но для цветочного населения канун прошел как-то неприметно, даже нельзя точно сказать, когда он был. Быть может, тогда, когда Люйли вышла со двора, чтобы идти на танцы, когда она скрылась из виду, а ее родители и сестры спали в доме и не осталось ни единого соглядатая на дворе Корке. Такое настроение кануна вдруг повеяло на Тааве, когда он стоял за углом дома в Вяхямяки и слушал коростеля и пьяный стук крови в жилах, и хмельными глазами шарил по горизонту, и почему-то стал напевать свою песенку… Но едва ли кто-то из этих людей сумел заметить самое начало праздника: одни спали, другие обручались, третьи танцевали ночь напролет, четвертые дрались, а остальные проводили время с девушками.
В Иванов день праздник шел своим чередом, но все праздничные, канунные настроения были уже далеки, как никогда. Казалось естественным, что рябина и купырь цветут, что лютики и кукушкины слезы испестрили ложбинки на лугу, что все в праздничных одеждах, что послеполуденный свет расшалился, играя с плакучей березой, и что в верхних ярусах леса поют, сначала как бы скороговоркой пересказывая песню, а потом повторяя мелодию и украшая ее переливчатыми трелями. Песня самозабвенно поглощена собой, впереди еще целый вечер, и раздобревшее лето но собственному почину стоит настороже, охраняя покой песенника. А завтрашний день продолжит нынешний, а потом будет еще день, а потом придет воскресенье, а за ним другое воскресенье и так далее и далее по открытому морю.
Зелени и цветов уже столько, что, кажется, к ним нечего уже прибавить, пока вдруг не замечаешь, что появился новый цветок, который оказывается старым знакомцем по прошлому лету. А там расцветают еще и еще, и лето плывет вперед и продолжается. Но рябина между тем тихо отцвела, и однажды вечером осознаешь, что с Иванова дня миновала неделя. Ты ступаешь по гладко убитой дороге, а по обе стороны расходится ржаная гладь — стебельчатое море, на поверхности которого рдеют колосья в лучах снисходительного вечернего солнца. Рой мельчайших мошек уютно толчется над дорогой, будто рождаясь из общего вечернего настроения ржаного поля и дороги… У корней самых высоких колосьев уже сумрачно и словно собирается прохлада, а макушки упрямо тянутся ввысь, не желая ничего знать о том, что делается внизу, и стремясь лишь подольше удержать ускользающий алый свет солнца. Но другая сила, более могучая и неослабная, притягивает солнце книзу, и, опускаясь, оно добровольно со всем соглашается, остужает свой дневной накал, алеет и позволяет всем смотреть на себя простым глазом — людям, цветам, стенам домов. А потом садится — на несколько минут раньше, чем в Иванов день. Иванов день остается позади.
Последними поэтическими островками, посланцами весеннего берега, вышедшими в открытое летнее море, были самая короткая ночь, помолвка и, чуть поодаль, в стороне, утро после танцев. В Иванов день они виднелись ясно и подробно, но сгустившаяся в следующие дни дымка заволокла видимость, они отдалились и нечувствительно слились с береговой линией, так что все ушедшие в летнее плавание перестали вглядываться в них и обратили теперь внимание на бескрайние морские просторы и друг на друга. Эта перемена произошла в один чудесный погожий день.
Бруниус и Герцог отбыли из Малкамяки тотчас после Иванова дня. И во всю пышную летнюю пору в усадьбе оставались лишь Ольга и Элиас. В самую короткую ночь у них состоялось свидание, которое не только не привело к развязке, но, напротив, лишь усугубило невидимую напряженность, существовавшую между ними с самой первой встречи. Все события Ивановой ночи могли иметь на них двоякое воздействие: могли или совершенно уничтожить напряжение, или увеличить его вдвойне. Выбор был сделан. Для Элиаса Иванова ночь стала вехой, подобной той первой летней ночи с ее первым поцелуем, но неизмеримо более значительной. Однако главным ее следствием и впечатлением было удовлетворенное сознание того, что он действительно это испытал. С удивлением десятилетнего ребенка взирал он на события, через которые прошел сам, двадцатилетний. Он как бы убеждал себя, что все это точно было, и призывал в свидетели свои пальцы и ладони, словно живых существ, своих верных спутников, последовавших за ним сюда из детства и теперь тоже, верно, удивляющихся.
Только спустя три дня после праздника Элиас увидел Ольгу, но издалека, так что она его не заметила. — Вон идет женщина, подумал Элиас. И поймал себя на том, что смотрит на нее иначе, не как прежде. Ольга была женщиной, а он, Элиас, мужчиной. Странно, как мало значила теперь для него ее помолвка. Да, вон шла Ольга, а он зато был с Люйли… и ему, в сущности, неважно, хочет ли та идущая женщина еще быть с ним или не хочет. Она обручилась с неким господином, с этим Бруниусом, а работник Тааве сложил по сему поводу песню про Ольгу и Элиаса: «Вместе медом угощались…» Элиас чувствовал себя довольным жизнью и полным сил. И все же было приятно, что Ольга живет тут, подле, что ночью она спит в ста метрах от него. И что Иванов день миновал, что в разгаре теплое лето и что огромный мир простирается вокруг; что в этом мире двадцатилетние люди составляют особое племя, живущее своей особой жизнью, и, наконец, что есть в мире молодые двадцатилетние мужчины и девушки.
Ольга была одной из них, зрелой и статной. Отпраздновав помолвку и проводив жениха, она осознала, что существование ее вошло в новое размеренное русло, однако размеренность эта ощущалась чем-то принужденным. Бродя в одиночестве по холмам, она чувствовала себя так, словно всюду ее провожали взглядами и шептались о ее помолвке. Эти воображаемые взгляды обязывали ее держаться ровно и с достоинством. Она не приневоливала себя, не спускалась к дому Элиаса — ей было хорошо бродить поверху. С гребня холма она разглядела новое привлекательное местечко к северу от Малкамяки — низкий мыс, поросший по краям березами. Посредине и на самом носу деревья были вырублены, так что образовался луг, на краю которого стоял сенной сарай; в основании мыса возвышалась древняя скала, увенчанная кривой сосной и окруженная у подножия пушистой зеленью. Ольга добрела до нее через покосный луг, отыскала под скалой полянку, уселась на ней, а потом даже разделась. Был июль, стояла теплынь.
Что же это такое, что постоянно гнетет и мешает ей — словно тесная одежда? Даже сейчас, когда она свободна, когда она в безлюдном, глухом месте, вдали от дома, все равно что-то мешает ей чувствовать себя хорошо. Солнечное небо и зеленые листья словно говорили ей: «Вот мы такие и другими быть не можем. Теперь лето, и больше нам ничего не нужно». Но Ольгу что-то беспокоило, чего-то ей недоставало, и особенно ясно это стало именно здесь, в уединенном покое лужайки. Словно жизнь текла мимо, обегая ее; словно помолвка и новый образ существования были вещами такого рода, каких жизнь чуждалась — не противилась им, но и не сочувствовала, и не очень торопилась составить Ольге компанию на ее новом пути. В эти дни у Ольги появилось то же ощущение, что и весной — перед приездом сына старой хозяйки, перед началом всего этого.
Еще острее ощущала она прибывающее тепло и то, что отныне оно будет прибывать день ото дня. Небо над ней словно уплывало, оно было уже далеко, а ее, Ольгу, забыли здесь среди зеленых кустов, отставили в сторону, а где-то там было движение, и дрожащий воздух, и жаркое небо, и вся земная общая жизнь. А она помолвлена и теперь по какой-то ошибке должна брести по незнакомой, страшной, укатанной дороге. Конечно, теперь она ясно видела: в эти дни, когда она мысленно не расставалась со своим женихом, воздух, небо, вся «жизнь» как-то неприметно оставили ее. Ольга рывком села, словно мысль внушила ей ужас. — Да, теперь понятно. Она оглядывалась на недели, предшествовавшие Иванову дню, и на ту себя, как на прекрасное и цельное художественное полотно. Новыми глазами взглядывала она на те смутные, сумбурные ощущения, что тревожили ее раньше, весной, когда она была здесь одна и много спала… а ведь и раньше, в сущности, раньше тоже было… все эти мужчины, которых отец приближал… с Бруниусом это другое, совсем другое… и вот это нынешнее положение, это тоже другое… да-да, я что-то упустила…
Она стала поспешно одеваться, будто торопясь воспользоваться последней ускользающей возможностью, чтобы исправить упущение. Хотя что именно следует предпринять, она пока не знала. Но оставаться здесь и купаться было невозможно, надо было куда-то идти, двигаться. И лужайка под скалой стала мила и дружелюбна, она с нескрываемым сочувствием наблюдала за сборами Ольги, искренне надеясь, что та еще успеет догнать их всех, если только не будет мешкать… И Ольга не мешкая побежала к дому. Скала осталась стоять, но к ней мы еще не раз вернемся. Здесь ощутимее всего прибывающее тепло, то самое, которое сейчас так торопится нагнать Ольга.
Ольга, статная и красивая женщина, поспешно шагала через жаркий воздух, и мысли ее подпрыгивали в такт шагам. — Этот мальчик, Элиас, теперь сторонится меня. Из-за моего поведения в тот вечер, накануне Ивановой ночи? А эти куплеты… — Ольга снова мысленно увидела свою неестественную жизнь в последние дни, когда она как бы забыла о существовании Элиаса, она была «обручена» — с кем? С пустыми комнатами и кустарником на холмах, где она в одиночестве бродила? Обручена она точно, это так, никто не сомневается, но совсем не обязательно об этом постоянно помнить, сие обстоятельство как бы хранится в домашней ценной шкатулке. И оно никак не связано с этим огнем, причина другая… что-то такое, что в ее власти было сделать, и именно тогда, когда она упивалась своей новой помолвленной жизнью.
Оставляя лужайку под скалой, Ольга не имела ясного плана действий, но в ней жило некое безотчетное стремление… Она слишком долго была в разлуке с Элиасом, выжидая, рассчитывая и сомневаясь. В ней и теперь была сладкая и тревожная неуверенность, вернется ли он к прежним отношениям, увидит ли она его у окна, проходя мимо, как тогда, в те минуты, когда они были влюблены друг в друга? Окажется ли он у окна, улыбнется ли он ей? Какие жаркие наступили дни…
Ольга прошла низом и очень медленно стала подниматься по дороге к знакомому дому. Когда Элиас подошел к окну, краска бросилась ей в лицо и к глазам подступили слезы. Ее улыбка и кивок вышли непроизвольно и, очевидно, смутили стоявшего возле окна молодого человека. Ни тот ни другой не произнесли ни звука. А спустя всего несколько минут после ее явления небеса, земля и все пространство как бы подернулись для обоих дымкой, придававшей всему странное вневременное выражение, подобной той, что заволокла видимость, скрыв последние весенние островки, слившиеся с береговой линией. Они плыли в открытом летнем море, они перестали оглядываться назад, они смотрели на бескрайние морские просторы и друг на друга. Понятно, что в первый вечер после перемены они испытывали легкое головокружение, но уже на следующий день все позабылось. Жаркое тепло выказывало понимание, и не было видно ни берегов, ни границ — ни теплу, ни лету. Иванов день давно остался позади, и с ним завершился какой-то период их жизни, но столь давний, что не было уверенности, был ли он вообще. Ольга писала Бруниусу письма — с тем же чувством, с каким иногда среди веселого праздника отходишь на минуту, чтобы ополоснуть руки и доставить себе еще немного дополнительного удовольствия от ощущения чистой кожи. Отписав, она садилась за фортепьяно и играла, пока в зале не сгущались сумерки… Потом выходила из дома и случайно встречалась с Элиасом. В глубине долины, чуть в стороне от лип и над самой дорогой, поднимавшейся к дому, виднелся пунцовый край солнца, странно напоминавший о каком-то другом, давнем лете… Они совсем не разговаривали, что-то их удерживало.
* * *
Ольгино будущее замужество организовывало и расписывало все оставшиеся до него дни. А дела были наиприятнейшие. Когда знаешь день своей свадьбы, невольно будешь дорожить остающимся на руках временем. Оно превращается в нечто цельное, как охваченная разом панорама жаркого полдня, где каждая подробность увлекательна и неисчерпаема в своих возможностях. И от этого сладостно-грустно подступаться к ним.
* * *
Ольгу тревожат и отношения с Элиасом, и слишком быстро бегущее время; именно это удерживает их от разговоров. Элиас проходит мимо большого дома, так чтобы Ольга заметила его, поднимается вверх по склону и взбирается на валун. Он с непокрытой головой, в расстегнутой рубашке и босой. Ольга видит его из окна своей комнаты. Она выходит на улицу с газовым шарфом на голове и направляется через покосный луг к скале, словно и вправду заранее решила сюда прийти. Она расстегивает пуговки на платье, но не снимает его, потому что не собирается купаться… Она подступает к сокровищу, лежащему в ее руках, богатому подробностями и возможностями, — времени, остающемуся до свадьбы. Вот одна частность из общей целокупности — то, что она пришла к скале… Но нет, это не то, не то… Что-то сложилось не так, Ольга чувствует неверность и фальшь этого шага. Потому что она ведь здесь никого не ждет. Ей неприятна мысль, что сюда за ней могут прийти.
Она поднимается и идет к дому, без единой мысли в голове. Ах вот в чем секрет: не нужно думать, придумывать ничего заранее. Она ступает медленно и мягко, чуть изгибаясь, хотя сейчас ей не кажется, что за ее движениями следят, она кокетничает сама с собой и сама собой любуется. Больше она не станет совершать таких бессмысленных прогулок к скале!
* * *
Элиас не видел Ольгу уже несколько дней и, разумеется, чувствовал, что ее невидимое существование придает особый дурманящий аромат жарким летним дням. Потому что Ольга была его. И даже та, другая Ольга, которая заставила его страстно желать ее в самую короткую ночь, а потом внезапно отпраздновала помолвку. Ну, вот эта Ольга ушла по верхней дороге и пропала из виду… после того, как невзначай объявилась неведомо откуда, вдруг… А теперь ушла туда… Еще недавно Элиас думал: «Мне все равно, хочет ли эта женщина быть со мной снова, как в ту ночь. Если она захочет, то и я захочу». Но ныне все было иначе, желания не имели значения, дело было не в них. Дело было в судьбе.
Элиас догадался, что совершил омерзительный промах, когда так демонстративно прошел мимо дома и уселся на валуне, простоволосый! И было только естественно, что Ольга, выйдя из дома, направилась в другую сторону, давая ему, Элиасу, возможность исправить свою промашку — побыстрей убраться домой и не показываться на глаза. Теперь он чувствовал, что угадал и поладил с этой дурман-судьбой. Но сама догадка, что это судьба, кружила ему голову.
Долгий зной собрал по краям пространства жаркую дымку, своеобразно смягчавшую окрестное настроение. Временами казалось, что есть только жизнь и солнце. Во все дневные часы на солнце невозможно было взглянуть, следовало лишь покорно передвигаться здесь, внизу, в то время как оно следило оттуда, исправно ли жизнь делает свое дело, и для собственных надобностей сгущало по краям марево. Мысль о том, что это видимое пространство окружено огромным миром, в котором двадцатилетние составляют особое верное племя, больше не приходила в голову. Элиас вообще с трудом мог представить иную жизнь, кроме вот этой его нынешней, дурманной, в пространстве, окруженном по краям жаркой дымкой.
Дни напролет он бродил и наслаждался сознанием того, что ни единая душа не найдет его в этих местах. Однажды он вышел к той скале, что стояла в основании поросшего березами мыса. Малкамяки отсюда выглядел совсем странно, все виделось одновременно — и дом, и жар летнего дня. Для усиления впечатления Элиас даже залез на кривую сосну, вскарабкавшись по ее перепутанным сучьям. С тех пор он стал ходить к скале каждый день, только не через покосный луг в виду дома, а кружным путем.
* * *
Однажды Ольга подумала: «До свадьбы остался один месяц. И сегодня я точно пойду в то чудное место и искупаюсь!» И она отправилась к мысу тем же счастливым и гибким шагом, каким тогда возвращалась домой, испытывая удовлетворение от того, что ее прогулка не имеет никакой иной цели, кроме купания.
Она вышла к полянке под скалой и начала готовиться к купанию. Ей было удивительно хорошо. Она чувствовал а себя заодно со всем, что ее окружало и с чем еще недавно чувствовала себя розно: с воздухом, солнцем и землей в их объединенном существовании. Все подробности, на которых останавливался ее взгляд, только укрепляли ее счастливое ощущение бытия. Высокая береза поднималась среди кустарника, ее верхние маленькие веточки трогали небесный свод; корни жили иначе, чем крона, но они нуждались друг в друге. Ольга надолго погрузилась в наблюдения, словно находя схожесть в их положении и в своем…
Лежа на спине, она откинула голову, подставляя солнцу шею, и мельком глянула снизу вверх на крутой очерк скалы и изогнутую сосну. Сердце ее вдруг подпрыгнуло, но она успокоила его видом бездонного неба, которое было в тот момент предметом ее пристального внимания. — Вон там, в вышине… кажется, будто каждый миг там является что-то, что я не могу различить.
Она больше не смотрела на сосну, она снова занялась березовыми веточками на макушке дерева, но они, казалось, пребывали в тревоге и напряжении, как ни старалась Ольга своим взглядом успокоить их. В мире под солнцем было жарко.
Она лежала, пока не начало печь кожу. Тогда, потягиваясь, она снова взглянула вверх на скалу и изогнутую сосну, но не увидела ничего, кроме мерцающих жарких токов воздуха.
Назавтра жара продолжалась.
* * *
И вот наступила пора, когда среди густых трав победительно поднялись ромашки, крупноцветные колокольчики и таволга. Часто они росли друг подле друга, в который раз подтверждая вечное изумительное чудо: то, что на одном клочке земли из крохотных ничтожных семян взрастают поразительно непохожие цветы. Ромашки были как тонко выписанные, лучистые, невинные глазки, не устающие восхищаться солнцем, в то время как склоненные друг над другом купола колокольчиков были погружены в собственный лиловый мир. А таволга подымалась выше всех и была всех душистей. Об этих цветах в Иванов день не вспоминают…
Но теперь они цветут, и с края покачивающегося цветка взору открывается небольшая, но полноценная и красочная картина столь много преуспевшего лета. Обозреваемое пространство протянулось на несколько десятков взмахов крыльев бабочки — если она пролетит его от края до края над травяным лесом. Потому что нынешняя пора — еще и пора трав, колосистые метелки распушены, одни цветут, другие отцветают. Их луковички норовят выпустить вверх и заполнить своими ровными и узкими нижними листьями все просветы между растениями, образуя глухие дебри со множеством петлистых закоулков, влекущих к себе и кружащих голову всякому, кто посмотрит вниз с кромки цветка; куда приятней обозревать окружающий малый мир, в который время от времени прилетает из невидимых сфер бабочка или стрекоза, чтобы исчезнуть за травяными метелками… Так протекает жизнь возле одного сенного сарая среди ромашек, колокольчиков и таволги.
На ромашке, а именно на ее тугом золотистом диске среди трубчатых цветков, обитают черные крохотные — с булавочную головку — живые существа. Они никуда не стремятся отсюда и не имеют никакого ясного представления о мире и жизни, кроме разве слабого ощущения, что сами существуют. Но однажды одну из ромашек, росшую под стеной сарая между мелким колокольчиком и таволгой, постигла нежданная катастрофа. Ромашка со всей населяющей ее черной живностью вдруг оторвалась от природного места и помчалась по воздуху, а затем, также вдруг, прекратила свой полет; успокоения, однако, ей это не принесло: ее белые лепестки стали отрываться, подхваченные неведомой силой, и исчезать в неизвестном направлении, а вокруг обезлученного солнца ширилась зияющая пустота, в то время как где-то в вышине монотонно бормотал чей-то голос. Одно из черных живых существ, не в пору вылезшее наружу, увидело чудовищную руку, обрывавшую лепестки, и рот, произносивший слова. В отдалении виднелись еще глаза, следившие за действиями руки. Черная букашка содрогнулась от ужаса при взгляде на разоренное гнездо и на мир, качающийся вверх и вниз по краям цветка. Но вот все лепестки были оборваны, и огромные глаза застыли, глядя прямо на букашку. Это длилось бесконечно долго. Потом к букашке приблизилась палка — какой-то стебелек — и стала настырно пихаться, потом букашка обнаружила себя судорожно вцепившейся в край палки и уже снова мчащейся по воздуху через бескрайний простор… Упала она в какой-то просторный и прохладный лиловый кулек, а когда оправилась и встала на ноги, ни палки, ни глаз вблизи видно не было. Букашка постояла на месте с еще сведенными от полета членами, а потом осторожно двинулась вперед, чтобы исследовать этот новый, поразительный, лиловый мир. Пододвинувшись к самому краю, она впервые увидела невдалеке над колосистой метелкой могучую развесистую таволгу, как будто сулившую новые, еще более удивительные приключения, но только не разъяснявшую, когда именно их следует ожидать. Но как головокружительно велик был мир, простирающийся в ту сторону! Крохотная черная букашка стояла на самом его краю. За спиной мир сворачивался в лиловом дне кулька.
* * *
Так мешаются великие и ничтожные представления. Но, в сущности, риск не велик: если падаешь, значит, есть куда падать — а бытие разлито повсюду. Все это жаркое пространство заполнено предметами, отражаясь от которых опьяненная мысль может лететь вниз, в бездну, или в широкий безудержный простор… Вон Элиас приближается к Малкамяки. Он провел долгие часы, лениво валяясь на мысу возле сенного сарая, и, дабы заполнить до краев и без того полную чашу летних впечатлений, приставал с расспросами к ромашкам и колокольчикам, пока, наконец, точка дневного равновесия жизни и солнца не начала клониться к вечеру… Но пусть теперь взгляд поэмы скользнет через сотню тысяч цветочных погонных мер к югу, и ему, верно, повстречается одна душа, не знающая покоя в эти вечерние часы и ему странным образом знакомая.
Тридцать дней и ночей
Ранним утром Иванова дня Элиас вышел из амбара, дверь за ним закрылась, и Люйли осталась в полутьме одна. Только тонкий румяный луч просачивается в щель, которую никто, кроме зоркого солнца, приметить бы не мог. Люйли лежала в постели и ждала, когда ее сознание освободится от впечатлений, оставленных ночными событиями. След от них был столь же чувствителен, как след от сильного удара, дающий о себе знать много спустя. Долгое время она не думала ни о чем в особенности, а только следила за непроходящим чувствительным следом. Лежать следовало очень тихо, не напрягаясь ни единым мускулом. Зачем это так нужно, девушка не знала, но инстинктивно сохраняла то же положение, в котором оставил ее Элиас. Ей казалось, что кто-то витающий над ней в воздухе немедленно обрушится на нее, стоит ей чуть шевельнуться.
Случилось великое и непоправимое несчастье, о значении которого она только догадывалась, но которое ясно видела, лежа в полутьме амбара. Оно было обширным и захватывало всех людей, и эти недавние дни, и небо, и воздух. Все они слепо устремились навстречу этому несчастью, поддавшись ложному представлению, что жизнь станет богаче, чем была прежде. Уже их, Элиаса и Люйли, воскресное свидание было полно беды, но только теперь вполне прояснилось значение ее томительных недобрых предчувствий в то утро, и невиданно густого марева, и возникшей в воображении картины пожара, и чувства запертости на земной поверхности, с которой человеку некуда бежать. Уже тогда несчастье разрасталось вовсю. А потом то свидание на холме в понедельник… Элиас делал то и это, словно нарочно приготовляя беду. А потом танцы и весь народ, пришедший на танцы… в ночных сумерках несчастью легко было заманить всех в Замок… и она, Люйли, принуждена была идти туда, хотя прежде никогда не ходила. И Анна Харьюпяя, и этот Герцог… все участвовали в приготовлении несчастья. Люйли вспомнила свои ощущения при виде Анны и Герцога, так быстро сблизившихся. Она тогда бессознательно испугалась и поспешила к Элиасу за защитой, и была совершенно счастлива, когда они ушли оттуда; но она вовсе не мечтала привести Элиаса вот сюда, к постели. Она просто инстинктивно бежала от беды. А то, что произошло потом, было, в сущности, мелкой второстепенной подробностью, значение которой, если вдуматься, не выходило за пределы этой самой постели, хотя сама подробность точно была странной и удивительной. Но не имело смысла как-то противиться, когда несчастье так непостижимо разрослось и набрало силу. Здесь это случилось, и это была пустяковая второстепенная подробность, связь которой с общим несчастьем навряд ли понимали попавшие в его водоворот люди… Они и теперь еще не подозревали, куда их завлекло их нетерпение. Люйли словно видела перед собой лицо Элиаса, на котором выражение нетерпеливого вожделения было написано чересчур пугающе ясно. Элиас пришел и сделал что-то с Люйли — мимоходом, словно принуждаемый чьей-то злой волей, а потом поспешил прочь, невольный послушник несчастья. Могла ли она, Люйли, удерживать его, догонять? Нет, не могла. Не могла. Она не могла даже пошевелиться. Все беспредельное пространство уставилось бы на ее несчастье, все тотчас поняли бы, в чем дело, увидели бы эти последние дни и то, как она, Люйли, себя вела, и то, что она теперь… о! что все это связано… и что я… Люйли застонала во сне — потому что она все-таки заснула среди плывущих в полутьме амбара воображаемых картин, которые накатывали на нее в волнах тишины, и непрерывность одних служила залогом непрерывности других. Под покровом сна Люйли словно объясняли, что именно сделал с ней Элиас и какой новый, какой необъятный мир открывается ей вследствие сего деяния. Сон разрастался и нетерпеливо вожделел к этому новому открывающемуся миру. Образ великого и всеохватывающего несчастья оставался в том старом мире, из которого она теперь поднималась в новый и уже в нем неслась вперед, держа на плечах ребенка; и здесь не существовало ни счастья, ни несчастья, только непостижимый полет куда-то. Ребенок на ее плечах был ребенком Анны, и у него была такая же душа, как у его матери… И они парили над грядой и видели, как, взявшись за руки, танцевали польку Анна, Герцог и Тааве… и дрозд сидел на земле и что-то кричал им, но они не слышали… а мать Элиаса с очками на носу вышла из дома и пристально вглядывалась в них, словно они были частями движущегося станка, принадлежавшего ей вместе с бёрдом… Все было сон и полет…
Вилле Корке ни словом не упомянул об увиденном им ранним утром. Люйли дали спать допоздна, и она проснулась только к обеду. После столь долгого сна ее утомленному взору Иванов день показался странным и чужим. Все люди проводили этот день по-особенному, словно молчаливо признаваясь в чем-то друг другу. Но разве над этим краем разразилось ночью какое-то несчастье? Все было как будто в порядке. А что отец, Сайма, мать, Вяйнё — они живы, здоровы? Ну конечно, вот же они обедают… обедают в такой день. Но как это вообще может быть — такой день после такой ночи? Разве еще бывают на свете столь непохожие друг на друга вещи, как Иванова ночь и Иванов день?.. А Элиас? Он был здесь ночью и сделал это… Разгадка, явившаяся во сне, вдруг громом прогремела в ушах Люйли: у меня будет ребенок, такой же ребенок, как тот… Она почувствовала, что Анна Харьюпяя тоже знает, что в эту самую минуту она думает о том же… А где Элиас сейчас? Неужели он существует? Разве он может существовать где-то там при свете дня? Тень от пережитого во сне трепетала в воздухе вокруг нее. Что же теперь будет? Разве может жизнь продолжаться вот так? И сегодня Иванов день…
Весь этот день жизнь неощутимо скользила мимо. Люйли двигалась, ходила туда-сюда, сидела, смотрела по сторонам, даже разговаривала, но жизнь скользила мимо, не даваясь в руки. Вечер после такого дня был ужасен. Он пришел как обычно, но душа была не готова принять его, потому что день не был ею пережит, ни одно дневное впечатление не задержалось в ней. Ощущение было подобно тому, как если хорошо выспавшийся и бодрый человек, встав утром с постели, одевшись и постояв с минуту на месте, должен был раздеться, совершить вечерний туалет и лечь спать… Это противоречило законам естества… Но вечер наступил, все стихло, и скоро надо было идти спать. Люйли не понимала, когда успел пройти этот день или, вернее, что с ее утреннего возвращения прошел только один день… Вечер тоже скользнул мимо, не давшись в руки. Как-то вчуже казалось, что клонит в сон, но мысль о том, чтобы раздеться и лечь в постель, была непереносима, было одинаково трудно лечь и не ложиться. Но где ей бодрствовать? Куда деться? На улице — нет, все эти спящие увидят ее. Когда-то давным-давно она поднималась на холм и встречалась с Элиасом… Но Элиас пропал, его нет, его не может быть в такой вечер.
Люйли все-таки легла — не раздеваясь, совершенно уверенная, что спать не будет. И ей стало легче, покойнее; сумятица мыслей понемногу улеглась, и они стали тихо стягиваться в одну точку — к Элиасу. Здесь его образ смог приблизиться совсем близко, благо впечатления места и времени не поступали в сознание из полутьмы внешнего мира. Образ явился, но Элиас смотрел в сторону, словно стыдясь того, что был невольным орудием того великого разросшегося в последние дни несчастья, которое так ясно увидела Люйли, бодрствовавшая в одиночестве после совершенного Элиасом деяния. Он стыдился, и было только естественно, что он стыдился. Ведь он так непостижимо, так дурно поступил, исчезнув из жизни и оставив ее, Люйли, жить дальше одну. Когда же он исчез? А вот когда: незадолго перед этим деянием, которому в языке не было имени, как не было имени у того, кто совершил его. Потому что это — не Элиас, его уже не было… Люйли ужаснулась, ощутив себя в том же положении, что и в предыдущую ночь. Она не могла подняться и попыталась спастись, закрыв лицо руками. Свернувшись клубочком, она стала воображать, что с ней был настоящий Элиас, что «то» совершил он. Настоящий Элиас! Когда же Люйли встречалась с настоящим Элиасом? Ее мысль судорожно перебирала все события подряд, начиная с тех, что были прошлой осенью, ранней весною и вплоть до самого последнего дня. И нигде она не находила его, настоящего Элиаса. Девушка была молода и неопытна, и некому было ей объяснить, что такого Элиаса вовсе нигде не существовало, кроме как в тайниках ее души.
Ночь сейчас увидит, как девушка подойдет к двери и сядет у порога, подняв вверх лицо. Все ее существо вдруг прочувствует и объявит ей, что она безнадежно долго всматривается в одну-единственную подробность — в исчезновение Элиаса. И бесконечно задается одним вопросом: с кем она все это совершила? Но на вопрос ответа нет, и все происшедшее начинает казаться еще страшнее. Как жить ребенку, когда у него нет отца… когда отец такой и совершает такое… А я, я — мать… Девушка застонала в голос, встала с постели и подошла к двери, со смутной и тщетной надеждой, что, может быть, Элиас где-то рядом, идет к ней, когда она думает, что он исчез; он должен прийти, настоящий Элиас. Но снаружи только истекала утомленная праздником ночь, не знавшая, на что употребить изысканные красоты, раз праздник был позади. Элиаса там не было и быть не могло.
Шли только первые сутки, а всего их должно было пройти тридцать, прежде чем что-то еще произойдет.
Но как бы томительно долго ни тянулись сутки, в неделе их никак не больше семи, хотя и скорее неделя тоже не проходит, оттого что дни становятся короче. Если б мы уехали на неделю в другие места, а потом вернулись сюда же в тот же час, то можно не сомневаться, что девушки, сидящей на пороге, мы не увидели бы. Мы отметили бы, наверное, что ночь посерела, но вот девушки все же нигде снаружи не нашли бы. Неужели она сотворила что-то с собой, когда молодой человек ее бросил? Нет, воздух не был бы так покоен и умиротворен, как нынче. Так молодой человек бросил ее? На этот вопрос умиротворенный воздух без колебаний отвечает утвердительно, и мы чувствуем некую свою причастность к этому обстоятельству, что не может не вызывать досаду. Так, значит, ему следовало в то утро остаться здесь? — Отнюдь нет. — Значит, ему следовало что-то сказать, уходя? — Да нет! Видите ли, он бросил девушку не тогда, а много, много раньше, еще прежде, чем увидел ее. — Но как это возможно? — Возможно… Настоящий Элиас никогда и не бросал девушку, он и теперь рядом с ней, в ее душе. Печально другое — то, что когда она выглянула наружу — из дверей, из глубин собственной души, — она не увидела ни настоящего, ни мнимого Элиаса. Это поистине удручает. — Но где же она сама? — Спит в амбаре, разумеется.
Так миновала неделя, день за днем. — И что теперь? Дверь все еще закрыта, а ночь явственно посерела с той праздничной ночи. Мы наблюдали за равновесием жизни и солнца — каково же положение девушки? — Все то же. Ночами большей частью спит, днем ткет, и работа скоро, по всей видимости, будет готова: нитка на навое заметно оскудевает, а на полу уже целая куча выпавших щеп. Девушка, пожалуй, немного осунулась, но с такими глазами, как у нее, это ей даже к лицу. — Ну хорошо, это о работе, а каково ей вообще, не стало ли ей легче? — До некоторой степени. Представьте, она обнаружила, что события Ивановой ночи не имели для нее последствий. Согласитесь, что эта новость имела особую эмоциональную окраску, если позволительно это так назвать. Ее ведь никто никогда не просвещал относительно материй подобного рода. Тогда, утром Иванова дня, ей чудилось, что она получила разгадку во сне, явившуюся для нее в ее дремотном состоянии подобно удару грома. Но это не стало главной, отправной точкой для дальнейших размышлений, как можно было предположить. Главным стало открытие, что Элиас, с которым она соединилась, не был настоящим Элиасом… Ну, а затем уже инстинкт подсказал ей, что она может не ждать последствий. — Но ведь совершенное ею открытие должно было вызвать в душе девушки определенные перемены? — Разумеется, вызвало! Сначала, утром, она находилась под впечатлением воображаемой картины некоего обширного, не имеющего названия несчастья, навстречу которому стремительно двигалось все вокруг, включая небо и воздух, и которого она сама не остереглась. Позже она забыла об этой картине, но та какой-то своей частью сохранилась подсознательно и определила в ее глазах оттенок в выражении окружающего мира в те тяжелые дни. Ее душа, погруженная в оцепенение, чего-то ждала, и так же, ей казалось, ждала чего-то и природа. Однако затем, когда она сделала свое открытие и поняла вполне его отрицательный смысл, тот оттенок, та тень, что лежала на мире, внутри ее и вовне совершенно исчезла. Но лик самого бытия начал приобретать в ее глазах выражение несколько отупленное. Так что разразившееся несчастье было все же особого разбора. Представление о «настоящем Элиасе» стало нечувствительно забываться, и она заметила, что теперь думает о новом Элиасе, чье существование легко было представить в любое время суток и при любых погодных условиях. Новый Элиас проводил дни в Малкамяки, был сыном старой хозяйки, выглядел так-то и так-то, носил такую-то и такую-то одежду и был ей, девушке, совершенно безразличен. В ее уме теперь не существовало никакой определенной отправной точки или мысли. Среди дня она едва ли думала о чем-то другом, кроме того, что непосредственно относилось к ее домашним заботам. Она следила глазами за поднимающейся и опускающейся основой и слушала жужжание шмеля и тиканье часов на стене…
— И ей не приходили в голову мысли о самоубийстве в те дни?
— Навряд ли, в это время уже нет. Быть может, несколько раньше, в самую черную минуту: однажды она совершила несколько несвойственный ей поступок и выходила ночью на берег. Но ей это определенно должно было казаться ребячеством, как-то не идущим к ее нынешним обстоятельствам. В ее положении утрачивают вкус к подобным выходкам… Но взгляните-ка: на небе уже видна звезда!
— Верно! А дни по-прежнему яркие и даже стали жарче.
Все так, стоят обычные жары, хотя временами задувает молодой ветерок. На небе клубятся пышные облака с белою каймой, постоянно меняющие форму; впрочем, человеческому глазу трудно уследить за этими переменами. На четвертой с Иванова дня неделе облака как будто успокаиваются и наступает затишье. Верхушки облаков чуть рдеют, как пики гор, подымающиеся из тумана. Воздух тяжело-тих.
Усадьба Корке утопает в зелени. Перед самым обедом Люйли одна возвращается домой. Она ступает медленно и вяло — день очень жарок. Приятно и утешительно замечать в ее облике некоторые неизменные черты: на ней какая-то кофта, юбка и передник, но с теми же вечными складками, которые производят все то же впечатление, словно они столетиями наследуются от поколения к поколению. Сие — следствие самого образа и способа работы. Тогда апрельским вечером она остановилась возле голых осин, теперь проходит сквозь толчею листьев; но от одной до другой временной точки, через все случившиеся события ее облик пронес неизменно женственные, прилежно трудолюбивые черты, словно утешительно-печальное преемство… Открыты двери в сени и в горницу, и Люйли заходит туда незамеченная. В избе с матерью сидит знакомая старуха из деревни. Разговор идет самый оживленный, но он словно нарочно старается для Люйли, он обращается через стену к ней. Он уже вторгся в ее мир и бесцеремонно разгуливает там. Люйли стоит и вслушивается, она едва помнит, кто там разговаривает за стеной в их доме. Это не слух, а ее душа впитывает каждое слово.
…Герцог-то в Иванову ночь провожал с танцев Анну и оставался у нее до утра. Анну и растили неженкой, мать этим еще и похвалялась, с детства потворствовала ей и баловала с пеленок. В деревне еще когда говорили… я всегда говорила, что эти нежности до добра не доведут. Со свиным рылом-то чего в калашный ряд, попасть попадешь, да хрюкать начнешь, хе-хе!.. навроде моей хавроньи…
…Да и то — во всем свете от веку так повелось, что у всякого свое место, а коли ты из простых, то и сиди, не лезь непутем…
…А говорили-то еще, что сын бабушки Малкамяки у вас тою ночью был, но я уж, конечно, сразу сказала, что…
Пожалуй, именно в эти минуты зародилась в сердце Люйли ненависть — тихая-тихая, неторопливая, та, которая, однажды возникнув, намеревается терпеливо и самозабвенно ненавидеть до гроба. Домашние дела пошли как по маслу, сны по ночам больше не мучали. Мать обходилась с ней как с сокровищем, не знающим себе цены. Люйли со своей стороны стала обращать внимание на домашних, ощущая в их бытии надежность и преемственность, далекие от внешних бедственных событий, увлекших этим летом в свой водоворот и Люйли. Ход домашней жизни надолго выпал из поля ее зрения, зато теперь он приблизился к ней; ее привлекала в нем раз и навсегда установленная преемственность. Люйли отдавала себе отчет в происходящем сближении, не противилась ему, но и никак сама этому не содействовала… В тот зеленый день, стоя в горнице, она слышала, что мать не только не поддержала разговор о ней, но перевела его на другую тему и вскоре сделала так, что гостья почла за лучшее удалиться. Но когда мать и дочь оказались потом вдвоем на дворе, ни та, ни другая ни словом, ни жестом не намекнули на то, что одна из них услышала, разговаривая со старухой, а другая — стоя за стеной. — Все эти господа сами по себе, а мы, простые, сами по себе. Ты вот молодая и неопытная, а меня не послушалась. — Вслух было сказано: «Принеси воды, прежде чем пойдешь обедать. Теленку пить нечего!»
Иногда Люйли приходила на ум Анна Харьюпяя и ее изнеженность. Ей становилось тошно — она вспоминала голос старухи, а потом тотчас — Элиаса. Что будет, если она повстречается с Анной или с ним? Убежать? Нет, зачем. Скорей бы уж осень! Скоро будет гроза; пройдет гроза, а там и осень начнет подступать…
Грозы не было ни в тот день, ни на следующий, хотя очень далеко, за рдеющими в вышине облаками, раздавалось грозное урчание. Ночи стояли душные. Раскаты грома докатились до Корке на тридцатые сутки, считая с Иванова дня. Люйли в это время сидела одна в горнице. Гром давно уже гремел над Малкамяки, и воздух посвежел, когда Люйли вышла на двор. У ворот стоял Тааве и болтал с Вяйнё. Тааве наконец расстался с Малкамяки и пока жил в Вяхямяки. Теперь оказался зачем-то в их местах и сейчас возвращался домой, откуда гроза уже ушла. Выглядел он бодро. Бог знает о чем они там толковали, но когда Люйли проходила, Тааве сказал, обращаясь к Вяйнё, но явно предназначая свои слова ей:
— Элиас-то солнечные ванны принимает на пару с невестой. Эй, Люйли!
Последнее он добавил на всякий случай, потому что Люйли не подала виду, что слышит.
— Пусть принимает! — выкрикнула она и бросилась в амбар.
Там она попыталась заплакать, но у нее не получилось.
— О Господи Боже всемилостивый! Зачем мне это… что я наделала… Боже великий!.. я это сделала… я преступила… что будет?!
Во дворе были слышны голоса: пришел еще какой-то гость, и отец говорил ему, что неизвестно, дойдет ли до них гроза — она с самого Иванова дня собирается! Заглянула мать, спросила, будет ли Люйли ужинать. «Нет», — ответила та, и мать не стала больше ничего спрашивать. Так Люйли одна-одинешенька осталась в амбаре на ночь. Шел тридцатый вечер с Иванова дня.
В Малкамяки этот день прошел совсем иначе. Бывший любимый Люйли, Элиас, забрался в своих прогулках в самое отдаленное место.
Электрическая энергия земли и воздуха
Крохотная черная букашка никак не могла выбраться из купола колокольчика. Тоска ее была неописуемой: пробудившись нынешним утром от ночного окоченения, она в сто семнадцатый раз обошла все пять увядших тычинок, погрызла их дряблые мешочки, где — в этом она была совершенно уверена! — находились съестные припасы, но куда проникнуть собственными силами не было никакой возможности… Что же это за цветок такой, в котором никто не живет, куда никто не залетает, где мед наглухо заперт, а тычинки похожи на сморщенный лоскут?! А на что нужны три мощные дуги рыльца, уставленные прямо в небо?.. И букашка отправляется снова в поход: по прохладной стене лилового купола к самому краю, откуда открывается головокружительный вид на травяной лес и где внизу манят пропасти и закоулки лабиринтов. Ах, если б решиться и шагнуть туда, за край! Но упасть в эту черную бездну, из которой уже никогда не выбраться, никогда не попасть на ту далекую чудную ромашку… О чудовище, погубившее мой родной цветок, о исчадие ада, оборвавшее один лепесток за другим, жестоко завладевшее мной и бросившее сюда! Я помню его ужасающе громадные глаза… Нет, только не за край, нет! Ах, что за пышная таволга там вдали, до нее много взмахов бабочкиных крыльев, но как высоко она поднимается, куда выше, чем этот цветок… И какой прекрасный сегодня день, какая открывается панорама с этого места, по счастью, на безопасном расстоянии от того странного сооружения на краю… А лесной купырь, видно, отцветает, вон тот — в двадцати взмахах бабочкиных крыльев…
Черная букашка почесала свои неспособные летать крылышки и постаралась взглянуть на свое положение с большим хладнокровием. Все-таки проводить время в этом лиловом куполе несравненно лучше, чем навеки кануть в травяные закоулки. А вон и бабочка и стрекоза спускаются со своих высот, это вечное чудо: они взлетают выше неба, оно с каждым их взмахом поднимается все вверх, вверх…
Есть и другое, не меньшее чудо, если взглянуть на него из беспристрастного далека: время, переживаемое пленником и пленителем, текущее по-разному и несравнимое по длительности. Это заставляет усомниться в справедливости нашего толкования времени. Или существует столько времен, сколько тех, кто его переживает?
Тот, кто сыграл злую шутку с черной букашкой — это стоит уточнить, — был Элиас, долгие послеполуденные часы плутавший в зарослях вокруг дальнего выгона, потом возвратившийся к скале, но решивший не залезать на сосну, а устроиться внизу на лужайке, где не так давно видели другого человека; там он сел и отдался на волю обильно щедрому лету. Воздух дрожал от зноя, и красноверхие облака казались вспотевшими. Все было горячо и наэлектризовано, даже маленькая обтянутая тканью пуговка, которую он заметил в траве. Он поднял пуговку и направился к озеру. Аккуратно положил ее рядом с собой, разделся, зажал ее между зубами и вошел в воду. Он плавал, потом загорал на берегу. Разлитый в воздухе зной был виден глазом. Земная поверхность со всем, что на ней было, копила силы, словно для дневного труда. Маленькая славка скользнула беззвучно среди кустов, сама как струйка горячего воздуха. Молодой человек лежал неподалеку, зажав в руке пуговку. Жизнь помещается в самом центре безбрежного и бескрайнего знойного пространства.
Не умеряя летней крепости, день перетекает в вечер. Элиас давно забыл о черной букашке: в своих дневных блужданиях он видел сотни других ромашек и других колокольчиков и много всякой живности — покрупнее и помельче. Он даже видел человека — совершенно обнаженного. Впечатления дня создают вечернее настроение, и в этом участвуют все — самые мельчайшие, даже забытые впечатления, что можно уподобить выделыванию меда в сотах из собранной пчелами пыльцы и нектара. Его нынешняя добыча была обильной. Он сидел в качалке. У качалки тоже было много впечатлений: в ней сидели каждый день до вечера с самого приезда Элиаса; Элиас и она свыклись друг с другом. Вот и барышня Ольга сидела в ней, а теперь снова Элиас…
По установившемуся обычаю, он напевал и бережно разглядывал свои богатства — всю собранную в эти жаркие дни добычу. Общее впечатление, производимое ею, было весьма значительным, но в то же время необыкновенно легким и воздушным, почти не поддающимся словесному выражению. Однако некоторое облегчение приходило, если, сидя в качалке и глядя в верхние квадраты окна, спеть подряд раз десять первый куплет из песенки Тааве, сопровождая пение какими-нибудь грубоватыми и угрожающими жестами — вполне бессознательными и со стороны имевшими вид безумия, потому что мурлыкающий голос звучал особенно мягко вследствие получаемого от всего действа удовольствия…
А каким чудным было его, Элиаса, вступление в эту среднюю и вершинную знойную пору. История взаимоотношений с Люйли, остававшейся далеко-далеко, за лесами и холмами, вызывала искренний интерес и была несравненна по значимости, он рассматривал ее как бы уже ставшую народным сказанием и передававшуюся из уст в уста будущими поколениями. Быль о том, как с красивым парнем из Малкамяки приключилось то-то и то-то. А девица из Корке была темноглаза да белолица и родила тому парню сына… Элиас жил уже в те далекие будущие времена, и его трогательно умиляла мысль, что девица из Корке ждала ребеночка… Разумеется, в трагическом всегда есть что-то упоительное.
Так проходил вечер Элиаса, — а маленькая черная букашка в эту самую пору погружалась в пучины отчаяния, глядя на заход солнца. Вся целокупность впечатлений Элиаса была велика, но и столь воздушна, что он остерегался лишний раз обращаться к ним. Какая, право, жалость, что ночью нельзя напевать… Кстати, что это он пел давеча? Ах, вот это… Но когда человек готов провести ночь без сна, сон довольно скоро и незаметно смаривает его. Элиас проспал до утра. А на следующий день текущее по-разному и несравнимое по длительности время пленника и пленителя, букашки и Элиаса, должно было снова совпасть.
В то утро Элиас вдруг почувствовал настоятельную потребность ближе познакомиться с растительным миром, по непонятной причине это казалось страшно важным, а день был словно нарочно создан для такого знакомства. Собственно, потребность была вообще что-то сделать, пока дневной свет еще так ярок, что-то, от чего он почувствует удовлетворение, как бы завершив дело… Не разлеживаясь в постели, он быстро поднялся и начал осмотр с комнатных цветов, с пеларгонии и фуксии, размышляя при этом примерно так: ага, вот они растут в горшках. А ветку пеларгонии сначала держали в воде, чтобы она пустила корни, а до того эту ветку отрезали от какой-то другой пеларгонии. Что, если бы все эти пеларгонии, последовательной цепочкой состоящие друг с другом в родстве, в таком же порядке пересадить в одно место? Внушительная должна получиться картина! Кое-где, правда, зияли бы пустоты — на месте умерших цветов. А предок всех этих домашних пеларгоний отыскался бы где-нибудь в отдаленных землях, оттуда она в результате определенных событий распространилась и добралась до нас… И этот цветок тоже вылезал бы где-то там, среди прочих… Интересно, приходят ли еще кому-нибудь в голову подобные мысли? (На часах ровно десять.)
— Ну и духота здесь снаружи! Но я намереваюсь рассмотреть все эти растения, чтобы точно знать, как они выглядят. Ну вот, например, край ржаного поля. Я вижу бесчисленные стебли, отлично вижу узлы на стеблях, влагалища листьев и наверху мощные колосья, твердые и сплошь закрытые. Их усики пока неразличимы, но колос стоит не шелохнется, словно ждет, чтобы я счел каждый его усик. Так, а сейчас я мысленно очерчу на земле небольшое пространство размером с ладонь и прикину, сколько на нем растет стеблей; скажем, от десяти до пятнадцати. А если меня вдруг спросят, сколько их на поле, хотя бы примерно, я скажу, что от сотни тысяч до сотни миллионов, без всякой уверенности в правильности моих цифр. А ведь я могу увидеть каждый отдельный стебелек. Но зато в ста саженях я уже не замечу, если этот стебелек вырвут. Так, но если вырвут сто тысяч таких стебельков, то я замечу это легко. Интересно, кстати, с какой именно цифры я начну замечать убавление. — Вот оно какое, это ржаное поле, и оттуда смотрят на меня любопытные синие глаза. Ржаное поле — море, а эти синеглазки — морские существа. И они прямо лучатся довольством, оттого что весь этот пестрый сброд, который со всех сторон окружает поле и вдоль межей проникает вглубь, не в состоянии добраться до них, до этих синеглазок. Вот оно какое, это ржаное поле с синими глазами. (Время — полдень.)
— А теперь обратим внимание на лопухи и на липы, на эти твердые темно-зеленые создания. Кажется, будто видишь, как вытягиваются проводящие сосуды внутри их стволов, как поднимаются по ним соки до самых жилок в листьях. Листья только притворяются праздными, а в действительности под их оболочкой скрыты великолепные двойные двери, ведущие в зеленое царство. В эти двери втекает тот же воздух, которым дышу и я и который в порыве может играючи повалить дерево. В зеленом царстве листа искуснейшим образом заготовляются таинственные вещества — из солнечного света, который добирается сюда сквозь безвоздушные пространства из умопомрачительного далека, и из солей, пробирающихся сюда сквозь мрак земной тверди. Да и внутри стволов та же темь. Но разве не чудо, что вот тут лежит безжизненная земля, а рядом от этих растений уже исходит живой дух? Где проходит точная граница между мертвым и живым? И лопух и липа словно гордятся своим наполнением. Они словно машут мне (время — час дня) — машут мне на прощанье, воспаряя куда-то ввысь и оттуда наравне с воздухом, солнцем и облаками оглядывая землю. А я иду вдоль покосного луга, и каждый нерв во мне дрожит, оттого что я наперед знаю, куда приведут меня ноги, и земля обжигает меня, оттого что я знаю, что сегодня произойдет.
Элиас подходит к скале, но не взбирается на сосну, а садится внизу. Он с непокрытой головой, босой. Общая картина знойного пространства подбирается к нему, пытаясь проникнуть в сознание, но ей противятся другие силы. Между борющимися извне и изнутри силами рождается марящее напряжение. Солнце печет, а красноверхие облака начинают угрожающе урчать. Но через покосный луг среди лиловых колокольчиков подвигается что-то. Внешняя картина пространства делает последнюю попытку навязать себя. Две стрекозы, сцепившись, пролетают совсем близко, так что видны их блестящие тельца. Ниже над лугом порхают две бабочки, как два голубых лепестка, которых пресытившийся знойный дух выхватил, чтобы они развлекли его танцем. На жерди греется на солнце ящерица. А одна из веток на березе пожелтела… Все это — лето.
Человеческие души — сами по себе и в отношениях друг с другом — что они такое?
Вообразите некую могучую гору. Ее поверхность испещрена черными входами, которые, сколько их ни исследуй, знания не прибавят. Входы ведут во мрак, но подчас туда можно просунуть только руку. Вообразите теперь, что вам повязывают на глаза волшебную повязку и вы можете попасть в пещеру. Там вы снимаете повязку, и вам открываются пространства человеческой души; поначалу, пожалуй, проход окажется тесным, но далее он становится все просторнее и уже нет числа разветвлениям. Стоит вам остановиться, тотчас стены в этом месте раздвигаются без всякой соразмерности, но лишь под влиянием одного вашего взгляда. И ничему из того, что вы видите, вы не можете дать имя. Вы выходите наружу, снова снимаете повязку, и у вас перед глазами оказывается обычный вход в пещеру, разве что с отупленным выражением. А рядом с ним другой вход. Вы проделываете все то же с другой пещерой и видите все очень похожим и одновременно разнящимся — как это бывает с березами в лесу. — Хорошо, но если пещер так много, каким же образом все бескрайние их внутренние пространства помещаются в одной горе? Не перетекают ли они одна в другую? — Этого я знать не могу. Гора есть целокупность всех человеческих душ, а пещеры суть отдельные души. — Ну а если, сняв волшебную повязку, разломать стены пещеры? — Что же это даст? Только то, что, когда вы разломаете стены, душа исчезнет.
* * *
То, что недавно двигалось среди колокольчиков, теперь подошло к подножию скалы.
* * *
Люйли Корке — вон та девушка! — в эту самую минуту закончила свой труд — многажды упоминавшуюся шерстяную тканину. А эта черная букашка, сидящая в куполе колокольчика, потеряла надежду на избавление и уныло воображает, что остаток жизни проведет в мечтах о дальней таволге. Она сидит на самом краю колокольчика. — Но что это?! Букашка успевает заметить что-то большое и белое, рухнувшее в непосредственной близости от таволги; цветок качается, клонится, белое возится внизу, на земле, в отдалении мелькают те знакомые ужасные вчерашние глаза… о ужас!., маленькая черная букашка предает себя в руки судьбе… а-а-а… Какая-то невозможно мягкая, белая, пахучая масса, и букашка барахтается в ней, инстинктивно пытаясь расправить крылышки, но падает вниз, вниз, в это белое, пыльное, пахучее… Где-то рядом снова содрогнулось и закачалось. Что был в сравнении с этим суточный плен! Ведь оттуда было куда…
Пусть воображение теперь склонится, чтобы увидеть две пары глаз; но так, чтобы ничего другого не видеть, кроме пары светло-карих и пары, пожалуй, серых глаз. Карие смотрят в серые с удивлением, потому что впервые различили там прежде неприметные черные крапинки — словно крошечные отверстия. Серые глаза похожи сейчас на глаза неведомого существа, они посмеиваются над собственным затаенным довольством; губы под ними вдруг произносят ужасающе обыденные четыре слова. Их явный смысл производит на другого такое же впечатление, как если бы знакомый человек оторвал ни с того ни с сего от скалы огромный камень и бросил его в воду. Слова оказывают такое же действие.
И тогда, словно усиливая общее впечатление, зарокотал, надвигаясь, гром. Грозно надвигался он на чью-то одежду, забытую на лугу… И на многое другое, мимо чего не мог пройти: на цветы, на маленьких букашек, обитающих в них, на знойное лето, достигшее своей высшей точки…
Гроза
Все стихло, и в темноте амбара казалось, что снаружи сгустился непроглядный мрак, какой-то особенно неприветливый, наводивший на мысли об осени в эти последние июльские дни. Стало так тихо, что впору было ждать худа; гром притаился где-то за грядой. Тучи напоминали мрачно-хмурых людей, действующих по приказу и не обращающих внимания на устремленные на них с земли просительные взгляды. Нельзя было угадать, когда снова загрохочет, но в сгустившейся темноте это должно было случиться. В стоячем воздухе ясно ощущалось, что кто-то ожидает заслуженного наказания, покорно и истово — потому что из-под туч все равно некуда было скрыться. Заодно со ждущим человеком притихли и все темные дома, и призрачные деревья, и кусты…
Нынешнее ощущение единственного бодрствующего человека среди спящего мира не походило на прежние. Как прекрасно было это ощущение, царившее давней апрельской ночью в доме Корке, когда Люйли было сладко не спать, слушать ровное дыхание других и впервые осмеливаться мысленно произносить имя того, чей воображаемый образ словно был создан для той прозрачной ночи за окном, где расцветала осина и куда смотрела Люйли, лежа рядом со спящей сестрой. В ту пору ей вообще не хотелось спать, но она засыпала незаметно с улыбкой на губах, торжественно-покойно, окруженная тихим дыханием домашних. Ныне, в тридцатую сумрачную ночь по Иванову дню, дела обстояли совсем иначе. Люйли, та же самая Люйли, живая и здоровая, не спит и лежит одна в амбаре. Она не слышит ничьего дыхания, и ей кажется, что вообще никто нигде не дышит, что все люди в это мгновение из-за нее, Люйли, вдруг перестали дышать — навечно. Словно всем стало ясно, что бежать некуда, а утро не придет никогда. Все умерли и только Люйли одну забыли здесь. Ей не дали умереть, потому что она недостойна смерти, потому что смерть и она — вещи несовместимые. Ведь способность умереть — это трогательное и умилительное свойство других существ, и к ним, разумеется, принадлежат отец, и Сайма, и мать, и Вяйнё. Для них этот смертно-тихий вечер и для всех людей, которые, не дыша, спят вокруг нее, в то время как она, Люйли, не спит и всматривается во что-то неопределенное и темное, надвигающееся на нее из внешнего мира, для которого визит смерти значит ровно столько же, сколько и первые весенние порывы. А может, это и есть будущая весенняя ночь, и снаружи крепкие и усердные потемки, и взрослые листья осин подобны сонму чутких духов, стоящих настороже при чудной молитве, творимой в весеннюю ночь. А Люйли не спит, и хотя она боится грома, сейчас она забывает бояться. Ничего нет страшного в том, что все не дыша уснули, что пришла весенняя ночь, за которой наступит непостижимо счастливый долгий летний день, всю прелесть которого воображение еще не в состоянии охватить и представить в некоем образе. Но общий очерк грядущего лета как нельзя более согласуется с окружающей сонной, торжественной безжизненностью.
Теперь, должно быть, и время уже умерло, тоже уснуло бездыханным, как и все его собратья вокруг. И никогда больше не наступит пасмурная темь, потому что длится бесконечная и бесплотная весенняя ночь, которую Люйли видит, лежа с закрытыми глазами в постели, не помня, где она лежит. Странно озаренными видит она все обстоятельства прежней бессонной и беспокойной жизни. Сначала она видит Тааве, стоящего у ворот вместе с Вяйнё. Тааве смотрит на нее с улыбкой и говорит о чем-то житейском, временном, чего Люйли не понимает и поэтому только улыбается ему в ответ. Потом она видит те осенние ночи и даже в нынешнем своем состоянии ощущает, какими сладкими были слезы, которые она тогда проливала, тоскуя о чем-то недальнем, но пока еще не ставшем близким. Потом оно приблизилось, и стало близким, и любило ее всею любовью. Это все тот же образ, она узнает его. Но вот он приближается и делает с Люйли что-то такое, что она не может понять, но что она радостно позволяет, потому что он — это он. Происходящее не затрагивает ее сознания, она только понимает, что с этого момента начинается счастливое и долгое парение…
Вот здесь, на этом долгом и счастливом парении, участливое воображение Люйли спотыкается, словно зацепившись за что-то, и замирает в напряженном ожидании. Вчуже Люйли чувствует, что и тело ее странно напрягается. Чтобы предупредить возможный взрыв, воображение в своих высях отвлекается картиной бурлящих потоков счастья, словно стремясь забыть о нечаянной задержке. Но все длится, бесконечно длится эта вознесенная в выси жизнь, и любимый родной образ снова с ней… Раскаты все слышнее, грохочет давно, и блаженство является в облике грома. В грохоте есть какая-то суровая приподнятость, словно требующая от нее признания, что и блаженство зиждется на истовости и примерной суровости. С восторгом, покорно-счастливая, она завороженно подтверждает то, что от нее требуют. Грохот стихает в одно мгновение, удаляется, но возвращается вновь и с безумной настойчивостью, еще суровее требует тех же признаний. И опять она завороженно повторяет и повторяет свое признание, пока наконец не разражается бурными рыданиями. Но рокот только усиливается, он придвигается вплотную, он забирается внутрь и раскатывается в ее мозгу. Она рыдает, рыдает горячо и неудержимо, и сознание ее колеблется между сном и явью. Ее окутывает дым, бушует над головой нарастающий гром; она рыдает, тело ее напряжено, но она уже чувствует, что напряжение не нужно, что воспаренное состояние не исчезло, хоть и ослабло; милый образ по-прежнему с ней, и ему ничего не может сделаться. Она плачет и чувствует облегчение.
Теплый, сонный материнский шепот слышен над ее ухом:
— Что ты? Тебя не ударило молнией? Зачем ты легла здесь в такую ночь…
Плакать становится сладостно, она встает с материнской помощью, чувствуя, что ноги не слушаются ее. Уже полночь. Мать в темноте рядом с ней, и они вместе ощупью пробираются к двери. У девушки чувство, что сию секунду все эти тридцать дней и ночей откалываются от нее одним затвердевшим куском, и мать спешит увести ее отсюда. Она бредет, спотыкаясь, по мокрой траве и видит мрачно нависшие тучи и странные бледные всполохи между ними — словно все воздушное пространство безобразно искажается от сверхъестественного напряжения и его дух обрушивается на землю сокрушительным ливнем. Дверь в дом открыта, будто она тоже тревожится о девушке. Они входят в сени и подходят к порогу избы, но вдруг девушка шарахается, и с ее губ слетает: «Только не в избу!» Мать не прекословит, бормочет что-то успокоительное, словно утешая плачущего во сне ребенка. «В горницу, пойдем в горницу…» Люйли дает увлечь себя туда. Мать совсем другим тоном обращается к лежащему Вяйнё: «Ступай ты в избу!» И Вяйнё исчезает как тень. Люйли все замечает, но в ее сознании происходящее не находит отклика, она всхлипывает и опускается на кровать. Они вдвоем с матерью; мать продолжает утешать ее как маленькую девочку, и девочке это несказанно отрадно, хотя она не обнималась вот так с матерью уже десять лет. Мать нашептывает что-то и мягко спрашивает:
— Сделал он тебе что-то?
Неясное сознание понимает вопрос по-своему, и всхлипывания перерастают в плач. Мать пытается снова:
— Скажи, что…
Среди плача можно разобрать прерывистые слова:
— Я не знаю…
Мать больше не спрашивает и не успокаивает ее плач. Она тихо сидит и смотрит в темноте на дочь. Потом негромко говорит, обращаясь больше к себе:
— Ах ты, моя бедная большая девочка, что ж нам с тобой делать!
Мать не могла бы объяснить, о чем она печалится. А до сознания дочери дошли не слова, а ласка в голосе. Может, дело было в бушевавшей грозе, которую они обе успели близко разглядеть. Гроза изгнала Люйли из амбара, куда та перебралась еще весной по своим лукавым причинам. Гроза не убила ее, но вынудила среди ночи бежать, и не было уверенности, что иначе она дожила бы до утра. С этого ухода из амбара для Люйли Корке начался новый продолжительно-долгий период жизни.
Прерывистые всхлипывания после плача напоминают удаляющееся погромыхиванье грома. Невыразимые детские ощущения затопляют душу Люйли, когда она волею обстоятельств оказывается предметом материнского нежного попечения. И хоть мать уже стара, но она по-прежнему хорошо знает все секретные материнские ласки и нашептывания. Она целует ее, старая женщина целует свою взрослую дочь, и в этом поцелуе, в самой глубине, таится нечто врачующее, что ощущается изуродованным сознанием как крайняя мера, к которой прибегают радеющие домашние.
На память Люйли приходят робкие, словно спрашивающие позволения, замеченные ею мелочи. Вяйнё переходил отсюда в избу, и там раздался приглушенный голос отца, но что он говорил, было не слышно. И ничего специально не вспоминая, она тут же отмечает, что толщину стен в этом винить нельзя. А потом вдруг переносится в детство, когда маленькой девочкой спала рядом с отцом, за его спиной, и вдыхала особый надежный запах его кожи. Потом из подсознания выплывает картина недавней грозы и бушевавшего грома; вот один за другим приближаются его раскаты, вот наконец касаются ее, и она не может двинуться с места, а только лежит, напрягшись всем телом. Многие часы прошли с тех пор, как она вошла в амбар, это время теперь скрыто высокой черной горой, которую она одолела, чтобы добраться сюда. Теперь она уже уверена, что громовой гнев больше не разразится, он миновал, он пережит. Временами девушка еще прерывисто вздыхает, лежа в постели, — мать уже ушла в избу, все страшное было позади.
Даже приятно прислушиваться к тихому рокотанию грома, когда твердо знаешь, что он не вернется. С крыши капают последние капли, а бледное утро уж начинает виднеться, ощущаться и слышаться. Солнце только готовится взойти. Оно несравненно более величественно, чем все события человеческой жизни, ибо каждое утро оно с одинаковой степенностью подымается надо всем, что есть жизнь. И так день за днем, поколение за поколением, и ни в ком оно не рождает ни пресыщения, ни желания, чтобы оно переменило свою повадку… С крыш капают капли, и весь простор раннего утра словно склоняется в почтительном поклоне и улыбается — перед прошлым ли ужасом, перед рождающейся ли надеждой новой жизни? Все события прошедшей ночи суть принадлежность жизни, бытия… Та гроза удаляется, но, удаляясь, она еще говорит что-то о своем нынешнем визите, который, по сути, является торжественным событием… Ибо насколько возможно пылко и скоро оно расставляет по местам бесчисленные, невидимые и непостижимые, мельчайшие подробности, сотворенные и собранные вместе предыдущими долгими знойными днями, приготовляя их к переходу в вечность. Исполняешься сознанием торжественности происходящего, когда думаешь о черной букашке размером с булавочную головку, сидевшей среди пестро-подробной земной поверхности на одном из цветков таволги, той самой букашке, которой завладела теперь дотянувшаяся с неба рука грозы. Сокрушительный, рокочущий водяной поток смыл беспомощное и безответное создание вниз, к подножию травяного леса. Торжественность свершающегося внятна и этому гибнущему крохотному существу, находящемуся в центре сумеречного маленького мирка, затопленного водными потоками. Миллионы подобных безмерных трагедий разыгрались в этих мирках во время грозы — теперь миновавшей.
Но человеческие жилища, большие дома и избушки, остаются на местах. С их крыш капают капли, и буйная фантазия готова вообразить, что это слезные отголоски потрясений, пережитых внутри стен, внутри самих людей. Теперь после пережитого легко заснуть, угадывая в воздухе дыхание спящих вблизи людей и чудесную надежность раз и навсегда установленной, укорененной, ничем и никем не колебимой преемственности.
Финал
Новые люди
Гроза показала свою примерную суровость и захватила площадь больше обычной. Она свирепствовала над грядой, растянувшись от Корке на ее восточном боку до Малкамяки, и утром обнаружили, что во многих местах растения побило и деревья выворотило. Молния, ударившая в Корке, оказалась куда сильнее, чем можно было подумать ночью.
Крыша амбара была раздроблена, торцовая стена в одном месте отошла, и позже от нее отвалились крупные куски. Удивлялись тому, что борозды, оставленные молнией, были ярко-белыми, словно дерево прихватило морозом, а не опалило огнем. Так что Люйли, спавшая в амбаре как раз в то время, когда ударила молния, на целый день стала предметом нежности и ласк всей семьи. Причем нежность эта не проявлялась в словах или поступках, она ощущалась в самой атмосфере дома. Люйли была на положении дорогой и хрупкой вещи — или девицы, к которой посватался знатный господин. Вот какие действия произвела гроза! Легко было догадаться, что впереди Люйли ждет что-то совсем особенное.
Странно, но на сей раз нежное внимание домочадцев не вызвало у Люйли неприязненных чувств. И все же к вечеру она утомилась и ощутила потребность скрыться с их глаз и побыть одной. Так что с ее стороны было только естественно подняться на холм, чтобы посмотреть оттуда, как выглядит все вокруг. На душе у нее сразу стало хорошо, как только она очутилась посреди освеженных просторов. Вероятность встретить здесь ее бывшего Элиаса в расчет ею не принималась.
Элиас был несколько чувствителен к грозе, хотя ему, настоящему взрослому мужчине, не к лицу было выказывать подобную слабость. От матери, однако, это не укрылось, поскольку вообще матери, имеющие единственных сыновей, обладают даром угадывать их душевные движения лучше, чем свои собственные. Так что чем гулять во время грозы, Элиас предпочитал сидеть дома вдвоем с матерью, а во время особенно сильного грома хранить молчание, в то время как мать обыкновенно крестилась и шептала молитву всякий раз, как сверкала молния; своим молчанием Элиас как бы одобрял ее действия. Когда же гроза заканчивалась, Элиас с явным удовольствием оставлял мать одну и отправлялся на прогулку.
В этот раз Элиас был вдали от дома, когда загремели первые близкие раскаты грома и хлынул дождь. Он сидел в лесу, опустошенный душой и телом, и глядел прямо перед собой на сухой выгон, где трава как будто повторяла те странные слова, которые он только что слышал из одних уст — у сенного сарая, среди густой травы, возле низко склонившейся таволги. Небо затянуло тучами. Они и в самом деле тянулись, сливались и все больше мрачнели, выказывая полнейшее невнимание к молодому человеку, сидящему в прострации, с ощущением наступившей великой паузы. Его душа запнулась, чтобы разглядеть Ольгу, чьи странные четыре слова сначала невероятно приблизили ее, а потом вдруг умопомрачительно отдалили. Так бывает, когда во сне неожиданно видишь лицо хорошего приятеля вплотную у своего лица и оно пылает непонятной лютой яростью. Встретив после такого сна этого приятеля, ощущаешь странную к нему близость, рожденную пережитым кошмаром, но общаться с ним трудно, и случается, что затем приходит постепенное охлаждение и даже боязнь друг друга. В каком-то тесном мирке происходит незримый переворот. Только что Элиас увидел Ольгу совсем близко, и оказалось, что в этом развязка всего рассказа. Однако тучи, равнодушные к наступившей паузе, грозно сгущались и мрачнели, прогремело уже где-то рядом, и полил дождь. Стало быть, для Элиаса это был еще не конец, как ему казалось в то мгновенье. Все вокруг свидетельствовало об обратном.
Когда он вернулся домой, с матерью на кухне сидела старуха странница, упитанная, с хитровато прищуренным лицом. Она восседала на скамеечке, положив возле себя узелок, как диковинная ручная старая птица, сидящая в гнезде. Она болтала, улыбалась и подмигивала чему-то постороннему, тому, о чем рассказывала — таким тоном, словно твердо намеревалась внушить старой хозяйке, а затем и Элиасу некоторые вещи, которых они оба инстинктивно сторонились. Гроза надвинулась, и гром зарокотал сильнее. Старуха, не переставая болтать, заметила что-то мимоходом по этому поводу — как человек, разъясняющий сложные вопросы и при случае вскользь упоминающий о некой мелочи. Откуда явилась сюда эта старуха, как она к ним попала?! Гром пригрозил уже не на шутку, а старуха со своим хитрым прищуром словно нагнетала и без нее сгущавшуюся грозовую атмосферу. Рядом с ней Элиасу казалось, что старуха есть зримый результат всех происшедших за день значительных событий, что ее на время грозы водворила сюда, к ним, чья-то невидимая расшалившаяся рука и от нее, как от кошмара, им некуда деться. Словно старуха была отлично осведомлена обо всем, что происходило недавно, и здесь, под разговоры матери и шум грозы, не таясь, кичилась своей осведомленностью. Она еще что-то сказала Элиасу — с непередаваемо-мерзкой улыбочкой, и эту улыбочку, и весь старухин таинственный облик Элиас вспоминал потом многие недели, уже в другой, новой поре жизни.
А пока он оставил старуху на попечение матери и ушел в сумеречную горницу, на свой диван, куда ускользал сначала перед приходом к ним Люйли, а потом Ольги. Здесь гроза не так устрашала своим видом и грохотом, здесь было безопаснее. Все последнее время, вплоть до появления старухи, он как будто ясно ощущал непреложно твердую направляющую волю лета. Оно вело его куда-то, и неизъясненная тайна этого ведения давно не пугала Элиаса. Нараставшее в прошедшие дни буйство солнца, потом обстоятельства, в результате которых прозвучали среди густой травы те слова; стягивание туч; старуха… глупо было уверять, что в череде этих событий строгое лицо лета никак не обнаруживало себя. Очевидность сделанного наблюдения освободила сознание Элиаса и даже намекнула на еще более упоительное освобождение: на то, что нынешний день выведет его снова на тот путь, с которого он когда-то сошел. Намеки эти сначала не были облечены в какую-то определенную форму, но довольно скоро обрели ее. Она сложилась и окрепла так тихо-незаметно, что сидевший на диване молодой человек весь вечер не мог определенно обнаружить ее в себе. Но и за ходом грозы он следил недолго, она уже натешилась, а старуха из кухни удалилась. Вся эта череда событий, угрожающе придвинувшаяся недавно чуть не вплотную, теперь отдалялась, и ее направляющее воздействие на него исчезало. Элиас чувствовал, как он уходит от всего только что бывшего, гроза, казалось, давно отгремела, и где-то отстоящим в пространстве виделось ему страстное, роковое нетерпение, вдруг обнаружив которое Элиас так давеча перепугался. Все обстоятельства перемешиваются и несутся прочь. Те четыре ужасающе обыденных слова: «Ну, теперь ты доволен?»; тучи, старуха… Но теперь он был в безопасности, и тот прозвучавший намек, предчувствие уже окончательно прояснились, получив просторные формы и направление. Впереди открывалась перспектива, прозрачная и ясная, так что Элиасу легко было обуздать себя, думая о ней… Ему хотелось спать, и он крепко проспал всю ночь, нимало не подозревая о гремевшей повсюду жесточайшей грозе, столь сурово обошедшейся с Люйли Корке. Проснувшись наутро, Элиас тотчас ощутил прежний радостный настрой, установившийся накануне вечером благодаря тайно окрепшему новому предчувствию. Так же было воспринято им и известие о бушевавшей ночью грозе — как ободряющее предзнаменование. Он провел весь день дома и только часов в пять отправился в южную сторону. После тридцати дней и ночей, минувших с Иванова дня, в первый раз должны были встретиться эти двое — знакомые с детства люди…
Элиас идет по тропинке через холмистую гряду и видит Люйли как-то слишком неожиданно, в то время как она стоит и смотрит в другую сторону. Почему же вдруг так омрачается его настроение? Почему он не идет, радостный, к ней навстречу? Знакомые деревья стоят по обе стороны тропинки. Девушка еще не замечает приближающегося молодого человека. Вот она заметила.
Настроение Элиаса совсем падает, что-то шевелится в его душе и хочет удержать, но он идет и подходит совсем близко. И чем тягостнее у него на сердце, тем развязнее и небрежнее становятся его движения, голос, жесты. Все главное уже случилось — прежде чем они успели обменяться словом, но Элиас зачем-то произносит громким голосом:
— Кого я вижу! Добрый вечер!
Люйли не только не подала руки, но еще и устремила на него взгляд, в котором он видел нового, незнакомого человека. Или наоборот — чем-то знакомого…
Разумеется, Элиас тотчас все инстинктивно понял: то есть что вчерашняя таинственная череда событий — просто вздор по сравнению с тем, что предстоит теперь. Но так же инстинктивно он и выбрал линию поведения — словно ничего не понял, словно между ним и Люйли не было и не могло быть никаких сложностей. В его воображении словно сложилась картина, что Люйли — его жена, которая сейчас немножко капризничает, но что он, Элиас, не намерен обращать на это внимание, он будет вести себя просто и естественно, как всегда; что в ее капризах нет никакого особенного значения, покапризничает-покапризничает да никуда не денется…
— Здесь посидим или поднимемся наверх? — спроста Элиас и сам сел.
Люйли не последовала его примеру и стала тихонько спускаться к дому.
— Ты что? — спросил Элиас таким тоном, словно они только вчера мирно расстались, словно он был муж, спрашивавший жену.
Второе «я» Элиаса мучительно корчилось, наблюдая за словами и движениями первого. Люйли в ответ бросила взгляд, подобный указующему персту. Элиас понял, что выбрал неверную тактику, и, поскольку Люйли продолжала спускаться, он поднялся с земли, нагнал ее и пошел с ней рядом. Он сам услышал свой ласковый голос:
— Ты сердишься на что-то?
Еще договаривая, он почувствовал, будто ковырнул кровоточащую рану. Из груди девушки вырвался сдавленный вскрик, и она почти бегом бросилась к дому, оставляя его одного. — Вот так!
Так-то.
А на земле еще виднелись следы недавней грозы: поваленное и разбитое дерево, пригнутый, удрученный цветок. Они хранили серьезный вид, как будто не замечая на себе пристального взгляда Элиаса. Их выражение словно говорило, что он еще слишком молод, чтобы мешаться в дела такого рода.
Вчерашние события, наплывающие тучи, гроза — та, которая бушевала ночью и которую он не видел, — все стало выплывать из небытия, в которое, казалось, кануло навсегда. И та старуха — она словно тоже вернулась и осведомилась, не хочет ли Элиас теперь признать, что она, старуха, еще вчера говорила…
Элиас медленно шел по тропинке на север.
Темнеет лист
Элиас Малкамяки любил теперь Люйли Корке, знакомую ему с детских лет темноглазую девушку, к которой вела лесная разнообразно-пестрая дорога. Дорога тоже стала его близкой знакомой в эти месяцы, особенно в тихие вечера позднего лета с их темнеющей зеленью. А девушка, живущая в конце этой дороги, которую он в первое воскресное летнее утро представлял легкой плясуньей, теперь являлась в его воображении крепкой, полнотелой, куда более тяжелой, чем он сам. Это представление распространялось также и на ее дом, и на все, что было вокруг и покровительствовало ей — они были как бы одним существом. Элиас смотрел на Люйли, ходившую по двору, между службами и домом; ее распахнутый серьезный взгляд всегда был устремлен куда-то вдаль, но никогда не обращался в ту сторону, откуда за ней следили глаза Элиаса.
Душевное состояние Элиаса изменилось в тот вечер, когда он в первый раз после Иванова дна встретил на холме Люйли. Вся перемена произошла вдруг, в одно мгновение, как вдруг замечает человек в конце июля первые приметы осени, хотя полуденное солнце светит жарче прежнего. Зелень листьев гуще, раздобревшая линия горизонта рыхла, и все видимое пространство источает довольство, хотя воздух уже не так чуток ко всякому движению и настроению, как в пору Иванова дня. Пространство не смущается своим довольством, чувствуя в нем силу, оно на «ты» с солнцем, которое временами не прочь удалиться за белесую тучку. Но тучка проливается дождем, а когда после дождя снова является яркое солнце, особенно заметной становится осень. Она заметна в воздухе. Оттуда лето уже ушло. Оно еще живет в лиственном лесу, но из воздуха все его пылко-горячее дыхание ушло.
Когда Элиас возвращался из Корке в тот странный вечер после отбушевавшей грозы, настроение его было покойно и почти весело. Он напевал дорогой, и в его взгляде читалось желание делать мелкие попутные наблюдения над окружающей природой, как это вообще в обыкновении у поживших и умудренных людей. Ему было не к спеху начинать размышлять обо всем происшедшем, оно свершилось, заняло свое особое место и больше не казалось легким, так что не стоило опасаться, что оно как-то рассосется и исчезнет. — Так-так, она там живет и не хочет теперь смотреть в мою сторону, ну и ладно, и хорошо… Но что за отменной красоты явление! Вот это: когда вечернее солнце косо падает на стволы и подсвечивает ветви снизу; я не вижу, откуда проникают сюда лучи, но вот они — и они смеются. Сейчас, должно быть, девять часов. Время захода солнца указано в календаре; да, солнце заходит совсем как тогда… Ага, вот и до Люйли очередь дошла…
Элиас взялся за ворота и заметил, как загорела его рука. Он взглянул на другую руку и, облокотясь о жердину, погрузился в неторопливые размышления. Вблизи ворот деревья со всех сторон окружал папоротник, почти вовсе затоптанный коровами, и в этих зарослях возвышался одинокий колокольчик, близкий родственник того, в чей купол Элиас шутки ради поместил третьего дня маленькое насекомое, снятое с ромашки. Вплотную у тонкого стебелька колокольчика виднелись коровьи следы. Все эти подробности вместе с только что происшедшими событиями обращались к Элиасу через посредство догорающих лучей вечернего солнца — как обращается настоящий мужчина к равному себе, чтобы потом с достоинством погрузиться в молчание.
Однако на фоне этих дворовых наблюдений у Элиаса росло и крепло чувство, что с ним сейчас случилось нечто весьма значительное, значение чего с каждой минутой делалось помимо его воли все яснее, словно давно ожидавшегося великого события. Или словно вдруг на неразрешимый вопрос был найден простой ответ, прежде остававшийся незамеченным. Элиас как будто видел разом многие-многие мгновения прожитой жизни, и эти мгновения со всеми их лицами и настроениями, беспорядочными, зыбкими картинами мельтешили в воздухе, и он сам тоже был среди них — вместе со всем, что он делал и испытал, — и в летнюю ночь с некой Люйли, и в другую ночь с некой Ольгой, и вместе с неким человеком, прозванным Герцогом, который был его другом. Но теперь в центре всего оказывался серьезный взгляд темных глаз, всегда обращенный в другую сторону, но царящий надо всем. От этого взгляда воображение устремилось к его источнику — к человеческой душе, с которой в этот вечер Элиас встретился впервые и в самом существовании которой впервые удостоверился. Да, нынче вечером, только что, но… некий голос из глубины его существа уверенно свидетельствовал, что эта душа была знакома ему еще в давнем непонятном прошлом и теперь только возвращалась из темноты забвения. Ощущение смутного знакомства вносило в нынешнее состояние Элиаса неуловимо-удовлетворенный оттенок. Инстинктивно он смотрел на случившееся как на доброе предзнаменование; он был счастлив, что глаза его открылись и что он так вовремя (как он полагал) нашел эту человеческую душу, которая сама по себе, без него, была бы совершенно одинока в мире.
Духовный взор его весь вечер был прикован к великому происшедшему событию. Он простоял у ворот долго, дождавшись часа, когда вся окружающая природа приготовилась отойти ко сну. В эти дни она в самом деле погружалась в сон после захода солнца и отнюдь не жила в его отсутствие возбужденной ночной жизнью. Ночами она спала, предчувствуя, что скоро наступят долгие лунные вечера с их резкими перепадами между светом и тенью.
И Элиас тоже отправился спать. Он любил Люйли Корке, только ее, и никогда не любил никого другого. Надежным залогом серьезности этой любви было то, что она явилась в результате столь грандиозных событий.
* * *
Это так: любовь всегда серьезна, ибо она есть основа основ всего сущего. И у любви всегда весна, она улыбается ей, но в улыбке ее просвечивает нечто такое, что прячется в глубине и словно бросает вызов безднам ненависти. Весна любви проходит в неиссякаемом вечном упоении, безотчетно ожидая грядущего — своей грозовой поры, которая, утопая в потоках слез, поколеблет незыблемые весенние крепы и расставит по местам смешанные весною составные части любви. Минет грозовая пора — начнется долгое и прочное, веселое и счастливое время, когда может дуть ветер и идти дождь, светить яркое солнце и сгущаться туман, но не будет только одного — тягостного уныния, ибо гроза расчистила небосклон.
Но любовь еще и великое испытание, и его не всегда выдерживают. Бывает, что в грозовую пору один из двоих засыпает и спит непробудным сном — претворяя в жизнь старинную сказку о глупой принцессе. Но разве спящий виноват? Разве не требуется чистая совесть, чтобы спать так крепко и не проснуться во время грозы?
* * *
Летняя листва темнеет и в поздних вечерних сумерках уже кажется черной.
Элиас снова возвращается к дому по дороге через гряду, с предыдущего похода прошло уже три дня. Теперь он настроен серьезно и не наблюдает за окрестностями. Перед его глазами стоит одна-единственная картина — тех мест, откуда он возвращается.
Он пришел рано, в послеполуденные часы, на известную прогалину на холме — место, ставшее ему близко знакомым в это лето. Там он спокойно встал и принялся обозревать двор Корке, по которому время от времени проходили его обитатели. Вечерний воздух был чист и прозрачен, как во все эти дни после прошедшей грозы. Дважды он увидел во дворе Люйли и оба раза чуть слышно кашлянул. На третий раз он свистнул, чувствуя в то же время, что кто-то за его спиной словно норовит заглушить свист. Люйли замерла, взглянула вверх и вошла в дом. Элиас просидел на полянке до сумерек. Он не ждал, что она придет: ему казалось, что она уже была здесь и ушла рассерженная — словно длилось их прошлое свидание… Так до сумерек он и просидел, глядя на вечереющий двор, а потом отправился домой. В глубине души он сознавал, что так может длиться и длиться, что пологий склон вечно будет отделять его от Корке, где девушка по имени Люйли существует отдельно от него и вместе с другими, на которых она смотрит. Вот это-то сознание и настроило Элиаса на серьезный лад, как того, кто наконец замечает, что обиженный им родной человек не догадывается о его раскаянии.
Теперь, вернувшись домой и улегшись в постель, он и не думал о сне, бессонница была ему любезнее всего… Бесконечно длилась все та же минута, когда он увидел смотрящего на него из глаз Люйли другого, нового человека. В темной безлунной ночи это мгновение легко обретало торжественность, в нем не было ничего несогласного или отталкивающего, напротив — оно являлось как величественно-беззвучное исполнение некоего природного закона; мгновение даровалось ему, и, значит, он был его достоин. Смутное ощущение знакомства с этим новым человеком, увиденным в глазах Люйли, начало проясняться в эти часы бодрствования в ночном мраке. Оно пришло из того баснословно далекого времени, когда темноглазая маленькая Люйли робким взглядом следила за играми Элиаса и Вяйнё… А потом они встретились в деревне, и тогда они уже любили друг друга… А потом ночью на холме, ранним летом, когда пел дрозд и в воздухе было разлито поэтическое настроение, заметное только из сегодняшнего далека. Перед Элиасом непрерывной, связной чередой, но словно отстраненно предстали все их с Люйли счастливые встречи, начиная с детства и кончая этими летними ночами. А теперь все вот так. Отчего?
Вопрос впервые был задан со всей серьезностью. И в самом деле: до сего мгновения, рассматривая сложившееся положение, Элиас и не думал брать в расчет события Ивановой ночи. Они никак, никоим образом не могли иметь отношения к рассматриваемой проблеме, они как бы по собственной воле исчезли из сознания — куда? Ну, куда им вздумалось, куда угодно. Ни ему, ни Люйли о них при встрече вспоминать не следовало. Но что за пропасть тогда пролегла между ними при этой встрече? Если причина была в том, то это было непоправимо. То было то. Отношения с Люйли представлялись Элиасу разделившимися на два периода: далекий весенне-летний и нынешний, непонятный, необъяснимый. Теперь между ними начал вырисовываться еще один — короткий, темный, неудобоприятный и неудобоваримый. И тогда в томительном ночном бдении непонятное стало до ужаса простым и объяснимым.
…А может, до нее дошли слухи обо мне с Ольгой? Эта возможность давала робкую, спасительную надежду. Мысль лихорадочно заработала, ища пути, по которым слух мог дойти до ушей Люйли. Путей было сколько угодно, и воображение торопилось снабдить их всевозможным правдоподобием. Если это так, то… после недавней догадки, ударившей громом, было почти сладостно хоть на миг поверить в то, что все дело было в этом. Ибо на это — то есть на его отношения с Ольгой — Элиас мог прямо взглянуть теперь же, в ночном мраке, чувствуя себя в силах ответить за них, сказав: «Да, я такой, не отрицаю». Ольга для него сейчас мало что значила. Она как бы стояла в стороне и ждала, понадобится она ему в этом деле или нет. Ольга пока была мелким и безобиднейшим обстоятельством, а то, что между ними было, казалось в данный момент совершенным пустяком — каким в глазах возлюбленного должна предстать трогательная и милая слабость возлюбленной.
Пылким надеждам, что причина отчуждения в Ольге, Элиас посвятил немало времени. Пока ему снова не явилась громоподобная догадка о значении короткого и темного периода Ивановой ночи и не повергла его в куда большее уныние. Ибо слышала Люйли про Ольгу или не слышала, само событие той ночи остается неизменным. Темным и неудобоваримым — но что его делает таким? И Элиас мысленно перебрал все подробности той ночи — даже в нынешнем мрачном свете заставлявшие его сердце биться сильнее. С каждой следующей подробностью он чувствовал все большее отвращение к себе и все же, вспоминая, понимал, что тогда не мог вести себя иначе. Мрачный свет сгущался, становясь все унылее и безысходнее.
Такой была вторая ночь Элиаса, и такими были пятая, седьмая… Он их не считал, как не считал и не помнил порядок дней. Однажды днем он заметил, что солнце светит мягче, что лето подходит к концу, а трава приобрела тот темный оттенок, который появляется, когда древеснеют стебли и усыхают соцветия. По обочинам цвела черноголовка, а на склонах сверкали золотарник и подмаренник. Бабочка-траурница отдыхала, расправив крылья, на стволе осины, похожая на бархатный лоскуток, отороченный серебром… А вон и Ольга, она идет мимо дома. Элиас у окна, случайно. Ольге кажется странным существование Элиаса, тем более его появление у окна. Она не вдумывается в это, но это ее задевает. Она поднимается к дому и ощущает, что ее с Элиасом все еще связывает какая-то крепкая нить, хотя ни один из них не хочет близости. Какая-то часть Ольгиного существа была бы не прочь пережить заново то событие последних жарких дней, но другая ее часть, как бы старшая, остается равнодушной. Ольга приближается к свадьбе и инстинктивно ждет от свадьбы разрешения всех проблем. А свадьба уже скоро… Все же Ольге приятно воображать, как сейчас в нижнем доме вместе с матерью живет и Элиас.
Дни идут, темнее становится лист. Среда выдается жаркой, слышны голоса сверчков. Весенний котенок уже почти взрослый, мамаше он надоел, и она от него прячется. Но в среду ласточки донельзя раздражили и мать и сына, когда те валялись на травке во дворе.
Уже август, и луна готовится к выходу. Поначалу это узкий серпик, и его путь короток и приземлен. Но с каждым вечером он является все увереннее и понемногу забирает власть. Дни становятся короче, сумерки резче, и луна самодержавно восходит на царство. — Приглашения на свадьбу уже разосланы. До нее остается неделя… пять дней… три дня. Элиас не ходил по дороге на юг с тех пор, как получил приглашение.
За три дня до свадьбы наступает полнолуние. Вечера крепки, как и положено вечерам в конце лета. На закате облака расчерчиваются рдеющими полосами, словно их рисуют на западном небосклоне голоса органных труб, чтобы запечатлеть в мазке звук. Проходит миг — и полос больше нет. Но вот там, между обширными полями, в чисто раскорчеванном осиннике, среди лежащих стволов, горит последний отблеск вечерней зари, одинокое рыжеватое пятнышко, похожее на дальний огонек костра, а может, на отстоявшийся и затвердевший яркий сгусток теплого дня или всего жаркого лета… Ночное небо подбирается, наконец, и к нему. И пока вы смотрели в ту сторону, за вашей спиной поднялась луна.
Луна полна и правит своим царством. Она правит и сидящим в качалке молодым человеком. Этот молодой человек много дней и недель ходит по одной дороге, по той же, по которой ходил в первый вечер после грозы и в четвертый… Их набралось уже много, таких вечеров, а до свадьбы в Малкамяки остается три дня. Эти путешествия стали для молодого человека жизненно важным делом, и с каждым разом он отчетливее ощущал, что приближается к некой конечной цели и развязке; иногда ему казалось, что надвигающаяся свадьба и есть развязка, иногда — что свадьба здесь ни при чем, она только второстепенная подробность. И вот стоит полная луна. Нынче вечером Элиас собрался в путь позже обычного. Это обстоятельство придает его походу особый взволнованно-напряженный оттенок, словно на этот раз его ожидает что-то новое.
Свет недавно взошедшей луны еще слабый и красноватый — она еще не поднялась высоко. Но она поднимается все выше и бледнеет, а молодой человек движется тем временем вперед, взбирается вверх и спускается вниз по разнообразной, причудливо-пестрой дороге. Когда он достигает прогалины над усадьбой, двор уже залит таким ярким светом, что он различает оправленную в железо замочную скважину в двери амбара.
Все в его душе приглушено лунным светом, покойно и мягко. Пусть он сделал много дурного — вокруг все равно все дышит добром, и человеческие страдания во всем мире очищаются и становятся драгоценны. — Я ведь могу подойти к самой двери, встать возле ее сна, тайно приобщиться к дорогому воздуху двора… Она там спит… я чувствую, что наши души приближаются друг к другу и понимают… ее взгляд впервые смотрит на меня. Что-то должно случиться!
Луна подымается еще выше и еще бледнеет. Молодой человек бесшумно идет по двору. В доме снят люди, но сама изба как будто не спит. Она подобна безмолвному и бесстрастному существу, и она смотрит на робкого гостя. Тот подходит к двери амбара, и изба следит за ним неподвижным взглядом. И луна тоже следит, но во взглядах обеих нет ни искорки интереса. Молодой человек долго стоит под дверью, расслабленно, ничего не предпринимая. Потом он проводит пальцем по железной оправе замка, не стремясь войти, просто поглаживая. Вокруг уже настоящая ночь. Двор, созданный трудами многих поколений, живет своей жизнью, он словно повествует луне о чем-то пространном и давно минувшем. Стоящий под дверью молодой человек не привлекает его внимания.
Но нет, внимание привлечено, и весь ночной лунный домашний строй улетучивается со двора. Потому что приоткрывается дверь амбара, и наружу высовывается голова Вяйнё. Звучат бодрые, невыразимо-идиотические слова взаимных приветствий.
— А Люйли теперь спит не здесь?
— Нет, в горнице.
— Вот как. У меня было небольшое дельце к ней, но я, конечно, могу зайти днем.
* * *
Спустя сутки.
О, как сладостно-мучительно чуть притрагиваться к подробности, которая мнится решающей и убийственной!
Вечер облачен, и, отправляясь спать, Элиас обдумывает план действий. Сначала он размышляет о предстоящей послезавтра свадьбе, потом о других делах. Они предельно ясны. На следующий день он наметил поход в Корке.
Августовский дождливый день
Утром зарядил дождь. Проснувшись, Элиас обозрел все окна и в каждом квадрате стекла увидел одни и те же мерно падающие струи воды. В первые минуты он не вспомнил о вчерашнем ночном бдении и о принятом решении, потом воспоминание промелькнуло в его голове, но быстро исчезло, и осталось одно тягучее дождливое настроение. В настроении была какая-то основательность и прозрачность: дождь был теперь водой, и только, не серебристой паутиной, как в июне, когда солнце часто сверкало в дождевых нитях. Нынешний дождь мог вымочить, но никак не взбодрить.
— Вот день. Сегодняшний, например. Или другие… Они все разные и все называются одним словом — день.
Молодой человек подошел к окну и стал разглядывать знакомый пейзаж. И тот словно тоже смотрел на Элиаса из дождевой пелены и говорил, что чувствует одинаково с Элиасом: что нынешний летний рассказ стихает, подвигаясь к финальным главам, а вернее сказать — уже завершился в Иванову ночь… Неважно, что приключится с его действующими лицами после завершения рассказа, в этом малозначащем продолжении может таиться и смерть. Действующее лицо замирает, ожидая конца этого продолжения. И все же где-то вдали, на краю видимости, нечаянно светлеет, и сладостный обман чувств овладевает человеком, словно в его духовном пространстве вдруг зазвучали приглушенными голосами тысячи старинных скрипок. Откинув голову, смотрит он в просвет между облаками, бледный, и силится удержать, пропеть мелодию вслед за невидимым хором. Такое происходит с одним из детей человеческих в сокровенной тайне…
Элиас смотрел на дождь, лениво пробуя угадать, чем ему придется заняться в ближайшее время и как сложится его жизнь. Он предвидел, что скоро принужден будет совершить нечто особенное, к чему его подталкивает изнутри стесненное чувство. Человек, поступавший во всех отношениях дурно, притом не случайно, не вдруг, но так, что беда неуклонно и неотвратимо скапливалась и все плотнее окружала его, — такой человек может в конце концов найти удовольствие в самом этом бедственном положении. И в один прекрасный день он может, вооружившись насмешливой ухмылкой и кивая головой, начать любоваться тем, как великолепно устроились злоключения, согласуясь со всеми мельчайшими и ничтожными обстоятельствами. Зрелище просто радует его глаз и, разумеется, нисколько не тревожит. Он говорит вполголоса и с тою же насмешливою улыбкой. — Ну, и каково значенье всего этого, уважаемая госпожа Судьба, или господин Рок, или, быть может, какой-то другой уважаемый господин? Я не совсем понимаю, каким образом уважаемые господа предполагают руководить мной. Но на тот случай, если они все же предполагают, позволю заметить, что сие есть наивнейшее заблуждение. У меня, видите ли, невозможно ничего отнять, потому что мне не принадлежит и не будет принадлежать никакой собственности, обладающей для меня хоть малейшей ценностью. Говорят, что в мире нет ничего абсолютного, однако я знаю одну абсолютную вещь: все, что мне принадлежит, не имеет для меня абсолютно никакой цены. Так что если уважаемые господа все же вознамерятся лишить меня чего-то, что, по их мнению, мне дорого, то это произведет на меня не больше впечатления, чем если они обрушат все громы небесные на вон ту валяющуюся соломинку и заставят ее в один миг пройти через все три состояния материального тела. Мое так называемое счастье и моя, увы, весьма непритязательная личность — вот все мои богатства, которыми могут располагать досточтимые господин Рок и госпожа Судьба. И еще позвольте заметить: для забавы я могу прогуляться к соседу и сказать ему, что он самая мерзкая тварь на земле. И когда я буду произносить эти слова, мой пульс не станет биться чаще, ни на единый миг. И это, заметьте, независимо от того, отвесит ли он мне оплеуху или просто осведомится, «есть ли у меня к нему дело»…
Вот каков ожесточенный несчастьями человек! Он выходит из леса на опушку и начинает бесстрастно рассуждать о том, что видит. — Вон то называют красивым потому-то и потому-то. Но очарование всех этих красот есть просто ребяческий самообман. Всякий сам придумывает их, самой по себе красоты не существует; следовательно, нельзя и определить, что красиво, не составив прежде суждение, что такое красота вообще.
Так прогуливается ожесточенный несчастьями человек, рассуждая сам с собой; потом возвращается, насвистывая, к дому, довольный, ужинает, укладывается отдыхать и прекрасно засыпает, думая: «Вот и славно, порядочная у меня, однако, постель…»
А назавтра все начинается сызнова, и наконец несчастливцу не остается ничего иного, как отправиться прямиком к главному несчастью и, взяв его за бока, прекратить безобразия. Совершенно так же, как непослушного сорванца, чьи надоедливые шалости выходят из всяких границ дозволенного, хватают за ухо, как бы невзначай, не вставая с места, улыбаясь и не обращая внимания на руку, отменно крепко сжимающую ухо, которое после этой процедуры заметно распухает. Восьмилетний страстотерпец на долгое время забывает, как шалить.
Мимоходом заметим, что условия для шалостей и непослушания взрослый все же создает ребенку сам.
Элиас беседовал с матерью. Это бывало редко, и только в исключительных случаях, как теперь, обе стороны придерживались размеренно-спокойного тона; царило некое особое расположение духа. Каждый из двоих старался воспользоваться кажущейся незначительностью разговора, чтобы в несколько грубоватой форме поделиться кое-чем друг с другом. Начал Элиас:
— Наверху в доме с этой свадьбой кутерьма.
— М-м, — ответила старушка.
Пауза.
— А ты пойдешь туда? — спросила она.
— М-м, не знаю.
Пауза, но более продолжительная.
— У меня с невестой отношения не очень-то, — сказал Элиас.
— Чтой-то ты с невестами в плохих отношениях, говорят, у тебя самого невеста есть.
— Вот как, и у меня есть?
— Откуда мне знать, говорят, есть — дочь Корке.
— Ну, и как вам это нравится?
— Мне-то что, мне все едино. Человек сам себе выбирает, на ком жениться, плохо ли, хорошо ли.
— Вот и я так думаю.
Все, разговор окончен.
Элиас вышел на улицу с ощущением странной пустоты в голове. Его сознание в самом деле было притуплено все тем же неразрешенным вопросом, но мысль отказывалась снова подступаться к нему. Он чувствовал, что ходит и глядит по сторонам с таким видом, будто вокруг так же ходят и озираются толпы других, незнакомых людей. Он оглядывал окрестности, как пресыщенный путешественник, попавший в новые места и одинокий в толпе. Куда пойти, как провести день? — Что ж, займемся делом, как бы вдруг решил он и двинулся со двора по дороге на юг.
Дождь перестал, но тучи свисали с неба темно-сизыми клочьями. Южная сторона, обойденная солнцем, возвышалась, как крутой обрыв, и имела обиженное и заплаканное выражение. Восток и север совершенно расчистились и словно отодвинулись, и их настроение совпадало с настроением, царившим над Малкамяки — если смотреть сверху, оно было легкомысленным и бодрым, как у человека, который, едва избегнув опасности, забывает, как в трудную минуту он обращался к Богу… Элиас смотрел на небо и видел его таким, каким прежде не видел никогда. Весь обозреваемый высокий простор был разнообразно-изменчив, как само душевное состояние смотрящего на него человека. Но и снаружи, и внутри было что-то, что знало друг друга издавна, еще прежде встречалось лицом к лицу в некие важные минуты жизни. И поэтому клок тучи мог, напомнив о каком-то мгновении непонятного прошлого, значительно повлиять на нынешнее новое настроение… За спиной Элиаса оставалась высокая усадьба Малкамяки, где дочь новых хозяев Ольга завтра выходила замуж, а впереди, там, где свисали свинцовые тучи, лежало Корке. Притупленное сознание молодого человека покорилось одному чувству, понуждавшему его совершить некий поступок — напрасный, но неизбежный. Выйдя из дома, он как бы случайно наткнулся на мысль о нем и сказал: «Что ж, займемся делом», и вот он шел делать это дело. И пока он шел, небо на его глазах прояснялось. Свинцовая туча вдруг смилостивилась и стала отползать. Солнце было уже недалеко.
Поначалу в душевном настрое путника никаких изменений не происходило. Так он вошел в ельник, пахнущий мокрым мхом, где в любое время года царила одинаковая, ничем не нарушаемая тишина. Его неестественное спокойствие начало расшатываться, едва он вступил в эту благородную тишину и ощутил ее не враждебное, но сочувственное к себе отношение. Ему представлялось, что он подходит к какой-то решающей черте, и он присел на камень у тропинки. Почти мгновенно вся его тревога растворилась в лесном дыхании, как растворяется одна капля отравы в океане. Вся эта равнодушная повадка пресыщенного путешественника исчезла, не оставив следа. Он был один в лесу, он сидел на камне, драгоценные солнечные лучи пробивались сквозь хвою, и в его духовном пространстве звучали приглушенные голоса тысяч старинных скрипок. Словно после будничного дня наступил праздничный вечер. — Ах да, верно, ведь завтра свадьба, та молодая женщина но имени Ольга — она завтра венчается.
— Но вот небо — оно вечно. Оно не кончается, как лето, оно сверкает и осенью и становится благороднее… Оно движется между облаками и плачет, когда слишком долго раздает свое счастье. Небесное счастье тоже вечно… и небо вечно, оно позволяет узнать себя только одному из органов чувств человека, самому благородному… не то что цветы, которые всем дают работу. Но небо ведь ближе всех к солнцу. Теперь я вижу его подлинным.
Эти мысли, только не облеченные в слова, проносились в голове молодого человека. Того самого, который весной перед приездом сюда пел и пил пиво с приятелем в доме на окраине парка, недалеко от моря. Если окинуть взглядом его фигуру сейчас, когда он сидит на камне, нельзя будет не признать, что это один и тот же человек. И небо сейчас не гневалось на него, после дождя оно стало ясным и высоким. Молодой человек смотрел на него смиренно, и небо как бы знало это, но свой взгляд обращало не на него, а куда-то вдаль, на иные берега.
И тогда воображением молодого человека завладел нежный и сладостный обман. — Люйли пролила много слез, она непременно увидит в моем взгляде меня прежнего. Я приду к ней, и она улыбнется, стыдясь всех этих недавних дней… сегодня все разъяснится, и мы объявим всем, и они тоже начнут улыбаться, как она… Уже совсем осень, уборка урожая… Все будет хорошо… дорогая моя, дорогая… ты все поймешь.
Он встал и двинулся в путь. Десятки голосов внутри него кричали, чтобы он повернул назад. Содеянное однажды представало убийственным, непоправимым, не достойным прощения, девушка по имени Люйли была недосягаема, как небо. — Вернись, вернись! Уезжай отсюда один! — Не могу, не могу. Я должен это сделать, я должен.
Он знал, что неотвратимо приближается к дому, чужому ему, как никогда. Голоса внутри кричали, что своей попыткой исправить он безвозвратно все погубит, положит конец всему, он знал, что это так и будет, но так быть должно. Он не обдумывал, что скажет и сделает. Он спускался к дому. Пахло скошенной травой. Свинцовая тучка нависала теперь над озером, одаривая его гладь своим цветом и настроением. Окна избы казались иссиня-черными. Тишина, вторая половина дня. Отступать поздно.
Дверь открывается, дверь закрывается — подсудимого вводят в зал суда.
Воздух дома, родные Люйли, она сама возле очага с опущенными глазами.
Пара тоскливых замечаний о погоде. Отец встает и смотрит в окно на горизонт. Мать с неприступным видом сидит молча. Сайма придвинулась ближе к Мартте. Люйли поправляет огонь.
— Я должен поговорить с тобой, Люйли, наедине, может, ты выйдешь в горницу? Или там Вяйнё? (Зачем он это спросил?)
Но Люйли словно не слышит. Безмолвие так огромно и подавляюще, что даже успокаивает его, словно он исполняет нечто не только необходимо-нужное, но вполне согласное с его волей и желанием.
— Иди, раз Элиас велит, — говорит отец неожиданно суровым тоном.
Девушка подняла взгляд на молодого человека, ее темные глаза загорелись влажным угрожающим блеском. Он встал. Два человеческих существа стояли друг против друга, и ни в одном из них не шевельнулось ничего, что напомнило бы о тех двоих, встречавшихся здесь десять недель назад и носивших те же самые имена. А может быть, у этих двоих и не было никаких имен. Они были просто детьми человеческими.
Девушка ждала, чтобы молодой человек двинулся первым. И он вышел — в сени, а оттуда в горницу, заметил знакомые башмаки возле печки, сел на кровать. Скоро все должно было закончиться. Девушка осталась стоять у двери, словно собираясь тотчас вернуться в избу. Цвет и настроение свинцовой тучи застилали глаза.
— Ты не сядешь? — спросил Элиас с чужой улыбкой, кладя ладонь на кровать рядом с собой и чувствуя, что его слова и жест внушают ей отвращение.
Она не ответила и не подняла взгляда, устремленного на его ботинки.
— Ты больше не хочешь понимать меня? — спросил он и тут же подумал: «Вот как я заговорил!»
Девушка молча ждала, что будет дальше. Он не сразу продолжил, и она собралась уходить.
— Подожди, Люйли, еще один вопрос. Ты не…
— Что? — она впервые разжала губы; глаза ее полыхнули огнем.
— …не беременна?
— Не-а, — почти благодушно ответил голос.
Сверкнули зубы, и брошенный через плечо взгляд смерил молодого человека от ботинок до макушки и обратно. Взгляд был похож на смеющуюся молнию, прорезавшую свинцовую тучу. Она повернулась гибким движением, словно невольно предназначенным явить все прелестные линии человеческого тела — этого чуда природы, — и исчезла.
Молодой человек остался один. Он сидел на кровати и переводил взгляд с обитой гвоздями двери на кирпичную кладку печки, с нее на хранившие невинный вид башмаки… Так он сидел с минуту, ни о чем особенно не думая. В сенях послышались чьи-то шаги, кто-то вышел из дома. Молодой человек поднялся и вышел следом. На дворе стоял отец, как будто разглядывая дождевую тучу над озером. Вокруг были осины, баня, амбар…
— Ну что, Элиас, не сладилось дело? — сказал отец, не поворачивая головы.
Лицо молодого человека побагровело, и, улыбаясь бессмысленной улыбкой, он проговорил:
— Не сладилось.
Отец неожиданно резко повернулся, словно собираясь ударить, и заметил:
— И хорошо, так-то лучше, когда каждый остается при своем.
Он не ударил, просто потянулся за обручем, висевшим на стене, и стал его гнуть, выправляя.
— Может быть… прощайте тогда, — сказал молодой человек.
Тот не ответил, и видно было, что это не потребовало от него усилий.
Вступив в лес, Элиас почувствовал, что гора свалилась у него с плеч, он тихонько замурлыкал и с удовольствием вдохнул уныло-свежий воздух, в котором уже угадывалось приближение вечера. Особенно приятно было вспоминать о словах матери. Он взглянул отстраненно на любовь молодого парня из Малкамяки к девушке из Корке, и она выглядела нисколько не смешной. Напротив, была очень мила и внушала симпатию. Он взглянул на саму девушку, на то, какой она была в это лето. Спору нет, Люйли была очень ничего…
— Эх, а завтра свадьба. Достойное завершение этого лета! И Ольга будет красоваться у всех на виду. Зато изо всех них я единственный, кто был с нею…
Неподалеку от дома Элиасу повстречался сам хозяин и спросил, показывая белые зубы:
— Ну, как насчет участка для строительства?
И Элиас ответил веселым, дурашливым тоном:
— Беда, ничего не получается. Уж как я тут за одной ухлестывал, а чертова девка дала мне от ворот поворот.
Блестящие зубы скрылись в черной бороде, у хозяина был вид человека, которому самым бесстыдным образом показали язык. Слова продолжали разговор, начатый в канун Иванова дня, но иначе, по-другому, они сошлись в рукопашной схватке из-за какой-то для обоих неясной, давнишней причины… У хозяина уже была заготовлена фраза: «Ждем на свадьбу!» — но он не произнес ее…
Нетерпеливое ожидание свадьбы уже чувствовалось в воздухе. Но Элиас понимал, что пока не осознает значения этого события. Стоило посмотреть, как это случится.
Свадьба
У Ольги были черные волосы и брови, серые глаза и статное крепкое тело. Особенно пышна она была ниже пояса, даже, пожалуй, чрезмерно, так что именно эта область обычно привлекала дерзкие взоры пылких молодых людей. Щиколотки и ступни, напротив, были очень узки, и благодаря этому плотное тело казалось гораздо легче. А выражение затененных глаз словно безмятежно вопрошало: «Ну что, разве мое тело не красиво, не привлекательно?» И когда эти глаза перехватывали дерзкие взгляды пылких молодых людей, они не выказывали осуждения, но как бы узнавали знакомое явление и словно искоса ловили в зеркале собственное отражение. Пальцы Ольги были длинные и тонкие и как нельзя лучше подходили к глазам.
Сия девица была единственной дочерью нынешних хозяев Малкамяки, и эта ее свадьба была назначена на некий августовский день, и тогда же она и состоялась. День с утра был ясным, как и положено. Ольга проснулась в своей постели, но вставать не спешила, потому что вместе с пробуждением в сознание ворвалась мысль о сегодняшнем венчании. — Сегодня это произойдет, вон уже и солнце встало. И неумолимо поднимается все выше… В этом ощущении неумолимости есть что-то ужасное, отталкивающее, от чего по всему телу разливается жаркая волна и приливает к голове. Хочется вскочить и бежать куда-то, что-то немедленно делать, каким-нибудь способом отсрочить все это, сбежать от Бруниуса, чтобы никогда больше его не видеть, забраться куда-нибудь подальше и там жить себе поживать на воле… Бруниус приезжает уже сегодня… вдруг его что-то убьет в дороге — разорвет на части… — На некоторое время эта фантазия настолько прельстила воображение Ольги, что она начала сживаться с самой возможностью такого небывалого везения, величайшего счастливого случая. Она воображала, как в траурном платье появится на похоронах Бруниуса и толпы людей будут смотреть на нее и отметят ее пышные формы, вопиющим образом подчеркнутые скорбным одеянием. И она будет чувствовать еще большее удовлетворение при мысли, что она ничего не растратила.
Растраченность… Элиас…
Картина счастливых похорон непосредственно сменилась образом Элиаса. Ею овладело удивительное, небывалое желание кинуться к нему за защитой и уверенность, что он сможет ее защитить. — В нем есть сила, и он единственный, кто видел меня всю — в тот знойный день, и у него поэтому есть власть надо мной. Я уеду вместе с ним, мы подходим друг другу… — Она беспрестанно ворочалась, будто инстинктивно пытаясь оттолкнуть реальность наступившего дня, а ее взбудораженное воображение цеплялось за свои необузданные фантазии. — Вот так; закрыть глаза, так-так, и вместе с Элиасом… О-о, как бежит время, мне придется скоро вставать… приедет Бруниус… венчаться… Я не хочу, я хочу остаться здесь, с закрытыми глазами… — Ольга сжала в объятиях пустоту, напряглась всем телом, и воображение одним мазком нарисовало перед ней все те дерзкие взгляды молодых людей. С зажмуренными глазами, лежа неподвижно, она уже чувствовала, что под защитой всех этих бесчисленных взглядов уносится туда, откуда не будут видны здешние свадебные приготовления. И она парит, парит, как на крыльях… — Я, кажется, засыпаю… — Но едва она заметила, что ее смаривает сон, как тут же очнулась, разбуженная своим наблюдением. И вот в неполных двадцать шесть лет она в последний раз встала со своей девической постели. И в эту минуту второго пробуждения все необузданные фантазии окончательно слетели с нее, и навсегда забылось то летнее переживание, которое только что так жаждала вновь испытать душа, — все это словно осталось в покинутой Ольгой постели. А сама Ольга деловито приступила к лежащему перед ней дню. Только годы спустя в снах она иногда оказывалась в таком положении и настроении, которые были чем-то томительно знакомы ей, но память больше никогда, ни единой тенью не напоминала ей об этих минутах.
До трех часов еще много времени — сейчас девять. Это прекраснейшее утро конца лета, оно течет неторопливо, но многое успевает. К полудню листья берез сверкают на солнце, а тени от качающихся веток скользят вверх и вниз по белым стволам. Листья ольхи оборачиваются к облакам с сияющими кромками тыльной серой стороной, и по всему лиственному склону вверх зябкой дрожью пробегает ветер. Среди яблонь проскальзывает серая пичужка, не ведающая ни о каких свадьбах, а рядом на горячем припеке греется белокрылая бабочка. Другая бабочка вспыхивает чуть поодаль и улетает прочь. Дневное сияние ласково и приятно, оно для тех, кто сетует на быстротечность лета. Уже полдень, но невесту пока видеть не положено никому, кроме тех, кто ее обряжает. Кое-кто из соседей на свадьбу не приглашен, и для них день кажется невозможно долгим. Они дожидаются вечерних сумерек, свадебных увеселений, законного времени всех зевак… Два часа дня, дальние гости уже приехали, гуляют в саду под деревьями, и их нарядный вид окончательно изгоняет будничный дух из окрестных пределов. Кто-то неприглашенный, в простом платье, проходит мимо дома, являя собой нечто столь неуместное и неприличное, что свадебным гостям неловко замечать его, хотя все с ним знакомы. Парадно одетые молодые люди щиплют в ожидании кусты смородины и перебрасываются шутками, в которых слышны томительность и принужденность. Солнце припекает черные костюмы. Поодаль возвышается дом, и в нем наряжают невесту. Элиас среди других гостей, занятых смородиной. Молодые люди вежливы друг с другом и натянуто-веселы.
Начинать еще не время, и с этим ничего не поделаешь. День на удивление хорош, но это второстепенная подробность, столь же неуместная, как прохожий в будничном платье. Никому не придет в голову обращать сейчас на такое внимание. День… с ним связано множество личных событий, происшедших за лето с большинством гостей, и с невестой, и с другими людьми, которых здесь нет. Но те события и те дни не идут сейчас к делу. Ночь все же ближе для присутствующих на свадьбе: лунный сумрак словно нарочно располагает к прогулкам вдвоем или в одиночестве. И все знают, что там, в этой ночи, можно встретить сказочного добродушного гнома, который не желает зла дому, где празднуют свадьбу…
Гости не особенно часто вспоминают о невесте, ее присутствие признается само собой, невеста единственна, как этот праздник. Ее одевают в глубине дома, в самой отдаленной угловой комнате; она уже готова. В зале и в других помещениях шепчутся гости. А в самой отдаленной угловой комнате невеста смотрится в зеркало, и на ее голове фата. Она искоса взглядывает на лежащую за окном долину и видит забытый, истомленный день, печалящийся в ярком солнечном свете, и в ее мозгу в учащенном темпе и в причудливых сочетаниях мелькают давнее прошлое, нынешнее лето и сиюминутное настоящее — смешанные и соединенные в едином взгляде, подаренном ей окрестным пространством. Из залы доносится скрипка. Входит отец — за ней. Невеста делает первые шаги по направлению к зале, и в ее воображении возникает лицо жениха и звучит имя — Бруниус… Бруниус… она как будто только теперь осознает все происходящее. — Бруниус, это тот человек, который был тогда на танцевальном вечере, который ухаживал за ней, писал письма, был здесь в Иванов день, а теперь ждет где-то там, куда ведет меня отец. Бруниус — это не имя мужчины, это название чего-то отвлеченного, и вот рука отца, на которую я опираюсь, она тоже принадлежит этому отвлеченному, названному Бруниусом. Что нам с ним делать на глазах у всех этих людей, специально нарядившихся и прибывших сюда смотреть на нас? Это и есть свадьба? Зачем мне идти туда? А отец, он весь как эта вкрадчивая и неуступчивая злодейская рука. Вот уже веет воздухом залы, и там все…
По пути от гардеробной к зале Ольга вполне успела почувствовать всю таинственность и капризность силы, подчинившей себе и ее, и отца, и всех гостей. Отец вел ее, она шла, а взгляды гостей впитывали увиденное и подталкивали ее. Ничего подобного она не представляла, когда начинала привязывать к себе Бруниуса. Теперь она чувствовала, что совершенно лишена собственной воли. В то мгновение, когда отец передал ее Бруниусу, отец стал ей гадок. Бруниус был не виноват, он был совершенно ни при чем. Вступая на свадебный ковер, она еще раз вспомнила об утренних фантазиях. Они словно вылетели из ее сознания, отразились от внешнего мира и осели в мозгу знанием, что Элиас здесь, где-то за ее спиной. И в это мгновение она почувствовала себя его, Элиаса, невестой — навечно, навсегда, опьяненной от счастья и невинной — как и он. Это ощущение чуточку кружило ей голову и приподымало все время, пока шло венчание.
Пастор произносит длинную деловитую проповедь.
Как редко, в сущности, мы задумываемся о многообразии жизни и пытаемся воссоздать черты ее внешнего облика. Сокровенное ее существо нам постичь не дано, так же как бесконечность. Но в своей жизни мы сталкиваемся с непрерывной чередой событий, в чьей однообразной последовательности скрыта — надо уметь увидеть ее! — возвышенная поэтичность, сначала подавляющая, но затем дающая силу и бодрость. Она подавляет, когда мы обнаруживаем себя в бескрайних дебрях, где один закоулок сменяется другим и нет конца лабиринту. Вот стоит дом, в котором в самое лучшее время года справляют свадьбу дочери. Тут разом три обстоятельства, три закоулка — дом, дочь и свадьба. Дом старинный, Бог знает когда и кем построенный. Долгое время всем заправлял в нем другой хозяин, у которого были жена и сын. Сын был единственным ребенком и поэтому в детстве пережил и испытал много всякого. Он рос и жил, а дом оставался стоять, верный своему месту. Сын возвращался сюда с разными настроениями, и домашний дух охранял многие его пылкие грезы… Впрочем, слова слишком медлительны, чтобы передать все это. Нужно вдруг управиться с цепочками событий и слов в одно мимолетное мгновение — когда невеста, покинув самую отдаленную угловую комнату, вступает в залу, чтобы соединиться с Бруниусом — тем самым, который в канун Ивановой ночи сказал, что он не привык к финской бане… А нам надо еще вспомнить трех молодых людей, которые в один из последних весенних дней привольно расположились в парке близ моря. И оттуда — мигом сюда, где мы только что наблюдали за внутренними душевными движениями невесты, чтобы теперь отсюда бросить взгляд на поэтическую последовательность тех событий… В доме справляют сейчас свадьбу дочери. Дочь — молодая женщина — один из загадочных закоулков, круглящихся в дебрях жизни, в ее лабиринте. Женщина является в этот мир, не ведая ни о чем, ее производят сюда и взращивают. И она растет и впитывает невидимыми корнями бытие из всеобщей мировой почвы, подобно растению, которое впитывает соки земли и расцвечивается яркими красками под воздействием солнечного света. Как развитие женщины и расцвечивание ее яркими красками соотносится с солнечным светом, сказать наверное не берусь. Но пресущая мировая почва столь же разнообразно изменчива, сколь и почва земная, а вместе с ними разнообразно изменяются цветы, растущие там и здесь. В каких-то краях не растут некоторые виды цветов. И это порой приводит к недостатку соответствующих видов насекомых… В общем и целом, женщины суть те же растения, разнообразные по видам и оттенкам цветов, Одни в пору цветения скромны и неярки, а позже и вовсе бесцветны, но зато плодовиты — как рожь… да, точь-в-точь рожь! Другие ослепительно белы, как облако яблоневого цвета — отделенный от других, одинокий цветок яблони выглядит каким-то беспомощным, но плоды их прекрасны и румяны. (В самом маленьком домишке в Малкамяки еще с Иванова дня живет такая пара — белоснежный цветок и румяный плод — некая лекарская вдова с дочерью, о которых упомянуть прежде было недосуг, да и к слову не приходилось.) Далее: есть крупные сине-розовые, или лиловые, цветы, редкие и растущие порознь. Расцветая, они тревожат наше воображение, но нам не дано узнать, зачем они существуют в этом мире. Нет у нас и уверенности, что они совершенно безвредны. Их плодоношение всегда скрыто от глаз и происходит позже, в гуще чужого разнотравья. И наконец: бархатистые лесные цветы, одинокие и нежно-хрупкие… несомненно, многие вспомнят о них, если хорошенько пороются в памяти… Да, женщины, эти загадочные существа, поистине разнообразны, и, прилежно наблюдая их изменчивые формы, наши глаза приучаются видеть разнообразие бескрайних дебрей жизни и их поэтичность. Возьмем, к примеру, женщину, выходящую замуж описанным выше образом, со всеми предваряющими это событие обстоятельствами, тоже описанными выше. Сколько толкуют о родительском принуждении, подтверждая это рвущими душу историями. Сколько ходит рассказов о любви с младенческих лет и буквально до гроба — о гибели от этой несчастной любви! Да полно, неужели то и другое существует в чистом виде? Впору усомниться. Мы были свидетелями Ольгиных размышлений о том, что брак с Бруниусом как будто обещает ей жизнь как за каменной стеной, надежную защиту от всех невзгод, угрожающих женщине в этом мире. Однако подобные основательные причины были забыты Ольгой в самый день помолвки, и что-то иное подвигало ее по летней дороге вниз, а затем привело к нынешней церемонии венчания. И теперь, когда она взглядывает вперед и вспоминает предыдущий ход ее жизни, и этих летних месяцев тоже, она понимает, что ее нынешнее положение — именно то, в котором ей и следовало оказаться; что необычная атмосфера, окутывавшая ее во все время рассказа, мерцая, предваряла грядущее необычное положение. Так мы замечаем упорядоченность лабиринта, но не видим ни начала, ни конца в его стройном порядке. Ольга находится сейчас в точке соединения всех сил, выпущенных ею забавы ради — словно нарочно для того, чтобы нарушить этот порядок. Мгновение как нельзя более располагает к какому-то значительному, небывалому поступку, который окажет на личность человека, на весь его внутренний мир влияние куда большее, чем десяток лет размеренной жизни, и который в самом деле способен отвоевать известное пространство среди бескрайних дебрей жизни. Ольга инстинктивно угадывала эту предложенную ей возможность совершить некий неназванный значительный поступок. Но она стояла на месте и словно ждала, что последует дальше, следом за ее бездействием. И в своем ожидании она как будто опиралась на одно небольшое обстоятельство — на присутствие Элиаса. Так мгновение проходило, и второго такого представиться уже не могло, и лабиринт с закоулками оставался нетронутым.
Пастор закончил свою проповедь.
Напряжение спадает и развеивается полонезом. Как видна еще утренняя ясность в воздухе! Звучит полонез — подобный свежей животворной влаге или потоку, подымающему ввысь и уносящему в покачивающих волнах от недавнего стылого существования. Снаружи растекается изысканно-золотой предвечерний свет и достигает залы. Он относит мерный ритм полонеза к самым крайним пределам видимого пространства. В саду пахнет резеда. Музыка вливается в уши людей, струится по жилам и колдовски вытесняет все прожитое, пережитое, так что в конце концов остается один лишь чистый человеческий дух. Свадебные торжества начались.
За полонезом наступило время первого вальса, в первых сумерках, в угасающем свете дня. Волны вальса подобны сонму парящих в воздухе духов. Возле каждой пары кружится такой дух и весь танец нашептывает что-то, побуждая к вольным жестам и легкомыслию. Он шепчет каждому человеку особо, и тот думает, что это только их тайна. Кто-то из танцующих ближе привлекает свою даму, и мелодия вальса дышит в их лица и проникает между их телами, и все трое касаются друг друга. Вся зала покачивается и плывет, а волны музыки сливаются с новыми жестами и ветреными мыслями. Еще не зажгли огней, и, пользуясь этим, молодой человек устремляет пристальный взгляд на фигуру одной из танцующих девушек. Та чувствует это и, проплывая мимо, встречается глазами с молодым человеком. Ободренный, он продолжает свое занятие, пока не зажигают огни, и тогда начинается обмен взглядами, и в глазах каждого блестит огонек насмешки. На этой свадьбе они не сумеют продвинуться дальше, хотя девушка потратила столько сил на свой туалет и связывала с ним самые восхитительные и безумные надежды, и он точно очень идет ей… Было грустно видеть, как он ей идет…
Вальс струится тур за туром, и невозможно угадать, когда он смолкнет. Огни горят уже давно, за окнами ночь. Венчание состоялось в три часа пополудни, и еще прежде, чуть не в полдень, съехались первые гости, а теперь уж и огни давно горят. Вон те и те гости были первыми. Что, кажется, свадьба проходит? В паузах между танцами в воздухе не ощущается дрожи нетерпения, а одна из самых усердных и лучших танцорок могла бы, пожалуй, задержаться где-то вдали от освещенной залы на все время следующего вальса. Но свадьба идет и продолжается, хотя на небо взошла луна.
О, луна! К тому же почти полная, и когда первые поклонники выходят полюбоваться ею, ее край как раз касается самой высокой точки над Малкамяки — словно красноватое лицо над темной исполинской тушей. Лицо слегка повернуто набок, будто великан пытается игриво взглянуть на поместившихся на его плече возле шеи рябину и валун. Но смотрите, смотрите, что он делает! (Танцевальная музыка еще доносится из дома.) Он собирается показать фокус! Он якобы не может разглядеть эту нахальную парочку — рябину и валун, которые норовят дотянуться до его щеки, так-так, ему просто ничего не остается, как потихонечку отделить голову от темного туловища и сдвинуть ее чуть в сторону, нисколько не меняя положение склоненного набок усмехающегося лица… Значит, луна явилась к праздничному дому, чтобы дать представление; но, увы, оно не выманило гостей на двор, хотя лучшая танцорка была не прочь в эту полуночную пору пробыть здесь все время следующего танца. Она появляется незамеченная в дверях при первых звуках польки. Стоит с гордо поднятой головой, напевая сквозь сжатые губы что-то бравурное, и не сводит глаз с танцующих, словно намерена дать понять стоящему поблизости молодому человеку, что она заметила его взгляды, но не находит нужным обращать на это внимание… Собравшиеся в зале свадебные гости, танцующие, стоящие, сидящие, образуют во всякое отдельное мгновение общую групповую композицию, которая расположением фигур и выражением лиц в соединении с музыкой передает содержание этого отдельного мгновения.
А снаружи луна все продолжает свой фокус с отрыванием головы, другому она не выучилась. Она уже отдалилась от туловища на пару саженей. Рябина и валун смотрят ей вслед с комическим унынием — щека ускользнула от их щекотных посягательств. Общий характер представления шутливый, но не без привкуса натуги, так обычно шутит клоун-карлик. Голова отодвигается еще дальше от темного туловища, но разлука не кажется мучительной ни для одной из сторон.
Молодой человек и девушка молча глядят на луну. Предстояние ей и не требует слов. Трудно ответить, понимает ли луна их положение, но она смотрит на них с такой загадочной бесцеремонностью и таким отменно-невозмутимым спокойствием, что с удовольствием позволяешь ей смотреть и дальше. На то, как молодой человек кладет свою левую руку девушке на талию, а та поспешно ухватывается за нее, как бы удерживая — от неосторожного движения, разумеется, чтобы вдруг не спугнуть лунный свет с ее лица. И молодой человек вполне понимает тревогу девушки и ведет себя осторожно. В доме музыка смолкает, но вот звучат первые аккорды, и сильный женский голос начинает петь. Стоящие в лунном свете двое слушают, они одни, певица не знает о них. Рука молодого человека тихо лежит на талии девушки, а ее рука, призванная удерживать его руку, покоится на ней просто так. И луна со своим сиянием тоже слушает пение женщины в доме. Ведь в Малкамяки свадьба. Песня доносится словно откуда-то сверху, все голоса в свадебном доме примолкли, и тем двоим в лунном свете на миг кажется, что в доме и нет никого, что песня звучит издалека и только для них. И инстинктивно они пытаются уяснить правдивый смысл того, о чем им поет песня. Вот несравненная возможность воочию увидеть, как выглядит счастье. Оно правдиво, ясно и вечно.
Луна как будто оставила свои проделки. Ведь это свадьба Ольги и Бруниуса…
_____________
Все еще длится свадьба. Наступило долгое медлительное мгновение, общее настроение скользит вниз, под волну. Это пауза.
Невеста и жених сидят рядом в молчании. Элиас стоит возле двери один, сложив на груди руки. Он рассматривает невесту, прежде всего ее платье, и с приятностью вспоминает это же тело, обтянутое другим платьем — в котором невеста была однажды в знойный день. Но нынешнее свадебное мгновение как-то противоречит всему прошедшему лету и той знойной поре. — Вон сидит невеста, которая была моей и которая произнесла те четыре слова. Мне кажется, что сейчас она беззвучно повторяет их мне. Да, та и эта — одно существо, и я больше никогда такой ее не увижу… Люйли, где она теперь? Где-то в темноте, обнявшей со всех сторон этот клочок, на котором празднуют свадьбу. Люйли там, а я здесь. И никто здесь не знает, что со мной случилось вчера в Корке. А если б все вдруг, разом узнали, они повскакали бы с мест и принялись бы рьяно выяснять, где я и что со мной. А Люйли — там и как будто ждет, что я наконец завершу то, чего она ждет. Это та самая Люйли, которую я недавно узнал и чей внешний образ — глаза, губы, тело — вчера так негодующе пылали, но внутренняя, настоящая Люйли оставалась безучастной под этой внешней оболочкой и словно упрекала меня в моем несчастье за то, что я не завершил что-то… А все эти изнемогающие люди так бездумно и напрасно тратят драгоценное время… Ага, невеста говорит что-то жениху, жених отвечает, и под его темными мягкими коротковатыми усами видны два белых зуба. Эту невесту я обнимал…
Невеста спросила у жениха:
— Как тебе нравится Элиас?
— Какой Элиас?
— Малкамяки.
Так невеста спросила жениха о молодом человеке, о котором в вечер помолвки пели куплеты.
И жених ответил:
— Простоват.
Примечательно, что до сего момента они ни словом не обмолвились об этом молодом человеке. Впрочем, их последнее свидание состоялось в самую короткую ночь в комнате Бруниуса по его приезде. Во все последующее время они инстинктивно остерегались касаться этой темы — куплетов Тааве и самого Элиаса. Для Бруниуса эта песня и эта тема были демонстрацией силы окружавшего его враждебного мира, всего того, что не имело с ним ничего общего, но с чем много общего — чудовищно много — имела его невеста, Ольга, которая именно по этой причине особенно раздражающе часто возникала последнее время в его воображении, как будто приглашая и его присоединиться к ним. Для себя, для своего личного отдельного бытия Бруниус не нуждался в этом обществе, но теперь, когда Ольга нераздельно соединилась с ним, и не благодаря обряду венчания, но гораздо глубже, — теперь и вовеки, где бы ни странствовал дух или душа Бруниуса, с ней рядом была и душа Ольги, а значит, тянулось следом и сумеречное наследство: неразрывная связь Ольги с этим враждебным миром, в котором были возможны стихийные, возмущающие порядок события. Бруниус чувствовал себя как бы на привязи, но эта привязь, то есть Ольга, другим концом уходила в неизвестность и там терялась; а значит, она тянула в эту неизвестность и Бруниуса и делала его существование частью чего-то безграничного. Бруниус уже не мог ясно различить, где кончается одно и начинается другое, где граница между ним и враждебным миром, откуда донеслись тогда куплеты и чьим представителем, увиденным вблизи, был Элиас.
Вот почему Бруниусу было особенно неприятно как-либо отзываться об Элиасе, и вот почему, произнеся это слово «простоват», он тотчас почувствовал, что придвинулся неприятно близко к чуждой ему части Ольги и вступил с ней в некие отношения, будто признавая ее равной себе. Все это не замедлило сказаться. Ольга заметила:
— Если б ты знал, как мы тут проводили время… пока тебя не было.
— Отчего же, знаю — из песни, — ответил Бруниус, улыбнувшись.
Это становилось нестерпимым, но, по счастью, Ольга замолкла. К самому Элиасу Бруниус не питал никаких особых чувств, разве что неприятно удивился, заметив его среди гостей. Его даже поразило, что такой человек может присутствовать на его свадьбе среди приглашенных и держаться так вольно и спокойно. У Элиаса и Ольги в прошлом могло быть что угодно, это не затрагивало Бруниуса внутреннего. До нынешнего момента подобные обстоятельства существовали вне его сознания; зато теперь, когда Ольга соединилась с ним, это стало тяготить как досадное, лишнее и непонятно тяжелое, но все же преходящее наследие прошлого. Ибо теперь некоторую, хоть и очень малую, часть Ольги он ощутил своей, вошедшей в его внутреннее существо.
В таком состоянии пребывала жизнь Бруниуса, и такой она продолжится после его исчезновения со свадьбы. Свадьба длится. Но Элиаса у дверей больше не видно.
* * *
В зале поет квартет. Весенний гость, судья, ведет басовую партию. Ольга сидит рядом с Бруниусом, но сейчас не помнит о нем, она с удивлением смотрит на судью и слушает его. До сих пор тот ничем не привлекал ее внимания. Но свадебные торжества длятся так долго, что сам свадебный дух давно изжит всеми присутствующими; никто не вспоминает про будни — ни про минувшие, ни про те, что еще ближе — которые грядут. Все словно в дороге, словно путешествуют и медленно поднимаются куда-то, чтобы уже не вернуться вниз. Не вернуться к тому, с чего начали свой путь: к праздничным приготовлениям, к вчерашнему яркому солнцу. Восхождение не всегда было крутым, а после полуночи и вовсе прекратилось: все пребывали там, куда успели добраться. Собираясь вместе, люди становятся массой, обладающей одним примечательным свойством: едва в нее попадает неуловимое, таинственное и невидимое бродильное вещество, как рождается праздник; так бродит вино. Настроение подымается легкими приятными пузырьками.
Длится неспешное полное мгновение. Бас судьи льется словно сам собой, словно не ведая, что его слушают. Певцы как будто отстраненно хранят молчание, и окружающее их собрание людей тоже затихает под звуки песни, сулящей покой и безопасность. Окутывающее, клонящееся к осени посреди залитого лунным светом края, длится это мгновение. И человек, Ольга, сидит и смотрит на поющего судью, но не на его знакомый, траченный жизнью внешний облик, внутренним оком она прозревает нечто такое, что не в силах объяснить и облечь в какую-либо форму. И это невыразимое нечто вливается вместе с музыкой в ее существо, в те пределы, которым нет имени. И воображение может радостно и покойно пребывать во всяком явлении жизни, повсюду. Ничто совершенное или собирающееся свершиться недурно, хотя инстинктивное чувство иногда нашептывает другое. Но это не дурно, потому что принадлежит тому, чему принадлежит все; тому, что она не в силах объяснить, но что она прозревает и в этом знакомом поющем судье. Взгляд ее словно забывает подняться на судью, а внутренний взор смотрит мимо, сквозь — на то, чему принадлежит все: и этот долгий рассказ, и свадьба с Бруниусом, и Элиас…
Мгновение с песней было еще одним крохотным восхождением, высшей точкой, которой достигли на этой свадьбе. Затем снова очень тихо и медленно вступил вальс, и в просверках между тактами напомнила о себе близость утра. Гости еще не начинали разъезжаться; на минуту отлучилась невеста, но на это никто не обратил внимания. Невеста незамеченной проскользнула куда-то в дальнюю комнату, не освоенную гостями, где было темно и где домашний, не подходящий для залы дух справлял собственное торжество. Попасть на него можно было не прямо, но лишь перейдя лежащую за окном на земле четкую границу между густой тенью дома и лунным светом. Вот сюда-то незамеченной и проскользнула Ольга, прежде чем так неожиданно и неуместно, с одурманенным сознанием отправиться в дом старой хозяйки, где сидел Элиас…
* * *
В дом старой хозяйки, в горницу, доносился шум танцев из верхнего дома, но разобрать, что именно играли, было трудно. Кажется, польку.
Элиас сидел в темноте на диване, смотрел в окно и видел только белое праздничное сияние. Он переживал примерно то же, что недавно и Ольга, слушавшая пение мужского квартета в ярко освещенной зале. С Элиасом произошло вот что. Наглядевшись — куда пристальней, чем позволяли приличия, — на невесту и жениха, он потихоньку удалился из праздничной залы и отправился вниз к дому. По пути он кинул взгляд на толпу зевак и среди прочих увидел Вяйнё Корке, брата Люйли… Вяйнё был в праздничной одежде; сам Элиас был в парадном костюме с открытой белой грудью. Они тотчас заметили друг друга, но настоящее положение не располагало к обмену взглядами и тем более приветствиями. Вяйнё здесь было не место… Элиас постарался произвести на стоящих впечатление человека, отлучившегося со свадьбы, — он шел к матери по некоему, не касающемуся их делу, которое им, зевакам, все равно не понять.
Но кое-кто из зевак, вероятно, понял его уход — насколько можно было судить по их молчаливому виду. Элиас уходил, чтобы сидеть в горнице на диване.
И он сел на этот диван и без всяких околичностей и мудрствований признался себе, что свадьба в самом деле совершается, что для Люйли Корке в этом свадебном мире места нет, да и для него, в сущности, тоже… Что есть что-то грустное в стоянии Вяйнё среди толпы зевак и вообще в самом его существовании. Элиас не питал к Вяйнё злых чувств и ощущал, что тот тоже не держит на него зла. И все же наличие Вяйнё как-то тяготило его. Быть может, именно из-за отсутствия злых чувств между ними.
Так он сидел в неопределенном настроении, как говорится, ни то ни се. Во всяком случае, недовольства он не чувствовал.
Как будто знал, кто придет! И точно, дверь отворилась, и там возникла Ольга, скажем — настоящая Ольга.
И поскольку ей надо было что-то сказать, поскольку ни взглядом, ничем иным свидание подготовлено не было, она спросила:
— Ты здесь?
Элиас мог не отвечать. Его белая рубашка светилась в темноте, и Ольга села рядом, по-прежнему с фатой на голове. Они сидели, не разговаривая и ничего не делая, просто так, как сидят двое знакомых людей на диване. Они не чувствовали праздничной приподнятости, они ни о чем не грустили и не думали: «Вот сидит Ольга» или: «Вот сидит Элиас». Они сидели, пожалуй, так, как принято сидеть в большом обществе на пышной помолвке — рядком и почти вовсе не думая друг о друге.
И когда старая хозяйка появилась на пороге с восклицанием: «Постыдились бы!» — на них это не произвело большого впечатления. Первые повозки зашумели на дороге. Это напомнило Ольге, что скоро ей придется уйти отсюда — не то чтобы она стыдилась старой хозяйки. Элиас тоже не обращал внимания на присутствие матери. Она была ему так далека, что было бы неудивительно, если б он поднялся и спросил: «А? Кто это там?» Но он был уже один и слушал доносившуюся сверху музыку, как ему казалось — польку, утреннюю польку.
Потому что утро уже теснило свадьбу — стало быть, она прошла, а сколько осталось нерассказанным! У нас, следивших за всем со стороны, есть последняя возможность вспомнить об одном недолго царившем настроении… Что говорилось тогда об их первом поцелуе в тот субботний вечер, украшенный еловыми шишечками и пением дрозда, легко унимавшим ночной воздух?.. «А маленький дух лесной прогалины был так деликатен, что не стал обнаруживать себя перед ними. Даже в этот поздний час воздух был прозрачно-ясен и тепел, и казалось, что тепло и все остальное, что ощущали все их органы чувств, исходило снизу от растений, покрывавших землю и по большей части только недавно явившихся на свет. Так встретились эти двое в первый вечер, и каждый в сияющих глазах другого увидел отраженным этот прозрачный субботний вечер с его недавно явившейся на свет травкой, вечер, в который, придя разными дорогами и ни о чем не сговариваясь, они встретились и, обнявшись, опустились на землю…» Кажется, так говорилось тогда об их встрече.
И еще несколько слов о луне свадебной ночи. Отойдя на порядочное расстояние от Малкамяки, она совершенно забыла свои фокусы с отрыванием головы. Луна сильно переменилась, как это иногда случается с записными шутниками. И хотя возникала в памяти та первоначальная картина — позже, когда луна уже достигла другой стороны небосклона, — она отнюдь не казалась теперь шутливой, напротив, была исполнена глубокого значения. Как не шутливой казалась теперь и история о маленькой черной букашке… Да, луна спускалась ныне на северо-западе, в такое место, куда мы ни разу не удосужились заглянуть за все время рассказа. Лунные ночи… как не похожи они на летние! Только для того, чтобы увидеть еще одну лунную ночь, пусть нам расскажут о том, что последовало дальше.
Эпилог
Осеннее путешествие поэта
Осень совсем не то, что лето; лето совсем не то, что весна, — и так далее. И по всему миру осени, лета, весны и зимы устраивают череду разнообразных пейзажей, которые окрыленное воображение может однажды разом охватить из прекрасного далека, поднявшись в бескрайний небесный простор. Но в воображаемой картине сотрутся своеобразные черты каждого отдельного года. Первым исчезнет ощущение времени, потом места, а затем самого их существования. Когда, где и что такое были эти весны, лета, люди, насекомые, события? Точно ли существовали они? Загляните-ка поутру в зал, где вечером давали представление: все сооружения, устроенные вчера для спектакля, оставлены на своих местах, а в тусклом зрительном зале рядами стоят пустые кресла…
Так что бессмысленно дотошно выяснять, что именно заставило некоего поэта покинуть осенью свою келью и пуститься в путь. В одно благостное мгновение поэту довелось услышать о чарующих движениях жизни, из пестрого многообразия которых собрана эта книга. Ему довелось услышать — или увидеть внутренним зрением — и как бы легко коснуться их, и тогда им овладело известное нам настроение безвременья, или вечности. Он увидел все описанные здесь события в одно долгое мгновение, застывшее в знакомом ему беззвучном сумраке комнаты. Тема, которая в нем подспудно зрела, неожиданно, под влиянием увиденного зашевелилась в его голове, словно ища подходящую мелодию, чтобы излиться сначала напевом. Тема впервые явилась ему в юные годы, когда он странствовал в одиночестве по дорогам позднего лета. Еще тогда он, мурлыкая что-то, вдруг пропел безотчетно пришедшие к нему слова:
Приглянулась мне девчонка, что за полем повстречал, — тра-ля ля-ля, повстречал, — батюшка пусть не бранится, я уж с ней побаловал, — тра-ля-ля, побаловал…Когда он заметил, что напевает, его охватил прилив вдохновенья, и всю дорогу он упивался, воображая непаханые просторы, которые он возделает в своем творении.
Имя ему уже было найдено — «Народная песнь». Но он так горячо взялся задело, напевая и обдумывая подробности, что тема ему скоро наскучила, и песнь осталась несложенной. И вот теперь спустя годы тема вернулась к нему, навеянная образами этой книги. Хотя между ними и его «Народной песнью» общего было мало, все же та и эта темы оказывали друг на друга живительное действие. Поэт даже вспомнил те слова, что пришли ему на ум, когда он в тряской повозке странствовал по дорогам; теперь он записал их в первый раз и даже пропел, а пока пел, надумал отправиться в те края, где не так давно среди восторгов пылкого лета играли и переливались всеми красками влюбленность и любовь.
В краях тех он застал багряно-желтую осень. По давней привычке к тщательному наблюдению и анализу он придирчиво оглядел желтую березу, как человеческое существо, словно ожидая, что дерево немедленно предъявит для рассмотрения все свои характернейшие черты. Сквозной, воздушный лиственный лес был наполнен процеженным через тонкие облака бледным и ровным светом. Поэт глядел вокруг и как будто переносил все увиденное на полотно будущей картины. За полем по склону холма словно поднимался из темноты рощи желтый поток: огненные и золотистые цвета клубились как бы сами собой и сияли собственным светом, пока солнце все еще скрывалось за нежной пеленой. Вся его грандиозная тема «Народной песни» показалась вдруг скрытой в поместительном тайнике под одним-единственным сырым березовым листом. Стояла тишина, как перед какими-то нежданными событиями.
Поэт зашел в дом и получил разрешение остановиться здесь на несколько дней. В доме и вокруг стояла та же выжидательная, гнетущая тишина, словно жизнь, само бытие оцепенели в непостижимом ожидании разрешения собственной загадки, длящейся многие тысячи лет, разочарованные напрасной попыткой этого лета. Во все стороны расходилось жнивье, и в воздухе носился запах срезанных стеблей. Из дома недавно уехала дочь хозяев, выданная замуж; во всем чувствовалась утрата — чего? Это трудно было определить. Хлеб сжат, дочь увезена… Зачем здесь жили хозяин с хозяйкой? Что составляло их жизнь? И старая хозяйка тоже жила на нижнем дворе. — Зачем я сюда приехал? — Поэт задавал этот вопрос себе.
Вернее, он хмыкал себе под нос, потому что в глубине души отлично знал, из-за какой ребяческой причуды сюда прибыл. Это долгая история. Разумеется, он приехал не из-за «Народной песни», подлинность путешествия, очевидно, заглушила пробудившееся было в каморке одушевление. Оно, это одушевление, было, однако, созвучно другому, более глубокому одушевленному чувству. — Двадцатилетним юношей поэт испытал в родных краях радость прекрасной любви. Вспоминая о ней, он вспоминал о зеленых шалашах в Иванову ночь и о нагих осенних вечерах, залитых лунным светом… Прошло много лет, та история имела унылый и тягостный конец, а он с тех пор успел стать признанным поэтом. Но жил он одиноко, а поэтической славе особого значения не придавал. Он ощущал свою отчужденность и часто бродил по ночным улицам, издали поглядывая на женщин, поджидавших клиентов, но подойти к ним не мог. Где бы ни попадались ему на глаза женские портреты, он искал и находил в них особые черты и покупал портреты себе. Он помнил свою первую любовь, и в его сознании этот образ целиком слился с представлением о женской прелести вообще; ему казалось, что им еще суждено встретиться и, взглянув друг другу в глаза, вместе понять печальную загадку жизни. Но его предчувствие не сбывалось, а годы все шли и шли… бесцельные, пустые, и поэт бродил по улицам и останавливался в дверях танцевальных залов в сонные утренние часы. Спешить домой не стоило. Его томила тоска по любви, но он скрывал ее, как многое другое…
Этой осенью он особенно чувствовал свою неприкаянность и одиночество. Он провел лето в городе в обычных грезах, но ничего не вызрело в нем до самой осени. Начали съезжаться знакомые, встречались вечерами под темно-зеленой зеленью при свете фонарей. Их жизнь казалась богатой и насыщенной, а поэт ощущал себя несчастным и обездоленным после прошедшего лета. Он лишился двух радостных переживаний, испытанных другими: весеннего отъезда из города среди зелено-желтых цветущих кленов и возвращения в него осенью, к запыленной темной листве тех же кленов, под зажженные фонари — в пору, когда официантки еще одеты в белые блузки и черные юбки…
Вот в эту-то пору один молодой человек за столиком и упомянул к слову двух главных героинь нашей книги — совершенно как романический персонаж в некоем сюжетном повороте вспоминает на чужбине встречу с женщиной; все это тотчас дало толчок пылкому воображению поэта, нарисовавшему ряд летних картин, в которых главным действующим лицом был он сам. Он представил, что судьба напрасно расточала летнюю благосклонность двух женщин на того, кто не знал ей цены, на молодого человека, не умеющего ни распознать, ни тем более оценить утонченные прелести человеческого бытия. Так решил поэт и утешился в своей обездоленности, поглядывая свысока на молодого человека с его любовными похождениями, на разнообразие форм жизни и бытия и на собственную старинную романтическую историю; поглядывал и вчуже оценивал их, и с удовольствием награждал соответствующим достоинством. Он чувствовал, что готов приступить к «Народной песне», и с этим чувством отправился в путешествие — медлительный, праздный, слегка печальный, но умудренный опытом, зрелый мужчина.
Все это и привело его к нынешнему положению, когда он сидел один в доме и хмыкал себе под нос. Он так живо вообразил ту, что вышла замуж, что почти ожидал увидеть ее здесь. Ее образ, составленный по редким чертам, упомянутым молодым человеком, получил полное одобрение поэта; какую восхитительную ночь они могли бы провести в этом доме, запрятанном среди глухих лесов! Они не задавали бы вопросов, только испытывали бы одно бесконечное блаженство и понимали друг друга без слов… По дороге сюда он потому инстинктивно и занимался наблюдениями осенней природы, чтобы отвлечься от этой упоительной ребяческой мечты и сохранить ее таким образом в душе сколь возможно долго.
Но в доме он против воли стал замечать отрицательные обстоятельства: хлеб был сжат, дочь увезена, жизнь остававшихся в доме и самого поэта была поразительно бессмысленна, к тому же здесь, на месте, ему никак не удавалось прочувствовать и пережить услышанные им летние события.
* * *
Незримая связь, установившаяся в воображении поэта между ним и той, что вышла замуж, была исключительно чувственной. Поэт представлял пышные формы женщины, выражение ее глаз и ласкал ее. Эта ситуация, разумеется, предполагала наличие в женщине изрядной доли легкомыслия и даже некоторой милой порочности. С такой женщиной можно было пережить бурный роман — в стороне от реальной жизни, в постоянном блаженном опьянении, которое разгоряченное воображение силилось растянуть на более долгий срок. Но вот безумные надежды рухнули, и поэтом овладела какая-то непреодолимая сердечная расслабленность. Его нервы были раздражены, что-то побуждало его смеяться, но слишком близко стояли слезы. Он смотрел в окно на заросший травою двор, на жнивье, на весь окрестный пейзаж, и все представлялось ему безусловным воплощением бессмысленности. Ему чудилось, что видимое пространство со всем, что было на нем, обступило его со всех сторон и от одного него ждет помощи и разъяснения своей вековечной бессмысленности. Легко говорить, что всякий человек временами ощущает свое одиночество в мире. Но поэт ощутил его сейчас с такой силой, что повалился на кровать и в голос зарыдал.
Его никто не побеспокоил, и он смог выплакаться до конца. Уже смеркалось, когда он очнулся и почувствовал себя вольнее и покойнее. Разум пустился на поиски счастливой мысли, снежные завалы чувственности растаяли. Непостижимость всего сущего, недавно имевшая как будто отупелое выражение, заиграла всем блеском верховного светила. — Как чудесно все-таки плыть по этому удивительному морю, в котором расширенный взор — внутренний и внешний — останавливается на крохотном воздушном пузырьке, ничтожном по размеру и неопределенном по положению, в сравнении с этим величием. Вот и я нахожусь внутри такого пузырька, и всякое живое существо. И та, что вышла замуж, сейчас где-то там, внутри своего пузырька. Что за очарование таит в себе эта мысль!
Поэт узнавал о главных героинях нашей книги на протяжении двух вечеров и сначала услышал о той, что вышла замуж. Когда он уже загорелся мыслью отправиться в эти края, он устроил вечеринку для небольшого мужского общества. Все были уже изрядно пьяны, когда тот же самый молодой человек стал возбужденно рассказывать, шепча ему на ухо, о другой героине, той, что осталась в лесной глуши. Разгоряченный вином поэт уже видел ее перед собой и даже уверенно определил к ней свое отношение. Главным в этом отношении было безграничное умилительное сочувствие. Ничего утонченно чувственного не было ни в отношении к ней, ни в воображаемых картинах. Он, разумеется, представлял, как он берет ее за руку, заглядывает в глаза, обнимает, целует и вообще делает с ней все, что мужчина затем делает с женщиной, но здесь не было оттенка утонченной чувственности, которая составляла основу его отношений с той, что вышла замуж. Этой, оставшейся в лесной глуши, он расточал самые нежные ласки в знак глубочайшего признания ее благородной чистоты и женской добродетели, и не желал для себя ничего иного, как только иметь позволение расточать эти ласки. С той, что вышла замуж, он чувствовал себя на равных, она как будто была его единомышленницей, слегка пресыщенной в любовных битвах подругой, как и он, готовившей заранее эту их упоительную ночь.
Воспоминание о лесной деве как-то стерлось в памяти поэта. И только теперь, после очищающих слез, он вспомнил, что ему рассказывал в пьяном угаре молодой человек. И все, бывшее тогда, одной застывшей картиной явилось перед мысленным взором и привольно раскинулось в открывшихся манящих просторах. Он видел хмельного молодого человека, горячо бормочущего о прелести лета, о холмистой гряде, тропинке к амбару и о самом амбаре. Он видел печаль в глазах молодого человека, только казавшихся хмельными, и в этом таилась разгадка всей истории. Он посмотрел за окно на нагой осенний вечер, где начинал разливаться свет поднимающейся луны. — Вот так, должно быть, тысячу лет назад смотрел на лунный свет какой-то человек с тем же настроением и, наверное, предчувствовал, что так будет и потом, и ведь я мог быть тем человеком, подумал поэт и вышел из дома.
Он надеялся, что найдет прилепившийся к подножию холма крестьянский двор. Было прохладно, у него зябли руки, и он сунул их в карманы и с опущенной головой двинулся на юг, где выступ гряды натягивал вверх линию горизонта, разделявшего небо и лес. Он шел и шел, почему-то уверенный, что угадал правильно. Оказавшись на этих просторах под открытым небом, он вдруг преисполнился чувством, что идет исполнить некое дело, не особенно привлекательное лично для него, но требующее исполнения. Он бодро мурлыкал, глядя на вечно дивный свет луны, в воспевании которого состязались поэты. — Поэты!.. Вот и я тоже поэт, и никем другим быть не смогу… Я сын этого народа, который когда-то давным-давно пришел в здешние леса, и тогда они тоже были залиты лунным светом… А теперь я иду к дому, что прилепился у подножия холма. Я чувствую, что он уже близко, вон и овражек явно указывает на это… А тот молодой человек много раз и с разным настроением проходил через эти места… Поэты! Таковы поэты…
Заметив с холма двор, поэт понял, что угадал правильно, но в то же время почувствовал разочарование. В своем воображении он до мельчайших подробностей вылепил окрестный вид, сами постройки и их расположение. Увидев теперь все в настоящем, хотя и лунном, свете, он обнаружил в них какую-то скудость и чуточку излишнюю деловитость и на мгновение усомнился, в самом ли деле здесь обитает тот возвышенный поэтический дух, на поиски которого он собственно отправился. Но понял также и другое: что на самом деле совершенно безразлично, куда именно он попал и существуют ли вообще те места, о которых шла речь в рассказе.
В доме, как видно, еще не ложились, на краю черного поля двигались в лунном свете какие-то фигуры.
Поэт ничего не обдумывал заранее, но инстинктивно стал совершать действия, которые привели его затем со склона холма в горницу дома. Он подобрал несколько камней, рассовал их по карманам, а один побольше взял в руки и бодрым шагом спустился во двор дома, где и остановился. На ближайшем к нему картофельном поле срезали ботву. Двое мужчин и женщина резали, а две девочки поменьше собирали ее в кучи возле недоделанных прясел. Поэт двинулся к ним по борозде, снял перед старшим мужчиной фуражку и сказал:
— Добрый вечер! Нельзя ли будет у вас остановиться на ночлег?
Мужчина выпрямился и посмотрел на него. Остальные тоже оставили работу. Поэт почувствовал, как сердце у него подпрыгнуло, когда он увидел лицо молодой женщины в лунном свете. Как мгновенно меняется настроение человека под влиянием новых впечатлений! Он уже горел, он весь был охвачен пылкой неземной страстью — как и тогда, под влиянием винных паров в тепле ресторанного зала. Тотчас узнал он в ее облике все черты и черточки, выделенные и отмеченные молодым человеком: шея, виски, складки на платье, мягкий блеск глаз в лунном свете. Давешние размышления отлетели назад, на тысячу верст и переживаний. Он ощущал в себе тривиальнейший боевой дух, которому молодые мужчины поколение за поколением учились у великих соблазнителей прошлого и который вовне проявлялся в неудержимой бойкости языка и в известного рода инстинктивной манерности в мимике и жестах. После пролитых слез поэт чувствовал себя освеженным, как листва после дождя: самым первым является ощущение омытости и чистоты, но едва проглянет луч солнца, листва начинает расти и благоухать. Сердце поэта испепеляла неистовая, бешеная страсть, губы безостановочно лепетали что-то, а сознание отмечало в голосе дрожащий отзвук клокочущих внутри страстей. Губы произносили слова о том, что в поисках минералов и их изучении он забрел слишком далеко и с удовольствием, если можно, переночевал бы у них в доме, чтобы с утра продолжить свои поиски, — а в голове билось другое, что едва ли годилось для произнесения вслух: «Слышишь ли ты, что со мной делается, какую страсть ты внушила мне? Заметь же! Вот сейчас я представляю, что обнимаю тебя, ты не можешь не чувствовать эту мою воображенную картину. Ты больше не смотришь сюда, но всей силой своего воображения я проникаю прямо в твое сердце… О-о, тебе уже ведома любовная страсть, ты испытала ее… Я отворачиваюсь, я иду к дому, но у нас еще будет время, потому что я уверен — это случится сегодня ночью…»
Поэт понял, что его оставят на ночь в горнице. Он сел на кровать с ощущением готовности, словно ожидая, что сейчас, с минуты на минуту, что-то произойдет. Из кухни доносился шум, в сенях слышались шаги, слабо веяло обычным избяным духом; снова шаги и стук двери. В избе теперь ели, но разговоров слышно не было. За окном на диком лугу царствовал лунный свет, но опушка леса тонула во мраке. — Ну вот я и сижу в горнице, на кровати, подумал поэт, ощущая, что его лицо искажается странной насмешливой гримасой, и на мгновение почувствовал себя привидением, созданным этим лунным светом. Велико отличие утра и вечера: завтра утром он будет возвращаться скорыми шагами по беззвучной лесной тропинке к тому дому и выбрасывать из карманов камни. Но в нынешнее залитое луной мгновение его сознанию недоступна мысль о будущем или о возвращении — есть только это застывшее настоящее, побудившее его так странно и бессмысленно ухмыляться.
Только что молодая женщина, стоявшая на картофельном поле, выпрямилась и посмотрела на поэта, словно свысока, словно из-за тысячи верст возвышенных переживаний. — Вот какая девушка стояла только что посреди черного картофельного поля; а я, родившийся совсем другим и никогда здесь прежде не бывавший, я оказался здесь именно в этот вечер.
И поэт попытался представить, где в избе сейчас сидит девушка, он как бы глядел сквозь стену и шептал, беззвучно шевеля губами: «Приди сюда, приди сюда!» Он повторил это много-много раз и не сомневался, что душа девушки услышала его зов. Было понятно, что она не придет, но фантазии тешили его несказанно. В воображении мелькнула и его юношеская любовь, которая до сих пор вплеталась в мелодию его души темным звучанием. Но в нынешнем горячечном состоянии она вдруг показалась незначительной и детски наивной подробностью. Такое было внове, но тогда он забыл отметить свое наблюдение.
Потому что как раз успел подойти на цыпочках к двери и в этот самый момент, услышав, что кто-то вышел из избы, открыл ее.
— Мне бы… не могла бы барышня дать мне глоточек молока?
«Барышня», усмехнувшись и что-то буркнув в ответ, вернулась в избу. Поэт тотчас затворил дверь и зашипел себе под нос, как вода на раскаленной сковороде: «Барыш-ш-шня, барыш-ш-шня…» Он охнул — молоко внесла хозяйка.
Почти три часа он промаялся без сна. Эти три часа он провел также, как проводил прежде другие, когда знал, что под одной с ним крышей ночует красивая женщина. Он бесшумно двигался по комнате, приникал ухом к стене и даже решился разок кашлянуть. — Пусть думают, что я сумасшедший, я все равно больше сюда не вернусь… Но почему, почему мир так устроен, что девушка ни в коем случае не может пробраться сюда ко мне!.. Что лежит в основе человеческой страсти? Инстинкт продолжения рода. Является на свет ребенок, в чьих чертах видны черты родителей. Его деловито нянчат, сушат его вонючие пеленки. Ребенок орет, мать чахнет… Мать — к этому слову так и пристали образы увядания и изнуренности. Иногда отец носит ребенка на руках — это противоестественно… И все это лежит в основе того чувства, которое я сейчас испытываю. А оно есть основа моего стихотворчества тоже. Любовь — это великая мировая сила. Любовь, да, это любовь…
Поэт повторил это слово, и все те же мысли о мясистом и мягкотелом младенце нахлынули на него с новой силой и страстью, и в них было что-то приторно-умилительное и противоестественно привлекательное. Он представил такого ребенка от девушки, спавшей сейчас в избе, и вопиющая непристойность воображенной картины лишь придала ей еще большую привлекательность. По-прежнему разгоряченный, он отважно покашлял и даже поскреб разделявшую их стену, так что в избе должно было быть слышно. Наконец тщетные усилия наскучили ему, и он лег — как и в прежние разы в подобных случаях.
* * *
Здесь заканчивается рассказ о ребячливом поэте, и на прощание — еще несколько строк к поэме ушедшего лета. Заманчиво бросить взгляд назад и увидеть издали те сочувственные переживания, которые испытала одинокая поэтическая душа, легко прикоснувшаяся к нашему рассказу. Она спит сейчас в горнице, в чье воздушное пространство проникли занесенные однажды летом с цветами крохотные странные насекомые — как веяние вечного духа лета. И смотрит на чуточку утомленного поэта древняя луна «с синих луговых высот». Поэт спит, как много раз прежде, и ему снится, что наконец-то он начинает жизнь заново.
Но в лунном свете нет и тени насмешки, он только делает явным общее выражение упадка. В какую вечность канули красные еловые макушки, давшие тон вашему настроению при чтении главы «Первая летняя ночь»? И разве не кажется вам, что все те люди, чьи взгляды и руки встречались в теплую пору лета, давным-давно умерли? Но в то же время разве все взгляды, события, клубящиеся облака калины и летние пейзажи, поэты с их камнями и фантазиями, весенние и осенние города и так далее, до бесконечности, — разве все это не кажется бесплотными волнами образов, которые колышутся, обтекая луну и звезды, в пространстве, где нет ни места, ни времени… Вы можете попытаться увидеть нечто подобное, если с закрытыми глазами вообразите себя сидящим на возвышенном месте в холодном лунном свете этой последней главы. Ваше тело начнет коченеть, и вы наверняка скоро ощутите себя заключенным в куполе летнего колокольчика, а качающийся по краям мир расширите в соответствии с собственными размерами. Ошибиться невозможно. Ваш взгляд, скользя над стройным лесом растений, увидит землю, воздух и водные глади, а в поднебесье будет растекаться всемогущий ветер. Длится неопределенное мгновение одного летнего дня, когда взаимные отношения между несколькими людьми достигли известной стадии. Причем один из этих людей, загорелый, устроился на кривой сосне на вершине скалы, другой — в розоватом платье — подвигается к этой скале через луг среди лиловых колокольчиков, а третий вдали, за густеющей жаркой дымкой, ткет за кроснами, и в его глазах, следящих за движущейся вверх и вниз основой, видна неизбывная печаль и скорбь изначального человека, и слышно жужжание шмеля и затихающее тиканье часов на стене.
Рассказы из сборника «Любимая отчизна моя» (1919)
Рассказ про озеро
Всю свою жизнь я скитаюсь по белу свету, но не из жажды приключений, а потому, что так мне на роду написано. Скитания мои проходят в местах обыкновенных, где и сам себе кажешься лишь одним из многих тысяч заурядных людей, людей без прошлого. Кажется, что за плечами пустота, без редких красок света и мрака. Иногда возникает ощущение, что вся жизнь растрачивается на раздачу каких-то неведомых долгов, мало-помалу истощающих твои силы.
Но порой прошлое одерживает надо мной верх, и я в одиночку отправляюсь в долгое путешествие по закоулкам памяти. Откуда-то из мрака возникает передо мной безбрежная синева озера, его сверкающий взор проникает в мою душу, и старая печаль возвращается и мучает меня, как может мучить неискупленный тяжкий грех. Я не противлюсь ее натиску, сразу и с наслаждением сдаюсь. Озеро… Оно не виновато в том, что случилось. Оно всегда было для меня символом свежести и чистоты, и, может быть, поэтому каждая встреча с ним для меня так значительна. После того как печаль моя утихнет, я снова смотрю на прошлое издалека, отрешенным взглядом, и даже могу начать рассказ про озеро. Для меня синеокое озеро — душа природы, хотя в ней помимо озера, возможно, есть иные прелести. Это как лицо спящего, по нему можно прочесть самое сокровенное в миг, когда сам человек ни о чем не подозревает. Но едва он откроет глаза, происходит мгновенное слияние душ, проникновение в тайну тайн. Свет озера для меня — то же, что блеск любимых глаз. Величественный, недвижный в безветрие лес не раз приносил мне покой, принимая под свою божественную сень. Но лес горделиво замкнут в себе. А едва только двинется навстречу волна озерная — и все заветные струны души моей, радостные или печальные, начинают звучать. Озеро всегда ровесник того, кто на него смотрит, всегда отвечает его настроению то задумчивым взглядом, то легкой поющей зыбью или вольным шумом волны. И теперь, когда я произношу про себя «озеро», оно откликается, как живое существо. Это с ним я познакомился восьмилетним мальчиком, это оно на всех этапах моей жизни было мне преданным и задушевным другом, разделявшим многие дивные мои переживания, пока однажды холодно не отвернулось от меня.
Возле моего родного дома озера не было. Недалеко от нас пролегал глубокий овраг, по дну которого бежала речка шириной метра в два. На противоположном берегу ее темнел сосновый бор, на нашем же участке она протекала пониже забора, появляясь из низкорослого ельника, и затем, вся в небольших порогах, исчезала в зарослях белой черемухи и серебристой ольхи. С моста видна была крыша мельницы и мельничное колесо, дальше кое-где проглядывали пятна цветущих лугов. А сквозь одну из щелей забора виднелась опушка далекого леса, синел дальний мир. Он-то странным образом и притягивал мои мысли. Туда, в эту даль, из лета в лето, изо дня в день устремлялись поющие речные струи. Я, одинокий мальчик, сидел на берегу реки и тихонько напевал, тоскуя неизвестно о чем. Меня влекло, как и реку, в синеющую даль. Но река туда убегала, а я оставался здесь.
Однажды воскресным вечером проходили мимо нас, громко распевая, дюжие парни. Они шли в сторону поселка. У них были широкополые шляпы и часы с блестящими цепочками, что у нас дома не одобрялось. Они бодро шагали туда же, куда бежала река, к синеющей лесной опушке. Воображение мое рисовало нечто совершенно не похожее на то, что окружало меня дома, где я видел лишь две наиболее скучные стороны жизни: вечно охающих стариков, бредущих по тропинке, и детей, которых они бранят. Мне слышались упоительные слова: «Танцы, озеро!» — хотя я и не понимал, что они значат. Догадывался лишь, что они связаны с теми горланящими парнями и с далекой опушкой. И я тихонько напевал: «На озере, на озере», «танцы, танцы». Однажды воскресным вечером, в ту пору, когда не поймешь, весна на дворе или лето, я бегал по лужайке среди белых ветрениц и вдруг сквозь листву берез увидел, как по тропинке идут двое мужчин с большими мешками за спиной. Я остановился и стал смотреть на них. Один из них неожиданно позвал меня удивительно красивым голосом: «Пойдем, Эмели, с нами лыко драть».
Они ушли, а я стал бороться с искушением. Наконец-то и я попаду туда, я наконец увижу озеро. Но со стороны дома дохнуло угрозой: отец с матерью уже вернулись, скоро стемнеет. Но, думая об этом, я все-таки пошел за мужчинами. Меня пробирала дрожь от неясного блаженного предчувствия. Дом остался вдали, я уже преступил запретную черту, отчего бы теперь не пойти до конца! Вскоре лес поредел, показалась незнакомая избушка, потом еще одна, красная. И наконец вот оно! Озеро! Когда я впервые увидел яркую безбрежную синеву, я ощутил восторг, подобный которому испытал уже спустя десять лет, когда впервые разговаривал с той девушкой. Мне показалось, что вся эта синь — само небо, к которому я необычайно приблизился. Я смотрел на озеро широко раскрыв глаза, и чувство вилы притуплялось, пропадало. Я мог бы теперь, счастливый, повернуть назад: я ведь уже видел озеро! Некий едва слышный голос говорил мне, что лучше бы возвратиться. И в то же время мальчишечий азарт толкал меня дальше. Понимая, что поступаю дурно, я все же подошел к самому берегу. Весь тот вечер был для меня каким-то необычным: впервые я находился так далеко от дома, один, без разрешения; впервые вдыхал упоительный запах камышей; легкие плавные волны подбегали к моим ногам, я слушал их плеск, который будто говорил мне: вот каков мир. Синева, одна синева, вдоль берегов, и за мысом, и за лесом на противоположном берегу. Сумерки сгущались, все начало сливаться: прибрежные кусты черемухи, танцующие на скале парни и девушки, берег и озерная даль… Огромное, ставшее темным око озера, казалось, глядело в самую душу. Я подошел к причалу, сел и стал смотреть на воду. Я был наедине с озером, и оно нашептывало мне, что скоро я вырасту большой и уже никто не сможет запретить мне воскресным вечером уходить из дому. И тогда я приду сюда или даже на тот берег — туда, где и в сумерках можно различить низенький дом. Я до него доберусь, и тогда мне откроются другие дали.
Неслышно подошла мать и, дрожа от гнева, быстро увела меня домой. А озеро осталось в сумраке влажной летней ночи. Я обернулся, и мне показалось, что оно опечалилось, когда я вслед за сердитой мамой заспешил в знакомый до скуки дом. Озеро и мама были словно две противоположные мировые силы.
Спустя десять лет я вспомнил все это, когда смотрел на тот отдаленный уголок озера, только с другого берега, из окна маленькой комнатки. Мы сидели рядом с той девушкой и любовались луной, протянувшей через залив, прямо к нам, свою сияющую дорожку. Мы оба впервые в жизни переживали подобное чувство и думали об одном и том же: мы теперь совсем другие, совсем не те, что в прошлое воскресенье, мы теперь стеснялись друг друга. Но мы ничего не говорили, даже взглядами, мы лишь смотрели на озеро, на луну, на серебристую сверкающую дорожку. По ней прямо к нам неслись бесчисленные полчища маленьких сияющих духов. Они мчались так быстро, будто у них было какое-то таинственное и спешное дело, имевшее отношение только к нам, и дело это нужно было выполнить сейчас, сию минуту. И ради этого неотложного дела, казалось, само время остановилось, и мы двое стали центром мироздания.
И сами мы чудесным образом изменились, будто стряхнули с себя повседневную шелуху. И настал тот единственный в жизни миг, когда человек может увидеть себя таким, каким его создал Бог. И озеро, друг наш, было рядом, и, казалось, оно вместе с нами испытывает самый счастливый миг своей жизни. Легкая безмятежность исходила от него, будто сияющая стихия приоткрывала свою бодрствующую душу… Но я еще не все рассказал. Я не рассказал, как озеро, старый друг, однажды отвернулось от меня.
То были самые лучшие мои годы, два-три лета, когда я чувствовал себя центром вселенной. Жизнь била во мне ключом, я ощущал лишь могучее биение ее и не замечал ни плохого, ни хорошего, ни уродливого, ни красивого. Тогда произошло много такого, к чему озеро оставалось безучастным. Существовала лишь взволнованная атмосфера маленькой комнатки. И я, отплывая на лодке, не замечал, каким было озеро, сонным или бодрствующим, и какого оно мнения обо всем происходящем. Я любовался им, мне казалось, что оно отражает мою собственную мощь и силу. Позже, августовской ночью, когда луна пряталась за облаками, я постучал в знакомое окошко. Прислушался. Услышал сначала тиканье часов, затем мерный шум волн, и шум этот, как ни странно, все удалялся от меня, словно предупреждая о том, что все кончено. Я снова постучал, и вновь напрасно. Такое уже случалось дважды, но лишь сейчас я ощутил, что произошло непоправимое. Постучал в третий раз и увидел, как кто-то в доме приподнялся со стула, поглядел на меня сквозь стекло и вновь опустился на место. Я пошел на берег и сел возле лодки. На душе было пусто. Озеро с шумом било о берег, не обращая на меня ни малейшего внимания. Оно не заметило меня и тогда, когда я пересекал его.
И вот я скитаюсь по свету, жалкий в своей неприкаянности, и порой вспоминаю озеро. Отношения наши так и не наладились. Иногда я думаю, что осталось еще одно средство, которое могло бы нас соединить. И тогда я говорю ему: «Твоя бездна поглотила столько человеческих жизней…» Но холодные волны бегут мимо, не повелевая и не запрещая. Им абсолютно все равно, на что я решусь. Теперь, когда я гляжу на озеро, я вижу только воду, ограниченную берегами. Где-то, в самой середине этой синевы, и скрывается, я чувствую, отвергающий меня взгляд: в нем нет ни грусти, ни обиды, одно лишь нестерпимое равнодушие. Волны движутся мимо и мимо, а взгляд этот, чужой, отрешенный, не меняется, будто высеченная на скале древняя надпись. Я — пленник озера. Ищу и не нахожу спасения под успокаивающей сенью леса. Вновь возвращаюсь на берег, не в силах разорвать незримую связь. Вновь чувствую себя восьмилетним мальчиком, которого разгневанная за недозволенную прогулку мать возвращает домой.
Достанет ли мне сил для покаяния?
Kertomus järvestä Перевод Т. ДжафаровойЖизнь угасает
Июль на исходе, раннее утро. Лучи солнца уже не столь щедро заливают землю, и невольно щемит сердце при мысли о мимолетности лета. Сенокос отошел, сизая рожь отцвела и поблекла. Люди распахивают окна, любуются первозданной свежестью утра, и этот миг их быстротекущей жизни по-своему прекрасен. Проснувшийся день вновь берет в свои руки власть надо всем, над жизнью и смертью. Величественно это мгновение, когда миллионы человеческих душ, пробуждаясь, переходят от реалий сна к дневным заблуждениям.
В светлом просторном деревенском доме стрелка часов приближается к четырем. С обеих кроватей доносится сонное дыхание. Одна из них стоит справа от двери, на ней под войлочным одеялом спит хозяин дома, угрюмый, суровый, облысевший, изъеденный старостью человек. У его изголовья — окно, разгороженное переплетом на шесть квадратов, на подоконнике — горшок с цветами, очки и псалтырь. Многие годы они покоятся на одном и том же месте, греясь по утрам в лучах солнца. В дальнем темном углу — кровать старухи. Одни они остались в этом доме, вдвоем доживают свой век. Даже в самом воздухе дома разлит запах старости, странный и по-своему притягательный. Стены, рамы, наличники рассохлись, появившиеся на них трещинки и щели сложились в странный рисунок. Впрочем, описание дома с его обстановкой и обитателями — давний литературный прием. Есть что-то пленительное в том, чтобы на крыльях воображения перенестись в такой дом рано утром, присесть на скамью, стоящую вдоль стены, и поглядеть на спящих бабушек и дедушек, чья долгая жизнь состояла из только им ведомых побед и поражений, теперь уже позабытых, утративших свою остроту. Есть что-то торжественное и успокаивающее в этом доказательстве вечности жизни, и глубокая печаль таится в подобных, казалось бы, самых обыденных вещах.
Первой поднимается старуха. Дед еще дремлет тихонько в своей постели. Она никогда и не проверит, проснулся ли он. В течение последних сорока лет утреннее пробуждение происходит по раз и навсегда заведенному порядку. Сначала старуха наливает в кофейник воду, ставит его на плиту и разжигает огонь. Затем она не глядя берет с привычного места банку с кофе, кофейную мельницу и принимается за дело. Пока закипает вода, старуха поглядывает на светлеющее окно. Достаточно понаблюдать за этой нехитрой процедурой, происходящей из года в год, чтобы мысленно нарисовать долгую историю жизни этой четы. Раньше время пробуждения было исполнено надежд. Просыпаясь, мать укрывала одеялом оголившиеся во время сна ноги сына. В ожидании, пока закипит вода, она рассказывала мужу обо всем, что ей снилось, рассказывала так, будто приснившееся случилось наяву. Дед, лежа, слушал вполуха, посматривал в окно и обдумывал предстоящие ему на день дела. Выпив кофе, они уходили из дома, потихоньку, чтобы не разбудить сына, поставив возле его постели кружку молока и краюху хлеба. С тех пор прошло много времени. Вот уже пятнадцать лет отец и мать просыпаются в пустом доме. За эти годы они заметно состарились, а в утреннем ритуале появилось нечто скорбное: прежде светлые минуты утренней молитвы омрачает ощущение слабости и первые, такие неуместные в пригожий, яркий день предчувствия приближающейся смерти.
Старуха слегка позевывает, и ее еще сонные глаза вдруг замечают пустую, уже без ягод, ветку малины. Она невольно думает о своей ненужности. Уходит лето, и уходит жизнь, и неотвратимая нужда вползает в их дом. Старику с нею не справиться. Вот и дрова этой осенью все кончились еще до начала санного пути. Сын как-то позабыл об их существовании, но они хотя бы знали, что он жив. Разок он даже приезжал к старикам. Тогда мать и поняла, что этот видный господин, в которого превратился ее мальчик, — чужой им человек. Приезд сына развеял последние надежды хоть на какие-то светлые перемены, и старушка почему-то была даже рада, когда он уехал. После этого от сына не было ни весточки. А весной пришло письмо от незнакомой им жены сына, в котором сообщалось, что он был командиром отряда, мужественно сражался и погиб в бою за отечество. Вот с тех самых пор по утрам на глаза ее наворачивается слеза. Они так и не поняли, за что, почему принял смерть их сын. Для них, старых да неграмотных, само слово «отечество» было незнакомым. За всю жизнь оно им ни разу не понадобилось, а уж теперь и вовсе трудно было его понять, оно их даже раздражало своей бессмысленностью. Вот и красногвардейцы, проходившие мимо, все говорили о какой-то «власти», и сыну пришлось из-за какого-то чужого слова поплатиться жизнью. Непонятно все это! Из-за чьего-то «отечества», чьей-то «власти» у них уже нет, как прежде бывало, аккуратно сложенной поленницы дров, соль кончается и кофе уже не достать. А еще на прошлое Рождество кофе был. Да, смерть уже близко, ждет-поджидает. Как их похоронят? Да во что оденут? И кто даст лошадь, чтобы на кладбище отвезти?
Но кофе уже сварен и отстаивается. Старуха направляется к своей качалке, что стоит в изголовье дедовой кровати, нацепляет очки, открывает псалтырь в месте, заложенном присланной когда-то сыном рождественской открыткой, и начинает читать вслух дневную молитву. Она знает, что дед уже не спит, слушает. И знает, о чем он думает, а он знает, о чем думает она. После этой утренней молитвы, до которой никому в мире дела нет, они приступают к своим обыденным хлопотам по дому.
Старики едва сводят концы с концами, но еще ни разу, к удивлению соседей, не обращались за помощью к общине. Они, правда, сажают картошку и держат козу, а иногда и двух, но как и где им удается раздобыть хлеб — никому невдомек. Своей земли у них нет и не было, и поэтому сено для козы они косят у доброго соседа, а тот, чтобы его щедрость не выглядела подачкой, поручает им какую-нибудь мелкую работенку. Косить старику разрешается только между камней и кустов. Изнурительная эта работа требует огромной затраты сил, на нее уходит больше месяца, так как старик срезает траву серпом, несколько раз сушит, копнит, а затем отволакивает готовые копны на веревке на взгорок. Пока старику удавалось таким образом запасти сено на зиму, и, когда маленькие закуты наполнялись, старик был доволен.
Он осматривал сеновал, картофельные грядки, поленницу дров, и у него появлялась уверенность в том, что зиму они протянут. Прежде, во всяком случае, было так. Но после смерти сына появился у него таинственный враг, он всюду неотступно следовал за стариком и даже в минуты отдыха не давал покоя, пригибая к земле, будто сидящая на плечах огромная серая птица. Однажды он ни с того ни с сего упал на стерне и ушиб бедро, а невидимый супостат стоял рядом и смотрел, как слезы бессилия и обиды наворачиваются на глаза и бегут по потемневшим, иссохшим от загара щекам. А когда он попытался скрыть боль в ноге от старухи — мол, ничего страшного, само пройдет, — предательские слезы снова навернулись на глаза, и старуха пригорюнилась, стала думать-гадать, что же с ним случилось на самом деле.
Кажется, что лето, подойдя к концу, так и замерло, будто время остановилось. Думать о зиме — все равно что в пропасть заглядывать, а о следующем лете он и не загадывает. Сколько он ни надрывался, а сена удалось пока заготовить совсем пустяк. Бросить бы все это, да нельзя: козы-то по-прежнему блеют в закуте.
Сегодня утром старик, проснувшись, сразу почувствовал, что старуха тоскует, небось опять о сыне вспомнила. Если помру, она останется совсем одна и не сможет по утрам варить кофе. Нынешней осенью у нас и салаки не будет. Где уж на рыбу взять денег, хватило бы на соль.
По всему видать, день будет жаркий, нужно идти косить, просто надо, и все тут. К вечеру я уже сгребу траву в копны. Много не осилю, а все ж… Вот в прежние времена все было не так. Мысли старика теперь устремляются в прошлое столь же резво, как прежде стремились в будущее. Он глубоко вздыхает; воображение его рисует какой-то счастливый миг из прошлой жизни, и он с удовольствием погружается в забытье. Он даже причмокивает и сворачивается поудобнее калачиком. Но тут старуха ставит кофейник на стол. Краткий миг забвенья пролетел. Когда она берет в руки псалтырь, старик с болью ощущает: вот и слово Божие уже не находит в нем прежней благодатной почвы. Смерть бродит где-то рядом, у него еще есть время спастись под сенью слова Божия, но он не может услышать сердцем это слово с тех пор, как появился тот невидимый супостат. Прежде чтение псалтыря озаряло весь день, давало ему силы для тяжкого труда ради хлеба насущного. Слово Божие и крестьянская работа — одно сочеталось с другим. А еще было хождение в церковь к светлому воскресному причастию. Ох, от подобных мыслей становилось еще тоскливей. Этим летом впервые старики не смогли попасть в свою церковь, где прошла их конфирмация, где они молились всю жизнь. Богатый сосед пообещал дать им лошадь. Утром старик кое-как доковылял до его дома, но оказалось, что лошади пасутся где-то на отдаленном выгоне, найти их трудно, да и некому. Хозяйка, оказывается, без ведома хозяина отогнала их туда. Когда старик вернулся ни с чем, старуха расплакалась и начала снимать воскресное платье, с которым были связаны самые дорогие воспоминания. Затем она стянула с головы белоснежную косынку и стала утирать ею слезы. Пешком идти они были не в состоянии, да вдобавок старуха боялась, что старик не сможет подняться на высокое крыльцо храма. Так был испорчен добрый воскресный день.
Следующее причастие — завтра, и им во что бы то ни стало надо успеть раздобыть лошадь. Вот о чем с тоской думал старик, пока жена читала псалтырь, и еще о других незавершенных делах. О том, что с самого утра уже угадывается жара… На хозяйских покосах сушат траву; урожай этим летом богатый — до следующей зимы уж точно хватит. Батраки направляются на заработки, сгребать сено, оставив оравы детей на своих вечно недовольных жен. Вот и старик осторожно идет вдоль межи с серпом в одной руке, с палкой — в другой, идет осторожными, нащупывающими шажками. Солнце припекает шею и затылок; под его лучами играют красками буйные травы на косогоре, отданном ему для косьбы.
Старик приходит обедать домой. Он сегодня до седьмого пота трудился, завтра воскресенье, значит, нужно сегодня двойную работу сделать, чтобы не понести урону. От жары он тяжело дышит и раздражен. Старуха окружает его вниманием, ласково расспрашивает, как ему работалось, но тоскливое выражение так и не сходит с его лица. Прежде чем ответить, он плетется к ведру с водой и жадно пьет — больше, чем нужно, а затем, отдуваясь, цедит что-то невнятное. Она ставит на стол миску с тонко нарезанными, почти прозрачными ломтями хлеба. На обед у них картошка и немного молока. Старик молча ест и вытирает пальцы о штанину. Делает он это бессознательно, привычка осталась от лучших времен, когда на обед подавались кусок мяса или салака, вот тогда стоило руки вытирать. Пока дед жует, июльское солнце пропекает траву, картофельные грядки и скошенные луга. Пожалуй, сегодня самый жаркий день за все лето. Воздух неподвижен. И все же в напряженном жужжании пчел слышится легкое напоминание: лето проходит. На том краю неба, где северо-восток, появились еле заметные тучки, но старик сомневается, что дождь пойдет сегодня. А вот завтра, наверное, хлынет ливень, и они промокнут по дороге в церковь. Хоть бы на этот раз дали лошадь; потом начнется жатва, никто из хозяев лошадь свою не даст, да и причащать не будут недели три. Прилечь бы и слегка вздремнуть, хотя сегодня и суббота. Старуха пошла напоить козу. В избе стоит тишина, нарушаемая лишь жужжанием мухи и тиканьем настенных часов. И дед засыпает. Но не успевает стрелка часов доползти до следующей цифры, как он открывает глаза. Видимо, ему приснился плохой сон. Тишина, мертвая тишина в избе, ни звука, но уже не спится. А что там за шум во дворе? Старуха, что ли, гремит посудой? Как долго он спал? Часы показывают, что он едва успел прикорнуть. Барабанит дождь. Он трогает лоб — горячий. Он едва не плачет от бессилия. Не доедет он завтра, нет, не доедет. Конец ему, видно, приходит, но сено все равно надо убрать. Гремит гром. Старуха поднимается по ступенькам, смотрит на него и озабоченно спрашивает, не нужно ли чего. Но раздражение старика растет, и он не отвечает ей. Его выводят из себя даже звуки собственных шагов, и он спешит мимо нее с палкой в руках. Вот мужики побежали на луг. Старик пугается, что они могут забрать его сено. Но он этого не допустит, нет. На своем лоскутном покосе он сгребает сено, боясь, что не успеет, что силенок не хватит. Но вот и все: трудно поверить, но копна готова, и он поглядывает, не идет ли старуха подсобить. Но ее все нет…
Старик пытается сам взвалить ношу на спину, но одному не поднять. Почти над самой головой гремит гром. Старик пробует еще раз и падает. В затуманенном мозгу путаются мысли о церкви, о мокнущем под дождем сене, о будущей голодной зиме и, самая больная мысль, — за что отняли сына?.. Старуха уже подоспела, но не может и слова вымолвить. Ясно одно, жизнь кончается. Дом далеко отсюда, а с неба глядят черные грозовые облака. Это еще не конец. Старуха помогает ему подняться. С огромным усилием он взгромождает ношу на спину. Старуха еще пытается подгрести остатки сена. Он делает несколько шагов и снова падает. Тяжелая ноша сваливается с его плеча. Старуха сразу догадывается, в чем дело, и беззвучно всхлипывает. Он еще успевает взглянуть на нее, и последний этот взгляд, удивительно нежный и подбадривающий, — откуда-то из забытого прошлого.
День, однако, выдался теплый и ясный. Гроза разразилась лишь ночью. И все лето погода стояла самая благоприятная для сельских работ.
Kun elämä riutuu Перевод Т. ДжафаровойПропавший
Мартти Виртанен — лицо отнюдь не вымышленное, и читателю не составит труда отыскать это имя в церковных книгах нашего прихода среди десятков других Виртаненов. Но мне становится просто не по себе от мысли, что кто-нибудь посторонний наткнется случайно на имя Мартти Виртанена и составит о нем представление по тем сведениям, что занесены в церковную книгу. Из них следует, что это был мужчина двадцати лет от роду, батрак, осужденный за кражу и пропавший без вести во время бунта. То есть самый что ни на есть типичный «красный», с челочкой и лживым взглядом, получивший по заслугам и бесследно сгинувший.
Но составленный таким образом официальный портрет не имеет ничего общего с этим — ныне уже покойным — человеком. Что еще раз подтверждает тот факт, что за пределами пасторской канцелярии церковные записи не имеют большого значения.
Несмотря на неизменную приторную улыбку, покойный Мартти был несчастным человеком; даже в двадцать лет он не был похож на настоящего мужика. Это был почти глухой, оборванный, неуклюжий, толстощекий батрак. Я хорошо знаю всю его историю. Мать его, маленькая невзрачная женщина, умерла именно тогда, когда у трехлетнего Мартти сильно болели уши. Его отец, толстяк и болтун, какое-то время не на шутку переживал, но потом женился на одной порядочной женщине лет на двадцать моложе себя; она была немногословна, но за воспитание Мартти взялась всерьез и была с ним терпелива, так что деревенским соседям было не к чему придраться. Но потом у нее у самой родилась малышка, и Мартти досталась роль няньки. Глухой Мартти, совсем не похожий на своих сверстников-сорванцов, не стал упрямиться, когда мачеха решила научить его вязать чулки. Они жили тогда в маленькой избушке у дороги, и, когда родители уходили на поденную работу, Мартти проводил длинные летние дни на полянке перед домом вместе со своей маленькой сестренкой и с вязанием в руках. Мы жили неподалеку, и моя мать не раз гоняла мальчишек, прибегавших подразнить Мартти. Мартти же как ни в чем не бывало продолжал таращить свои маленькие глазки. Время от времени он произносил похожие на мычание фразы, примитивные, свойственные речи всех глухих и потому казавшиеся нам смешными. До девяти лет Мартти продолжал вязать чулки. За это время он не успел набраться дурного и не знал ни грубых слов, ни похабных песенок, потому что никому не хотелось по многу раз выкрикивать их ему на ухо. Если в нем и было что дурное, то оно не было перенято им от других, а заложено в нем от природы. Он довольно легко научился читать, и было забавно слышать, как он читает на полянке вслух своим странным, как у всех глухих, голосом. Он даже мог изобразить какое-то подобие мелодии напечатанной в букваре песни «Здесь под Северной звездой». Эти концерты служили развлечением жителям соседних домов. Все, что бы ни произносил Мартти, было смешно и беззлобно передразнивалось.
Лет в четырнадцать пятнадцать Мартти пришла пора поступить в батраки. Это было непросто. Хозяин, даже сам того не желая, начинал сердиться на Мартти, который умен только нянчить ребенка и вязать чулки, да еще был к тому же — особенно с чужими — глух как стена. Наблюдать его мытарства было одновременно и грустно и потешно. И все же у Мартти было одно большое преимущество перед другими батраками — он никогда не артачился и глубоко осознавал свою неполноценность. Как бы то ни было, но он довольно скоро выучился запрягать лошадь и править ею и уже мог довезти какой-никакой воз соломы от овина до хлева. С тех пор за него можно было не волноваться: всегда заработает себе на хлеб извозом. На работе его дразнили то «практикантом», то «управляющим».
Самое же веселье начиналось вечером в избе, когда не было рядом хозяина. В сумерки не работали, а предавались довольно грубым забавам, и само собой разумеется, что беспомощному Мартти доставалось больше всех. Он лопотал по-своему и сам смеялся вместе с остальными. Когда же другие распускали руки, — тыкали его носом в мокрый пол, расстегивали ему штаны и так далее, — он лишь жалко отбивался. Обычно все кончалось какой-нибудь особенно веселой проделкой, которую все вспоминали и на следующий день за работой, в присутствии самого Мартти. В конце концов Мартти выучился произносить «Отстань, черт тебя побери». Как ни смешно это звучало в его исполнении, однако свидетельствовало о некотором прогрессе.
Кроме глухоты, у Мартти не было никаких физических изъянов, напротив, это был плотно сбитый здоровяк. Со временем в нем проснулись все обычные деликатные потребности молодого человека, тут уж ничего не поделаешь. Но только их никто не направлял в здоровое и приличное русло, а скорее совсем наоборот. Это стало очередным номером вечерней программы, и подчас шутки заходили так далеко, что однажды некий заночевавший в доме торпарь почел своим долгом вмешаться и по-отечески проучить безобразников. Очевидно, глухота притулила инстинкты Мартти, он неумел стесняться, и те немногие непристойности, которые достигали его слуха, Мартти употреблял к месту и не к месту. В конце концов он стал посмешищем всей деревни. Над ним смеялись даже самые серьезные мужики: как ни старались они сердито хмурить брови, рот все равно растягивался в улыбке. В конце концов мачеха Мартти вынуждена была пожаловаться хозяину, и тот как следует выбранил батраков, после чего эта забава постепенно сошла на нет и со временем забылась.
Мартти шаг за шагом продвигался вперед по своему извилистому жизненному пути. Он батрачил в соседней деревне, причем даже продержался у одного хозяина два года подряд. С годами его слух немного улучшился, а вместе с тем улучшилось и его положение в среде батраков. Мы не слышали о Мартти ничего особенного вплоть до третьей весны, когда он оказался втянутым в эту злосчастную историю с картошкой. В той же деревне жил один мужик, сутулый, с серым лицом и редкими зубами, говорил хриплым голосом и всегда застегивал воротник пальто булавкой (звали его Калле Паюнен, и он умер потом в Лаппеенранта в лагере для пленных), — так вот, этот самый Калле, в отличие от других, никогда не обижал Мартти. Поэтому-то ему не составило труда уговорить глухого таскать вместе с ним картошку из картофельной ямы хозяев Мартти. Бедняга угодил в тюрьму на три месяца, а сам Калле схлопотал все девять.
С тех пор как Мартти покинул родной угол и подался в люди, я не соприкасался с ним близко. Но зато после его освобождения из тюрьмы мы вновь стали соседями на целый год. Я переехал жить в тот дом, куда Мартти поступил батраком, причем изба, в которой жили батраки, имела общую стену с нашими комнатами: нас разделяли запертые двери.
То было время моей наиболее сильной ненависти к хулиганам. Стоило мне завидеть вдалеке идущего навстречу парня, с виду похожего на босяка, как мои руки сами собой сжимались в кулаки и я принимался оценивать его возможную физическую силу, сноровку и храбрость, сравнивая их со своими, и воображал, как я с ним боксирую. Когда я отверг предложенное мне на выгодных условиях жилье, то у меня были на то свои тайные причины: поблизости околачивались два типа, с которыми я ни разу не имел дела, но которых как-то особенно ненавидел. Мое новое жилье привлекало меня прежде всего тем, что в доме не было никаких других батраков, кроме Мартти и еще одного совсем молоденького парнишки, почти еще мальчика. Но и то в первый вечер я был в напряжении и ждал удобного случая выяснить отношения, чтобы раз и навсегда поставить их на место. Случай представился, когда парни принялись скрестись в дверь, ведущую на нашу половину. Я распахнул дверь настежь и прикрикнул на них. Чуть позднее я как ни в чем не бывало зашел на их половину и угостил папиросами.
Довольно скоро я убедился, что даже в тюрьме Мартти не переменился и не стал похож на тех существ, к коим я питал ненависть. Он стал лучше слышать, постоянно улыбался и пытался говорить, причем всегда соглашался со всем, что бы я ни сказал. Частенько, соскучившись в одиночестве, я шел вечером в избу проведать парнишек, слушал бесхитростные рассказы Мартти про тюремную жизнь и пытался исподволь развивать и облагораживать его душу. Мартти доверчиво смотрел на меня своими маленькими глазками и улыбался во все пухлое лицо. Если никто из деревенских не забредал в избу, то вечер проходил очень приятно, после чего мы все отправлялись спать.
Парни укладывались на ночь в общую постель, стоявшую у стены и бывшую всегда в ужасном состоянии. Служанка, которая время от времени прибирала в избе, обычно не притрагивалась к постели, разве что слегка поправляла одеяла. В изножье торчали клочья соломы, а простыня всегда была скомкана. Грязная одежда валялась вперемешку с подстилками, поскольку повесить ее было некуда.
Изба была очень большая, слегка обветшалая и насквозь продуваемая сквозняками. Парни сворачивались калачиком и тесно прижимались друг к другу под одеялом. Я на своей половине представлял, как звездный свет проникает внутрь избы сквозь маленькие шестиугольные окошки, и мне было отчетливо слышно, как за стенкой обмениваются глубокомысленными замечаниями два согревающих друг друга человеческих существа, во внешней стороне жизни которых даже при большом желании невозможно было отыскать ничего в общепринятом смысле красивого.
Потом началась революция и все такое прочее, но эти события лишь изредка, да и то как бы между прочим, затрагивались в наших вечерних беседах в избе. Весь мир вокруг нас бурлил и бродил, но мы работали этим прекрасным летом точно так же, как и раньше. Однажды мы увидели, что у перекрестка расположилась группа мужчин, а над ними развевается кусок красной материи, на котором выведены буквы — Т. Т. Р.[10] Мы как раз закончили обедать, когда от этой группы отделились трое и направились к нашей избе, где произошло следующее: хозяин вышел и прогнал непрошеных гостей, после чего они ушли, пригрозив нам расправой.
Мартти наблюдал за этой сценой как за чем-то совершенно посторонним, но был, очевидно, восхищен решительными действиями хозяина. Воскресными вечерами Мартти обычно ходил на танцы в рабочий клуб. Но примерно через месяц он остался в воскресенье вечером дома ’ и, будучи в избе в полном одиночестве, затянул песню так, как может петь только человек, совершенно уверенный, что его никто не слышит. И тогда я понял, что Мартти незачем стало ходить в рабочий клуб, а больше пойти некуда. В его монотонном пении звучала тоска бесконечно одинокого человека. Песни были лирические и совершенно приличные, и я подивился тому, как и где этот полуглухой парень умудрился их выучить. Как у всех глухих, с мотивом у него было не совсем благополучно, и вдобавок Мартти страшно подвывал на каждом такте.
Вы смело ступили на праведный путь, Вело вас к свободе влеченье, На этом пути довелось вам хлебнуть И боли, и лжи, и мученья…Мартти напевал и думал о чем-то своем. Потом собрался и вышел.
Это был один из последних вечеров, когда Мартти пел, а я его слушал. Жизнь ускоряла темп, и люди все быстрее и быстрее мчались вперед по ухабистой дороге жизни. В этой тряске каждый должен был быть начеку и внимательно смотреть вперед, чтобы не выпасть на обочину, и стало не до того, чтобы петь или слушать чужие песни. Мартти заплатил объединению тридцать марок отступного за неучастие в забастовке, при этом он извинялся, виновато подергивая руками и ногами. Хотя к тому времени события уже разворачивались вовсю, Мартти после уплаты штрафа почувствовал себя несколько увереннее. Он боялся только новых забастовок. Потому что в объединении ему сказали, что тридцатью марками он не отделается: «Вот будет снова забастовка, так уж не забудь к нам присоединиться, так-то!»
Мартти опять стал ходить на танцы и был в хороших отношениях с босяками. Они даже оставили его в покое: время было такое бурное, что не до Мартти. От него даже перестали требовать участия в забастовках. Однако Мартти старался слушать все, что они говорили, стоя рядом с ними, как всегда широко расставив ноги. Хорошо бы присоединиться к ним, но как? А ведь это так весело и увлекательно. И так странно было, когда мужики из объединения пришли отбирать ружье у хозяина. Пролетело еще несколько недель, а с ними еще несколько воскресных вечеров, которые становились раз от разу все более захватывающими. Потом опять пришли требовать оружия. Потом пришли требовать хлеба и молока. На севере прогремели первые выстрелы. Мартти впервые увидел винтовку и штык и задрожал от страха. Белогвардейцы начали войну против рабочих, и рабочим тоже придется браться за оружие. Мартти работал как обычно, а сам дрожал от стыда и страха, от страха и стыда.
Потом настала ночь, которую позднее назовут «ночью бегства».
Парни ничего не знают, но и им передается общая тревога. Впервые за долгое время они оба вечером свободны. Сон не идет, и разговаривать не хочется. Что-то должно случиться, ночью их ждет не извоз, а что-то совсем другое.
А ночь все длится. С дороги доносятся какие-то звуки, там кто-то ходит, но хозяина не видно, а значит, нет приказа запрягать лошадь. Хозяин вдвоем с младшим батраком спрятали лошадей, но Мартти про это ничего не знает, а потому ждет, что его опять отправят в извоз. В полночь раздается стук в дверь. «Кто там?» — «Я», — доносится угрожающий голос, но парни не торопятся открывать. Тогда раздается крик «черт побери», и дверь распахивается настежь. Стук приклада об пол. Охвативший парней страх немного отпускает, когда они видят, что вошедший им знаком, это Пелтониеми, батрак, который за харчи работает у их же хозяина. Его кудри мокры от пота, он взбешен.
— Где ваши лошади?
— Не зна-аю.
— Я спрашиваю, где лошади? — кричит он снова и хватает младшего — Пааво — за горло.
— Не знаю, — вопит Пааво. — Почем я знаю, где лошади, если вечером отвел их на конюшню.
Изба наполняется незнакомыми мужиками.
— Лошадей нет, — сердито бросает Пелтониеми. Мужики уходят, а Пелтониеми говорит Мартти: — Так что запомни: если у тебя не хватит ума вовремя убраться отседова, то сегодня ночью тебя убьют. Рассвести не успеет, как первый же белый тебя прихлопнет.
И вот парни опять одни, в избе снова тихо. Жуткая тишина. Разговор не клеится. Мартти в ужасном состоянии. С каждым колебанием маятника белые все ближе и ближе, а те, кто ушел из деревни, все дальше и дальше. Скоро уже станет опасно уходить. Смерть, его ожидает смерть.
В сумрачных закоулках души Мартти дует леденящий ветер. Пааво смотрит на него с ужасом, оба готовы заплакать.
Но даже трус становится храбрее перед лицом неминуемой гибели. А ведь Мартти ходил на рабочие собрания и даже штраф заплатил. Скоро его убьют, смерть… Всех рабочих убьют. Пробил час. Оба не решаются вымолвить ни слова. Они начинают одеваться. Пааво не хочет бежать, он словно сжимается в комок от непонятного ужаса. А Мартти уходит.
Мартти ушел. На постели осталась его грязная рубаха, а под скамьей много раз чиненные и снова разорвавшиеся сапоги. Пааво один в избе. Для него Мартти уже погиб, растворился в ночи. Пааво выглядывает наружу. Ничего не разобрать, хотя Пааво кажется, что его обостренный страхом слух улавливает нарушающий тишину топот Мартти и его тяжелое дыхание. Только это уже не прежний живой Мартти, а погибший, уже покойник…
Так исчез Мартти Виртанен. Идущее вперед человечество потребовало жертв, и жертвой оказался Мартти. Он не вернулся в деревню, и о нем никто никогда ничего не слышал. Правда, один освободившийся из тюрьмы мужик утверждал, что видел его наутро после побега в центре соседнего прихода и что Мартти стоял с глупым видом, в руках он держал винтовку, там был совсем небольшой отряд, и все они либо разбежались, либо были убиты в окрестных лесах. И тот мужик ручался, что там же встретил свою смерть и наш Мартти, тем более что он был почти совсем глухой.
Так или иначе, а его уж нет.
Kadonnut Перевод Э. МашинойРассказы из сборника «С уровня земли» (1924)
Теленок и овечка
Этим летом мы не раз любовались очаровательной картинкой: освещенный солнцем склон, по которому в полном согласии и мире гуляют рыжий теленок, белая овечка и трое ребятишек. Один из детей — это наш первенец, а двое других — дети вдовой соседки, которой принадлежат теленок с овечкой. За лето эти пятеро стали неразлучны. В хорошую погоду двуногие напрочь забывали о еде и сне, и выяснения по этому поводу нередко заканчивались слезами. Зато четвероногим эта дружба была на пользу. Они могли целые дни спокойно лежать и жевать жвачку; дети не переставали удивляться, как это жвачка через определенные промежутки времени сама вылезает из горла в рот. За день животным доставалось великое множество лакомых кусочков, начиная от корочки сухого хлебца и кончая изысканнейшими пирогами, в деле добывания которых наш наследник проявлял незаурядный талант убеждения.
Как уже было сказано, мы любовались этим зрелищем. Такое общество было ребенку полезно и совершенно безопасно. К тому же привязанность к домашним животным, нашим несчастным меньшим братьям, никак не могла отрицательно сказаться на формирующемся характере, который — как мы, конечно же, надеялись — станет со временем более благородным, чем наши собственные. Иногда мы вспоминали свое детство и те беззаботные дни, что мы проводили в компании телят, кур и овец возле родительского дома.
Как-то раз, возвращаясь с сентиментальной вечерней прогулки, мы остановились на минутку возле загончика на склоне, улыбаясь, и отправились дальше.
— А теленок с овечкой порядком раздобрели за лето.
— Еще бы, съедать столько хлеба.
— Вилеенска предлагала нам их купить — всего двести двадцать пять марок за обоих.
— Вот как. А что мы будем с ними делать? — Моя подруга хмыкнула и не ответила. Мы уже неоднократно обсуждали с ней эту тему. Я не выносил забоя скота, и все же время от времени ел мясо. Я объяснял это так, что мясо — это просто некая субстанция, которая — будучи хорошо приготовлена — не напоминает мне о живом трепещущем сердце, которое перестало биться под ножом мясника. Я принимал страдальческий вид всякий раз, как она заводила речь о своей свинье и хвалилась, что та быстро набирает вес. Тогда моя собеседница смущалась и говорила:
— Ах, не заставляй меня об этом думать.
— Всякую мысль надо додумывать до конца, — отвечал я несколько высокопарно.
— Если додумывать, то жизнь сделается невыносимой, — говорила она и ласково поглаживала свинью.
Так случалось не раз прежде, тем же закончилась и эта наша вечерняя прогулка.
В пятницу мне позвонил доктор, мой друг и товарищ, и сообщил, что хочет приехать ко мне в воскресенье пофилософствовать. Я очень обрадовался этому известию, нас с ним связывали воспоминания о бурной, полной событий юности, а возможность подтвердить верность старой дружбе нынче представляется нечасто. Счастливый, я поспешил сообщить подруге новость, не скрывая своего воодушевления. Однако мои слова не порадовали, а лишь огорчили ее. Старая история, нечем угостить дорогого гостя. И опять, конечно же совершенно случайно, именно сейчас у нас нет денег, чтобы заплатить за продукты, даже если бы удалось где-то их раздобыть.
Разумеется, я не мог принять такую точку зрения.
— Тем не менее он приедет в воскресенье, — сказал я коротко.
Как и всегда в таких случаях, ответом мне было недовольное молчание. Потом подруга моя ушла куда-то, а я втайне задался вопросом, так ли уж подходит свободному творческому человеку семейная жизнь, с этой вечной проблемой, чем кормить гостей…
Когда мы снова встретились вечером, я спросил ее, слегка поддразнивая:
— Что же ты все-таки собираешься приготовить к приезду доктора?
Она ответила несколько напряженно:
— Завтра Ниеминен заколет теленка и овцу Вилеенски. Я обещала заплатить на следующей неделе.
После чего она раскрыла кулинарную книгу и принялась планировать обед: как приготовить сердце, почки и печень, а кстати, наша кадка рассохлась, надо сегодня же замочить ее, чтобы можно было засолить мясо… Вилеенска обещала прийти помочь, когда будут забивать. Посмотрим, удастся ли ей на этот раз собрать кровь, или опять все прольется на землю.
В то время я работал над рукописью, основную идею которой составляла высокая гармония и светлая вера в достижимость таковой. Один известный теоретик искусства как-то раз оскорбил меня публично, заявив, что в моих произведениях он не находит конструктивной основы. Вот я и пытался найти эту самую основу, но в тот вечер воображение опять мешало мне работать. Против своей воли я видел сердца теленка и овечки, я видел их так отчетливо, что даже на порядочном расстоянии от скотного двора слышал, как предсердия и желудочки гонят теплую кровь в мозг, в котором дремлющие чувства создают расплывчатые ощущения угасающего вечера. А еще я видел три других сердечка, одно в нашем доме, а два там, в соседнем, и они тоже качают молодую кровь через все детское тело в мозг, отражающий маленькие забавные впечатления проведенного вместе дня. Такая вот ерунда могла надолго увести мое воображение далеко в сторону от проложенных заранее тропок.
А еще я видел отточенную сталь, которая на рассвете вонзится в два из этих пяти сердец. Однажды вырвавшись на свободу, мое воображение уже не слушалось меня, и я представлял, как та же сталь вонзается в три других маленьких сердечка. Навряд ли я порадую теоретика искусства.
Утром, в тот час, когда дети натягивают на ноги чулки и ботинки, что-то заставило меня выйти на улицу. На крыльце я встретил своего ребенка и поспешил увести его из дому. Я успел заметить, что на заднем дворе висит подвешенный за бабки теленок, а Вилеенска несет на кухню таз с потрохами. Ребенок ничего не заметил. Крепко держась за мою руку, он потопал на своих ладных ножках прямо к домику Вилеенски. Было ясное утро в самом начале осени, и весь мир вокруг выглядел по-иному. Завтра ко мне приедет мой друг и товарищ. В эту минуту он казался мне на удивление чужим. Впрочем, в этом не было ничего странного, ведь у нас уже лет десять совершенно разные увлечения. И даже наша семейная жизнь сложилась совершенно по-разному…
Когда мы с ребенком подошли к соседскому дому, то во дворе нас встретили две пары грустных глаз. Дети выглядели так, как будто их слишком рано разбудили. Почему-то мне бросилось в глаза, что ворота на скотный двор распахнуты.
Друзья пытались играть, но в их игре не было жизни. В отличие от них я наслаждался утром, предавшись тихим наблюдениям. Ясное утро всегда способно привести меня в состояние счастливого равновесия, пусть даже и ненадолго.
Из вялого разговора детей скоро выяснилось, что они одни дома.
— Матушка пошла к вам, потому что там сегодня убивают Кили и Пекуну, потому что к вам приедет завтра доктор и потому что на следующей неделе нам за них заплатят.
Мой ребенок непроизвольно посмотрел на загон на склоне, где виднелись лишь опрокинутые корыто для воды и какие-то детские игрушки. Потом он запросился домой, хотя было еще рано. Все изменилось, и ничто уже не было так, как раньше. Эти едва заметные приметы грозились испортить мне день. Несомненно, мир ребенка содрогнулся от страшного потрясения, хотя он ничего не сказал и принялся с покорным видом собирать вдоль дороги осенние цветы без запаха. Я мысленно сравнивал, что важнее: приезд моего знакомого или настроение ребенка. Жизнь мечтателя-бездельника, которую — как догадывался тот трезвомыслящий теоретик искусств — я веду, в очередной раз обнажила свои негативные последствия: на мой взгляд, последнее было несравненно важнее.
Забой двух животных значительно прибавляет забот по хозяйству, а значит — вызывает некоторую нервозность в доме. Я стараюсь избегать всего этого и потому, по обыкновению, уединился в своей комнате. Оттуда я видел, что мой ребенок, заложив руки за спину, задумчиво наблюдает, как умело Ниеминен разделывает туши. В кронах деревьев кое-где уже появилась желтизна. Это навело меня на грустные размышления о прошедшем лете и ушедших в прошлое забавах.
Дневные часы были заполнены работой: после забоя скота всегда столько хлопот. (Потому-то и выгодно покупать скот живьем, получаешь много разных продуктов сразу.)
Когда все было готово, позвонил доктор и сказал, что не сможет приехать. И мы сами, без гостей, съели обоих безмолвных статистов летних пьесок. Ребенок тоже с аппетитом поел языка и почек.
Так или иначе, а его уж нет.
Vasikki ja lammas Перевод Э. МашинойКак кантор корову искал
По сути дела этого кантора уже лет десять можно было бы числить покойным; если общество еще иной раз вспоминало о нем, то только как о явлении церковно-историческом.
Он стал кантором в давние-предавние и во всех отношениях лучшие времена единственно благодаря своему красивому голосу, услаждавшему прихожан почти пятьдесят лет, в течение которых на церковную кафедру поднялся двадцать один пастор, не считая магистров и семинаристов. Ему случалось вести беседы с двумя епископами и пятью асессорами церковного капитула, а для покойного пробста, носившего также титулы доктора и рыцаря, он собственноручно приготовил и для верности продегустировал множество стаканов грога, осушенных пробстом на экзаменах по катехизису или в часы домашнего отдохновения. Он отпел четыре поколения мужчин одной семьи, наложил повязки на бесчисленное количество ран и переломанных конечностей и, макая гусиное перо в «жестяную преисподнюю», исписал немало приходо-расходных книг, украшая записи нарядными буквицами.
Но ход человеческой истории, о которой он тоже имел кое-какое представление, набрал ко времени его старости бешеную скорость и бесцеремонно оставил одряхлевшего кантора на обочине. Его жизнь стала жизнью бедняка-крестьянина, хотя последние лучи заходящего солнца еще чуть-чуть в ней поблескивали. Вся его одежда сделалась ему велика и странно побурела, а под подбородком на сухожилиях болталась пустая кожа. Даже семейная жизнь этого праведного и святого старца не была столь благостной, как можно было ожидать. У его половины уже в молодости замечались наклонности сварливой старухи, которые очень усилились с тех пор, как в приходе появилась настоящая акушерка, существенно сократившая ее заработки.
Труднее всего кантору бывало зимой; извне донимало брюзжание старухи, а изнутри — одышка. И, что хуже всего, зимой спала вся природа: пчелы, цветы, растения. Ибо хотя общество давно опередило кантора, в мироздании осталось нечто, с течением лет все больше и больше приближающееся к нему: прекрасная летняя природа во всех ее бесчисленных подробностях, о которых в здешнем краю никто, кроме кантора и учителя из Лумпейлы, даже не подозревал. Имение Лумпейла находилось в двух-трех километрах от избушки кантора, учитель этот, в отличие от кантора, был холост и раздражителен — настоящий старый козел, о нем говорили, что он не боится Бога и не стыдится людей. Конфузливый кантор каждый раз приходил в ужас от своего друга, вспоминая, как тот однажды за рюмочкой спросил его — о чем бы вы думали? — о местных девушках… ух… ой…
Но в известном смысле они несомненно были друзьями.
Вот и теперь кантор тащится домой из Лумпейлы с улыбкой на устах и розами на щеках, как некогда один из его знаменитых предшественников[11]. Близится летний вечер, благоухают цветы и травы. Кантору известны все их виды, все названия, любуясь ими, он будто отмечает, что все они на своих местах — и дивный порядок не нарушен. Но в руках у него завернутые в газету другие растения, которые он получил от учителя — благородный сорт разрыв-травы. Дома у кантора есть для нее альпийская горка, где ей будет хорошо. Там, рядом с нежной заячьей капустой, уже растет несколько экземпляров этого же вида.
Подобные мгновения — лучшие в жизни кантора. Лишь одна печаль, которую он не может выполоть подобно сорной траве, омрачает его радость: дома торчит Каролина, и она все это ненавидит. Как и другие приходские дамы (к которым, Бог свидетель, причисляют и ее), она терпеть не может учителя из Лумпейлы. А все потому, что, занятый своими растениями, кантор не заботится о более важных делах. Вот и сегодня он должен был привести с пастбища корову, но опоздал. Заходящее солнце и коровы, которые уже мычат в соседних дворах, словно обличают его. Но в руках у кантора разрыв-трава, и он посадит эти корешки на своей альпийской горке, чего бы это ни стоило. К тому же учитель рассказал ему об одном редкостном цветке, которого здесь никто не находил, но который, как он думает, должен водиться в этом краю. И кантор решил во что бы то ни стало его отыскать; всему миру, говорят, не терпится заполучить это ботаническое чудо. У него желтые лепестки, напоминающие губы, и какие-то особенные листья. Сам профессор из Академии сказал учителю, что оно растет в таких вот местах. Кантор даже мурлычет себе что-то под нос от удовольствия.
Перед взором кантора уже засияли роскошные желтые шары девясила, растущего возле его дома, и показались огромные листья гречихи. Кантор ожидает увидеть рассерженную Каролину, идущую с подойником из сада — несмотря на ее постоянную раздраженность, она придала бы законченность общей картине тихого вечера. Словно нашкодивший мальчишка, кантор пробирается на цыпочках к своей альпийской горке. Но тут он замечает, что садовая калитка открыта и ни коровы, ни Каролины нигде не видно. Что случилось? Он волнуется, сажая растения, и, посадив, бежит домой. Там, скрестив руки на груди, чуть покачиваясь и капризно склонив голову, сидит Каролина. Она не произносит ни слова. Значит, случилось что-то дурное — хуже обычного.
— А куда корова делась? — озабоченно спрашивает кантор.
— Спроси у своих цветочков! — взрывается Каролина и, вскочив, продолжает: — Если можно бегать за всякими сорняками, то можно бы разок и за коровой сбегать… — и так далее.
Подол Каролины, приколотый булавками к поясу на время поисков коровы, все еще не отстегнут и мелькает перед ним, словно бы укоряя кантора. Ему становится ясно, что коровы поблизости не оказалось, «а я не стану бегать, пускай остается где угодно, уйдем в богадельню или станем есть твою траву».
В ту минуту, когда произносятся эти слова, кантор находится уже на улице. С веревкой в руках он шагает к лесу. Воображение рисует ему большую коровью голову, насмешливо глядящую на него из-за дерева.
Часа через два выбившийся из сил кантор сидит на пеньке в лесу и любуется пышно разросшимся кукушкиным льном. Следов коровы он не видал и звяканья ее колокольчика не слыхал. Наверно, она провалилась в болото и там погибла, — думает кантор. Жизнь кажется ему окончательно загубленной, и, так как надежды не остается никакой, кантор невольно погружается в любование природой, которая в эту летнюю ночь кажется призрачной.
Поднявшись с пенька, он бредет вдоль опушки молодого лесочка. После того, что случилось, торопиться домой незачем. Он перебирает в памяти последние годы своей жизни и отчетливо видит неуклонное приближение конца. Вот и корова теперь пропала. Но разве можно отправить в богадельню бывшего кантора, человека с таким прошлым, человека, деяния которого вписаны в книги профессора Академии? Правда, у профессора и учителя коровы не тонут в болоте, у них нет Каролины…
Но что это — что вдруг зашелестело, затихло и снова зашелестело? Из-за молодой елочки выглянули шалые глаза коровы, потом она показалась вся, горячо дохнула и, бесстыдно задрав хвост, куда-то унеслась. Давешние печальные мысли кантора набежали, видно, только для того, чтобы теперь его еще сильнее охватила радость. Он пустился за беглянкой сначала вдоль болота, потом через взбирающийся на горку сосняк, то и дело прислушиваясь и подзывая корову. Временами не доносилось ни звука, потом где-то рядом раздавался вздох — и они снова мчались сквозь кустарник, задыхаясь и шелестя ветками.
Так повторялось несколько раз, и кантор начал сердиться. Он бежал из последних сил, лицо его раскраснелось, дыхание перехватывало, он уже не замечал неровностей почвы и естественных преград, он страстно хотел поймать свою корову хотя бы за хвост. Вот он сейчас ее схватит, и дело с концом. Наступила уже полночь. Он бежит, глаза ему заливает пот, но он продолжает бежать, пока не оказывается на дне оврага, ничком на поваленных деревьях. Он, похоже, сильно ушибся, корова бежит дальше, но кантор не спешит вставать. Он хочет лежа насладиться тем, что увидел.
Прямо у него под носом цветет множество тех желтых губоцветных, о которых днем ему говорил учитель.
Когда ночь уже близилась к концу, в дверь имения Лумпейла постучали. Немного погодя из дома донесся сердитый старческий голос:
— Какой еще дьявол там барабанит?
— Это я, Вильхельми.
За дверью стоял кантор с веревкой для коровы в одной руке и желтыми цветами в другой. Учитель вышел во двор, в утренних сумерках он увидел цветы и со сна что-то пробурчал. Потом старики пошли искать подходящее место, где можно было бы посадить находку. Словно по уговору оба почти не разговаривали. Учитель только покрякивал, когда кантор скупо сообщал: там они росли так-то и так-то по отношению к солнцу и тени.
Два старика ползали по земле, пока не закончили свои хлопоты. У одного убежала корова, у обоих промелькнула жизнь. Но сейчас они снова вместе, и оба охвачены призрачным, но сильным ощущением полноты бытия. К ним присоединилось веселое восходящее солнце. Когда старики ушли и в саду восстановился утренний покой, солнце увидело на одной из клумб желтые цветы, которые появились тут без его помощи.
Кантор — порядочный лицедей, и если важные обстоятельства этого требуют, он умеет приврать. Когда он уже при ярком солнечном свете возвращается домой к Каролине, он чувствует себя вконец измученным, «пробегав всю ночь по лесу и не увидев даже кончика коровьего хвоста».
Kanttoorin lehmänhaku Перевод Л. ВиролайненВозвращение (Рассказ из истории 1920 года)
Старая, исхоженная многими поколениями дорога петляет по весеннему лесу. Куда ни кинешь взгляд — все здесь старое: постройки, леса и поля. Земля между покрытыми лишайником деревьями и серыми стенами строений украшена пышной зеленью. Она скоро увянет, а уклад жизни, привычный для многих поколений, сохранится. Эта дорога — самая безвестная в глухом краю, но с каждым шагом она делается все более и более важной для того, кого она ведет к дому и детям, которых он уже давно не видел. Именно так оно и было весной 1920 года, именно такой путник и шагал по этой дороге, озаренный светом вечереющего дня.
Он не видел родных мест, а они — его уже больше двух лет, с той темной мартовской ночи 1918 года, когда он так торопился покинуть отчий край. Теперь в памяти остались лишь смутные печальные очертания той лихорадочной ночи, а его собственный тогдашний облик почти совсем забылся. Возвращался же он вовсе не так поспешно, как уходил. Его можно было принять за большого любителя природы, потому что он то и дело садился на землю, пугая высиживающих потомство дроздов, не привыкших к такому поведению человека. И хотя поэтические грезы были совершенно чужды этому путнику, его обострившиеся чувства невольно отзывались на все окружающее. Ручей журчал мечтательно-сладко, а вид подгнившей межевой изгороди уносил воспоминания на десятилетия назад. Путник не сводил с нее глаз, покуда мелькающие в голове томительные мысли постепенно не улеглись. Казалось непостижимым, что в окружающей природе не запечатлелось ничего из событий того времени. Но как отрадно знать, что ты воевал и ради этого уголка земли.
Путник вытащил из кармана свидетельство о помиловании и пробежал глазами по печатным и вписанным от руки строчкам. Так вот как я возвращаюсь из военного похода: с этой бумажкой в руках и в этих лохмотьях. Ради того ли я сражался? Нет. Да и возвращаюсь я не с поля боя. Бои, словно сон, остались далеко позади, и ничто здесь с ними не связано. Это были только потоки крови — ничего больше. Власть беднякам? Но власть была где-то далеко, у тех, о ком я ничего не знал, а здесь командовал Ринне. У кого же нынче власть? Кто-нибудь, конечно, и теперь ее крепко держит. Даже здесь чувствуется, что все должны помнить о ней и забыть про собственную волю. Вот и я, словно вор, сижу тут с бумагами в руках. Ясное небо уходит далеко за лес, и где-то там, под этими же небесами, обретается власть…
Задумавшись, путник уставился в одну точку; от непривычных мыслей у него закружилась голова. То большое и страшное, среди чего он так долго жил и чем дышал, вдруг распалось, бесследно испарилось на этой тихой лесной полянке. И не приближается ли теперь что-то другое, не менее тяжкое, к чему надо идти одному, без поддержки товарищей? Когда он поднялся со своей кочки и медленно двинулся в ту сторону, где на следующей поляне — он знал — покажется его родная избушка, сердце его сжалось от чувства мучительной пустоты. Воспоминания о прошлом, о самых ничтожных подробностях, связанных с этой картиной природы, подбирались к нему все ближе, но не приносили радости и успокоения, а, словно забытые знакомые, требовали за что-то отчета. Не следовало ли ему тогда остаться здесь, и что было бы теперь, если бы он остался? Конечно, все было бы иначе, но как иначе — на это его воображения не хватало. Бесчисленные немые подробности в конце пути все настойчивее требовали признания своей значительности по сравнению со всем тем великим, что осталось позади, но шаг за шагом казалось теперь все ничтожнее и ничтожнее. Горячка возвращения опаляла его изнутри, как горячка ухода жгла тогда снаружи.
Вот он показался под деревом, его дом. Я думал об этой минуте, часто думал, но какой она окажется, представить себе не мог. Сольются ли оба мгновения — то, отчаянно безнадежное, и это, нынешнее? Быть может, все, что случилось между ними, ничего не значит? Неужели я вообще не уходил отсюда и все-таки не сумел предотвратить…
Он уже не мог сдержать слез, а прорвавшись, они, как это обычно бывает, хлынули потоком. В голове беспорядочно заметались разные вопросы, и сдерживаемое до этой минуты горе перехватило дыхание. Но, вырвавшись на волю подобно стихии, оно так же быстро вошло в берега и застыло. Путник увидел родной дом, который показался ему таким же, как любая другая избушка на пути, о жизни которой ничего не знаешь. Слезы ничего не объяснили, они лишь разрушили неопределенность…
Путник встал, глубоко вздохнул, потом спокойно вошел в калитку и по тропинке, проложенной между двумя вспаханными клочками земли с низенькими всходами, направился к своей лачуге. Он все еще чувствовал напряжение, но теперь оно было ровным и естественным. В памяти возникла картина ухода: жена — молодая, красивая — глядела на него беспомощно, она не могла последовать за ним с маленьким — всего несколько недель — ребенком на руках. Он много ссорился с женой, но очень ее любил. Так она и осталась дома. Теперь, входя во двор, путник знал, что жена и дочь все еще живут здесь, за этими стенами или где-нибудь поблизости. Он знал или, вернее, обязан был знать и еще что-то, но это «что-то» душа отвергала так страстно, как никогда. Даже только что пролитые и будто примиряющие слезы не сумели примирить его с этим. Уже открывая дверь, путник все еще противился своему предчувствию.
Беспорядок в избушке не произвел на него особенного впечатления. Во всем, что он увидел и почувствовал, было нечто до странности холодное и чужое.
Но даже и в доме, обнажившем жестокую реальность, его душа воспротивилась; он не хотел видеть ничего, кроме своего ребенка. Перед ним стояла грязная, в лохмотьях девочка, с лицом, в котором рано проявилась тупая грубость. Открыв рот, она уставилась на вошедшего, потом перешла на другое место и продолжала так же на него смотреть. Суровая действительность безжалостно открыла ему картину, которую он на протяжении двух страшных лет даже в мыслях своих не осмеливался вообразить: в сознании отца дочка все время оставалась такой же, какой он покинул ее, спящую, в ту мартовскую ночь.
Наконец путнику пришлось увидеть и то, о чем он знал, но не хотел знать. С кровати, из тряпья донесся писк грудного ребенка. Пришедший услышал собственный голос, спрашивающий у девочки:
— Чей это?
— Это сыниска насей мамки и Юсси-Плидулка. Папка не сдеяй сыниску, а Юсси сдеяй.
— А кто это Юсси-Придурок?
— Это такой чёйтов бойтун и лодыль.
У плиты возилась старуха, ее лицо было покрыто бородавками, и она все время что-то бормотала — путник узнал в ней мать своей жены.
— Уж не красный ли возвернулся из народных ниверситетов? Видать, закончил ученье — али еще охота буржуев пострелять? Ведь говорено было: неча с господами по ягоды ходить, я весь свой век спину гнула и тем жила, но дом из-за господ не кинула — не-ет… А свычаи да обычаи что у белых, что у красных — одинакие, одних порешат, других сделают — на это мастера завсегда найдутся, буржуи не всех тюкнули.
Старуха еще продолжала бессвязно болтать, когда путник бесшумно закрыл дверь.
Разве уже вечереет? Ведь, кажется, только что было утро. Вон и избушка стоит посреди лесной поляны. И день совсем недавно начинался, а он — путник — медлил, сидя вон там, на опушке. Теперь он сидит у другого края той же полянки и украдкой поглядывает в сторону своего дома, в котором уже побывал. Надо устроиться где-нибудь подальше, в густом ельнике, где ничего нельзя будет увидеть, кроме собственной тени.
К счастью для путника, он не встретил своей жены. Спряталась ли она или случайно отлучилась — об этом он не стал спрашивать и поспешил уйти, чтобы не столкнуться с ней лицом к лицу.
И теперь он сидит здесь. Конечно, лучше бы забраться подальше, туда, где насвистывает свои песни дрозд. Но ему хочется побыть еще здесь и тайком из-за деревьев поглядеть на свое прежнее гнездо, под крышей которого теперь живут чужие люди. На душе было так, словно он проводил в могилу самых близких людей: слезы тоски смешивались с чувством освобождения. Все вокруг казалось потускневшим старым воспоминанием: клочок поля, задворки хлева, где все еще лежит невывезенная куча навоза. От дома, как отзвук прежних времен, донесся звук открывшейся и захлопнувшейся двери.
Путник встал и двинулся дальше, он шагал по дороге, высматривая, где бы снова присесть. Он страшно устал, ноги к вечеру опять отекли. Удобные места были повсюду, но хотелось уйти как можно дальше, словно то, где он сядет отдохнуть, имело теперь решающее значение.
Наконец тело почти само собой опустилось у камня возле дороги. Казалось, что отсюда он уже никуда не уйдет. Нет сил, да и некуда. Он поднял руки к горлу — бездумно, просто сжал его пальцами. Самые дорогие воспоминания трех-четырехлетней давности полностью овладели мыслями путника. Когда он закрыл глаза, все остальное куда-то исчезло. Погляжу на былое еще немного, а потом уж как получится.
Он проснулся от какого-то шороха и, открыв глаза, понял, что близится ночь. Кто тут ходит? Не Хильма ли пришла искать его? Как я здесь оказался?
И тут он разглядел старую женщину, осторожно примостившуюся по другую сторону камня. Мать смотрела на сына, как в детстве, когда он просыпался в отчем доме. Как и тогда, они не спешили нарушить молчание.
— Я старалась сидеть тихо, думала — для тебя теперь самое лучшее — сон, но ты все-таки проснулся.
— Да, я очень устал и уснул. Похоже — долго проспал. Сейчас, поди, часов девять?
— А ты не взял свои часы? Они все еще там.
— Не заметил, да и спрашивать не стал, Я туда только на минутку и заглянул.
— Ну и человек…
— Ладно, ладно…
Так сын говаривал прежде, когда хотел прервать материнские наставления. Она всегда этому подчинялась, подчинилась и нынче.
Он молча последовал за матерью к ее избушке. По дороге мать только и сказала, что прослышала о возвращении сына и пошла его встретить… ведь, поди знай, как оно получится… Потом она вспомнила, что в кармане у нее лежит кусочек пшеничного хлеба. Вот…
Наступила ночь, но путнику казалось, что уже утро. Извилистыми тропинками мать и сын добрались до плохонькой избушки за дальним лесом, вошли в темную комнату, где, как и десять лет назад, в годы юности, когда сын заглядывал сюда после своих тогдашних странствий, стоял запах трухлявого дерева. Завтра жизнь двинется дальше.
Palun Перевод Л. ВиролайненСилья. Усопшая юной, или Последний побег старого родового древа (Роман, 1931)
Silja. Nuorena nukkunut eli vanhan sukupuun viimeinen vihanta Перевод Г. Муравина_____________
Жизнь Сильи — молодой, красивой деревенской девушки — оборвалась в начальную пору лета, примерно неделю спустя после Иванова дня. Со стороны эта смерть в некотором смысле казалась закономерной. Лишившись отца и матери, девочка не имела поддержки и от других родственников. И хотя на какое-то время она оказалась на попечении чужих людей, ей все же не потребовалось прибегать к общинному пособию на бедных. Так она избежала этого унижения, впрочем не столь уж и позорного. На хуторе Киерикка, где она находилась в услужении, имелась каморка при сауне. Там она и обитала в свои последние недели, и туда ей приносили еду, скудное количество которой было вполне оправданно, ибо она и того-то никогда не съедала. Столь человечное обращение со стороны хозяев Киерикки объяснялось не какой-то их особенной любовью к ближнему, а скорее своего рода неряшливостью, с какою вообще все делалось в этом хозяйстве. Возможно, помнили и о сбережениях Сильи. По крайней мере, у нее было хорошее приданое, и оно, разумеется, досталось бы попечителям. Хозяйка и раньше-то, бывало, брала у Сильи одежду взаймы.
Силья характером пошла в отца: была очень опрятной, даже в этой запущенной каморке своих последних дней она навела чистоту и порядок. Оттуда ее слабый кашель доносился через утлое окошко на зеленую полянку во дворе, где хмуролицые дети Киерикки играли и что-то строили, Звуки кашля были словно дополнение к травам и цветам — маленькая, неотделимая от атмосферы двора Киерикки деталь того лета.
В тот самый последний период своей жизни девушка познала и несравненную прелесть одиночества. Поскольку сознание ее, как обычно у всех чахоточных, сохранялось ясным до самого конца, это одиночество в начале лета оказалось великолепным лекарством для ее напряженных любовных грез. Правда, одинокой она была лишь в глазах других людей; сочувствующие собеседники, пусть бессловные, но тем более благоговейные, у нее имелись. В каморке было довольно солнечно, а под стрехой старой баньки щебетали ласточки, и это давало благородным инстинктам великолепный строительный материал для создания светлого и счастливого настроения. Жуткие видения смерти не возникали в ее воображении до самого ее конца; она вряд ли сознавала, что смерть, о которой столько всего приходилось слышать в жизни, явилась теперь и к ней. Сама смерть наступила в миг особенно сильного проявления невыразимой словом прелести природы. Это случилось часов в пять утра, когда вокруг царили солнце и ласточки. И ничто другое, будничное, не нарушало атмосферу этого раннего часа, ибо начинающийся день был воскресеньем.
Если поглядеть на жизнь любого человека с момента смерти и до рождения, то возникает как бы застывший образ, неповторимый и пробуждающий тоску. Итак, девушка прожила двадцать два года, она родилась примерно в трех верстах севернее и потом перебралась сюда. Из воображаемой картины жизни покойного, которую наступившая смерть всегда порождает, малозначительные детали исчезают, и можно с достаточной уверенностью утверждать, что картины всех человеческих судеб в свете такого момента, в сущности, равноценны. В картине судьбы девушки — по правде говоря, в тот ранний миг воскресного утра не было никого, кто мог бы представить ее себе, — не много нашлось бы такого, что обречено было бы исчезнуть. С самого зачатия, затаенного и не обозначенного во времени, и на протяжении всех дней ее жизни складывался ее нежный облик, все ее существо. Чистая, без изъянов кожа упруго ограничивала ее затаенное нутро, откуда слышалось биение сердца, а ее ищущие глаза видели отсвет другого взгляда. За свою жизнь она успела побывать лишь человеком, который, улыбаясь, подчиняется своей судьбе, и ничем больше. Так что, по сути дела, вся жизнь Сильи, усопшей в банной каморке хутора Киерикка, состояла из деталей малозначительных.
Правда, от той поры, когда девушке еще предстояло родиться, мерцает некая цепь событий, в которых уготованная Природой судьба порой проявлялась гораздо сильнее, чем действующее на иных основах жизненное везение, которому следовало бы устроить счастье для этого угасавшего рода в последний период его существования. Именно Силья была последним представителем рода Салмелусов. Увы, свидетельств угасания подобных родов никто не пишет, иначе мы бы заметили, что в угасании их повторяются все те же самые скорбные черты, что и у аристократических династий.
1. Отец
Смерть забытой в своем одиночестве девушки Сильи, случившаяся летним утром, явилась, по сути дела, окончательной точкой той более длинной истории, которая, можно считать, началась тридцать лет назад, когда отец Сильи, Куста, вступил во владение наследственным имением Салмелусов. Это было не такое уж большое хозяйство, но владел им род Салмелусов с незапамятных времен, а уж с 1749 года наверняка, ибо этим годом была помечена самая старая из сохранившихся церковных книг. Те давние хозяева, конечно, давно забыты, но вроде бы среди немногочисленной местной общины репутация у них была наилучшая. Самую силу род набрал во времена хозяйствования отца Кусты. Это произошло естественно, не было каких-либо особенных — хороших или дурных — поступков, на которые могли бы намекать сплетницы, но торцовые окна дома Салмелусов, казалось, глядели все надменнее, и это ощущал всякий. Нечто одновременно странное и солидное было и в том, что в доме родился лишь единственный наследник, который, однако же, рос вполне нормально. В детстве и юности он мог жить, как ему хотелось. Он считал всю усадьбу большой площадкой для игр, где и болтался без дела, даже став большим мальчиком, мурлыкая себе под нос песенки и улыбаясь. «Молодой хозяин Салмелус» и другие слова, которые ему говорили, ласкали слух и душу, но над смыслом их он не очень-то задумывался. Уравновешенность и солидность родителей незаметно воспитывала его; вряд ли кому-нибудь доводилось слышать, чтобы хозяин или хозяйка хотя бы советовали сыну что-нибудь, не говоря уж, чтобы наказывали. Так он превратился в рослого улыбчивого молодого человека, унаследовавшего от отца нос с небольшой горбинкой, а от матери глаза, цвет волос и выразительность лица.
Вероятно, родители возлагали все же кое-какие затаенные надежды на сына, но сказать ему об этом не решались. Мать изредка, к слову, когда речь заходила о происшествиях вокруг и в мире, делала слабые попытки изложить сыну свои взгляды, но это оборачивалось препирательством и шутками, которые как бы вспышками высвечивали крепкие узы естественной любви. У матери было чувство, что сын — такой же, как она, и отец втайне теплел душой, видя это. Сознание сына опиралось на два отправных момента, вокруг которых вились черты его характера: первым было некое безотчетное чувство собственного достоинства, честность, название которой он не привык слышать в разговоре, другим — уверенность в том, что имение Салмелус есть нечто вечное, не зависящее от людей, где все происходящее естественно, как дыхание, что не люди правят этим хозяйством, а оно людьми.
И выросшему таким молодому Кусте Салмелусу сперва пришлось похоронить мать, а вскоре — и отца. Мать умерла весной, во время ледохода, а отец в тот же год, осенью.
Сразу же после смерти матери Куста ощутил впервые, что жизнь в Салмелусе пошатнулась, повернула в новом направлении и вряд ли сможет возвратиться в прежнее русло. И он не мог бы сказать, вело ли это изменение к подъему или спуску; оживляющая яркость весны смешалась с серьезностью смерти и безжалостным изменением в его жизни. Он чувствовал лишь, что случившееся — не просто уход одного человека: оставшиеся не были прежними даже в прекрасном свете солнца… То был странный период лета. Отведя лошадей на огороженный выгон, Куста возвращался домой. Посреди озаренного привычным закатом летнего вечера он неприятно вздрогнул: благодушно глядя на дом, он забыл, что отец-то жив, еще жив. И словно там, в воротах, молодой человек увидел свое одиночество, которое как бы шло ему навстречу, воплотившись в некое существо…
Хильма, молоденькая девушка, помощница кухарки, сидела на краю веранды, перед дверью в людскую, мечтательно устремив взгляд на горизонт. Люди, работающие в усадьбе, ели на кухне, служившей также и людской, ничего необычного в этом не было, как и в том, что там была девушка, готовая услужить и следившая, чтобы на столе всего хватало. И сотни светлых летних вечеров похожи с виду один на другой, как скрученные в трубочки и лежащие в кубке номера лотереи. Но лишь в одной трубочке крупный выигрыш, торжественно-тревожный, как угроза грозы в момент отхода ко сну… Куста после долгой дороги приближался прямо через двор к сидящей девушке. Она могла бы встать и не спеша, как обычно, войти в дом, но не сделала этого. Совершенно спокойно продолжая сидеть, она позволила лицу своему выражать красивую печаль, томный взгляд ее словно требовал, чтобы молодой человек заметил это. Молодому человеку, лишившемуся матери, присутствие девушки и ее взгляд были очень приятны. Он как раз должен был отнести уздечку именно туда, на веранду людской, где она сидела. И он положил туда эту уздечку, потянувшись через плечо девушки… Такими были в тот летний вечер Хильма и Куста, которым предстояло разделить одну судьбу и стать родителями общего ребенка. И таким был сам этот вечер, что потом нельзя было уже не принимать его во внимание.
Наоборот, последствия того мига ощущались и сразу же, с самого начала, и еще весьма долго. И старый хозяин вскоре заметил, как обстоит дело. Из лучших побуждений он старался делать вид, будто ничего не происходит, но юная любовь, подобная этой, еще не успев привести ни к каким поступкам, уже наполняет дом странным трепетом. Он исходит от каждого слова и движения влюбленных, даже от их молчания. Тогда и пустяк вроде песенки, вообще-то весьма безобидно напеваемой себе под нос, может выглядеть большим буйством. Но хозяин Салмелуса не умел ясно и просто представлять себе вещи, чуждые его характеру. К тому же он тогда все еще думал о том, как со смертью хозяйки изменились здесь жизнь и быт, что многие утраты оказались невосполненными или стремились восполниться странным образом. Хозяин Салмелуса неприятно вздрогнул, наткнувшись мыслью на противнейшую из противных мелочей: девчонка-то — бедная служанка. «Нет, не то, я не об этом…» И ему показалось, словно обстоятельство, о котором он подумал, придало облику девушки какую-то незнакомую гордую черту. Но старик инстинктивно почувствовал в этих мелочах нечто иное — какие-то первые гримасы приближающейся насмешки судьбы. Незаметно вместо старого знакомого пути под ногами оказалась ненадежная почва. Если так пойдет и дальше, ночь наступит прежде, чем отыщется дорога — если вообще она отыщется.
И как-то внезапно старый хозяин заметил, что после смерти хозяйки в доме ничего не изменилось. Как же можно было так справляться с делами? Это же выглядело, словно та, кого проводили весной, не имела никакого значения. Размышляя у себя в комнате, хозяин чувствовал то, чего не хотел бы чувствовать: где-то там сейчас какая-то дурацкая природная сила пульсирует в двух сердцах, по сути дела невинных. И именно потому, что они столь невинны, их ждет тем более суровая участь. Хозяин размышлял, уставившись на темные августовские ольшаники и скошенные луга. «Надо позвать сюда Мартту. Может быть, удастся немного уравновесить одно изменение другим».
Он написал сестре письмо и в тот же вечер понес его на почту. Там он и сам получил письмо — приглашение на свадьбу, далеко, в третью отсюда волость. Вернувшись домой в сумерках, он сказал сыну: «Отправиться туда придется, похоже, тебе, мне это, чувствую, не по силам».
Куста согласился, даже с радостью. Ему было теперь очень легко отправиться в путь по такому веселому делу. При отъезде взгляды с обеих сторон давали истовые заверения, так что на свадьбу Куста Салмелус прибыл в светлом настроении и выглядел представительно.
На свадьбе он чувствовал себя очень бодро. Ощущение счастья сохранилось, увеличенное разлукой, оно заполняло сознание, и, возвращаясь домой, последнюю часть дороги он шел пешком во власти наинежнейших чувств. Ноги сами несли его вперед, и впереди, казалось, нет никаких трудностей. И удача сопутствовала ему, ибо в одном месте какая-то баба, выйдя из избы, вполне буднично подошла к изгороди, отделявшей двор от дороги, и запросто заговорила с Кустой. А он и не спешил в этот спокойный предвечерний миг, возвращаясь домой из гостей, и хотя ничего не спрашивал, услыхал от нее кое-что. В Салмелус, дескать, приехала сестра хозяина, чтобы вести дом, и сразу же сказала, что двух женщин там не требуется, раз она взялась хозяйничать, и в первый же день учинила Хильме разнос. На что хозяин предложил Хильме начать подыскивать себе новое место. И Хильма, стало быть, теперь у себя дома, в глуши.
— Ах так, ну что ж, всего хорошего.
— До свидания, до свидания.
Куста ничуть не обдумывал услышанное, пока не удалился от избы. Он не оглядывался, а потому и не заметил, как девчонка из той же избы крадется за ним; увидав, что он свернул на лесную дорогу, она стреканула обратно. Лишь там, на лесной дороге, ведущей к бедняцкому двору семейства Хильмы, он присел на обочине передохнуть и с наслаждением предался чувствам, которые в последние дни еще больше разрослись в его душе и, казалось, становятся теперь все ярче и ярче. Ничего, кроме деревьев, кроме леса вокруг, он не видел, и ничто не представлялось ему в тот миг более далеким, чем то, что он хозяин какого-то дома, нынче и в будущем. Погостив на свадьбе, он расслабился, и с этим легко соединилась детская беззаботность, которая, похоже, еще никогда не исчезала. Он ведь знал Хильму с детских лет — он фактически возвращался домой из куда более долгого пути, чем поездка на свадьбу. Безветренная теплая погода придавала наступающему вечеру ощущение довольства и покоя. Кусте виделось, что не скоро еще, когда-нибудь ночью пойдет он обратно в Салмелус, в свою комнату. Так же виделись в его детском представлении предстоящие времена долгими и прекрасными. Юноша любил свою комнату, потому что она так охотно ждала его.
Довольство жизнью сделалось неловким в тот миг, когда стала видна та самая избушка. Был-то будничный летний день, но в последнее время чего только не происходило. И не было обычным, чтобы единственный сын Салмелусов вот так, в праздничной одежде, шагал в этих местах. Дорога и лес вокруг, казалось, с изумлением глядели на приближающегося гостя, но лицо хозяйки избушки выказывало какое-то предвкушаемое удовольствие: так же, как и у той бабы, заговорившей с Кустой давеча. Хильмы, к счастью, в домишке не оказалось.
— Услыхал я, возвращаясь домой, что Хильма ушла от нас, вот и свернул, чтобы заглянуть сюда.
— Известное дело, двум хозяйкам в доме не ужиться, — хитровато ответила мать Хильмы, готовя гостю ржаной кофе.
— Хильмы, что ли, и дома-то нет?
— Уж не напрасно ли шли.
— Да там она, в пекарне, — сорвалось с языка у младшей сестренки.
Когда Куста спустился с крыльца избы и, улыбаясь, спокойно пошел через двор к пекарне, его не покидало ощущение, будто он побывал у завистливых соседей.
Пекарня была маленьким старым строением, и из ее окошка был виден лишь хмельник да часть поля и озера между хмельником и пекарней, и ничего больше. Там, в зеленоватой полутьме низенькой постройки, он нашел Хильму. Это бы та же девушка, что сидела однажды на веранде людской Салмелуса, и, однако же, не та. Здесь она была в своей среде, грудь дышала, не стесняемая страхом, легкая застенчивость казалась тут прелестной. Их любовь, не нашедшая выражения до сих пор ни в слове, ни в деле, проявилась этой ночью и в том, и в другом… Куста Салмелус, позднее отец Сильи, улыбаясь, шел по всем тропинкам и дорогам своей жизни.
С тех пор минули десятилетия — достаточно времени, чтобы позабылись все такие детали — особенно если учесть, что лишь гораздо позже в Салмелусе произошли события, считающиеся в здешних местах, впрочем, как и всюду, главными, ибо касаются дома и другого имущества… Но в ту осень и этого было достаточно, чтобы не давать покоя всем тем людишкам, которые на своих бедных землях там, за многими поворотами дорог, жили одним лишь обыденным. А этот случай делала необычным подоплека происходящего — дом, земля и другое имущество. Сплетниц выводило из себя, что им собственно нечего было сказать на сей счет. Они находились и противном, предвещавшем недоброе замешательстве; слепо угнездившиеся в их подсознании жизненные установки казались оскорбленными. Если бы вечно мурлыкающий что-то себе под нос и улыбающийся сын владельцев состоятельного имения проник ночью к дочке из бедного семейства, то это явилось бы не столь уж необычным происшествием, просто оживило бы захолустную жизнь. И всегда интересно, сколько удастся содрать с владельцев имения на прокорм ребенка. Если повезет, могут согласиться платить совершенно без счета, лишь бы дело не получило слишком большой огласки. Но такое неприменимо к Кусте Салмелусу: тут бабий нюх действовал безошибочно. Впрочем, события той поры давно уже забыты. Баб-сплетниц одну за другой, навеки замолчавших, уже давно препроводили из их захолустных хуторов в село на церковный погост и там забыли наглухо в заросших травой рядах могил. Даже если еще и найдется кто знающий, что покойная жена этого покойного хозяина Салмелуса была дочкой бедняков из такой-то хижины, настоящего, кипящего страстями разговора эта история уже не вызовет.
Старый хозяин Салмелуса в тот вечер бодрствовал до тех пор, пока Куста не вернулся. Это произошло уже за полночь, часа в два. Сын возвращался веселым шагом, и отцу больше ничего не требовалось видеть и слышать, он уже и так знал все.
Молодой человек, возвратившийся сюда в старый дом, когда луна уже светила вовсю, конечно, думал в тот момент не о тех достойных внимания делах, которые успели совершить здесь его отец и тетка. Старый хозяин очень хорошо понимал это и верил, что если бы сын хоть немного задумался о столь далеких вещах, то был бы, конечно же, благодарен обоим им, старым людям. Слышно было, как Куста укладывался спать в своей комнате; хотя звуки оттуда доносились слабо, все же можно было понять, что тот в радостном настроении. Когда в комнате сына все стихло, старый хозяин почувствовал, что теперь он совсем один, и в этом одиночестве ему осталось только наблюдать за грустной беспомощностью последних своих усилий навести порядок. И даже самому себе он не признался бы, что думал об этом, приступая к ним.
Если старик не спит до утра, предаваясь таким размышлениям, это для него добром не кончится, особенно если не приведет к ясному, резкому решению, приносящему облегчение, освобождение. Хватка жизни слабеет, и в той же мере начинает ощущаться приближение смерти. В тишине предутренних часов хозяин Салмелуса вспоминал свою покойницу жену с какой-то особой серьезностью. До сих пор он полагал, что их двое — помнящих, и поэтому все казалось легче, милее. Теперь же, внезапно, дело стало выглядеть иначе. В левой стороне его груди так противно заекало, что трубка едва не выпала из руки. Он быстро отложил ее и принялся торопливо раздеваться, чтобы успеть лечь на спину, если, как показалось, предстоит долгий сон.
Жизнь была триединым целым: если одна из составляющих выпадала, то и другие не могли существовать. Не было больше возможности продолжать жизнь, и мужчине, предчувствующему приближение смерти, казалось, что и самого дома уже больше не существует. Единственным, что сейчас еще незыблемо сохранилось в памяти, был образ покойницы жены с теми истинно серьезными чертами, которые в каждом отдельном случае бывают и остаются лишь достоянием мужа и жены и которые становятся заметными только в очень важные моменты. Не имело большого значения, увидит ли он завтрашний день. В более глубоком смысле завтрашнего дня для него больше не настанет. Он потерпел полное поражение, хотя никакого сражения вроде бы не было.
После этой ночи старый хозяин стал серьезнее прежнего и очень замкнутым. Он по-прежнему ходил повсюду, но говорил так мало, что работникам иной раз оказывалось трудно понять, чем они должны заниматься, а Куста и обычно-то был столь же малословен. Конечно, все и так было хорошо известно, однако же, как ни странно, даже ближайшие очевидцы не отпускали на сей счет никаких замечаний. О прогулках Кусты тоже знали, но и этим не пользовались, чтобы подразнивать его.
Однажды случилось, что какой-то бедняк-арендатор попросил о чем-то старого хозяина в присутствии Кусты и нескольких работников. Ничего не сказав просителю, старый хозяин лишь слабо улыбнулся и поглядел на сына. — А что ты об этом думаешь? — Куста покраснел и тоже улыбнулся, но тут же лицо его отразило беспомощность и досаду. — Да что я-то… — И он пошел прочь, чуть не плача.
Поздним вечером того же дня в каморке у Хильмы он был ласковее и молчаливее обычного, и девушка обратила на это внимание.
— Что с тобой? — спросила она. Но он лишь смотрел прямо перед собой, и подбородок его вздрагивал. — Скажи, полегчает, — повторяла Хильма.
— Да отец-то стал совсем немощным.
На эти слова Кусты девушка не смогла ответить ничем иным, как молчаливым размышлением о небытии. Куста склонил голову на грудь девушки, подобно усталому ребенку, прижимающемуся к матери, и охотно бы надолго остался так, ведь в таком положении отдых ребенка и забвение мужчины бывают самыми глубокими.
Комната отца в Салмелусе и каморка Хильмы во дворе безземельного арендатора стали крайними точками жизненного пространства Кусты, между ними он теперь перемещался с предчувствием чего-то неопределенно сурового. Когда он приходил в одну из них, другая забывалась, словно и не существовала вовсе. Дома он иногда замечал, что тоскует по усопшей матери. И легкая печаль возвращала мысли мужчины в детство, где ему было легче и беззаботнее всего.
Так прошли погожие дни бабьего лета. Сделалось сыро, в ригах стали топить. Однажды утром увидели хозяина Салмелуса идущим в ригу, как обычно. Он набрал из кучи нарубленных дров охапку поленьев, кинул их в ригу через порог и, как бы застыв на мгновение, с трудом шагнул внутрь. Мартта, сестра его, случайно бросив взгляд, увидела, как Вихтори вошел в ригу, и все продолжала смотреть в ту сторону. Утро было бесцветным и хмурым: этакий случайный миг жизни, когда пожилой человек, даже самый деятельный, может неожиданно вздрогнуть, ощутив жуткий груз времени. Так случилось и с Марттой, и при этом она поймала себя на том, что уже долго глядит на ригу во все глаза. Но не поднимался дымок над ригой, и Вихтори все не шел оттуда. Со двора вообще не доносилось ни звука. Для времени, которое показывали настенные часы, это было необычным. Мартта встала и огляделась. Где же все?
Она вышла из дома и остановилась на крыльце кухни. Дверной проем риги выглядел черной дырой, неподвижной, словно задержавшийся странный миг. Что же это творится? Идти туда — да над нею же смеяться станут, — но она все же пошла. «Пришла взглянуть, что тебя тут задержало», — так она собиралась сказать Вихтори. Но из риги даже вблизи не было слышно ни звука. И когда она, вытянув шею, заглянула туда через порог, то увидела Вихтори, брата, самого близкого своего, на полу опрокинувшимся навзничь, и руки его были вытянуты вдоль тела.
Так начался этот день, и по мере приближения вечера он становился все более гнетущим. Нередко смерть стариков дает живым чувство освобождения, но теперь было иначе. У Кусты бывали настоящие разговоры с отцом лишь в детстве, а детство продолжалось до самой смерти матери. Теперь отец беззвучно отошел, так и не сказав того, что, вероятно, все же хотел бы сказать взрослому сыну. Тот, кто уходит в молчании, уходит победителем.
В тот вечер Куста раньше обычного собрался идти к избе за лесом.
— Да что же ты за человек такой? Тело отца еще не остыло, а ты уже бежишь к девке. Знаешь ли ты, мальчишка, из-за чего помер отец?
— По-моему, нужно известить Хильму, — ответил тетке Куста.
— Небось намерен привести эту сюда теперь, когда…
— Не знаю… Вы ведь ее прогнали.
— Я ее не прогоняла, но, правда, считаю, что она не придет сюда до тех пор, пока не зароют в землю того, кто ее прогнал.
Куста уже давно знал, как было на самом деле, но, несмотря на это, разговор с теткой произвел на него отвратительное впечатление. Если молчание отца было красноречиво, то уж слова его сестры не могли не возыметь своего действия. Куста не обладал одной важной способностью, не мог оставаться безразличным ко злу. В этом был ключ к загадке его судьбы и позднее, когда наступили настоящие материальные испытания. Он был восприимчив к яду…
Ведь Хильма была для него тем, чем была, нерасторжимо, как жена для мужа, какая бы ни была — хорошая, плохая ли, однако же слова тетки, этой старой девы, произвели предназначенное впечатление… И Хильма не могла ничего поделать с тем, что не знала лучшего подхода к своему жениху в нынешней ситуации, что ей оставалось лишь ограничиться молчанием и задумчивым видом. Она ведь этим ничего не испортила. И хотя она стала теперь невестой Кусты, но вообще-то была просто Хильма, молоденькая и наивная девушка из бедной избы, служанка в Салмелусе, — и на свой манер умела больше, чем кто-либо другой. Она сумела посмотреть мужчине в глаза тогда, далеким летним вечером, и не увертываться, когда он протянул руку с уздечкой ей за спину. Этим поступком она сразу поставила себя вровень с Кустой и сумела там удержаться. Она еще упрочила это тем, как приняла Кусту, когда он, возвращаясь из гостей, со свадьбы, пришел к ней в пекарню. В тот долгий вечер и ночью не произошло ничего, кроме возвышенных подтверждений тому, что уже началось. И они давались в таком количестве, какого хватило бы на целый век.
Так что убить зародившееся тогда не мог больше никакой яд.
Хильма не появлялась в Салмелусе до тех пор, пока тело старого хозяина не было предано земле. Лишь на третий день после похорон, когда отбыли последние гости, она пришла, немного застенчивая, но все же достаточно уверенная и ничуть не боящаяся старой Мартты. Молоденькая девушка, ставшая уже втайне женщиной — такой видел ее Куста теперь в старом наследственном своем доме, начавшем с этого мига жить мощным излучением не таящейся больше любви. Куста не приказывал Хильме явиться сюда, девушку привело ее верное чутье. Такой приход был дороже самого дорогого заверения.
Когда Куста вошел в кухню, Мартта хранила молчание и не ответила на его вопрос, чем бы попотчевать гостью. Куста принялся было за дело сам, но тут вошла Анна, молоденькая скотница, и он попросил ее помочь. Тогда-то тетка, занимавшаяся какой-то пустяшной работой, зло заплакала. Анна не дрогнула, только нехорошо посмотрела на нее. Куста сказал ей, улыбаясь, но очень серьезным тоном: «Так ты все сделаешь, Анна?» Ничего не ответив, девушка рьяно принялась за дело.
Куста уговорил Хильму остаться на ночь в доме. Он сам постелил ей в горнице для гостей. Хильма спокойно улыбалась, слегка смущаясь знакомой почетной комнаты и Кусты, который был здесь владельцем всего и в таком качестве как бы незнакомым.
Далеко в прошлом остался летний день ухода Хильмы отсюда, вспоминать об этом было захватывающе сладко. Теперь стоял поздний осенний вечер, когда Хильма несколько неловко пожелала Кусте доброй ночи на пороге старой господской комнаты для гостей. Она понимала, почему Куста не мог войти вместе с нею. Спать ей не так-то уж и хотелось, зато приятно и покойно было лежать в безмолвной темноте, которая очень деловито и словно самой себе напоминала ей события этого дома, для Хильмы совершенно чужие, однако же выглядевшие этакими занятными ночными картинками. В полуночную пору она немного ждала и Кусту, но не разочаровалась, оставшись до утра в одиночестве.
Утром Хильма задержалась в комнатах, а на кухонной половине старая Мартта с хмурым видом суетилась, готовясь к отъезду. Увидев заплаканные глаза тетки, Куста испытал к ней жалость и был противен самому себе. Казалось, будто эта пожилая и ехидная женщина была не одна, будто на ее стороне — кто-то невидимый, старый и отвратительный, против кого хотелось восстать, хотя интуиция подсказывала, что тот опирается на установления поколений.
Куста поинтересовался, насколько мог обходительнее, как обстоит дело с жалованьем Мартте.
— Я никогда еще за всю свою жизнь не была служанкой на жалованье, и теперь тоже.
После этого слабого укола Куста почувствовал, что победа на его стороне, и пошел в гостевую комнату, где сидела Хильма, празднично одетая и улыбающаяся. И хотя он и одержал победу над Марттой, этот день все же оказался странной смесью праздника и будней, счастья и чего-то еще. Он принялся представлять себе, что Хильма теперь вскоре переберется сюда, станет хозяйкой. Он заполучит полностью эту нежную, как дитя, девушку, для которой все, что угнетает чувство, чуждо, словно грех для ангела; заполучит ее сюда, в эти комнаты, где нечего будет бояться, не будет ни Мартты, никого… Он не пришел этой ночью к Хильме… все это было как-то слишком благостно, удручало своей мягкостью.
Конюх пришел спросить, можно ли ему поехать проводить тетю Мартту, поскольку она попросила его об этом и ждет наготове. Конюх тоже выглядел неприветливым и удрученным и словно готов был надерзить, если бы представилась возможность. Вскоре конюх с тетушкой уже выезжали из ворот, а Куста и Хильма глядели им вслед из окна зала, и Кусте представилось, будто в этом миге есть что-то бессовестное, к чему оказался причастен он, а эта девушка из бедняцкой избы — и подавно. Дом окончательно лишился чего-то такого, что было в нем всегда и лишь слабым, жалким остатком чего была уезжающая тетушка Мартта. Это стало теперь прошлым, а в доме остался постоянный дух запустения. Куста ясно ощущал, что нынешнее, возникшее сейчас, предвечернее состояние останется надолго. В него он угодил с этой Хильмой, которая ничего в таких вещах не смыслит и, подобно преданному созданию природы, последует туда же, куда и он, ожидая от него лишь намека, чтобы всегда отдавать ему все то, что имеет. В этот миг, как никогда, Куста хотел преклонить голову на грудь Хильмы в самом глубоком забытьи. Но произойти это должно было бы в маленькой, темноватой каморке при пекарне дома Хильмы и чтобы ничего не знать об этом опустевшем доме, который, однако, здесь, тоже подобный какому-то беззащитному существу, которого, даже будь оно уродом, человек не может бросить.
Куста, пожалуй, был рожден покидать, но неумел этого. Он вряд ли заметил развилку путей: здесь от широкой и плоской дороги отходила тропка вглубь, к спокойной, по-домашнему уютной земле. Но он пошел широкой дорогой, и другое, еще более слабое существо — вместе с ним.
И тут явилась девушка-скотница спросить, что готовить на ужин и кто будет готовить. Ей-то никак не успеть.
Благодаря этому вопросу первые шаги по новой дороге сделались обманчиво привлекательными. У Хильмы появилась возможность пойти в кухню, на прежнее свое место, но в новом качестве. Она снова лучилась. Ей доставляло необычайное удовольствие обращаться со знакомыми вещами и местами. Кое-где что-то изменилось с тех пор, как она летом ушла отсюда; тем приятнее было изгонять этакий чужой дух с полок в чулане. Ужин был готов, мужчин позвали со двора к столу. Один жизнерадостный торпарь разрядил напряжение, отпустив несколько бравых шуток в адрес новой хозяюшки, по которой он, мол, уже было соскучился.
Среди остальных, особенно среди служанок, были и иные настроения. Были хмурые взгляды и долгое ворчание. И когда тот же самый торпарь, отужинав и посидев минутку, взял свой мешок с провизией и сказал: «Надо, что ли, и мне пойти обнять хозяюшку!» — никто на это никак не отозвался.
Хильма не замечала настроений вокруг. Женское начало проявилось в ней сильнейшим образом. Замечательно, что теперь по столь веской причине ей придется остаться и на эту ночь — она ведь пришла сюда еще вчера днем. И вернее верного она знала, что ее возлюбленный на сей раз не оставит ее одну до утра.
Она пошла стелить себе постель снова в гостевой, теперь уже по собственной инициативе. Ведь настал вечер…
Утром, когда Хильма еще спала, а Куста вошел в кухню, там сидела мать Хильмы. С многозначительным видом она спросила про свою дочь, мол, уж не съела ли ее тетка, домой-то девчонка не вернулась. Что Хильма еще спит, она, разумеется, знала уже от служанок, но, услыхав теперь об этом от Кусты, принялась изрекать, что хозяйке негоже нежиться по утрам, можно все хозяйство проспать. Тут, мол, уже и служанки удивляются.
— Не выйду я туда, на кухню, пока она не уйдет. Чего ее сюда принесло, — сказала Кусте Хильма из постели.
Все же она встала и пошла в кухню, но Куста матери Хильмы больше не показался.
После обеда Хильма сказала:
— Мне надо сходить взять там кое-какую одежду. Пойдешь со мной?
— Пожалуй, лучше, если ты одна. Конюх отвезет тебя.
Лишь в вечерних сумерках Хильма вернулась и разложила в гостевой комнате какие-то свои мелочи. С непререкаемой женственной самоуверенностью она сделала эту комнату своим постоянным владением. Туда Куста мог приходить на свидания с нею, как раньше в каморку пекарни. И с тех пор она уж больше не покидала усадьбы — до того дня, восемь лет спустя, когда она с единственным оставшимся в живых ребенком на руках, Сильей, покинула Салмелус уже навсегда. Но до этого успело еще случиться многое.
Правда, все происходило потихоньку да помаленьку. Большие стенные часы во все моменты жизни шли не спеша и серьезно, минута за минутой, в праздники и будни, в тишь и бурю. Все эти моменты, на взгляд часов, были в чем-то сходны, но если бы часы могли покинуть свой футляр и начали жить, то заметили бы, что у всех моментов есть и другие свойства, кроме протяженности во времени. И все их, однако же, должен прожить тот, кому они предназначены, и за каждую минуту дать отчет хотя бы потому, что за нею начинается следующая. Начинается не с пустого места и отнюдь не с любой приятно проведенной минуты.
Молодая пара в Салмелусе жила своей жизнью. То, что смогло начаться однажды, сделалось привычкой, превратилось — часы все шли — постепенно в основной фон жизни. Поначалу незачем загадывать наперед, как сложатся годы: свои предчувствия они променяли в то лето и осень чудес на сверкание единственного момента.
Свадьбу справили тихо. Мать Хильмы, правда, дважды приходила в Салмелус уговаривать молодую пару справлять свадьбу в Плихтари, в доме невесты, как водится у людей. Но Куста оба раза не согласился разговаривать с нею, а Хильма от себя сказала, что Куста волен делать, как захочет.
— Люди еще подумают, что свадьба была прежде венчания, — пугала мать Хильмы.
— И была, — сказала Хильма, вызывающе улыбаясь.
— Ну тогда все равно, где такую пару обвенчают и обвенчают ли где-нибудь!
Визит тещи закончился сухо; даже кофе она не смогла допить и на прощанье пробурчала что-то невнятное. Но прошло уже три недели после оглашения, надо же было это как-то завершить. На следующее утро, еще лежа в постели, Хильма обхватила руку Кусты и сказала:
— Послушай, нам все же придется предстать перед попом. Одежда уже становится мне тесноватой.
— Поедем сейчас же! — объявил Куста и игриво резко высвободил руку.
Минуту спустя он вернулся в горницу и сказал:
— Ты готова уже? Лошадь ждет.
Хильма еще только расчесывала волосы, но она сильно обрадовалась этой замечательной утренней шутке. Сперва гребень остановился, но тут же стал чесать еще усерднее.
— Сегодня, что ли, меня обвенчают?
— Да, и может быть, меня тоже, — сказал Куста, дурачась.
Как бы там ни было, это означало для Хильмы необыкновенно радостное изменение в жизни. Ведь, несмотря на оглашение, Хильма еще не умела считать себя не кем иным, как девчонкой, с которой случилось то, что случилось, но жизнь, однако же, была приятной и безопасной под защитой этого малословного, улыбчивого мужчины. Теперь она станет женой. Жена, — Хильма раздумывала над этим словом, будто слыхала его впервые.
Вороной конь под звон бубенчиков привез их в пасторат. А когда ближе к полудню они вернулись, хозяин весьма скоро воспользовался возможностью сказать девушке-прислуге: «Спроси у хозяйки». Ужин был обильнее, чем обычно. Стол накрыли белой скатертью и угостили ужинавших водкой, как это было принято в праздничных случаях при покойном хозяине. Затем, в ближайшие дни, когда жены торпарей и арендаторов приходили в усадьбу, их принимали торжественнее, чем обычно, покуда не угостили всех. И в эти дни жены бедняков, по возвращении в свои жилища, рассуждали о новой, странноватой жизни в усадьбе Салмелус.
Первая осень и зима протекали тихо и спокойно; никто не тревожил молодых, ведь вопросов о дележе наследства даже не возникало. Молодая хозяйка, хлопоча по делам, то и дело сновала по зимним тропинкам двора. Какой-то старик из глуши шел мимо дома по дороге. Увидав хозяйку, он остановился, уставившись на нее и приоткрыв заросший бороденкой рот, и затем пошел дальше, чтобы рассказать потом дома обо всем, что заметил. Ведь то, что хозяйка Салмелус в интересном положении, видно даже с дороги. «Да уж так, дочка этих, она сумела — теперь эти Плихтари начнут бахвалиться, — Тильта — баба ловкая. Это же удивительно, до чего иным везет…»
Куста однажды увидел подобную бестактную сцену, когда прохожий мужик остановился поглазеть, и обо всем догадался. Доводилось ему слышать и слова. Как-то вечером выяснилось, что надо бы починить бадьи для корма лошадей, и хозяин сказал добродушно и не особенно задумываясь:
— Придется попросить старого Плихтари.
Ему казалось, будто этим он сказал что-то лестное и о жене, да так, чтобы слышали находившиеся рядом работники. Но один торпарь, постарше, выпалил, словно выплескивая скопившийся гнев:
— Нет уж, черт подери, обойдемся тут без мастеров из Плихтари! — И, подняв бадью на ясли, прикрикнул еще и на лошадь.
— Злится, что ли, Вооренмаа за что-то на Плихтари? — спросил Куста у другого работника.
— Злиться на такого — в брезентовых штанах — себе дороже, — заметил Вооренмаа, слыхавший вопрос.
Куста, пожалуй, громковато стукнул мешалкой о край кадки с водой, но промолчал. Мужчины, закончив работу, поспешили прочь, Вооренмаа уходил последним и незаметно стал тушить фонарь.
— Я еще здесь, — сказал Куста и стукнул по краю кадки весьма сильно.
— Оставайся, сатана, хоть на всю жизнь, — прошипел мужик и выскочил из конюшни. Куста затем погасил фонарь и тоже ушел.
В кухне ужинали работники, и Хильма была там — Куста счел, что она держится, как раньше, когда была служанкой, помощницей в кухне. Нынешняя кухонная девушка, Ловийса, дочь Вооренмаа, уселась за стол рядом с отцом, хозяйка одна стояла у плиты.
— Чего ты-то там стоишь? Небось Ловийса обслужит стол, — сделал ей замечание Куста и прошел мимо, в комнаты.
Слышно было, как люди ели в безмолвии, и Хильма тоже оставалась там. В вечерних сумерках атмосфера в доме сделалась гнетущей, никто не понимал, откуда она.
Когда люди, отужинав, встали из-за стола, торпари разошлись по домам, а батраки по местам своего ночлега. Куста пришел в пекарню, где задержалась Хильма наедине с Ловийсой. Девушка убирала со стола, а хозяйка, похоже, ждала от нее ответа на какой-то только что заданный вопрос.
— Старый Вооренмаа был сильно сердит, что это с ним? — спросила Хильма при Ловийсе, продолжавшей свою возню. Куста поглядел девушке в спину и в глаза Хильмы.
— Я-то почем знаю, — он и на меня шипел. Разве Ловийса не знает?
Куста вышел, походил несколько минут по дому и снова вернулся в пекарню.
— Там, слыхать, у дочки Ээвы дело плохо. То-то Вооренмаа и был в сердцах, — сказала Хильма.
— Да, по милости Ийвари Плихтари, — сказала Ловийса, неуместно резко громыхнув посудой.
Семейная жизнь Хильмы и Кусты развивалась своим чередом. Этим вечером в их разговоре, когда они наконец удалились в горницу для гостей, были серьезные повороты и долгие паузы. Семейство Плихтари — родные Хильмы — все назойливее день ото дня напоминало о своем существовании. Куста больше не чувствовал, что он наедине с Хильмой, даже в такие поздние, дорогие сердцу мгновения. Теперь в усадьбе было полно людей: торпари с дочерьми, Плихтари… и Хильма, дочь Плихтари, тут же. И в какой-то миг Куста ужаснулся: неужто он один среди всех них? И с каких пор? Может, с того вечера там, в каморке в Плихтари, когда Хильма ничего не могла сказать ему?.. Ведь вроде бы ничего другого не было, кроме тех двух вечерних мгновений: одного — на веранде людской, другого — там, по возвращении со свадьбы?
Было, было и другое. Уже в движениях этой женщины не стало застенчивости изящной и гибкой девушки из торпа, да и не требовалось. Ее располневшее тело заключало в себе нечто такое, чему нет дела до этих сложностей. Куста смотрел и смотрел на нее, словно только в этот миг заметил произошедшие с женой изменения; непривычно теплая нежность заполнила сейчас вдруг его кровь и душу. Исход всего старого из Салмелуса оставил после себя лишь пустоту, гнетущее действие которой нынешним вечером опять ощутилось столь сильно… Но эта зима сперва превратилась в весну, затем в лето — жизнь не остановится, ее лишь следует беречь. Был опять почти такой же миг, как тогда, весной, там, на веранде. Тихое всхлипывание Хильмы прекратилось, последняя реплика ее была уже забыта. Понуждаемый проснувшимся сильным желанием, Куста прильнул к жене и ласкал ее. Глаза Хильмы еще блестели от слез, когда она сказала, улыбаясь:
— Не надо так резко… чтобы не повредить сыночку.
В такие мгновения вокруг них были лишь стены маленькой комнаты да знакомые вещи, частью принесенные Хильмой из ее каморки в Плихтари. Они спали, как дети, не ведающие ни о чем, ни о ком, но утром, когда они проснулись, вокруг опять было хозяйство, батраки, торпари, Плихтари.
В кухне как раз случилась Тильта Плихтари, на которую Куста, проходя мимо, посмотрел удивительно застенчиво и покорно. Затем выяснилось, что нужны деньги, там, дома, — это сказала Хильма. И когда в тот же день к вечеру кто-то пришел за своим жалованьем, хозяин не смог заплатить сполна — не хватало наличных, поскольку деньги розданы в долг еще старым хозяином… Было так, словно последствия утреннего визита Тильты Плихтари еще ощущались в доме. Куста изменился лицом, когда говорил с просившим жалованья: скулы его покраснели, и он посмотрел на Хильму, которой следовало все знать и понимать. Но на ее лице было то особое отсутствующее выражение, которое Куста замечал и раньше, когда они бывали наедине. Но теперь оно впервые появилось при постороннем.
Деньги, да — как же тут быть, с деньгами-то? Придется отказать в отсрочке некоторым должникам. Куста как бы разговаривал сам с собой, но это могли слышать и проситель, и Хильма. И не прошло много времени, как один должник по собственному почину явился платить.
— Слыхал я, что хозяин собирается отказать мне в отсрочке, вот я и поспешил сам.
— Ничего я про вас не говорил.
— Кивистоя Вилле вроде бы сказал, что хозяин угрожал отказать Коркеэмяки в отсрочке долга, коль не смог заплатить ему однажды за колку дров. Но он такой пустозвон, что его словам верить не приходится.
Этот случай тоже дал паре повод для вечернего разговора. И стоило Хильме ли, Кусте ли упомянуть к слову о чем-нибудь имеющем касательство к Плихтари, как это приводило к некоторому препирательству. Куста показывал все яснее, что он не благоволит визитам тещи; когда она, слащаво улыбаясь, сидела на кухне и в присутствии прислуги с явным удовольствием заговаривала с зятем, Куста, словно бы отвечая ей, говорил что-то девушке-скотнице, которая, держась в сторонке, прихлебывала кофе. Он выказывал свое настроение, не очень-то остерегаясь при этом и Хильмы. Кому угодно позволялось видеть, что Куста вне себя, и молодая девчонка-скотница стеснялась неоправданного внимания к ней хозяина. Словно она и это случайно собравшееся в кухне общество, к которому, казалось, принадлежит и хозяйка, невольно, одним своим присутствием здесь вызвали что-то такое, чего не следовало бы вызывать.
Случилось раз-другой, что Куста внезапно заставал батраков во время работы за каким-то откровенным разговором. При появлении Кусты они раздраженно умолкали, обменявшись парой туманных намеков.
— И кто же это такое сказал, кто так поступил? — допытывался хозяин в открытую, стремясь понять общие настроения.
«Одна бывшая девушка», — отвечали ему. Или: «Один бывший мальчишка, возвращаясь с рынка». И ничего толком не объясняли. Пока однажды хозяин не отвел в сторонку старого торпаря и тот по-свойски не объяснил, что они там перемывали косточки Ийвари Плихтари.
После этого вечером, ложась рядом с женой в постель, Куста был молчалив. Хильма нашла и сжала его руку, но ответного пожатия не получила, ощущала лишь омертвевшие мозоли на ладони и пальцах. Темное безмолвие сгущалось, и под общим одеялом каждый старался даже дышать потише. Жене это было труднее: в ее состоянии вдохи получались короткими, и слышно было, как она пыхтит от волнения. Поворачиваясь к Кусте, она издала прерывистый вздох и тут же внезапно схватила мужа за плечо, и затем среди всхлипываний можно было разобрать такие же прерывистые мысли, поневоле произносимые вслух:
— Что ж ты все время злишься — ведь знал же ты, откуда я, когда взял меня. И не будешь больше видеть тут моих домашних, если не хочешь, — я мать сюда не звала — скажу ей, чтобы не приходила больше, — другие-то оттуда и так не приходят.
— Не приходят, зато слава о них приходит, — холодно произнес Куста.
Хильма, похоже, не услыхала этого замечания. Она продолжала плакать и все сильнее прижималась к груди мужа. И Куста уж не мог ничего другого, как попытаться другой рукой хоть как-то приласкать и успокоить ее. Но от этого всхлипывания жены перешли в плач.
— Ой, я несчастная, куда же я попала! И почему же я должна из-за кого-то страдать, если сама я никогда ничего такого не делала и такой не была.
Тело жены казалось горячее обычного, и вся она, пытавшаяся свернуться клубком и уткнувшаяся мужу в подмышку, была еще более неуклюжей, чем прежде. Это наблюдение переломило настроение Кусты; такая смена чувств случалась у него и прежде. Да и последняя фраза жены привлекла его внимание: до сих пор он никогда не задумывался, могло ли у этой Хильмы, дочери Плихтари, быть что-то такое раньше, до ее прихода в Салмелус. Теперь, из этих оброненных женой в сердцах слов, он понял, что, по крайней мере, на сей счет можно быть уверенным. Хильме, похоже, и в голову не пришло приравнять к таким случаям то, что произошло между ними, — и это было надежнее любых заверений. Растроганный, он ласкал жену нежно, как прежде, когда она еще была девушкой…
Последовали тихие, благодатные часы покоя, но утром Куста и Хильма проснулись ранее обычного. Сначала они как бы напоминали друг другу что-то взглядами, затем возник негромкий разговор.
Хильма теперь впервые рассказывала мужу все как есть о своем брате Ийвари, похоже, она была в курсе его нынешних дел. Ээва Вооренмаа небось уже родила, и ребенок, видать, от Ийвари, тут никуда не денешься. Однако же Вооренмаа вроде бы дали знать, что дело можно уладить без суда, если Ийвари согласится заплатить Ээве пятьсот марок. И заплатить он должен до Рождества, иначе повестка к ленсману будет ему вместо рождественского подарка. Но ведь у Ийвари таких денег нет — разве что он возьмет где-нибудь в долг, а потом помаленьку отработает.
Куста отнесся к делу так, словно Хильма обратилась к нему с прямым вопросом или просьбой.
— Тебе надо самой сходить туда сегодня и все выяснить, — сказал Куста, одеваясь и давая понять мягкостью самого тона, что Хильме можно еще остаться в постели. И она осталась — лишь отвечая на его теплое внимание, хотя никакой необходимости лежать у нее не было. Впрочем, так, в постели, можно было подумать об остающихся неделях и о приготовлениях — уже сделанных и тех, что еще предстояли.
Земля подмерзла, но снег пока не выпал. Дорога из Салмелуса в Плихтари была бы удовольствием даже и для худшего ходока, и Куста после короткого обсуждения согласился, чтобы Хильма пошла пешком. Было приятно видеть жену, идущую по дороге, удаляющуюся от дома для выяснения щекотливого дела. Походка Хильмы сделалась тяжеловатой, но все же была достаточно упругой, чтобы, глядя на нее, спутник жизни ощутил тепло. Самой Хильме ходьба доставила сильную, не испытанную ранее радость: лишь теперь, приближаясь к родному двору, она почувствовала себя уверенной хозяйкой большого имения.
Хильма открыла дверь жилой избы, и в первый миг ей показалось, что на нее пахнуло чем-то чужим, мелькнула удручающая мысль: не обдумав всего, она пришла зря. Мать странно остановилась посреди избы и уставилась оттуда на нее, как на зашедшую в дом незнакомую подозрительную путницу, глядела беззастенчиво прямо и долго на ее располневшую фигуру и сказала:
— Неужто опять получила обратный билет от какой-нибудь тетки?
— Как вы могли так подумать, — дочь не нашлась сказать ничего другого.
— Да уж подумала, ведь хозяйке такого имения, да в таком положении, вроде бы негоже пускаться в этакий путь пешком.
— А я подумала, что приятно пройтись по сухой дороге, если не к спеху. Да и бабушка Тонтилла мне говорила, что умеренная прогулка принесет только пользу.
— Ты, стало быть, живешь теперь советами старухи Тонтиллы, ну, она и своим сумела насоветовать, у двух уже ребятенки от одних только ее советов.
— Скоро и у ваших двоих от ваших же советов будет не хуже. У одного, слыхать, уже дите пищит, да и другой, сами видите, не долго ждать осталось.
Тон был почти в духе самой Тильты, но на сей раз он казался, как и атмосфера в избе, противнее обычного. Однако же так, естественно и сразу, разговор коснулся того, ради чего Хильма и шла сюда. Самого Ийвари дома не было, небось где-то бегает с ружьем за белками.
— Нет, он подался в Кунтехухто, узнать, поедут ли там на ярмарку, чтобы отправить заодно беличьи шкурки, — сказала младшая сестренка хмуро, как обычно.
— Да уж, чтобы вооренмааской дочке было что с него взять, — продолжала мать ехидничать, перекинувшись теперь уже на сына.
Лишь после того, как явился Плихтари-отец, с лязгом положил на место топор, сунул рукавицы на шесток и, как принято, с подходцем приступил к разговору, напряжение начало слабеть. Да, старый Вооренмаа и сам сказал ему, мол, на пятистах марках они бы поладили; на это он, правда, ответил, что, мол, не многовато ли, но тот принялся поминать богатого зятя и всякое разное.
Несовершеннолетняя сестренка, наморщив высокий лобик, прислушивалась к тому, как улаживали дело.
— Куста, пожалуй, может дать взаймы, — сказала Хильма солидно и назвав мужа только по имени, так чтобы все хорошенько это заметили. — Но Ийвари должен будет потом расплатиться.
— Он и сам нипочем не принял бы такого подарка, не знаю, согласится ли еще взаймы-то взять, — сказал отец примирительно.
Хильма и впрямь выказала себя зрелым человеком в этих немногословных переговорах. Уже и мать заговорила с ней заискивающим тоном. И когда затем старый Плихтари запряг лошадь, чтобы отвезти на дребезжащей повозке дочку в Салмелус, во дворе к моменту прощания воцарилась та семейная атмосфера, какая бывала тут крайне редко, однако же если возникала, то все ее узнавали, словно теплое, животворное дуновение. Такими и оставила мать, сестренку и избу замужняя дочь, сидя рядом с отцом в знакомой маленькой повозке. И всю дорогу она была во власти этой атмосферы. Лишь когда стал виден Салмелус, Хильма опять растерялась. Хильме почудилось, будто торцовые окна Салмелуса — это глядящие глаза, а сама она каким-то образом уже там, за этими окнами, словно и не уходила оттуда, хотя и сидит сейчас в повозке, рядом с отцом. Войти теперь в дом Салмелусов было для нее почти так же непросто, как войти давеча в избу Плихтари. Только что владевшее ею блаженно-счастливое чувство показалось странно чуждым. Кобылка Плихтари, погоняемая отцом, с трудом тащила свой груз из ложбины вверх по откосу, к амбару и крыльцу кухни.
На сей раз хозяин и хозяйка беседовали со старым Плихтари в комнатах. Люди могли думать и говорить об этом что угодно. Они и говорили — кто-то решился высказать свои прямодушные соображения самому Вооренмаа. Дескать, теперь-то Ээва получит на своего младенца как положено, — потому как старая кобыла Плихтари стоит там, у коновязи, так долго, что позади нее уже вон какая куча «яблок».
— К черту! — сказал старый Вооренмаа и зло плюнул.
Куста понимал, что надежнее было бы ему самому отдать деньги прямо Вооренмаа; он бы, наверное, так и поступил, не случись той недавней ссоры в конюшне. Теперь же это невозможно. И хотя он был наперед уверен, что обратно ничего не получит, и вообще сомневался в исходе всего дела, он вручил купюры покрасневшему и твердящему слова благодарности тестю.
Поскольку старый Плихтари не спешил уезжать, Куста отлучился куда-то — по делам — и вернулся лишь, дождавшись дребезжания удаляющейся повозки. Конечно, Кусте было понятно праздничное настроение Хильмы, излучавшееся на весь дом в этот холодный день переходящей в зиму осени, но все же вызывало у него досаду. Он казался себе еще более одиноким, несмотря на то, что жена всячески старалась выказать ему свою близость. Взглядом и всем своим существом Хильма как бы говорила, что Кусте незачем беспокоиться об этом… как и обо всем другом. И она наконец произнесла это вслух. В тот вечер еще удалось позабыть дневные заботы.
Семейство Плихтари держалось теперь от Салмелуса подальше, но в канун Рождества, в пятницу, пришла младшая сестренка Хильмы, которой поручили передать Кусте и Хильме приглашение в Плихтари на второй день Рождества. Это было вполне приемлемое приглашение, поскольку молодожены Салмелус еще ни разу не посетили вместе родителей жены. Когда Куста, выходя из дому по хозяйству, увидел в кухне, на том месте, где обычно сиживала теща, молоденькую свояченицу, он дружелюбно кивнул ей и даже подал руку. И когда тут же, в присутствии девчонки, Хильма пересказала ему приглашение, Куста ответил так же добродушно:
— Что ж, поедем во второй день Рождества… но есть ли у тебя что-нибудь им в подарок?
Но тут же в памяти его мелькнуло что-то неприятное: слова «рождественский подарок» воскресили в его памяти угрозу Вооренмаа насчет «рождественского подарка» семейству Плихтари, из которого двое находились там, в кухне. Стоило лишь одной из них прийти сюда, как их опять сразу же становилось двое.
Куста пошел на скотный двор, втайне надеясь, что, когда он вернется, сестренки Хильмы уже не будет.
Хозяин вместе с работниками занимался обычными зимними делами на конюшне. Старый Вооренмаа, который тоже был там, выглядел чуть более хмурым, чем обычно, и время от времени посматривал на дверь кухни, словно ожидая кого-то. И когда наконец оттуда показалась девчонка Плихтари, он, не раздумывая, оставил работу, направился к девчонке и заговорил с нею. Разговор их длился недолго. Затем Вооренмаа вернулся к прерванной работе, на прежнее место, неподалеку от хозяина.
— Спросил я у девчонки, что же сын Плихтари намерен предпринять в отношении своего ребенка, но она ничего не знает. Рождество, однако, уже на носу, так что, видать, лучше вести дело через ленсмана.
Хозяин на это ничего не сказал, и Вооренмаа продолжал работу. Когда он наконец бросил на хозяина взгляд, то увидел, что у того на лице пылает знакомый зловещий румянец. Вооренмаа, хотя и не молод, все еще мужик сильный, и никто ни разу не посмел его обидеть. С молодым хозяином Салмелуса у него все же случалось, что приходилось невольно поддать жару в работе, поскольку хозяин стоял рядом, словно держа за шиворот. А иной раз у Вооренмаа возникало вдруг желание немедленно уйти, как тогда в конюшне.
— Разве Ийвари не приходил к вам уладить дело? — послышался наконец сдавленный голос хозяина.
— Не при-хо-дил! — Вооренмаа выкладывал слова по слогам, как везучий игрок в карты открывает один за другим свои козыри. Было ясно, что мужику все известно.
Хозяин отвернулся, вроде бы ища что-то в кармане. Потом он снова повернулся к Вооренмаа и спросил еще тише:
— А удовлетворилась бы Ээва теми пятьюстами? — Лишь произнеся эти слова, Куста заметил, что сказал лишнее: ведь он никогда раньше не говорил с Вооренмаа об этом деле и о такой сумме. Вооренмаа пробормотал в ответ, что, мол, удовлетворилась бы, и хозяин опять так же, как только что, отвернулся. Когда же он снова повернулся, готовясь что-то сказать, ему пришлось сперва слегка, а затем сильнее и сильнее откашливаться.
— Вооренмаа может уйти с работы пораньше, чтобы успеть за счет рабочего времени сходить к ленсману… посоветоваться.
Сказавши это, хозяин ушел. Последнее слово осталось за ним, и оно было распоряжением работнику. Но до чего же одиноким он себя чувствовал.
С этого разговора началось первое дело, которое Куста совершил, оставив жену в неведении; возможно, это и стало началом его суровой судьбы. Но — как уже замечено — то, что оказалось нарушенным, должно быть исправлено, и исправить это должна, в широком смысле слова, сама жизнь или ее жалкое орудие. Возможно, сам Куста думал, что хочет уберечь Хильму, которой скоро предстояли роды, от сильного огорчения. Но где-то в подсознании он все же ощущал, будто наказывает кого-то, конечно же и самого себя.
Поездка Кусты в деревню, где находилась церковь, выглядела вполне естественной, ведь уже был день подготовки к празднованию Рождества. И у него нашлось там столько дел, что время до вечера пролетело незаметно. Когда Куста уезжал, Хильма смиренно намекнула ему, что небось он хочет захватить оттуда что-нибудь в подарок семейству Плихтари, но на это он ей не ответил. В селе видели, как он первым делом сходил к ленсману, затем заглянул в кожевенную мастерскую, а после пошел в лавку и очень не спеша совершил так кое-какие покупки. Лошадь стояла у бревна-коновязи несколько часов, и через спинку саней свисал старый домотканый салмелусовский ковер с неуклюжими цифрами некой даты, используемый теперь как санный полог. Поскольку Куста редко выезжал из дома, то люди, оказавшиеся в лавке, подходили к нему поздороваться за руку… Потом зашел в лавку старый Вооренмаа, — ну и мужик, явился в приходский центр в запачканной рабочей одежде… Но хозяин Салмелуса как раз собирался выйти, и дверь прикрыла его, когда вошел салмелусский торпарь. Кое-кто в лавке сделал по этому поводу многозначительную гримасу, да тут еще Вооренмаа, расплачиваясь, достал большую пачку купюр, которая явно появилась в кармане старика только что — об этом кто угодно мог догадаться.
Полчаса спустя ленсман и его супруга глядели вслед молодому хозяину имения, покидавшему их двор уже во второй раз за этот день. Они любовались красивым румянцем его лица, благородным носом с горбинкой, почтенным ковром в его санях. И они обсуждали между собой то дело, которое сегодня хозяин Салмелуса оформил с помощью ленсмана. И теперь в кармане у Кусты Салмелуса была бумага, из которой следовало, что «я, Карле, сын Сефани Вооренмаа, от имени моей несовершеннолетней дочери Ээвы… получил… и полностью отвечаю за то, что после этого отказываюсь возбуждать дело против Ийвари Плихтари о взыскании с него на содержание ребенка… умрет, его законные наследники не обязаны выплачивать обратно…».
Этот документ Куста Салмелус от своей жены утаил. А вообще, вернувшись домой, он был вполне спокоен и с педантичностью показал супруге все покупки. Правда, для семейства Плихтари он не сумел купить ничего, но, может быть, Хильма найдет тут, дома, что-нибудь, что годится в подарок. В том, что Куста после этого держался с нею несколько отстраненно, ничего удивительного для Хильмы не было; сейчас — хотя бы временно — Кусте и следовало немного отстраниться.
И с рождественским визитом в Плихтари они побывали, хотя Куста, отправляясь туда, предчувствовал, что добром их поездка не кончится. Поскольку в этом повествовании Куста столь же важное действующее лицо, как и его будущая дочь, рассказать о которой мы и будем стремиться, и поскольку рождественский визит к Плихтари стал решающим поворотным пунктом на том пути, на котором оказался последний мужчина рода Салмелусов, расскажем об этом поподробнее.
_____________
Плихтари было старым жилищем в этих малонаселенных местах, по которым разбросаны избушки безземельных арендаторов; от центральных земель туда вела характерно извилистая лесная дорога, которую летом обозначали вылезшие на поверхность корни деревьев и коровьи следы, образующие у ворот, где скотина останавливается в ожидании, грязное месиво с желто-зелеными лужами; зимой же — полосы, прочерченные свисавшим с саней хворостом, да клочки сена, застрявшие в дырах ворот. При прежнем поколении это было даже крепкое подворье, но теперь, при Хейкки, оно постепенно приходило в упадок. Частично к этому привело то обстоятельство, что ко времени истечения срока старого арендного контракта Плихтари становилось местом зажиточным, и хозяин, заключая новый контракт, известное дело, поставил более жесткие условия; частично же и то, что Хейкки Плихтари был человеком ограниченным и благодушным, не рискнувшим покинуть место, а предпочитавшим пойти на некоторые лишения, но сохранить аренду. И, конечно, не менее важной причиной оказалось то, что бразды правления этим арендным хозяйством держали не те руки. Хейкки взял себе в жены Тильту, одну из дочерей известного в округе семейства Карьяхарью — вернее, она женила его на себе, а удержать такую в узде — серьезная работа и для мужика покрепче. С ее появлением в избенке зазвучали известного рода громкие заявления, препирательства, претензии и расчеты на успех. Если что удавалось, Тильта считала это своей заслугой и прямо-таки честью, за все же неудачи доставалось Хейкки. Тильта родила троих детей, из которых старшая, Хильма, хотя и пошла характером больше в отца — была благодушной и тихой — все же весьма удивительным образом оказалась хозяйкой старого и зажиточного Салмелуса, словно она прямо с неба упала туда и расцвела, а никакого все более приходящего в упадок Плихтари никогда и в помине не было.
И вот она едет в гости по зимней дороге рядом с мужем своим. Упомянутый второй день Рождества выпал на сей раз на воскресенье. Хильма в несколько возвышенном настроении, поскольку сегодня они и в церкви были вдвоем, будто на какой-то увеселительной прогулке. И сидящий рядом с нею мужчина улыбается сегодня многозначительно, словно, держа вожжи, он выполняет нечто приятное, смысл чего проявится лишь позже. Эта поездка в гости представляется красивой, как ни погляди.
В Плихтари, куда они едут, знают, когда их ждать, но… полной готовности к приему гостей там так и не будет. В избе в эти рождественские дни ссорились и ругались больше обычного, и теперь старику Плихтари особенно не по себе и он злится, сам не зная на кого. Ведь ездил за этими деньгами он, и сам же немного виноват в их растрате, хотя и полагал тогда, что сумеет все уладить. Ему хотелось лишь нового чересседельника с бубенцами и зимней сбруи, и он был уверен, что в крайнем случае Вооренмаа согласится получить эту часть суммы после Рождества. Но затем урвали себе от этих денег сначала Тильта и, наконец, Ийвари, и идти к Вооренмаа с той ничтожной суммой, какая осталась, стало неудобно. Ийвари и Тильта были теперь заодно, сын с ведома матери приложился уже к той бочке крепкого домашнего пива, которую собирались почать лишь с прибытием хозяев Салмелуса, и теперь только посмеивался.
— И нечего тебе, дармоеду, усмехаться! — кричит старик на сына невероятно громко. Парень встает и начинает, стоя, ругаться, мол, он у этот патрона из Салмелуса ничего не просил и, Боже упаси, не станет просить, а если его бабе такой брат не годится, то и пусть, и кормить малявок дочки Вооренмаа он не намеревается.
Тут в обычно благодушном Хейкки пробудился инстинкт отцовства, и он прикрикнул на сына еще резче, отчего тот, похоже, лишь пуще разъярился. Тильта собралась было вмешаться, но тут послышался непривычный звон чужих бубенцов, из-за угла конюшни показалась белая лошадь под дугой, сани и затем два знакомых лица. В следующий миг отец Хейкки уже держал лошадь под уздцы, а сынок Ийвари улизнул с крыльца неизвестно куда.
Он мог спокойно дать стрекача и даже, остановившись, послушать, как смиренно Хейкки и Тильта встречают гостей; его, Ийвари, не видел никто. Его уверенность в себе росла по мере того, как он продвигался по узенькой тропинке в снегу к погребу. Через приоткрытую дверь он пролез внутрь, в пахнущую каменной сыростью земляную пещеру, и, привычно действуя в темноте на ощупь, услыхал знакомое журчание крепкой домашней браги. «Там на чистой половине избы наш старик, хм, отец… и этот сынок Салмелусов, который держится так, будто он отец нашего старика — ха! — и еще наша девчонка тоже, будто незнамо кто — тьфу!» — так рассуждал Ийвари Плихтари в темноте погреба, потягивая напиток, который строго было приказано сберечь для хозяина Салмелуса. И чем больше он пил, тем сильнее его тошнило и от Плихтари, и от Салмелусов, и от Вооренмаа, от каждого по-особенному. И он решил уйти отсюда, пойти к соседям и вернуться домой, когда, можно полагать, гости уже уедут. Он проверил затычку в бочонке, запер погреб торчавшим в двери большим ключом и… не раздумывая больше, сунул ключ в карман. И, все еще злясь, устремился рысцой прочь.
В доме гости действительно были проведены на только что протопленную чистую половину, куда Тильта должна была подать для начала кофе с булочками, а Хейкки — подогретую брагу. Но вскоре выяснилось, что ключ от погреба исчез, однако сперва это не сумели связать с исчезновением Ийвари. Перепалка яростным шепотом, шаги, какая-то возня доносились из кухни, и Хильма пошла выяснить, в чем дело. Пока ехали в гости, ее немного похудевшее лицо разрумянилось, и она была в новом платье — прямого и просторного покроя, которое, как обычно господским женам, было сшито и ей специально для этого времени. Она выглядела весьма внушительно, когда, заложив руки за спину, шла через пустоватую комнату, как и подобает попавшему на чистую половину гостю.
Хильма и оказалась первой, кто заподозрил, что ключ может находиться в кармане у Ийвари. После некоторого обмена мнениями и поисков наобум домашние, словно бы побежденные Ийвари, тоже поверили в это. Хильма уговаривала оставить дверь погреба в покое до тех пор, пока парень не вернется домой, вряд ли он надолго задержится, но Тильта решительно заявила, что пусть хоть стену пробивают, ей все равно нужно достать оттуда картофель, чтобы тот сварился не позже чем через час, и тогда Хейкки пошел и выломал дверь погреба. Вскоре брага была в кувшине, и старина Хейкки получил возможность завязать с зятем беседу, направляя ее в желательную ему сторону. Старику не много потребовалось, чтобы развязался язык. Хейкки объяснял, а мать и обе дочери вставляли, по домашнему обычаю, замечания. Объяснения старика растянулись на целый вечер и закончились лишь часов в девять в кровати, на которую он повалился, не раздевшись, и захрапел. Но к тому моменту уже давно были выслушаны его объяснения, что, дескать, само по себе, глупо идти отдавать семейству Вооренмаа такую кучу денег, когда нет даже уверенности, что отец того младенца — именно Ийвари. «Точно, он — отец!» — выпалила тогда четырнадцатилетняя сестренка. «Нишкни!» — прикрикнул на нее старик и продолжал: дескать, не подали же Вооренмаа иск, хотя и грозились громко таким рождественским подарком, потому-то Ийвари и ярится, вот даже ключ унес. «Да, если унес!» — заметила на это младшая. — «Тогда небось ты его взяла», — пробормотал отец, пытаясь отшутиться.
Куста тоже с удовольствием отведал замечательного напитка — Тильта Плихтари была мастерица готовить брагу, ее даже нередко звали за этим, особенно под праздники, в крупные имения волости. Напиток, приготовленный ею на сей раз к визиту зятя, был достоин ее репутации. Уж она постаралась, ибо тоже урвала свое из тех полученных от зятя денег. К счастью, Ийвари успел выцедить из бочонка не так уж много. Обычный легкий румянец щек хозяина Салмелуса постепенно раскалился докрасна, лицо сделалось влажным, и, наконец, он тоже пустился в объяснения столь же долгие, как и у старика тестя, только еще более невнятные. Он говорил теще Тильте, как обдумывал это дело и пришел к такому выводу, что если бы его отец с матерью явились с того света, чтобы посоветовать ему, то сказали бы, что случившееся с Ийвари совершенно не касается ни его, Кусты, ни Хильмы, жены его, — но он все равно должен был бы ради репутации семьи сделать так, как он и поступил, уплатив эту сумму. В ответ теща опять же, как могла лучше, постаралась объяснить, что хотя они и истратили деньги не по назначению, но пустили их на дело — большую часть. Теперь ведь в отрепьях не очень-то поедешь в деревню к такому-то зятю, еще примут за цыган… и еще всякое такое, чего Куста никак не мог взять в толк.
От всех этих объяснений дело понятнее не становилось, пока не вернулся домой Ийвари. Его объяснение оказалось столь сильным, что начавшие было налаживаться семейные отношения вмиг затянулись тугим узлом намертво.
Итак, часов в девять Хейкки лежал, скрючившись, на своей кровати, и наконец был готов ужин, которым Тильта обещала угостить Кусту и Хильму, — для него-то и понадобилась картошка, ради которой, как и ради браги, пришлось взломать дверь погреба. Куста и Хильма ели вдвоем в горнице, и Куста объяснял теперь Хильме, как посоветовали бы ему его отец и мать. Тогда-то и послышались приближающиеся крикливые, пьяные голоса; почти сразу же они слились в единый гул разговора, и было слышно, как Ийвари сказал, что сходит в погреб. Но там он долго не задержался: уже хлопали двери, сперва в сенях, затем в кухне, откуда сразу же донеслось все то, чего и следовало ожидать. Увещевающий шепот Тильты перебивали выкрики все более ожесточающегося Ийвари. — Наша брага не для салмелусских глоток! — Это, наверное, выблядок самого Кусты Салмелуса, раз он так щедро заплатил за него и мне, и девчонке Вооренмаа, — ха-ха-ха — ой, Господи! — Разве этот горбоносый со своей бабой все еще здесь?
Даже Хейкки проснулся и, не вставая с постели, прикрикнул было, но тут же снова затих. Тогда Хильма поднялась из-за стола и устремилась в кухню. Куста остался на месте, чутко прислушиваясь, и вскоре услышал такое, что встал и тоже пошел в кухню.
Он пришел как раз вовремя, чтобы увидеть — и пережить — событие, оставшееся в его жизни единственным. Неужели эта хорошо одетая женщина на сносях действительно его жена? А тот пьяница, толкнувший как раз в этот миг беременную так, что она ударилась об угол печи, неужели он — родственник его жены, ее брат? Как бы то ни было, случилось небывалое: Куста Салмелус в первый и последний раз в своей жизни набросился на человека. Жуткое отвращение словно бы полностью овладело им, когда он ощутил в своей руке ворот пальто этого — неужели его зовут Ийвари? — и горло его под своими пальцами. Это происходило возле припечка, над которым висела новехонькая кожаная сбруя — и… Куста опомнился оттого, что две женщины, умоляя, кричали ему прямо в ухо, и отпустил наконец горло уже посиневшего было мужчины, выронившего из одной руки большой железный ключ, а из другой — затычку от бочки. Оглянувшись, Куста увидел Хейкки Плихтари, гневно-торжествующего, словно старик сам только что укротил его. Слегка придя в себя, Куста громко хмыкнул и сказал: «Теперь салмелусские глотки уедут». Он поглядел на Тильту и Хильму, приводящих в чувство все еще лежащего без сознания Ийвари, и выбежал с непокрытой головой во двор, к лошади.
Окончательно Куста опомнился лишь в санях, по пути домой, когда он старался изловчиться и объехать один жуткий, торчащий прямо посреди дороги пень, замеченный им еще по пути в Плихтари. Он увидел рядом с собой жену, утомленную и словно пребывающую в полусне. А впереди желтела только что взошедшая луна… Куста помнил все, но не разжимал губ. Он снова был на полпути между Плихтари и Салмелусом — жив ли еще отец там, впереди? Нет, уже нет. Плохо дело.
Во дворе Хильма выбралась из саней и пошла — тоже не сказав ни слова — в дом. Куста поставил лошадь в конюшню, и когда затем подошел к кровати, Хильма лежала, отвернувшись к стене, и, казалось, спала. Однако долгий дрожащий вздох все же выдал ее.
_____________
Когда говорят, что то или это хозяйство разорилось, имеют обычно в виду не одно конкретное событие, приведшее непосредственно к разорению — если, конечно, речь не идет о происшедших в конце 60-х годов захватах земель. Тогда, несмотря на бедственные неурожайные годы, иной энергичный крестьянин заложил основы своего благополучия, которое еще и в наши дни дает возможность его отпрыску вести праздную и богатую жизнь, особенно если «покойник-старик» успел вовремя выселить торпарей из наиболее крупных своих торпов, — до вступления в силу новых, охраняющих их законов. Под конец того голодного периода хозяйства шли с молотка, даже едва задолжав губернской канцелярии, и если у кого-то из предусмотрительных тогдашних владельцев хуторов водились деньги, пусть и небольшие, он, понятно, предпочитал отправиться на торги и купить то разорившееся хозяйство, нежели дать взаймы оказавшемуся в затруднительном положении соседу, не способному ни на что другое, кроме, пожалуй, чтения по вечерам в постели катехизиса Лютера… А иногда эпидемия тифа настолько опустошала хутор, что не оставалось работников, и даже звать на помощь было некого, разве что какого-нибудь полоумного, находящегося на содержании… Перечисление можно было бы продолжать и еще — так же как, вспоминая, наблюдать этих нынешних полугоспод: с одной стороны, владельцев имений, все еще подкарауливающих возможность приобрести по дешевке какое-нибудь хозяйство, с другой — тихих безземельных мужиков, держащихся с заметным достоинством, про которых можно услышать, что такой-то и такой-то — бывшие владельцы таких-то хозяйств…
Подобные случаи характерны, они связаны с историей отечества, с большими испытаниями, выпавшими на долю всего народа.
Обычно же причины более мелких событий порой бывают гораздо менее явными. У кого-то болезнь погубила стадо, детей, жену, апрельский ветер может сдуть начисто первые всходы ржи, и августовские заморозки могут побить набирающие сок колосья; может случиться пожар или придется платить по поручительству, но хозяин хутора не покинет. Зато следующее поколение — сын или зять, — хотя с ними ничего такого и не случится, возможно, оставит хутор.
Совсем иначе, чем в 60-х, происходило в 90-х годах — как раз на это десятилетие пришлось хозяйствование Хильмы и Кусты в Салмелусе, — предпосылкой разорения мог стать быстрый взлет кажущегося благосостояния и могущества. Результаты продаж леса в то время хорошо известны; нетрудно представить себе такого тогдашнего мужика, бахвалящегося своими деньгами где-нибудь в городском трактире. Теперь, когда на делянках уже сгнил оставшийся от порубки мусор, а новые деревья ждут «ухода за лесом», от тех шальных денег не осталось иных воспоминаний, кроме разве что каменного амбара с просевшим фундаментом или этаких уродливых окон в зале, — два длинных нелепых стеклянных прямоугольника стоймя и третий, лежащий на них. При взгляде на такие окна наверняка вспоминается кожаный бумажник тогдашнего господина сплавщика. Большие деньги, при получении которых ставился лишь крестик вместо подписи, побуждали хозяина не отставать от моды, и, чтобы показать это, он заменил старые почтенные окна залы с шестью квадратными стеклами на такие же, как в доме его брата, переселившегося в Тампере, в Амури, — того самого Вихтори, который позже полностью оберет его, своего брата Таавети, — и так далее…
Последний наследственный владелец Салмелуса не продавал лес и не заменял старых, чуть зеленоватых окон своего жилища. И хотя выработанная веками крестьянская интуиция подсказывала Кусте по возвращении из рождественской поездки в Плихтари, что его жизнь и быт все больше складываются не так, как должно, но прямая натура с затаенной, немного высокомерной медлительностью помешала ему понять, что он и есть тот хозяин, которому суждено покинуть Салмелус. Но и позже, когда владелец старого имения Роймала — эта огромная туша — по-хозяйски рычал уже и на землях Салмелуса, Куста не смог бы назвать ни одного конкретного действия, которым бы он или его жена вызвали это незаметно произошедшее разорение.
Утром Куста проснулся первым, зажег огонь в лампе и посмотрел на жену, рядом с которой проспал и эту ночь. Казалось, Хильма спала крепче обычного, полуотвернувшись от него, и ее лицо с безжизненным выражением было обращено словно бы куда-то в иное бытие, к кому-то, смотрящему оттуда на нее и хорошо знающему и понимающему такое выражение без единого слова. Короткое дыхание спящей, казалось, подтверждало невинность всего того, что выражало лицо. Тяжесть угадывавшегося под одеялом живота была как бы трогательным остатком случившегося несчастья.
Но сознание просыпающегося мужчины было странно вязким. Что же это за ощущение такое — и оно становится все противнее по мере того, как раз за разом разматывается клубок памяти. Ездили в Плихтари… я же поставил лошадь в конюшню… брага и какая-то еда… наконец-то, после стольких разговоров, съездил я к ним… и тут вот их дочь, которая еще приехала оттуда со мной… и я связан с нею, она моя, моя… так что же это со мной?..
Куста вспомнил, как Хейкки Плихтари, безземельный старик с дрожащими коленями, в последний момент встал посреди кухни с таким видом, будто он всех укротил, и его, Кусту, зятя… Будто и он тоже сын Хейкки… Стало быть, теперь отношения с Плихтари такие… и отеческое влияние жалкого старика Плихтари продолжалось еще и здесь, сегодня, в ранний утренний миг, здесь, в старой гостевой горнице Салмелуса, через его дочь, которая спит здесь и… накрепко связана с Салмелусом и… Это все та же гостевая горница, хотя нет в ней уже давно прежней атмосферы, ее полностью изменили дыхание и запах пота… И не слышно за ее дверью знакомого покашливания отца-покойника… Я ведь продолжаю жить в этом доме по-своему, и нет никого, кто поддержал бы меня… и тут спит эта…
Хильма все не просыпалась. Может быть, пока тянулась ночь и муж спал, она переживала собственное потрясение и заснула лишь недавно. Куста тихо оделся, было уже пора, наступило утро, раннее зимнее утро. В такое утро крестьянин, коль проснулся, встает, какой бы ни была его прошедшая ночь. Если он встал как обычно, то разглядывать жену-хозяйку не будет, ибо хозяйка к тому моменту сама давно на ногах и уже разбудила служанку — та всегда готова спать без просыпу. Счастливый хозяин обычно не думает ни о чем, приближаясь в утренних сумерках к конюшне и слыша еще издалека знакомое ржание своей лошади. Работники приходят следом за ним и знают свои обязанности.
Но в Салмелусе в это необычное утро служанка еще не проснулась, как и хозяйка, да и работников что-то не было видно, зато шедший к конюшне хозяин пытался кое о чем думать.
Он вошел в конюшню и сделал обычное: зажег свет, сгреб навоз и почистил лошадь. Затем надел на нее сбрую. Пока он совершал все это, ему казалось, будто кто-то другой, но его глазами наблюдает за ним, пытаясь отгадать его намерения. Однако никаких намерений у него, по правде говоря, не было, просто хотелось куда-то ехать. Сани, на которых работники возили навоз, стояли без дела возле конюшни с сочельника и сегодня, чуть позже, снова будут в работе, для этого хозяин не нужен. Но даже если бы и был нужен, он теперь отправляется на дальний покос — привезти сена. Это мужское дело, и хозяину вполне подобает заняться им в такое праздничное время. Правда, может, и лучше было бы отправиться за сеном попозже, часа через два-три. Но ничего он этим не выиграет.
Однако же, затянув супонь, Куста на мгновение замер, словно задумался о чем-то вместе с лошадью. Было очень тихое, сырое зимнее утро, такое тихое, что ясно слышалось бурчание в лошадином брюхе, а когда животное стряхивало последние остатки конюшенного тепла, то поскрипывание сбруи и оглобель казалось жутким громыханием.
Затем мимо прошла девчонка Ловийса, прошла достаточно близко, чтобы увидеть, чем занят хозяин, и заметить позади лошади короб для сена, стало быть, потом сможет сказать об этом хозяйке. В дверях девчонка еще оглянулась, дрожа, вошла в дом и, было видно, засветила лампу в кухне. Хозяин понял, что может преспокойно отправляться в путь. Нет никакой необходимости возвращаться в дом и что-то там говорить.
Куста позволил лошади двигаться, как ей хочется, утро совсем еще раннее, он все равно успеет на дальний покос, прежде чем совсем рассветет. Стоя в санях, можно предаться сколь угодно глубоким раздумьям. Дорога шла вдаль надежно прочерченной колеей через поля, вырубки, лес. Впереди был след лишь одних полозьев, расстояние между ними показывало, как изменилась ширина обычных крестьянских саней за одно поколение. Сани сына помещались, если можно так сказать, между тех рельс, которые проложил отец.
Куста обдумывал, что теперь ему следует предпринять. Было только неясное предчувствие, что надо от чего-то отделаться, освободиться. Но от чего, он понять не мог, просто казалось приятным ехать все дальше в глушь. Заснеженная лесная чаща заставляет мужчину забыть все заботы, которые он сам придумал себе, пока ехал среди полей. Момент забвения там может наступить когда угодно, но размышления открытых пространств все равно в конце концов вернутся и покатятся все тем же вечным путем.
Отделаться так, чтобы никогда больше не видеть и чтобы даже не вспоминать… по крайней мере об этом парне, шею которого сжимали давеча его пальцы и которому сейчас он не мог придумать никакого имени. Но когда он, стоя в санях, пытался представить себе это освобождение, ему виделось и многое, как бы связанное с тем парнем.
Двор Плихтари со всем семейством, их дочь, которая, наверное, в этот момент проснулась без Кусты в гостевой горнице в Салмелусе, впервые за время замужества в пустой постели. Да и Салмелус, все хозяйство, и еще те, кто оставил ему его; отец и мать — всех их как бы зацепили эти размышления об освобождении, и, наконец, он сам — словно и от самого себя ему надо было убежать. Да, и еще тот, который вот-вот родится… И об этом Куста сейчас подумал впервые прямо и грубо. Но и оттуда путь размышлений неизбежно вел все в то же больное место. Куста впал в уныние: именно тот мужчина толкнул Хильму на угол печи, когда он подоспел на помощь. Вернее, он не успел помешать ему, успел лишь увидеть, как жена отлетела к печи. И теперь у него было ощущение, что он не взыскал с той твари по-настоящему и никогда уже не сможет взыскать. Такие вещи требуют немедленного возмездия.
Ийвари Плихтари все больше заполнял мысли Кусты Салмелуса, и заснеженный лес уже не помогал, а становился, чем больше светлело, холоднее и мрачнее… Ийвари Плихтари — пьяная, грубая тварь — дал волю рукам с его беременной женой, которая в придачу ко всему сестра — Господи! — сестра этой скотины. И все запутывалось еще туже, и еще противнее делалось на душе. Куста не умел, да и не осмеливался додумать до конца, но где-то в глубине сознания ощущал, что тот мужик оскорбил не только его жену, но и не родившегося еще ребенка. Что своим действием эта скотина оттолкнула его, Кусту, от еще незнакомого, лишь предугадываемого отцовства. Он был почти в ужасе. И даже эта поездка показалась ему бесполезной, словно дорога говорила, мол, можешь ехать по мне, пожалуйста, но никакой помощи оказать тебе не сумею. Все равно тебе придется возвращаться.
Путь Кусты вел мимо двора Вооренмаа, об этом он не подумал, выезжая из дому. Правда, там дорога пошла под гору, так что лошадь бежала резво. Но тем медленнее она будет тащиться на обратном пути с поклажей. И к тому же хозяин Салмелуса не находил в своей душе ни малейшей обиды на Вооренмаа. Наоборот, казалось, к его отношению в этот момент прибавилось что-то новое и бодрящее. Старик Вооренмаа был человек, всегда был. И с отцом Кусты он всегда ладил.
На обратном пути лошадь сама остановилась возле колодца Вооренмаа. Прокрутив несколько раз ворот, Куста набрал воды для лошади и, заметив в окне кухни какие-то лица, счел, что заглянуть туда будет уместно. Его и самого страшно мучила жажда.
В кухне он застал старого Вооренмаа, как раз собравшегося идти в усадьбу. Вооренмаа в недоумении поглядел на хозяина — неужто так поздно и надо поторапливаться, коль скоро хозяин уже столько успел? — Нет, спешить сейчас, в пору праздников, вовсе не требуется. И Вооренмаа может подсесть в сани к хозяину. Ведь старому человеку лучше передвигаться на санях, вытянув ноги, чем топать на своих двоих. — Да уж, все равно в конце-то концов протянешь ноги.
Слышно было, как в горнице поскрипывает люлька, время от времени ее двигали, чтобы она качалась равномернее. Потом она совсем остановилась, и в кухню вошла Ээва, бледная и небрежно одетая. Куста попросил чего-нибудь попить. Мать велела Ээве принести гостю напиться. Но сперва следовало дать напитку слегка согреться.
Это был квас: гость заметил, что он подходяще перебродил и превратился в крепкую брагу. Гость и хозяин не спеша обменивались короткими фразами, словами с намеками и затаенным смыслом, пока наконец не начался прямой разговор. И, начавшись, он длился долго. Старый Вооренмаа объяснял в свой черед, как он понимает все — уж его с толку не собьешь, хотя он и беден. Под конец он говорил стоя и настойчиво потребовал ехать в Салмелус, по крайней мере, ему нужно туда, а хозяин как хочет. И он энергично натянул рукавицы, прижимая большие пальцы к ладони.
Куста остался. Его лошадь стояла там, у ворот, всю первую половину зимнего дня. Ее узнала какая-то шедшая мимо баба и удивилась, помня нынешние отношения между Вооренмаа и Плихтари. Уж там небось мог идти крутой разговор. Во всяком случае, дело настолько из ряда вон выходящее, что надо бы исхитриться попасть в людскую Салмелуса и вроде бы между прочим упомянуть там об увиденном. Не прошло и часа, как она уже сплетничала там: «Всенепременно — хозяин Салмелус, уж я лошадь-то его знаю, и старуху Вооренмаа видела — она несла ему брагу из погреба. Конечно, чего бы им теперь брагу не делать — столько денег получили. И как же им не угостить этой брагой разок хозяина Салмелуса…»
Это слышала и Хильма. Промолчав, она ушла в комнаты. Уже смеркалось.
А у Вооренмаа Кусте было хорошо. Согревшись брагой, он расспрашивал женщин, обращаясь время от времени и к Ээве, недавно родившей дочери старика Вооренмаа, который так и ушел. В те моменты, пока мать занималась чем-то неотложным, Ээва оставалась наедине с хозяином Салмелуса и сдержанно, но живо и весьма ловко поддерживала разговор, медленно развиваемый хозяином. Между ними — хозяином и Ээвой — не было никакой враждебности, поскольку они оба относились к Плихтари почти одинаково. Куста предложил Вооренмаа-матери плату за брагу, но та отказалась. «У нас тут не корчма, и вообще мы ведем добропорядочную жизнь, хотя с девчонкой и случилось такое… Кстати, правду ли говорят, будто хозяин сперва дал деньги Плихтари, чтобы заплатить Ээве, но они потратили их сами на себя, и хозяину пришлось дать деньги вдругорядь? Другие-то об этом не говорили, только вот Ийвари кричал вчера об этом по деревне и еще нес всякое и бахвалился…»
Тут Куста словно проснулся. Он посмотрел на кувшин, выпил его, не отрываясь, до дна, сказал: «Всего хорошего!» — и… не произнеся больше ни слова, спокойно вышел за дверь. Немного неуверенными шагами он спустился с незнакомого крыльца, дал лошади еще воды и взобрался на сено. Короткий декабрьский день в избе торпаря закончился.
Закончился он и в Салмелусе.
— Неужто в этом хозяйстве есть такие дальние делянки, что нужен целый день, чтобы привезти оттуда сено? — спросила у мужа Хильма, когда он вошел в комнату. Так — с издевкой — Хильма обратилась к мужу впервые. В имении за день случились кое-какие мелкие происшествия, требовавшие вмешательства хозяина, и хозяйке пришлось понервничать, действуя на свой страх и риск. Понадобились и деньги, но нужной суммы не нашлось.
Поскольку жена все продолжала попрекать его, Куста сказал, устало улыбаясь:
— Неужто семейству Плихтари потребовались деньги на прокорм еще какого-нибудь ребятенка?
До сих пор этому мужу не доводилось говорить с женой столь саркастически.
— Вполне может быть, — ответила Хильма. — Тот давешний, похоже, и впрямь твой, иначе чего бы торчать там, у той суки, столько времени.
У Кусты вдруг напряглось лицо, его взгляд, казалось, устремился в яростное нападение. Но в глазах жены мелькнула легкая насмешка, она не испугалась, она стояла уверенная в своей защищенности не родившимся еще ребенком. Куста видел их обоих как бы сплотившихся против него. Его охватил ужас. Он был в своем доме, словно на чужой, вражеской территории.
Полного выхода из такого положения не бывает. Увы, любовь, начинаясь, всегда бывает столь утонченной и чистой, что позже ей ничего не стоит запачкаться. Любовь мужчины и женщины подобна некоему организму, жилы и ткани которого, однажды разорвавшись, никогда больше не могут срастись. Мудрее бы с самого начала держаться внешне сурово и грубо. А самым умным было бы искать себе жену за тридевять земель.
Этой зимой то один, то другой сосед мог заметить в хозяйстве Салмелус мелкие неполадки, к которым прежние хозяева относились совсем иначе. Оставалась без внимания и все дольше ждала починки какая-нибудь отвалившаяся доска обшивки или покосившаяся калитка. В поле оставили на весну работу, которую следовало бы выполнить уже осенью. Остались непрокопанными кое-где дренажные канавы. Так продолжалось и в последующие годы — нет нужды перечислять все.
Не подала судьба надежды и на будущее родового древа.
То был по-своему важный день в жизни Кусты, когда Хильма рожала первенца. Утром-то она встала, как обычно, и, сидя в кухне за столом, слабым голосом распоряжалась, как и положено, по хозяйству, хотя нередко соглашалась со служанкой, предлагавшей сделать по-другому. «Я-то что, я сама не могу, да и не знаю…» — и она слегка приподняла подол — это стало уже у нее привычкой, — чтобы посмотреть на свои отекшие ноги. И вдруг взгляд ее как-то замутился. Она поднялась, но осталась стоять, опираясь руками о столешницу. Ловийса заметила, как напряженно сжались ее пальцы. «Хозяйка, что с вами, может, пойти за хозяином?»
Когда хозяин пришел, хозяйка уже была в горнице, стояла там странно, немного согнувшись, спиной к двери. Отношения между ними с того понедельника оставались до сих пор такими, как и следовало ожидать. Но они еще сдерживали себя — при посторонних до обмена резкостями не доходило. И никого из Плихтари в Салмелусе с тех пор не видели. Куста целыми днями пребывал на работах вне дома и двора и вечерами не был разговорчив. Чем ближе подступал срок родов — Хильма и сама не знала, когда точно, — тем незначительнее ощущал себя рядом с нею Куста, как бы ни вела себя жена. Постепенно слабело его воспоминание про то мгновение в Плихтари, про угол печи, но все же иной раз, когда они тихо лежали рядом в одной кровати, мужа внезапно захватывало то противное мучительное чувство, что некто — имярек — как бы осквернил его нежнейшее отцовство. Куста больше не ждал появления наследника, как можно было бы думать, зная, сколь сильные чувства владели им тогда, когда предположительно началось это ожидание. Теперь он оказался рабом обстоятельств и лишь подсознательно отвергал некие пугающие видения, чтобы не дать им превратиться в осознанное желание.
Сейчас, войдя в эту богатую воспоминаниями гостевую горницу, он, однако же, всем своим существом ощутил новый прилив теплоты. Теплоты к жене, которая в такой странной позе, казалось, взывала к мужу о защите. Он подошел к ней, как бы невзначай положил руку ей на плечо и спросил о чем-то несущественном. Жена глянула на него в упор, и выражение ее лица поразило его. Словно то была какая-то часть тела, которую мужчине нельзя было видеть в таком состоянии.
— Можешь ты сходить к бабушке Тонтилле и сказать, что я просила ее прийти, — и пусть постарается, чтобы этого не видела сразу вся деревня… И в Плихтари не надо ничего сообщать. Иди скорее — оох!
Стало быть, сей день определен свыше, и ему суждено стать особым днем, какого не знал этот старый наследственный дом с момента рождения нынешнего хозяина. Слух о начинающихся у хозяйки родах вроде бы приглушил всю жизнь дома, но это только с виду, а в глубине души дома росло торжественное, захватывающее ожидание. В такой день и молоденькие служанки, дочери своих матерей, причастные к хозяйке, чувствовали себя как бы значительнее. Самая большая власть во всем доме оказалась у старушки Тонтиллы, она распоряжалась, и хотя обычно бывала приветлива и добродушна, сегодня раздавала указания, ни на кого не глядя. Время шло, и выражение ее лица становилось все серьезнее.
Хозяин занимался чем-то вне дома. Он старался найти себе такую работу, чтобы остаться одному: то в дровяном сарае, то в амбаре, то возле риги. Да к риге-то и привели его сами ноги, подойдя туда, он не помнил больше, зачем пришел. Он лишь открыл дверь — и сразу увидел то место, на котором нашли его умершего отца. Сын стоял спокойно, глядя немного рассеянно. Неужели для этого он и пришел сюда, к риге? Он мысленно попытался вызвать дух покойника отца на то известное место на полу, но этот дух, похоже, спал там, перед очагом риги, и ничего не сказал сыну. Однако же и не упрекнул сына ни в чем.
Куста присел на пороге, лицом на двор, у него было такое ощущение, что сейчас ему лучше всего находиться именно здесь. Отсюда хорошо виден дом, видно и то окно, за которым Хильма — Хильма, приведенная им сюда и сделанная им такой. Куста весьма туманно представлял себе, как происходят роды, но догадывался, что помимо боли и мук с этим связано кровотечение и еще что-то, о чем обычно помалкивают. Во всем этом деле было нечто, мучащее его… и со всем этим связано… опять-таки все то, и в первую очередь Ийвари. Его призрак словно подстерегает где-то там, возле гостевой горницы, и, кажется, всем своим видом говорит, что он, несмотря ни на что, здесь даже и при таком повороте дела, но кланяться в ножки хозяину Салмелуса не намерен… И там же, рядом, его мать… и затем — та поездка за сеном… и там вон теперь рожает та, из-за которой их дела… аахх… И вновь нечто страшное — вроде пожелания — поднималось и подступало к сознанию. Куста застонал в душе, убрался в ригу, сам не отдавая себе в этом отчета, и оказался в пределах того места, где лежал в момент смерти покойник отец. Там он стоял тихо, будто к чему-то прислушиваясь. Постепенно его настроение сделалось каким-то детским, мальчишеским, и он направил шаги к дому.
Его уже искали. Во всех помещениях царила какая-то странная застывшая тишина. Девчонка Ловийса шла из гостевой горницы, замедляя шаг и стараясь не производить ни звука. «Может, хозяин пойдет туда», — сказала она как-то необычно. Хозяин пошел.
Лицо бабушки Тонтиллы было странно перекошено, казалось, она плачет без слез. В последние дни Куста чувствовал себя чужим здесь, под собственным кровом, а в этот миг то ощущение достигло наибольшей силы. Комната выглядела иначе, чем прежде, даже кровать была сдвинута так, что между нею и стеной образовался проход, именно там-то и стояла бабушка Тонтилла. Хильма лежала бледная, с закрытыми глазами и не открыла их, когда приблизился Куста. Лучшие ласки, проявления нежности и слова любви, с которыми эта слабая и жалкая женщина обращалась когда-либо к мужу, вдруг возникли теперь в его памяти каким-то единым, всеохватывающим впечатлением. И это ясно показало мужу, в какой мере еще сохранилось в нем влечение к своей жене, и он увидел эту меру столь же точно, как если бы подошел к комоду и пересчитал оставшиеся в ящике деньги.
— Человек тут помочь был не в силах; если Бог не поможет, ничего не поделаешь, — тихонько сказала бабушка Тонтилла. Но, говоря это, она смотрела на сверток, обернутый тканью, который лежал поперек кровати в изножье. Куста тоже глянул туда необычно пустыми глазами, он не искал там ничего. Однако же он увидел. В отверстии свертка виднелась красно-черная безжизненная головка ребенка.
По правде говоря, Куста не подумал, что там дитя, тем более его дитя, а о том, что мертвое, — и подавно. Когда он наконец осознал это, его охватило непонятное состояние. Никакого отчаяния, ни малейшего намека на скорбь. И это не осталось незамеченным бабушкой Тонтиллой; более того — ее расстройство на какой-то миг исчезло, и старушка оказалась в состоянии впервые отметить про себя, что Куста напоминает покойника Вихтори, у того тоже ни при каких обстоятельствах выражение лица не выдавало чувств. Бабушка Тонтилла в свое время помогала появлению на свет Кусты и поэтому считала его мальчишкой. Теперь прямо-таки у нее на глазах этот парень Салмелус превращался в серьезного зрелого мужчину, — вот так иногда, в особую погоду, можно воочию наблюдать, как растут и меняются облака на фоне неба.
Но даже в самом глубоком закоулке души Кусты не нашлось бы в этот миг ни крупицы отчаяния или скорби. На лице его в самом деле отражалось то, что шевелилось невидимо в душе и было весьма непредвиденного свойства. В действительности выражение его лица, обращенного к мертвому младенцу, было, вероятно, подобно выражению, какое можно представить у дуэлянта, выигравшего поединок, в тот момент, когда секунданты побежденного противника подхватили оседающее мертвое тело.
Куста опять обернулся к Хильме, которая уже настолько пришла в себя, что посмотрела на мужа. На щеках ее едва проступил румянец. Куста заметил это, как страдающий бессонницей и ждущий наступления утра человек замечает в комнате первые признаки зари. И бабушка Тонтилла увидела теперь такое, чего ей, справляя обязанности повитухи в деревенских семьях, раньше никогда видеть не доводилось. Муж нагнулся к жене и прижался щекой к ее лбу. То была особая ласка, так Куста проявлял свою нежность к Хильме, когда они оставались наедине в пору ее девичества. Теперь он впервые выказал ее в присутствии постороннего — этой добросердечной старушки. Он почувствовал, как его щека согревает холодный лоб Хильмы.
Что-то восстановилось — нет, не то, что было прежде, лишь надежда, которая в общем-то и осталась только надеждой. И однажды, гораздо позже, когда Хильма лежала такая же слабая, отдавая душу Богу, вновь возникла похожая ситуация. Такими стали теперь — и остались — брачные узы Кусты и Хильмы.
И во многие другие дела этот день и миг внесли своего рода уверенность. Муж и жена опять были вместе, весь остальной мир отдалился на естественное расстояние. В последовавшие за тем годы случалось, что моментами какой-то слабый оттенок чувства настолько напоминал Хильме о первом времени ее хозяйничанья в Салмелусе, когда она, еще не венчанная, была уже женой Кусты, — что Хильма подмечала это и даже сообщала о своем наблюдении мужу.
Семейка Плихтари, конечно, существовала: Ийвари, старики и все остальные. Время от времени они на правах родственников запросто являлись в Салмелус. Но после той первой, плохо окончившейся беременности Хильма относилась к ним более безразлично. Даже если ей доводилось слышать о мелких происшествиях у них, она больше не считала себя причастной к их делам. Помимо того, Ийвари в последовавшие годы в основном обретался за пределами своей волости, на лесосплаве, так что с Кустой они не встречались. А с того решающего момента у постели Хильмы-роженицы Куста заметил, что его отношение к беспутному брату жены изменилось. Время от времени Кусте снился его мертворожденный ребенок, которого он во сне почему-то путал с Ийвари, таким, в беспамятстве, каким он оставил его тогда в кухне Плихтари. И сон этот еще и после пробуждения вызывал в душе мерзкое ощущение.
_____________
В интересах повествования вполне можно сократить рассказ о следующих годах и перейти к рассказу о Силье, самом младшем и дольше других прожившем ребенке этой супружеской пары. Хотя семейная жизнь Кусты и Хильмы и устоялась, все же это не давало им уже той радостной силы, которая нужна для управления имением. У Хильмы и с самого начала ее не было в достойной упоминания мере, она ведь происходила из слабой духом торпы, так что силы и умения управлять унаследовать ей было неоткуда. Положение, занимаемое в этих местах Салмелусом, в начальный период их совместной судьбы как бы понизилось на ступень и через несколько лет стало сходным с положением среднего хутора, многодетный хозяин которого кое-как умудряется прокормить детей и расплатиться с налогами. Но и с такого уровня их хозяйство спустилось еще ниже, едва ли не до уровня Плихтари.
Что-то вернулось в тот миг у постели несчастной роженицы, однако многое кануло безвозвратно. Даже случись все как можно лучше, даже не будь того злосчастного визита в Плихтари, все равно они бы не жили по-прежнему. Хильма не была больше той юной, цветущей девушкой, которая воспламенила чувства Кусты Салмелуса и сделала те недели его юности самыми прекрасными праздниками. Что же осталось после всего? Различные дела и работа, и с их воздействием на мужа эта жалкая женщина соперничать не смогла. Муж шел своим жизненным путем, удивляясь происходящему и сопротивляясь… Он боролся и не рассчитывал на помощь жены в этой борьбе.
По прошествии примерно двух лет у них родился без особых сложностей сын, названный при крещении Тааветти — первым именем покойного отца. И затем опять годика через два — девочка, которой дали имя Лаура — это тоже было одним из наследственных имен в роде Салмелусов.
Однако же эти годы, о которых сказано двумя фразами, содержали и много чего еще. Фактически Куста Салмелус в своей жизненной борьбе никогда не бывал столь неудачлив, как в период между рождением этих двух детей и сразу после того. Так присущая его характеру усмешка частенько пропадала в те годы надолго, но ее не сменяли вспышки мужественного гнева, как в юности, в тот ровный период жизни, когда он был в силе, когда не могло идти и речи о какой-либо покорности судьбе. Теперь же ему частенько казалось бесполезным сердиться на происходящее, да и острота случавшегося быстро притуплялась, так и не вызвав настоящего сопротивления. Странным образом в хозяйстве все слабело и истончалось, и однажды хозяин Салмелуса уже подписывал долговое обязательство в горнице хозяина Роймалы — точно так же, как некогда, в годы детства и юности Кусты, в горнице старого хозяина Салмелуса это бы делал иной попавший в затруднительное положение мужик в сермяжном кафтане и матерчатых сапогах. Он хорошо помнил тех покрасневших от неловкости и беспокойно ерзавших на стуле безземельных мужиков и хозяев захолустных участков, которым его отец втолковывал важность своевременной уплаты процентов. И когда настало время Кусте постепенно взимать деньги с должников отца, это постоянно напоминало ему об отце и о собственном детстве. Теперь семи-восьмипудовый мужичище Роймала, волостной богач, слегка поглаживая бакенбарды, тоже предупреждал Кусту, что безусловно потребует своевременной уплаты процентов. Затем он шумно прочистил глотку и нос и заговорил о предстоящих выборах выборщиков от крестьянского сословия, настойчиво рекомендуя одного из кандидатов, который впоследствии и оказался избранным, также, как сам Роймала, прошел в парламент. Правда, от хозяйства Салмелус в выборах выборщиков никто участия не принимал.
Роймала прошел в парламент и внес там предложение об осушении земель у озера Ханхиярви, точнее, о выделении государством субсидии на указанное предприятие и предложение получило поддержку. Основная усадьба самого Роймалы и земли еще одного хозяйства, приобретенного им ранее, находились большей частью на берегах Ханхиярви, и неудивительно, что мужичище Роймала пробивал это предложение в парламенте. Но дело затрагивало интересы и некоторых других хозяйств, в том числе и Салмелуса, чьи земли в одном месте тоже примыкали к озеру. И эти хозяйства оказались теперь вынуждены, согласно постановлению, внести свою часть той суммы, которая требовалась в придачу к государственной субсидии. Всей затеей руководил Роймала, и каждый понимал, что дело пойдет так, как тому хочется, а также, что каждому от этого будет польза — особенно самому Роймале.
Домашняя жизнь Кусты Салмелуса пришла в тот период в упадок. Детишки были болезненными, частенько хворали, их приходилось по ночам долго укачивать в люльках. Старая гостевая комната дома Салмелусов, использовавшаяся некогда лишь в торжественных случаях и где на всякого, кто входил в нее, веяло чистым воздухом нежилого помещения, а потом ставшая волей случая супружеской спальней, хотя рядом имелось более будничное помещение — бывшая комната отца, — эта горница теперь, днем и ночью, пахла детьми и сохнувшими пеленками. Мужу не доставляло никакого удовольствия идти туда вечером, тем более что жена постоянно жаловалась то на головную боль, то на кашель.
Куста не приносил в дом спиртного, кроме как на праздники, а они бывали в Салмелусе нечасто. Но в эти годы все же случалось нередко, что Куста напивался допьяна в деревне; каким-то образом он всегда оказывался там, где угощали, и тем чаще, чем хуже было дома. Однажды он оказался в почти беспамятном состоянии. Произошло это после собрания, на котором участники договорились о взносах за осушение и уплатили их. Собрание проводили в Роймале. Поскольку Салмелус и еще один хуторянин пожаловались, что у них нет наличных, хозяин Роймала согласился дать им необходимые суммы взаймы. Написали долговые обязательства, и Роймала дал расписки, что принял деньги за осушение, — сами купюры и не потребовались. Затем, когда выпивали после собрания, один старик — хозяин хутора, который был другом отца Кусты, отвел Кусту в сторонку и предостерег его насчет Роймалы.
— Лучше бы ты продал немного леса, — сказал старик.
— Нет, не стану я для этого продавать лес, отец-то был всегда против, — сказал Куста.
— Отец мог и не продавать, да с долговыми расписками у него были отношения совсем не такие, как у тебя.
Проснувшись утром, Куста толком не помнил, как добрался домой. Но помнил зато, что в ящике комода у Роймалы теперь два подписанных им, Кустой, долговых обязательства… И Хильма еще лежала, не спала уже, но и не пошевелилась, хотя видела, что Куста встает, она, похоже, углубилась в раздумье о чем-то скорбном. Один из детей лежал рядом с нею, другой, было слышно, плакал в кухне. Там его утихомиривала служанка, — стало быть, уже очень поздно, раз и прислуга на ногах, хотя ни хозяин, ни хозяйка еще не вставали. В растерянности Куста не знал, за что приняться. И не смог толком ответить на касавшийся работы вопрос старого Вооренмаа.
Такой была семейная жизнь этой пары в годы их хозяйствования. Казалось, что после двух живых детей в Салмелусе третьему точно уж не родиться. Но настало время и для него, — им как раз и оказалась Силья, та единственная, которая дожила до совершеннолетия. Начало ее жизни связано с событием, ставшим одним из самых радостных в весьма безрадостной уже судьбе Хильмы и Кусты. Их взаимные чувства действительно напоминали тогда те, что были в первое время замужества Хильмы, в те дни, когда эта необычная любовь так смело изгнала из гостевой горницы Салмелуса старинный дух, унаследованный от отца.
Хильму и Кусту пригласили на свадьбу в тот же самый дом, где Куста был на свадьбе и тогда, когда Хильму уволили из Салмелуса. В том доме, за три волости от Салмелуса, им предстояло переночевать, но они провели там даже две ночи. И за те три дня и две ночи, проведенные ими вне Салмелуса, они удивительным образом оба помолодели. Им вряд ли доводилось до этого вот так, в чужом месте, провести хотя бы одну ночь, кроме разве что той, в пекарне Плихтари, в первую их весну… Свадьба на сей раз была роскошной и длилась три дня. В перерывах между едой танцевали, пили брагу. Танцевал и Куста Салмелус, в первый вечер он смог уговорить Хильму только на попурри, но на другой день Хильма уже выходила танцевать и польку и мазурку. То была необыкновенно веселая свадьба. В большом доме было столько комнат, что семьям, приехавшим издалека, хватило по комнате, молодежь спала на полу в большом зале на общей подстилке. Шум и хихиканье продолжались там до утренней зари, но это не тревожило спавшие в комнатах пары, некоторые из них, возбужденные праздничной суетой, засыпали лишь спустя много времени и крепко обнявшись…
Хильме и Кусте хватило праздничного настроения еще и дома, в Салмелусе. Особенно сильно помолодела Хильма, она шептала об этом мужу на ухо еще и в первую ночь дома в привычной постели.
— Ну совсем так, как тогда, помнишь… посмотрим, получится ли и вообще также, как тогда.
Солнце иногда, перед тем как зайти, словно бы оглядывается и бросает назад мощные яркие лучи, золотящие кроны леса — вот такой же необычной вспышкой стала для Кусты и Хильмы эта поездка на свадьбу. Будни Салмелуса, хозяйственные трудности вскоре погасили короткую вспышку вернувшейся было любви супругов, но случилось и нечто, чего они остановить не могли. То было слияние двух живых человеческих клеток, которые, соединившись, росли и росли и по прошествии положенного времени обретали определенную форму, все больше походя на человека. Правда, всего этого видеть было нельзя, ибо происходило все внутри материнского тела, с которым плод был надежно соединен пуповиной.
Затем наступило время и этих родов Хильмы, четвертых и последних. Плод, который уже не один месяц вовсю шевелился в утробе матери, начал в один непредсказуемый миг иное движение. Он устремился головой вперед в предназначенный путь, за ней устремились и плечи, и все туловище с его членами, — когда он полностью появился на свет, пуповина оборвалась и девочка начала самостоятельную жизнь, о которой в тот момент никто не мог сказать с полной уверенностью ничего иного, кроме того, что говорится обо всех других жизнях: мол, однажды она окончится смертью.
В тот миг, конечно, никто о смерти не думал. Роды прошли легко, и когда Куста приблизился к кровати Хильмы, жена выглядела спокойной и счастливой, хотя и чувствовала сильную усталость. И странная атмосфера царила в комнате, словно это были первые удачно завершившиеся роды. Солнечные лучи второй половины весеннего дня усиливали обманчивую картину счастья в старой комнате, куда бабушка Тонтилла принесла кофе, приготовленный специально по такому случаю. Это был крепкий натуральный кофе, призванный восстановить силы измученной роженицы. Дитя, уже омытое, спокойно спало, когда Куста склонился над пахнущей чистотой плетеной корзиной, чтобы посмотреть на него. Улыбка отца была светлее, чем когда-либо. Даже бледные старшие дети казались ему сегодня ближе, чем всегда.
Через несколько часов дитя проснулось. Тогда его положили к груди матери, и оно сразу усердно принялось сосать. Оно жило. Отец смотрел на это, позабыв о своих заботах.
Забот у него хватало. Ему пришлось уже несколько раз ходить к Роймале и просить дополнительно взаймы, чтобы уплатить проценты. И Роймала не отказывал. Внимательно присматривавшиеся соседи стали догадываться, в какую сторону развиваются отношения Салмелуса и Роймалы.
— Кусте бы лучше продать все имение и купить другое — поменьше, коль уж кишка тонка: и ведь Роймала все равно наверняка приберет его хозяйство к рукам, как только Куста обеднеет.
Так говорили некоторые серьезные хозяева между собой, а иногда за стаканом пунша и самому Кусте.
Большое имение Салмелус действительно хирело, поскольку его хозяйка делалась все слабее. Это лишало бодрости и Кусту; не будь у него самой младшей, любимой дочери, Куста, вероятно, и впрямь проделал бы трюк с куплей-продажей. Но девочка, названная при крещении Сесилией, но называемая обычно всеми запросто Сильей, росла и развивалась и понятия не имела о тяготах мира сего. У нее были большие теплые глаза и красивые ресницы. Глаза были поначалу почти черными, но постепенно сделались карими. В чертах лица был легкий намек на отца, и некоторые старые люди говорили, что дитя очень напоминает мать Кусты в ее молодые годы. Странным образом те двое старших детей оказались заслоненными младшенькой, с которой все говорили и обращались, как некогда с Кустой, единственным ребенком тогдашней почтенной пары владельцев Салмелуса, оберегавших сына как зеницу ока.
И жизнь тех двоих, старших — сына Тааве и дочери Лауры, — уже не имела большого значения ни для кого. Они ходили повсюду, держась за руки, тихие и боязливые, словно считали самой надежной опорой друг друга. Ходили до тех пор, пока не настало время уйти насовсем, когда они болели, лежа рядом, в одной постели, и тихо отошли — один, а через два дня другой. Повальная эпидемия выкосила тогда за несколько недель в семьях волости множество детей, так что об этом вспоминают иной раз еще и теперь, несколько десятков лет спустя.
Малышка Силья не заболела, хотя и общалась свободно с больными братом и сестрой. Кое-кто из работников усадьбы, да и посторонние говорили, мол, посмотрим, как будет с этой младшенькой. Папаша Куста был молчалив, но на лице его снова появилась тихая улыбка. Когда жизненные трудности, все усиливаясь, достигли в конце концов исключительной степени, в глубине сознания этого зрелого мужчины мелькнуло подозрение, что во всем происходящем предназначена ему некая особая роль. Ему почти привиделось, что предыдущие поколения кивнули ему, когда он обдумывал эту мысль, и своим кивком хотели дать понять, что следовало бы сберечь и упрочить дом, земли и другое имущество. Но поскольку тут пошло уж так, как пошло, тебе нужно помнить, что мужчине следует беречь и укреплять еще нечто более важное. И словно в подтверждение, тот невидимый кивок казался обращенным в сторону оставшейся в живых девчушки, которая тогда уже семенила рядом с отцом, держась за его руку.
А в хозяйстве накапливались трудности.
В прошлом году пропала большая часть сена, во-первых, его сложили недосушив, и в сарае оно стало гореть, так что опять пришлось вытаскивать его наружу и сушить. Но едва оно просохло и как раз готовились снова заложить его в сарай, внезапно хлынул дождь и размочил его до такого состояния, какого оно не знало, даже будучи травой. Хозяина не было дома, — вот оно так и вышло… не должно хозяину иметь слишком много дел вне дома. Когда часть этого сена наконец просушили, оно уже никуда не годилось. Говорили, мол, хорошая овсяная солома и та лучше, и так оно и было. Поэтому и пришлось потом больше обычного кормить скотину соломой, отчего весной, в самую голодную пору, как раз тогда, когда и дети заболели, состояние салмелусского скота стало вызывать тревогу; у коров замечали размягчение костей, лошади отощали. Куста пытался сберечь зерно, но девушка-скотница сказала, что уйдет, раз коров нечем кормить. Однако ведь коровы одним зерном сыты не бывают, им нужно хоть сколько-нибудь сена.
Итак, трудности обступили со всех сторон. Куста ходил как в полусне. Хильма все чаще старалась прилечь, и по ее лицу, а вскоре и по всему виду стало заметно, что это не беспричинно. Даже посторонний, но с жизненным опытом прохожий мог бы наверняка сказать, что хозяйке Салмелуса кукушка уже много не накукует. И Куста догадывался, что им с Хильмой больше не ездить на свадьбы вроде той, за три волости отсюда.
Как-то Куста пошел к тому старому хуторянину, который был хорошим другом его отца и однажды как-то предостерегал его.
— Дайте тогда вы мне взаймы, коль советуете, чтобы я не имел дел с Роймалой, — сказал ему Куста как доброму знакомому.
Но хуторянин объяснил, что, как ни жаль, это уже не удастся, хотя ему и хотелось бы помочь единственному сыну Вихтори Салмелуса.
— Видишь ли, я уже человек старый, и, согласно законам бытия, дни мои сочтены. Я ни на пядь не могу сойти с пути, какого держался в лучшие дни свои и какого держался отец твой тоже, иначе пришлось бы мне вскоре ходить по таким же делам, по каким ты теперь ходишь. Я не богат, но живу неплохо, и даже в трудные времена Господь мне помогал, если я помогал сам себе. Ты же настолько запутался в силках Роймалы, что мне уже только поэтому невозможно вмешиваться в твои дела. Ты, сынок-золотце, в жизни своей совершал разные поступки, и не мое дело тебя исповедовать, да и не слыхал я о тебе ничего такого, что не подобало бы мужчине, наоборот, видел в том, как ты живешь, многое такое, что напоминает твоего отца-покойника. Но… — И тут тот старый хуторянин покачал седой головой. — …Скажу я, твой отец был молодцом и человеком дела, ты же в лучшем случае — посредственность. В тебе всегда было немного чего-то господского, это тебе передалось с материнской стороны, уж я-то знаю, и я совершенно уверен, что если в земных делах ты и потерпишь неудачу, то в вечной жизни у тебя все устроится.
Вот так же за долгие годы своего судебного заседательства случалось ему наставлять молодого неопытного судью, ведущего впервые процесс в уездном суде. И разумеется, он, по-стариковски, не преминул под конец коснуться и будущей жизни. Он вовсе еще не был дряхл и действительно мог дать разумные советы сыну своего друга. И он повторил уже сказанное однажды: Кусте было бы лучше продать часть леса. Но Куста объяснил, что Роймала дал ему в долг под залог имения и между ними такой уговор: если Куста продаст хоть одно дерево, выручка пойдет на погашение этого долга. Так что пришлось бы продать большую часть леса, прежде чем хоть что-то досталось бы самому Кусте, а продать столько леса, чтоб хватило выбраться из затруднений, — он не сказал прямо, что не готов решиться на это, — да ведь сразу оно и не удастся…
— Так-так, так-так, — сказал старый заседатель, — уж я вижу, я все вижу. У него там пила-то наготове, и если кого уж совсем прижмет, он тотчас готов и эту соломинку перерезать… Да… Да… — Эти рассуждения старика Куста едва ли слышал, он был погружен в собственные мысли о трудностях, навалившихся сейчас на его семью и хозяйство. Лишь когда старик снова прямо заговорил о его делах, он, словно бы очнувшись, стал внимать словам советчика.
— Насколько я знаю твои дела, добра у тебя еще достаточно. Теперь вопрос лишь о том, сможешь ли ты с толком продать свое имение. Так-так, не пугайся, но другого совета — ни сейчас, ни на будущее — у меня нет. Роймала вознамерился его заполучить, это по всему видно, но… смотри теперь, чтобы этот император его к рукам не прибрал совсем задаром. Я твое хозяйство хорошо знаю, и леса и земли, и я тебе скажу — я давно уже об этом думал, — если Роймала не заплатит тебе столько-то — я заплачу!
Последние слова были произнесены подчеркнуто самоуверенно, и за ними последовал торжественный выдох, словно старик держал речь стоя, а затем сел.
Назначение цены было единственным результатом, которого Куста добился, посетив старика. Однако же деньги требовались ему срочно, скотине нужен был корм, работникам — жалованье. Не оставалось ничего иного, как отправиться к Роймале. Но и Роймала на сей раз не очень-то был расположен давать взаймы, а начал тоже перечислять ошибки, допущенные Кустой в жизни, причем делал это гораздо грубее, чем старик заседатель. Громко откашливаясь, мужичище Роймала называл своими именами все то, что было связано с хождением молодого Кусты в Плихтари.
— Подобные делишки единственный наследник такого имения должен улаживать деньгами, — улаживают ведь иной раз, слыхать, и сыновья из семейств победнее — хе-хе, — небось и сам знаешь…
До того Куста краснел, теперь же он побледнел и сжал зубы. Это был самый унизительный для него миг. Что ему следовало сделать? Он встал, и Роймала, замолчав, тоже встал, откинувшись назад всей тушей. В тот момент Куста опять чувствовал себя совершенно одиноким. Ему не от кого было ждать поддержки, и не было у него ничего, кроме чувства собственного достоинства. А здоровенная туша Роймалы словно уже нависала над Салмелусом, и оставалось только попытаться спасти оттуда, из-под нее, хоть что-то: жену, двух больных и одного здорового ребенка, служанок, скотину… Не имело смысла сердиться на этого мужичищу, который опять пощипывал свои бакенбарды, слишком уж он стар и беспомощен, чтобы об него руки марать. Куста криво усмехнулся одним уголком рта, никогда раньше он так не улыбался. Потом он сказал:
— Возьмите все имение, этого ведь вы хотите.
Роймала вздернул брови, как иной раз в церкви, когда пастор в проповеди произносил нечто такое, что касалось гибели души, так легко навлекаемой земной мамоной. «Ах, так, этот-то теперь уже вон что предложил…»
— Да-а, и впрямь, пожалуй, какой из тебя хозяин имения, по крайней мере сейчас, а я вполне в состоянии купить Салмелус и привести в порядок… Но — хм — о таких вещах без грога не говорят. Мать, подай-ка нам сюда немного горячей воды и сахара, — крикнул хозяин в приотворенную дверь таким голосом, что Кусте не оставалось ничего другого, как рассмеяться, хотя он и испытывал отвращение к лицемерию чрезмерно дружеских слов и интонации Роймалы.
В этот момент грог действительно пришелся по вкусу Кусте Салмелусу. Что ж, если дело зашло так далеко, то можно и посидеть здесь. Однако он внутренне оставался начеку и лишь казался сдавшимся. Роймала пускал в ход все свои отеческие приемы, говорил почти таким же голосом, каким только что обращался к хозяйке, прося ее принести необходимое для грога. Он пытался предлагать разные цены на разных условиях, то предлагал продать все вместе с движимым имуществом, то — лишь недвижимость, то — лишь с частью движимости. На этом, последнем, условии они и сторговались. Правда, Кусте было не совсем ясно, сколь удачную сделку он заключает, но поскольку Роймала, как бы там ни было, согласился заплатить гораздо больше той минимальной суммы, которую называл старый заседатель, они и ударили по рукам. Роймала отсчитал достаточный задаток, и был назначен день заключения контракта.
Куста и на следующее утро не сожалел о содеянном. А Хильма, в свою очередь, похоже, не очень и думала об этом деле, обмотав голову шерстяным платком, она ухаживала за больными детьми. Увидав деньги, она немного оживилась и принялась собираться в лавку: нужно было купить муки, да и кофе был на исходе. Так и поехали.
Но следовало подумать и о том, куда перебираться отсюда на жительство. Пожалуй, лучше всего было бы переселиться в город и там что-нибудь предпринять, — считала Хильма. В ответ Куста заметил лишь, что Роймала обещал им право пользоваться этими двумя комнатами и кухней по меньшей мере до осени, если они того пожелают. Про себя Куста решил, что не останется здесь дольше, чем необходимо, а попытается при первой возможности приобрести хуторок поменьше где-нибудь южнее. Его почему-то тянуло на юг. У него оставалось столько денег, что он был уверен, их хватит на приобретение жилища и земельного участка.
У Роймалы и на этот счет нашлось свое предложение. У него на дальних землях пустовал большой крестьянский двор, жилую избу которого он мог бы и продать. Или же сдать ее в аренду вместе с небольшим участком. «Будешь там хотя бы моим лесным сторожем», — предложил Роймала На это Куста, ничего не ответив, вышел из комнаты, где сидел Роймала. Разговор происходил в Салмелусе, куда Роймала наведался «взглянуть на этот свой третий дом». Уходя, он сказал Кусте во дворе:
— Осмотрел я эти комнаты в доме и порешил: задняя-то не очень вам и нужна, ведь та — рядом с кухней, похоже, достаточно просторная. Да и любому ясно, что у тебя скоро народу на одну кровать поубавится, они уже — девчонка с мальчишкой — не жильцы… Да, и еще… поприглядывай маленько за тем клином леса, что подступает к Плихтари, твои теща с тестем до сих пор пользовались им как своим, но я-то сторговался с тобой об имении целиком, каким оно было на тот момент, так что вычту с тебя, если там порубят…
Куста не мешал ему говорить и громко откашливаться. Когда Роймала наконец ушел, Куста вернулся в дом, где обитатели «одной кровати» действительно дышали на ладан. Сын и умер в тот же день, а в ожидании конца дочери провели еще сутки.
После долгого перерыва жизнь опять показалась высокой и праздничной. Не было ни в чем недостатка, коровам хватало корма, и люди были сыты. Даже позволили себе чуть ли не роскошь. У Хильмы с детства была слабость к блинам, теперь она пекла их, тоненькие и масленые, почти расползавшиеся в руках. Ими угощали и служанок, все жили в каких-то общих ожиданиях. Впрочем, одно ожидание уже завершилось: маленькие брат с сестрой, которые всегда и всюду ходили вдвоем, лежали теперь рядом, на досках, в чулане; посиневшие хиленькие трупики. Но малышка Силья была здоровой, как и прежде. И все житье-бытье здесь, пожалуй, вновь пронизывало то особое ощущение счастья, какое впервые ненадолго возникло в Салмелусе, когда Хильма Плихтари осталась там навсегда, а тетя Мартта уехала, и продержалось до дня венчания. Изредка такое чувство охватывало там всех и позже. Но теперь оно было, пожалуй, сильным как никогда.
Счастье благоволило Кусте и в том, что новое и очень пришедшееся ему по нраву жилье привалило как бы само собой. Оно было в другой волости, к югу отсюда, и продавалось по какой-то необычной причине, об этом случайно знал ленсман, оформлявший купчую в комнате Роймалы, — попивая затем там кофе, он рассказал и подробности. «Поезжайте взглянуть», — посоветовал он Кусте Салмелусу. Куста, привыкший доверять ленсману, внял его совету и на сей раз: поехал и, посмотрев, сразу же сторговался.
Начавшись удачно, все пошло очень складно и дальше. Куста тщательно разобрался со своей движимостью, отделив то, что переходило Роймале, и то, что предстояло продать с торгов. Затем он договорился, что торги проведут через две недели, в понедельник, ибо в воскресенье — похороны детей.
Время ожидания похорон и аукциона прошло спокойно, для всей семьи и работников то были дни глубокого отдыха. Под какими-то незначительными предлогами Куста объехал все дальние земли, как бы попрощался, ибо с ними были все же связаны чуть ли не самые дорогие для него воспоминания. Некоторые из воспоминаний относились к мелким событиям детства, когда ему вместе с батраками удавалось пойти на далекие места их работы и там отведать с ними их пищи, пищи настоящих мужчин. Во время этих прощальных поездок ему довелось проезжать мимо дома Вооренмаа, с которым тоже было связано одно событие… тусклый декабрьский день, когда родилось самое первое, неживое дитя… Это воспоминание было для него особенно болезненным, он и на сей раз, как тогда, напоил у колодца лошадь, но в дом не пошел.
Хильма, в свою очередь, побывала кое у кого в деревне, куда поближе — ходила пешком, куда подальше — ездила на лошади, — ведь лошадей они оставили себе и никакой работы для них сейчас не было. Она посетила и Плихтари, причем Кусту это ничуть не задело.
В один из таких дней пришел наконец столяр и принес заказанные гробики, в них и положили, обрядив, детишек. Платье, в котором девочку крестили, сохранилось и оказалось покойной впору — так она похудела. «Пусть на ней будет это платье, моих детей уже больше не крестить, а до чужих мне дела нет», — сказала Хильма, слабо улыбаясь, в ответ на осторожный намек одной из служанок.
Малышка Силья была в те дни как бы неким исключением, с которым не умели обращаться запросто. Отец — Куста — носил ее на руках в эти дни больше, чем когда-либо раньше. Даже на дворе видели хозяина, несущего дочку, закутанную в толстую одежду. Слышали и как хозяин весело говорил что-то ей, и это казалось домочадцам ужасным, хотя в то же время в этом было что-то трогательное. Просто прежде никогда не слыхали, чтобы хозяин вот так болтал, — ни с детьми, ни с кем-нибудь вообще.
Назначенные дни приближались. В вековой истории дома Салмелусов происходил резкий поворот.
Продавая хозяйство, Куста отпустил и постоянных батраков, которые перешли к Роймале и в последние дни уже работали там. Потому и получилось, что, когда повезли хоронить детишек, лошадью, везшей сани с гробиками, правил старый Вооренмаа, выглядевший, как обычно, сердито-строгим. За санями с покойниками следовали сани с Кустой и всей семьей, и этой лошадью Куста правил сам. И хотя видно было, что Хильма сильно утомлена, а участие малышки Сильи в похоронах, да притом в такую еще не весеннюю, но уже и не зимнюю, сильно ветреную погоду, выглядело не слишком разумным, однако надо же проводить бедняжек покойников.
Вот так последний раз еще хозяином и хозяйкой Куста и Хильма выезжали со двора старого наследственного имения; завтра должны были состояться торги. Вот так они ехали, и с ними было едва ли не все, что они нажили совместно. Они ехали почти также, как много лет назад в Плихтари, тогда, в Рождество, незадолго до тех первых родов…
Теперь оба они были гораздо старше. У Хильмы едва ли удалось бы найти и малость тех милых черт, которые так пленили в свое время молодого хозяина Салмелуса. Она уже не отличалась от жен простых торпарей, зубы у нее потемнели и отчасти повыпали, и волосы тоже. Будучи хозяйкой имения, она не только не обрела соответствующей ее положению пол ноты, но даже потеряла девичью округлость форм и стала угловатой.
У Кусты же, хотя и он постарел, родовые наследственные черты все еще проглядывали в лице и во всем облике. Во время этой поездки на кладбище они проступили еще заметнее. Ветер, дувший уже по-весеннему, и солнце разрумянили его щеки. Некая женщина, которая прежде, в молодые годы, с удовольствием смотрела на Кусту и, может быть, желала, чтобы он заметил ее взгляды, теперь тоже пришла на погост и стояла поодаль. Она видела Кусту со стороны, в профиль, и растрогалась, а в душе ее потеплело, когда она слушала обнажившего голову Кусту, который читал надгробную молитву.
И затем она еще увидела Кусту в церкви, когда тот, выпрямившись и привычно вскинув голову, прошел по центральному проходу и сел на постоянную скамью Салмелусов. Глаза многих знакомых подернулись влагой, глядя на эту супружескую пару: спокойного мужчину, у которого на лице всегда была легчайшая тень улыбки, и измученную женщину, о которой тоже никто не мог сказать ничего плохого, в худшем случае разве что заметить, мол, она делала все, что умела, но откуда было дочери Плихтари набраться знаний и опыта, необходимых, чтобы вести хозяйство в таком имении, как Салмелус.
Обращали внимание и на маленькую дочку, единственную из всех детей оставшуюся в живых, семенившую между родителями и слишком громко расспрашивавшую обо всем, поскольку она попала в церковь впервые. Девочка была кареглазой, хорошенькой, и в лице ее можно было найти черты и отца и матери. Жаль лишь, что она не смогла дольше пожить в отцовском доме.
Вдруг услыхали, как ребенок спросил тоненьким голоском про Лауру и Тааве, — почему они не пришли сюда, в церковь, почему их оставили там в ящиках? Все присутствующие в церкви были словно единая семья в тот момент, когда слова ребенка пронзили воздух. Затем раздались звуки органа, и это запомнилось маленькой Силье на всю жизнь. Наверняка в ее угасающем сознании эти же самые звуки сопровождали щебетание ласточек тем ранним утром, когда она умирала в сауне хутора Киерикка. Но сейчас она жила и была не в состоянии понять, что Лауры и Тааве нет в живых. И когда, возвращаясь домой, проезжали мимо погоста, она требовала, чтобы их забрали оттуда. Мать сказала, что они на небе, откуда никогда не возвратятся. Но она не могла понять, какая им радость от всего этого праздника, если они никогда не смогут рассказать о нем другим.
Поминки устроили лишь для оставшихся работников усадьбы. Правда, хозяин Роймала явился незваным; он мог прийти и просто так, на правах владельца, но на сей раз у него было дело. Он сказал, что рассчитывал застать на поминках народу побольше. Он собирал подписи под бумагой, которую хотели подать императору; в ней просили, чтобы права Финляндии не нарушались. Куста понял, в чем дело, ему уже доводилось слыхать что-то такое, но сейчас это казалось ему очень далеким. Однако же он сходил, нашел ручку и чернильницу и принялся писать. Хильма тоже вошла в комнату и сказала: «Разве этих бумаг Роймалы еще недостаточно?» Гость ответил немного рассерженно: «Это бумага вовсе не Роймалы, и уж если на то пошло, от всех бумаг Роймалы у Кусты было меньше неприятных последствий, чем от одной бумаги Плихтари!» Сказав так, он издал свой знаменитый кашель.
Вторая половина дня и вечер в воскресенье были совершенно обычными, и по полу людской в Салмелусе двигался солнечный зайчик также, как в течение всех тех столетий, пока кондовый дом стоял на этом месте. И неизменное двухместное кресло-качалка со спинкой в виде искусно вырезанных двух лир стояло, как всегда, там, где в полу уже образовалось углубление от полозьев качалки и ног людей. Тикали часы на торцовой стене, на гвоздике, вбитом в оконную раму, висел календарь, какой-то особый запах витал в воздухе. И, однако же, все было непривычно, и этот покой был лишь ожиданием беспокойства, похожим, пожалуй, на ожидание приведения в исполнение смертного приговора. Да еще хозяин Роймала спросил, прощаясь:
— Стало быть, завтра с девяти начнем тут?
— Назначено на девять, — ответил Куста, насмешливо глядя. Хильма нетвердой походкой вышла из комнаты, проворчав что-то ругательное, чего никто толком не расслышал.
Торги были столь необычным событием, что народу собралось весьма много, и остряку-аукционщику, подтверждавшему покупку ударом специального деревянного молотка, публики хватало. Один пожилой мужик был под хмельком и отпускал во весь голос неприличные замечания, когда предлагалась какая-нибудь вещь из домашней утвари, одежды или инструментов. Примерно также вел себя и Ийвари Плихтари, для которого этот день был, разумеется, особым праздником. Его с разных сторон подначивали, и он в свою очередь не оставался в долгу. Собравшиеся на торги знали, что Ийвари на их подначки не обидится.
Между прочим, это был последний раз, когда свояки оказались вот так — нос к носу. У них даже случилась небольшая перепалка. Куста ненадолго отлучился, и в это время аукционщик выставил на продажу верстак и другие столярные инструменты, не зная, что они не предназначались для продажи. Торг уже начался, и Кусте теперь не осталось другого выхода, как самому в нем участвовать, наперебой с Ийвари, который вроде бы всерьез нацелился на эти вещи.
— Зачем тебе верстак-то, коль ты, слыхать, подаешься в батраки? — изгалялся Ийвари, и единомышленники поддержали его одобрительным смехом.
Ийвари продолжал набивать цену уже почти выше разумного предела. Куста сразу набавлял, поскольку он не хотел терять верстак.
— Надеешься, что у тебя найдется чем расплатиться? — продолжал ехидничать подлый шурин.
Это было сказано уже весьма оскорбительно, среди толпы хватало любителей посмеяться над ближним, и они были наготове, и уж Ийвари Плихтари подбросил им такую возможность, как кость собакам. Они продолжали похохатывать.
Куста немного покраснел, улыбка почти начисто исчезла с его лица. Порядочные люди составляли большинство собравшихся, и это большинство было сейчас на стороне человека, похоронившего вчера двух детей и теперь вынужденного покинуть свой родовой дом. И смешок, вызванный словами сына Плихтари, умолк мгновенно, когда Куста ответил:
— Как известно, мне ведь с тебя причитается.
Всем припомнился тот десятилетней давности случай, который тогда запечатлелся в памяти людской как лежащее на этом насмешнике постыдное пятно, пусть и небольшое, но все же постыдное, и бахвалиться ему было нечем. Чувство единства быстро пробуждается и у такой массы людей: та фраза, едва прозвучав, невольно напомнила и о том, что в отношении дочки Плихтари Куста вел себя тогда по-мужски: не покинул ее, не попытался откупиться деньгами, хотя это было бы для него лучшим выходом. Люди настроились благожелательно к Кусте, и это слилось с сочувствием к нему, вынужденному покинуть родной дом, едва он намекнул на ту весьма значительную сумму, которую тогда выложил за своего дорогого родственничка, да еще дважды. До сих пор никто никогда не слыхал от Кусты об этом ни слова.
— Ну и забирай свое барахло, — сказал Ийвари, он пытался держаться развязно, повернулся боком и шарил глазами по лицам людей, стоявших поблизости, в поисках поддержки своим словам. Но поддержка была теперь на стороне Кусты. Ийвари остался в одиночестве. Один старик расхохотался во все горло, но он смеялся над Ийвари.
Позже казалось, будто в результате этой стычки верстак сделался его хозяину еще дороже. В первое время на новом месте Куста использовал его весьма усердно. Частично потому, что собственному новому хозяйству требовались различные вещи, которые не имело смысла брать с собой из старого дома, частично потому, что он мастерил нужные вещи и для новых соседей, которые вскоре признали его умелым и надежным человеком. В Салмелусе было много поделочной древесины, оставшейся не использованной в период упадка, часть ее лежала еще со времен отца Кусты. Ее Куста тоже не выставил на торги, а, уезжая, увез с собой.
Покидая Салмелус, Хильма плакала. Это был бессильный, беспомощный плач слабого человека, покорившегося тому, что невозможно было предотвратить. Она оплакивала попавших в чужие руки коров и другую скотину, оставшуюся в доме кошку, которую в холодные зимние дни дети выпускали из дома, а потом впускали обратно — да-а, и умерших детишек оплакивала она, остающихся здесь, в другой волости; она почти оплакивала и эту, единственную выжившую и сидящую у нее на руках большеглазую, с длинными ресницами Силью. Вот так, тихо плача, покидала она этот дом, куда пришла однажды осенним днем, когда юная душа ее была переполнена каким-то необыкновенным чувством нежности. Тогда еще могучий дух старого хозяина-покойника и его как бы оставшиеся невысказанными мысли наполняли атмосферу дома. И в эту атмосферу необычным образом погрузилась юная ничтожная девчонка из бедной торпы со своими знаниями и представлениями о жизни.
Теперь она покидала этот дом — похудевшая, угловатая, с заплаканными глазами. Где-то за углом видели ее мать, Тильту Плихтари, и младшую сестру, подсматривавших за этим исходом. С годами, конечно, одна постарела, другая повзрослела, но суть их характера от этого много не изменилась. И теперь, как и раньше, в уголке губ Тильты, казалось, притаилось наготове какое-то ехидное словечко, а голова ее младшенькой была, как и прежде, важно вскинута и, казалось, слегка вздрагивала. Обе они не осмеливались выйти из-за укрытия. Возчиком снова был старый Вооренмаа, он правил лошадью, тащившей сани с поклажей, а Куста — той, что везла сани с семьей. Лицо старого Вооренмаа было сурово-серьезным. Он тоже инстинктивно ощущал себя последним представителем царившего некогда в Салмелусе родового духа.
Дом остался позади, и вскоре поехали мимо того места, где отходила колдобистая дорога на Плихтари. До этих пор плач Хильмы был беззвучным, теперь же послышались всхлипывания, она предчувствовала, что не ходить ей больше по дороге в Плихтари, что перед нею незнакомый путь, который ведет в совершенно чужие места и полную неизвестность.
Куста ничего не делал и не говорил, он лишь поправил платок на голове маленькой Сильи, ибо день был ветреный. На самом деле поправлять платок вовсе не требовалось. Для Кусты этот день не был особенно тяжким. Внутренняя борьба в нем уже давно завершилась, он знал, куда едет, и теперь впервые за долгое время чувствовал себя свободнее.
Хильма еще немного повсхлипывала, покуда лес вокруг не стал почти незнакомым. Едущий следом Вооренмаа беспричинно покрикивал на лошадь. Он уже настолько постарел, что подбородок его задрожал и глаза увлажнились, когда он услыхал всхлипывания Хильмы у той развилки дорог и подумал, как эта дорога связала судьбы людей Салмелуса и Плихтари, и вспомнил свои отношения с людьми по обоим концам этой дороги.
Лес, через который они теперь ехали, принадлежал Салмелусу. Куста едва ли бы и вспомнил об этом, если бы в одном месте не заметил мужчин, валивших деревья. То были люди Роймалы, и среди них несколько бывших батраков Кусты. Они как раз свалили мощную ель с поникшими лапами и очищали ствол. Увидав едущий по дороге обоз, они приостановили работу и тупо уставились на проезжающих и так стояли еще и потом некоторое время, словно обоз проехал мимо них слишком быстро.
На том месте душевное спокойствие Кусты было слегка потревожено, словно он опять невзначай поглядел через раскрытую дверь риги Салмелуса на то место, на котором умер отец. На мгновение он подумал о своей смерти — где и как она случится. К тому времени Хильма уже успокоилась, а старый Вооренмаа позволил лошади идти, как ей самой хочется. День переезда проходил, приближались к цели.
_____________
Вышло так удачно, что на сознании маленькой Сильи прибытие на новое место жительства никак не отразилось. В конце пути она уснула так крепко, что не проснулась даже тогда, когда ее внесли в дом. Бывшие жильцы дома в честь своего отъезда протопили дом до опасного предела, но это оказалось кстати, ибо пока вносили вещи в дом, двери то и дело оказывались распахнуты настежь. Силья спала закутанная по-дорожному на большом столе людской до тех пор, пока выстывшая за дорогу постель не согрелась.
На следующее утро первым приветствовало ее проснувшиеся большие глаза солнце небесное, золотые лучи которого играли зайчиками на полу этой новой и странной комнаты. Тут были и отец с матерью, выглядящие как и прежде. Но отец у бокового окна строгал что-то на верстаке, а мать чистила картошку у плиты, встроенной в теплую стену. Не было ни Тааве, ни Лауры, они ведь остались там, в яме — или если они не остались в чулане, но ведь тут нет того чулана, это же ясно по всему. Из-под рубанка отца вылетали красиво закрученные стружки — стало быть, это людская? Никогда раньше Силья, просыпаясь, не видела отца строгающим у верстака. Это было чудом того утра. Ножик в руке матери плавно срезал кожуру с картофелины, — или это кухня, и мать взялась выполнить работу Ловийсы? Но самым чудесным было все же солнце и вообще свет, льющийся из всех трех окон, дома оба окна были в одной стене, в других стенах были только двери. И самым непривычным было то, что, когда Силья проснулась, отец и мать занимались своими делами здесь, в этой комнате.
Однако же все было очень счастливо. Правда, чистя картошку, мать кашляла, и на лице ее было знакомое выражение измученности. Но Силья знала очень хорошо, что стоит ей вылезти из постели и подойти к матери, та прекратит свою работу, возьмет Силью на руки и приласкает ее и что тогда отец остановит рубанок и повернет свое улыбающееся лицо к ней и матери. А позже отец наверняка возьмет ее на руки и понесет наружу, туда, откуда беспрерывно и бесконечно льется на пол это удивительное сияние.
Это пробуждение стало первым, что Силья ясно запомнила на новом месте, и оно осталось в ее памяти на всю жизнь. Она также помнила, что отец тогда действительно носил ее на руках по двору их нового места жительства, все время объясняя и показывая, иногда опускал ее на землю, лепил из снега забавные шарики и кидал ими в Силью, пытаясь рассмешить ее. Все это девочка помнила ясно, зато вовсе не могла припомнить, как выбралась из постели и оказалась на руках у отца.
Малышка не запомнила этого потому, что, когда она выбралась из постели, мать не приласкала ее, как бывало иной раз, а принялась одевать, и лицо ее оставалось все таким же измученным, какое Силья увидела, еще лежа неподвижно в постели, незаметно для родителей открыв глаза навстречу солнцу и всему тому, что оно, осветив, позволяло увидеть.
Измученная женщина, чистящая картошку, — такой запомнилась мать ее единственной оставшейся в живых дочери. Мать хотя и прожила после переезда еще какое-то время, но в ее жизни не случилось больше ничего такого, что отложилось бы в глубине сознания ребенка. Когда в озере поблизости лед подтаял и люди осторожные не решались уже ехать по нему, а лихачи проваливались с лошадью в воду, Хильма Салмелус — так по фамилии мужа, а не по названию хутора, хозяйкой которого она была теперь, ее называли здесь, в округе, — слегла и больше уже не встала. Эта смертельная болезнь Хильмы тоже стала своеобразным испытанием в жизни Кусты — последним, такой же глубочайшей ямой на дороге жизни, как и тот вечер в комнате Роймалы, когда договорились о продаже Салмелуса. Но это испытание здесь не было унизительным, оно стало решающим этапом на пути духовного очищения Кусты Салмелуса.
Некогда этот мужчина, перегнувшись через плечо юной служанки, опустил позади нее на веранду старого родового дома уздечку и стал ей очень близок. Теперь прислуга, баба из местных, увидела, как этот новосел Салмелус прижался щекой к холодному лбу своей умирающей жены. Та была еще в полном сознании и улыбнулась мужу так ласково, как смогла. Чужая женщина, оказавшаяся свидетельницей, не могла даже и предположить, сколько всего заключалось в той улыбке — несмотря ни на что.
Маленькая Силья в эти минуты бегала по двору. Ее целиком захватило новое впечатление. С озера доносились в тот день, не прекращаясь, странный треск, скрежетание и иной раз даже устрашающий грохот. Что-то происходило совсем близко. Это было так интересно, что девочка больше ничего вокруг не замечала. И даже вынос тела умершей матери прошел мимо ее внимания. Лишь позже, вечером, ей сказали, что с матерью случилось то же, что с Тааве и Лаурой там, в прежнем их доме. Но Силье тогда было гораздо важнее получить объяснение, что за скрежет и треск слышались с озера весь день. Отец объяснил ей это, уложив спать — на сей раз в свою постель:
— Видишь ли, когда лето проходит, наступают холода, делается все холоднее и холоднее, все цветы и бабочки засыпают, умирают, а озера покрываются льдом. Так и наше озеро замерзло зимой. Но потом опять солнце начинает подниматься, становится теплее и радостнее. Тогда начинает таять лед и на озере, — тая и исчезая, он трещит и скрежещет…
Отец заметил, что единственный его ребенок, его на всем белом свете теперь единственная, уже спит. Она уснула, когда он говорил о цветах и бабочках. Ребенок будто хотел последовать за этими своими близкими знакомыми по их легкой дороге смерти.
_____________
Близилось лето. Куста Салмелус жил в своей избе, жил и старел, но был теперь свободен от многого, угнетавшего его душу. Этот гнет казался уже таким давним, что невозможно было сказать, когда он начался; за всеми тяготами лишь отсвечивало в памяти что-то счастливое и сильное — отблеск золотых дней юного одиночества. Правда, одинокими были и все последующие дни, в этом смысле они никогда и не менялись, но вот золотой блеск исчез из дней среднего возраста и начинающейся старости.
Весна развивалась бурно, природа проснулась, и все живое пошло в рост. И маленькая Силья росла на глазах у отца вроде бы быстрее, чем прежде. Пришлось задуматься о платье для нее, изношенная зимняя одежда напоминала показавшуюся из-под растаявшего снега землю. Ребенку нужно новое и поярче — вроде тех цветов, что просыпаются в еще серых после зимы кустарниках неподалеку от дома. Надо пойти в деревню, к портнихе, воскресное утро — самое подходящее для этого. Там много смеялись и весело шутили и лица у всех были добрые, когда с маленькой барышни снимали мерку. Так происходило отчасти и потому, что заказывать явился сам немногословный отец. После ухода Кусты с Сильей оставшиеся говорили, стоя на крыльце дома портнихи:
— Надо же, девчушка-бедолага потеряла мать, едва только они сюда переселились. — И добавили: — Но отец-то сильно о ней заботится. — И потом еще говорили, кто что знал об этих новоселах. Одна сказала, что они владели имением там, в третьей отсюда волости, и разорились, но другая уверяла, что на разорившихся они не похожи, ведь они приобрели тут и жилье и землю; слыхать, отец девчушки просто устал вести хозяйство, когда жена захворала, дети померли и стали одолевать трудности, вот потому на такой маленький хутор и перебрались…
А Силья семенила рядом с Кустой по дороге, замечала в природе разные разности и делилась наблюдениями.
— Почему по озеру прыгают такие блестки, будто малюсенькие зверюшки? — спросила девочка.
— Видишь ли, когда там возникает маленькая волна, вот такая, — Куста показал рукой движение волны, — тогда бок каждой маленькой волны на какой-то момент делается вроде бы зеркалом, в котором на миг отражается солнце. Погоди, когда вернемся домой, я тебе покажу.
И они возвращаются в дом — Силья впереди, напевая и вприпрыжку, отец следом, бодрым шагом и с видом много знающего старшего брата. Затем, сняв со стены возле окна зеркало, отец принялся объяснять, как поблескивает поверхность воды, но они оба так развеселились, что вскоре стали опасаться, как бы не уронить зеркало или не ударить по нему. Силью эти забавы с зеркалом до того увлекли, что говорить одновременно о волнах озера стало совершенно бессмысленно. Девчушка без устали пускала солнечный зайчик по стенам, полу, углам печи, и веселью ее не было предела, когда она догадалась пустить зайчик на пиджак отца, оттуда на его подбородок и наконец в глаза, так что отцу пришлось сперва зажмуриться и затем вообще отвернуться. И тогда зайчик побежал по спинке кровати, по верстаку и… снова по лицу отца.
Кусту удивило такое дочкино веселье. Не то чтобы он об этом сильно задумался, но каким-то образом он, однако же, был потрясен тем, что… до сих пор ребенок никогда не забавлялся с солнечным светом. Видно, солнечный луч никогда не падал на это зеркало… Теперь забава зашла столь далеко, что отцу пришлось ее прекратить: девчонка принялась уже заводить зеркало себе за спину и могла так легко разбить его…
Жили они без особых приключений. Отец проводил большую часть времени за столярным верстаком, отвлекаясь лишь на приготовление пищи. Куста не хотел брать в дом чужого человека, раз он сам кое-как управлялся по хозяйству. Когда уж было не обойтись, он звал Мийну, жившую на другом конце деревни, за холмом, и кормившуюся случайными работами. Еще в деревне оказались старики хозяева, муж и жена, водившие знакомство еще со старыми владельцами Салмелуса, даже, возможно, находившиеся в отдаленном родстве с ними; старуха часто присылала Кусте и Силье чего-нибудь с пылу с жару, особенно после того как Куста смастерил ей красивое низкое кресло-качалку, в котором старушке удобно и приятно было покачивать свое бренное тело.
Вот так Куста с Сильей прожили вдвоем первое лето на новом месте. Девочка познакомилась с разными птицами и еще больше — с цветами. Видела она и мальчишек-рыболовов. Покрыв голову какой-нибудь старой шляпой, закатав штанины, они бродили у края воды и поглядывали с любопытством поверх своих удочек на опрятно одетую девчонку, стоявшую наверху, на береговом обрыве. Мальчишки у себя в избе что-нибудь да слыхали об этих новых поселенцах, о мужике и его девочке, которые так мало общаются с другими жителями округи.
Настало время жатвы. Тот старичок хозяин позвал Кусту на помощь. Но Кусте пришлось взять с собой Силью, и пока взрослые были в поле, девчушка могла оставаться в доме или во дворе хозяев. Там были дети и некоторых других жнецов, в том числе и двое детей Мийны, той, что жила случайными заработками. У них не было отца, так говорили.
— Он умер, что ли, и его отвезли на кладбище, как мать и Тааве с Лаурой? — допытывалась Силья у отца, крутясь возле него во время обеда.
— Наверное, так оно и было, — ответил Куста, улыбаясь, но другим работникам, лежавшим тут же на траве, эта улыбка не предназначалась. Невольно он продолжал вести себя также, как прежде, будучи хозяином Салмелуса.
— Ни на каком он не на кладбище, он нынче там, на поле Коккинена горбатится, — сказал болтливый портной, который по случаю страды тоже слез сегодня со стола и взял в руки серп вместо ножниц.
Прежде, услыхав такое, Куста Салмелус встал бы и, не проронив ни слова, ушел бы в дом, из чего работники могли бы заключить, что «хозяину это не понравилось». Но… теперь он не был тут никаким хозяином, а сидел вместе с другими жнецами на чужом дворе. И отсюда он мог уйти лишь на поле, как только пробьет колокол. Он вынужден был взять сюда с собой своего ребенка, которому до ужина играть здесь с безотцовщиной. Возникла досадная неловкость, когда Силья после слов портного продолжала допытываться: так есть ли у них все-таки отец или нету, и Куста сказал недовольно:
— Небось тот портной знает, — и добавил, обращаясь к Силье таким тоном, что та сразу послушалась: — Ты прекрати задавать вопросы!
Силья притихла и отошла, но не пошла сразу к детям Мийны. Разговора между мужчинами больше не было. Но к мнению о Кусте Салмелусе добавилась небольшая, но важная деталь. Вскоре после обеда стали жать у самого двора, и тогда детишки тоже вышли на поле, и Силья все время держалась подле отца.
Лето кончалось, вот-вот начнут подниматься дымки над ригами, и на оконный карниз перед самым лицом Сильи явилась маленькая шустрая птичка, которая, склонив набок головку, заглянула в комнату.
— Это синица, — сказал отец, собрал мясные и хлебные крошки и высыпал их за окно на карниз.
— Пикисуу-пикисуу-пикисуу-тию-тию-тию… — раздавалось снаружи, и отец еще не успел вернуться обратно в комнату, а уж синичка опять была на том же месте и усердно клевала кусочек мяса, держа его между коготками. Эта птичка стала приятельницей Сильи на всю зиму. И Силья считала ее единственной подружкой, — туда, за окно, лишь изредка прилетали другие синицы. И если иной раз там появлялась еще и вторая, Силья считала «настоящей» первую.
_____________
Маленькая Силья плыла по морю жизни, все дальше удаляясь от первоначального берега. Ее органы чувств развивались, их восприимчивость расширялась. Каждое впечатление, которое окружающая жизнь посылала в закрома ее памяти, оставалось там, но некоторые из них сразу проваливались куда-то так глубоко, что сама хозяйка этих закромов, повзрослев, уже не поверила бы, что владеет такими запасами. Хотя они и оттуда, из тайников души, продолжали свое воздействие…
В первую же здешнюю зиму и случился однажды такой провал в сознании. Тогда недели две кряду синички Сильи могли сколь угодно усердно попискивать на углу дома и как угодно шустро скакать по карнизу и заглядывать в окно — никаких крошек им не перепадало. В доме воцарилась тишина, детское личико в окне не показывалось, а мужчина ходил по комнате очень осторожно. При таком положении дел синица могла долго и грустно сидеть за окном. Лишь когда всходила луна, она улетала на место своего постоянного ночлега на чердаке.
Однако Силья была в комнате и в эти тихие дни и ночи. Сегодня ночью она как раз просыпается. Она не знает, когда заснула. Кажется, будто раньше она никогда и не существовала, хотя виднеющиеся в ночном сумраке вещи явно знакомые.
Силье очень жарко, и рот пересох, но она не умеет ни о чем попросить. В комнате темно, только возле окна светло, там странная белизна, словно что-то очень большое, чего девочка не видит со своего места, заглядывает в комнату. Однако же этот свет льется в окно, так что ясно проступают черты лица человека, сидящего за столом у окна. И тут же внезапно что-то громко стреляет — будто все это белое спокойствие было лишь для того, чтобы предвосхитить внезапный звук. Силья вздрагивает, и профиль человека у окна — тоже. Человек поворачивается к Силье, лежащей в кровати. Это отец, она узнает его теперь, когда он шевельнулся. Подойдя и потрогав ее лоб и грудь, он берет со стола кружку и, поддерживая рукой голову Сильи, дает напиться.
Затем дитя опять проваливается в небытие, а мужчина садится на то же самое место, где сидел только что. Ему не до сна сейчас, когда девочка так плоха. Неужто помрет и эта? Он уже представляет свое одиночество, и его мысли об этом движутся легко, словно лунный свет по снежным сугробам. Он видит себя тогда совершенно одиноким, впрочем, таким он был и всегда. Но теперь одиночество стало бы для него смертельным, ведь в душе его многое уже успело умереть. Лишь это маленькое существо там, в постели, связывает его с жизнью.
Одинокому мужчине, лишившемуся этой ночью сна, все больше не по себе. Дыхание ребенка едва слышно, иногда девочка вроде бы постанывает, будто пытается очень слабенько выразить ощущаемую боль. Ее маленькое сердечко колотится в груди, в тельце, охваченном жаром, но она чувствует страшный холод. Ей кажется, что она лежит в большой комнате в Салмелусе, наследницей которого ее однажды зачали и благополучно родили. Но она одна там, а через оставленную распахнутой дверь летит снег, и вместе со снегом в комнату впрыгивает кошка, не своя, чужая, огромная, ростом почти с собаку. Она мерзкой расцветки, с желтовато-зеленоватыми глазами и таким же ртом. Кошка жутко мяучит, будто от холода, затем она замечает ребенка, скребет когтями пол, словно охотясь на мышь, и прыгает… прямо на неподвижного ребенка, садится ему на грудь, лижет ее и мурлычет. Она тяжелая, давит, ложится брюхом на грудь и давит… Затем она поднимается, потягивается, будто только что проснулась на крыше сарая, и, потягиваясь, каждый раз впивается когтями в грудь, наконец начинает точить когти.
Отец засветил лампу, сел на край кровати и скрестил руки. Волна любви, большая и мягкая, накатила в этот миг на сердце мужчины. Он понял, что дитя его ведет решающую борьбу, и не трогал дочурку теперь, но мысленно широким, сильным движением заключил ее в объятия, прижимая к себе сильнее и ближе, чем это могли его телесные руки. Его душу заполнила молитва, хотя он и не шептал слов. Он представлял себе дочку живой и взрослой, выросшей, красивой и стройной, но сохранившей ту же душу, которая горит тут в жару. В этом видении — желание, страстная мольба, в воплощение которой отец в тот миг безусловно верил. Ему вспоминались некоторые собственные прегрешения, и он чувствовал, как жар, которым охвачен ребенок, словно бы сжигал все негодное и в душе у него, отца.
Утро приближалось. Отец пощупал снова лоб и грудь ребенка и заметил, что они в испарине: рука его была совсем мокрой. Неопытный в таких делах мужчина догадался, что теперь ребенку нужен покой, и лишь потеплее укутал дочку, чтобы она не простудилась. Он сделал это старательно и где-то в глубине сознания немного ощутил себя как бы матерью, женщиной…
Затем он растопил плиту и нашел чистое белье Сильи, чтобы сменить его, когда она проснется. Поставив на плиту кофейник, он сварил крепкий кофе, чтобы продолжать бодрствовать. Все шло хорошо, ребенок дышал уже ровнее, и отец, подогревая над плитой сорочку, обдумывал, как бы половчее переодеть Силью и не дать ли ей глоточек крепкого кофе.
Ему удалось и то и другое. Жар у ребенка спал, это произошло как-то внезапно и загадочно. И когда Силья глотнула кофе, она настолько оживилась, что заговорила ясно, почти радостно. Ее коротенькие фразы обнадеживали, как начинающийся день. Она вспомнила, что скоро снова наступит лето, и тогда, даже если она умрет, ей не придется лежать в холодном сарае, она ведь… И о синичках Силья вспомнила и спросила, клюют ли они крошки. Тогда уже заулыбался и отец, заметив, что совсем позабыл подкармливать этих прибившихся к дому пичуг. Он почти бегом поспешил исправить эту оплошность и вскоре уже мог сообщить дочке, что корм птицам положен, нужно лишь подождать их.
— Птицы улетели, чтобы не тревожить тебя своим щебетанием, пока ты болела. Теперь они наверняка скоро вернутся, услыхав, что ты чувствуешь себя получше. Только постарайся теперь лежать смирно, а то опять температура поднимется.
Птицы действительно вскоре вернулись, и девочка так хотела увидеть их, что Кусте не оставалось ничего другого, как взять ее на руки и поднести к окну. Силья смотрела и тихо смеялась, но легкие у нее были забиты, и от этого смех получился странный, хрипловатый. Дыхание девочки опять сделалось учащенным, прерывистым, ухо Кусты уловило это, и он поспешил отнести ребенка обратно в кровать.
Еще в тот же день приветливая старушка — хозяйка соседнего хутора, знавшая, как обстоят тут дела, навестила отца с дочерью и принесла кое-что для ребенка. Она застала обоих обитателей избы уснувшими на той же широкой кровати, где обычно они спали и ночью. Девчушка Силья спала на боку рядом с Кустой, и рука отца очень ловко поддерживала ее голову; не многие матери умеют так спать рядом с ребенком, — решила про себя сердобольная старушка, прежде чем решилась подать голос и разбудить их.
Кусте казалось, будто после этой болезни дочки он обрел ее во второй раз. Выздоровление Сильи стало радостным временем, и, глядя на нее со стороны, Куста не раз думал, что было бы, если бы он потерял этого последнего оставшегося в живых ребенка. Но уж коль она все же поднялась с постели, у нее, стало быть, еще есть какие-то дела на этом свете. И Куста частенько сосредоточивался на той особой надежде, которая была как бы единой долгой молитвой — хотя этот простодушный мужчина прямо так и не думал. Его надежде всегда сопутствовала твердая вера, что она осуществится, и тут всплывали в памяти различные собственные дела и мысли, которые совесть иной раз осуждала.
Полностью выздоровев, Силья росла, казалось, быстрее, чем прежде. Случалось иногда, что она уходила за пределы принадлежащего им участка, и это сделалось причиной постоянного беспокойства Кусты: он не хотел, чтобы Силья, подобно детям Мийны, слонялась по деревне. Однако оказалось трудно вразумительно объяснить ребенку, чего не следует делать, и Силья в своих вылазках иногда допускала оплошности. Однажды в пору жатвы, воскресным вечером она вместе с детьми Мийны забрела куда-то на отдаленный участок какого-то арендатора, где была толока, и, как водится, взрослые там вовсю смеялись и озоровали; Силья впервые видела такое, и ей было весело — до тех пор, пока не раздался с опушки леса строгий голос отца, окликнувшего ее. Тогда все, прервав работу, уставились на бедняжку Силью, глядя, как она идет от веселых баб к ожидавшему ее Кусте. Наказание было хуже любой порки, которой, впрочем, не последовало. Отец взял дочь за руку, и так они пошли в вечерних сумерках через рощу, по дороге, местами вязкой и грязной. Жидкая грязь хлюпала между пальцами ног Сильи — девочке не приходилось выбирать, куда ступить. Так, не обменявшись ни словом, пришли наконец домой. Силья устремилась было прямо в избу, но отец принес из сауны ведро воды и велел ей сперва вымыть ноги — то были первые его слова за все время, пока они возвращались.
По мере того как Силья росла, она, случалось, допускала более или менее серьезные оплошности, которые, пожалуй, отчасти происходили именно потому, что строго воспитывать дитя Куста был не в состоянии.
Наконец настала пора учить Силью читать. В деревне, где находилась церковь, Куста приобрел в лавке новехонький букварь, принес его домой столь же торжественно, как всякую другую покупку, и принялся обучать Силью буквам и чтению по слогам. Какая-то деревенская девчонка, с которой Силья тогда сдружилась, пришла однажды к ним, и обе что-то бормотали над букварем. После этого Куста заметил, что Силья знает в букваре такое, чему он ее еще не учил, и даже кое-что, чего он, Куста, даже толком не понимает, и ему казалось, будто ребенок позволил себе нечто непозволительное.
Силья сначала ходила в две передвижные школы[12], затем в народную школу в соседней деревне за полтора километра от дома. Однажды в воскресенье, в конце зимы, когда Силья уже ходила в последний класс народной школы, отношения между отцом и дочерью неожиданно обрели новый оттенок. В тот долгий воскресный день была оттепель. Куста по своему обычаю лежал на кровати, а Силья листала учебник, словно от нечего делать. Поскольку времени было вдоволь, она просматривала и читала то, чего еще не проходили, иногда обращалась к отцу. Если говорилось просто так, Куста ничего не отвечал и не открывал глаза, но если дочь прямо спрашивала о чем-либо, тогда отец разлеплял веки и давал какой-нибудь ответ. В то воскресенье Силья листала Священную историю, в начале которой была карта Палестины, или Святой земли. Это вызвало несколько вопросов: действительно ли существовали Иерусалим и Вифлеем? И существуют ли они сейчас?
— Небось существуют, раз они есть на карте.
— А почему это называют Святой землей?
Тут понадобилось пространное объяснение, причем Куста обнаружил, что его познания весьма скудны. Но в одном месте говорилось о Иерусалиме более подробно и упоминалось о его уничтожении, и тогда Куста вспомнил, что в конце Псалтыря есть длинная история о его разрушении, которую иногда прежде, в Салмелусе, вот такими же долгими тихими воскресными вечерами мать заставляла его читать вслух. Куста встал с постели, быстро подошел к угловой полке и взял там большую книгу — Псалтырь. Силья с любопытством наблюдала, как отец листал книгу и, найдя то, что искал, положил раскрытую книгу перед нею, указал пальцем на какую-то строчку и велел Силье читать с того места вслух. Сам он вернулся обратно на кровать и принял прежнюю позу.
Силья читала и удивлялась про себя, что в Псалтыре написано такое…
«Тогда пошел Веспасиан по приказу Цезаря на Галилею, которая была богатой провинцией и густо населенной, грабил ее, разорял и жег все так, что грабежам, разорению и пожарам не было ни конца, ни краю. И убили там множество иудеев: за один раз пятьдесят тысяч крепких мужчин, набранных в солдаты, и кроме того женщин, детей и другого народа. И не было пощады ни молодым, ни старым, ни беременным женщинам, ни младенцам в колыбелях. Одним мановением руки Веспасиан обратил в рабов шесть тысяч молодых мужчин и послал их в Акайю, срыть узкий перешеек между двумя морями. В рабов превратили тридцать тысяч иудеев-солдат, а пятьдесят тысяч покончило с собой, бросившись в отчаянии с высокой скалы… Затем завоевал он их город Гадар и с бывшим у него в подчинении военачальником Плацидусом убил почти тридцать тысяч убегавших из города жителей и две тысячи взял в плен, а остальной народ, спасавшийся бегством, бросился в воды реки Иордан, и трупы утопших несло течением вниз, в озеро Асфальт, прозываемое Мертвым морем».
В тихой по-воскресному избе девочка продолжала читать. Отец лежал на кровати и слушал. Силья читала и читала, останавливаясь и переводя дыхание порой в неподходящих местах, пока не добралась до конца:
«И потому пусть никто не думает, что зло может остаться безнаказанным, ибо безбожникам воистину будет то, что случилось с Иерусалимом. Об этом положено нам думать со всей серьезностью и запечатлеть в сердце своем, покаяться в грехах и обратиться с истинным чувством ко Христу. Аминь».
Дочитав до этого места, Силья быстро перелистала оставшиеся страницы до конца и, словно освобождаясь от всего, стала читать там, как детскую считалку: «Явись, Исусе, к нам сюда — Коль дочитаю до конца — И вознести дозволь хвалу — Во славу Господа Отца — Нас к вере чистой призови — И Святый Дух для нас яви — Чтобы нам праведными быть — И ближнему добро творить — В трудах терпенья нам пошли — Чтоб крест нести достойно свой — И жажду духа утоли — Ты этой книгой золотой». И затем еще добавила: «И да славен будет Господь во всем».
Затем деревянный переплет книги со стуком захлопнулся. Отец оставался в кровати неподвижно, словно желая лучше прочувствовать услышанное. А у Сильи пылали щеки, какое-то время она в растерянности ходила взад-вперед по комнате, будто вспоминая, что же ей делать дальше. Во дворе продолжалось все то же тихое, оттепельное воскресенье. И хотя полдень давно уже минул, но в воздухе, на земле и среди ветвей было еще много света и очарования. Силья покрыла голову платком и натянула рукавицы, выжидая, скажет ли что-нибудь на это отец. Но отец все также лежал на спине, закрыв глаза, слегка откинув голову назад, так что Силья видела его подбородок, дырочки ноздрей и глазные впадины. Увиденное так лицо казалось странно чужим. И Силья как бы убежала от него, выскочила во двор и, встав там без долгих раздумий на лыжи, скатилась вниз на берег и на лед.
Подтаявшая лыжня под легкой девчонкой была скользкой, как неправедный путь. А по льду, с которого стаял весь покрывавший его снег, лыжи скользили еще лучше. В одном месте даже открылась вода, лишь узенький перешеек соединял озерный лед с береговым припаем. По этому-то перешеечку удачно промчались лыжи Сильи. Силья, все еще во власти возбуждения, вызванного чтением, вскоре обнаружила себя у самого края открытой воды. Там она остановилась, какое-то мгновение в ушах у нее был лишь шум пульсирующей крови, но почти сразу послышался треск, точно такой же, какой она слышала, когда больная мать навсегда исчезла из дома. Теперь этот треск был потише, но раздался где-то совсем рядом, словно шепча на ухо какие-то обвинения… Это треснула полоска льда, по которой Силья только что проскочила. Девочку охватил страх, она отчаянно устремилась к берегу, но перед нею была лишь вода, по-весеннему бурая вода. Все колебалось под ногами. За треском льда и стуком сердца, казалось, слышится и голос отца. Что ж теперь с нею будет? Не только позвать на помощь, просто крикнуть она была не в состоянии, лишь замерла слегка ссутулясь, с искривившимся в плаксивой гримасе лицом. На дороге было два воскресных лыжника, они остановились. Силья наконец закричала, пытаясь разглядеть окна своей избы за голыми береговыми деревьями.
Льдина двигалась медленно, но не останавливаясь. Мужчины свернули с дороги к берегу, теперь движения их были проворными. Они уже приблизились почти к самому льду, когда мимо них промчался Куста Салмелус — с непокрытой головой и без пальто, с диким горящим взглядом. Прежде чем мужчины успели сообразить, что к чему, отец уже прыгнул на льдину, край которой тут же обломился, но он успел сделать следующий шаг на лед и схватить дочку. Он поднял ее на руки и прыгнул обратно. Однако расстояние до берега успело настолько увеличиться, что он угодил прямо в воду. Все же он успел вытолкнуть дочку на припай, так что она замочила лишь один ботинок.
Куста погрузился в воду до подмышек, прежде чем ухватился за кромку льда и смог вылезти на берег. Те два мужика лишь глядели, разинув рот. А глаза корячащегося перед ними на льду мужчины горели все также страшно. Мужики даже немного отступили — такой может и ударить. Но Куста первым делом бросился к Силье, схватил ее за волосы и сильно встряхнул. Девчонка не издала ни звука, лишь глядела на отца с ужасом. «Да что же ты творишь!» — крикнул Куста. Его подбородок заметно трясся. Постепенно он словно бы очнулся, огляделся вокруг и погнал девчонку в избу.
Старая хозяйка соседнего хутора, тихонько покачиваясь в своем маленьком кресле-качалке, видела в окно, что произошло. Она не успела и встать, как все уже окончилось. Но она знала, что нужно сделать. Она побрела к шкафу, взяла там бутылку, в которой была водка, настоянная на кусочках камфары, крикнула служанку и объяснила ей, что к чему. «Если у Салмелуса не найдется никаких лекарств, то он не жилец. Беги туда, отнеси это и вели принять как следует».
Девушка накинула шаль и побежала. Старая хозяйка и сама, одевшись, направилась к избе Кусты. Уже на полпути она встретила возвращавшуюся служанку, которая сказала, что Салмелус сразу же сделал так, как она велела.
Куста был в исподнем, когда старуха вошла в избу. Щеки его раскраснелись, а огонь в глазах сменился легким поблескиванием. Он рассказывал, повторяясь, как проснулся на кровати и, ничего не зная, помчался на берег — будто ему во сне сказали, что доченька в опасности. На столе в чашке еще было немного камфарной водки, смешавшейся с кофейной гущей. Куста проглотил это и продолжал говорить, горячась все более. «Я был настолько не в себе, что стал трепать дитя за волосы, у меня и сейчас еще голова слегка кружится; спасибо, хозяйка, послали мне снадобье, а то и не знаю, что было бы».
По правде говоря, старая хозяйка и теперь еще не была уверена, что все обойдется. Было ли возбуждение Кусты вызвано камфарной водкой или произошедшим несчастным случаем? На всякий случай хозяйка сама сделала еще одну смесь и уговорила Кусту, приняв ее, отправиться на боковую. Она также проверила, в каком состоянии Силья, и, убедившись, что девочке ничего не угрожает, медленно, с достоинством пошла обратно той же дорогой, по какой явилась сюда. Возвращаясь домой, она улыбалась, вспоминая, как застала этого отца и его дочурку спящими, когда девочка выздоравливала… У старой хозяйки было хорошее настроение.
День уже склонялся к вечеру. Куста опять лежал на кровати, а Силья сидела у окна. Мокрая отцовская одежда висела возле плиты, ботинки Сильи лежали подметками кверху у печи. Разговора между отцом и дочкой не было. Но лишь теперь Силья чувствовала себя по-настоящему неловко — и не только из-за случившегося на озере. Бесконечно далеким стал полдень, когда она читала Псалтырь. И мужчина, который сопел на кровати, был теперь совсем другим, не тем, кто дал ей прочесть историю разрушения Иерусалима. Этот, другой, таскал ее за волосы и потом говорил об этом соседской хозяйке как о каком-то чуде. И опять девочка невольно заметила, что видит только подбородок спящего отца, ноздри и надбровные дуги.
Падение в воду вроде бы не вызвало у Кусты никакой болезни — на другой день он занимался своими обычными делами и послал Силью отнести старой соседке бутылку из-под камфарного спирта. Но та непривычная для него чувствительность, появившись у него после всего случившегося, похоже, осталась. В последующие дни он с волнением говорил каждому, с кем доводилось встречаться, как он был до того потрясен, что даже «схватил девчонку за волосы». В конце концов эта история стала вызывать у Сильи улыбку, и тогда отец, казалось, был этим странно счастлив.
Затем наступила та весна, когда Силье пришла пора пройти конфирмационную школу. От избы Кусты до церкви было километров десять, так что пришлось подыскать там в деревне дочке жилье, чтобы она могла оставаться ночевать в будни. В домах деревни ночевали и другие такие же девочки. Вечерами они появлялись стайками на мосту и на пристани и не пропускали мимо ушей неуклюжие выкрики мальчишек-сверстников и парней постарше и громкие взрывы смеха. Некоторых девчонок уже заметно тянуло ко всему такому. И они отвечали парням тем же манером. Даже у самых застенчивых сильнее прорезались в мыслях такие вещи, о которых до сих пор у них были лишь неясные предчувствия. Они уже превращались в девушек. Даже здесь, в церкви и возле нее, с каждым днем все более ощущалось неотвратимое наступление лета, и это лето должно было стать первым летом их самостоятельности, а кое-кому из них суждено было и осознать уже свое, женское, предназначение в этом мире.
Но в субботу после полудня эти девушки со счастливым видом шагали по всем дорогам, ведущим из церковного села, чтобы провести дома конец недели. На развилках дорог, прежде чем расстаться, они еще останавливались на минутку, продолжая разговор и забавно напоминая этим взрослых женщин.
Парни из конфирмационной школы расставались на развилках дороги совсем по-иному, живущие в разных концах волости грубо кричали друг другу обидные словечки, бросались камнями, а иной раз, случалось, пускали в ход и кулаки, и тогда текла из носа кровь у того, кто в дни учебы слишком задирал его на переменах во дворе церкви или вечерами во время прогулок по деревне. Драться прямо в школе или деревне не решались, опасаясь пастора или полицейского.
Но девушки шагали по дороге, как им и подобает. Некоторые хозяева из отдаленных мест подгадывали свои дела так, чтобы поехать в церковную деревню именно в субботу, и тогда иная дочь возвращалась домой, сидя в линейке рядом со своим массивным папашей. Слышны были прощальные восклицания девушек, и уходивших домой пешком, и уезжавшей, но они были веселы и учтивы. И казалось, лучи послеполуденного солнца радостно играли в блеске глаз и в сверкающих улыбках.
По одной из дорог шагала домой и Силья Салмелус. Сначала втроем с двумя другими девушками, потом вдвоем, пока не осталась на последнем отрезке пути одна. Отец мог видеть, как она приближается. Он стоял среди кучи щепок и колол дрова для сауны. Силья бросила на отца открытый взгляд и прошла мимо него в избу, не сказав ни слова в знак приветствия. Удары топора Кусты отдавались эхом, и с треском раскалывались поленья, был прекрасный субботний вечер начала лета. Силья, переодевшись в домашнее, вышла из избы и спросила, что ей делать, хотя и сама прекрасно знала это.
— Отнеси только дрова и растопи, быстрее сможем пойти в сауну, — сказал Куста.
Так их голоса поприветствовали друг друга. И обычные занятия субботнего вечера выполнялись с приятной легкостью отцом и дочерью, которых сближало взаимное теплое чувство. Глубокое ощущение счастья очистилось в течение этого лета от деталей и взглядов — несущественных или же таких, которые даже были помехой.
Лишь после сауны, когда Куста, сидя в исподнем у окна, расчесывал свои еще густые волосы, а Силья, словно белое видение, тихонько хлопотала в кухне у плиты, лишь тогда заговорили о делах. Отец расспрашивал, оглядываясь через плечо, насчет дома, где квартировала Силья, о котором сам он мало что знал. Когда при этом выяснились какие-то подробности, не очень-то ему понравившиеся, он не стал толковать об этом дочери, а продолжал расспрашивать и вставлял замечания таким манером, словно показывая этим разговором, что их мнения обо всем совпадают. Вот так сидел старый хозяин хутора, дочь могла видеть его крупный, породистый профиль на фоне окна сейчас так же, как когда-то ночами, когда ее в детстве мучил жар. Затем отец перебрался на кровать и больше не обращался к дочери и никак не показывал, что следит за ее действиями. В избе воцарилась тишина, словно там в воздухе витали лишь солидные вечерние раздумья пожилого мужчины.
Тихонько, опасаясь, как бы не скрипнула дверь, Силья выскользнула во двор, в еще по-весеннему густые сумерки. Гроздья цветов черемухи на дальнем берегу озера и по ту сторону водной глади, у дороги, казалось, висели в этих сумерках. Голоса пичуг вблизи жилищ постепенно умолкали, но можно было расслышать, как в отдалении, в большом лесу подавали голоса птицы покрупнее, которые затяжными, долгими трелями истолковывали по-своему глубинный смысл северной ночи в начале лета, ради которого они так радостно преодолели свой длинный путь. Уже свиты гнезда, и в них уже появились яйца… Описывая северную летнюю ночь, автор замечает тут, что он поддался чарам знакомых литературных приемов. Цветы в сумерках под бледным небосводом, приглушенная музыка природы, одинокая, глядящая куда-то вдаль девушка, которой, как замечает творец картины, он придает внутренние и внешние черты одного далекого человека…
Силья Салмелус то стояла, то медленно ступала, прислушиваясь и воспринимая всем своим существом эту летнюю ночь.
Потихоньку она прошла в конец мыса, относящегося к их участку, к кустам на самом берегу и присела там на ствол вывороченной с корнем березы. Ее юная душа как бы расширилась и осмелела. Никто и ничто не явилось бы сюда беспокоить ее. Место это находилось в стороне от чьих бы то ни было путей. А в избе, на расстоянии крика отсюда, чутким сном спал отец.
Водная гладь с ее берегами и островами и их отражением простиралась перед нею, будто на какой-то картине; такие ей уже доводилось несколько раз видеть. Все то, что на берегу поднималось над водой, отражалось в ней, словно уходя вниз головой в глубь озера. Все то, что сейчас слышала, чувствовала Силья, как бы старательно внушало ее сознанию хрупкое добро, казалось, окружающая природа шепчет ей, мол, если ты еще о чем-то томишься, то всему сущему тут не остается ничего другого, как только лелеять твое томление. Она внимала обращенной к ней речи природы распахнув глаза, которые, подобно озеру, вбирали в себя всю открывшуюся перед ними картину. Ведь эта шестнадцатилетняя девушка была лишена многого, что могло бы у нее быть и что, она иной раз слыхала, вроде бы некогда было ее, но чего осознанно желать не могла. Вероятно, потому-то и немного увлажнились ее расширившиеся глаза и негромкий вздох вырвался из груди в эту летнюю субботнюю ночь, когда она пришла из конфирмационной школы домой навестить своего остававшегося в одиночестве отца. Да, отец, спящий сейчас там, в доме, действительно одинок… Эта мысль выявила и подоплеку ее грусти, она подумала, что как бы охраняет отца. Так девочка Силья словно бы заглянула в себя и обнаружила свое женское начало…
Ночь углублялась. Силья встала и прошла несколько шагов по берегу, чтобы там, дальше, подняться обратно к избе. Но захотелось остаться — пейзаж сильно оживила показавшаяся из-за острова лодка, вероятно, кто-то просто плыл мимо — с юга на север. По ритмичным всплескам весел можно было определить настроение гребца. Летняя ночь влияла и на него, диктовала ход его мыслей и даже паузы между гребками. Эти приближающиеся звуки не тревожили Силью, а лишь наводили на размышления… Она как-то безотчетно сорвала росший на земле цветок и смотрела на приближающуюся лодку, стоя к ней боком. И гребец на миг опустил весла, будто в ответ на движение девушки, хотя он наверняка еще не мог ее видеть. Похоже, он не спешил никуда по делу, а просто наслаждался ночной лодочной прогулкой, — это был какой-то парень, незнакомый, одетый не по-рабочему, но и не празднично, что было видно даже с берега, где стояла Силья. Очевидно, кто-то из тех семейств, кому принадлежат находящиеся вдалеке дачи, решил просто покататься на лодке. Силья была почти уверена, что видела его на неделе в деревне, у церкви, он ехал на велосипеде… Потому-то она так хорошо разглядела теперь его одежду… Нос у него вроде бы был с небольшой горбинкой, а в разговоре с хозяйкой пекарни он то и дело обнажал передние зубы… Да, это именно тот парень, теперь он подплыл уже совсем близко, они могли видеть друг друга… Пальцы Сильи разок-другой ущипнули цветок, карие глаза взглянули разок-другой из-под длинных ресниц, затем она пошла к избе, каждый шаг был словно бы маленьким событием, словно бы утверждал что-то. Идя вот так, она не оставила без внимания, что парень на озере, в лодке, у нее за спиной, все еще держал весла на весу. Лишь после того, как она скрылась за кустами и с озера ее какое-то время не было видно, она услыхала, как парень сделал несколько гребков и снова замер на миг. И когда наконец она услыхала, что он удаляется, ритм весельных ударов был иным, чем прежде.
Наверное, уже полночь. Сколь же долго пробыла там, на мысу, Силья? Войдя в дом, она заметила, что принесла на своей одежде дыхание ночной свежести. Она все еще держала цветок; возникло желание сохранить все то, что последовало за нею с мыса.
Спать все еще не хотелось, она подсела к боковому окну, из которого видны были поля, уходящие в сторону деревни. До чего же удивительной была эта ночь, первая такая ночь в жизни Сильи-девушки. В дальнем конце комнаты, на кровати, белела фигура отца, он спал, как обычно, без одеяла. Силья смотрела туда, и в какой-то мере ее удивило то, как она сейчас разглядывала отца… Старый человек, познавший в жизни немало трудностей, так ей говорили… С этим старым, поселившимся здесь человеком я живу вместе, он мой отец… Что это значит?..
Отец неподвижно лежал на спине, его дыхания не было слышно, было что-то слегка пугающее в отцовской позе. Силья вспомнила, что дедушку нашли умершим в риге, никто не видел, как он умирал… Может, отец все-таки не спит, хотя и не говорит ни слова? Спросить его Силья не решилась. И подойти поближе, посмотреть — тоже. Она глядела по очереди в каждое из трех окон. И всюду она видела ночь, теперь вроде бы еще более сгустившуюся, чем давеча. Отражения в озере замутились.
Наконец с кровати, где лежал отец, послышалось какое-то шевеление и еще негромкий звук, словно сдерживаемое покашливание. Отец приподнялся, сел и затем пошел к окну, из которого виден был мыс. Опершись на подоконник, он постоял там неподвижно. Потом, вздохнув, повернулся и заметил Силью в другом конце комнаты.
— Ага, ты уже вернулась, — сказал он старческим, чужим, сонным голосом, пошел к кровати и снова лег. Силья поняла, что, поднявшись, отец сперва не заметил ее.
В сумерках комнаты, в другом углу можно было различить беззвучно двигающуюся фигуру девушки, она белела, пока не исчезла в кровати. И затем весь дом погрузился в сон. Снаружи, со стороны озера уже давно не доносилось ни единого всплеска весел. Оставалось совсем немного времени до наступления приближающегося воскресного утра.
_____________
Воскресенье за неделю до Иванова дня, яркое и длинное. Люди и скотина наслаждаются отдыхом и теплом. Старому человеку приятно посидеть в одной рубахе, ведь повсюду светит солнце. Даже домашние животные — собака, кошка, петух с курами и ласточки — хотя и не знают ничего о воскресенье, ведут себя в удивительном соответствии с настроением людей. У сидящего на крылечке есть сейчас время замечать и тех, на кого за будничной суетой не обращаешь внимания.
Никакого удивления не вызовет и то, что старый человек предпримет небольшую прогулку, просто так, чтобы скоротать воскресное время. Молодая пышная зелень грядок и деревьев столь обильна, в ней проявляется такая мощь сил природы, что восхищаться этим в воскресный день не стыдно даже самому мужественному мужчине. Даже самый суровый хозяин может пойти посмотреть на них и прикинуть виды на урожай. Для бедного крестьянина, у которого всего-то несколько капландов[13] своей земли, а в будни — тяжкий труд на чужих полях, такая тихая и задарма доставшаяся радость в день отдыха особенно приятна.
Та же самая водная гладь, так чутко отражавшая ночью берега и острова, теперь сверкает и переливается в свете всемогущего солнца. Вот и старина Куста идет-бредет по мысу, направляясь туда, где — он видел вчера поздно вечером — прогуливалась его дочь. Там есть искривленный ствол березы, однако же Кусте не годится присаживаться на него, и вообще не годится останавливаться здесь надолго. Впрочем, он вряд ли так уж понимает, что эта спокойная прогулка продиктована его ночными наблюдениями. И хотя ни один из дней долгой жизни человека не бывает точно похож на другой, но это воскресенье видится Кусте Салмелусу совсем особенным. И все потому, что дочка, к которой он так сильно привязан, как обычно привязываются к единственному ребенку, впервые целую неделю отсутствовала, сегодня снова дома и очень скоро опять уедет. Уже вечерним пароходом.
Да ее и сейчас нет дома. Девочка пошла в деревню посоветоваться насчет платья. Там, в маленькой комнате портнихи, девушки обычно утром по воскресеньям примеряют платья, находящиеся в работе, или доверительным шепотом советуются с портнихой о покрое и фасоне нового. Через неделю и Силье предстоит праздник — как же это называется? — возобновление договора о таинстве крещения… Силью-то крестили еще там, в большом зале дома Салмелусов… И вот уж девушка заказывает себе платье для конфирмации. На мгновение ему вспомнились и бледные лица покойных детей… О чем только не вспомнит одинокий старый человек, когда он без особой на то причины забредет на конец мыса и остановится там постоять среди прибрежных кустов. На нем жилетка и синяя рубашка, из рукавов которой глядят сильные кисти рук, — старые пальцы его еще гибкие. Если бы его мать вернулась в этот мир, зная лишь то, что знала в миг своего ухода, она могла бы подумать, что видит мужа своего, покойного Вихтори Салмелуса. Цвет волос и глаз сына, первоначально бывший таким же, как у матери, настолько изменился от времени, от ветров и бурь жизни, что стал похож на цвет волос и глаз его покойного отца. Вот таким Куста, сын Вихтори Салмелуса, идет обратно к избе. Скоро небось и ему придет срок… Но сейчас он смотрит, не возвращается ли дочь. Правда, он и сам может накрыть на стол, бесчисленное количество раз он делал это и в прошедшие годы, и на минувшей неделе. Однако же ему было бы очень приятно, если бы это сделали сегодня руки дочери, коль уж она на сей раз дома.
И она наконец возвращается. Он видит ее идущей с какой-то девушкой, ее сверстницей. Они останавливаются на развилке, где от шоссе отходит дорога сюда. Они оживленно болтают, размахивая руками и подскакивая, а расставаясь, расходятся в стороны, словно растягивая нить разговора, пока наконец не обрывают ее, несколько раз еще крикнув о чем-то одна другой. Затем Силья торопливо шагает к дому, но наблюдателю кажется, что мысли девушки не летят впереди нее, а скорее волочатся следом. Куста спрашивает:
— Кто эта девушка, с которой ты шла и разговаривала?
Вопрос, видимо, кажется странным, поскольку Силья глядит на отца с легким удивлением и лишь затем называет имя девушки.
— Вот оно как, так это она, я-то их всех путаю, — бормочет отец, лишь бы как-то покончить с неловким вопросом.
Силья накрывает на стол проворнее, чем обычно. Затем, окинув стол немного рассеянным взглядом, смотрит на отца, как обычно, мол, можно начинать. Отец, подойдя, тоже смотрит на стол, перед тем как сесть, потом переводит взгляд на дочь и спрашивает, как-то напряженно улыбаясь:
— А хлеба ты мне не дашь?
Это было и впрямь удивительное воскресенье — во всей красоте и яркости. Да еще то, что Силье и Кусте пришлось говорить друг другу такое. У девушки был почти виноватый вид, когда она поставила лукошко с хлебом перед отцом.
За столом Куста непременно всегда немного разглагольствовал, даже если при этом присутствовал лишь один-единственный слушатель. Такая же привычка была у его отца. Куста унаследовал ее вместе с Салмелусом. За столом в большом хозяйстве разговор легко переходил в гвалт, если хозяин не понижал тон, подавая пример. Вот и Силья была привычна к тому, что отец за едой всегда вел с нею этакие разговоры вообще, которые непосредственно не касались дел в хозяйстве. При этом он обычно высказывал и некоторые соображения о людях и событиях в округе. Возьмись Силья обдумывать отцовские застольные высказывания, она не смогла бы припомнить ни одного такого, которое вызвало бы у нее неприятное чувство. Наоборот, частенько они нравились ей и даже иной раз вызывали своего рода легкое восхищение отцом, и тогда она смотрела на него сбоку, наблюдая за ним так, чтобы он этого не замечал.
Теперь же, за все время, пока отец ел, ни слова от него не было слышно. Похоже, он не был ни рассержен, ни недоволен, а просто находился в глубокой задумчивости, как бы витал в мыслях где-то далеко. Силья лишь присутствовала при сем и напрягала внимание, чтобы больше не позволить за столом никакой промашки. Куста собирался было сказать: «Она, слыхать, уже по ночам маленько шляется», но промолчал, поскольку не знал этого абсолютно точно и наверняка. Закончив еду, он сказал лишь:
— Поешь теперь, золотко, и сама.
И эта фраза не была обычной в их обиходе. Несмотря на заботливый тон, она произвела на Силью удручающее впечатление, словно бы произнесенная очень слабым больным человеком. И Силье было не до еды, покуда отец не встал из-за стола и пошел к кровати, чтобы, как всегда, вздремнуть после обеда.
Время было уже за полдень. И солнце светило все так же ярко, спокойно и неотразимо действовало на всю живую и неживую природу. По-своему оно привлекательно и радует людей любого возраста. Солнце — самое светило — равно и символ, и движущая сила одинаково для всех людских влечений и страстей.
Отец — Куста еще лежал на кровати, когда Силья поела, и он услышал, как она сказала:
— Я бы сходила ненадолго в Микколу.
Там, в Микколе, и жила давешняя девушка. Куста ничего не мог сказать на это, молчание его тянулось неестественно долго.
— Сама уж смотри, чтобы не опоздать на пароход, а то ведь придется идти пешком, — сказал Куста.
— Ну да, — услышал он ответ дочери, произнесенный немного неуверенно.
Дочка ушла, и отец опять остался один в залитой солнечным светом избе. Он все еще лежал на кровати, и невысказанные мысли сгущались, неожиданно сильно меняя его настроение.
Прелестное воскресенье все продолжалось. Еще несколько часов после обеда оно сильное и счастливое. Прохожие, встречая друг друга на дороге, доброжелательно истолковывают это друг другу.
Силья провела в Микколе всю середину дня. Куста сам сварил кофе, ожидая ее. Затем он увидел дочку, медленно идущую по дороге и помахивающую веткой цветущей черемухи. Оставалось часа два до прибытия парохода. И затем отцу предстояло опять на неделю остаться в одиночестве, а дочери отправиться обратно в деревню, где церковь, — готовиться к предстоящей в Иванов день конфирмации.
Конфирмация — прекрасное время для каждого, хотя Силье и не дано предстать именно перед тем алтарем, перед которым несколько поколений ее предков с торжественной чистотой в душе ждали причаститься тех удивительных даров — хлеба и вина, ощутить их на своих губах. То было в другом приходе, ведь семейство Салмелус переселилось в чужую округу.
Можно было бы полагать, что у старого Кусты настроение сейчас возвышенное и праздничное. Но он, прежде всего, чувствует странное замешательство, особенно нынче, когда Силья дома. И он не в силах понять, в чем тут причина. Ведь дочка такая же красивая и столь же светла лицом, как и прежде, вежлива и спокойна. А если она и пошла ненадолго в гости, так что в этом удивительного, не обязана же она весь прекрасный воскресный день просидеть в избе, когда у нее свободное время. И другой сверстницы, кроме этой дочки Микколы, у Сильи по соседству нет. Да и, по правде говоря, Куста о той девушке ничего толком не знает. Слышал ненароком лишь две — три фразы, только и всего. И то, что Силья, дочка, прекрасной летней ночью несколько задержалась за пределами родного двора, не имело иной причины, кроме девичьего мечтательного настроения. Известное дело, ребенок здесь, в уединении, хочет немного поразмыслить о том, что старательно пробуждал в ней поп своими речами целую неделю.
И однако же прочные отношения, сложившиеся между этим отцом и дочерью, оказались как-то нарушены.
Не впервой было отцу Кусте самому варить кофе и накрывать на стол. Силья видела это много раз, даже став уже большой, когда ей случалось захворать. Куста и тогда не звал из деревни женщин на помощь, а оставлял свои дела и весьма умело управлялся по кухне сам. Но на сей раз, вернувшись из гостей, войдя в избу, заполненную ароматом сваренного только что кофе, и увидав отца, ставившего на стол чашки, Силья, как и утром, испытала неловкость, только теперь ощущение этого было немного слабее, словно легкое касание. И отец выглядел странно старым, до сих пор Силья никогда не связывала старость со своим отцом. Нечто подобное жалости шевельнулось в душе девушки. И она поспешно сама взялась накрывать на стол.
Сегодняшний отъезд Сильи в конфирмационную школу казался гораздо более радостным, чем тот, неделю назад, когда она ехала туда впервые. Тогда было бодрое утро понедельника, и Куста сам отвез ее на лошади, поскольку пароход по утрам в том направлении не ходил. В первый раз Силье было боязно уезжать из дому, она страшилась оказаться среди многих незнакомых людей. Но теперь она ждала отъезда с таким нетерпением, что ей даже было неловко, к тому же очень приятно и интересно попасть на пароход, где будет еще несколько девушек из тех дальних деревень, что лежат в той стороне, откуда приплыл ночью на лодке тот молодой гребец… Приятным виделось и ожидание вечера: двор дома, где она квартировала, был большим и ровным, покрытым травой, и там, она слыхала, собиралась воскресными вечерами, чтобы повеселиться, молодежь с ближайших хуторов…
Куста сидел молча, наблюдая за сборами дочери. И слышал, как девушка даже тихонько напевает. Мелодия напоминала духовное песнопение, может быть, даже хорал, во всяком случае что-то церковное. Девушка собиралась, мурлыча себе под нос, но ни разу при этом не взглянула на отца, пока, ища что-то, не спросила у него о чем-то совсем обычном, будто открыла дверь праздничной горницы своей души и крикнула оттуда какое-то распоряжение в людскую. Тогда-то она и взглянула на отца, взглянула без смущения, даже деловито и как бы в спешке. Ее глаза встретились с отцовскими, и глаза этого старого человека были такими, что она уставилась прямо в их зрачки, не смогла сразу оторваться от них… Отец словно бы и не слыхал ее вопроса, настолько чуждо поблескивали его глаза; он взглядом как бы задавал свой, иной и более значительный вопрос…
Отец встал и пошел к кровати.
— Что-то меня мутит, — сказал он. — Есть у нас вода?
Силья враз прервала свои сборы и быстро подошла к ведру. Оно было пустым. Девушка поспешила к колодцу. Куста остался в одиночестве.
Пожалуй, можно признать воздух в избе одним из виновников случившегося; Кусте казалось, будто этот воздух рассматривает его, будто воздух — какое-то существо, с которым ему теперь и придется иметь дело, а все остальное оставить. Чувствуя тошноту, он глядел на пол середины комнаты, и ему вспомнилось, как он однажды, давно, глядел вот также. Казалось, будто он глядит в раскрытую дверь салмелусской риги, там, в его бывшем родовом старинном имении, о котором он уже почти позабыл. Куста встал с кровати и первым делом поворотился к окну, рядом с которым висело зеркало. Почти безотчетно он посмотрел в него; он пс мог припомнить, когда в последний раз рассматривал столь внимательно свое сильно изменившееся лицо… Кто был тот мужчина, которого он теперь видел в зеркале? Ибо именно так выглядел тот, кто спросил однажды что-то насчет дел в хозяйстве, тогда, в последние дни своей жизни… и сопроводил свой вопрос огорченным взглядом — вот так передал своему молодому тогда сыну Кусте имение Салмелус его покойный отец Вихтори, который, казалось, глядел теперь оттуда, из зеркала. Такой же нос и очертания рта, а во взгляде — тот же вопрос и такая же досада. Что же теперь? Что скажет воздух в комнате и этот пол?
Силья! — она сейчас придет — и сразу же уедет. Нет, нет, теперь надо сдержаться, как бывало и прежде — в разных случаях на протяжении жизни…
Дочка молча внесла ведро, поставила на место и затем посмотрела на отца: отец — с болезненным румянцем на щеках — подошел, взял черпак и напился.
— Не пора ли тебе уже, золотко? — спросил он, кладя черпак на место.
Опять прозвучало это «золотко», давно забытое слово, употребленное отцом сегодня уже вдругорядь. Днем она пошла в гости и задержалась там, множество впечатлений от неба, земли, взглядов и слов людей заставили девушку позабыть о той, угнетавшей ее сегодня утром в отцовской избе атмосфере, от которой она неосознанно и пыталась было убежать, но теперь гнетущее чувство неловкости, наоборот, усилилось. Ведь только что отец сказал, что ему худо, нездоровится. В этом слышалось что-то стариковское, а старость — такое понятие, которое в сознании Сильи не связывалось с отцом. Она смотрела теперь на него как на приближающееся несчастье, от которого уже невозможно спастись бегством. Отец заметил раньше, чем она сама, что по щекам ее текут слезы.
— Не тревожься, Силья-золотко, — сказал Куста, — это пройдет. Смотри только, чтобы не опоздать на пароход.
Волнение, охватившее Силью, настолько растрогало Кусту, что он совершенно позабыл о своем состоянии, в оставшиеся ему мгновения телу пришлось жить отдельно от души. Силье нора было уходить, с минуты на минуту нос парохода мог показаться из-за оконечности самого южного мыса. И Куста отправился провожать дочь, добрел вместе с нею до шоссе. Там он остался, стоял и глядел, как уходило его единственное дитя, которого он уже не мог остановить. Было воскресенье, предвечерье, начало лета, молоденькая девушка красиво ступала по дороге, а старик отец, стоя там, где начиналась дорога, глядел, как дочь удаляется плавной походкой. Он увидел, что вдали на шоссе вышла еще какая-то девушка и бодро зашагала рядом с Сильей. Вскоре им встретились два парня, Куста различил их фигуры. Парни остановились, остановились и девушки. Затем парни тоже пошли в сторону причала. Все это Куста успел увидеть, прежде чем вернулся в избу. Да, домой он вернуться успел, был кто-то, кто видел и мог позже утверждать, что старик Салмелус вошел в свою избу, где его вскоре обнаружили мертвым. Также, как нашли мертвым его отца в риге их родового имения.
Силья успела уже некоторое время побыть в доме, где квартировала, и даже поиграть там на дворе, когда весть об отце достигла ее. Парнишка, помогавший продавцу в лавке, пришел сообщить ей об этом, он говорил складно, как привык говорить через прилавок. В тот же миг Сильей овладело чувство вины, будто она бросила отца умирать там, в конце дороги, ведущей к дому, хотя и не знала, там ли это случилось. Она глядела на окружающих ее людей с изумлением, словно они, веселясь здесь с нею, уже тогда знали обо всем. И парнишке из лавки, похоже, некуда спешить. Да и все они, кажется, только и ждут, чтобы она ушла и они смогли бы продолжать разучивать новый танец, который Силья успела уже разучить, она знала и мелодию, и даже слова песенки, под которую его танцуют.
Не нашлось никого, кто мог бы посоветовать Силье, что ей нужно делать. Квартирная ее хозяйка, похоже, была больше озабочена чем-то другим, чем смертью отца этой девочки из конфирмационной школы. Женщина не знала толком, зажиточен ли был покойник и как будет с платой за квартиру… И очевидно, она обсуждала это с хозяином, мужем своим.
Дорога из деревни домой представлялась Силье почти жуткой, да и вечер был уже поздний, но все же она пошла. Пошла, не сказав никому ни слова. Квартирная хозяйка могла лишь строить догадки и утешать себя тем, что девушка ну никак не могла пуститься в такой путь, не завершив конфирмационную школу.
Силья брела по дороге. Еще продолжался воскресный вечер, и на окраинах деревень стояли группками парни, они весело и беззастенчиво поглядывали на идущую мимо девушку. Правда, никто из них особенно не пытался приставать к ней, странное выражение ее лица останавливало их, хотя дразнить беззащитных доставляет таким парням большое удовольствие.
Было уже около десяти вечера, когда Силья опять оказалась на том же самом месте на дороге, где в послеобеденную пору она рассталась с отцом. И она невольно остановилась там, будто лишь теперь поняв, в чем дело. Ведь она пустилась в эту долгую дорогу обратно домой, словно лишь желая опровергнуть то, что сказал ей там, во дворе у Кякеля, парень из лавки. Но теперь, когда ей оставалось пройти совсем немного — от шоссе до дома, остановка была уже как бы признанием случившегося.
Войдя во двор, Силья заметила, что дверь заперта снаружи, а подойдя к окну, увидела, что занавески задернуты изнутри. Правда, между ними оставалась узкая щель, но в нее ничего нельзя было разглядеть. Беспредельная тишина — ни лодки на озере, ни путника на дороге. Далеко отлетели и мечтательность вчерашнего вечера, и сегодняшнее солнечно-радостное настроение, какое было у нее днем.
К дому не спеша приближался хозяин Миккола. Он уже издали увидел Силью, но все же не ускорил шага. Он шагал спокойно, а Силья, не прошедшая еще конфирмации девчонка, стояла бледная в воротах родного двора, опустевшего и даже как-то похолодевшего этим поздним вечером.
— Вот так тут получилось, деточка, — едва ты успела уехать, как… — Вообще-то Миккола был весьма суровым мужчиной, но теперь он обращался к этой девушке ласковым тоном, подробно рассказывая, как узнали о случившемся и что ему пришлось тут кое-что предпринять, положить покойника на стол и послать весть Силье.
Все быстрее удалялись в прошлое и давешние события здесь, и все, что было до этого, — детство. В теплой, прелестной ночи перволетья осиротевшую девушку обдал порыв холодного ветра жизни. Миккола говорил с ней, как с совершенно взрослым человеком, так с Сильей разговаривали впервые. Миккола сказал, что в дом он заходил не один, а сперва обзавелся свидетелем, чтобы потом не было никаких неясностей. Рассказывая все это, он отпер дверь и первым вступил в сумеречную избу.
За ним вошла в комнату и Силья. Вокруг покойника царила полнейшая застывшая тишина. Занавески на окнах были задернуты, и сначала Силья не заметила, где… Миккола подошел к большому столу.
— Мы подняли его сюда, на стол, он ведь упал тут рядом, подумали, что… — сказал Миккола, потом пошел к окну, раздвинул занавески и остался стоять там, в отдалении.
Силья опять увидела нижнюю часть отцовского подбородка, дуги ноздрей и глазные впадины точно так же, как раньше, в запомнившиеся ей мгновения. Глаза покойника были чуть приоткрыты, так нередко бывало и прежде, когда отец лежал на кровати, а Силья тихонько занималась чем-нибудь или говорила нечто такое, что не требовало обязательного ответа. И теперь этот немногословный мужчина лежал здесь, и на лице его застыла последняя, едва заметная улыбка, какой встречал он столь многие крутые жизненные повороты. Теперь он словно бы усмехался тому, что Силья и Миккола уставились на него, а может быть, даже и ждали, что он изменит позу. Нет, он не пошевелился — так и лежал там, на столе, на котором… Возможно, лишь сейчас все это наконец дошло до сознания Сильи, ибо только теперь она заплакала, разревелась, как маленький ребенок. Отец однажды, будучи в хорошем настроении, рассказал ей, что она, Силья, после переезда сюда спала в первый раз здесь, на этом же столе…
Суровый хозяин Миккола не мог ничего больше сказать и лишь потихоньку отодвигался ближе к двери, но еще вернулся и стал снова задергивать занавески на окнах.
— Закрою, чтобы не приходили заглядывать, хотя ему-то это все равно, но так как-то лучше, — пояснял Миккола в перерывах между стихавшими всхлипываниями Сильи. — Такое дело — ты небось заночуешь сегодня у нас, положим тебя рядом с Тююне, ведь не пойдешь же ты на ночь глядя туда, к церкви, и надо бы малость потолковать о похоронах, время-то теплое, — оно-то могу и я все сделать, если ты не хочешь, чтобы еще кто другой — деньги у покойника есть, хоронить за счет прихода его не требуется, уж это я знаю, — только не успел еще посмотреть, есть ли у него дома, сколько надо, но в банке-то имеется, да я могу пока и своих добавить…
Новые туфли Сильи намокли в траве — уже выпала роса. Слышались разнообразные ночные голоса летней природы, тянуло каким-то смрадом. Силья и хозяин Миккола — странная пара для такого времени — брели мимо сонных жилищ к хутору Миккола. В одном из дворов еще поджидала тихая, но любопытная бабенка, которая давеча, видя, как Миккола шел к избе Салмелуса, догадалась, в чем дело, и хотела увидеть и узнать, очень ли убивается девчонка, что отец вот так помер.
— Серьезная была, а плакать не плакала, когда шла тут мимо, — вернувшись в дом, рассказывала она мужу, лежавшему на кровати.
Когда пришли в Микколу, там еще не спали. Хозяйка и Тююне, с которой Силья давеча провела день, были в такой растерянности, что даже поздоровались с Сильей за руку, а Тююне говорила так странно, словно по писаному. Затем хотели хорошенько угостить Силью, но есть она не смогла: когда надо было жевать, у нее снова выступали на глазах слезы и во рту пересыхало. Тогда улеглись спать. Силью уложили рядом с Тююне.
И со сном сироте не повезло в эту первую сиротскую ночь. Тююне заснула почти сразу и во сне сильно металась, чем мешала спать делившей с нею постель Силье, у которой и вообще-то сон был очень чуткий. Досада на Тююне немного отвлекала Силью от того, вокруг чего все время крутились ее мысли. Тююне — крупная хозяйская дочь, — заснув, небрежно закинула ноги на хрупкую Силью, и они были такие тяжелые, что Силья еле выбралась из-под них, но тогда Тююне, повернувшись, навалилась на нее всем телом и крепко обняла, что-то сонно бормоча. В дыхании ее был легкий ночной запах. Раньше Силье не приходилось спать с кем-нибудь в одной кровати, разве что с отцом, да и то уже много лет назад. Лежа теперь без сна, она вспоминала, как вчера Тююне казалась ей самым близким человеком и как, радуясь этой душевной близости, она весь солнечный день ходила улыбаясь. И как по пути к причалу они встретили тех парней, и что сказала Тююне… И как расспрашивал ее и говорил что-то отец…
После этой ночи у Сильи не осталось ни малейшей привязанности к Тююне Миккола, которая чуть было не стала ее задушевной подружкой. И ей виделось, будто старый Куста Салмелус все стоит на развилке в начале дороги и указывает ей правильный путь.
Утром Силья, уставшая, отправилась обратно в конфирмационную школу, а Миккола принялся за устройство похорон и других дел, вызванных смертью человека, дел, в которых Силья, разумеется, не больно много смыслила..
Кусту похоронили в то же воскресенье, когда Силья конфирмовалась, но ни одно из этих событий не произвело на Силью особого впечатления и не задержалось в ее памяти надолго.
2. Дочь
Силья недолго прожила в Микколе, хотя хозяина Микколы и назначили ее опекуном, коль уж он с самого начала пришел на помощь этой девушке, оставшейся без защиты. Но не успела Силья после конфирмации провести в доме опекуна и недели, как хозяйки хуторов и другие бабы стали намекать, что, мол, Миккола хорошо устроился, получив на попечение такую выгодную сироту: имеет бесплатную служанку и ему еще за это платят попечительские деньги — вот ведь как! При этом желтозубые бабьи рты настолько приумножали скромное наследство Сильи, что вскоре можно было подумать, будто вообще существование хозяйства Миккола зависит от того, сумеет ли его хозяин исхитриться и прибрать к рукам наследство сироты — хм…
Это и послужило причиной того, что Миккола устроил Силью в маленькое старомодное хозяйство Нукари, где она была единственной служанкой. Хозяин Нукари не имел и постоянных батраков, а нанимал временных поденщиков, и таким там был тогда полоумный парнишка по имени Вяйно, которого в деревне прозвали «управляющим имением Нукари». Кровать Вяйно стояла в углу возле двери, а Сильи — в заднем углу. Иногда в вечерней темноте, когда оба уже лежали в своих кроватях, между ними случались весьма странные беседы. Вяйно — «управляющий» развивал свои взгляды на мир, и ничто не стесняло полет его мысли. Однажды он очень осторожно расспрашивал Силью о ее прежней жизни и сравнивал со своей. И затем, когда была пора уже погрузиться в сон, он завел разговор о женитьбе и интересовался у Сильи, не захочет ли она выйти за него, как только он, Вяйно, маленько разбогатеет. И хотя Силья еще не обрела полной уверенности в своих силах, какая есть у взрослых людей, она все же с легким сердцем сочла, что может не отвечать на такие вопросы. «Так, стало быть, выйдешь?» — послышалось еще из кровати у двери. «Поговорим завтра», — ответила Силья и шумно стала устраиваться спать. В тот же момент дверь открылась, и вошла хозяйка в ночной рубашке. «А теперь, Вяйно, прекрати болтовню, а то опять уписаешься в постель, раз так долго не спишь, а ты, Силья, не отвечай этому дурачку». Хозяйка вернулась к себе, а из кроватей слуг после этого не раздалось ни слова. Силья была довольна, что хозяйка сочла ее вполне разумным человеком. Она пожалела беднягу Вяйно, а перед тем как уснуть, немного и себя, вспомнила годы своего детства, время в конфирмационной школе и — с сокрушением — отца-покойника, чей образ уже немного затуманился, так что его уже нельзя было вызвать, сомкнув веки в ожидании сна. Лишь некоторые его позы, некоторые движения возникали перед ее внутренним взором — и тоща в сознании проносился легкий порыв досады, что не отец хозяин этого дома, где она лежит теперь; чтобы заснуть, ей пришлось набраться храбрости. Тихо вскрикнув и вздрогнув, девушка вдруг проснулась, поглядела на темные квадраты окон, услышала дыхание спящего Вяйно, вспомнила, где она, и затем вновь погрузилась в глубокий сон.
Какое-то время спустя, холодным ветреным осенним вечером Силья одна возвращалась из соседней деревни. Она загостилась там дольше, чем следовало, и когда наконец пустилась в путь, ее охватил неопределенный страх темноты, страх перед природой, немного похожий на тот, какой она испытала тогда, на льду озера, откуда ее спас отец. Между деревнями был лес, дорога спускалась в глубокую низину, шум ветра в кронах слышался высоко над головой путницы, словно там дышала темнота, как страшная огромная птица.
Ей показалось, будто отец как-то связан с этим дыханием темноты… Сирота заспешила по дороге и в самом мрачном месте, на пол пути, была почти в ужасе. Но по мере того как лес редел и приближались человеческие жилища, ее неопределенная подавленность сменилась столь же неопределенной, рвущейся наружу радостью.
Она попыталась запеть, чтобы побороть тот удаляющийся шум деревьев.
В гостях же было все, как и должно. Силью угостили кофе и обращались с нею, как со взрослым человеком. Находившийся там молодой мужчина, которого звали Оскари Тонттила, заговорил с нею, как парни заговаривают с девушками. Ведь ей шел семнадцатый год. Она вспомнила об этом, приближаясь к дому и напевая уже в голос.
Она вернулась в Нукари в хорошем настроении и застала всех живущих в доме за веселым разговором в большой людской, где была и хлебная печь. Возвращение Сильи домой получилось как бы заметным событием — она, вернувшись, была все еще явно разгорячена. Рассказать хозяйке о том, как она сходила в гости, нечего было и пытаться: в людской громко переговаривались и перебрасывались шутками. Среди прочих сидел какой-то полноватый краснолицый мужчина, на пальце у него красовалось кольцо с камушком, а на жилетке — толстая золотая цепь. Позже выяснилось, что это брат хозяина, который уже побывал в Америке и вскоре вновь отправлялся туда. Он вроде бы явился попрощаться.
Его звали Вилле, и он сделал вечер в этом обычно не очень-то уютном помещении весьма приятным. У него был немного резковатый голос, делавшийся во время пения пронзительно высоким, выше, чем у любой из женщин. Вилле и подбил других петь, даже соблазнил Вяйно пускать во все горло какие-то странные, перенятые у отца трели, — в нынешние времена это уже мало кто умеет, но трели вызывали хохоту всей компании, особенно в исполнении Вяйно. «Как пришел я в Раума Рантелли — был там бородатый Сантелли — у него спросил: где Хильма Хаммари — он отвел меня к ней в комнату». Уже и хозяин расчувствовался и продолжал: «Родом Хильма та из Турку-то — и не знала она о трауре — аж пятнадцать марок я потерял — когда рядом с той Хильмою ночь проспал». Хо-хо-хо — смеялись все, а Вяйно был очень горд, поскольку и хозяин пел ту же песню, что и он.
Вилле Нукари немало постранствовал, он хорошо знал людей — старых и молодых. Девушку Силью он счел очень хорошенькой, хотя еще слишком молодой и наивной. В этот веселый вечер он и словом и делом смог выказать Силье свое дружелюбие. Когда Вяйно после той песни принялся напевать какую-то танцевальную мелодию, гость подхватил Силью и танцевал с нею посреди людской. Они были единственной танцующей парой, и все глядели на них. Силья заметила, что полька у нее получается, и хотя Вяйно убыстрял мелодию, танцоры не сбились и под конец кружились как бешеные. Первым сбился сам Вяйно, и тогда Вилле высоко подбросил Силью, и танец кончился тем, что они оба плюхнулись на кровать. И рука Вилле какое-то мгновение вроде бы еще оставалась на талии девушки.
Вилле Нукари, однако же, ни в чем не зашел столь далеко, чтобы Силья начала сторониться его. Когда он на другой день, попрощавшись, уехал, Силье даже стало как-то его не хватать. Он спросил у Сильи, можно ли написать ей, и Силья ответила: «Чего же, пишите». Ничего другого она на это ответить не умела. В результате она получила несколько приятных писем, на которые и ответила. В одном из писем оказался носовой платочек из настоящего шелка, какого никто во всей деревне никогда и не видывал. Разумеется, Силья не догадалась сразу спрятать платочек, о нем стало известно. Это дало пищу для намеков; не слишком обычным было и то, что разменявший уже третий десяток и повидавший мир мужчина вот так пытался сблизиться с только что прошедшей конфирмацию девушкой, которая была еще совсем невинной.
Отношения с Вилле Нукари и стали впоследствии роковыми для Сильи, хотя у нее не было с ним никаких сердечных дел, как подозревали после присылки того платочка. Она скорее воспринимала Вилле как бы старшим родственником, относящимся к ней с симпатией. Когда позже с Сильей начал постепенно сближаться Оскари Тонттила, как обычно парень сближается с девушкой, Силья и представить себе не могла, что знакомство с Вилле Нукари и та переписка могут при этом что-нибудь значить. Да и Оскари — если он и вообще что такое слышал — по-видимому, не обращал на то никакого внимания. Он танцевал с Сильей и провожал ее домой с танцев, держа руку на талии девушки.
У каждого человека бывают в молодости такие эпизоды и даже целые цепочки событий, вспоминая о которых позже, в зрелом возрасте, он испытывает неприятное чувство. Не обязательно это дурные или какие-то постыдные поступки — если не считать иной мелкой кражи в раннем детстве или упрямого выдавания какой-нибудь небылицы за правду, — это всего лишь неприятные моменты, оставившие осадок в глубине души. И нет ничего особенного в том, что подобные душевные раны бывают связаны с ранним пробуждением чувств у существ разного пола. Пробуждение полового сознания не обходится порой без весьма странных, даже смехотворных подмен. И в большинстве случаев трудно сказать, кто был первым объектом любви того или иного человека.
Служа в Нукари, Силья водилась с Оскари Тонттилой, который был немного старше ее, в ту пору ему как раз должно было исполниться двадцать. Это был крупный светловолосый парень, не слишком-то разговорчивый, кроме разве что тех случаев, когда выпивка ударяла ему в голову; тогда он становился немного задиристым и охотно нарывался на ссоры по пустякам. Родители его жили на окраинных землях, в бобыльской избе; отец был обычным угрюмым и ширококостным мужиком в годах, мать — тоже довольно крупная баба, родившая более десяти детей. Дети разбредались по свету почти сразу же, как только оказывались в состоянии переступить порог, поскольку заработка старого Юсси не хватало. Правда, иногда дети заявлялись домой по пути с одного места работы на другое, теперь вот Оскари жил в родительской избе, найдя на какое-то время работу поблизости.
Оскари был по характеру довольно уравновешенным, чем в известной мере напоминал отца, на которого походил и немного грубоватой внешностью. Однажды, возвращаясь откуда-то с танцев, он набился Силье в провожатые, как уже не раз поступал в подобных обстоятельствах с другими девушками, которые вроде бы нисколько этого не стеснялись, а шли неподалеку одна от другой, опираясь на своих кавалеров. Силья тоже не сумела никак отказать Оскари. К тому же он много с нею и не говорил, только шел рядом и слегка сжимал ее руку. Шагая по дороге в сумерках, группа редела, и наконец, приближаясь к Нукари, они остались вдвоем. Тогда Оскари сделался разговорчивым. Странно сердечным и добрым голосом он расспрашивал Силью о будничных делах и рассказывал о том, что происходит в деревне. Он даже закурил папиросу. И так они дошли до угла дома Нукари, где Силья остановилась, чтобы попрощаться.
— А зайти в дом нельзя? — спросил Оскари все таким же дружелюбным тоном, словно дело между ними было уже улажено. Его вопрос даже рассмешил Силью.
— Нет, что ты, ухо хозяина там не дальше чем в двух саженях, а хозяйки — и того ближе.
Да и что Оскари было там делать среди ночи-то, если бы и было можно!
Оскари, однако же, еще немного помедлил, посасывая папиросу — красный огонек долго не угасал, — переступал с ноги на ногу, но разговор больше не клеился. Это выглядело почти так, будто он еще чего-то ждет; уж не того ли, что кто-нибудь пройдет мимо и увидит их рядом? Ночь была совсем тихой, только лошадь громко фыркнула в конюшне Нукари. Лошадь словно бы подала некий знак — Оскари побрел к родительской избе, а Силья вошла в дом.
Так они привыкали друг к другу, и в округе привыкли к тому, что они возвращались с танцев вместе. Оскари уже держал руку на бедрах Сильи, и они шли весьма неторопливо, как и другие пары. И уже кое-кто из баб стал нашептывать про это хозяйке Нукари, но та уверяла, что по крайней мере к ним в дом ни Оскари Тонттила и никто другой из мужчин не приходил к Силье не то чтобы ночью, но и днем. «Да и она-то такая тихая и невинная, это же видно, — добавила хозяйка, — так что, думаю, она о мужчинах ничего такого и не знает». — «Никто за них поручиться не может, будь хоть какая молоденькая и невинная».
Поскольку в то время Оскари с другими девушками не водился, это давало каждому, в соответствии с его характером, повод для догадок и поддразнивания. Никто из парней больше и не пытался сблизиться с Сильей, а сама она жила еще в абсолютной девической непробужденности, даже когда два-три драгоценных года юности и прибавились к ее возрасту. Правда, в речах Вяйно, которые он адресовал Силье из своей кровати по вечерам в темноте, появилась горечь, и он пересказывал ей кое-какие слухи об Оскари Тонттиле. Сообщаемое Вяйно, однако же, касалось девушек и женщин, с которыми Оскари водился прежде, оно если и производило на Силью какое-то впечатление, то скорее положительное. Ей даже немного нравилось, что о парне, который провожает ее, говорили прежде в связи с другими девушками, а теперь в связи с нею, но не могли сказать ничего плохого.
Так прошли эти годы, но в их отношениях ничего не менялось, Силья лишь позволяла руке Оскари обнимать ее, когда они шли в сумерках, да иногда они встречались не только на танцах. Но теперь, если Силья и Оскари бывали вместе среди других девушек и парней, особенно на танцах, Оскари был более шумлив и разговорчив. Он отирался в компаниях и отпускал грубоватые шуточки, которые могли слышать и девушки, если хотели. Но затем сразу же, стоило ему остаться вдвоем с Сильей, он становился очень ласковым и в словах и в действиях. Однажды, будучи — или притворяясь — немного подвыпившим, он полез из-за Сильи в драку. Когда расходились с танцев, Оскари почему-то отстал, и сразу там же во дворе известный деревенский сердцеед поспешил занять его место рядом с Сильей и начал было в своей шутливой манере: «Неужто это мать моих будущих детей?» Но тут же к ним подоспел Оскари и резко положил конец таким шуточкам. «Да ты сам-то еще маменькин сынок, вот и держись за ее юбку, а то дядя тебя выпорет!» Парень на это успел спросить: «Что-о?» Оскари ответил: «А то» — и одним хорошим ударом сшиб краснобая в сугроб. Однако же на сей раз возвращение Сильи и Оскари с танцев было испорчено, поскольку дружки того парня с криками и гоготом еще долго шли за ними по дороге. Возле дома Нукари Оскари велел Силье маленько подождать, пока он немного собьет с них спесь, но Силья коротко попрощалась с ним и ушла в дом. Пусть Оскари выясняет отношения с этими непрошеными провожатыми где-нибудь в другом месте.
В тот вечер Оскари провожал ее в последний раз. На следующей неделе он отправлялся далеко, в южную Финляндию, где русские в то время вели большие строительные работы для армии, и оттуда распространялись слухи об огромных заработках. Кроме того, по слухам, ловкий человек мог там загребать деньгу, почти ничего не делая. Туда-то Оскари и подался с еще двумя неженатыми молодыми мужчинами. И они были в таком кураже, словно уходили прямо на войну. Они уверяли остающихся дома, что вот-де отправляются строить крепостные валы такие парни, которые чисто работают. По случаю отбытия они, разумеется, чуток выпили. В их компании оказался и «управляющий Нукари» — Вяйно, и ему тоже дали приложиться к бутылке. А затем Оскари смело пошел с Вяйно в Нукари, вечер-то был еще ранний и в доме, несомненно, еще не спали. Они вошли в людскую, и уже в дверях, объясняя свое появление, Оскари немного шепелявил, как обычно, когда он бывал под хмельком. Оскари говорил, что, мол, условился с Вяйно, чтобы тот позволил и ему прийти посмотреть на его, Вяйно, «постоянную», и Вяйно вставил, дескать, посмотреть он позволяет, но трогать — ни-ни.
Появление Оскари немного смутило молоденькую Силью и оказалось последней их встречей перед разлукой на целый год.
На следующий день ранним утром Оскари уехал, а когда наконец вернулся, наладить прежние отношения больше не удалось. И причиной тому явился именно Вилле Нукари, который к этому времени вернулся из Америки и устроился в одну солидную лесозаготовительную фирму скупщиком леса. В этом качестве он однажды опять навестил Нукари и остался там ночевать. На беду, хозяин Нукари в тот раз был в городе, и брат мог позволить себе в родственном доме излишние вольности.
В тот вечер в людской все было почти таким же, как тогда, когда Вилле приезжал прощаться. Новым было лишь то, что Силья с тех пор заметно повзрослела, и хозяйка подтрунивала над ней по поводу тянущейся уже два года дружбы с Оскари. Это, похоже, как-то подействовало на вернувшегося из Америки. Он явно стал искать любую возможность выказать свое превосходство над здешними простыми мужиками. В бутылке, которую он достал из чемодана, был не какой-то там самогон — и Вилле угощал всех, кто не отказывался. И когда выпивка слегка разгорячила его, да и остальных, и когда завязался разговор — главным образом об Америке и американских долларах, — гость достал из кармана бумажник и показал, как они выглядят, эти доллары. Силья тоже подошла взглянуть, тогда гость протянул ей одну такую длинноватую купюру, на которой был портрет странного, немного смахивающего на женщину мужчины, и произнес:
— Позволите ли вручить на память?
Силья растерялась, не взяла, но и не отказалась.
— Возьми, возьми, чего уж, бери, коль дают, — сказала хозяйка немного недовольным тоном.
— Да что мне с нею делать, не хочу я, — откровенно отвечала Силья улыбаясь, но поскольку гость не убрал купюру, девушка взяла и положила ее на угол стола.
— Раз так, я возьму, — бросил Вяйно и хотел было схватить купюру, но гость оказался проворнее «управляющего имением» и сунул ее обратно в бумажник.
Затем Вилле еще угощал всех из бутылки. Хозяйка больше не хотела нить сама и запретила деверю «поить этого дурачка Вяйно».
— Чего это хозяйке нужно, ведь с работой-то я справляюсь, — проворчал Вяйно, в голосе которого явно ощущалось воздействие выпитого.
— А того хозяйке нужно, чтобы теперь все шли спать — и гость, и наши.
Гость сделал еще глоток из бутылки, после чего пошел в другой конец дома, в залу, где ему была постлана постель. Силья и Вяйно отправились, как обычно, по своим кроватям. И лампа была погашена. На хозяйской половине стихли голоса хозяйки и детей, последний тихий шепот остался без ответа — и дом, казалось, погрузился в сон.
Но едва ли кто, кроме детей, заснул сразу. Вечерние разговоры оживили всех, да и спиртное действовало на каждого возбуждающе, мысли двигались быстрее и свободнее, чем всегда. Кто-то помнил и то, что хозяина дома нынешней ночью нет. Случись что, придется искать помощи у хозяйского брата, этого полноватого мужчины, как бы полугосподина…
Тогда-то и скрипнула дверь в людскую — Вяйно точно слыхал, что открывший дверь пришел не с улицы, а из залы. Двигаясь в темноте на ощупь, гость бормотал, что забыл что-то, и в том числе позабыл пожелать Силье доброй ночи. Найдя дорогу к кровати Сильи, он уселся было на ее край, но тут же растянулся рядом с девушкой. Слышались препирательства шепотом, слышались долго, особенно громкий шепот Сильи. Вяйно хотя и был малость придурковат — о чем знал и сам, — но этот чужой явно считал его еще глупее. Поскольку из кровати Вяйно возле двери достаточно громко доносилось равномерное дыхание, гость счел, что тот спит — даже, может, благодаря тем двум глоткам водки весьма крепко. Однако же Вяйно слышал и понимал все, что происходило в другой кровати, и на него теперь наводили страх собственные речи, которые точно в такой же темноте он, помнится, обращал туда, к кровати Сильи. И если считать, что Силья и впрямь его, Вяйно, суженая и на его попечении, то ему следовало бы выполнить свой долг: встать и выгнать того верзилу, сперва из кровати Сильи, а затем и вообще из комнаты. Но Силья никогда не относилась всерьез к его тем речам — да еще водилась долго с Оскари, который теперь неизвестно где. Вот и пусть борется сама или сдается, думал Вяйно, чутко прислушиваясь к звукам, доносившимся из заднего угла.
Гость возился там уже с час, временами совсем затихая. Вяйно успел вспомнить о том дорогом носовом шелковом платочке, присланном Силье в письме. Но тут из кровати в заднем углу стали слышны громкие всхлипывания Сильи, среди которых прорывались отдельные слова, поскольку девушка пыталась кое-что сказать и в полный голос.
Тогда снова отворилась дверь, и хозяйка в ночной рубашке и с маленькой лампой в руках вошла в людскую. Ничуть не смущаясь, она прямо пошла к кровати Сильи и сказала деверю несколько крепких слов. При этом Силья, всхлипывая, попыталась сказать что-то в свое оправдание, но хозяйка лишь прикрикнула на нее: «Помолчи, я и так все знаю!» Эта фраза потом долго мучила Силью, оставалось непонятным — знала ли хозяйка все так, как оно и было на самом деле. По тому, как хозяйка обращалась с нею после этого, Силья и впрямь думала, что хозяйка все слыхала или догадалась правильно. Однако этот Вилле доводился хозяевам родственником, и, разумеется, хозяйке пришлось подойти к делу немного иначе, чем если бы она выгнала оттуда, из кровати, какого-нибудь деревенского ухажера. Поэтому в конце концов у Сильи не осталось плохих воспоминаний о хозяйке Нукари.
А в начале весны Силья переселилась из Нукари. Этому предшествовали еще кое-какие события, достойные того, чтобы упомянуть о них в жизнеописании Сильи Салмелус.
_____________
Был уже апрель. Прошли дожди, и несколько дней стояло тепло, посвистывали первые скворцы, иные утверждали, что видели даже трясогузку, а нашлись и такие, кто будто бы слышал трели жаворонка. Но лед на озере был еще крепок. Правда, снег, покрывавший лед, стаял, и местами воды поверх льда было столько, что порывы ветра гнали мелкую рябь. Но сами зимние дороги — эти проложенные по льду ценой напряженных усилий, пота, надежд, ругани, разочарований, усталости пульсирующие артерии страны — высились над водой, оставаясь еще крепкими, вне всеобщих перемен, вызванных весной. Поверхность дорог была прочной и сухой. Особенно хорошо чувствовал себя на такой дороге пешеход, а если навстречу ему ехала телега, у него была возможность посторониться, не сходя в водянистое месиво. Вешки торчали прямо, словно гарантируя, что дорога еще вполне пригодна для движения.
По такой дороге однажды под вечер Силья шла на север, в деревню, где церковь. Солнце готовилось зайти за горизонт, приглядев для этого подходящее место — глубокую впадину между горами и холмами на северо-западе. Но покуда оно находилось еще в трех пальцах от горизонта — этот старинный способ измерения как-то показал Силье отец в один из приятных моментов совместного времяпрепровождения, и теперь она вытянула руку с тремя худенькими прозрачными пальцами, как отец тогда, на покосе, в глухомани… Девушка шла своим путем — и поскольку на ледяной равнине никого не было видно, она чувствовала себя вольно и шагала радостно, как бы пританцовывая под мелодию, которую сама же тихонько напевала. Солнце краснело, озаряя всю округу. Вешками, ограничивающими дорогу, служили воткнутые в лед сосенки и елочки, которых зимние ветры и мужчины-возчики лишили лишних веток. Черные на фоне вечернего зарева силуэты этих вешек казались вблизи огромными, да еще поднимались и опускались в глазах девушки в такт ее веселым шагам. Молоденькая девушка, шагающая по дороге, вскинула голову, чтобы ощутить ласковые лучи вечернего солнца на своем лице. При этом она скорее почувствовала, чем смогла увидеть, как на скулах заалел отсвет закатного зарева, и продолжала мурлыкать все ту же мелодию, в такт которой двигались ноги…
Небо, казалось, пребывало в одинаковом настроении с девушкой. И Силья, слегка опьяненная тем, что вечернее солнце начинающейся весны ласкало ее лицо своим светом, позволила выплеснуться наружу накопившимся в молодой душе чувствам и переживаниям. Ведь она — как и тысячи ее сверстниц из ближайших и дальних деревень, хуторов и безземельных хозяйств, там, за лесами — с каждым годом жизни все полнее и полнее ощущала осень и весну, зиму и лето, узнавала, как в сменявшихся временах года люди, животные и растения ведут себя, живут и размножаются, и чего только с ними не случается: хорошего и дурного, устрашающего и согревающего душу — и еще такого, чего сознание признавать не желало. Ведь ей уже доводилось видеть, какое выражение лица бывало у иной девушки постарше в тот священный вечер, когда ее оглашали с ее будущим мужем… Видела она и как кормили грудью крохотного младенца, единственным намеком на существование которого еще неделю тому назад была лишь его грузная и тяжело ступающая мать… Видела она, как избивали мужчину и как при забое скотины собирали и помешивали кровь; и с ее собственным телом происходили таинственные изменения — некоторые накапливались постепенно, а иные захватывали ее врасплох, смущая душу, — и она размышляла обо всем этом где-нибудь на выпасе, когда выдавались моменты поспокойнее… Приходилось ей самой и бороться, и побеждать. Но общим итогом было, однако же, то, что душа трепетала в упоении, словно зажженная заревом закатного апрельского неба… Прямая, крепкая дорога была достаточно длинной для размышлений.
Но затем навстречу попалась лошадь, запряженная в сани. Силья была в столь глубокой задумчивости, что на нее чуть не наехали. Она отступила в сторону — мимо проехал какой-то мужик из соседней деревни, он поздоровался с нею. Но к задку саней были еще прицеплены финские санки, и на полозьях их… стоял Оскари Тонттила.
Эта нечаянная встреча непривычно сильно взволновала Силью. Девушка враз позабыла о пылающем зареве заката, она больше не смотрела ни на алевшее небо, ни даже на этих проезжающих мимо. Ее большие и ясные глаза были, конечно, открыты, но в первый миг они ничего не видели — она глядела как бы внутрь самой себя. Там, в глубине души, что-то внезапно разбилось вдребезги. И мелодия, которую она все время напевала, смолкла.
Не удивительно, что девушка так изумилась произошедшему в ее душе. Ведь Оскари, отправляясь по белу свету, был для нее не более чем знакомый — да и приятельство их тогда шло к разладу. Но что же случилось теперь? Почему ее испугало и взволновало появление Оскари? Почему показалось невозможным — а такое внезапно ей представилось, — чтобы он, как прежде, пошел ее провожать, случись им как-нибудь встретиться вечером? Если бы сейчас была осень и темнота и Силья шла бы по лесной дороге, где шумит ветер, она бы наверняка в испуге прибавила ходу. И затем, уже в деревне, где церковь, она вдруг ощутила свою почти полную беззащитность, а возвращаясь обратно по льду, и в самом деле словно боялась чего-то. И был уже поздний весенний вечер, так что небо сделалось синим и там сияло несколько звезд, но если же посмотреть подольше, то можно было увидеть их еще много-много. С ледяной равнины, откуда небесный простор открывается широко, можно легко заметить, что знакомые созвездия расположены теперь иначе, чем, например, в рождественскую неделю, когда случалось поглядеть на небо, направляясь куда-нибудь вечером. И также, как положение звезд на небе, изменилось что-то вокруг, да и в самой Силье, и с этим ничего невозможно было поделать. Силья вовсе не надеялась, что после этого немного тревожного перехода по льду ее ждут в людской Нукари веселые, шумные вечерние посиделки, — нет… И в доме, когда она вернулась, было совсем тихо. Все дела этого дня уже завершены, и Силья стала укладываться спать, но как-то медленнее, чем обычно.
_____________
Затем Силья встретила Оскари лишь через неделю, в воскресенье вечером. Правда, она все время думала о нем, вернувшемся домой, невольно вспоминала его во время работы, вечером, укладываясь спать, и утром, проснувшись. И она не переставала удивляться самой себе и тому, как этот человек за время своего отсутствия сделался для нее важен.
Наконец наступило следующее воскресенье. Такое сырое, весеннее, апрельское воскресенье. Ездить и ходить по льду уже перестали, местами открылась вода, а огромные льдины, поворачиваясь, дрейфовали по течению. Большой кусок зимней дороги развернуло поперек и прибило к берегу; плотная полоса конского навоза, пустые размокшие коробки из-под папирос, обрывок гужа — вид всего этого пробуждал у людей весеннюю тоску. Зима прошла. Со стрех на северной стороне домов капало весь воскресный день, капли продолбили глубокую дыру во льду на углу дома. Но к вечеру похолодало, на стрехах стали незаметно вырастать маленькие сосульки, капли перестали падать в продолбленное ими углубление, и его затянуло льдом. А наутро, в понедельник, весь мир пахнул морозцем и бодрое солнце светило на голубоватые сосульки, краснеющие сережки ольхи и серые стены построек.
Но прежде чем наступило утро понедельника, был воскресный вечер.
Оскари Тонттила находился в родительской избенке, куда он явился прямиком из-под Хельсинки с большими деньгами. Старый Юсси лежал на кровати, которая, по правде говоря, была ему коротка, так что макушка упиралась в изголовье. Лежа там, он смотрел и слушал и вступал в разговор тогда, когда другие уже высказались. На сей раз разговаривали Оскари и Мийна. Разговор шел об окрестных девушках, одна из них обзавелась ребенком, еще одна была на пути к тому же. Была упомянута и Силья из Нукари — вот тут-то Юсси и пробурчал, словно вдогонку тому, о чем говорили немного ранее:
— Да, с ними надо быть начеку — а не то они быстро всучат тебе на прокорм ребятенка от чужого дяди.
Оскари, стоявший в тот момент посреди низкой комнаты, подошел в своих скрипучих сапогах к окну и уставился на озеро, опираясь локтем на оконную раму. Сделанное стариком замечание отдавалось эхом в его мозгу. Он бросил через плечо уточняющий вопрос на эту тему и получил от старика в ответ еще более грубую фразу, касавшуюся на сей раз непосредственно Сильи.
— Ну и кто же там, по-вашему, побывал? — спросил Оскари немного напряженным голосом.
И тут Мийна, мать его, заваривавшая кофе, пустилась объяснять — суетливо, по-бабьи:
— Этот бродяга однажды ночевал там, этот, брат хозяина, этот Вилле, — слыхать, он то ли какой-то сплавной начальник, то ли скупщик леса, он недавно вернулся из Америки.
— Кто это сказал?
— Тактам же был и Вяйно, он же спит в той же комнате. Что-то там было — хозяйка-то этого утром из дому выгнала.
Оскари перешел к другому окну и встал в той же позе. Он тихонько насвистывал, и сапоги его поскрипывали. Затем он начал причесываться и охорашиваться, из чего можно было заключить, что мужчина собирается в деревню. Мийна знала по опыту, что из таких походов Оскари может вернуться и под утро… Примерно в то же время и из других изб и избушек выходили молодые люди, их видели там и сям на дороге, некоторые из них непременно первым делом встречались друг с дружкой и обсуждали, где и что, по слухам, может быть сегодня вечером. И все они возвращались за полночь, когда позади у них оставались очередные танцы и очередные драки, — все бурное содержание воскресной ночи, буйно прерывавшей течение серых будней. То там, то сям в волости раз, а то и два в году случалось, что кто-то из так вот отправившихся воскресным вечером в деревню не возвращался домой. И частенько в подобных случаях не возвращались двое: один оказывался в операционной позади церкви, на столе, в ожидании окружного лекаря и его помощника, другой — в арестантской, в углу избы околоточного. И вот так погружающийся в сумерки, вздыхающий, порождающий предчувствия и надежды апрельский вечер всегда полон начинающихся и заканчивающихся историй. Их видишь, слышишь и ощущаешь повсюду. Сидишь ли как чувствительная девица под окном, одинаково вглядываясь и в глубь своей души, и в сумерки дороги, или, выйдя из дому, идешь куда-нибудь. В такой необычный весенний вечер, когда зима уже прошла, а лето еще не наступило, погруженная в сумерки округа кишит уже тысячами безмолвных происходящих и ожидаемых событий, которые после длинного, залитого ярким светом воскресенья словно спешат по своим местам, чтобы оттуда по-настоящему начаться, продолжиться и закончиться в весенних сумерках и под покровом ночи.
Где-то, возникая почти из ничего, несмело начинается танец, перерастая постепенно в общее веселье. К концу недели начинает ходить неизвестно кем пущенный и не слишком надежный слух; в доме, которого этот слух касается, узнают об этом со стороны и бывают весьма удивлены: да кто же это сказал, что в воскресенье вечером у них танцы?
— Никто у меня помещение под танцы не нанимал, — холодно говорит хозяин.
И однако же, когда настает воскресный вечер, в избу потихоньку собираются люди. Все они знакомые и ведут себя прилично, сидят на лавке, не прогонять же их. Приходят все новые и новые, у кого-то с собой гармонь. Гармонист начинает перебирать лады, словно пробуя звук. И вот уже зазвучала негромкая, скромная полька. Две девушки, сидевшие у печи, выходят танцевать, гармонист смелеет, и глядь, танец уже в разгаре… И только через час или два в дверях появляются такие гости, на лица которых смотрят чуть пристальнее. Вот оно как, стало быть, и этот пришел, и, похоже, уже хмельной, за ним пригляд нужен.
Танец — словно огромное живое существо, поведением которого танцующие не могут управлять. А оно иногда может задержать или ускорить маленькие события в судьбах молодых людей.
Как уже сказано, Силья всю неделю жила под необычным впечатлением от встречи на ледяной дороге. Не отдавая себе в том отчета, она ждала, что встретит Оскари однажды вечером, и охотно искала себе дела там, где мог оказаться и он. Затем в воскресенье она услыхала, что вроде бы в Пиетиля вечером будут танцы, и весь день находилась в таком волнении, что это вызвало легкое недовольство хозяйки, сказавшей между прочим, что не советует Силье идти туда. Девушка притихла, однако же поспешила доделать все свои работы.
— Ну уж сходи ты туда, ступай, ступай, божье создание, смотреть на тебя такую дома — сил нет. — В голосе хозяйки звучали сочувственные нотки, и обе они — хозяйка и Силья — улыбались, глядя друг на друга. Настроение у девушки опять улучшилось.
Но нужно подождать еще несколько часов, прежде чем можно будет отправиться туда. Поблизости нет никого знакомого, с кем бы пойти вместе, да и, по правде говоря, она думала только об одном знакомом, и ни о ком больше. Она так истово надеялась встретить Оскари еще до танцев, что постепенно сама уже поверила: это непременно случится, как если бы они заранее условились о встрече. Она принялась одеваться в закутке, у хлебной печи, опасливо озираясь по сторонам. На щеках ее пылал румянец, а глаза сияли. Хозяйка среди своих хлопот чуть дольше обычного задержала взгляд на одевающейся молоденькой служанке. Она следила за выражением лица Сильи, за ее юной фигурой, гибкие движения которой убедительно свидетельствовали о настроении девушки. В голосе хозяйки ощущались и сочувствие и неприязнь, когда она сказала:
— Не увлекайся так, девчонка, это до добра не доведет — лучше побереги себя, ты ведь еще такая наивная.
Это предупреждение не достигло слуха уже уходившей Сильи. Более не раздумывая, она направилась в Тонттила и шагала быстро, словно бы по делу. Дорога сначала тянулась между полей, а затем поднималась полого к редкому леску, перемежавшемуся выгонами, и там все слабые приметы апрельского вечера как бы сгустились. Небо на северо-западе опять пылало закатом, но отсюда, с выгона, оно виделось не таким широким и открытым, как тогда с ледяного зимника, здесь оно процеживалось сквозь сито голых веток березняка. Тонкие веточки деревьев и кустарников вырисовывались на фоне неба, будто они тоже, опередив человека, глядели на зарево заката. Взгляд расширенных глаз юной путницы все время искал поддержки у вершин деревьев, которые были тихими и неподвижными и все же каким-то образом сообщали ей, что и они пребывают в том же настроении, что и она. Дивный воскресный вечер, обещавший события, которые попозже, весной, могли бы иметь продолжение. Новое зерно радостной надежды проросло в душе Сильи и во время этого пути.
Дальше заросли поредели, и дорога опять шла между полями, но более узкими, чаще разгороженными, чем те, в начале пути. Уже виднелась торцовая стена избы Тонттилы, и старое окно в ней, казалось, прищурившись, хитро посматривает на приближающуюся путницу. Там жили отец и мать Оскари, которые, надо думать, слыхали, что их сын водился с Сильей, пока не отправился по белу свету. За время отсутствия Оскари Силье случалось видеть старую Мийну в деревне, но во взгляде Мийны на нее не проявлялось никакого отношения, кроме, пожалуй, определенного любопытства. К тому же хозяйка Нукари в каком-то разговоре заметила с иронией, что, мол, Силья, конечно, годится Мийне Тонттиле в невестки, ведь Силья богатая. Она имела в виду то небольшое наследство, величину которого жители и в этой деревне знали гораздо лучше, чем сама Силья.
Наконец дорога вывела Силью к двору Тонттилы, боковое окно избы, стоящей на склоне горы, глядело на нее теперь с расстояния в несколько саженей. Силья чувствовала, что придется войти и в избу Тонттилы, неведомая сила завела ее уж слишком далеко, чтобы теперь отступить. Но что-то мучительно прорывалось в сознание, становясь тем более жгучим, чем меньше оставалось пути… Она шла теперь медленно, желая, чтобы ее увидели из избы и кто-нибудь вышел на крыльцо. Но никого не было видно и слышно, похоже, никто даже и не заметил теряющую уверенность путницу — лишь в окне соседской избы неясно маячила чья-то голова, оттуда тайком следили за шагами нукариской Сильи. Там-то уж знали…
Пройдя через двор, Силья еще разок остановилась у самой избы Тонттилы, но раздумывала недолго, вошла, почувствовала в сенях слабый, особый у каждого дома запах, взялась за дверную ручку, истончившуюся в определенных местах в зависимости от манеры разных людей браться за нее, — и ступила в комнату, на облик и порядок в которой наложили свой отпечаток и десятилетия, и энергичная хозяйка.
На своих местах были там и старик и старуха. Юсси все еще оставался в той же позе, в какой он незадолго до прихода Сильи сказал сыну несколько грубых фраз именно насчет нее. Мийна сварила кофе и теперь вытирала бока кофейника. В ответ на приветствие Сильи из-за кофейника раздалось неясное бормотание, а из кровати не последовало ни звука. Старик даже и головы не повернул, он и так видел все, скосив маленькие глазки. И оттого, что старик глядел поверх своего носа и щек, выражение его лица само собой сделалось презрительным. Старик усмехался, и брюхо его от этого слегка вздрагивало.
Силья успела уже слегка смутиться, прежде чем из-за кофейника на нее вновь взглянули и при этом пробурчали: «Посидеть, что ль, пришла…» Теперь гостья не могла не понять, что нет и надежды на разговор с хозяевами.
— Оскари, наверное, нет дома?
— Как видишь, нет. — И кофейник перенесли с плиты на стол, на деревянную тарелку.
Знает ли Мийна, куда он пошел?
— Не знаю я, кто куда ходит, да и не говорю.
— А не пошел ли он в Пиетиля?
— Может, и туда, а может, пошел разузнать насчет строевого леса — или даже купить.
Силья сперва пришла в замешательство, казалось, что-то грубое и сальное прорвалось из темноты на свет, но тут же ей все стало ясно. Силья поняла намек Мийны и — что было очень странным — тут же почувствовала себя как-то свободнее и раскованнее. Так вот что угнетало ее по дороге сюда и чего она не смогла тогда понять! Угнетало и одновременно подталкивало ее в Тонттилу. Теперь Силья ощутила, что и Оскари внезапно удаляется от нее — из этой-то комнаты он уже удалился. И он будто был заодно во всем с этим Нукари и собирался куда-то податься вместе с ним. «Что я делаю тут, в доме чужих мне людей? Как это я, Силья, могла прийти сюда? Неужто я бегаю за мужчиной, который раз-другой обнимал меня рукой за талию?»
— Тут уже налито, — донесся от стола голос Мийны, и поскольку Силья не приняла сразу такого приглашения, оттуда донеслось более строгое: — Бери, бери, пока не остыло. Или брезгуешь? — Но при этом на Силью не бросили даже и беглого взгляда.
Так же, как следует отвечать даже на приветствие цыгана, следует предложить кофе и человеку из своей деревни, если он оказался в доме в момент кофепития. Силья приблизилась к столу, все — ее платье, туфли, платок, ее фигура и все ее существо — переместилось через комнату в избе Тонттилы и опустилось на старый стул. Мийна и Юсси не могли этого не видеть, как бы ни пытались прятать глаза… Силья пила кофе, вкус которого был присущ этому дому, и запах его имел что-то общее с тем, как пахло в комнате.
Приход девушки сюда выглядел большой беззастенчивостью. Юсси и Мийна — старые супруги, частенько бранившиеся между собой, — были теперь в удивлении оба, но никак не выразили его, ни словом, ни взглядом. Ведь она же вполне взрослый человек, хорошо одета и ходит чисто, но в том, что она вот так пришла сюда расспрашивать про Оскари, малознакомая им девица, было что-то необычное и бесстыдное.
— Нечего и удивляться, если у таких сами собой щенки появляются, нельзя во всем винить одних мужиков, — сказала Мийна после ухода Сильи.
Юсси на это ничего не ответил, но его молчание содержало на сей раз согласие. Они были оба по-своему довольны — своей избой, своими детьми, своими манерами. Не вернется Оскари до утра — ну и пусть.
Силья уходила в странно-спокойном оцепенении, ее обратный путь был опять столь же независимым от ее воли движением, как дорога в Тонттилу, хотя многое теперь было иначе.
Едва она вышла на шоссе, как услыхала позади себя хихикание. Но она даже и не обернулась; это было как бы в порядке вещей, если бы даже кто-то поджидал там, за дверью, когда она пойдет обратно. Но затем послышались и тихие голоса, которые вроде бы приближались… «Строевой лес» — так, кажется, и они там сказали… И Силья вдруг ясно увидела события той злосчастной ночи, которые до сих пор воспринимала как бы со стороны глядя, ни разу не задумавшись о них всерьез. Интуиция Сильи неопровержимо подсказывала ей, что в те ночные мгновения там, в кровати, она одержала очень важную победу, что после той ночи она стала как бы более уважаемым человеком, вполне взрослым, знающим эту жизнь и умеющим ходить по ее дорогам. Теперь же — по мере того, как полученное в Тонттиле впечатление постепенно укреплялось — тот ночной случай опять возник перед ее мысленным взором, возник и увеличивался, но получил иное освещение, он выглядел таким, каким другие люди, каждый на свой лад, истолковывали его, раздувая быль и небылицу. Теперь и Силья увидела дело иначе, но это ее не взволновало. То чувство победы, остававшееся до сего дня как бы полуосознанным, теперь ширилось в ней и делало ее уверенней в себе. Она как бы постепенно просыпалась, душа ее распрямлялась и ощущала свою силу, юное существо начало чувствовать подлинный смысл этой, вот так идущей жизни.
Оскари и впрямь не было там, дома. Силье еще не удалось встретиться с ним с глазу на глаз. Но это было неважно. Весь Сильин опыт общения с этим парнем сосредоточился теперь в том мерзком кругу, центром которого стала изба Тонттилы. И Силье казалось, будто она только сейчас освобождается от объятий того, вернувшегося из Америки мужчины.
Силья наконец обернулась, она узнала двух шедших за нею девушек, Лемпи и Ийту. Они были служанками в соседней деревне и шли на танцы. Немного поколебавшись, Силья пошла вместе с ними.
— Старую Мийну, что ль, ходила навещать, Силья? — спросили девушки с невинным видом. Но в вопросе явно была капелька насмешки. Силья ответила:
— Там был и старый Юсси.
— Ну да, а Оскари? — спросила одна из девушек, слегка сощурившись.
— Нет.
— Оскари же шел нам навстречу в ложбине Силта, — прямодушно сказала на это другая.
Когда девушки пришли, танцы были уже в разгаре. Даже не просто танцы, а настоящая вечеринка, за вход взимали плату, и в перерыве между танцами было что-то вроде номеров подготовленной заранее программы. На стене висел большой мешок для амурной почты, конверты и бумага лежали на столе. Атмосфера была несколько вяловатой, многие удалые парни еще не появились, а когда они сильно запаздывают, можно полагать, что явятся в подпитии.
Не было видно и Оскари. Какой-то незнакомый парнишка несколько раз приглашал Силью танцевать, но танец у обоих не заладился. Будто ногам перед каждым шагом требовался совет, что делать дальше.
Постепенно народу прибавлялось, и в десятом часу Силья наконец заметила в дверном проеме Оскари. Глаза его хмельно поблескивали, очевидно, он был тут уже давно, но держался в тени. Теперь было видно, что он шутит с Лемпи и Ийтой, а те, как водится, похохатывают, откидываясь всем телом назад и сгибая колени.
Как бы там ни было, Силья ощутила легкую растерянность, остановившись поблизости от них после окончания танца. Она бросила взгляд на Оскари, но он как раз что-то рассказывал. «Чего удивляться — она ходила спрашивать, есть ли у старого Юсси Тонттилы строевой лес на продажу. Ты же небось знаешь, что она на жалованье у Альстрёма… или все же у Розенлёва?..[14] Эй, Силья, кто из них тебе платит?»
Обе девушки повернулись и уставились на Силью. В глазах Сильи возник присущий им темный огонек, а на губах трепетало легкое предвестие самой прелестной улыбки. Затем Силья спокойно перешла на другое место, и обворожительное сияние ее лица вскоре привлекло к ней хороших танцоров. Однако же она все время искала подходящую возможность уйти никем не замеченной. Такая возможность представилась лишь после полуночи, когда начали раздавать амурную почту: тогда внимание всех было сосредоточено на «почтальоне», выкрикивавшем имена. Силья уже шла по дороге, ведущей к шоссе, и не было слышно, чтобы кто-нибудь шел за нею.
Когда все те из присутствовавших на танцах, кому были адресованы письма амурной почты, получили их, несколько писем осталось, и тогда устроили торги — кто больше заплатит, тот их и получит. Какой-то парень приобрел письмо, адресованное Силье Салмелус. Прочитав это письмо вместе со своими ближайшими приятелями, он оставил его на карнизе печи, где оно с соответствующими добавлениями пролежало до утра. Первоначальный текст его был таким: «Почем нынче платит этот Розенлёв за тот лес, что рубят в Нукари, в кровати у хлебной печи? Был бы рад составить патронессе компанию, но мне надо идти на остаток ночи рубить строевой лес, у меня ведь нет этих американских долларов, чтобы я мог его купить в Нукари. Так что мне остается только пожелать всего, но не самого хорошего».
И эта апрельская воскресная ночь была тоже наполнена своими историями. Те, что касались детей человеческих, шли уже к концу, занимался рассвет, необычайно свежее раннее апрельское утро, имеющее, как и вечер, свои краски, но более радостные и ребячливые. После жаркой и пыльной комнаты, где танцевали, было приятно вдыхать легкий запах мерзлой земли. Когда Силья подошла к Нукари, там, на гребне крыши свинарника, покачивала своим хвостиком утренняя бодрая трясогузка. Птица не испугалась, в ее облике было радостное доверие, она улетела лишь тогда, когда это потребовалось для ее собственных весьма важных дел.
И Силья чувствовала себя хорошо, свежо и свободно. Далеки от нее были теперь и Вилле, и Оскари. Память, однако, не хотела вспоминать необычный давешний поход в Тонттилу, а отодвигала его куда-то на самое дно — откуда он спустя некоторое время, когда Силья оказалась совсем в другой обстановке, то и дело всплывал на поверхность или возникал во сне в жутко измененном, искаженном виде.
Но сейчас Силья была рада, что это весеннее утро и солнце отогнали сон. Казалось, они отгоняют от этой комнаты и все воспоминания о том, что случилось в темное время, — Вяйно на его кровати тоже не было, наверное, парень воскресным вечером пошел домой к родителям и остался там. Солнце набирало силу и уже бросало на большой стол прямые лучи, вот-вот они подберутся к изголовью кровати Сильи. Когда еще девушка Силья испытывала такое? Когда-то давно, в далекие дни детства, когда счастливо оканчивалось какое-нибудь происшествие. Отец-покойник — его жизнь словно и была составлена из таких событий, из которых он выходил, делаясь все лучше. Силья чувствовала, что получила что-то на сохранение, что она стала богаче, и она была гораздо уверенней — как будто отец-покойник, черт лица которого она уже больше не помнила, все еще живет с нею и оба они договорились без слов, как в разных случаях надо относиться к этому миру. И в этот миг отношение было солнечным.
Силья действительно не испытывала никакой потребности в сне, но она, не раздеваясь, растянулась на кровати, чтобы вволю насладиться этими необыкновенными утренними мгновениями. И лежа она мечтала, каким новым и иным, чем до сих пор, будет ее мир, она уйдет отсюда куда-нибудь в другое место, все сделается просторнее… наступит весна… а затем и лето… тогда на деревенских дорогах и во дворах будет иначе, и люди будут посильнее и в каком-то смысле лучше, чем здесь… Солнце светит…
Оно и светило уже на веки Сильи, которые незаметно закрылись. И сквозь закрытые веки солнце скорее угадывалось, словно нечто красное и опьяняющее ее сознание, жившее как бы само по себе.
Это продолжалось, пока не пришла хозяйка и не ткнула ее в бок — раньше такого не требовалось.
— Вставай, вставай, да смени юбку, или так и пойдешь в телятник! Видать, все взяла, коль так крепко спишь, — говорила хозяйка.
— Да что же я взяла? — открыв глаза, спросила Силья немного сонным голосом.
— Небось то, за чем отправилась вечером, — ответила хозяйка.
Солнце светило уже вовсю, и свет его убивал все плохое, к чему прикасался. И намеки хозяйки не подействовали на Силью, счастливая, она принялась переодеваться. Стянув с себя платье, она инстинктивно взглянула в окно на деревенскую дорогу и увидела там идущего мужчину. Это был Оскари. В одно мгновение Силья мысленно проделала тот путь, на который Оскари потребовалось два часа. В конце дороги, откуда и шел Оскари Тонттила, находилась некая изба с сенями, двери в которые легко открывались… И та девушка тоже была на танцах, даже садилась за стол читать что-то слащавое… Оскари выглядел усталым и пресыщенным, и шагая, он ни разу не обернулся, чтобы взглянуть на окно Нукари. Казалось, это не намеренное пренебрежение, а будто действительно Оскари напрочь забыл о существовании этого дома.
Таким видела Силья в последний раз своего «кавалера», обществу которого она не противилась, а в последние дни даже была бы почти рада, в первую очередь по той причине, что и другим девушкам ведь такое нравилось и они желали подобного. Неожиданная встреча на льду озера при особо благоприятных обстоятельствах побудила Силью к прямо-таки безумным действиям, которые, как уже упомянуто, оставили осадок в глубине души и позже вызывали в нее легкую досаду. Вероятно, подоплекой перемены настроения, произошедшей на льду озера, была та ночная, завершившаяся победой девушки борьба, которую она однажды вела в Нукари, в кровати, в углу у хлебной печи. Поскольку Оскари Тонттила прежде в общении с нею держался серьезно и сдержанно, а порой даже ребячливо, Силья, скорее всего неосознанно, сочла возможным разделить с ним теперь радость той победы, сообщив ему о ней. Но Оскари оказался не способен на это. И Силье оставалось довольствоваться тем, что ей ни с кем не надо делиться радостью той победы. Может быть, этим-то и было вызвано в то утро возникшее у нее ощущение полноты бытия — подсознательное, как нередко и другие чувства и настроения в решающие моменты жизни.
Хозяйка Нукари всегда относилась к Силье с сочувствием, подобно многим другим людям, знавшим эту девушку. Но сегодня утром Силья была хозяйке неприятна. Хозяйка смотрела на одежду Сильи, мол, как она в этой одежде провела ночь, и хотя ничего предосудительного не заметила, ее нерасположение не проходило. Хозяйка Нукари была еще женщиной в расцвете лет. И хотя и волосы ее поблекли и, когда она смеялась, было видно, что коренных зубов у нее уже нет, но в формах тела и движениях чувствовалась жизненная сила, и когда перед нею оказывался малознакомый мужчина, в ее речи и смехе были лучистость и звонкость… Но сегодня утром служанка Силья раздражала ее.
С этих пор девушка все чаще стала стремиться на танцы, и ее видели возвращавшуюся к воротам дома то с одним, то с другим парнем из деревни. После тех танцев у Пиетиля Оскари опять отправился искать счастья по белу свету, Силье и в самом деле очень хотелось танцевать, и она наслаждалась тем, что парни охотно приглашали ее и провожали домой. Однако ни один из этих провожатых, похоже, никоим образом не был к ней по-настоящему привязан, они только провожали. И поскольку в дом к Нукари входить им было нельзя, то ничего больше они и не предпринимали, даже «ради приличия».
Честно говоря, Силья стремилась прочь из этой деревни, — непонятно, откуда взялось у нее такое, что едва с нею где-нибудь происходило что-либо серьезное, она сразу начинала тосковать по другим местам. Случай часто приходил на помощь, как и на сей раз. Легкая неприязнь к девушке, проникшая однажды в женское естество хозяйки Нукари, больше не покидала ее, не смогло рассеять эту неприязнь и то обстоятельство, что хозяин иной раз вставал на защиту Сильи, ибо он видел, что работу девушка выполняет, по крайней мере, столь же хорошо, как и прежде. Хозяин был еще сильным и крепким мужчиной, входящим в пожилой возраст, и Силья — юная, цветущая — действительно привлекала его. Но стоило хозяину сказать слово в оправдание Сильи, как он тут же слышал от хозяйки ехидный намек на известную попытку Вилле: «У братьев Нукари, видать, вкус одинаковый».
И хозяйка начала потихоньку устраивать так, чтобы ее сестренка, только что прошедшая конфирмацию, перебралась в Нукари — помогать старшей сестре. Об этом хозяйка предупредила Силью задолго наперед, а вскоре об этом узнали и все деревенские бабы, и у Сильи появились добровольные помощники, подыскивавшие ей новое место. Она не очень привередничала и так оказалась у Сийвери, хозяйство которых находилось в другом конце волости и было намного больше и богаче, чем маленькое и старомодное Нукари.
_____________
Когда Силья Салмелус перешла в Сийвери, она была в особенно восприимчивом душевном состоянии, что соответствовало определенному периоду развития. Она уже достаточно повидала жизнь, в которую девушка-служанка в деревне — особенно круглая сирота — попадала в то время чаще всего, чтобы у нее выработалось прочное и верное отношение ко всему такому. Правда, ее жизненный опыт был мал и невинен в сравнении с тем, что открывалось перед нею теперь в большом хозяйстве и в большой деревне.
Сийвери обычно держали трех служанок, и жилищем им служила находящаяся при кухне в конце скотного двора каморка, которую деревенские парни прозвали «девичником». Батраки жили в комнате в торце конюшни. Хозяйская семья располагалась в господском доме — как обычно называли эту постройку работники.
Какой же представляется служба в таком большом хозяйстве юной, недавно прошедшей конфирмацию девушке из захудалой избенки? У нее дома — одна-единственная корова, которая по законам природы в определенное время не дает молока. Если это приходится на достаточно тяжкий период, когда заработки отца подобны надою от коровы, детишкам в придачу к хлебу остается лишь соленая салака и ее мутный рассол. Отец и мать зло ворчат, детям запрещается бегать и скакать, чтобы от этого у них не разыгрывался аппетит. Им вообще ничего нельзя, зимними днями единственным радостным исключением становится возможность выбежать за угол дома по нужде, посмотреть, что получилось, и разглядеть там маленьких, величиной с костру, белых червячков… А затем побежать обратно в комнату так, что только сверкают маленькие валенки, и тепло избы — величайшее наслаждение, если, дрожа от холода, можно подойти погреться прямо у пышущего жаром открытого очага. Вот так там и росли, учились немного в передвижной школе, затем немного в народной школе, но там уже не все, лишь некоторые, и затем наконец то, лучшее: подготовка к конфирмации.
Подготовка к конфирмации — самое лучшее время, потому что этот обряд приносит свободу и можно — чаще по необходимости — поступить в служанки. И тогда, если девушке повезет устроиться в большое и зажиточное хозяйство, вроде Сийвери, она счастлива. Собираясь туда, она напевает те немногие хороводные песни и припевки, которые успела выучить и в домашних скудных условиях.
Наконец она прибывает туда, и ее товарками становятся две служанки постарше. Еда, правда, ненамного лучше, чем дома, но ее дают вдоволь, и это как раз важно. Когда из маслобойни привозят пахту, еще сохраняющую тепло, служанка может пить ее сколько влезет, наравне со свиньей и телятами. И такое выросшее в хибарке существо пьет его и — толстеет. Бедра, плечи и груди вскоре становятся тугими и пышными, жалованья худо-бедно хватает и на новое платье, которое, как и положено взрослому человеку, заказывается деревенской портнихе. Затем в новом платье под вечер в воскресенье можно выйти пройтись возле дома, а шумливые и смешливые служанки постарше согласны взять эту молоденькую с собой… найдется там общество и для нее. И находится. Достается и этой рослой девчонке из бедняцкой избы, и не батрак или поденщик, а парень, не отстающий от времени ни своим почасовым жалованьем, ни умением играть в карты. У него изящное телосложение и тонкое, почти белое лицо. У родителей его там дом, не лачуга, не изба, а дом. Этот парень подходит и садится на травку рядом с пришедшей впервые Саймой и начинает знакомство, ведет такую складную ухажерскую речь, в которой даже непристойности проскальзывают столь изысканно, что привыкшая к грубости и частой злой ругани девушка и не замечает их вовсе. Она довольна происходящим — поскольку и рядом с нею сидит парень, совершенно также, как с теми служанками постарше. А он уже заводит речь о ее ножках, туфельках и чулочках. Он нахваливает их, как придурочный… Затем он хочет видеть, какого цвета у нее подвязки для чулок. «Пестрые они», — отвечает девушка, посмеиваясь, но этот краснобай говорит, что словам «женщин» веры нет, пока не убедишься своими глазами. «А нынче придется поверить», — говорит девушка, но в то время парень уже задирает подол ее юбки, девушка сопротивляется, увидеть подвязки парню так и не удается, однако начало игре положено.
Затем однажды — вечеринка в доме этого парня, в этих «покоях». Парень, Вильо, захмелел как раз настолько, что мысли, слова и поступки спорятся наилучшим образом. Он приглашает девушку, у которой пестрые подвязки, но она не идет, она действительно не умеет танцевать этот танец. Парень не слышит ее возражений и силой вытаскивает на середину пола. Им с трудом удается сделать полкруга, девушка сбивается совершенно немилосердно. Парень бросает ее и приглашает другую, служанку постарше из того же хозяйства. Молоденькая служанка тихо выходит из дома, идет к себе в «девичник» и ложится спать. Какое-то мгновение мысли ее скачут туда-сюда; огорчает, что она не умеет танцевать тот танец, но она утешает себя тем, что еще разучит его, они поупражняются с Санни в кухне, где готовят пойло для скотины… За полночь она просыпается. Санни, с которой она спит в одной кровати, вернулась и уже лежит рядом с нею. Санни ерзает всем телом и прижимает Сайму к стене. Лишь тогда молоденькая девушка замечает, что требуется место для кого-то третьего, кто, сопя, пытается поместиться на краю кровати. «Смотри, как бы девчонка не проснулась», — шепчет этот третий, которым оказывается Вильо. Затем эти двое постепенно устраиваются, глубоко дышат и мгновенно засыпают в неподвижном объятии.
Наступила иная во всех отношениях жизнь, чем там, дома, в бедняцкой лачуге. Со временем девушка научится и танцам, и тем делам, что бывают после танцев. Летом служанки ночуют в старых амбарах; если закрыть дверь амбара, в нем делается так темно, что даже самая неопытная девушка больше не стесняется… и бойкий сплавщик, не колеблясь, берет то, что можно. Вот так взрослеет эта девушка там, в служанках, и придет время, она станет бабой, женой безземельного мужика, не расспрашивающего свою благоверную о ее прошлой жизни. Раз у нее детишки, корова и прочее домашнее хозяйство в порядке, она получает то, что ей положено.
Сийвери как раз такая усадьба, где молоденькая служанка набирается подобного опыта. Правда, с Сильей там ничего особенного не случилось, но и ее оттесняли в кровати, которую она делила с другой служанкой, когда там вдруг требовалось дополнительное место. Иногда неожиданно являлся хозяин и выгонял дружков служанок. «Любезничайте, но так, чтобы я не слышал», — говорил он служанке, стоявшей в ночной рубашке и со слезами на глазах утверждавшей, что она не виновата. Да уж хозяин Сийвери знал эти дела, он ведь родился сыном владельцев усадьбы и до женитьбы двери служанок были для него всегда без запоров; вообще-то он окончил сельхозшколу и лесоводческие курсы.
Соседкой Сильи по кровати стала Манта, которой, очевидно, было лет под тридцать. Она была настоящей служанкой и сама считала себя таковой, умела, если требовалось, ругаться и могла своим ответом заткнуть за пояс самого отъявленного сквернослова. Но человеком она была очень теплосердечным. В ее почти черных глазах, больших и влажных, глядевших всегда и на всех прямо, возникал жаркий огонек, если гнев или радость волновали ее служаночью душу. Тогда она подымала шум — иногда кричала: «Курица не птица, а служанка — не человек!» — или, если речь шла о какой-нибудь невкусной еде: «Люди не едят, свинья съест, свинья не съест, уж служанка-то съест!» С веселым вызовом она относилась к тому унижению человеческого достоинства, которое сопутствовало положению служанки.
Она не очень-то отказывала себе в радостях жизни; что с того, что положение служанки вынуждало ее вкушать эти радости в несколько более грубых формах, чем то могли позволить себе ее сестры из благородных. Ее лицо и характер были таковы, что она имела мало шансов стать чьей-либо женой, но было немало мужчин, которые соглашались переспать с ней, — деревенских ухажеров, воспринимающих этот мир почти как сама Манта. Она жила тут в служанках уже второй десяток лет, но о ее прошлом в здешних местах знали немного, да и не стремились узнать. Зато Силье — Манта считала ее еще совсем неопытной — она иногда кое-что рассказывала — так говорят с ребенком, который пока всего не понимает. И в жизни служанок большого хозяйства могут случаться такие тихие и сентиментальные моменты… когда Манта своими слегка расширенными большими коровьими глазами глядела на погружающиеся в сумрак небесные просторы и напевала что-то про «волны озера» и «единственную любовь», а поблизости от нее сидела и слушала гораздо более хрупкая и будто бы чудом сохранившая еще девственность маленькая служанка… например, в субботу вечером, расчесывая волосы после сауны.
В Нукари Силья прошла хорошую школу. Хотя в Сийвери все было гораздо большим, однако же основное направление жизни оставалось и здесь таким же, как там, в более бедных условиях. Выиграв однажды в Нукари весьма банальное сражение и обогатившись после этого разнообразным опытом, Силья и здесь управлялась довольно легко. Неподалеку жила одна семья, имевшая дочь одних лет с Сильей. Девушка эта осталась дома, подрабатывала шитьем и, кроме того, увлекалась писанием стихов, и стихи ее были даже напечатаны уже в каком-то религиозном журнале. Силья познакомилась с нею, когда шила себе платье, и вскоре они сделались подругами, вернее, та девушка-портниха стала проявлять к Силье прямо-таки особенную привязанность.
В ту пору большая часть живших в усадьбе работников и служанок была подвержена общим веяниям времени, о которых тогда много и писалось и говорилось. Потому-то прислуга из Сийвери в церковь почти не ходила, и было бы весьма необычным, если бы кто-нибудь из сийвериского «девичника» отправился в церковь на исповедь. Однако это чудо случилось, когда девушка-портниха уговорила Силью пойти туда с ней. После конфирмации Силья о таких вещах больше даже и не вспоминала, и поскольку на сей раз все произошло не по ее желанию, эта вторая и последняя ее исповедь запомнилась ей довольно слабо.
Все же об этом посещении церкви стало известно, и без последствия не обошлось: местная молодежь стала считать Силью слегка набожной, и даже самые бесцеремонные парни не пытались приставать к ней. Большее, что мог кто-нибудь из них себе позволить, это язвительные замечания по поводу ее дружбы с девушкой-портнихой — вроде того, что Силья и Сельма Рантанен небось друг с дружкой милуются, а самым ехидным был парень-пьяница с соседнего хутора, потерпевший неудачу с Сильей, он крикнул какому-то другому, собиравшемуся предпринять такую же попытку: «Не трудись понапрасну, она же Христова невеста!»
Однако всему этому пришел довольно неожиданный конец, и причиной тому был характер Сильи: у нее снова возникло и усиливалось желание снова сменить место работы, переселиться куда-нибудь из этой округи.
В Сийвери, как и всюду, служанки перебирались на лето в амбары, там было не так душно. Силье по-прежнему пришлось ночевать с Мантой, к которой постоянно ходил один местный ухажер — как раз такой, у родителей которого был «свой дом». А еще в одном из соседних хозяйств был так называемый практикант, который по праздникам не прочь был и гульнуть, а поскольку он был парень хоть куда, да еще и не из местных, то пользовался у деревенских девушек — как у батрачек, служанок, так и у хозяйских дочерей — большой популярностью. Однажды он пил брагу дома у того ухажера Манты, и когда настала полночь, оба приятеля намерились отправиться в Сийвери к служанкам — ухажер Манты обещал практиканту Силью. «Она, правда, малость своенравна, ну да ты-то с ней справишься, — объяснял он практиканту. — Позволь только мне все устроить». Какое-то время они еще бражничали, а затем в светлой ночи отправились в Сийвери. Шикая друг на друга, они прошли через двор и стали стучать в двери амбара. В тот раз случилось так, что Манты всю ночь не было, она ушла куда-то в гости. Силья проснулась и сквозь дверь объяснила этим неясно бормочущим стукачам, как обстоит дело. Но дружок Манты не верил и требовал, чтобы его впустили в амбар, и следом за ним туда вперся его спутник, практикант. Увидав, что Манты и в самом деле нет, ее дружок отправился восвояси, но практикант свалился на постель Сильи, да так там и остался. Тот, что искал Манту, использовал эти поиски лишь как предлог, чтобы вынудить Силью открыть дверь, и тогда практикант получил бы возможность проникнуть в амбар.
Молодой же человек оставался в амбаре до утра: свалившись на постель, он сразу крепко уснул. Силья пыталась заговорить с ним и всячески пыталась его разбудить, чтобы тот ушел. Но мужчина спал, спал и храпел все время, пока продолжалось действие выпитого. Часов в пять утра он наконец проснулся, пошевелил губами, казалось, что-то вспоминал, сделал несколько слабых попыток обнять Силью и пошел прочь.
Только всего и произошло, случай сам по себе пустяковый, незначительный, но его последствия имели значения для настроения девушки-служанки Сильи. Уход практиканта утром из амбара Сильи был замечен в усадьбе и отнюдь не остался тайной тех, кто его заметил. Дошло это и до хозяина, но поскольку молодой человек бывал его гостем и вообще парень бравый, хозяин Сийвери молча принял слухи об успехе, которого, как он думал, тот добился в амбаре у Сильи. Хозяин и Силье не сказал об этом ни слова. Но какое-то время спустя он оказался в одной пирушке с практикантом, и там парень сам честно рассказал хозяину Сийвери, что был в амбаре у этой молодой служанки, однако напрочь не помнит, как он туда попал и что там делал. Единственное, в чем он был уверен, что проснулся в ее постели. Затем парень несколько раз интересовался у хозяина Сийвери, что она за девушка, ходит ли к ней много мужчин и нет ли опасности заразиться от нее чем-нибудь… «Прямо проклятие какое-то, что ничего не помню…» Однако Сийвери смог полностью успокоить своего молодого собутыльника.
Та религиозная девушка-портниха тоже слыхала, что практикант был в амбаре у Сильи. Правда, слух об этом дошел до нее кружным путем, но ведь дело казалось ясным и ре могло быть просто сплетней. Ведь соролаского практиканта видели часов в пять утра выходящим из амбара Сильи, которая безусловно провела с ним ночь там вдвоем, ведь Манта вернулась лишь к девяти. Больше ничего говорить и не требовалось. Кто хотел, мог глазами и губами показать собеседнику, мол, сам понимаешь.
Вот так дошло это и до Сельмы Рантанен, той благочестивой девицы, которая привязалась к Силье и считала ее своей подругой. В этой связи кое-кто еще язвил насчет совместного посещения девушками церкви для исповеди и предполагаемой всеми их целомудренности. «В тихом омуте черти водятся!» После этого Сельма Рантанен больше не искала общества Сильи Салмелус. Позже, зимой она написала рассказ о греховном поступке девушки-служанки. Она сначала прочитала его на собрании христианского общества швей, а затем послала в один высокоморальный, хотя и светский, еженедельник, где рассказ и был весной опубликован.
Сийвери и вообще вся деревня опротивели Силье. Она опять погрузилась в такое сноподобное состояние, когда все вокруг перестало интересовать ее. Она старательно следила за своей одеждой и внешним видом, пополнила свой гардероб даже сверх потребности, так что те, кто видел ее растущий запас полотна, подозревали, что она готовит себе приданое, очевидно рассчитывая на того практиканта… И еще Силья пуще прежнего следила за чистотой своего тела. Поскольку баню топили только по субботам, Силья и среди недели нагревала в кухне при скотном дворе котел воды и, заперев дверь изнутри, раздевалась и мылась. Однажды хозяину Сийвери случилось проходить там мимо окна, когда Силья мылась. Он заметил, что окно завешено одеялом, и стал, как мальчишка, подсматривать в щелочку. Он увидел в красноватых отблесках очага молодое девичье тело, посмотрел чуток и затем крадучись ушел в странном, несколько сентиментальном, чистом настрое души.
Силья провела в Сийвери всю зиму, и о ней больше никто не мог сказать ничего подобного тому, что говорили летом в связи с тем практикантом. В середине зимы и в «девичнике» жизнь сделалась поспокойнее. Манта, соседка Сильи по кровати, была беременна, и когда это стало заметно, ее кавалер перестал приходить к ней по ночам. И те две служанки, которые спали на другой кровати, теперь, глядя на Манту, попритихли и не впускали уже с прежней легкостью стучавшихся к ним мужчин. В придачу ко всему в большом мире произойти события столь серьезные, что это ощущалось и в комнате служанок.
Итак, Силья могла жить спокойно, пребывая в том сне наяву, который порой, днем, когда она бодрствовала, мог быть даже глубже, чем ночью, когда она действительно спала и просыпалась. И желание сменить место, уехать отсюда куда-нибудь постепенно укреплялось в ней. А вскоре оно и осуществилось.
Было утро понедельника в конце мая, солнечное, тихое, теплое утро. Все приметы в природе указывали, что наступило самое лучшее время для сева: марьянник цвел, лещ метал икру, жаворонок страстно заливался трелями, возносясь в бледное небо. Поля были в наилучшем состоянии для сева: земля прогрелась и была нежной — все это ощущалось, если наступить на нее сапогом. Ноздреватая почва ждала лемеха плуга, как охваченная инстинктивным желанием самка ждет действий самца — грубых, но приятных. Земля ждала семян, чтобы дать им набухнуть и прорасти, породить зеленые всходы и вскормить из них стебли колосьев.
Двери хлева стояли настежь, и было слышно, как в хлеву топталась скотина, а временами раздавалось требовательное мычание.
Мужчины с хозяином отправились на поля, хозяйка со служанками вычищала хлев. Но в действиях и тех и других ощущалось сегодня утром нечто необычное.
Потому что, хотя в природе все и было как должно, настроение детей человеческих было довольно странным и непривычным. Оно было таким уже с конца зимы — начала весны, когда свергли императора и происходили еще всякие возвышенные вещи ради счастья отечества. Но отечество и его народ испытывали и другие тяготы, кроме гнета императорской власти, и революция не облегчила их, они продолжались. Продолжались и в этой волости.
Уже в конце прошлой недели в самых крупных хозяйствах села — приходского центра — было неспокойно, хозяева дальних хуторов, ездившие в село по делам, вернувшись, хмуро распрягали лошадей. Каждый из них думал о том, что поблизости — место, где рабочие собираются на свои собрания и распевают свои песни, и о том, что среди бедняков-арендаторов тоже есть горячие головы, а еще они вспоминали некоторых поденщиков, с которыми случалось обходиться грубо… И субботним вечером молодежь хотя и собиралась группками на обочинах дорог между хуторами, но вела себя на сей раз тише, чем обычно. Только одна придурковатая девушка-служанка хохотнула погромче, и хохот ее, отдавшись вечерним эхом, показался пронзительным.
Хозяин Сийвери был в расцвете сил, хозяйка, представительница известного рода из соседней волости, была женщина видная и словоохотливая. Доставляло удовольствие слушать иной раз игривый разговор между нею и хозяином. Они хозяйничали умело, использовали землю и стадо молодо и разумно. Хозяин знал, в каких пропорциях вносить естественные и искусственные удобрения, хозяйка могла сама назначать порции корма в соответствии с размером надоя. Оба знали существовавшие правила оплаты работников в сельском хозяйстве, хозяйка умела организовать питание людей так, что расходы на это были минимальными. Служанок, обычно живших в доме подольше, кормили немного лучше, чем временных наемных работников, получавших поденную оплату и вынужденных довольствоваться помимо хлеба и картошки салакой и пахтой. «Именно от такого корма свиньи толстеют», — сказала хозяйка Сийвери, когда один языкастый поденщик что-то съязвил насчет жратвы для деревенщины… Эта пара умела и вести хозяйство, выжимая из скотины и работников все, что можно было выжать, и в охотку пользовалась своим достатком, ведя здоровую, эгоистичную, счастливую жизнь.
Именно для подобных хозяев та весна 1917 года была очень неприятной и тревожной. Будучи заносчивыми, сами они весьма остро реагировали на малейшее оскорбление, а потому и получали их тогда особенно много. Арттури Сийвери в то утро, отправляясь с работниками в поле, был лицом краснее обычного — согласно заведенному порядку работ ему самому вряд ли надо было идти править лошадью, но теперь пришлось сделать это, сунув в задний карман заряженный пистолет. Один из его батраков уже не вышел на работу, его еще вчера, в воскресенье, видели в компании тех…
Такая компания и теперь поджидала его на подходящем расстоянии у дороги. «Не лучше ли сегодня отдохнуть?» — миролюбиво спросил кто-то из поджидавших, но хозяин Сийвери с мужиками и инвентарем проехал мимо не отвечая. Они вышли на поле и принялись за работу. Мужчины, стоявшие у дороги, подняли красный флаг и запели, некоторые подтянули штаны. С поля слышался уже голос хозяина Сийвери, подгонявшего лошадь, так мужик понукает собственную хорошо откормленную скотину, будучи уверен, что сил у той хватит…
В то же самое время было потревожено и спокойствие в хлеве. Когда сгребали навоз, туда явился комитет с красными повязками на рукавах, который уже ходил на маслобойку останавливать там работу и теперь объявлял по хлевам, что поскольку до сих пор не было так и этак, то теперь не может быть этак и так. Предводитель этой группы, одетый почище, подал хозяйке решение, чтобы она прочла его, но хозяйка сказала, что в собственном хлеву не признает ничьих решений, кроме собственных или быка. Но там находилась и Манта, у которой были большие влажные глаза навыкате и настолько беззастенчивый характер, что она не постесняется захохотать, будь тут хоть похороны. Она-то и выхватила бумагу из рук предводителя, говоря: «Дай-ка я ее оприходую!» и… прежде чем кто-либо опомнился, она торжественным жестом сунула ее себе под юбку, затем вернула предводителю и сказала: «Теперь печать поставлена, можете идти!» Она тут же ткнула навозные вилы под задние ноги ближайшей коровы, подхваченный ими навоз уже был в воздухе, хозяйка тоже успела сделать такой же трюк, и комитет счел за лучшее податься из хлева наружу.
Но там перед ними предстала картина самая что ни на есть серьезная. Гневно галдя, шла со стороны поля другая группа. И хозяйка сразу заметила мужа, которого несла разъяренная толпа. Хозяйка закричала: «Хулиганы чертовы, убили моего мужа!» — и бесстрашно бросилась в толпу. Лицо хозяина было все в крови, и лишь одно место, не залитое кровью, было мертвецки бледным. «Это еще вопрос, кто тут убийца, вот оружие этого мясника», — тяжело дыша, сказал один из пришедших и показал пистолет Сийвери, который держал в руке.
Эти-то события и дали Силье повод покинуть Сийвери. Хозяин был словно пьяный, он, шатаясь, ходил по комнатам и не сразу позволил хозяйке хотя бы промыть и полечить раны. Он вышел из дому и крикнул своим поденщикам: «Если уж забастовка, то проваливайте, к чертям, все до единого!» Заводилы забастовки уже ушли. Хозяйка безуспешно пыталась смирить ярость хозяина, оскорбление проникло слишком глубоко в душу этого заносчивого землевладельца. Увидав служанок, он крикнул и им то же самое, но они, похоже, не восприняли всерьез его слова и поглядывали на хозяйку, тогда он схватил стул и стал угрожать им.
Силья собрала свои пожитки и отнесла их в одну избу, с хозяйкой которой она была хорошо знакома. Манта сделала то же самое, и затем они зашагали вдвоем на юг по теплому, гладкому шоссе. Хозяина Сийвери после этого Силья уже никогда не видела. Ее вещи доставили ей сменившие место работы безземельные поденщики, а хозяина Сийвери следующей зимой зверски прикончили мятежники. Силья услышала об этом, уже поступив служить в Киерикку.
Но прежде она успела поработать еще в одном месте, куда привела ее дорога. Ни у нее, ни у Манты не было определенной цели, им казалось, что это попросту лишь недоразумение, вызванное теми мужиками с красными повязками, и все ограничится этой странной пешей прогулкой. В другой деревне Манта предложила зайти на один хутор, где она раньше когда-то служила. У хутора этого была не слишком добрая слава, хозяином его был вдовец, за которым числились различные «шалости». Об этом и упомянула Манта, широким жестом распахнув ворота и входя во двор. Силья последовала за нею нехотя. Вскоре разговор там повернулся так, что Манта осталась работать на этом хуторе. «Пусть эти забастовщики говорят что хотят, уж я-то опять их бумагу оприходую, если они сюда явятся». Силья же вышла обратно на дорогу и продолжала путь в том же направлении, как и до этого. По обочинам дороги и в деревнях она видела еще группки праздношатающихся и угрожающе глядевших мужиков.
Ее и саму немного удивляло, что она пошла одна и все шла в ту сторону, где в небе поднималось солнце. Где-то у нее за спиной, там, откуда она все больше удалялась, нашлись бы, пожалуй, более знакомые места. Но в самом знакомом — в ее доме — поселились теперь совсем незнакомые жильцы, к которым у нее не было дела. У опекуна оставалось еще немного ее денег, и он обещал выплатить их, когда Силья достигнет совершеннолетия, которого она теперь вроде бы достигла. Но у Сильи никогда не было особого интереса к тем деньгам, у нее было такое чувство, будто она нашарила эти деньги в кармане у отца тогда, поздним воскресным вечером, когда, вернувшись из деревни, где находилась церковь, она увидела отца лежащим на столе. Или даже будто тот «опекун» нашарил их в отцовских карманах и дал Силье, сколько сам захотел.
После обеда Силья пришла в самое далекое по этой дороге место, где ей уже доводилось бывать, — в деревню с церковью. Она зашла в лавочку при пекарне, чтобы чем-нибудь подкрепиться. Добродушная супруга пекаря уставилась на красивую девушку и наконец спросила, из каких она мест. Так завязался разговор, и вскоре пекарше стало уже все ясно, и она рассказала, что здесь, в округе церкви, уносят хозяев прочь с полей и избивают штрейкбрехеров. Затем пекарша посокрушалась, что как раз наняла новую помощницу, иначе наверняка предложила бы место Силье… «Ведь работа в лавке малость иная, все время на людях, вот и лучше бы взять такую, которая почище, а не прямо из хлева… Похоже, работа в хлеву и вам не очень подходит, вы такая хорошенькая, как я погляжу, хе-хе… Но, погоди-кась, не профессор ли Рантоо говорил, что они взяли бы… да, он. А что, если я ему позвоню. На какое жалованье вы рассчитываете?» — спросила пекарша уже в дверях. «На прежнем месте я получала столько-то», — ответила незнакомая путница.
Затем Силья слышала, как женщина объясняла по телефону, что хозяин Сийвери разъярился и разогнал всех работников, в сам был весь в крови… «Да хозяин, хозяин, а не эта девушка — девушкина голова-то цела, и у нее красивая головка. Другие места? Да, да, пригожая и чистая — только смотрите, профессор, как бы чего не вышло, если вы ее наймете, хе-хе-хе-хе…» Пекарша смеялась там, и у Сильи на губах тоже возникла улыбка.
— Он такой проказник, этот профессор, хотя ему уже седьмой десяток, — пояснила пекарша, вернувшись в лавку. — Он уже на пенсии и вдовец и живет там, на даче, частенько и зимой, зато летом туда наезжает много родственников, потому-то он и нанимает служанку в дом… Так вот… Отсюда туда шесть километров, ну да ничего: оттуда обычно после обеда кто-нибудь приплывает на лодке забрать почту, так что если побудете часика два здесь, не придется идти пешком. Профессор сказал, что верит мне на слово и покупает кота в мешке, мол, путь девушка приходит. Я сейчас сказала профессору в шутку, что, дескать, в такое место первая попавшаяся пышка не слишком-то годится, но это так и есть. А служить там наверняка хорошо — вот только бы эти горемыки несчастные прекратили свои глупости… — Голос у пекарши был мягкий, низкий, а тон сочувственный.
Силья не успела воспринять и половину лившейся потоком доброжелательной речи пекарши, ибо думала уже о предстоящем путешествии по воде. Она тихонько покинула лавку и пошла к причалу, оттуда в южную сторону открывался красивый вид на озеро — один мыс за другим. Куда-то туда ей предстоит поехать. На поверхности воды вдалеке возникла крохотная точка и увеличивалась, приближаясь, но слишком медленно, как казалось ожидавшей. Мальчишки у причала знали, что это почтовая лодка из Рантоо.
— Она пойдет к дому профессора?
— Ну да.
_____________
Вечером, в начале лета, когда солнце еще держалось высоко, Силья Салмелус, только что покинувшая Сийвери, приближалась, сидя на банке в лодке молчаливого почтаря, к месту своей новой службы. Настроение было особенно праздничным, как в детстве, когда вечером в иную счастливую субботу она возвращалась по воде домой из школы или какой-нибудь дальней поездки. Такой водный путь был всегда самым приятным. Берега бывали в цветах, и прозрачность зелени придавала воздуху в просветах между ними особый оттенок. Да и сама дорога, по которой плывут, всегда новая и девственная для каждого путника, на ней не видно ни следа тех, кто проплыл по ней прежде, и нет на ней пыли, которую уже топтали чьи-то ноги. Нет и случайных прохожих, пытающихся по дороге набиваться тебе в компанию, те же, кто какое-то время находятся в одной лодке с тобой, ведут себя, как бы под таинственным воздействием водного пути, более сдержанно, вежливо, тихо. Как-никак — они оторваны от земли.
На мгновение Силья даже забыла о цели этого путешествия по воде, когда почтальон впервые раскрыл рот по своей инициативе и кивнул головой, — там уже видны гребни крыш Рантоо, а вскоре, наверное, будет виден и сам профессор. Напряжение вызвало дрожь у пассажирки, которую лодка бесповоротно везла вперед. Высокое звание нового хозяина занимало мысли Сильи, и — впервые за долгое время — она вспомнила о своем происхождении и что ее фамилия Салмелус. Скользя по тихой поверхности воды прелестным вечером начала лета, девушка вызывала в своем воображении тот старый дом и не помнила, видела ли его когда-нибудь. Охваченная волнением, она, казалось, ищет в нем поддержки, пытается сама вернуться в то сословие, в каком — это она знала — родилась.
Рантоо называлась дача, стоявшая на берегу. Почтальон причалил к мосткам, на которых поджидал почту какой-то старик, очевидно, это и был профессор. Он внимательно разглядывал девушку из-под своих мохнатых бровей. Он был одет по-деревенски и вообще был каким-то растрепанным, но все равно любой человек понял бы, что он из благородных.
— Вот оно как, стало быть, это о тебе звонила Пиетиненчиха. Похоже, правду она сказала, давай вылезай, и будем договариваться. Служить у меня — одно удовольствие, если только усвоишь мои привычки. Я, видишь ли, сам тоже из простого народа, к тому же из этих мест, и манеры у меня немного старомодные. Я, например, буквально с радостью обращаюсь на «ты» к таким пригожим девицам, а если рассержусь, то «тычу» и старым бабам. На сей раз мне хочется вспрыгнуть на луну и оттуда обратиться на «ты» ко всему финскому народу. Пойдем теперь сюда, присмотри чего-нибудь съедобного и затем можешь весь вечер бродить тут вокруг и знакомиться со всеми местами и закоулками. А ты парнишек-то к себе ночью пускаешь?
— Ко мне не пристают, — смогла наконец Силья пробиться словом. При этом она с легкой улыбкой невольно взглянула в лицо этому растрепе, говорившему столь беззастенчиво.
— Ого, уж не думаешь ли ты, что у меня нет глаз? Есть, хотя маленько и староваты… Так-то тот, и это и есть тот пункт, которого я не потерплю, потому что я единственный петух на тутошней жердочке. Оно конечно, другое дело, если найдешь порядочного жениха, я готов даже свадьбу устроить, но таких, чтобы просто ночь-другую переспать, я не потерплю. Ну, не беспокойся, похоже, мы поладим. Не сомневаюсь.
Силья поступила в услужение к профессору, здесь борьба сельскохозяйственных рабочих за лучшую долю ее уже не касалась. На следующий день она начала хлопотать, чтобы получить из Сийвери оставшиеся там свои вещи и различные продуктовые и другие карточки военного времени. Профессор пообещал Силье помочь получить остаток ее наследства и буквально радовался возможности прижать хозяина Микколу. «Он, должно быть, не совсем безупречен, этот твой добрый опекун, — рассуждал однажды профессор. — Знаю я этих старых хороших хозяев хуторов, эдаких саариярвеских Пааво. С них станется — они и у сироты из рук последнюю марку вырвут».
Так и пошла жизнь этой одинокой девушки на даче Рантоо, но тот вечер был большим и удивительным событием впервые за долгое время. Она следовала по своей дороге жизни, ее молодость покуда шла на подъем, и жизнь еще могла раздаться перед ней вширь и ввысь и также прибавить обжигающего огня. Еще предстояло лето, солнце которого будет припекать дольше и жарче, чем когда-либо до сих нор… Что-то таинственное, казавшееся одновременно и мрачным и радостным, было в этом доме, в его хозяине и окрестностях. Силья не раздумывала об этом, и если бы кто-то принялся объяснять ей, то она, возможно, не стала бы и слушать, но все, что говорил ей новый хозяин в первый вечер, да и позже, было словно бы словами старого Кусты Салмелуса, которые он не успел сказать при жизни и теперь произносил устам и совершенно иного человека. В этом было нечто такое, что нужно было Силье хотя бы на короткое время. Неужели она снова очутилась в атмосфере своего родного дома, хотя все здесь неизмеримо просторнее? От шоссе вела и сюда своя Дорога Домой, только более широкая, более прямая и гладкая. В конце дороги был Дом, правда, двухэтажный и крашеный, но окна его были почти такие же, как окна родного дома, и внутри царил — да, действительно — профессор, который говорил прямо и громко, тогда как отец Куста делал прямо и зачастую молча, но Силья в этом доме почувствовала сразу, с первого же мига, что она лишь теперь нашла ту поддержку и защиту, которые так внезапно потеряла со смертью отца; Силья вспомнила сегодня угнетающее предчувствие того воскресенья… «Иди, иди, посмотри, погуляй по всему участку, — сказал профессор ближе к вечеру, — сама там разберешься, что где».
Силья бродила-бродила и оказалась на заросшем березами мысу, в конце которого она остановилась и смотрела на тихую в вечернем освещении гладь озера, отражавшую возле противоположного берега вверх ногами все — и сам берег, и деревья на нем. Слышно было кукование кукушки, и кроны далеких деревьев выглядели так, что можно было подумать, будто они слушают там длинный, многоголосый вечерний опус певчего дрозда.
Куда же занесло тебя, девушка Силья? Неужто вся жизнь твоя, до этого безжизненная, как пустыня, неожиданно исчезла, было ли правдой это внезапное усиление жизни, ее расширение и очищение, вызвавшие дрожь в членах тела, какую иной раз вызывало внезапное резкое напряжение в работе? Или же все то зло, которое ты легко преодолевала на протяжении своих пяти сиротских лет, вдруг приобрело такой вид, чтобы окончательно соблазнить тебя, одинокую?
Силья пошла обратно «домой». Профессор стоял у окна, он тоже глядел в летнюю ночь. Силья вошла почти крадучись; профессор обратился к ней, но тихим голосом и как-то смиреннее, чем днем, да и не было в его речи и следа давешней сочности. Пройдя несколько шагов, Силья на мгновение остановилась… Они были перед лицом летней ночи… Когда Силья вошла в маленькую комнатку, туда тихо вошел и профессор, объяснил девушке насчет постели и пошел уже было прочь, но вернулся и сказал: «Да-а, ведь я еще даже не слышал, как тебя зовут». До чего же давно это было, чтобы у нее кто-то спрашивал имя, теперь казалось, что она шепчет его этой необычайной летней ночи, которая незаметно наступила. «Ну, Силья, спокойной ночи», — сказал профессор, и затем было слышно, как он медленно поднимался по лестнице на второй этаж.
Силья чувствовала одиночество в ночь после смерти отца, лежа в Микколе рядом с Тююне. А ведь в тот раз, по крайней мере, изба была знакома, как и спавшая рядом девушка. И с тех пор Силья, по сути, всегда была одна — одна в осенней непогоде на погруженной в темноту дороге; одна, идя рядом с Оскари Тонттилой; одна, когда господин скупщик леса зажал ее. Одна была она и в пути, приведшем ее в это удивительное место. И более всего она была одинокой в этой маленькой, чистой комнатке, когда тот кажущийся странно знакомым старик скрылся на верхнем этаже и весь дом погрузился в тишину.
Чувство одиночества было сейчас прочней, чем когда бы то ни было, — разумеется потому, что дела этого мира как бы подступили гнетуще близко к ее сознанию, и так много было этих дел — новых и непредсказуемых. Время, прожитое в Сийвери, со всеми тамошними событиями, вновь прокатилось сейчас перед нею, как бы едва касаясь ее сознания, — и то, как она ночами, притворяясь спящей, все слышала и все понимала, — и та жизнь, которую, напрягая силы и в поте лица своего, вели на работе, на танцах и после танцев… все-все, вплоть до окровавленной головы хозяина сегодня утром… Неужели это и впрямь было только сегодня утром? И докатится ли оно до тех полей, которые она сейчас видит из окна? Покойный отец ведь тоже был владельцем имения… И тут мысль ее опять пустилась блуждать, и она почти вспомнила что-то со времен Салмелуса, нечто вгоняющее в тоску, давящее и вызывающее образ отца… Глаза закрылись, поверхность сознания слегка расслабилась, но в глубине напряжение даже усилилось, там возникла картина: отец выясняет отношения с мужчинами, у которых на рукавах красные повязки, и происходит что-то невообразимое, страшное, по сравнению с чем окровавленная голова хозяина Сийвери — совершенно рядовой случай из жизни.
От этого спазма нервы содрогнулись, она встрепенулась, глаза открылись, и сознание столкнулось со светлой летней ночью. Все чуждое вокруг выглядело теперь гораздо мягче, и это успокаивало. И как-то по-новому вспомнилось, что на верхнем этаже спит старик, который надежно правит этим домом и всей округой, так же… так же, как сильный отец. И комната стала уже знакомее после того, как глаза какое-то мгновение были закрыты, и ей стало хорошо оттого, что можно, проснувшись, увидеть все так… Вспомнилась добродушная болтовня пекарши там, в селе, — захотелось подумать: вчера. Силья потянулась всем телом, пригладила волосы и положила руки под голову. Спать не хотелось, это особенное глубокое одиночество манило взглянуть на себя каким-то непозволительным образом, представить себе формы собственного тела, подумать о том, что ты женщина… и что в таком возрасте у многих уже есть дети… Для этого нужен мужчина, и это происходит по обоюдному согласию — какое непонятное чудо, что на такое можно согласиться… Руки инстинктивно выползли из-под головы и вытянулись вверх, а голова при этом запрокинулась еще сильнее, так что даже засвербело в затылке… И она подумала о том, что ужасало, но сейчас, здесь почти восторгало: о крупном, крепкого телосложения мужчине, которого глаз видел не раз, и даже обнаженным… и что могла бы согласиться и она…
Девушка в белой рубашке поднялась из постели и подошла к окну. Она увидела относящийся к участку дачи мысок с березками и за ним полосу воды — тот самый, на который она забрела давеча, знакомясь с окрестностью. И еще видно было небо, немного полей, а за ними неясная в сумерках группа домов деревни. Она снова перевела взгляд на мыс и озеро, и душу наполнила грусть — сильная и нежная, какой прежде ей испытывать никогда не доводилось. Природа вокруг как бы деликатно отступила. Выйти ли ей из дому и отправиться туда, на березовый мыс, спит ли отец опять в избе?.. Что случилось там, на мысу, только что? Разве, словно чудо, не приплыл на лодке, не поднял весла какой-то молодой парень, у которого такие ровные зубы и такая хорошая одежда, красивый парень, которого она уже видела раньше? Действительно, было такое — пять лет назад, но она, Силья, вспомнила об этом только теперь. Ведь происшедшие после того события нарушили весь ход вещей и начисто вытеснили это из памяти. Отец умер прежде, чем успел наступить следующий вечер. Но сейчас казалось, будто отец жив и ночь опять безопасна, настолько безопасна, что, стоя там, в конце мыса, можно было бы принять какую-нибудь более смелую позу, сделать какой-нибудь ободряющий жест, чтобы гребец приблизился и заговорил и даже вышел на берег — посидеть рядом.
Ночь глядела уже будто союзница, которая знает тайну. Карие, большие глаза женщины в белой одежде поблескивали из-под длинных ресниц — как последние весенние звезды где-то в небе, если долго смотреть туда.
Слезы — впервые в этих глазах и по такому поводу.
А с утра началась служба Сильи на даче Рантоо. Она проснулась, услыхав, что профессор идет вниз по лестнице — гораздо бодрее, чем вчера, поднимаясь по ней. Испугавшись, что слишком разоспалась, Силья быстро вскочила и натянула юбку. Входя в кухню, она услыхала, как часы пробили пять. И тут же профессор высунул голову из приоткрытой двери, ведущей в соседнюю комнату, и сказал:
— Ого, ты тоже уже на ногах. Могла бы еще поспать; люди растут, когда спят. У меня на озере кое-какие снасти, так что я пробуду там больше часа, раньше шести тебе вставать не требовалось. Но уж раз проснулась, свари кофе себе, а я выпью, как вернусь, сейчас не хочу. Сюда, возможно, явится в это время одна старуха, она оттуда, из хибарки под названием Кулмала, и доводится мне двоюродной сестрой. Она придет и покажет тебе такие места, куда я свой нос не сую, она, вишь ли, здесь маленько прибиралась и иной раз готовила, когда я был тут без служанки. Ну, будь здорова — вари теперь кофе.
Силья не удержалась, чтобы не посмотреть в окно зала, как шел хозяин, так основательно она успела подпасть под влияние профессора. Видя этого крупного и еще стройного даже в старости мужчину, идущего по тропинке к берегу, Силья инстинктивно подняла руки к груди, душа со сна была чиста и полна чувства благодарности — благодарности всему, чуть ли и не мокрой от росы тропинке, по которой шагал ее хозяин. Если бы мне только суметь, если бы мне только справиться с работой здесь, — и чтобы все здесь оставалось таким же и тогда, когда сюда приедет больше людей.
Уже пришла та «старуха» — чисто одетая и в годах, но еще полнокровная женщина. «Ага-а, двоюродный братец уже заполучил сюда помощницу», — сказала она запросто, доброжелательно глядя маленькими глазками. Затем последовало выяснение имени и откуда родом и совместное кофепитие. Правда, Силья еще не уяснила себе, как тут накрывают на стол, но ей и не требовалось делать это, ибо София сама взяла чашки оттуда, где они стояли. Вот так познакомились, а затем осмотрели дом. Прошло уже столько времени, что и профессор вернулся с озера с рыбой, но кофе для него готов не был. Они совсем забыли про старика, выясняя состояние домашнего хозяйства.
— Чертовы девки! — возмутился профессор, и Силья чуть не заплакала. Но профессор сказал ей, указывая пальцем на Софию — Не давай этой старухе сбивать себя с пути, а путь этот такой, изучишь мои привычки и будешь делать, что я велю.
Силья, однако же, поняла, что отношения между этими двоюродными братом и сестрой очень хорошие, близкие. Поспешив в кухню готовить новый кофе, Силья слышала, как они разговаривали тихо и деловито.
— Силья, стало быть, придет и к нам вечером, когда тут все будет сделано, — сказала София Кулмала в дверях, уходя.
— Да, придет, ведь это входит в число обязанностей. Да и кроме того, хозяйка Кулмала — такая легкомысленная вдовушка, которая собирает вокруг себя всех молодых мужчин округи, так что там хватит парней составить компанию и для гостьи.
— Хороший поп лучшие проповеди произносит про себя, — ответила София с улыбкой на губах и прищурив глаза.
После того как София ушла, профессор подробнее объяснил перипетии ее жизни.
— Молоденькой-то она была хорошенькая и попала служанкой в Тампере к одному богатому старому холостяку, который взял да и влюбился в пригожую деревенскую девчонку, разумеется, и она ему ответила тем же, но потом, летом, он поехал в санаторий и окочурился там в одночасье. К счастью, София была с ним официально помолвлена, и это удалось доказать в суде, так что, когда сын родился, ему выплачивали пенсию до совершеннолетия. Где-то в мире София вторично вышла замуж, даже в Америке побывала — теперь она вдова и живет в доме, где и родилась. Дочке ее идет второй десяток. У Софии есть пианино, привезенное из Америки, немного земли, корова и несколько кур. Так что теперь знаешь, на тот случай, если пойдешь туда, и свободно можешь пойти, я и сам там бываю. Она часто собирает толоку, иначе ей с полевыми работами не справиться, хотя хозяйство и невелико, и тогда там устраивают танцы — если нынче летом на полях вообще можно собирать толоку или хотя бы танцевать — ох-ох, э-эх, да-да. Кофе-то у тебя еще теплый?
День прошел чудесно. У профессора и впрямь были «свои привычки», но требования его были весьма умеренными, так что иной раз Силье бывало странно и неловко, когда он хотел делать сам такое, что могла сделать служанка. Хорошо прошли и следующие дни. Ждали гостей, но никто, кроме барышни Лауры, дочери профессора, так и не приехал. С нею приехала еще какая-то тихая девушка, которая пробыла лишь несколько дней. Про семейство зятя ничего не было известно и позже; о нем и его деятельности лишь говорили немного таинственно.
Но вблизи Рантоо, на краю деревни находилась Раухала — старая усадьба, земли которой были проданы, и лишь большой серый главный дом оставался выморочным, и бывшая хозяйка сдавала его на лето дачникам. Там селились пять-шесть человек, все из разных мест, и жили кто сколько хотел, уступая затем место следующим приезжим. Та старая хозяйка была хорошей знакомой Рантоо, и когда она устраивала своим гостям вечеринки, то всегда звала всех живших в доме профессора, и вот так им, особенно барышне Лауре, доводилось общаться с жильцами Раухалы.
Однажды вечером Силья пошла в Кулмалу, у нее было поручение от хозяев, но не очень спешное. Дорога вела сначала через хутор Камраати, затем шла под старой дикой яблоней, пока наконец плоская крыша Кулмалы и печная труба на ней не возникли перед глазами путницы. Поскольку это была единственная труба дома, из нее постоянно поднимался знакомый дымок. Пройдя совсем немного по деревенской дороге, старомодно обсаженной с обеих сторон кустарником, она оказалась перед воротами, у одного из столбов которых, как всегда весной, цвела старая, развесистая черемуха, а у другого преогромный куст глухой смородины. За ними был двор и в другом его конце — дом. Между кустиками ромашки и травы-муравы вырисовывались три непременные узенькие дорожки: одна к хлеву, другая к амбару и третья к деревенской дороге. Силья взошла на крыльцо, куда навстречу ей вышла София. И впервые взор этой девушки засверкал в сенях Кулмалы, а затем и в гостиной. Позже там происходили замечательные и очень важные для Сильи события. Теперь же там царили уютные сумерки. Рядом с гостиной была кухня и маленькая горница, в которой София и угостила чем бог послал. Пианино было на лето выставлено в гостиную. Дочка, Лайни, подбирала на нем знакомые танцевальные мелодии и народные песни. Из очага плиты на кухне дым иногда начинало тянуть в дом. Тогда открывали окно, и какой-нибудь ближний сосед, случайно шедший мимо, замедлял шаги, чтобы послушать вальс Лайни.
Силья сидела в кресле-качалке и наслаждалась, ощущая доброжелательность всего вокруг. Ее красноватое платье, поблескивающие волосы и карие глаза восхищали даже Софию, которая уже знала истину о происхождении Сильи. Все разговоры были такими, что вызывали улыбку, и при этом на левой щеке девушки возникала маленькая ямочка. Силья сидела, привольно опираясь на подлокотники, платье обрисовывало формы тела, входящего в пору полного расцвета. Поскольку Силья и София оставались одни, можно было держаться и говорить как хотелось, не стесняясь проявлений своей сути.
Позднее в том же самом кресле-качалке сиживали и дачники из Раухалы, они тоже охотно приходили в Кулмалу. София даже иногда кричала им, чтобы зашли, когда те прогуливались по дороге. Кто-то из них умел играть на фортепьяно и принялся учить этому Лайни. Другие смотрели, как София доила свою корову и поила теленка. В июле стал уже делаться заметнее и лунный свет. Тогда во дворе Кулмалы и возле дома возникла особая эмоциональная атмосфера. Старик хозяин Камраати рассказывал, как тут жили раньше. «Небось ты, Матти, это еще помнишь», — сказал он как-то профессору, когда тому случилось сидеть с ним рядом на лавочке во дворе Кулмалы.
В первой половине июля провести в Раухале лето приехал Армас, молодой господин, фамилию которого Силья так никогда толком и не смогла узнать, хотя именно этот молодой человек значил именно для нее больше, чем для кого-либо другого в этих местах — и более, чем кто-либо другой где бы то ни было.
Барышня Лаура, дочь профессора, была стройной блондинкой, в глазах которой всегда поблескивало одно и то же трудновато объяснимое выражение. Она никогда не горячилась, ее желтоватые, вьющиеся на висках волосы наводили на мысль, что все чувства были уже пережиты за нее прежними поколениями. Никто никогда не замечал, чтобы она вздыхала по какому-нибудь молодому мужчине. Но теперь вышло так, что поселившийся в Раухале Армас явно привлек ее внимание; даже Силье случилось слышать, как барышня не раз рассказывала что-то о нем и за завтраком, и когда пили кофе. Вскоре этот молодой господин и сам появился в Рантоо. Он был бойким юношей, и профессор охотно беседовал с ним.
Таким Силья и увидела его впервые. Ей довелось принести что-то в ту комнату, где проводили время господа. Молодой человек сидел за пианино и старался что-то сыграть, барышня Лаура стояла рядом и пела. Но именно в тот момент, когда в дверь вошла Силья, их музицирование оказалось нарушенным, молодой господин обернулся и посмотрел. Вошедшая служанка сделала ему легкий книксен, как ее научили делать гостям. Она была в том самом темно-красном платье, о котором профессор сказал, что оно идет ей и она в нем выглядит лучше, чем это было бы позволительно для служанки.
Вернувшись после этого в кухню, Силья выглядела и вела себя так, словно ее подменили, — в кухне как раз находилась София, которая и заметила ее состояние. Девушка хихикала и болтала всякий вздор. София, человек опытный, подумала, что знает причину этого. Поставив на стол посуду, которую держала в руках, Силья в бурном порыве радости кинулась Софии на шею. Мгновение спустя она вновь занялась своей работой. «Тут так замечательно», — сказала она Софии, словно хотели оправдать свой только что совершенный поступок лишь хорошим настроением. Помогая затем Силье мыть посуду, София, как бы невзначай, рассказывала, что знала, о дачниках, живших в Раухале нынешним летом. «Этот господин Армас красив, и утончен, и весел — небось и ты заметила, как сверкают его зубы, когда он говорит или улыбается. Похоже, Лаура на него малость поглядывает».
Гости ушли, и София помогала Силье, пока все не было приведено в порядок. Об этом ее попросила барышня Лаура, придя в кухню. София ушла лишь после того, как все поужинали и было убрано со стола. Силья пошла ее провожать, не видя к тому никаких препятствий и даже не спросившись, столь возбуждена она была дневными происшествиями. София хорошо понимала ее и любезно разрешила ей повиснуть на своей руке. Про себя же она решила предупредить Силью против такой горячности, как только представится мало-мальски подходящая возможность.
После этого вечера в жизни Сильи осталось одно-единственное стремление. Правда, она выполняла каждодневную работу тщательнее, чем раньше, и допоздна не ложилась спать, если могла приготовить что-нибудь с вечера на завтра. Барышне Лауре она прислуживала особо старательно и, находясь поблизости, наблюдала за ней долго и серьезно. Не проходило и нескольких минут, чтобы она не поглядывала на дорогу в Раухалу. Она могла быть почти уверена, что незамеченным ею никто не мог пройти из Раухалы в Кулмалу. Случалось, по этой дороге шел Армас, иногда один, иногда в обществе женщин. Иной раз он провожал барышню Лауру до ворот Рантоо и затем поворачивал обратно к себе. Но в тех отдельных случаях, когда он входил во двор, Силья испытывала отвращение к своей работе, которую она не могла отложить. И хотя потом, уже увидев, что молодой господин вернулся в свое жилье, она, покончив с делами по хозяйству, все же выходила прогуляться по деревенской дороге, но шла не в сторону Раухалы, а к Кулмале, куда, она видела, ходил ион.
Однажды все же случилось, что Силья пришла в Кулмалу по делу и вовсе не надеясь кое-кого там встретить. София как раз ставила чашки для кофе на поднос, покрытый белой чистой салфеткой. Это означало, что гость почетный, и София велела Силье идти в гостиную. «Там…» — сказала София многозначительно и открыла дверь, ведущую из кухни в гостиную. Силья уже вступала туда, полагая, что там какая-нибудь хозяйка хутора, но… В кресле-качалке сидел тот, имя которого она знала и который на сей раз прошел в Кулмалу не замеченным ею.
Силья увидела его перед собой, совсем близко, на губах ее уже начала было возникать улыбка — и вдруг Силья отступила обратно на кухню. У Софии возник хороший повод поиграть с ними обоими, и она велела молодому господину привести Силью в гостиную. Он встал с кресла и пошел сперва в тесную кухню, но, не обнаружив там девушку, заглянул в комнатку за кухней. Он и там никого не увидел, но затем услышал сдерживаемое дыхание, доносившееся из чулана, рядом с кухонной дверью, и когда он попытался открыть чуланную дверь, оказалось, что ее крепко держат изнутри. Ему все же не потребовалось прилагать больших усилий — дверь открылась, и девушка была так близко от него, как никогда до этого. София хлопотала в кухне и вроде бы понятия не имела об этой безмолвной игре. Молодой человек успел ощутить запах волос девушки, увидеть ее руки, плечи, грудь, бедра, ее взгляд — и во всем, что произошло, было проявлено как раз столько силы и сопротивления, что остатки древнего инстинкта в них обоих оказались как бы удовлетворены.
Силья и Армас встретились, нашли друг друга, и уже ничто, кроме смерти, не могло унести в небытие след и последствия этого коротенького мига.
Вскоре Силья была уже в комнатке за кухней — ей ведь надо было сказать Софии о том, ради чего она пришла, вернее, попросить Софию подменить ее на полдня, пока она сходит в село к портнихе… Но глаза ее все время сверкали, а в голосе прорывались радостные, звонкие нотки. Молодой господин остался в гостиной и вовсю играл там на пианино. Это явно была не какая-то настоящая пиеса, а просто инстинктивные, бурные аккорды. Силья сжала локоть Софии и поспешила прочь.
По меньшей мере в первое время после этого случая было бы напрасно говорить — особенно в отношении Сильи — о каких-либо попытках Сильи и Армаса встретиться.
И однако… До чего же красива обычная деревенская церковь воскресным утром в разгаре лета, когда небо тихо и безоблачно, а все растущие на земле злаки достигают наибольшей пышности именно перед тем, как человек наточит свои орудия, чтобы скосить их. В такое воскресенье в церковь приезжают группами даже те люди, которые в будни-то не слишком интересуются церковной жизнью. В белоснежной рубашке хозяин суетится у конюшни, кричит что-то батраку, который приводит лошадь и затем уходит и выкатывает одноколку из сарая, успев полюбоваться, какая она новенькая, чистая и блестящая. И начинает запрягать кобылу в лучшем возрасте; вскоре затянута супонь, накинуты гужи и вставлены клинушки, завязаны подхвостник и подпруга, надета узда и вожжи протянуты сквозь петли чересседельника — все это делается с жаром и привычно, так что хозяин в это время может выкрикивать свои распоряжения какому-нибудь другому работнику. Затем он бросает вожжи и спешит подгонять хозяйку, и уж идет хозяйка в шелковом платье и шляпе, держа в руках Псалтырь и зонтик, и она тоже кричит что-то скотнице, стоящей с безразличным видом где-то возле хлева, потом подходит к одноколке и поднимается в нее немного неуклюже и как бы не доверяя такой повозке, ибо в ней привык ездить только хозяин. Хозяин же энергично садится справа, и супружеская пара, ритмично покачиваясь, катит между полей, и собственных, и принадлежащих другим хозяевам, — уже по землям других деревень, опускаясь и поднимаясь по отлогим склонам. Приближаясь к развилке дорог, едущие видят сквозь все усиливающееся утреннее марево летнего зноя и поверх ровных ржаных полей, как приближается к дороге, ведущей к церкви, другая такая же выехавшая из дому супружеская пара. Они узнали и лошадь, и ее владельцев, но не окликают их, хотя по склону поднимаются буквально друг за другом. Уже видна и церковь там, на холме, возвышающаяся над крестьянскими полями. Все больше одноколок приближается туда, слышны церковные колокола…
А с другой стороны люди прибыли пароходом. Большинство составляют молодые дачники, которым взбрело в голову отправиться посмотреть на местную церковь и на прихожан. И хотя они прибыли пароходом, но возвращаться решили пешком — красивой песчаной дорогой, тянущейся по узкому берегу вдоль воды… Церковные колокола звучат теперь в другом, чем только что, ритме, это, пожалуй, пасторский колокол… Прихожане направляются к дверям, с погоста идут те, кто посещал могилы близких, они как бы в несколько ином положении. Батраки из ближайшей округи и за компанию с ними молодые парни перемещаются в толпе, они тоже заходят в церковь, хотя и ненадолго, и становятся там, откуда легче и быстрее можно будет выбраться наружу… А на лице захолустного сапожника с обвисшими усами, слывшего в округе образцовым человеком, который и этим летом много участвовал в разных массовых действиях, выражение полного безразличия. Он побывал на почте, ему надо заниматься делами своей организации.
Но розы цветут на ухоженных могилах, а солнце так припекает черный шелк на хозяйках, что щеки их раскраснелись, и они стараются надвинуть на лоб шелковые платки как можно ниже, насколько это прилично в данный момент.
Внутри церкви прохладнее, и воздух там как-то свежее, но утонченное обоняние может уловить, что и там слегка отдает присущим этому народу запахом, впитавшимся в стены церкви на протяжении многих поколений. И слышен лишь тихий шелест людских голосов, ведь летом не кашляют так много, как зимой. Лишь кое-где раздастся долгий старческий кашель, который не зависит ни от весны, ни от лета, а напоминает, что и здесь пламя жизни ослабевает, и это — потрескивание постепенно угасающего костра.
Затем начинает потихоньку гудеть орган, тянет какое-то время свой напев, пока не остановится, чтобы разразиться рокочущим утренним хоралом, к которому присоединятся и собравшиеся в церкви — молодые звонко и точно, по нотам, старые кое-как вдогонку за ними. Псалом за псалмом накатывается хорал, но вслед за последним псалмом орган не умолкает полностью, звучание его лишь на миг становится совсем тихим, словно бы ожидая, что души людей, собравшихся внизу, в церкви, вернут ему силу. Пастор уже в алтаре.
Церковь имеет в плане форму креста, лица сидящих — женщин слева, мужчин справа от главного прохода — обращены прямо к алтарю, в боковых приделах сидят к алтарю боком, лицом к середине церкви.
Служба в алтаре набрала ход, и атмосфера в церкви установилась. Какой-то явно не местный молодой господин рассматривает с мужской стороны, из бокового прохода собравшихся в церкви. Прямо перед ним — женщины, он видит их всех в профиль, а они с разным выражением лица следят за действиями пастора и отвечают ему словами литургии… Он разглядывает собравшихся женщин, и для этого ему не требуется вертеть головой и привлекать чье-то внимание, и разглядываемые этого не замечают, но одну он сразу увидел во время хорала и почувствовал в душе любовный трепет… Предвиденная случайность… У девушки на голове — простой белый летний платок, завязанный узлом на затылке так, что концы его свисают на плечи. Из-под края платка видны на лбу и висках уже знакомо поблескивающие коричневые локоны, черты лица чисты и нежны, розоватый ротик и изгиб верхней губы производят впечатление почти детскости.
И вот девушка склоняется в покаянии — «всю жизнь свою во грехе прожив», — гулко и торжественно несется из алтаря… Видны склоненные плети и головы, грубые, жесткие, с трудом сгибающиеся фигуры, люди, которые, вновь выпрямляясь, являют все те же оцепенелые, с застывшим выражением лица, какие были и до покаянного поклона… Но глаза одного мужчины глядят на женскую половину, на одну девушку там, и мужчине кажется, что это девичье лицо сделалось по сравнению с тем, каким оно было до раскаяния, чище, и, очистившись от грехов, оно стало еще более красивым… «И воплотившийся от Духа Святого и Марии Девы…»
На светлое настроение юноши влияет атмосфера залитой солнцем церкви; торжественный ритм слов, мелодии органа и повторы «аминь» — все это поддерживает в его сознании образ, в котором его чуткое восприятие не находит недостатков. Все взгляды, брошенные ими друг другу до сих пор в будничной обстановке, да еще та безмолвная, нежная игра рук — все это теперь здесь, с ним, как воспоминание о ценнейшем жизненном достижении, о лишь однажды выступившей из драгоценного цветка капле меда, таящегося за этими ресницами, в тайниках души.
Так, будто жемчужины из щедрых рук самой всеобъемлющей жизни, падают жизненные мгновения юного чистосердечного мужчины, падают на дно души, оставаясь навечно драгоценными, и позднее, когда-нибудь потом, ими хорошо будет втайне любоваться тому, кто сберег их чистоту. Но хранить чистоту можно по-разному, как и запачкать; одним и тем же способом можно однажды сохранить чистоту, а в другой раз осквернить.
Такова выстроенная и посещаемая людьми церковь утром солнечного летнего воскресенья. К вечеру благолепие первой половины дня угасает, как и само воскресенье. Наступит свежая ночь, когда ходят иными тропинками.
Силья и Армас — их лето впереди.
Профессор пил воду только из родника, за нею специально ходили туда, так он хотел, — он говорил, что это его небольшое суеверие, которое он позволяет себе лишь из уважения к верованиям далеких предков, от мира которых он отчужден многолетней научной работой. И еще он объяснял, что для души девушек-служанок это великолепное лекарство — пойти, окончив вечерние работы, с ведром в руке по исконной красивой дорожке через березняк. Они могли оставаться там и подольше, лишь бы приносили воду домой до полуночи — если им хочется, могут посидеть у родника и, сплетая венок, погадать о будущем, в одиночестве или со своим дорогим.
Довелось освоить ту тропинку и Силье — для начала София лишь коротко объяснила, в какой она стороне. Из Раухалы было видно, когда шли к роднику — сперва по шоссе, затем окольной дорогой до деревянного мостика, под которым, слегка пенясь, бежал ручей. Там-то Силья и задержалась в первый же раз — она уже слышала от профессора о подоплеке этого хождения за водой. Ниже моста по течению был каменистый порог, где вода даже слегка бурлила, над ним росли кусты, бесчисленные ветки которых сплетались, как и высокие стебли камыша. Это привлекло внимание девушки, и она пробралась сквозь податливые заросли, которые затем внезапно сменились маленькой полянкой с руинами старой мельницы. Полянка была закрыта со всех сторон, отсюда не было видно ничего, кроме вновь начинающегося густого кустарника ниже по течению, и не было ничего слышно, кроме журчания воды в бесчисленных широких и узеньких рукавах ручья. А к одному из рукавов Сильи прицепился паучок, а на другом появилось что-то белое, но и то и другое было будто некие секретные знаки… Помечтав вволю в этом удивительном месте, она поднялась, чтобы продолжить путь к роднику, и решила заглядывать сюда в будущих походах за водой.
Она и заглядывала, а однажды, на неделе, после воскресного посещения церкви, спрятала пустое ведро в кустах у дороги. Ведро все-таки было видно, и некто, заметивший немного ранее, что девушка шла сюда с этим ведром в руке, взял ведро, перепрятал его получше и остановился на миг, весь настороже. Своей доли внимания требовал, казалось, и приближающийся вечер: перед глазами пылали пышные цветы спиреи, и их густой аромат смешивался с запахом мхов, порождая впечатление, незнакомое юноше доселе. И если долго слушать бурление воды на пороге, то постепенно начинает казаться, что за ним бесконечное число звуков природы, которые откуда-то издалека добавляли свои подголоски к этой главной партии.
Возможно, в чаще веток остался какой-то, почти угадываемый след там, где это прекрасное дитя человеческое пробиралось вперед. Глаза, искавшие ее, уверенно вели пришельца по этому следу… И вот она сидит — платье проще, чем недавно в церкви, но зато она близко, как начало летней ночи. Юноша подкрадывается к ней сзади, и возможно, одиноко сидящая слышит какое-то потрескивание, но не оборачивается. Сердце пылко бьется. Оно выдает пришельца, который уже и сам подал знак о своем прибытии. В глазах юноши — когда глаза девушки наконец встретились с ними — озорной блеск, какой бывает у мальчишек. Этот взгляд и черты лица — их Силья видала уже и раньше, однажды летом в прошлые годы.
Теперь она вспомнила это. Воспоминание возникло, словно приятно одурманивающий бесплотный удар, который нанесла летняя ночь. Потом вспомнил ион — когда они наконец заговорили.
— Нет, но — а как же вода? — и время? — неужели уже полночь?
Полночь была уже близка.
Щедрая рука жизни уронила каждому из них по нескольку прекрасных жемчужин на сохранение.
Они вместе пошли к роднику, в конце пути спустились тропинкой среди берез по скользкому склону. По обе стороны дорожки возвышались над травой на длинных стеблях нежно-белые соцветия, каких Силья никогда раньше не видела. Ее почти пугала эта тропинка, соцветия были словно вызваны колдовством, как же она прежде не замечала их? «Они расцвели только что — по одному для каждого из нас — и сейчас расцветают где-то еще».
Девушка нагнулась, чтобы рассмотреть получше, но не сорвала. Юноша прыгнул с тропинки подальше, принес оттуда один цветок и, поднеся его к лицу девушки, смотрел на него. Нежный запах ночной фиалки подходил выражению лица девушки, которое теперь, после первых в ее жизни поцелуев, сияло совершенно особой милой уверенностью. Девушка взяла красивый белый цветок из рук юноши и держала его возле своей груди, как на старинной картине.
Было уже за полночь, когда Силья в одиночестве раздевалась в маленькой чистой светелке, где кроме нее никто не ночевал. И опять она подошла к окну и посмотрела в сторону березового мыса, как тогда, в первый свой вечер здесь, когда шаги профессора затихли на верхнем этаже, а она, Силья, впервые осталась в этом доме в своем великом одиночестве. Не клонило ее в сон и теперь, но глаза, глядевшие сейчас сквозь оконное стекло в ночь, поблескивали иначе, чем тогда. Не глядели они в некую неопределенность, и мысли не возвращались к прежней их с отцом избе и тогдашнему ночному гребцу. И взгляд и мысли устремлялись туда, где остался ее милый — Армас[15]. И ничего другого для нее сейчас не существовало. Не было ей дела до того, как там спит профессор на верхнем этаже; барышня Лаура была самым малозначительным для нее человеком из знакомых. Нет — они все исчезли, она одна жила в светлой летней ночи, и еще был друг, тот, что там, — ее немного тянуло к нему. Немного, ибо она знала, что скоро опять встретится с ним. «Он там, в том доме, там, в комнате, и я принадлежу ему».
Лежа уже в постели, она продолжала предаваться смелым мыслям, которые теперь были более пылкими. Она коснулась губами своего предплечья и как бы ощутила снова недавние поцелуи… Инстинкты осторожно руководили воображением, как бы ощупью искавшим отдохновения от этого накала в прежнем опыте. При воспоминании о некоторых эпизодах все существо девушки отталкивало их от себя — Оскари Тонттила — и то посещение его дома — танцы — и еще что-то, от чего мысли усердно старались улизнуть, а оно все время угрожало приблизиться… Теперь мысли убежали к белому изящному соцветию, которое она положила рядом с собой на подушку. Оно было нежнее, чем какой бы то ни было цветок в тех садах, которые доводилось видеть Силье, и ни один запах в мире не мог сравниться с его запахом.
До чего же чудесно просыпаться так, просыпаться в жизнь и всяческое цветение, которое дает жизнь, просыпаться, когда другие спят, когда всю жизнь до этого она как бы спала — даже бодрствуя.
Немного вздремнув, Силья приободрилась, как и той, первой ночью, которую нынешняя сильно напоминала. И она так же встала с постели и пошла к окну. Но теперь солнце уже всходило, и опять можно было подумать: «Вчера». Однако на сей раз это «вчера» действовало успокаивающе. Раннее утро, когда пробудились лишь птицы да пронизанный солнцем воздух, сообщало, что начался новый день, будничный, хотя и солнечный — по крайней мере сначала.
Девушка вернулась обратно в постель. Она увидела на подушке цветок, который немного привял, а утренний свет придавал ему желтоватый оттенок. Девушка взяла цветок, немного укоротила его стебель и заложила цветок между страницами какой-то книги. И к ней пришел сон.
_____________
Так прошло начало лета. Наступил период, когда ночи почти не было, а казалось, будто небеса на миг переводят дух при переходе от вечера одного дня к утру следующего. Молодые счастливые люди обходились почти без сна, им достаточно было лишь вздремнуть ненадолго, да и еды им много не требовалось. Для многих молодых людей — да и для людей в возрасте — это было последнее прекрасное лето. Всегда ведь есть кто-то, кто живет последнее лето, но с нынешним летом дело обстояло еще необычнее. И это предчувствовали все.
Затем прошел и Иванов день. Но человеческая память стремилась представлять ночи все еще столь же светлыми, и кто-то, сидя у окна, мог, не зажигая лампы, читать полученное вечером письмо, хотя шел уже двенадцатый час ночи. И можно было даже взять письменные принадлежности и приняться сочинять ответ, ибо для такого дела еще достаточно светло, хотя уже почти июль. И светлая ночь была все еще столь многоречива, что дальше начала пишущая не продвинулась. «Пишу тебе великолепной летней ночью…» — и тут пишущая принялась вспоминать далекого друга, представляя себя как раз нынешней ночью гуляющей с ним где-то там, далеко… а тут уж на юго-востоке зарозовел зарождающийся день. Юная барышня приехала сюда на лето, отдыхать, она надеялась получить здесь больше развлечений и этими надеждами обманула своего друга, поскольку надежды не сбылись. И теперь она попыталась написать другу красивый ответ на его письмо. Но тоска помешала ей. Наступало розовое утро, драгоценный день короткого лета и юности, а ночь уже прошла.
Неделю спустя она опять получает письмо, и когда начинает читать его, ее удивляют подкравшиеся сумерки, так что на сей раз нечего и думать о том, чтобы тут же приняться за писание ответа. Листва на деревьях потемнела вместе с ночам и, вокруг старого дома летает летучая мышь.
В окрестностях Рантоо лето было тихим и спокойным, да и из центра волости приходили уже более добрые вести. На полях мелких хозяйств, где работали старые знакомые, сенокос шел ладно. Хозяин пытался держаться веселее обычного, чтобы этим отвлечь мысли — и свои и других — от удручающей действительности.
Лето было в разгаре, рожь светлела, на солнечной стороне холмов уже появились суслоны. Урожай был обеспечен, а это тем летом было немалым делом. Возникало ощущение надежности, и становилось как бы теплее, когда серп с шелестом срезал спелые колосья… Кое-где молодые жнецы, в глазах которых горела та таинственная, пробужденная смутным временем страсть, еще отказывались жать даже минуту сверх договоренного времени, хотя за четверть часа можно было бы полностью закончить уборку ржи в хозяйстве. Но на большинство жнецов такое поведение производило мерзкое впечатление — в столь прекрасный вечер жатвы на старинном поле…
Кухня в Кулмале была маленькой и находилась в северной стороне дома, поэтому у Софии там горела лампа, когда она в воскресенье вечером во время жатвы варила кофе и вообще готовила. На ее; поле шла веселая жатва-толока. Девушки из тех, кто знаком с Софией получше, время от времени забегали перемолвиться с нею, они, мол, беспокоятся, будет ли музыкант и все такое. Кто-то отправляется на велосипеде выяснить это… В кухне тесно, большой кофейник на плите почти в темноте, но София умудряется так внимательно следить за ним, что, когда он закипает, ни капли не убегает через край, только запах распространяется по кухне, впервые за лето освещенной лампой. Знакомая девушка помогает уже накрывать на стол, берет чашки с известной ей полки… Окно открыто, с дороги слышны голоса все новых направляющихся сюда людей, слышно, что и профессор идет сюда. София выглядывает в окно и видит своего двоюродного братца, бодро шагающего рядом с молодым господином из Раухалы. У старины Матти на голове какая-то странная, красная, похожая на чепец штуковина. «А это еще что за турок?» — спрашивает профессора София, встретив его на крыльце. «Есть там еще что жать?» — спрашивает профессор в ответ и направляется в сторону поля, где голоса жатвы сливаются в единую знакомую мелодию толоки в воскресный вечер.
Серпа у профессора не было, но когда кто-то из молодежи засомневался в умении профессора жать, тот выхватил серп из рук ближайшего жнеца и, пыхтя от усердия, принялся за работу ловко и привычно. И оставил позади себя ладный сноп, а вскоре и другой; участники толоки стали смотреть, как он жнет, и тогда он прекратил работу. Старый торпарь, сверстник профессора, сказал, словно бы обращаясь к другим: «С этим человеком мы, бывало, вкалывали и по целым дням — небось профессор еще помнит — на полях Хиллу, тогда, в далеком прошлом, когда он был еще молодым магистром». Конечно, помнит, — и молодой жнец получил свой серп обратно.
— Неужто и ты что-то умеешь? — крикнул профессор молодому господину, который весьма ловко вязал снопы и привычными движениями ставил их на середину надела, где возникал суслон. Это выглядело настоящим чудом, он ведь был горожанин господского происхождения. «И когда это Силья успела тут появиться?» — спросил профессор, увидав девушку, бросившую связанный ею сноп к ногам хозяина, который всерьез сам взялся вязать снопы, заметив, что на это дело никого не определили. В ответ девушка улыбнулась одними глазами. Настроение было возвышенное и счастливое. Кто-то, прервав работу, смотрел в сторону ворот Кулмалы, куда уже входил Ээмили Куккола с гармонью. Вдалеке на дороге показалась профессорская дочь Лаура с девушкой-дачницей из Раухалы. София спустилась со двора на край поля, очевидно, позвать жнецов пить кофе. Некоторые и пошли, но другие остались, работа-то и так близилась к концу. «Не уходите сейчас, пока выпьете кофе и вернетесь, темнеть начнет». Но на крыльце избы кто-то уже перебирал лады гармони, и эти обрывки музыкальных фраз волновали молодежь так, что некоторые были не в состоянии продолжать работу. Под конец София в одиночку подбирала на поле упавшие колосья и поправляла покосившиеся суслоны. Наверху, в избе и на крыльце пили кофе и журчала беседа. Уже и гармонь все чаще начинала звучать во весь голос. Возвращаясь в избу, вдова-хозяйка слышала общий гул разговора в сменяющемся ритме вальса. Она еще обернулась и посмотрела на поле в сгущающихся сумерках, туда, где словно по мановению руки появились ряды суслонов, тихонько вздохнула и затем присоединилась к веселью.
Все двери были открыты, самые стеснительные парни, которые не танцевали, стояли, приплясывая, в сенях, в темноте, София сказала им несколько фраз, чтобы подбодрить. В заднем конце комнаты на лапке сидели профессор и хозяин соседнего хутора, тоже явившийся в Кулмалу. Молодой господин из Раухалы танцевал с профессорской Лаурой, и София остановилась посмотреть на их танец — есть ли между ними что-то, о чем потихоньку шушукаются. Если так, то это вполне могло быть решенным делом, ибо София не заметила, чтобы они вели между собой разговоры или обменивались взглядами. Но вот молодой господин пригласил Силью… Действительно, до чего же хороша эта Силья, особенно при таком освещении, ее глаза кажутся чудесными.
И вправду, чудесным был взгляд ее глаз нынешним вечером. Силья как-то и сама чувствовала это, ведь был лучший праздник жатвы в ее жизни. Не было сомнений ни в чем, она опять чувствовала это по рукам, которые обняли ее и, кружа, как бы узнавали ее талию и спину… Только что этот парень вязал снопы ржи, и остья впились в его пиджак на груди, а от тела его исходил едва уловимый мужской запах. Они хорошо подходили друг другу для танца, там, где было потемнее и потеснее, они, естественно, прижимались друг к другу, и тогда ощущались бугорки грудей, они оба чувствовали их… В музыке наступил перерыв, и было пристойно все еще в обнимку, как во время танца, направиться к двери и выйти во двор.
Красноватая полная луна будто выглянула из-за укрытия, откуда она озорно следила за кем-то. Сперва, только появившись, она была огромной, но, поднимаясь выше, светлела и становилась меньше. Лунному свету придавала неповторимый оттенок темная зелень земли, теплая погода располагала к сближению. Силья Салмелус глядела на все своими темными глазами, лунный свет падал на ресницы и отражался огоньками в зрачках… Принесено было деревенское пиво, люди оживились, каждый замечал лишь своего собеседника. Парочкам было легко исчезать и вновь появляться. К тому же в танцах наступил перерыв, музыкант ушел выпить кофе или пива. Затем он снова взял гармонь и заиграл очень красивый вальс.
Радостное настроение профессора стало еще более приподнятым. Какое-то мгновение он прислушивался к музыке, морща лоб, потом встал и направился к гармонисту. «Дай-кось, я тоже сыграю», — сказал он, уже отнимая при этом гармонь, как давеча на поле отнял у жнеца серп. «Ишь ты, вроде бы и звучит как чужая», — сказал хозяин гармони. Профессор растягивал меха вовсю, он подмигнул оказавшемуся как раз рядом молодому господину, танцевавшему с Сильей, и принялся довольно громко напевать шведскую песенку.
Зала была заполнена танцующими, всем хотелось плясать именно под аккомпанемент профессора. Теперь старик пел уже в полный голос, и играл он долго, до тех пор, пока оставалась хоть пара танцующих.
Силья и Армас не обменялись во время танца ни словом, но они прижимались друг к другу ближе и дольше, чем прежде. «Пойдем…» — шепнул парень на ухо девушке.
Никого не было ни во дворе, ни на крыльце, когда они вышли, — никого, кроме луны, смотревшей на то, что было видно. Стало немного прохладнее, с сухой глинистой проселочной дороги тянуло легким ночным запахом, кто-то шуршал в сумеречной траве, то ли мышь, то ли потревоженный кузнечик. Сенной сарай стоял на бугре, за невысоким кустарником. Никто не видел, как они шли туда, в этом можно было быть уверенными. Профессор, наверное, перестал играть, поскольку с крыльца во двор выплеснулось несколько сопровождавшихся смехом фраз, произнесенных мужчинами, девушки, которые были с ними, не подавали голоса. Все они со двора направились куда-то в сторону родника, никому не пришло в голову пойти в сенной сарай.
Ночь была теплой, за минувшие недели солнце успело зарядить молодежь всей своей летней энергией, кровь пульсировала в наполненных сосудах, и вместе с этим в нервной системе просыпались все заложенные туда природой инстинкты, ведущие и к огорчению и к радости. Прохлада ночи сгустила утомительную жару дня. Молодые пары, посвятившие себя друг другу, стремились к сближению, да и те, чьи взоры только что впервые встретились и зажглись, теперь прогуливались по тихим окольным тропинкам, сторонясь таких людей, у которых, по их мнению, никогда ничего подобного не было и которые по этой причине позавидовали бы им и распустили про них злые сплетни; к подобным относились особенно пожилые бабы и живущие самым тяжким трудом мужчины средних лет… Сотни и тысячи пар прогуливались так, украдкой, и не ведали, что творят. Ибо, выполняя грубое повеление природы, их души погружались в глубокий и по-детски чистый полусон. Одинаково действовали эти определенные мгновения и на грубого, сквернословящего батрака, заполучившего в товарки птичницу из имения, и на чистого, высокородного юношу, в объятиях которого раскрылся из бутона чистосердечный и невинный человеческий цветок. Никто из них и не думал в те мгновения, к чему стремилась природа, направляя их таким образом. Это была для них лишь жизнь, лучший аромат юной жизни — вплоть до крайне примитивного начала события. Едва же оно совершилось, природа как бы устранилась, последующие настроения ее не касались. Пара могла усыплять на миг друг друга в объятиях, задернуть занавесь между случившимся и начинающимся вскоре светом будничного утра.
— Пойдем еще танцевать, — сказала Силья, пылко прижимаясь к руке любимого.
— Вряд ли там кто-нибудь еще есть, — ответил на это молодой человек несколько прохладно.
Они пошли во двор. С крыльца сошел молоденький, утомленный выпитой брагой участник толоки с мерзкой гримасой на посеревшем лице. Парень поспешно скрылся из виду. Тут показалась и София и крикнула Силье и ее спутнику, что посудина с брагой там-то и там-то, она больше не хотела, чтобы брага была доступна всем, а то несколько молоденьких парнишек уже налакались. Пусть пьют теперь простой квас, но для вас там осталось, пойдите и выпейте.
Они и пошли, было приятно, что им вместе доверили такой секрет, хотя и маленький. Сама того не замечая, Силья все еще висела на руке молодого человека, словно и не думала отцепиться, да и он не осмеливался отстранить ее, трепещущую. К тому же тут и некого было стесняться. Профессор, и Лаура, и дачники из Раухалы — все уже ушли. Уходя, они поискали взглядами Армаса, но подумали, что он уже ушел раньше.
Силья пила брагу с азартом, ее настроение все еще было на подъеме. Протягивая другу кружку с брагой, она так жадно впивалась в него горящими глазами, что юноше казалось, будто он под ее взглядом становится меньше. Гармошка в доме разразилась новой полькой. Они пошли танцевать. Сквозь пыль была уже различимой розовость утренней зари, пальцы музыканта, случалось, путали клавиши, а те клацали гораздо громче. Один совсем молоденький батрачок, усердно плясавший всю ночь и ничуть не пьяный, все еще продолжал танцевать, хотя его пристяжной воротничок пропотел, скомкался и слипся. Парнишка приглашал всех женщин по очереди, вежливо просил и Софию. Пригласил и Силью. Армас смотрел на их танец и был необыкновенно растроган — этот парнишка оказался истинным джентльменом, ведшим себя безупречно.
Когда Силья освободилась, Армас показал ей жестом, что пойдет еще к известной посудине, хлебнуть браги, и Силья последовала за ним. В глазах девушки глубоко горел огонь, и она не произносила ни слова, у молодого человека бело сверкнули передние зубы, когда он, выпив браги, облизал губы.
— Ну, а теперь, Куккола, сыграй-ка профессорский вальс! — крикнул молодой господин ненужно громко.
Зазвучал вальс, и все присоединились к танцующей паре. Две немолодые скотницы, которым не хватило кавалеров, танцевали вдвоем. Они буквально чванились тем, что еще не спят. Для них было достаточно захватывающим, уйдя отсюда и не поспав ни минуты, пойти прямо на скотный двор и выдоить коров, а затем, когда солнце будет уже высоко, выгнать стадо на знакомое огороженное пастбище через знакомые покосившиеся ворота по старым, оставленным коровами следам.
Когда «профессорский» вальс кончился, эти-то скотницы как бы и подали знак к окончанию всего. Они взяли свои полушалки и пошли прочь так, чтобы все это видели, за компанию с ними отправился и тот батрачок-джентльмен. На этом танцы кончились. Ээмили Куккола еще немного поглазел, но затем собрался уходить. Перед уходом София повела его еще выпить браги. День занялся ясный и яркий, пыль и песок на полу были уже ясно видны рядом с местами, оставшимися чистыми.
Когда вышли из избы, стал еще заметнее уже начавшийся день, вернее, раннее утро, что является даже более точным определением, чем «день». Казалось каким-то совсем далеким то время, когда тут был профессор, барышня Лаура и те дачники из Раухалы. Они как бы больше совсем не принадлежали к этому миру Кулмалы, который теперь воцарился тут и казался уменьшившимся и гораздо более близким. Во всяком случае, Армас подумал об этом в то время, как девушка все смелее висела у него на руке.
С ними обоими такое происходило впервые. Правда, юноша и прежде, в других ситуациях, танцевал с многими девушками, и многие из них гуляли с ним, опираясь на его руку, но ничего подобного сегодняшнему там не было. Силья же этой ночью ничего не взвешивала, ее несло дальше по обрамленной цветами дороге жизни, именно сегодня ночью она поднялась на вершину ее и мчалась все быстрее. Душу ее наполнял огонь чувства, и наряду с этим тело ее испытало нечто непредвиденное, удивительное, нежное, вызывающее боль — что-то, от чего теперь нельзя было отказаться, да и не хотелось, нечего было стыдиться, не от чего было отказываться — до тех пор, пока можно держаться за эту руку, до тех пор, пока можно вот так доверять полностью, доверять…
До момента, когда каждому из них обычно нужно было вставать с постели, было еще несколько часов. Силья мечтала, что они еще могли бы побыть где-нибудь в спокойном месте, посидеть обнявшись, все больше сближаясь. Это нечто новое и удивительное еще притягивало ее. Это было что-то такое, что она раньше лишь предчувствовала, не такое, о чем она слыхала во многие будничные моменты своей жизни, оставляя услышанное без особого внимания и никогда больше о нем не раздумывая; то услышанное стекало с нее, как вода с вынырнувшей утки. Итак, переживания этой ночи не имели в ее сознании ничего общего с чем-либо слышанным ею раньше. У них не было ничего общего ни с прошлым, ни с будущим, они были переживаниями лишь этой восхитительной ночи, и все, что было досель, было для этого, а что будет после — представить себе невозможно.
— Пойдем еще туда, там красивая скала.
Они прошли мимо одиноко спящего хутора. Силья знала дорогу. Они обогнули сад, взобрались вверх по крутой скале, при этом поддерживать друг друга было естественно, вышли к кузнице и от нее пересекли пастбище у дома — пока за кустарниками не открылось их взору неширокое озеро, тут скала резко обрывалась к берегу. Отсюда можно было почти дотянуться рукой до верхушек елей, растущих у воды. В противоположный берег врезался узкий заливчик, и со дна его как раз всходило солнце. В этом-то пейзаже колдовство природы и объединило их — две игрушки судьбы. Место было известно девушке, сюда она и привела любимого своего этим ранним утром, когда жизнь, которую она вела до сих пор, бесповоротно ушла в прошлое, как бы все ни сложилось потом.
Было облегчением сознавать, что здесь полный покой; никто даже случайно не мог прийти сюда в такое время. Лишь солнце, поднимаясь, видело все. Молодой мужчина и эта девушка — молодая женщина — теперь уже знали, что случится тут с ними. Не было ни сомнения, ни страха, ничего — кроме свершившегося чуда соединения двух жизней в одну.
Им никогда не дано будет узнать, видел ли кто-нибудь из Раухалы или Рантоо, как они возвращались вдвоем. Рантооская барышня Лаура, которая действительно видела их, обладала слишком гордым характером, чтобы рассказать об этом кому бы то ни было.
Однако же, когда утром стало совсем светло, обычно такая чистая и домашняя атмосфера в Рантоо словно бы как-то замутилась. Даже профессор как-то сник, сам старик объяснял это тем, что отвык бодрствовать за полночь, да еще прикладываться к браге, и оттого долго не мог уснуть. Во время завтрака в тот самый момент, когда Силья принесла что-то из кухни и подавала на стол, барышня Лаура рассказывала небрежно-медлительно, что молодой господин Армас — именно эти слова произнесла барышня — уезжает сегодня дневным пароходом. Блюдо в руках Сильи чуть дрогнуло, но столь незаметно, что никто не смог бы утверждать это. Возможно, шаги Сильи, когда она возвращалась в кухню, были чуть быстрее, чем обычно, торопливее, что ли, но дверь стукнула громче, чем всегда, и из кухни ничего слышно не было.
Это-то и явилось, пожалуй, самым примечательным, что из кухни не доносилось ни звука, в то время как нужно было прислуживать за столом. И когда из столовой послышался звон колокольчика, Силья, как во сне, пошла туда с пустыми руками, хотя то был сигнал подавать на стол очередное блюдо.
— Неужто и ты не отоспалась после танцев, как и я? — поинтересовался профессор.
— Ничего удивительного, ведь часа в четыре только вернулась, — услышала Силья голос барышни Лауры, отвечавшей отцу.
— Да-а, не будь это первым балом Сильи, я бы выразился покруче, ну да ладно, — сказал профессор.
На это барышня Лаура ничего не ответила — разве что молчанием, которое было красноречивым.
Силья ясно ощутила, что ее жизнь в доме Рантоо никогда уже не будет такой, как была до сих пор. Даже останься она тут, жизнь не станет прежней нив каком смысле. А сейчас чем скорее она сможет выйти из столовой и оказаться в одиночестве, тем лучше. Во время мытья посуды после завтрака ей это удалось.
Тогда оказалось возможным наряду с работой погрузиться и во внутреннее созерцание, которое как бы обволакивало всю ее, так что она ничего не ведала и не чувствовала, просто существовала, и только. Казалось, откуда-то со стороны кто-то нашептывает: с тобой, девчонка-бедолага, случилось именно то, что там, в обыденной жизни, случается со многими другими, о чем ты сама слыхала не раз; совершенно то же самое случалось с теми другими — и затем мужчина исчезал. Также исчезнет и этот, он не хочет больше видеть тебя, может быть, и боится… Последствия, Божья воля, — каковы они? Беда, беда, словно кричал некий голос рядом в перестуке ложек. Он кричал и кричал — и другое, такое будничное: сколько нужно ждать, чтобы знать наверняка… Все ее девичье существо, то, каким оно было до сих пор, как бы окаменело, и она стояла ошеломленная, опираясь на стол для мойки посуды, а перестук ложек пробуждал и высвечивал вспышками в сознании все новое и новое… Армас, Армас, где ты? Приди на помощь, чтобы не погибла я в этой копоти.
Но ведь Армас сказал этим людям, что он сегодня уедет, уже через два часа он будет ехать куда-то — куда? — об этом у Сильи не было никаких сведений, ей и в голову не приходило спрашивать о таких вещах. Как же он мог не сказать Силье о своем отъезде тогда, там, на покрытой мхом каменистой постели?
И тут она увидела его, он приближался к Рантоо и уже, пройдя ворота, вступил во двор. Конечно, не мог же он войти в дом через дверь кухни, он шел к парадной двери. Его красивый профиль мелькнул за окном кухни. Он выглядел бледнее обычного, на нем была дорожная шапка и костюм был другой. Лицо его было не таким веселым, но все таким же чистым, как и раньше.
Господа приняли его в большой гостиной. Из прохода между гостиной и кухней Силья могла разобрать, о чем говорили, даже не особенно прислушиваясь. Вечером пришло письмо, как раз когда он танцевал с девушками, что мать его тяжело заболела. Он вынужден уехать. Пароход будет через час.
— Как думаешь, вернешься еще сюда? — спросил профессор.
— Там видно будет, как оно все повернется.
Затем, распрощавшись со всеми в гостиной, он словно бы вспомнил еще что-то. Было слышно, как он сказал: «Да-а, надо же мне и с Сильей попрощаться», — и уже он шел в кухню.
Он успел увидеть влажный, горящий взгляд и знакомую, милую фигурку, которая шмыгнула за кухонную дверь и устремилась в погреб. Мужчина поспешно вернулся в гостиную, говоря, что девушки не видно, может, Лаура передаст ей его привет. Лаура странно улыбалась, она была совсем близко, но смотрела мимо него и ничего не ответила.
Вот так сей молодой господин покинул Рантоо, и после этого о нем не было слышно до следующего лета, когда и о многих других господах услышали те же невеселые новости. Барышня Лаура — на основании того, что она видела под утро из своего окна, — считала сообщение о болезни матери выдумкой: просто этот мужчина хочет уехать. Но позже, услыхав, что через три недели после отъезда Армаса из Рантоо его мать действительно умерла, Лаура устыдилась своих подозрений, хотя никому о них не говорила.
А Силья — та, что осталась носить все случившееся в ту ночь в душе и теле своем, — упустила свое счастье, убежав тогда в погреб. Тот явившийся прощаться, отбывающий джентльмен был далекой тенью того любимого ею юноши, с которым она гуляла в вечерних сумерках среди цветущих кукушкиных слезок и в конце концов стала близка в розоватом свете зари на моховой постели. Когда Силья услыхала доносившийся из гостиной его голос, у нее инстинктивно возник страх. Душа ее в смятении, как бы спасая все обретенные ценности, обращалась в бегство от каждого приближающегося. Вся эта вилла, явившаяся было для нее домом ее далеких мечтаний, а в этих сокровенных вещах чем-то большим, сделалась теперь словно бы обыкновенным грубым домом, где хозяин ругается, хозяйка зевает, а деревенские парни и мужики спят со служанками. Этот показался даже еще хуже — потому что он был сперва таким хорошим. Силья чувствовала, что ей надо скорее выйти из дому, здесь она с каждым мигом чувствовала себя все хуже, потому что с каждым мигом усиливалась и ширилась новая жизнь ее души. Невозможно было подавить это, ибо тогда загнанное вглубь прорвалось бы наружу в крике. Силья чувствовала, что не может совладать даже с глазами. Когда господа отправлялись провожать отъезжающего, барышня Лаура заглянула в кухню и увидела там Силью, служанку. Силья не смогла сдержаться и посмотрела на барышню в упор. В этом коротеньком взгляде была просьба о помощи и поддержке, но в то же время и презрение. У Лауры вырвалось невольное: «Оох!» — и ее взгляд в свою очередь выразил, с одной стороны, восхищенное, почти завистливое изумление, но и одновременно глубокую неприязнь. Так две молодые и сугубо чувствительные женские души познакомились в тот миг окончательно и незабываемо.
К счастью, София пришла как раз тогда, когда Силья осталась во всей вилле одна. София была такой же спокойной и доброжелательной, как и всегда. И она принялась по-свойски подзуживать Силью тем, что сама заметила ночью во время танцев. Она с пониманием следила за выражением глаз девушки и действовала как обычно. Но она не на шутку изумилась и прекратила свои подначки, узнав, что молодой господин именно в сей момент всходит на борт судна. Только то и сказала Силья, не упомянув о болезни его матери, хотя и слыхала про это. Она догадалась о ходе мыслей Софии и, как бы немного наслаждаясь этим, позволила себе показать, что на душе у нее тяжело. Во всяком случае сочувствие Софии было на стороне Сильи.
Силья едва сдерживалась, чтобы не заплакать, прося Софию подменить ее этим вечером, ей, мол, непременно надо сходить в соседнюю деревню, у нее дело к портнихе и кое-что еще… София даже слишком поспешно согласилась: «Иди, иди, девчушечка, будь там хоть до завтра, уж я тут похлопочу, мне не привыкать, — иди себе…»
— Тогда я прямо сейчас и уйду, пока они не вернулись с пристани.
София смотрена на девушку все дольше, как на что-то хорошо знакомое, как на повторение чего-то из своей молодости. У нее пробудилось почти материнское чувство к этому беззащитному ребенку. Хотя она не думала плохо и о том, находившемся на причале, уезжавшем отсюда. Она не могла подумать, что этот молодой человек оставит столь красивую девушку на произвол судьбы — но если есть опасность, что так может случиться, то она, София, поговорила бы серьезно с Матти, профессором, уж он тогда наведет порядок. Хуже всего обстояло дело тут все-таки с Лаурой, хотя никаких отношений с молодым человеком у нее и не было, это теперь ясно.
Силья ушла. Провожающие, вернувшись, сперва удивились, потом им вроде бы стало неловко. Старого Матти-профессора никто не мог обмануть в подобных вещах. Что-то пробурчав, он напустил на себя усталый вид, как бы предупреждая, чтобы не вздумали ему ничего объяснять, поскольку не им просвещать его, как он обычно говорил. Он поднялся наверх, в ритме его шагов слышалась просьба не беспокоить. Вскоре он с портфелем и рыболовными снастями шагал к озеру. Это был его обычный маршрут, когда дома случалось что-то, что ему не нравилось. И он оставался на озере несколько часов, а вернувшись, столько же проводил у себя наверху, занимаясь исследованиями, пока не наступал черед сауны и затем ночного покоя.
Что же до Лауры, то с ней Софии предоставлялось право действовать по собственному усмотрению. Барышня Лаура дала понять старой родственнице, что хочет избежать разговора о настроении какой то служанки и не желает слышать никаких намеков, кто да как танцевал с Сильей минувшей ночью. Барышня казалась довольной собой, и на лице ее было то несколько отсутствующее выражение, которое может означать что угодно. Словно бы у нее насчет всего были свои планы и словно бы все пошло именно так, как она планировала. Предложение Софии насчет ужина она приняла, но с какими-то незначительными замечаниями — чтобы не думали, будто и ее мысли в расстройстве из-за всего случившегося.
Был августовский совершеннейший летний день, но самой кульминации его никто, пожалуй, на вилле Рантоо сегодня не заметил.
Все же нашлась одна из жительниц Рантоо, увидевшая этот дивный день от его кульминационной точки до вечернего зарева, ибо он был единственным ее товарищем с того момента, как она сошла со знакомых тропинок лета. Силья бесцельно брела по солнечной жаре, стремясь лишь куда-нибудь повыше, откуда бы поверхность озера была видна как можно дальше. Позади знакомых построек на краю деревни высилась гора, где землю покрывала низкая пожелтевшая трава, в которой там и сям тянулись протоптанные скотиной тропинки. Вполне можно было и сойти с тропинки, земля была голой и ровной, и дышалось здесь, в этом воздухе легко. Оттуда-то она и увидела, как пароход взял курс на юг, а господа Рантоо возвращаются, проводив гостя; знакомый красный зонтик барышни Лауры алел, словно сорванный ею у дороги огромный цветок, которым она покачивала. Она шла немного впереди других… А там, на озере, судно все удалялось, как обычно каждый день в этот час, но сегодня казалось странно-торжественным — будто на сей раз на палубе были не те же простые, покуривавшие трубки мужики и парни-плотогоны. Силья оторвала взгляд от судна, огляделась, прислушиваясь, вокруг, словно готовясь к чему-то, и опустилась на краю поляны на траву, легла на спину, откинув голову назад, так что солнце светило ей в лицо.
Окружающий покой словно хлынул в ее сознание. Здесь, высоко, среди искривленного кустарника, не было ни одного существа, на котором вот так обратившийся в бегство человек мог бы остановить внимание. Ни одного гнезда не было среди веток или в пожелтевшей траве, ни одна пичуга не прилетела и не возопила человеку о своей беде, ни на одном стебле не было цветка, чтобы привлечь голубую бабочку. Были одни лишь листья ольхи, темные сверху, сероватые снизу и не знающие своего предназначения. Этим ольхам никогда не удавалось расцвести, едва они достигали высоты человеческого роста, их сразу же обламывали на подстилку скоту или для заполнения навозных ям. Эти ольшаники не цвели никогда, они лишь давали новые побеги от корней, новые ростки.
Где-то на этой горе паслись и коровы, и телята, и, может быть, даже несколько овец. Но сейчас не звякал ни один колокольчик. На западном склоне было несколько источников, там росли гибкие березы, там ольшанику удавалось, собрав все силы, пойти в ствол, и в кроне его весной висели сережки частичками старинного золотого ожерелья. Над ними тогда вилась пыльца, а зимой чернели продолговатые шишечки из-под семян… Там-то теперь и лежали коровы, наевшись сочной травы и напившись вкусной воды из родников, лежали, спали и накопляли в вымени душистое молоко, которое будут пить детишки в избах и пахтать бабы — в тех жилищах, где нашедшие друг друга крепкие пары человеческие живут и плодятся.
Солнце светило в лицо той одиноко лежавшей молодой женщины так горячо, что она, задремав, повернулась наконец на бок, но тут же почувствовала холодную дрожь и инстинктивно попыталась как бы обнять кого-то. Она обхватила сама себя и сжимала все сильнее, тело ее вытянулось, даже изогнулось назад, она громко застонала… Ведь вскоре наступит вечер куда же ей идти и с кем? Она уже не может быть одна — после той ночи. Куда, куда же ей идти?.. Она никого не знает, да если и знала бы многих, она ведь ни с кем не смогла бы пойти — туда… Ни с кем другим, кроме того, который уехал.
Любой, кто шел бы этой коровьей тропкой и увидел ее там, испугался бы. Но по-прежнему не шел никто — даже корова или овца. Женщина боролась и боролась с собой, пока в конце концов не разразилась неудержимым плачем, который длился лишь миг. Затем плач стих. День уже заметно склонялся к вечеру, девушка приподнялась, опираясь на локоть, и на лице ее — в поблескивании румяных щек и расширенных темных зрачках — появилось опять покойное, отчасти экзальтированное выражение. Все прошло, и она чувствовала, что начался новый период жизни. Теперь нужно лишь разумно скрывать новое свое состояние, чтобы оно не рассыпалось от чужих прикосновений.
И все сохранилось, нынешний вечер угрожал стать гораздо более головокружительным, чем был вчерашний. Когда она наконец поднялась на ноги и пошла — в ту сторону, куда опускалось и солнце, — она чувствовала сильный озноб и головокружение. Она обошла гору и вышла на западный склон, где били источники. Она нагнулась и, зачерпывая горстью, стала пить холодную, как железо, воду, которая приятно освежала ее пересохший рот, но при этом вызывала еще более сильную дрожь от озноба. Теперь она чувствовала, что ей надо скорее в постель. Что ж теперь с нею будет? Вернуться в Рантоо? Нет, ни при каких условиях! Уж лучше улечься у корней того дерева… Но усиливающееся мучительное состояние вынуждало ее все же брести дальше, пока она не увидела внизу крыши Кулмалы, впервые — с этой стороны. Там по крайней мере должна быть дома Лайни.
Силья спустилась к воротам, где скотина Кулмалы уже дожидалась вечера. Оказавшаяся во дворе Лайни видела удивительное появление Сильи и смотрела во все глаза, как она без обычного разговора, затеваемого по приходе, устремилась мимо нее в дом. И Лайни не придумала ничего лучше, только задавала вопросы: «Как это ты пришла с той стороны? — Где ты была? — Разве ты не из дома? — Разве ты не видела матери?» — «Видела я ее, видела, и там была я, но теперь дай мне чего-нибудь — есть у тебя молоко? — подогрей его — я плохо себя чувствую».
Девчонка все же никак не могла приняться за дело — это же ужасно странно, что Силья вот так пришла оттуда, с горы. Девчонка все продолжала расспрашивать и допытываться, Силья сказала устало: «Перестань», — и бессильно вытянулась на той кровати, на краю которой сидела вчера в перерывах между танцами. Теперь ее била сильная дрожь, и она пыталась натянуть на себя постельное покрывало. Глаза ее были закрыты, изо рта, прикрытого рукой и покрывалом, вырывался иногда громкий стон. Теперь и Лайни уразумела, что ей больше ни о чем не стоит расспрашивать Силью. Оставив ее, она подалась в Рантоо за матерью. Однако же, идя через двор Камраати, девчонка успела поведать о странном происшествии тамошней хозяйке; когда София спешно вернулась из Рантоо домой, хозяйка Камраати была уже в Кулмале, в избе и торопливым шепотом принялась объяснять, что успела заметить за это время у Сильи. «По-моему, у нее с головой не в порядке, ничего не понятно, что она хочет сказать; что-то про жатву и снопы, что, мол, конец надо сунуть под перевязку и нельзя оставлять торчать». — «Нет, оставьте все-таки просто так, дайте я сохраню это, — сказала тут Силья и, открыв глаза, посмотрела на Софию, хозяйку Камраати и Лайни. — Нет, с головой у меня в порядке, но у меня ужасный жар — и мне холодно», — добавила она.
— Что же мне теперь делать? — запричитала София. — Ведь в таком состоянии ее никуда везти нельзя.
— Позвольте мне побыть здесь, прошу вас, Бога ради, получите и вы то, что просите, — не могу я туда пойти, София, миленькая.
— Неужто у нее душевная болезнь? Уж не привезти ли пастора? Если она теперь помрет без покаяния, нам вечно мучиться…
Уже и профессор торопился сюда по дороге и прошел прямиком в избу.
— Девчонка-негодница, до чего дотанцевалась, дайте-ка я ее потрогаю — ого, какие пары развела! Говорила она что-нибудь?
— Несла что-то непонятное — хозяйка предлагала привезти пастора взглянуть на нее.
— Вот-вот, а заодно уж кантора-псаломщика, у этого и нет иного дела, как ждать трупа — неделями — да и заплатить за место на кладбище, и за похороны, и за колокольный звон… — съязвил профессор, и вышло злее, чем он того хотел.
— Да-а, не всякому можно так мало заботиться о душе своей, как профессору, который надеется на мирскую мудрость.
— Ну оставьте хотя бы другие души в покое. Здесь-то надо поспешить с телом, так что хозяйка уж наверняка обречет себя на муки вечные, если не поспешит домой и не пошлет оттуда батрака, этого Таавети или Йеробеама или как там его, чтобы привез лекаря. Я заплачу.
Встревоженный, но уверенно действовавший профессор приготовил все, что нужно, для компрессов и сам принялся ставить их Силье. Девушка доверчиво обхватила старика за шею, пока он, и сам немного постанывая, накладывал компрессы на обнаженную верхнюю часть ее тела. Вскоре все было уже сделано, булавки застегнуты и девушка накрыта одеялом. Она, похоже, успокаивалась и вроде бы погружалась в сон.
Бабы смотрели растроганно, и хозяйка Камраати, несмотря на недавнее препирательство с профессором, не удержалась, чтобы не шепнуть какую-то пословицу насчет того, что добрый — он ко всем добр. Профессор еще легонько коснулся лба девушки и велел оставить ее в покое. Он и сам утихомирился и жестом показывал Софии и хозяйке Камраати, чтобы те удалились. Однако в передней он сказал:
— И вот что, София, не пускай туда баб каркать, самое важное лекарство для нее сейчас — покой. Держи чистую воду и цельное молоко под рукой, если она, очнувшись, попросит пить. Компрессы не снимай, пока врач не приедет, тогда уж он пусть делает, что знает.
И вскоре профессор уже удалялся по дороге, шагая опять-таки в соответствующем ритме, — по тому, как он шел и где при этом были его руки, человек знающий мог определить, в каком настроении шествует своим путем профессор. Теперь левую руку он сунул в карман пиджака, правую заложил за жилетку, а голову держал как обычно. Настроение у него было явно не из худших, он испытывал некоторое удовлетворение, старая кровь его как бы разгорелась и без вина тем, что ему вполне удалось оказать человеку помощь, молодой, хорошей, красивой, беззащитной девушке… Приступ болезни тяжек, но девочка выдержит — я послал рукой ее мозгу приказ, чтобы выдержала, — рассуждал старик, шагая, и улыбался, посмеиваясь над своей уверенностью.
Сознание Сильи будто бы уплывало от нее на странных волнах в холодный морской простор, красками которого были лишь синяя и золотая. Вдалеке маячила гавань отправления, вчерашняя косовица, и вечер, и приход на танцы, и все это было чем-то единым… Вскоре она опять лежала в утренней прохладе, кто-то сжимал ее так, что в правой стороне груди неприятно кололо. «Не так сильно, милый», — различила София, осторожно пытаясь разбудить Силью для врачебного осмотра. Доктор стоял и ждал, вид у него был серьезный, и София застеснялась, что Силья сказала так, но этот чужой господин, похоже, и не заметил, он лишь делал, что положено, а Силья дрожала сидя…
Ей было лучше, когда профессор вновь пришел какое-то время спустя и принялся менять компрессы. Тогда эта комната все больше напоминала комнату в старом доме, там, возле Микколы, а профессор был как отец — вот-вот появится лунный свет и будет слышно потрескивание мороза… Но ведь на улице лето, там, перед домом, мыс, в конце которого березняк, сейчас красивая и мягкая воскресная ночь, какой-то молоденький незнакомый парнишка плывет в лодке по озеру… Сменив компрессы и опуская Силью обратно в постель, профессор заметил, что она почти намертво вцепилась в его шею. Теперь свой тайный приказ выдержать он послал нервам и подсознанию Сильи уже тогда, когда голова ее лежала на его левой ладони, а правая ладонь ощущала, как в груди девушки колотится сердце.
Уже со следующего дня состояние Сильи изменилось. По утрам она была в полном сознании, видела и понимала, что лежит в большой комнате в Кулмале, и старалась съесть и выпить то, что ей давали. Но вечерами и ночами она пребывала в сине-золотой стране, где острова золотые, поверхность воды — голубая, как самый красивый шелк, и небо тоже. Там она плыла вперед, являлась куда-то, где ее очень уважали, где людей с ее парусника как бы заслоняли некие существа, которые почитали ее. Она искала их короля, и ее проводили к нему; поклонившись и сделав глубокий книксен, она посмотрела туда, куда ей указали, но увидела лишь смесь золотого и голубого, будто горевшую в том месте, которое было королем. Тогда она попыталась снять туфли, но какое-то существо рядом с нею указало на ее ноги, и она сама увидела, что уже босая. И ноги ее были совершенно здоровыми и белыми, хотя она думала, что у нее на правой ноге небольшая шишка, и стеснялась этого… Но теперь, увидев красоту своих ног, она набралась смелости и сказала королю, который был лишь горящей смесью голубого и золотого: «Смотри, я такая, какой ты меня сделал, не я ли — молодая лоза винограда? Не цвету ли я? И не принадлежит ли мне мой друг? Он держится за этот побег лозы, который есть я, и целует цветок, который таится во мне, — его дыхание придает мне силы, его душа остается в моем цветке…»
София пыталась дать Силье прописанные врачом лекарства. Силья проснулась в полном сознании. «Во сне я была в передвижной школе — или в конфирмационной? Кто-то произносил проповедь». Лицо Софии было весьма озабоченным, ведь такие речи — знак неутешительный. Что же делать, Матти ведь запретил всякие разговоры о делах душевных — «твоя душа, даже когда ты поешь в церковном хоре, не столь чистая и зрелая, как у Сильи». Но тут же Софии пришло что-то на ум — ей наверняка не повредит, если я прочту из Псалтыря какой-нибудь красивый псалом. И она спросила, что Силья думает об этом. Больная ничего не ответила, но, увидев в руках у Софии большой Псалтырь, воскликнула: «Только не читайте про эту ужасную гибель Иерусалима!» — «Да про это я, дитя милое, и не собиралась». Силья закрыла глаза и выглядела страдальчески, у Софии пропала охота читать, и она больше не повторяла своего предложения. Но в следующем забытьи Силья видела что-то сине-серое и там — своего отца, недоуменно, почти противно улыбающегося и рассказывающего что-то о ней, Силье. Затем он увидел ее взгляд, отпрянул и как бы отпустил ее, и она двинулась туда, где бывала обычно.
Однажды под вечер Силья рассматривала свои прозрачные руки и вспомнила свое имя и что кто-то назвал его красивым — однажды под вечер, приняв лекарство, она находилась в спокойном состоянии. И слух ее обострился: она услыхала голос Софии, хлопотавшей во дворе по хозяйству. Ее речь была краткой и деловитой, София довольно строго поучала дочь свою, Лайни… Силья услышала и как мимо проезжала по дороге телега и на слух определила, что она нагружена зерном, это было легко определить по тяжелому, приглушенному поскрипыванию колес… На задней стене комнаты тикают часы, дорогие, новомодные часы с выточенными и отполированными украшениями, и они идут утомительно медленно… И день — наверняка который уж день — с тех пор, как она пустилась в путь. Когда же она вышла? Разве не в ту воскресную ночь, — и день — незадолго до смерти отца? Да, тогда она и уехала, но двигалась ли она вообще-то, коль теперь лежит тут, в отличие от всех других, тоже пустившихся в путь: Софии, хлопочущей по хозяйству, крестьянина, везущего на телеге зерно.
Все кажется какой-то ошибкой, каким-то заблуждением… Комната показывает свои стены и вещи, их сработал дедушка Софии, это Силья слыхала от профессора, и в этих стенах рожала мать профессора… Будет ли и у меня когда-нибудь своя изба? Ведь у меня есть муж, и я его жена, поскольку была с ним… Но где же мой муж? Нет, нет, им не может быть тот, который уехал. Он танцевал со мною всю ночь и любил меня всей любовью, как и я его, — но он был большой и могучий, а тот, что уехал, выглядел худым и бледным.
Огромная волна тоски захлестывает все существо девушки, она и не знает, о чем тоскует, лишь чувствует в душе что-то, что так мучительно стремится осуществиться — коль уже однажды пошло этим путем. Ужасно, что ушедшего не вернуть. Если бы она вернула его обратно, то прижала бы к себе так, что ничего, даже мысли, не поместилось бы между ними. И не было бы ни муки, ни боли. Она бы просто лишь существовала, и в этом было бы все.
В тот вечер София пришла в Рантоо и сказала двоюродному брату, что больше не решается брать на свою ответственность уход за этой девушкой, ибо она то и дело бредит, мучается и, видать, долго не протянет.
— Погоди-ка, — сказал профессор — Когда она заболела? Ах, тогда, — да-да, с тех пор прошла неделя. Я постараюсь найти тебе помощницу. А теперь иди и давай ей все, что велено.
И затем Силья в последний раз побывала там, где пылало золотое и синее. И опять она хотела попасть к королю, который не был ничем иным, как лишь сияющим пламенем в той удивительной стране. Теперь в этом горении виднелось и что-то красное, темно-красное, будто сгустки крови. И опять ноги ее были здоровыми, белыми и чистыми, словно у только что выкупанного ребенка, и она шла к королю… Но это теперь и не был король, ибо то пламя угасло, и из-за него слышался знакомый нежный шепот, и невидимые руки опять обхватили ее: «Я здесь, это моя душа, но возвращайся еще раз на землю и жди меня, пока снова не встретимся». И все похолодало и растворилось и как бы слилось в холодное течение. Словно завершился некий спектакль и вновь стало светло как днем.
И действительно, вставало солнце, было тихое, спокойное августовское утро, когда Силья открыла глаза и увидела вокруг себя знакомую комнату. Но бревенчатые проконопаченные стены приветствовали теперь Силью, словно из далекой страны ее детства. У кровати стояла румяная женщина с очень чистым лицом, на ней было синее платье, а на голове какой-то белый чепец. Постепенно Силья поняла, что эта чужая барышня находилась тут ради нее, все внимание барышни было сосредоточено на ней, а то, что Силья очнулась, доставило ей, похоже, большую радость, и хотя она сдерживала ее, но по дружелюбному сиянию ее лица можно было догадаться об этом. Она заговорила с Сильей, как с ребенком: «Будем теперь лежать и радоваться, солнышко скоро поднимется высоко, и для нас настанет совсем новый день».
Сознание Сильи оставалось еще как бы в дреме, и одной половиной его она как бы глядела назад, туда, откуда только что пришла и где так долго полностью пребывала. Сначала она думала обо всем этом не как о болезни, а как о чем-то таком, во что ей пришлось полностью погрузиться летом и оставаться теперь тоже, хотя, видимо, весь ход жизни вел к этому. Закрыв глаза, она еще увидела яркое золото, теперь видение напоминало алтарь церкви, роскошные рамы алтарных картин, радостные номера псалмов на продолговатой дощечке у двери ризницы, которые все казались живыми, когда играл орган. Силья прямо-таки уставилась на эту воображаемую церковную стену — это было не в той церкви, где она конфирмовалась, — это было гораздо раньше, где она шла по центральному проходу с отцом и какой-то тихой женщиной, пожалуй, это была мать. Брат и сестра умерли, их хоронили под звон колоколов, однако из всего этого Силья помнила лишь тот проход через всю церковь. Впрочем, она побывала в церкви и нынешним летом, в церкви этого прихода…
Погода все время стояла тихая. Ярко светило солнце, однако же воздух был столь чист, что далеко разносились все звуки. Случились уже одна-две ночи с заморозками, погасившими летнее дыхание природы, те миллиарды крохотных живых трепетаний, которые каждое по отдельности остаются неслышными, но все вместе наполняют трепетом весь воздух в разгаре лета. Сегодня слышались ритмические удары цепов. Силья спросила у Софии, откуда эти звуки. София сверхусердно объяснила все, что знала о происходившем обмолоте; казалось, своими словами она ласкает и приободряет выздоравливающую девушку, направляет ее вновь к событиям жизни и соединяет с ними. То, что девушка, поневоле оставшаяся здесь, выздоравливает, было великим счастьем.
Днем пришел профессор, о существовании которого Силья совершенно позабыла. Профессор на сей раз не остановился у кровати, а сел на кресло-качалку и тихонько покачивался. Он говорил как обычно, довольно откровенно, но сдержанным и доверительным тоном:
— Да, ты, девчушка-бедолага, была у самых ворот в потусторонний мир, так близко к ним ты наверняка не была с самого своего рождения. Но теперь оставайся пока в постели и постарайся получать удовольствие от еды.
Затем опять все стихло, Силья осталась на миг в одиночестве. Со двора доносилось кудахтанье кур, да иногда подавал голос петух. Мужчина, весь в пыли и остьях, пришел из риги и спросил Софию. Он широко и белозубо улыбался, как негр, он тоже видел, что девушка выздоравливает. Теперь Силья вспомнила, что этот мужчина был одним из главных танцоров тогда… Но измученная память еще инстинктивно избегала возвращения ко всему тогдашнему, она охотнее спасалась теми волшебными путешествиями в страну сновидений, которые по мере выздоровления потихоньку меркли.
Иногда Силья чувствовала, что желает такого одиночества, когда бы не было вблизи никого и ничего из окружавшего ее здесь. Что-то из этого словно сгорело в жаре болезни, и прошлое, казалось, было закрыто пылающим занавесом, в новую жизнь она брала, чтобы начать ее, лишь уцелевшее в том огне. Потому-то Силью и тянуло из этих мест куда-нибудь, где могло бы начаться и ее новое время.
Однако же она послушно выполняла все указания сиделки и как бы лишь ждала своего часа — да она и не знала еще, куда ей отсюда уйти, когда наконец настанет этот час. В глазах была тихая усмешка, унаследованная от отца, чего здесь, правда, не знал никто. В лице, глазах, волосах — во всем облике девушки были теперь особая хрупкость и невесомость, легкий румянец на щеках тоже был каким-то застенчивым. Если бы у Сильи дело явно не шло на поправку, все это выглядело бы весьма подозрительным. И потому София все еще подолгу присматривалась к ней.
Однако наступил день, когда Силья, пройдя по комнате, посмотрела в окно на ставший знакомым за лето пейзаж. И на ржаное поле Софии, с которого урожай уже был собран в ригу. Там-то тогда и жали и вязали снопы… В боковое окно виден был двор, видны были и ворота, и начало тропинки, ведущей — туда, да… Она еще чувствовала слабость, ее почти качало, когда она глядела на золотистое предосеннее небо.
Бывали и облачные дни, и в один из таких дней в Кулмалу пришел профессор, оживленный и деятельный. Он пришел сообщить, что завтра утром они отбывают в Хельсинки, он сам тоже. Как всегда в таких случаях, он попросил Софию прийти за ключами от дома и взглянуть, где, как и что оставлено, чтобы сразу заметить, если там что-нибудь переменится. «Не знаю, что там может перемениться», — сказала София. «Нет, так и ладно, — согласился профессор — Зато я знаю, эта девчонка, она-то изменилась к лучшему». Профессор поднялся со стула и попрощался с Сильей: «Всего доброго, Силья, и спасибо — это твое пребывание у нас было коротким приятным событием, я бы и дальше держал тебя после выздоровления, но я теперь сменю обстановку — ох, ну да побудь здесь у Софии, пока не поправишься, средства у тебя есть, во время болезни расходов у тебя не было. Найди себе потом место где-нибудь в тихом хозяйстве, где сможешь дышать воздухом хлева, это тебе нужно. Будь здорова, милое дитя».
Затем старик ушел восвояси, София должна была пойти следом за ним, когда управится с домашними делами. София успела еще сказать Силье то, на что профессор лишь намекнул: что он полностью оплатил Софии весь уход за Сильей.
Позже вечером, когда София вернулась, она принесла Силье и ее жалованье, из которого ничего не было вычтено. Старик сказал только, будто позабыл отдать его сам днем в Кулмале. Однако же было ясно, что он просто хотел избежать отказа Сильи принять деньги и его бы слишком растрогало ее выражение благодарности.
— Редкий отец так заботится о дочери, как мой двоюродный брат заботился о тебе во время болезни. Но Матти всегда был малость особенным, не таким, как другие, у него и в старости еще кровь горячая, и никто никогда не знает, что у него в мыслях.
_____________
А осень становилась все холоднее, и однажды утром уже выпал иней. Люди наслаждались собранным за лето, их пища была теперь сытнее. Хлеб, молоко, масло, картофель, а также мясо и рыба — все было самое свежее, энергия летнего солнца была даже в корме для скота, а хлеб, который люди пекли из новой муки, был особенно вкусен. Все чувствовали себя уверенно, молодые пары, нашедшие друг друга в летней жаре и завладевшие друг другом, планировали свадьбы. И сама земля набиралась сил, ее крепко унавоживали, и с неба на нее изливалось достаточно влаги, необходимой, чтобы будущей весной все снова начало расти.
И Силье нашлось место службы, какое советовал ей профессор. На другом конце волости находился тихий хутор Киерикка, и туда Силью устроила какая-то баба. Можно было переехать туда сразу, как только стадо поставят на зиму в хлев.
В день переезда, утром Силья сначала отправилась с Софией в Рантоо, чтобы забрать оттуда свои вещи. Пустой дом стоял нетопленный, и там было холодновато. Они обошли все комнаты, останавливались и рассматривали знакомые косяки и углы. София говорила вполголоса и как бы сама с собой, Силья отвечала лишь взглядом, было похоже, что они ходят в пустой, по-будничному тихой церкви. Силья только сейчас по-настоящему прощалась с минувшим летом, здесь уже брало начало то одиночество, какого она, выздоравливая, спокойно ждала, чтобы можно было собраться с мыслями.
Наконец она вошла в свою комнатку, где все было так, как осталось в тот погожий день, день отъезда, день ухода. Когда же это было? Почти месяц тому назад. Сейчас в прохладе комнат легко думалось о днях и неделях, как они прошли на самом деле. Можно было бы вспомнить и месяцы — вспомнить тот далекий вечер начала лета, когда она приехала в этот дом и была тут вдвоем с профессором. Тогда и профессор смотрел на летнюю ночь, был неразговорчив и приглушал голос… Ей показалось сейчас, будто профессору только что пришлось покинуть этот свой дом. Так же, как теперь, в середине дня, придется уехать и Силье.
Ветка рябины, засунутая за дверной косяк, все еще оставалась там, лишь пожелтела лишенная коры древесина и листья засохли. Силья оглянулась, не наблюдает ли за ней София, и затем бросила ветку в свою корзину поверх одежды. На краю комода были ее Псалтырь и Библия, и она помнила, что там заложено, но не раскрыла книгу. Только тогда, когда настанет наконец тишина и одиночество… Каким окажется место, где ей придется спать? По крайней мере, там нет другой служанки — и если нельзя будет ночью жечь лампу, можно будет заглянуть в книги при лунном свете. Как раз теперь начинается полнолуние. А отсюда надо подаваться прочь.
София, услышав покашливание Сильи там, в проходной комнате, стала торопить с уходом отсюда. Она подумала, что Силье — еще слабой после болезни — не здорово задерживаться тут, в холодноватых комнатах. «Не надо напоминать, что мне сегодня же ехать и начинать там служанкой!» — крикнула ей в ответ Силья. София подошла к двери. «Наверное, Силье нынешним летом тут, в деревне, было весело — небось жаль уезжать». — «Чай, и там, в Киерикке, есть свои радости», — немного натянуто ответила Силья. «Но не такие, какие были тут, — даст Бог, настанет следующее лето, тогда Силья сможет вернуться обратно», — говорила София, возясь с чем-то. Но Силья стояла у окна, спиной к Софии, словно остановилась в ожидании чего-то. София, проходя мимо Сильи, не могла не положить руку ей на плечо, на что та резко обернулась, обхватила ее за шею и, казалось, слегка всхлипывает. София поняла все, и сказать ей было нечего, она не отстранила девушку, а лишь снова похлопала ее по плечу. «Не огорчайся, Силья-золотце, всем нам на этом свете суждено свое — ты не одна такая, хотя и останешься теперь поначалу в одиночестве. Благодари судьбу, что еще осталась одна, многим гораздо больше не повезло…»
— Откуда вам знать, как мне… — последние слова она прошептала в складки блузки Софии, прижимаясь, как маленький ребенок, к ее постаревшей груди. «Ну, небось знаю и я — но ты и впрямь уже такая взрослая, чтобы понимать в своих делах», — сказала София очень серьезно. «Ну да… я совсем не о том думала, — всхлипывала Силья, — а вообще обо всей этой жизни…» — «Стоит думать и об этом. Мало ты, деточка, знаешь, какими бывают судьбы в здешнем мире. Только тогда узнала бы, если бы получила на руки то, что я и многие другие получили. Твоя-то жизнь еще сложится — в твои-то годы, ты красивая и добрая, и тебе еще повезет, если только совсем поправишься и окрепнешь». Девушка попыталась еще как-то выразить, что София была добра к ней, а особенно теперь, когда никого не осталось…
— С добрыми легко быть доброй, — ответила София.
Со двора послышались звуки, там вроде бы остановили лошадь, затем София и все еще всхлипывавшая у нее на груди Силья услышали чей-то неуклюжий топот в кухне. Так, внезапно, был нарушен миг их сердечности. София пошла первой взглянуть и узнала в прибывшем хозяина Киерикку. За ней вошла в кухню Силья и увидела нестарого еще мужчину, здоровающегося за руку с Софией. Мужчина объяснил: в Кулмале сказали, что эта девчонка тут, в доме, поэтому-то он и погнал сюда лошадь. Похоже, это она и есть.
— Да, это она и есть, Силья Салмелус, — подтвердила София.
Хозяин Киерикка не пошел к Силье, чтобы и с нею поздороваться за руку, а остановился в раздумье… уж не… не дочка ли это того Кусты, который лишился Салмелуса, который… да, точно, имение же досталось Роймале.
Суровые и тягучие деревенские будни вступили в дом в образе этого обутого в сапоги хозяина хутора. И атмосфера его хутора как бы воцарилась сейчас под этой крышей. Силье показалось, будто по отношению к профессору делается что-то дурное, словно в холодных, опустевших комнатах распространяется какой-то чуждый непозволительный дух и будто на ней тоже лежит часть вины за это. Впечатление тихой пустой церкви исчезло… Но они сразу же и уехали из Рантоо — поскольку там угостить было нечем, София предложила, чтобы завернули на прощальный кофе к ней. Однако хозяин Киерикка сказал, что ему некогда, возьмем, мол, только девчонкины пожитки и уедем. Их взяли и уехали. Уже и Силья была в таком настроении, что ей не хотелось заезжать в Кулмалу.
Хозяин Киерикка двигался немного с ленцой, он явно не привык трудиться каждый день. Голова его всегда оставалась в одном и том же положении, поднимал ли что-нибудь или опускал, а при малейшем усилии дыхание его становилось хриплым. Нос Киерикки был крючком, на горбинке виднелся шрам, делавший ее похожей на нарост. София как-то упомянула, что в старые времена хозяева Киерикка изрядно заносились, но при нынешнем хозяине достатка в доме поубавилось, и живут там теперь довольно скудно.
Вещи Сильи хозяин Киерикка укладывал в повозку неумело, гораздо лучше получалось у него погонять лошадей, было ясно, что это для него привычнее. Правда, вожжи были из обыкновенной пеньковой веревки, да и на бортах повозки там и сям не хватало обивки, но в манере хозяина править лошадью сквозили замашки владельца богатого хозяйства. Он сидел справа от Сильи и, когда въехали в лес, начал разговор, нагловато поглядывая на молчаливую девушку-служанку. «А что, оставил тебе отец что-нибудь в наследство или все спустил?» — спросил он между прочим. «Не успела точно узнать у профессора, в последнее время он занимался этим делом», — ответила Силья. «Да-а, ты барышня утонченная, держишь в счетоводах профессора, хе-хе. Он шустрый еще и на старости лет». — «Конечно», — сразу же и непосредственно согласилась Силья. «И ты, конечно, не оставила это без внимания?» Маленькие глазки снова нагловато покосились на девушку, и шрам на носу стал заметнее. К счастью, Силья не вполне уразумела вопрос хозяина и сопровождавший его взгляд, так что в ее понятии хозяин сначала оставался обычным пожилым хуторянином.
Начались владения какого-то хутора. Колеи стали такими глубокими, что колеса уходили в них по самые ступицы. Возле риги взлетела с криком пестрая сойка — маленький мальчишка потехи ради бросался в нее обрубками веток. «Тут утром резали скотину, — сообщил хозяин, — то-то эти сойки так и разорались». Стоящий возле избенки старик в ответ на приветствие прищурил глаза, пожелал доброго дня и добавил: «Этому Киерикке все бы только девчонок катать — никак не угомонится». — «А Микко, похоже, взялся запрещать другим то, что себе-то позволяет, — ответил хозяин и сказал Силье, когда старик уже не мог их слышать — Вот старый греховодник! Живет себе там со своей полюбовницей и бровью не ведет ни на попов, ни на их проповеди. Знай детишек плодит — еще, пожалуй, волости придется кормить их».
Ехали мимо низкорослых и редких лесков, мимо полей с тонким слоем почвы и непрочищенными канавами, мимо серых обветшалых жилищ, у многих из них или что-нибудь осталось недостроенным, или иной из прорубленных в стене оконных проемов был заделан лишь дранкой. А вот там лет сорок тому назад явно начали строить дом с горницами, но хватило сил лишь на простую избу, в нескольких ее окнах, видать, давно разбиты стекла, и заткнуты они теперь тряпьем или забиты досками. С подобным Силья до сих пор не сталкивалась, она обращалась среди более зажиточных хозяйств. Да и тот хутор, где она с отцом провела свое детство, выглядел совсем благополучным, в сравнении с этими захолустными хижинами в конце грязной и разъезженной дороги. День переселения… До чего же отличалась дорога к новому месту от того майского пути по воде, которым эта же самая девушка приближалась тогда навстречу лету, уготованному ей судьбой.
Неужто и находящееся в таком окружении Киерикка — столь же неприглядное хозяйство? Нет, не может быть, хозяин наверняка просто спрямил путь, проехав через захолустье с жалкими безземельными дворами, чтобы не делать большой крюк по настоящему шоссе. Вскоре они и впрямь выехали на настоящую, посыпанную гравием дорогу, на обочине которой через определенное расстояние торчали, как поднятые пальцы, километровые столбы. И даже два телефонных провода тянулось вдоль этого шоссе. Хотя и тут попалось несколько обветшалых жилищ, но хорошая дорога каким-то образом сглаживала впечатление от их жалкого вида. К тому же из этих изб, по крайней мере, видны километровые столбы и слышно гудение проводов.
Лес начал редеть, чаще стали попадаться дворы и в некоторых из них дома с новомодными окнами: два вертикальных прямоугольника и лежащий на них третий. Дранки или тряпичных затычек в окнах больше видно не было, разве что кое-где в баньках. Затем показалось продолговатое строение, окруженное большим яблоневым садом. Тут хозяин позволил лошади идти, как ей хочется, и Силья решила уже, что сюда-то они и свернут. Но это произошло лишь у следующего хутора. Первым, слева от дороги, стоял сложенный из серого камня сарай, однако же стены его были в больших трещинах, поскольку фундамент просел. Возле двери сарая высился камень, на котором таким же, как в старинных псалтырях, шрифтом было высечено: КАЛЛЕ КИЕРИККА. Немного дальше впереди виднелся хлев, тоже каменный, но сохранившийся почти неповрежденным. Силья прочла надпись на камне у двери сарая и, уже не спрашивая, узнала, где находится.
Хозяин вполне мог бы въехать во двор со стороны хлева, но он счел дело столь торжественным, что направился к главным воротам. Они были из железа и навешены на каменных столбах, а через обе створки посередине ворот тянулось тоже выкованное из железа: «КИЕРИККА». Через ворота и въехали во двор, к самому крыльцу… В другом конце двора находилась еще одна постройка — обычный неотапливаемый флигель, в окнах которого видны были тонкие белые занавески. И дом и флигель были некогда окрашены каждый в свой цвет, но время сделало их цвет почти одинаковым. Весь двор был — сплошная грязь.
Калле Киерикка, чье имя значилось на камне у сарая, доводился братом нынешнему хозяину. Он жил и умер холостым, и при нем хозяйство худо-бедно держалось в былом достатке, даже смогло немного расшириться, что было заметно всякому, следующему по дороге. Нынешнего хозяина звали Херманни, и он не подправлял то, что после смерти брата начинало приходить в упадок.
Силья сначала попала в большую общую людскую. Стены там в свое время были обмазаны глиной, но позднее эта глина во многих местах осыпалась, вероятно, и фундамент дома тоже просел. Кровати явно принадлежали еще прежнему хозяину, они одновременно служили чем-то вроде диванов, днем на них клали дощатые щиты, чтобы на них можно было сидеть. Одна такая кровать стояла возле двери, другая у теплой стены печи, откуда вела дверь в кухню. И Силья поняла, что спать она будет на этой, второй кровати.
Когда хозяин и новая служанка вошли в дом, кухонная дверь была открыта, и уже настолько смерклось, что в кухне горела тусклая коптилка. И там возилась хозяйка, подоткнув подол верхней юбки, обута она была в старые сапоги. Хозяйка оказалась гораздо разговорчивее и подвижнее хозяина. Недовольная тем, что работы в хлеву пришлось начать без хозяина, она принялась попрекать его поздним возвращением. «Ну не горит же там», — оправдывался хозяин.
Но хозяйка перекинулась уже на новую служанку: «Да-а, еще не бывало у нас служанки из этакого церемонного места, как от профессора. Сумеешь ли ты и жить-то в простом хозяйстве, знаешь ли хотя бы, каким местом корова телится?» — «Я пять лет в хлеву работала», — ответила Силья. «Ого, ну тогда ты и впрямь должна уметь», — продолжала хозяйка тем же тоном — похоже, так она обычно и разговаривала дома. Доводилось уж Силье видеть хозяек, поэтому манера разговора хозяйки Киерикка ее не смутила. Та была как бы вправе сказать такое — Силья знала, что выглядит хрупкой, к тому же хозяйка Киерикка и понятия не имела, что минувшим летом в жизни Сильи произошли удивительные, из ряда вон выходящие события, перевесившие весь ее прежний жизненный опыт.
Затем в дверях комнаты появился высокий, худощавый, вялый батрак, который, — видимо, как обычно — снял сапоги и поставил их к теплой печной стенке, заглянул в стенной шкаф, закурил трубку, но все это — молча. Со слов хозяйки Силья поняла, что батрака зовут Ааппо, что он в Киерикке уже два года и уходить не думает.
Силья познакомилась с коровами и со всем стадом, две-три из них она даже выдоила. Выздоравливая в Кулмале, Силья несколько раз доила корову Софии, так что это не было ей внове.
Все события дня, однако же, настолько подействовали на нее, что хотя вечером людская и была залита таким ярким лунным светом, о каком Силья как раз думала утром в Рантоо, она оказалась не в силах бодрствовать и сразу погрузилась в глубокий сон на кровати рядом с теплой печной стенкой. Когда круглая луна достигла на небе той точки, откуда могла увидеть кровать Сильи сквозь ближайшее к ней боковое окно, она высветила там лишь волосы юной женщины и ее профиль, нежно очерченный нос, губы и подбородок, бледную щеку — все это, лежащее на левой руке. Тонкое одеяло обрисовывало и плавные контуры ее фигуры, как бы повторявшие те же самые линии, которые луна уже видела в миниатюре, глядя на ее лицо…
Луна в небе была в тот момент единственной зрительницей, к тому же знавшей эту девушку с ее детских лет. Она, бывало, смотрела на нее спящую в старом Салмелусе, когда щеки и все лицо ее были еще по-младенчески округлы. Она глядела на нее и позже, поверх сверкающих снежных сугробов, когда девочка впервые приблизилась к воротам в потусторонний мир, откуда ее возвратила усердная отцовская забота. Бледная летняя луна видела Силью и девушкой на разных дорогах и тропинках, но никогда не бывала недовольна увиденным и прямо смотрела в глаза девушки — или ее спутника, — если в момент счастливого молчания кто-то из двоих обращал к ней свой взор. Однажды, совсем недавно, луна как бы подсматривала, прячась за кустами, да и то как бы мимоходом, и отвернулась уходя. Эта луна, не увидев следующим вечером Силью, скрылась и не показывалась несколько ночей, пока наконец опять не выглянула — бледная и обращенная в другую сторону. Она хотела наблюдать, как пойдут дела у дочери Кусты, округлялась, следя за ее выздоровлением, и видела иной раз вечером старого человека, подходящего к ее кровати. Сейчас же луна была совершенно полной, круглой, такой, какой хотела увидеть ее девушка, когда наконец окажется в том одиночестве, о каком мечтала. Но бедняжка устала и теперь спала, и луна, совершая свой путь по небу, смогла посмотреть на нее, когда на какое-то время оказалась в той определенной точке, откуда была видна кровать Сильи. Однако же сияние свое она оставила в этой людской почти на всю ночь: сторожить сон дочери Кусты… Луна ведь видела и юного Кусту, и Хильму, еще красивую тогда, во дворе Плихтари. Если бы луна дышала, она, глядя на эту спящую и вспоминая обо всем, наверняка бы глубоко вздохнула и, может быть, даже слегка вздрогнула бы, вздыхая. Но, по правде говоря, полной луне отнюдь не свойственны тонкие чувства, она лишь бросает отраженный свет солнца и на спящих, и на бодрствующих. Покуда не является само солнце, которое порождает собственный свет, сильнее всякого иного света на земле.
Силья так крепко заснула с вечера, что не слыхала и криков на дороге, проходившей возле самого дома Киерикки: от стены дома до придорожной канавы была всего сажень. Какие-то деревенские юнцы прознали, что в Киерикку приехала новая девушка-служанка, и решили сразу выразить интерес к ней, спев возле дома песню. Однако то не была обычная-привычная деревенская песня, в этой говорилось про бедняков и про кровопролитие, «если потребуется». Хозяин еще не спал и сказал жене, что навстречу ему попались два парня с красными бантами, они шли в ногу, как солдаты, и не поздоровались. Наверняка те же самые, что теперь вопят там. «Вовсе и нет, это Калле Муткала и Вихтори Ловела, уж их-то я знаю — учуяли новенькую». Хозяйка повернулась с видом человека, которому все надоело, и заснула, но хозяин крадучись пошел в людскую. Убедившись, что там все спят, он подошел к окну в задней стене и поглядел оттуда на освещенную луной дорогу. Видны были поднимающиеся неподалеку по склону двое парней, те самые, о которых только что упоминала хозяйка. Но слова и мелодия их песни противно отдавались в туповатом крестьянском мозгу хозяина. Он повернулся в сторону людской, глянул почти одновременно на двух спящих там работников и запечатлел в своем сознании то ощущение, которое вызвали те два парня, затем пошел в свою постель. Но заснул он не сразу, легкий смутный страх посетил его. «Этой бедноты развелось столько, что ничего нам не поможет, если дело обернется серьезно. Уж они у нас, у хозяев, наше добро поотбирают», — подумал Киерикка, засыпая.
Но Силья, не слыхавшая пения парней, никак не могла взять в толк, что имела в виду хозяйка, грубо намекавшая на это следующим утром, когда солнце уже само посылало на землю свой свет, тот, который луна ночью лишь отражала. Силья еще продолжала знакомиться со здешними работами и с тем, что тут ели и пили. Все было иначе, чем у профессора. И пища тоже, впрочем, есть можно было много; люди едят и людской, а скотина в хлеву — это опять вспомнилось ей. И о человеческой пище, и о корме для скота говорили одинаково. Ведь одна и та же земля производила и то и другое.
Легкое замешательство вызвал вопрос, куда поместить Сильин запас одежды и белья.
— У наших служанок никогда еще столько одежды не бывало, — неприязненно сказала хозяйка. Но тут же красивые платья и обилие белья вызвали у нее легкое восхищение — насколько вообще это было возможно при ее-то характере. Сильин гардероб поместили в клеть самих хозяев. Хозяйка согласилась на это весьма охотно после небольшого раздумья, изменившего ход ее мыслей. Последствия этого Силья стала замечать позже, со временем: многое из одежды Сильи оказалось впору и хозяйке Киерикки, хотя Силья и была более стройной.
Однажды вечером, в первый же месяц своего пребывания в Киерикке, Силья бодрствовала, лежа в постели, как она уже и представляла себе это перед приездом сюда. Вечер сначала был совсем темным, и она примерно целый час неподвижно лежала на спине, глядя в темноту, но затем небо над горизонтом где-то в соседней волости начало странно светиться, и мгновение спустя оттуда поднялась луна, большая и красноватая. Словно она там, за горизонтом, услыхала мысли девушки и теперь, немного стесняясь, чуть отвернула лицо свое вправо. Луна будто смотрела искоса — мол, да, оно самое, мол, я знаю, но посоветовать не умею, знаю, и только.
Хотя луна и была такой большой, свет ее все же оказался слишком неярким, и Силье не захотелось выбираться из постели, чтобы посмотреть на кое-что, заложенное в книгу. Она и на луну-то больше не смотрела. Немного запрокинув голову, она лежала в той же позе и с теми же мыслями, как на горе Кулмала в тот жаркий день, когда дачники ушли и она потом заболела. Она лежала и прижимала к своей груди того, с кем встретилась в стране теней, среди синего и золотого, за горящим кустом, и который сказал ей какие-то слова, вспомнить которые теперь ей было уже невозможно.
_____________
На дворе в будничном мире наступил ноябрь. Туманными тихими днями сороки скакали по крыше хлева, высматривая остатки от забоя скотины, и сойка, их более трусливая родственница, летала вокруг риги, громко крича и помахивая красивыми, пестрыми крыльями. Работы в хозяйствах было немного, где-то везли корм скоту, где-то хозяин похаживал между сараем и домом. Наемные работники по старинному обычаю неделю отдыхали… Все было так, как в эту же пору сто лет назад или даже раньше.
И все же — так, да не совсем. Хотя в Киерикке, на волостной окраине, это не очень ощущалось, но в центре волости было заметно. — Народ опять пришел в движение, как тогда весной, во время сева, но теперь зашевелились и хозяева. Они тоже создали отряды своей гвардии и проводили учения. В них участвовал и один хозяин из деревни, к которой относился и хутор Киерикка. Он недавно переселился сюда из других мест и вообще отличался деятельным характером. Хозяин Киерикка на эти учения не пошел, «поленился», разговаривая с другими мужчинами, он, как и подобает зажиточному хозяину, произносил обычно общепринятые фразы, содержавшие умеренную порцию исконной крестьянской мудрости, легкую строгость в отношении к трудовому народу вообще и особенно к тем, кто проводит собрания. И еще в запасе у него было несколько где-то слышанных фраз. «Оно, стало быть, так, что у нас сельское хозяйство не в состоянии конкурировать с промышленностью». На такое уже никто из сидящих на лавочке взрослых местных мужчин ответить ничего не мог.
Но в селе, где приходская церковь, красная гвардия разоружила гвардию хозяев, которую красногвардейцы прозвали гвардией мясников, или лахтарями. Лахтарей держали под арестом и брали с них торжественное обещание, что они больше никогда не будут выступать против устремлений трудового народа. Бледные и невыспавшиеся могущественные хозяева дрожащими руками выводили свое имя под тем обещанием, и затем их отпускали домой.
По всему приходу изымали у хуторян оружие. И у хозяина Киерикки отобрали старинное, заряжающееся с дула охотничье ружье, из которого по меньшей мере последние двадцать лет ни разу не стреляли; для него негде было достать пуль после того, как детишки разбили форму для их отливки… И все же это ружье увезли, хозяин лишь сказал свое хозяйское слово, затем снял его со стены и отдал. «Еще привезете мне его обратно, попомните, что я вам сказал». — «Вернем, вернем, когда народ успокоится», — уверял старый портной, который был большим книгочеем и в молодости выступил с толкованием Священного писания в духовных собраниях. Теперь голова его ходила ходуном от этого возвышения идей и бедноты.
В соседнюю волость вроде бы заявлялись русские — целый пароход, и убили там одного известного хозяина и какого-то заезжего коммивояжера. Хозяин Киерикка не поверил этому слуху. «Слишком мелкое дело, чтобы русским ради этого посылать войска, для такого нужна причина поважнее», — сказал он тоном знатока. «Но они там все-таки были», — горячился бедняк арендатор, завернувший рассказать об этом.
Хозяин Киерикка — как и его хозяйка — не был большим любителем чтения, на хутор приходила лишь маленькая волостная газета, придерживающаяся строго нейтральных взглядов. Но в людской Киерикки читали лишь публиковавшиеся в этой газетке объявления и затем обсуждали, кто что знает или слыхал про хутор в другом конце волости, где продается стельная корова, — в таких вопросах оказавшийся здесь на работе поденщик был безусловно знатоком. И так вот люди, обретавшиеся в Киерикке среди всех происходящих вокруг потрясений, довольно долго сохраняли и внутреннее, и внешнее спокойствие.
И даже когда в январе вспыхнула настоящая война, этот хутор не слишком тревожили и обременяли. Гужевую повинность, конечно, приходилось исполнять, но поскольку в Киерикке лошади были неважнецкие, а лучшая из них — кобыла — как раз оказалась жеребой, хутору частенько давали поблажку, позволяя пропускать очередь. Правда, зерно и другие продукты реквизировали.
Все же в начале этой войны случилось и такое, что могло бы сделать хутор Киерикка в глазах красных весьма подозрительным, знай они всю правду. Красные усердно расставляли вооруженных часовых во всевозможных, самых неожиданных местах. Но несмотря на это, особенно в первое время, легко удавалось проскальзывать мимо часовых, буквально у них под носом, когда они, подрагивая от мороза и натянув на уши и почти на самые глаза меховые шапки, покуривали папиросы, а красный папиросный огонек был виден на расстоянии выстрела. Кроме того, многие были слабыми от недоедания, а вступив в Красную гвардию, стали получать плотную, даже тяжелую пищу, ели до отвалу, и это поначалу притупляло их и без того слабое внимание. И вот однажды вечером в людскую Киерикки заглянули двое мужчин — не из местных. Они назвались рабочими из Тампере, следующими на фронт, но это выглядело неправдоподобным. Они явно не были из рабочих. И хотя они пытались притворяться простолюдинами, но не умели держать папиросы так, как это делают работяги, к тому же и пальцы у них были тонкие, ухоженные. В придачу ко всему говорили они немного сбивчиво. Один сказал, что их направили в этот дом, но хозяйка тут же заявила, что никаких направленных у них быть не должно, и стала подмигивать хозяину. «А если они направляются на фронт, то штаб красных там-то и оттуда скоро приедут за вечерним молоком, вот и можно будет поехать с ними».
Когда эти двое пришли, в людской, кроме хозяйки, находились хозяин, один соседский мужики Силья. Более молодой из пришедших как-то особенно смотрел на Силью, смотрел с такой теплотой, что это было заметно. «Мы, конечное дело, маленько спешим, — сказал он, — нельзя ли, чтобы эта девчушка немного проводила нас, показала дорогу?» — «Немножко-то можно, лишь бы совсем не увели», — сказала хозяйка по-бабски ехидно. «До свидания», — попрощались мужчины уходя. «Нужно мне твое свиданье!» — сказала хозяйка, когда дверь за незнакомцами уже захлопнулась.
В связи с этим случаем у населения Киерикки сразу же возникли неприятности, но гораздо худшие неприятности он вызвал три месяца спустя, когда белые заняли волость. Тогда один из этих двух таинственных гостей был уже командиром роты и хорошо помнил тот холодный прием, которым их удостоили Киерикка, особенно хозяйка. К тому же говорили, что хозяин Киерикка по своему почину подарил Красной гвардии большую свиную тушу, чтобы красные получше охраняли хутор. Потому-то хозяин едва не оказался среди арестованных красных. Цену свиной туши ему, однако же, пришлось внести в фонд шюцкора[16].
Но теперь, нынешним вечером, Силья надела теплый жакет и, закутавшись в шерстяной платок, пошла провожать этих чужих молодых людей. Она будто прочла такой приказ в глазах младшего из них. Когда они, миновав открытое пространство двора, зашли за конюшню, этот молодой мужчина с жаром схватил Силью за руку и зашептал: «Слушай, девочка, ты воспитанная и пригожая, и ты наверняка не краснушка». Силье показались забавными, но в какой-то мере и понравились слова и поведение молодого человека. «Да у нас Краснушки даже и в хлеву нет, ее штаб увел», — ответила девушка и доверчиво рассмеялась. «Нет, но послушай, девушка, наша жизнь в твоих руках, помоги нам пробраться через фронт в сторону Куускоски, а то ведь, наверное, у красных часовые на всех перекрестках?» — «Так и есть, один торчит здесь, возле нашей риги, это Вилле Телиниеми, не съест он вас», — «Сейчас не до шуток, скажи только, как нам попасть в Куускоски, можно отсюда пройти лесом? И есть ли там, впереди хоть одно такое место, куда можно было бы зайти и чтобы там дали поесть?» Силья сказана, что еду им она может принести, но они предпочли скорее продолжать путь. Пошли так: мужчины на лыжах в лесу вдоль дороги, но следуя за Сильей, которая шла по дороге. Она провела их в обход нескольких дворов, мужчины которых как раз в это время околачивались в местном штабе красных, и наконец остановилась у одного лесного сарая для сена и села на порог. Туда же свернули и незнакомцы. Силья, как смогла, объяснила им, куда идти, и точно описала тот хуторок, куда она сама однажды ходила и знала тамошнего старика. Только пусть передадут ему привет от Сильи Салмелус, тогда он поверит. Там они смогут и поесть и узнать, как им идти дальше. Когда мужчины повторили полученные от нее объяснения, тот, что был помоложе и более порывист, внезапно обнял Силью и крепко поцеловал в губы. «Если все кончится хорошо, и я еще вернусь, женюсь на тебе, ей-богу, женюсь!» — «Не обещай зря, у меня уже есть… — сказала Силья и поглядела в ту сторону, куда направляла незнакомцев. — А теперь вам пора идти, и мне тоже». И затем еще крикнула им вслед, сама испугавшись, когда услыхала, как ее губы произносят: «Передайте привет и Армасу!» Так внезапно и невольно разрядилось напряжение момента и напряжение ее души.
Молодые незнакомцы едва ли услыхали этот ее выкрик, а если и услыхали, то наверняка подумали, что то последнее слово обозначало просто «милый». Они устремились в направлении, указанном Сильей, а она зашагала обратно в Киерикку, и душа ее как бы проснулась для какой-то новой теплоты. Было удивительно, как жизнь приносила ей такие внезапные переживания: что-то начиналось — быстро нарастало — и гасло. Девушка спешила зимней вечерней дорогой, сохраняя ощущение того объятия и поцелуя, в душе было жарко, словно нет еще ни снега, ни льда, и вокруг летняя ночь, и она на горе Кулмала или на лесном лугу, а вокруг цветут кукушкины слезки. Тот незнакомый молодой человек, явившийся из неизвестности и ушедший в неизвестность, сорвал у нее, Сильи, поцелуй, чтобы унести его туда, где, как полагала Силья, находился и ее летний друг. Он там, конечно, — поскольку он не здесь. Там он — и должен приехать оттуда, и они опять встретятся, но гораздо лучше, чем минувшим летом. Теперь у них обоих останется позади ожидание встречи, они сумеют найти друг друга не раздумывая, не стесняясь. Самой красивой ночью лета они могут пойти прямо на край глухой лужайки, на опушку рощи… Ожидание может быть прекрасным в любой ситуации, если то, чего ждешь, — такое. И если во время ожидания появляются добрые предзнаменования, способные посреди январской лесной чащи вызвать воспоминания о запахах летнего ночного покоса.
Душа девушки пылала жаром в вечерней темноте на зимней дороге. Снег посверкивал белизной — и по снегу скользили на лыжах вдоль дороги два человека с ружьями за спиной наискосок. Когда они заметили Силью, последовал строгий приказ: «Стой!» Силья не сообразила сразу подчиниться такому приказу и сделала еще несколько шагов, тогда один из мужчин передернул ружье вперед и направил его на девушку. Она спокойно остановилась.
— И откуда же девчонка идет? — спросил красногвардеец.
— Вон там я была — гуляла немного.
— Уж не лахтарей ли проводила — говори честно, лучше будет.
— Нечего мне говорить, отпустите меня домой, у меня еще работы много.
— Мы тебе покажем — домой! Не будь ты баба, разговор был бы короткий. Пойдешь с нами в штаб, там уж тебя заставят рассказать. А ну марш вперед!
Все же мужички немного передумали и завернули в Киерикку, маленько допросить хозяина и хозяйку. Хозяйку прорвало: «Да, заходили сюда два бродяги, но в нашем доме ничего им не дали, я сказала, пусть идут в штаб, там все знают, а я ничего не знаю, и этот попросил вот Силью в провожатые, они вроде даже переглядывались маленько, и я сказала, что может Силья и пойти, и показать дорогу, а по какой дороге они шли, не знаю я, да и знать не хочу».
— Оно лучше будет, если отведем Силью в штаб, и хозяин пойдет с нами, там послушают, бывали ли здесь такие гости и раньте.
— Чего мне-то там делать, если я знать об этом не знаю, я так полагаю, — возразил хозяин.
— Однако пройтись придется, затевать расследование мы тут не можем. Пошли давай! — решительно сказал мужчина постарше.
Штаб сидел в знакомом табачном дыму, на лицах спокойствие, присущее тем, у кого власть. Для этих нескольких торпарей и бобылей, чьи предки — да и сами они в молодости — годами трудились без надежды поправить свои дела — как ни работай, ленивее или усерднее, ничего не менялось, — такое сидение в штабе действительно представлялось высшим достижением в жизни. Была еда, был отдых, было курево, были приятные разговоры. Изрядно тешило самолюбие, особенно в первое время, что можно приказать что угодно многим прежде важничавшим и заносчивым хозяевам. Поначалу это прямо-таки опьяняло даже самых тихих, горячило головы ощущением, что путь начат, и пусть неясно, куда и когда придем, но будь что будет. Такие же мысли возникали и у тех, кто участвовал в аресте своих знакомых и доставке их в штаб.
Конечно же, эти сидевшие в штабе мужики хорошо были знакомы с хозяином Киериккой и знали, что никаких белых он в своем доме привечать не станет. Не осмелится, да и не захочет — вышло «просто так», — как говорит сам Киерикка. Силья же, по их разумению, если и замешана в чем-то таком, то лишь по детской наивности, и самое большее, что нужно, — это слегка припугнуть ее.
— Ну, выкладывай начистоту, что это были за люди и куда ты их отвела? — спросил ласково Ринне, начальник штаба.
— Не знаю я, кто они, мне велели только показать им дорогу в штаб.
— Но ведь вы шли другой дорогой.
— По той тоже можно пройти, а они сказали, что им лучше идти лесом.
— Ха-ха-ха, уж это конечно, я тоже так думаю, — развеселился Ринне. — И до какого же места ты их довела?
— До сенного сарая Кивиляхти — они просили меня первым делом показать им дорогу к ближайшему члену штаба, а Кивиляхти вроде бы…
— То-то и оно, что вроде бы, — ну, а еще что спрашивали?
— Ничего они у меня не спрашивали — я такого не помню.
— Силья теперь останется на некоторое время тут, вспоминать. Хозяин может идти домой. Но смотрите там, в Киерикке, чтобы к служанкам не ходили ухажеры такого сорта, а если уж появятся, быстро сообщайте сюда, а не то предъявим вам обвинение со всеми последствиями.
— И нечего девчонке оставаться тут так долго, там дома она нужнее… в нашем доме и вообще-то к вам обычно… как бы это сказать.
— Ну, об этом не стоит сейчас и говорить, каждый сам знает, как себя вести теперь-то. Глядите только, чтобы лахтари у вас там не шлялись… Ну а девчонку отпустим отсюда к утру, мы только разберемся малость, что эти лахтаришки с нею делали там, в сарае — не в сене ли у нее спина, и все такое прочее.
Теперь Ринне говорил немного хмурясь. Во-первых, в глубине души он презирал хозяина Киерикку, который даже в порядочные враги не годился. Во-вторых, он держал на него злобу еще с прежних времен.
— Ступай теперь, старина, домой, а девчонку оставь тут, ведь все равно толкнешь ее лахтарям, — сказал один из сидевших на лавке, незнакомый и с виду горожанин.
Киерикка и ушел — что поделаешь.
Силья осталась сидеть на лавке, но внимания на нее больше особо не обращали. Ринне и другие штабные перешли из людской с горницу. В людской остался сидеть за столом человек, выдававший пропуска, а еще там были два мужика, затребованных из деревни в качестве возчиков, и какие-то незнакомые красногвардейцы. Они время от времени отпускали в адрес Сильи непристойные замечания, но Силья совсем никак не реагировала на них. Когда же их усилия более крепкими выражениями вызвать хотя бы тень недовольства на лице девушки оказались напрасными, они прекратили попытки.
Жена Ринне, женщина дружелюбная и с ровным характером, которую часто приглашали поварихой, позвала Силью в кухню выпить кофе.
— Она арестованная и никуда не пойдет, — сказал один из только что сквернословивших.
— Уж я-то эту арестованную знаю и сторожить умею, — ответила жена Ринне, — Силья пойдет только сюда.
Затем послышалось позвякивание телефона в горнице и голос Ринне: «Это штаб Вуониеми? Тут Ринне из штаба Маханалы — Маханалы, да, уж будьте уверены. Докладываем, что отсюда два лахтари пытаются, очевидно, пройти там в сторону Куускоски — их видели тут, в Киерикке, вечером, в сумерках. Дело давнее? Уже прошли? Разве ж там часовых нет, ну и сони… Застрелили? Что за чертовщина! Часового застрелили, а в казарме ничего не знают. Черт-те что!»
Разговор прекратился. Силья слыхала и поняла все. Слышно было, как Ринне вышел в людскую и спросил, куда девалась эта девчонка. «Там, кофейничает с твоей бабой», — ответил безразличный чужой голос. Дверь открылась. «Силью Салмелус сюда!» — раздался резкий приказ Ринне, в голосе его не осталось и следа давешней шутливости. Сердце у девушки ушло в пятки, она побледнела и вздрогнула, в памяти возник Армас, его имя и еще другой, чья тень только что скользила по ней. И словно найдя в своей душе какую-то точку опоры, она встала и пошла следом за Ринне. На сей раз не остановились в людской, а прошли дальше, прямо в горницу, где и заседал собственно штаб.
Мужчины тут теперь выглядели сурово, но на лицах их особой решимости не было, кроме как у Ринне. Обычно он, разговаривая, поглаживал и закручивал вверх свои усы — и при этом произносил каждое слово отчетливо, словно книгу читал, но на сей раз он оставил усы в покое. Он сказал непривычным, похоже нарочито сдержанным голосом, обращаясь отчасти к товарищам своим, отчасти к Силье:
— Эта Силья Салмелус помогла перейти фронт двум опасным врагам, которые по пути застрелили нашего часового. Признаешь ли ты, Силья, что сделала это?
— Я признаю то, что уже сказала, что к нам пришли двое мужчин, которым хозяйка велела идти в штаб, раз уж они хотят на фронт, и я пошла показать им дорогу, и они тогда сказали, что охотнее пойдут лесной дорогой, и спросили, где ближе всех живет кто-нибудь из штаба, и я указала им дорогу к Кивиляхти.
— Какое у них было оружие?
— Никакого у них оружия не было.
— Откуда ты знаешь, может, в карманах было?
— Знаю наверняка, я бы это почувствовала.
Легкая улыбка возникла на лицах остальных мужчин. Силья поняла, что сказала весьма много в пользу тех незнакомцев — какой-то инстинкт самозащиты заставил ее губы произнести такой, невозможный в обычное время намек.
— Да они эту девчонку просто так использовали, по разуму она им в помощницы не годится, — сказал один из мужиков.
Выражение лица Сильи теперь также не изменилось, как незадолго до того в людской, она казалась отсутствующей, погруженной в какие-то сладкие мечтания. И она не всегда сразу пробуждалась от них, когда к ней обращались. Ринне сказал:
— Так, стало быть, самым лучшим наказанием, пожалуй, было бы, чтобы девчонка осталась тут и наши ребята тоже смогли бы немножко попользоваться, но истинному красному воину не годятся лахтарские объедки.
В это время из людской послышался какой-то шум, и допрос Сильи прервался. В людскую вошла группа чужих красногвардейцев, и Ринне пошел выяснить, что у них за дело. Они просили, чтобы кто-нибудь отвез их в Куркелу — Силья расслышала вопрос ясно. Куркела как раз и был тем хутором неподалеку от Киерикки, хозяин которого записался в белую гвардию. Ринне спросил еще что-то шепотом, мужчины показали ему какие-то бумаги. Им трудно было приглушать голос, они хрипели, как на морозе. «Да, сегодня ночью, обязательно, так возчик найдется?» — «Возьмите ту девчонку там, в горнице», — пошутил один из местных. «Она как раз задержана за помощь лахтарям», — деловито заметил другой. «Как же так?.. Отведем за гору…» «Нет, ее допрос еще не завершен», — произнес Ринне на своем лучшем книжном языке, а с лавки добавили несколько голосов, что со своими девками тут разберутся сами. Слышно было, как Ринне, перекрывая общий гул, спросил: «Где Телиниеми?» — «Здесь, господин капитан», — ответил спрашиваемый привычным образом. «Возьми одну из дежурных лошадей, отвези этих людей и делай, что они велят». — «Будет исполнено», — прозвучало в ответ.
Затем Телиниеми с теми мужчинами уехал, и Ринне вернулся в горницу. Лицо его еще странно поблескивало от напряжения, и он опять покручивал свои усы. Кто-то спросил, что за люди то были, и услыхал ответ на самом лучшем языке Ринне: «Тут и в своих-то делах полной ясности нет, но, как полагаю, то были контролеры, проверяющие движение гвардии лахтарей».
— Ах, вот в чем дело, но здесь эта девчонка, которая так обнимает лахтарей, что знает, есть у них в кармане оружие или нет. Что же нам с нею делать? Она ведь тоже трудящийся, хотя явно из самых темных.
— Так и есть, ни в каких она заговорах не участвовала, я уверен, отпустим ее домой, когда немного рассветет.
— Ладно, но пусть вступит в организацию, чтобы просветиться немного. Где эти членские билеты? Есть у тебя деньги с собой на вступительный взнос? — теперь говорили весьма добродушно. Было очевидно, что появление тех чужих красногвардейцев и их мрачный отъезд отвлекли внимание всего штаба от Сильи. В округе ночью происходили более важные события. Можно будет узнать, когда Телиниеми вернется. Был еще начальный период войны, и редко кому пока приходилось впрямую иметь дело с кровопролитием. Интерес к служанке из захиревшего хозяйства пропал, когда поехали за владельцем крупного хозяйства, чтобы… Эти добродушные в основе своей пожилые торпари не додумывали дело до конца, но тем больше они, однако же, чувствовали, что эту беднягу девчонку необходимо защитить. У Ринне в глазах и в душе горела сдерживаемая ярость, он-то додумывал вещи до конца, те, что касались сегодняшней ночной акции против толстопузого Куркелы, но Силья и его, похоже, больше не интересовала. Хозяйка Ринне вышла в горницу из кухни. «Хватит вам, Силья — бедная служанка, и к таким делам вовсе не причастна. Силья, пойдем-ка в кухню, я тебя устрою прилечь, сможешь вздремнуть, пока не начнет светать, и тогда побежишь доить, чтобы и для этих было молоко, — и не провожай больше таких парней, не ходи с ними, как бы ни заманивали».
Риннечиха была добрым, сердечным человеком, и даже многие богатые хозяева в округе жалели ее и были расстроены тем, что «белые», заняв волость, сразу, в первый же день ее убили. Хотя Риннечиха, стоя на коленях и напоминая о милосердии божьем, умоляла о пощаде.
Силья прилегла там, где указала ей хозяйка Ринне, но не заснула. Из людской временами доносился гул разговора, щелканье ружейных затворов и постукивание об пол прикладов, но часов этак с трех ничего больше слышно не стало. Штаб спал в горнице. Один раз зазвонил телефон. Ринне ответил немного сонным голосом, выглянул в людскую и затем снова улегся спать. Минуту спустя со двора пришел часовой и стал будить сменщика, но тот лишь бурчал, сопротивляясь, и отправить караулу смену долго не удавалось. Потом проснулась Риннечиха и сварила кофе для Сильи, невзирая на ее отказы. «Так, и еще вечером забыли выправить тебе пропуск, придется будить кого-нибудь из них, чтобы выписали, как положено».
Проснулся не только писарь. Проснулись и двое из сидевших вчера вечером на лавке и скабрезничавших, они просто так остались в штабе. «Ну, ты, Милиция, чай, пойдешь провожать, вчера весь вечер слюнки пускал». — «Да, черт возьми, пойду», — ответил другой и встал. «Как же без оружия?» — заметил кто-то вполне резонно. «Уж как-нибудь, оружие, что на сей раз понадобится, всегда при мне», — сказал парень и схватил Силью за руку, но все же вернулся и сунул в карман пистолет.
Силья не знала имени провожатого, хотя и помнила, что видела его где-то на танцах. Он был крупным и светловолосым и при ходьбе сгибал ноги и покачивался всем телом.
— Ну, где ж бы нам тут малость понежничать? — На это Силья ничего не ответила, и он достал мундштук, попытался выдуть из него оставшийся там окурок, но это не удалось, тогда он зажал мундштук в левой ладони, а правой хлопнул по ней, и окурок вылетел в сугроб. Затем он еще продул уже пустой мундштук и держал его в губах, пока доставал из коробки папиросу, сунул коробку обратно в карман и только затем предпринял следующие действия: вставил папиросу в мундштук, прикрывая огонь ладонями, закурил и выбросил обгорелую спичку. Все это он совершал, словно наслаждаясь и важничая тем, что умеет так же ловко и красиво делать это, как самый что ни на есть ухажер, будь он хоть из Кивеннапы[17].
На юго-востоке золотилась заря. Силья шла, будто в каком-то странном, удивительном мире, в который она как бы выпала вчера вечером в сумерках из людской Киерикки. Рядом шагал кавалер с красной повязкой на рукаве, и легкие непристойности соскальзывали с его губ в перерывах между затяжками так легко и чуть ли не по-свойски, словно были смазаны салом. И Силья слушала их, некоторые даже смешили ее, что, в свою очередь, воодушевляло провожатого. Так они и шли, пока уже за последними домами деревни не дошли до бревенчатого сруба старого сенного сарая, пустой дверной проем которого казался раскрытым в сторону дороги ртом. Тут провожатый принялся за дело всерьез. Он остановился и остановил Силью, которая сперва толком не понимала его намерений. Но это быстро выяснилось. «Ну, пойдем-ка малость погреемся в соломе», — и потянул Силью за руку. Силья с изумлением уставилась на него в упор, но поскольку он все сильнее тащил ее за руку и тянулся схватить другую, спрятанную за спину руку, Силья вырвалась. Тогда он изменил прием, подхватил ее на руки и понес в сарай.
При этом он не заметил одинокого возчика, который медленно ехал им навстречу, — из саней, опираясь на их спинку, торчала винтовка. Возчик видел лишь какую-то непонятную в сумерках возню около сарая, он натянул вожжи и, подъехав к сараю, остановил лошадь, взял винтовку наперевес и стал приближаться к двери. Изнутри доносились негромкие звуки яростной борьбы.
— Эй, кто тут? — крикнул он неестественно громко, опасаясь темноты.
— Красные мы, из штаба Маханалы, а ты Телиниеми, что ли? — спросил провожатый, направляясь к выходу, но все еще держа за руки вырывающуюся девушку.
— Я — да, а ты какого черта тут копошишься? Отпусти девчонку, раз она тебя не хочет.
— Ну как там эта поездка? — спросил провожатый, меняя тему разговора, но девушку он отпустил, и она, прежде чем уйти, рассерженно поправляла свою одежду и отряхивалась.
— Ну они там свое дело сделали, — ответил Телиниеми и молча смотрел прямо перед собой. Чуть погодя Сильин провожатый спросил еще:
— А куда же они девались?
— Я проводил их на станцию.
— Ах, вот как — это небось и был отряд особого назначения, черт побери, — сказал провожатый и сел в сани рядом с Телиниеми. — Будь здорова, девчонка, живи богато! — крикнул он вслед удаляющейся Силье.
На юго-востоке в золоте зари появилась и розоватость, когда Силья наконец пришла в Киерикку. Ложиться спать больше не имело смысла, и она стала ждать, чтобы встала на дойку хозяйка. Усталость ночи незаметно исчезла, была какая-то странная, обостренная бодрость. И чувствовала она себя хорошо. С того момента, как она вчера ушла отсюда, и до сих пор продолжался как бы непрерывный подъем. Она не могла ничего объяснить, да и не много думала об этом. Что-то, спавшее в ней несколько месяцев, теперь проснулось, и Силья чувствовала, что, пока она жива, это больше не заснет. Она ждала.
_____________
Утром она услыхала, что хозяин Куркелы найден застреленным на льду у дороги, проложенной через озеро. Об этом сообщили в штаб, где пообещали начать расследование. Силья никому не рассказывала о том, что она слышала и видела в штабе.
Власть красных продержалась в этой волости семь недель — достаточно для того, чтобы к ней успели привыкнуть даже самые тихие люди. Иной местный красногвардеец мог совершенно спокойно рассесться в людской хутора и говорить с хозяином без особой ненависти. Хозяин осмеливался даже немного возражать против распоряжений красных, если не сильно распалялся, но и тогда знакомый торпарь мог лишь пригрозить ему. Когда же затем наступила власть белых, хозяева обычно старались спасать своих батраков и арендаторов, как могли. Однако же в первые дни после смены власти случалось часто, что, получив доносы каких-нибудь местных жителей, чужие белые солдаты ходили по жилищам и, если находили человека, на которого был донос — будь то мужчина или женщина, — выводили на двор и расстреливали за углом без суда и следствия. Но и приговоры «суда», заседавшего в селе, где церковь, были тоже весьма поспешными. Наплыв арестованных и пленных вызывал нехватку помещений и другие проблемы, и это вынуждало торопиться.
Людям из Киерикки — ни его хозяину, ни Силье — после того вечера и ночи в штабе больше не пришлось иметь дела с мятежниками. Хутор стоял немного в стороне от того пути, что вел по льду озера к железной дороге, так что в Киерикке и вообще-то имели дело только с местными красными. Потому Телиниеми, привезя иной раз приказ о гужевой повинности, посиживал в людской Киерикки и рассказывал, что слышно на фронте, который проходил километрах в десяти от хутора. Телиниеми — человек приятный и с живым характером, имел множество знакомств. И он знал и о том, что произошло в Сийвери: что хозяин Сийвери убит, его нашли в стороне от дороги, и рот у него был набит старыми талонами на хлеб. Знал он и о гибели Оскари Тонттилы. Того забрали возчиком в обоз, который вез солдат к линии фронта. Обоз был обстрелян из засады. Мужики стали быстро разворачивать лошадей, чтобы пуститься наутек, и другим это удалось, а Оскари погиб похороны были в минувшее воскресенье.
Такие истории рассказывал иной раз Телиниеми вечерами в людской Киерикки. При этом он иной раз взглядывал и на Силью и, подмигивая, отпускал намеки, мол, что случилось бы с нею, если бы он, Телиниеми, не подоспел. «Небось в конце концов этот ухажер тебя одолел бы». — «Меня так просто не одолеешь, если я сама не поддамся», — отвечала Силья в такой же манере, однако Телиниеми подметил, что хотя девушка и усмехалась, но поглядела на него с благодарностью. На расспросы хозяев и работников Киерикки Силья отвечала лишь, что «у Телиниеми историй хватает».
Но в конце марта устоявшаяся атмосфера начала делаться все тревожнее. Участились всевозможные распоряжения, причем некоторые из них были совершенно непонятными, как, например, о том, чтобы с наступлением темноты из домов не было видно ни огонька; вероятно, опасались подачи световых сигналов. Начали также реквизировать и такие вещи, о которых до сих пор не было и речи. Так, однажды днем в Киерикку пришли двое мужчин, старый и молодой, и объявили, что собирают санные полости. В Киерикке и была-то всего одна, да и та плоховатенькая, но они взяли и такую. «Ничего не поделаешь — приказ», — сказал пожилой плешивый мужик со спутанной бородой и потряс в подтверждение головой. «Там теперь, похоже, всякий пикает, даже Юсси Тойвола», — сказал хозяин Киерикка, когда мужчины ушли. Киерикка, благодаря своим поездкам, случайно знал того пожилого мужика, хотя тот был с другого конца волости, да и там-то из самого захолустья. Затем хозяин поподробнее объяснил, каков сам безземельный старик Тойвола и его двор, заключив: «И даже там нашли кого поставить под ружье».
Но в деревне чувствовалось, что тучи сгущаются. Если бы кто-нибудь в эти предвещающие недоброе дни внимательнее понаблюдал за лицом служанки Сильи из Киерикки, то заметил бы за ресницами девушки горячечный блеск и на скулах румянец. Но никто не обращал внимания на служанку в эти тревожные дни, — хотя из всего населения деревни, может быть, именно Силья с самым большим нетерпением ожидала, как все решится. Ибо она ждала, надеялась и верила, что произойдет не просто замена одних солдат и их начальников другими. В эти дни и ночи, когда она трудилась или отдыхала, ей казалось, что те два молодых человека уже приветственно машут ей оттуда, из-за грохота боя. Они махали ей и одновременно указывали куда-то рядом с собой, вроде того, что тут идет и тот, кого ты ждешь и которому крикнула привет тогда, провожая нас. И чем больше вокруг нее нарастал страх одних и проявлялось злорадство других, тем больше Силья забывала, в чем суть спора между ними. В ее душе все ширилась прекрасная надежда. Полет времени в ее сознании, казалось, все приближается к какому-то прежнему и далекому солнечному мигу, а неясное сновидение в промежутке между тем, что было и будет, исчезало напрочь.
Девушка все чаще поглядывала в ту сторону, откуда ожидали появления новой власти, случалось, забывала и о работе, так что хозяйка смогла сказать: «Ты так то и дело смотришь в ту сторону, будто ждешь оттуда большого блаженства».
Вот так и в тот вечер, когда с промежутком в полчаса на хуторе побывало два отряда, не знавших один о другом и требовавших лошадей, саней и возчиков, из чего можно было заключить, что на фронте дела плохи, — так и тогда Силья стояла в северной части двора. И она даже пошла в ту сторону, куда устремлялись все ее чувства. И услышала, что кто-то движется, крадучись, в сумерках по дороге. Человек остановился за поворотом дороги. Остановилась и Силья, но затем сделала еще несколько шагов вперед. «Это Силья, да?» — спросил низкий взволнованный голос, показавшийся ей знакомым. Услыхав ответ, мужчина подбежал к ней и заговорил торопливо, тяжело дыша:
— Фронт под Куускоски прорван — красные бегут — некоторые попали в руки белых, и их уже небось расстреляли. Я не могу убежать далеко — коль дома дела так плохи — лишь бы этот худший момент переждать, а там, может, и останусь в живых. Мне бы только надо теперь побыть какое-то время вблизи дома — но они застрелят меня, если найдут, потому что я был возчиком утех, которые убили этого хозяина Куркелу, — но я ведь ничего не делал, только правил лошадью, ты же знаешь и можешь подтвердить это — ты же видела, как я возвращался той ночью… Слушай — я схоронюсь в старом сарае Киерикки, под сеном — сходи, Силья-золотце, скажи Эмме, чтобы она каким-нибудь образом прислала хлеба и горячего молока туда к двери, уж я оттуда заберу… Ты же сделаешь это, ты добрая, и ты же знаешь меня, и если я как-нибудь спасусь, век тебя буду помнить… А теперь пойдем побыстрее, пока тебя не хватились и не начали искать…
Подавляя в себе страх, которым он был охвачен, этот прежде столь жизнерадостный торпарь пошел впереди, останавливаясь и прислушиваясь. Когда приблизились к хутору, он велел Силье идти первой, будто она никого и не встречала.
Это была известная теперь «ночь бегства». И затем наступил следующий день, когда в Киерикке и во всей деревне не было ни одного красного и ни одного белого солдата, и тогда жителям, оставшимся на месте, было страшнее всего. Никто не осмеливался и носу высунуть из дому. Однако же видели, как хозяйка Куркела, одетая во все черное и со сдерживаемой злобой на высокомерном лице, ехала в село, где церковь. «К белым рванула, поскорее сообщить, что мужа убили и обо всем, что происходило в округе во время красных». Куркелиху видела и хозяйка Киерикка и почувствовала, как где-то в глубине души противно екнуло. Ведь и она была такой же хозяйкой хутора, но Куркелиха, сидевшая в санях, в которых обычно ездили в церковь, держалась в тот миг словно была из другого сословия.
Едущую хозяйку Куркелу видела и Силья. Через несколько минут, никому не сказавшись, девушка пошла в Телиниеми и тихонько сообщила там Эмме, что просил передать ей ее муж. Атмосфера и дела там были отчаянными, о чем и упомянул Телиниеми Силье там, на дороге. Эмма, жена его, дохаживала последние дни на сносях, а один из старших детей был болен дифтеритом. Плача, жена Телиниеми обещала сделать, что сможет, и благодарила Силью, осмелившуюся оказать такую услугу.
_____________
Вскоре после этого посещения Телиниеми Силья угодила почти в такую же ситуацию, в какой была семь недель тому назад, после той вечерней «прогулки», когда она проводила тех двух таинственных молодых мужчин. Видать, деревня, в которую входил и хутор Киерикка, не могла долго находиться в столь пугавшем всех состоянии покоя, когда не слышно ни выстрела и даже не видно ни одной винтовки. Передовые отряды белых заняли вскоре дом Ринне, и затем все достопочтенные хозяева хуторов Маханалы поспешили туда объяснять им ситуацию, жаловаться на реквизицию продуктов и доносить на наиболее активных местных красных, сообщая, где те живут и где могут прятаться. Те северяне с красными от весеннего ветра лицами, похоже, не слишком придавали значение жалобам на материальный ущерб, но услыхав об убийствах, совершенных красными, они сделались повнимательнее. И если какую-нибудь бабу называли особенно языкатой подстрекательницей, сразу отправляли двух мужчин ловить ее и везти в село, где церковь. Риннечиха хотя и ушла вместе с мужем из дому, но не слишком долго следовала за ним, а вернулась обратно и угодила прямо с дороги в арестантскую в селе.
Сразу же по прибытии отрядов белых им донесли об убийстве хозяина Куркелы и что, по крайней мере, Телиниеми был с теми, кто ездил убивать. А проводником у них, очевидно, была служанка из Киерикки по имени Силья, которую видели той ночью в штабе, и только утром она шла оттуда с одним известным красным. Так отряд белых первым делом отправился в Телиниеми, где все было тщательно обыскано. Оттуда поехали в Киерикку, однако там по тому же поводу успела уже побывать другая группа, представлявшая белых.
Многие хозяева, ведшие себя при красных весьма смирно и даже лебезившие перед предводителями красных, сделались теперь самыми усердными «чистильщиками» округи. Они быстренько обзавелись белыми повязками на рукавах и оружием и, сунув ружье под мышку, вдвоем-втроем или позвав с собой чужих солдат, прочесывали торпы и хибарки. Так и тот хозяин, к которому заходили Силья и Манта, покинув Сийвери — хозяин Сантала в сопровождении двух хмурых северян принялся усердствовать в этих делах, несмотря на некрасивые записи о нем самом в приходской книге.
И похоже, у Санталы был к Куркеле свой интерес, поскольку он с особым пылом принялся расследовать убийство. И мимо его ушей не пролетел тот совершенно нелепый слух, будто служанка Киерикки Силья была проводницей в той ночной кровавой поездке, — утверждение особенно бессмысленное, ибо ведь знали наверняка, что возчиком был Телиниеми — местный уроженец, а стало быть, никакого проводника и не требовалось. Однако же Сантала примчался в Киерикку и начальственным тоном, усвоенным им в последние дни, потребовал Силью. «Зачем она понадобилась?» — спросил хозяин. «Да уж нужна, разобраться маленько, как она отвела убийц туда, в Куркелу», — повысил голос Сантала.
— Никаких убийц она никуда не водила, — сказал хозяин Киерикка грубым голосом. Хотя его хутор не был из числа главных в волости, но род имел все же незапятнанную репутацию, и Киерикка все время помнил об этом, разговаривая с Санталой, и пользовался соответствующим дерзким тоном и словами.
— Все нам известно, — сказал Сантала с подчеркнутой многозначительностью и глядя свысока. — Эта девчонка той ночью была в штабе Ринне.
— Да, была, на допросе была, поскольку помогла в тот вечер двум белым перейти фронт.
— Помогла им, вероятно, оказаться в штабе Ринне, так что их по дороге убили. Думаешь, не известно, куда ты велел Силье вести их отсюда. Известно и то, что ты дал штабу корову, чтобы они заступались за твой хутор — или то свинья была.
Киерикка с руганью и грубыми выражениями стал напоминать Сантале его прошлое, к чему тут же подключилась и хозяйка, обратившись к присутствовавшим чужим солдатам:
— Да вы нипочем не пошли бы с ним, если бы только знали, что он такое, но вы ведь издалека и не знаете — о нем такие записи в церковной книге, что пересказывать вам их — только рот пачкать; уж эта семейка Сантала здесь известна.
— А ну, баба, заткнись, а то получишь пулю в лоб! — крикнул немного сконфуженный Сантала.
— Только не из твоего ружья! — взорвалась хозяйка и действительно принялась выкладывать содержание церковного свидетельства Санталы.
В этот момент туда пришла Силья, и Сантале удалось перевести внимание всех на нее.
— Ага, Силья, пойдем-ка теперь в село, где церковь, дашь там отчет о своих похождениях! — пронзительно крикнул Сантала.
— С большим удовольствием, если только хозяин позволит. Я как раз жду знакомых с той стороны.
— Не хитри, девка, сама знаешь, где твои знакомые, раз уж привела их в штаб Ринне!
Солдатам, пришедшим с Санталой, начала надоедать эта перебранка. Они уразумели, что добровольное усердие Санталы, возможно, не так уж бескорыстно и что в этом деле не все ясно. Они коротко приказали Силье и хозяину следовать с ними в штаб к церкви. Хозяин запряг лошадь, посадил с собой в сани Силью, и с ними сел один солдат с винтовкой, другой вместе с Санталой ехал следом.
— Да-а, и если случится, что эти молодые господа, которых ты, Силья, тогда проводила, действительно окажутся там, то этот Сантала — борода в соплях — получит по носу в придачу ко всему прошлому! — крикнула хозяйка, когда сани уже тронулись.
— Слышь, хозяйка, придержала бы язык-то, — строго сказал один из северян, и хозяйка сразу шмыгнула в дом.
Как раз возле сенного сарая северянин спросил у хозяина:
— А не знает ли хозяин, куда девался этот Телиниеми?
Казалось странным и жутковатым, что задавший вопрос человек с ружьем, пришедший сюда за сотни километров, придает такое значение какому-то жалкому торпарю, о котором он никогда раньше и понятия не имел.
— Я про других не знаю, но он небось убежал вместе со всеми ними, — ответил хозяин.
День занялся солнечный, красивый и теплый. Снег таял буквально на глазах, и чем ближе подъезжали к центру волости, тем хуже становился санный путь. На площади у церкви были видны уже и телеги. По дороге сюда то и дело проезжали мимо часовых и патрулей, к которым Сантала из задних саней громким голосом обращался с разными вопросами и замечаниями: «А красных не видно? У нас тут, на передних санях какие-то, не поймешь какого цвета». Затем они проехали дом, в котором держали арестованных красных. За домом был лесок, и там производили казни днем и ночью.
Впереди мужик правил лошадью, запряженной в телегу, которая издали казалась груженной еловым лапником. Лошадь шла шагом, и поскольку дорога была уже сплошной слякотью, ехавшие из Киерикки вскоре нагнали эту телегу.
Оказалось, что нагружена она вовсе не лапником, а он лишь прикрывает груз. Задок телеги был забрызган кровью. Взгляд Сильи уперся в это, и постепенно до нее дошло, что было там, на телеге. Незаметно для себя она уже издалека следила за движением этой телеги, едва та только показалась из лесочка за домом, служившим тюрьмой. Но то, что глаза ее различили под ветками, сознание ее отказывалось воспринимать. Там виднелась юбка, которую Силья вроде бы видывала раньше. Правил телегой Тааветти Каннусмяки, кроткий бобыль, женатый на бездетной бабе, усердный и бережливый, которого хозяева очень привечали за то, что он не вмешивался ни в какие «идеи». Теперь ему поручили такое особое задание.
Силье не долго пришлось строить страшные догадки. Сантала вскоре громко объяснил все, а Тааветти Каннусмяки вежливо и тихим голосом помогал ему. Сантала вылез из своих саней и подбежал к телеге.
— Иди, Сильи, сюда, посмотри-ка: тут твоя подруга из штаба — Риннечиха, уже на нуги в идеальное государство. А кто это там еще? — спросил он тут же у Каннусмяки.
— Это Кивиляхти, — ответил Тааветти серьезно.
— Ага, в конце концов и эта лиса в капкан попала — больше ко мне не явится быка отбирать.
Хозяин Киерикка испытывал сильное отвращение, но он все же не сказал ни слова, лишь громко прокашлялся. Похоже было, что и сопровождавшим их солдатам это надоело, они принялись понукать лошадей.
В комендатуре была толкотня, разные люди желали попасть в заднюю комнату и стояли в очереди. Лица у всех были какие-то напряженные, каждый считал свое дело особо важным и срочным, и все эти дела были весьма необычными. Иной хозяин спешил высказаться в защиту своего красного торпаря, одна баба желала выяснить, не осталась ли там-то и там-то после бегства красных такая-то штука ткани, и если осталась, то это ее. В передней у двери сидел молодой человек с винтовкой, а на поясе у него висела «лимонка». Он был хозяйским сыном, которому удалось перейти через фронт к белым и, участвуя в боях, вернуться с ними. Его расспрашивали теперь несколько знакомых, на лицах которых было почтительное и почти умильное выражение.
И вот теперь тут оказался и хозяин Киерикка со своей служанкой и все время моргающий Сантала с белой повязкой на рукаве. Киерикка считал ситуацию для себя достаточно щекотливой и охотно воспользовался вопросом ждавшего в очереди знакомого, по какому делу он тут, чтобы громко ответить: «Да я и сам не знаю — все из-за этого чокнутого Санталы».
У Сильи на скулах от волнения горел румянец и под ресницами влажно, болезненно поблескивало. То странное ожидание, становившееся в последние дни и ночи все более волнующим, сейчас, в центре событий, вдруг будто делось куда-то. Она не могла представить себе, что встретит Армаса здесь, в такой обстановке. Если она и хотела в этот миг пожелать чего-то, касающегося его, то лишь то, чтобы Армасу не пришлось увидеть ее стоящей в этой очереди. Он виделся ей где-то далеко, с красиво вскинутой головой и поднятой для приветствия рукой, где-то там, откуда ему особенно хотелось бы пойти навстречу Силье, чтобы уйти вместе с нею куда-то… опять в новое лето, прочь от этих человеческих запахов и этих дорог, по которым везут трупы расстрелянных.
Странно, но она ни разу не вспомнила здесь о тех двух молодых людях, которым тогда, в вечерних сумерках, показала дорогу, — а ведь именно это и послужило причиной ее неприятностей. Но та дорога была совсем иной, чем эта, сегодняшняя, и когда тот, помоложе, поцеловал ее на пороге сенного сарая, она ощутила дыхание лета. Нет, нет, на этой дороге представить их было невозможно.
И, однако же, одного из них Силья встретила.
Комендант волости тоже не смог полностью разобраться в истории с хозяином Киериккой и его служанкой, вернее, у него не было сейчас времени заниматься подробным расследованием. Что касалось хозяина, то комендант был уверен: этот пожилой, серьезный владелец хутора не мог якшаться с красными, так что его и не стоило везти сюда, и комендант с укором прикрикнул на Санталу, продолжавшего бубнить насчет свиньи, которую отвезли из Киерикки в штаб Ринне. «Отвел и ты быка, только в Сантале этого не заметили — за быка сам хозяин остался», — вспылив, съязвил Киерикка. «Да, отвел, но только под конвоем». — «Какая разница». — «Ну, хозяин может идти домой, пока, а эту девчонку пусть отведут в арестантскую», — принял решение комендант и вызвал солдата. «Я и сам могу отвезти, все равно мимо ехать», — бормотал Сантала. «Приказ есть приказ!» — рассердился комендант.
Они уже вышли во двор и направились к воротам, ведущим на дорогу, когда им навстречу попался бодро шагавший господин в очках, в белой овчинной ушанке и голубовато-сером полушубке.
Офицер мимоходом взглянул на людей, которых солдат, похоже, вел туда, где держали арестованных, и тут же остановился. Он долго присматривался к Силье и наконец закричал: «Какого черта! Куда вы ведете эту девушку?» — «В тюрьму, по приказу коменданта, господин капитан», — ответил солдат, как положено. «Подождите минуту», — сказал офицер и поспешил к коменданту, но через парадную дверь, а не через общую. Еще минуту спустя сам комендант с непокрытой головой вышел позвать Силью и солдата обратно.
При этом неожиданном повороте событий лица обоих, как Санталы, так и Киерикки, вытянулись — у каждого на свой манер. Киерикка узнал в господине капитане одного из тех молодых людей, которым Силья показывала дорогу, и… он вспомнил, как обошлась с ними хозяйка. Черт его знает, как бы это теперь не обернулось неприятностями… да и свинью, пожалуй, отдали слишком милосердно, и зря он сказал, хотя бы и в шутку, мол, присматривайте уж за домом, коль получили свинью… Все это Киерикка успел вспомнит!., готовясь оправдываться, а Сантала вовсе растерялся, — господин капитан не обращал внимания ни на кого, кроме этой девчонки, которую он явно знал раньше и с хорошей стороны. И девушка может теперь ему нажаловаться.
Силья была единственной, которую встреча — все-таки! — обрадовала. Она сразу узнала в капитане старшего из тех двух мужчин — он тогда с ней не особо разговаривал, тот, другой, молоденький и пониже ростом, был гораздо общительнее. Но, похоже, и этот запомнил ее.
— Пройдемте там, через вестибюль, — велел комендант и скрылся в доме.
Поздоровавшись теперь с Сильей за руку, капитан сказал другим господам в штабе: «И такое сокровище вы гоните в лагерь для пленных… Советы этой барышни были хорошими и точными, и если бы тогда то обещание дал я, а пс мой товарищ, то теперь не оставалось бы иного, как предложить ей идти к попу, — но я к тому же и несвободен, увы. А Фредстрёму уже не выполнить своего обещания: он лежит с простреленной головой где-то между Тампере и Вилппулой… А тогда все висело на волоске, и черт знает, как бы все обернулось, не окажись тот старикан-красногвардеец возле ворот столь беспечным. Но он согласился покурить с нами, и тогда Фредстрём молниеносно схватил его же винтовку и проткнул старика штыком, как салаку. Тот и пикнуть не успел — рухнул на землю, а мы рванули вперед, словно за нами черти гнались… Но зато с белым часовым нам пришлось туго, он не хотел верить, что мы не разведка красных, и все хотел застрелить нас на месте, а потом — руки вверх! — так и вел нас под ружьем… Да-а… Но вот барышня в тот вечер нам помогла, еще раз большое спасибо… А эти мужики — кто такие? И разве это не хозяин того хутора? Конечно он; послушайте, у вас такая сварливая баба там, дома, вот кого бы притащить сюда, а не эту девушку, достойную медали, и если я выживу, она ее получит».
Снова началось разбирательство, и на сей раз Силья говорила гораздо больше, чем давеча. Она сперва подробно рассказала, как провожала тех двоих, затем о хозяйке и хозяине, что они, насколько она знала, не были замешаны ни в чем таком: свинью красногвардейцам действительно отвезли, но хозяину ведь заплатили за нее. Затем она рассказала обо всем, что пережила и слышала той ночью и в штабе Ринне, и возвращаясь оттуда. Высказала и свое мнение о Телиниеми, и… тут ей вспомнился сенной сарай… Она сбилась и на миг примолкла, так что Сантала уже успел сказать: «Ага-а!» Но тогда Силья, скрепив сердце, продолжала говорить, и все это ложилось тяжкими обвинениями на Санталу.
— А вы-то, собственно говоря, кто такой? — строго спросил капитан Санталу.
За Санталу ответил, слегка досадуя, комендант, на что капитан сказал:
— Не лучше ли будет Сантале вернуться в свою Санталу, или Ср…нталу, сидеть там и не высовываться!
— Да, Сантала может идти, если понадобится, вызовем.
— Но этот Телиниеми, он же порядочный человек, что с ним стало? — спросил капитан.
Кто-то предположил, что он, наверное, бежал с красными. Силья помалкивала. Затем расследование было закончено — Киерикке предложили полученные за свинью деньги сдать в фонд шюцкора, поскольку он все же как-никак имел дело с красными, а те обыкновенно отбирали свиней бесплатно. И тогда Силья попросила капитана поговорить с нею без посторонних.
— Я иду в ту же сторону, поговорим по дороге. Пошли.
Хозяин ехал в санях один, Силья и капитан шагали впереди. И только тогда, все еще смущаясь и колеблясь, Силья смогла рассказать о Телиниеми, про то, как у него дома и какой он сам добрый, жизнерадостный, и поклялась, что Телиниеми ну никак не мог участвовать в убийстве Куркелы. Она попросила капитана устроить так, чтобы Телиниеми смог без опаски выйти из своего укрытия, известного Силье.
Капитан смотрел на девушку с удивлением и без прежней теплоты.
— Этого я не могу обещать наверняка, это решит суд, но во всяком случае нужно, чтобы он вышел из своего тайника, иначе… — Капитан не закончил фразу, но Силья поняла, что имелось в виду. На глазах у девушки выступили слезы, и она продолжала умолять капитана сделать, что можно, чтобы снасти Телиниеми. В таком положении оказалась теперь Силья.
— Если подтвердится все, что вы о нем говорили, то не думаю, чтобы его жизнь была в опасности. Но и просто так его на свободу, очевидно, не отпустят. Я прикажу послать с вами двух солдат, которым вы покажете, где прячется Телиниеми, они приведут его сюда, а я заступлюсь за него в штабе. Иного я сделать не могу.
И он тут же начал действовать. Они уже подошли к лагерю для заключенных, капитан жестом подозвал к себе ближайшего часового и дал ему указания. Затем он остановил Киерикку, который как раз успел подъехать. Из дома в лагере вышли двое мужчин с винтовками, оба издалека, по виду северяне, оба с недобрыми лицами. По раскисшей дороге медленно двинулись вперед, лошадь с трудом тащила сани, полозья скрежетали по оголившемуся песку; иногда сани, дернувшись, устремлялись вперед, в тех местах, где на дороге был лед.
У хозяина с солдатами уже успел завязаться разговор. «Вам, здешним, надо бы — мы-то двинемся дальше — прочесать леса, там могут прятаться эти красные». — «Да они и сами оттуда выйдут, когда надоест», — сказал Киерикка. «Так-то оно так, но нечего их жалеть и оставлять там, зря только жрут». — «Но ведь и заключенные едят», — заметил Киерикка. «А никто не приказывает держать их в заключении», — хмуро сказал северянин, «И то — еще удерут», — добавил другой.
Это слыхала Силья, щеки которой все еще горели. К тому моменту успели проехать с четверть километра. Силья, сидевшая рядом с хозяином на облучке, ухватилась за вожжи и остановила лошадь, говоря, что ей неотложно надо к капитану, она забыла сказать что-то важное. И тут же пустилась бежать по дороге к лагерю, ее спутники не успели и рта раскрыть. «Ну, что еще взбрело на ум этой девчонке? Ишь разгорячилась!»
Силья нашла капитана и действительно заговорила с ним более пылко, чем раньше: «Не поеду я с теми солдатами за Телиниеми, они ужас что говорят и наверняка сразу его застрелят, как только он сдастся. Если сам капитан с нами не поедет, я тем мужчинам ничего не покажу. Была и ваша жизнь однажды в моих руках, и вы смогли сохранить ее, а теперь сохраните мне мою жизнь». — «Но ведь вашей жизни больше никто не угрожает». — «Нет, угрожает, потому что я не покажу, где Телиниеми, если капитан сам не поедет с нами и не даст честное слово, что Телиниеми хотя бы не застрелят, прежде чем все точно расследуют и поверят тому, что я сказала».
Молодой военный усмехнулся и поглядел на горящие щеки и сверкающие глаза девушки. Невозможно было подозревать это существо в каком-нибудь преступлении — и тайных сердечных дел тут быть не могло, поскольку речь шла о женатом торпаре. Капитан на миг задумался, потом сказан: «Ну, раз ты считаешь дело таким важным, придется, пожалуй, мне поехать, чтобы чем-то отплатить за свою жизнь. Подожди, я схожу, договорюсь».
В последних фразах офицер обращался к Силье на «ты». Лишь вернувшись, чтобы ехать, он заметил это и сам, усмехнулся и сказал, что, наверное, это душа подала знак, и поэтому он будет продолжать обращаться к ней так все то недолгое время, пока находится в ее обществе на этом свете. Когда они уже приблизились к поджидавшим их саням, взволнованная Силья еще раз остановила капитана, назвала ему имя своего летнего друга и, почти не поднимая глаз, спросила, не знает ли капитан чего-нибудь о нем. «Знаю лишь только, что в данный момент этот парень приближается к Выборгу, если он еще на ногах… Но что тебе до него?» Силья помедлила мгновение, прежде чем нашла подходящий ответ. «Он был тут минувшим летом», — сказала Силья, не поднимая глаз на капитана. Этот день был самым бурным в жизни Сильи.
Они подошли к санкам, в которых пять человек не поместились бы, поэтому капитан отослал одного солдата обратно и сам сел на его место. Так поехали в сторону Киерикки, но разговоров о прочесывании лесов больше не было. Время от времени капитан поглядывал на Силью, сочувственно улыбаясь, и она отвечала ему смелым и доверчивым взглядом. Киерикка и солдат были как бы уже другая компания.
Сани приближались к месту, о тайном жильце которого знала лишь Силья. Она почти дрожала от напряжения и заметила, что сама ищет взгляда капитана, в крайнем случае его руку. В воображении виделся уже счастливый вечер в избе Телиниеми… наверняка и ребенок выздоровеет. «Значит, будет так, как договорились?» — спросила она напоследок. Она была будто в опьянении, и хозяин посматривал на нее с подозрительностью и удивлением. «Ну конечно», — ответил офицер игривее, чем хотелось бы Силье.
Проехали еще сколько-то — пока перед сараем Силья не схватилась за вожжи и не сказала: «Тпруу!» Лошадь остановилась, Силья соскочила с сиденья и махнула рукой капитану, а пальцами подавали знак другим к молчанию. Затем она подкралась к сараю и зашептала: «Телиниеми, послушайте, Телиниеми, — это я, Силья, выходите — не бойтесь». Солома зашуршала, показалась рука, один сапог и наконец весь человек. Телиниеми смотрел, мигая и отряхивая с себя солому, затем он по очереди посмотрел на всех приехавших, увидел офицера и солдата со злым лицом и с белой повязкой на рукаве, увидел хозяина Киерикку и затем опять перевел взгляд на Силью. На долгий миг он остался совершенно неподвижным, и прежде чем кто-нибудь успел сказать что-то или сделать, выхватил из ножен финку, широко замахнулся ею и сказал, глядя на Силью с невыразимым презрением: «Значит, и ты пособница мясников, тьфу на тебя, баба!» Сильным рывком он перерезал себе обе шейные артерии и горло.
— Не надо, Бога ради, Телиниеми-золотко, вас не убьют! — закричала Силья, и капитан рванулся, чтобы остановить его, но было уже поздно. Сердце постепенно затихающими толчками выбрасывало кровь на солому.
— Пожалуй, он был все-таки виноват, — сказал капитан, глядя на последние конвульсии хрипящего тела.
— Нет, нет, не был, — ой, Эмма и дети! — запричитала Силья и, закрыв лицо руками, ни на кого не обращая внимания, побежала к дому. Польше ей не довелось увидеть ни капитана, ни солдата, который был там с ним. Они прямо оттуда, от сарая, поехали к себе обратно, и в тот же вечер пришел общий приказ, согласно которому фронтовые части двинулись дальше, к Тампере, где их еще ждали яростные бои.
И линия фронта сдвинулась с территории волости. Затем прошло еще две-три недели, и фронт как таковой вообще перестал существовать, Гражданская война окончилась, павшие были погребены. Но еще всю весну продолжалось расследование дел пленных и арестованных, и во многих лагерях еще шли расстрелы — бабахали винтовки, и тарахтели пулеметы карателей. Те же, кому посчастливилось, возвращались уже в родные места. Но смерть скосила многих пленных, они умирали от голода и даже от жажды — тем, кто вернулся домой, было о чем рассказать. Их рассказы о грубой жестокости перемешивались с находчивыми шутками, и в этой смеси удрученные люди пытались запрятать поглубже гнетущую их горечь.
_____________
Силья Салмелус, служанка в Киерикке, чувствовала себя так, словно она участвовала в том паническом бегстве и после этого отсидела срок в заключении. По меньшей мере еще два месяца после войны она пребывала как бы в оглушенном состоянии. Жуткие сновидения мучили ее, так что она частенько боялась заснуть. Сновидения чаще всего касались Риннечихи и Телиниеми и были порой кошмарными, особенно когда снился последний.
Силья так никогда и не смогла выяснить, как Эмма Телиниеми относилась к ней после того ужасного происшествия. На Эмму одновременно обрушилось несколько потрясений: сразу же за смертью мужа, мучительно задохнувшись, умер и ее ребенок. У нее оставались деньги, то было жалованье, полученное мужем в Красной гвардии, но, во-первых, сразу же был объявлен строгий приказ о сдаче таких денег в штаб белых, который все еще находился в селе у церкви. Во-вторых, когда Эмма Телиниеми, оказавшаяся в сильнейшей нужде, попыталась кружными путями все же воспользоваться этими деньгами, выяснилось, что это были банкноты, напечатанные мятежниками, а потому недействительные. Люди в то время всегда носили при себе, в кармане, список номеров и примет, по которым опознавали недействительные купюры. Это окончательно сломило волю Эммы, у нее начались роды, — возможно, преждевременные, — рожала она в одиночестве и чуть не умерла от кровотечения, настолько ослабела. В этом состоянии ее нашла соседка, не знавшая сама, как быть, она-то и позвала на помощь. Наконец прибыла сестра милосердия и сделала, что смогла: выхлопотала воспомоществование на бедных и вела себя героически. Но в волости было много таких же горемычных гнезд, куда эта добрая христианка должна была успеть, так что Эмме Телиниеми, несмотря на все, приходилось оставаться одной. И из-за слабости после родов она не вставала с постели гораздо дольше обычного.
Как раз в это время, однажды в воскресный полдень, Силья пошла к Телиниеми. Силье повезло, ибо случилось так, что сестра милосердия в тот момент отлучилась куда-то, и это дало ей возможность оказать помощь больной женщине. Болезни и удары судьбы в какой-то мере смягчили Эмму, она долго смотрела Силье в глаза, тяжело дышала, и голова ее при этом чуть дрогнула. Силья тоже остановилась и посмотрела, она как бы велела своим глазам смотреть на Эмму. И тут обе они заплакали, не успев еще словом коснуться той, потрясшей их обоих беды.
— Несчастная я, несчастная, — всхлипывала Силья. — Но я так сильно надеялась на того человека и что для Телиниеми будет лучше, если он выберется из ужасного положения, в котором очутился, и я была совершенно уверена, что его жизнь вне опасности. Э-эх, и почему я не догадалась сперва предупредить его.
— Нет, на них нельзя надеяться, Силья-золотко, — говорила Эмма, тяжело дыша. И ведь Силья помогла им перейти линию фронта, Тааветти знал ведь, что Силья тогда провела белых, но Силье больших неприятностей из-за этого не было, и эти самые мужчины, как раз переходя фронт, зверски убили старого Лехтимяки, что нес караул там, где дороги пересекаются. Нет, нельзя надеяться на тех, кто поднялся против бедняков и одержал победу. — Ой, несчастные мы все! — закончила свои причитания женщина и глазами, полными слез, уставилась на запеленутое дитя.
Однако же она охотно согласилась, чтобы Силья по ее указаниям взяла с веревки сохнущие пеленки и перепеленала ребенка. После обеда сестра милосердия вернулась, но при этом сообщила, что предстоящей ночью должна побыть у одной больной, у нее воспаление легких и как раз ожидается кризис. Тогда Силья заявила, что она придет сюда на ночь, после того как управится со всеми делами у себя на хуторе.
И она действительно пришла и дежурила всю ночь, старательнее даже, чем требовалось, пока не вернулась сестра милосердия. Но утром в понедельник, возвращаясь обратно в Киерикку, она была так слаба, что еле брела, сама не отдавая себе в этом отчета, пока вдруг не вздрогнула и остановилась. Слабость почувствовала она и в хлеву, во время дойки: она чуть не упала под ноги корове. Хозяйка заметила это и сказала, что Силья в услужении у Киерикки и не обязана оказывать остальным помощь, пусть о них заботится волость, она получает на это большие деньги… у человека, не спавшего всю ночь, ничего путного на работе не получится, «особенно если он такой слабенький, как ты».
Силья и после этого не спала еще несколько ночей, хотя в Телиниеми больше не ходила. Она лежала с открытыми глазами в своей постели, когда снаружи ночи постепенно светлели, словно бы доверчиво приближаясь к одиноким бодрствующим душам. И дни стали поярче, обычные явления весны и лета пытались утешить и приободрить угнетенных детей человеческих. Но Силью они странным образом так утомляли, что у хозяйки появилась причина сообщать некоторым своим собеседницам, какой вялой и невнимательной стала эта прежде вполне дельная служанка.
Ни сама Силья и никто другой еще не мог догадаться, в чем было дело. Силья, правда, иногда покашливала, но поскольку это не был настоящий сильный кашель, на него не обращали внимания, он скорее выглядел этакой легкой, бесполезной привычкой, которая иногда прицепляется к человеку. Поскольку лицо Сильи в то же время как бы обрело принесенную весной ясность и красота ее от этого опять сделалась вроде бы нежнее и тоньше, такое покашливание могло казаться почти кокетливым, тем более что оно сопровождалось еще каким-то дополнительным звуком, словно бы легким дребезжанием. Во всем облике Сильи усилился и возобладал своеобразный оттенок чистоты, подобно тому как грязный двор и обочины дорог делаются вроде бы чище с появлением зеленой травки, поглощающей оставшийся после зимы мусор. В облике этой одинокой девушки появилась какая-то прозрачность. Здесь, в Киерикке, никто не пытался особенно сблизиться с нею, и она теперь держалась еще более обособленно и отдалялась от остальных людей на хуторе.
Вечерами Силье делалось вроде бы жарко. Она думала, что виной тому тепло в доме и на дворе, но если она откидывала одеяло, ее охватывал озноб. И она опять натягивала одеяло на себя и свертывалась под ним в любимую детскую позу, воображая при этом, что всего окружающего мира не существует. Тем сильнее сгущалось в сознании ее ощущение сиюминутного существования. Та скрюченная поза, напоминающая положение плода в теле матери, словно бы возвращала и душе ее первоначальное положение; кто знает, может быть, душа в глубине своей хранила впечатления со времен зародыша. По крайней мере казалось, что она никогда не была моложе — но и старше, — чем теперь. Время и существование в данный миг были одним и тем же. Все периоды жизни, казалось, ощущаются там, под закрытыми веками, за губами и в глубине груди одновременно: детство и отец, юность и ее прекрасные, чистые периоды — те, которые душа одобряла и сохраняла, — и, наконец, эти последние переживания, такой же отзвук возникал в душе, когда в памяти появлялись то Риннечиха, то Телиниеми — или еще тот молодой человек, который поцеловал ее на пороге сенного сарая Кивиляхти…
И в конце концов память вызнала на поверхность того одного и единственного, о котором она в последнее время, после того страшного дня боялась и думать. Когда поднявшийся жар утомил тело и тем приблизил сон, в который затем все глубже погружался окружающий мир будней, и нежное, пронизанное светом дыхание летней ночи словно бы открывало дверь души, хотя телесные глаза и были закрыты — тогда он возвращался, смотрел издали, осторожно, как смотрел из лодки в ту воскресную ночь, возвращался и любил, как пять лет спустя после той ночи, но ничего не разбивал, а скреплял… и теперь смотрел из-за всего недавно произошедшего, словно вопрошая, понимает ли она… Понимаю я, понимаю, новым летом, в этом вот, что уже рядом — или как по ту сторону всего здешнего, там, в полыхании синего и золотого, где твоя душа обнималась с моей и говорила немыслимые, бесконечно прекрасные слова. Скоро зацветет рожь, скоро зацветут кукушкины слезки, они любят, как заметил ты, улыбаясь. Приди!
И сон становился глубже. На протяжении нескольких часов сон пытается дать отдых тканям тела, которым в последнее время что-то мешает. По мере отдыха тела пот выгоняет через поры кожи вредные и отягощающие вещества, и вместе с этим температура понижается, дыхание становится тише, легкие прокашливаются. Человек на мгновение просыпается, замечает, что вспотел, и вспоминает, что раньше с ним такого не бывало. Уже за полночь часы бьют — половина, но какого часа — непонятно. И освещение комнаты странное, совсем иное, чем вечером. Из кровати, стоящей у двери, слышится хриплое дыхание батрака — это людская в Киерикке, и тут все совсем не так, как было в маленькой комнатке виллы Рантоо, где на окне, когда просыпаешься, видны были пестрые луговые цветы в стакане, а из щели дверной притолоки иногда кивала ветка рябины. И было совсем не так, как дома, в избе, где слышавшееся дыхание принадлежало отцу… Здесь единственная привлекательность была в тишине, в том, что все дневное начисто исчезало.
И в коротенький миг этого пробуждения тот образ одного-единственного предстал перед нею, хотя глаза ее были открыты. Он явился и хотел устранить все, что произошло за время разлуки, и это так ласкало душу, что глаза снова невольно закрылись и нахлынул новый, более спокойный утренний сон, счастливый, как в раннем детстве, когда сознание затаивалось в ожидании побудки — ласкового отцовского тормошения.
Но отец начинал тормошить ее обычно лишь тогда, когда сон уже успевал ослабеть, и если остатки сна еще задерживались где-то в теле, отец умел прогонять их, приятно дотрагиваясь и нажимая гибкими пальцами как раз на те места, где таился сон, при этом он шутливо пыхтел, словно массировали его самого; и тогда можно было бодро выпрыгнуть из постели и бежать прямо на крыльцо, приветствовать солнечное сияние.
Этим утром в начале лета ее разбудили коровы Киерикки. Или все же окончательно разбудило Силью незлобивое, как обычно в последнее время, ворчание хозяйки: «И что это с тобой происходит, прямо удивительно, какая ты стала». В это утро — и потом уже всегда по утрам — Силье трудно было встать на дойку в обычное время, в пять часов; от хутора до маслобойни было довольно далеко, так что тому, кто отвозил туда молоко, приходилось пускаться в пусть спозаранок. Силья же… этой весной и в начале лета ей хотелось спать по утрам, спать хотя бы часиков до восьми. Но это было невозможно, это не удавалось даже по воскресеньям, когда батрак спал почти столько, сколько хотел. Он с субботы отводил лошадей на дальний огороженный выгон, где они оставались до утра понедельника, поскольку из Киерикки ездили в церковь лишь раз за лето — на причастие, в ту пору, когда цвела рожь.
Так каждое утро они и шли: слегка кривоногая хозяйка Киерикки, как бы устремляя вперед свое сердито-благостное лицо, и ее тщедушная, с длинными ресницами служанка, которая некогда — до всех этих дел и событий последнего времени — родилась в большом наследственном имении и была дочкой его владельца; они шли на скотный двор, где их ждали коровы — одни уже стоя, другие еще лежа и жуя. Земля на скотном дворе была покрыта засохшим крошевом лапника, который там и сям разнообразили зеленоватые нашлепки, оставленные коровами, уже побывавшими на весенней травке, — иная ленивая корова умудрялась обделать себе ноги и даже вымя, вот и приходилось тащить с собой ведро с водой и тряпки. На маслобойне как-то сделали замечание, мол, молоко из Киерикки грязновато. А за это снижали цену.
Силья встала с трудом, но вскоре все же приободрилась, — в такое раннее утро воздух был свежее и чище, чем в любое другое время суток. Да еще по сравнению с людской, где по утрам бывал особенно спертый воздух. Правда, людская была довольно большой и там обычно спало не больше трех человек — кроме Сильи, еще батрак, а теперь и поденщик, — но в результате их жизнедеятельности воздух в помещении оказывался основательно испорченным. Даже хозяин, у которого постоянно был насморк, замечал это, приходя по утрам в людскую, и лениво пошучивал на сей счет.
Вот так, встав на ноги и вдохнув полной грудью освеженный тысячами миллионов цветов и листьев воздух, Силья до завтрака оставалась в хорошей рабочей форме. Случалось, даже в какие-то моменты пыталась тихонько напевать. Но затем хозяйка стала замечать, что Силья за завтраком почти ничего не ест. И хотя это вроде бы хозяйству выгодно — ведь бывают такие служанки, которые едят столько, что это даже влияет на рентабельность, — однако, пожалуй, было уже слишком, когда весь завтрак Сильи составила маленькая кружечка только что привезенного с малобойни обрата, которым в Киерикке, как и на других хуторах, в первую очередь поили свиней и телят. Правда, его хватало и на стол в людской. Но там имелось всегда и другое, такое, что подкрепляло человека, выполняющего работу, картофель, салака, растительное масло и… прежде всего сытный ржаной хлеб. И хлеба давали воистину без ограничений, батрак и служанка могли есть его сколько влезет. Даже самым скупым хозяевам было неприлично — и в то лето тоже — говорить, что люди едят слишком много хлеба, кроме как в шутку. И тот самый батрак, что спал возле двери, умело пользовался этим старинным правом работников. Если салака случалась чуть поржавевшая или растительное масло успело слегка прогоркнуть, то этот мужик съедал в обед целую буханку весом почти в полкило, съедал, запивая этим самым снятым молоком, и, наевшись, вставал из-за стола и рыгал.
Но Силье хозяйка сказала:
— Ешь, девочка, ешь все-таки, а то после такого завтрака много не наработаешь. И к вечеру опять будешь как молитва лунатика.
Силья трудилась, сколько могла — и вечером тоже, хотя в ушах все сильнее стучала кровь и хотя уже за работой воображение устремлялось в те, минувшие, времена, как прежде они устремлялись в воображение, когда она лежала вечером в постели и у нее поднималась температура. И теперь ближе к вечеру словно кто-то нашептывал Силье, что из этого ее состояния возврата к прежнему быть не может…
Силья хорошо понимала, что прежняя жизнь уже не вернется, та прежняя жизнь здесь, в Киерикке, куда она осенью прошлого года приехала не раздумывая. И ночами она все больше чувствовала себя иначе, чем раньше: с вечера жар у нее стал заметнее, а под утро она потела и кашляла. Это заметил уже батрак, который вечером напился у какого-то арендатора браги и проснулся среди ночи, чтобы сходить на двор. И теперь стоило днем кому-нибудь подшутить по поводу того, что они, дескать, спят в одной комнате, Силья, отвечая в тон, говорила, мол, «а что, Ааппо?», и батрак самодовольно отвечал, пожимая плечами: «Ах, брось, нужна ты мне, чахоточная, ты ж как черт кашляешь по ночам!»
Приближался Иванов день. Силья принялась следить за луной, как она меняется каждым вечером, заглядывала в календарь и пыталась вычислить, на какой день недели прошлым летом приходилось то число, что нынче приходится на воскресенье. То была суббота. И чем чаще хозяйка выговаривала Силье за невнимательность и прямо-таки бессилие, тем чаще и дольше Силья задерживалась в прошлом лете, в тех местах и событиях. И какие времена и события она вновь переживала в те минуты начала ночи, когда сон не шел к ней и жар томил тело, не дано было знать никому. Однако внутренне она начала все больше чуждаться этого дома и удивлялась тому, как она смогла целую зиму, почти от лета до лета прожить здесь. Все чаще вспоминалось лето в доме Рантоо и все связанное с ним; она чувствовала, будто задыхается здесь в каком-то мерзком зловонии, и лишь там был чистый воздух. Мысль вернуться обратно в страну Рантоо стала навязчивой отправной точкой, от которой нельзя отрываться ни на миг. Она попыталась поговорить с хозяйкой о том, чтобы ей разок сходить навестить то место, где она служила прошлым летом. Если она утречком пораньше отправится, то успеет вернуться к вечерней дойке. И удобнее всего будет, если хозяйка отпустит ее в Иванов день, говорила Силья.
— Нет, в Иванов день никуда ты не пойдешь, — отвечала на это хозяйка. — Мы тогда поедем с хозяином в церковь к причастию, так что тебе придется остаться дома — обед готовить.
Хозяйка произнесла это тоном, исключавшим дальнейшее обсуждение. Однако же немного попозже она сама вдруг сказала:
— В нынешнем году день отдыха для прислуги после Иванова дня — воскресенье, вот тогда и сходишь, если уж очень хочется.
Так был точно назначен срок той прекрасной летней прогулки Сильи, которой и суждено было стать последней. Ожидание ее придавало девушке силы, хотя вечерами у нее явно начинался жар, а в полуночных сновидениях ее трепал за волосы сам профессор, улыбаясь во весь рот, и хотя, потея под утро, она все больше ощущала слабость, однако бодро вставала и спешила из ржанохлебной духоты людской на летний утренний воздух, доить коров. Ничего плохого этому хутору она не желала, однако все время как бы обманывала его: поступила сюда и оставалась тут, хотя жизнь этого хутора была ей совершенно безразлична — лишь бы просто где-то быть. И это место находилось к югу от того, где она жила и служила прошлым летом, от Рантоо. Теперь же ее впервые потянуло обратно к северу, в те места, где Сийвери или даже изба, где она жила с отцом…
Но так далеко ей больше никогда уже было не добраться, зато посещение Рантоо получилось чудесным и полным событий. В то утро Силью не пришлось будить, — громко напевая, она уже доила первую корову, когда хозяйка пришла в хлев. «Ого, до чего же тебя радует поход туда, даже запела с утра. Кто знает, к добру ли это», — сказала хозяйка, которая всегда с трудом переносила проявления чужой радости.
И действительно, «к добру» это не обернулось, но сейчас, утром, все было приятным, как только может быть в воскресенье, после Иванова дня. Погода была тихой и настолько сухой, что даже роса не выпала, из чего хозяин, выглянув с крыльца на двор, заключил, что днем быть дождю. Но пока небо было безоблачным и излучало тепло, а горизонт растворился в жарком мареве. Когда Силья вышла за пределы хутора — последним остался у нее за спиной тот жуткий сенной сарай, — солнце, воздух и земля, со всем растущим на ней, были долго ее единственными спутниками. Лесная дорога у нее под ногами была теперь покрыта ровной зеленой травой, в которую врезались колеи от колес телег и повозок, а между ними была протоптанная лошадьми тропинка. В одном месте открывался такой красивый вид, что невозможно было не присесть полюбоваться. И, сидя там, она почувствовала настоящее утреннее воскресное отдохновение. Пускаясь в путь, она полностью переоделась, и одежда сохраняла еще чистый запах амбара. Она и сама заметила это: вспомнился день окончания учебного года, когда она еще была маленькой девчонкой. Наконец, пройдя через лес, она вышла к следующей деревне, где уже ощутилось приближение конечной цели похода. Ей было приятно видеть, что и там девушки в светлых воскресных одеждах. Они торопливо сновали по тропинкам дворов, завершая какие-то свои дела, перед тем как отправиться в церковь. С некоторыми из них она уже была знакома, и они улыбались и кивали ей, здороваясь.
Сухая, проложенная телегами дорога огибала подножие горы и вела из этой деревни в ту, где как бы царила роскошная вилла Рантоо. Но прямо через гору вела пешая тропинка, по ней-то Силья и пошла. Правда, подъем был утомителен, и она вновь почувствовала внезапно мучительную усталость, слабость в коленях и сухость во рту. Наверху, на горе находилось жилище, где обитала одна вдова с дочерью, и у них много раз покупали куриные яйца для Рантоо. Здесь тоже сегодня ощущалось воскресенье. Солнце озаряло серые стены избушки. Из-за веток яблони как-то приободряюще поглядывало знакомое окошко. Невидимый петух кричал где-то здравицу воскресенью. Низко у земли видна была крышка колодца, окруженного пышной весенней травой. Силья помнила, как профессор хвалил воду этого колодца Куккулы и полагал, что колодец как-то связан с родником Хорханоя — тем, вблизи которого цвели кукушкины слезки… Силья свернула во двор — смочить пересохший свой рот, присела на минутку на крыльце и перемолвилась с вдовой и ее дочкой о делах минувшего лета и зимы. Она услыхала, что все время, пока шла Гражданская война, профессор находился тут, в Рантоо, а барышня была сначала в Хельсинки и лишь к концу войны, после многих передряг приехала сюда на помощь к профессору.
— А тот молодой господин, «веселый и красивый», как называла его старая Сийверина, достоверного о нем ничего не слыхать. Одни говорят, что он погиб, а другие — что очень тяжело ранен. Я ни разу не встречалась с барышней Лаурой, так что не могла спросить; она-то небось знает лучше всех, ведь говорили, что прошлым летом они вроде бы малость дружили.
Этот двор находился не на самом верху горы. Но отсюда видны были уже самые далекие ели. Силья ушла и шагала по знакомой тропке — пока не дошла до того места на горе, которое она помнила лучше всего. Там была маленькая поляна, кусты и деревья как бы отступили перед путницей, чтобы она могла получше осмотреть открывавшийся перед нею пейзаж. Своеобразие этого места было, однако же, в том, что здесь на почве гулко отдавались эхом даже самые легкие шаги. Здесь росла трава, но всегда какая-то пожелтевшая, так что казалось непонятным, когда ухитрилась она там вырасти. Поляну пересекала узкая, знакомая всем тропка, и часто случалось, что путник, услыхав этот гулкий отзвук, не мог удержаться, чтобы не произвести опыт, останавливался и топал ногой, как дети, услышав эхо, начинают забавляться им. Замечательная вода колодца Куккулы так взбодрила Силью из Киерикки, что она остановилась и, улыбаясь, произвела тот же самый опыт.
Ее лучистая улыбка могла быть адресована и открывающемуся перед нею виду. Вилла Рантоо стояла на прежнем, собственном месте — так же окрашенная, те же углы и очертания крыш. Тот же заросший березами мысок вытянулся в сверкающей под лучами солнца воде, — мысок, который столько раз напоминал Силье похожий мыс возле отцовской избы, на конце которого она, вернувшись в воскресенье из конфирмационной школы, глядела в летнюю ночь на озеро и ощущала тишину. Теперь мы с Рантоо опять был виден с этой гулко звучащей спины горы. А под мышкой у горы были невидимые отсюда — сауна, пекарня, вмурованный в летний очаг во дворе чугунный котел… она точно знала, как они выглядят именно в таком солнечном освещении, и помнила, как пахнет чугунный котел, мимо которого ей не раз случилось проходить подобным воскресным утром.
Тропа вела вниз, к риге ближайшего двора и затем на настоящую проселочную дорогу, которая спускалась с горы еще ниже, а по обеим сторонам дороги волновались зеленовато-желтые ржаные поля. Все знакомее становились места вокруг, и с некоторыми из них тут были связаны определенные воспоминания. Спустившись в низину, Силья поняла, что гора Кулмала выше, чем она это себе представляла по памяти… До чего же высоко, если смотреть из низины, находится та самая поляна, на которой всегда пожелтевшая трава и откуда хорошо видно, что происходит на скотном дворе Рантоо и на причале… Силья хорошо знала это — оттуда она смотрела и тогда, когда на причале ждали отправления…
Дорога опять пошла немного на подъем, и снова стали видны постройки Рантоо, сделавшиеся Силье еще дороже. И вот перед нею уже развилка дорог, и надо решать — идти ли прямо в Рантоо или сперва в Кулмалу. Силья остановилась. Вокруг, на лугах, не было ни души, так что ее могли заметить лишь из окон Рантоо, а ее это не смущало. Однако же она продолжила свой путь не в Рантоо, а свернула налево и вскоре шла уже через двор Камраати, где на крыльце людской сидели два незнакомых ей мужчины и, кроме них, еще старый полоумный Калле Кякеля, который жил в избенке на отшибе, и Силья слыхала, что его единственного сына, которого считали тоже немного неполноценным господином, кто-то отвел после возвращения белых на край болота и застрелил там… Старик следил за Сильей своими маленькими равнодушными глазками, пока она не дошла до старой яблони, откуда виднелась уже изба Кулмалы; он глядел на нее, как непонятый символ великой тоски.
Нужно было еще открыть и закрыть за собой те ворота, со щеколдой которых Силья так хорошо умела управляться, и дернула ее ровно настолько, чтобы та, опустившись, щелкнула. Черемуха и смородиновый куст, постаревшие на год, стояли на своем посту, столь же солнечные и столь же бесполезные. Затем она прошла по недлинной ровной дорожке — и услышала, как кто-то играет на пианино.
Лайни играла что-то бурное и все нажимала и нажимала педаль, от которой все звуки обретали такую гулкость, что сама мелодия лишь угадывалась. Девушка так увлеклась, что не замечала гостью до тех пор, покуда та не прошла в комнату. Поздоровавшись, они смотрели друг на друга — каждая из этих двух юных женщин, стоявших там лицом к лицу, изменилась за прошедший год. Лайни видела и тех, кто воевал, и то, что они творили, и сильно повзрослела за зиму. Силья была для нее как бы воспоминанием о прошлом лете. И теперь в связи с Сильей Лайни вспомнила о разных вещах, которые она заметила еще тогда, но не смогла взять в толк. Обе показались друг другу более чужими, чем раньше…
Софии не было дома, но, вероятно, она скоро придет, кажется, пошла в Рантоо.
Силья не знала, о чем бы спросить у Лайни, а та у Сильи — тем более. Девочка лишь стояла, переминаясь с ноги на ногу. И Силья ощущала примерно такую же неловкость. «Силья теперь кашляет, что ли?» — спросила Лайни. «Это у меня уже всю весну», — ответила Силья, переходя от одного окна комнаты к другому и глядя наружу. Прошлогоднее ржаное поле теперь, похоже, стало лугом… Силья вышла из дому, чтобы посмотреть поближе. Лайни исчезла в кухне.
Те же знакомые куры тихонько покудахтывали во все усиливающемся зное сухого летнего дня. Той же была ограда скотного двора, та же калитка открыта, немного скособочена. От хлева несет сухим навозом и лапником, подойники, как обычно, на лавке возле кухни для скота. Силья в одиночестве смотрела на них, облокотившись на изгородь. Никто не шел составить ей компанию — лишь ласточка промчалась мимо и щебетнула, словно бы подтверждая Силье то, о чем та и сама знала.
Все это было совершенно обычным и будничным и вряд ли вызвало у Сильи иные ощущения, связанные с прошлым, кроме того, что она сама уже не прежняя. И снова ощущалась та легкая, вызывающая испарину усталость… До чего же далеко было… Какая жизнь была прошлым летом, и что теперь? Это конец — по крайней мере здесь не встретишь ничего из того, о чем тосковала.
Но тоской было по сути дела все прошлое лето. Если теперь здесь вспоминать о нем, то кажется, что и тогда она не получила всего, что то было лишь начало, предощущение. И продолжения у него не было — да и началось-то едва-едва… Почему я вела себя тогда так, почему я не пошла за ним, не догнала, не ухватилась за него?.. И почему минувшая зима произвела во всем мире эти жуткие изменения, сделавшие невозможным возвращение того, что было.
Вероятно, в последнем периоде жизни Сильи те мгновения, когда она стояла в Кулмале, облокотясь на изгородь скотного двора, София отсутствовала неизвестно где, а Лайни оставалась в избе, были самыми унылыми. Она повернулась и стала смотреть на другие хутора деревни, видневшиеся вдали. И вспомнила слухи об их судьбе, которые доходили до нее в те ужасные дни зимы и начала весны. Она вспомнила и хозяйского сына с того хутора, темноволосого, немного застенчивого и так красиво улыбавшегося, — и она знала, что его заставили быть возчиком и что какой-то человек родом из тех мест, где много заводов, который поступил к русским в солдаты, застрелил его в лесу. Оттуда и привезли обледеневший труп, лишь когда пришли белые. И Силья вспомнила разговор на эту тему, который ей довелось услышать: «Ну поймали белые этого Килпи?» — «Поймали, поймали — попался в сеть в Тампере». — «Ну и что с ним стало?» — «Ха, еще спрашиваешь. Поставили к стенке казармы и шлепнули».
Силья вспоминала и об Оскари Тонттиле, и о тех незначительных, в общем-то, отношениях между нею и Оскари. Спокойно, почти с жалостью вспомнила теперь о них Силья. И она почувствовала теперь почти удовлетворение от того похода в дом Оскари, поступка, который она считала таким, какой следовало выбросить прочь из памяти. Оскари уже мертв, и в сознании Сильи его человеческое достоинство обрело цельность и неприкосновенность. И здесь, на землях хутора Кулмалы, Силья подумала, что, пожалуй, и она сама как бы по ошибке осталась в живых и встретила это странное лето.
И это ощущение не покидало ее потом весь день.
Вернувшись домой из Рантоо и увидав Силью, София сразу обрадовалась и очень сердечно сказала: «Добро пожаловать!» Затем она упрекнула Силью за то, что та не догадалась прийти в гости раньше. Но в то же время было заметно, что София держится как-то по-новому. Она как бы перестала быть той прежней Софией, которую Силья так пылко обняла в знак благодарности тогда, прошлой осенью, в Рантоо, собирая свои вещи. В течение этого дня София явно все больше отдалялась от нее, хотя и оставалась дружелюбной. Выражение лица ее все время сохраняло оттенок какого-то бессильного сочувствия, когда она смотрела в глаза этой красивой девушки из прошлого лета. Причину этого Силья поняла лишь на обратном пути в Киерикку, на лесной дороге, когда трава покраснела от брызнувшей на нее крови.
С тем же выражением глядел на нее и профессор, когда Силья позже, днем пошла с Софией в Рантоо навестить его. И странно — профессор тоже почему-то не мог сказать Силье об этом прямо. Профессор и вообще-то стал словно другим человеком — унылым, гораздо более тихим — и сильно постарел. Пожимая на прощанье руку Сильи, он был явно растроган — старик как-никак чувствовал привязанность к этой «деточке» и отлично понимал, что никогда уже больше ее не увидит. В последние месяцы он многое потерял, а теперь уходила и она — человек, о котором он минувшим летом и осенью заботился и который обнимал его за шею, пока он ставил компрессы…
И барышню Лауру повидала Силья, при этом София вынуждена была задать некоторые весьма прозрачные вопросы за Силью; она хорошо понимала спою роль и в этом еще оставалась прежней Софией. «Молодой Армас, да… — Барышня Лаура произнесла эти слова и затем с застывшим выражением лица рассказала коротко то, о чему нее однажды раньше уже был разговор с Софией и о чем Силья не решилась спросить у Софии, из-за странного выражения ее лица, да и София, будучи наедине с Сильей, не хотела говорить ей об этом — Молодой Армас, да… он лежал в госпитале — тяжко раненный. Судьба обошлась с ним, беднягой, сурово. Тогда, летом, вскоре после его отъезда отсюда, он потерял мать, а теперь — да, он лишился еще и ноги и почти лишился одного легкого…»
Затем София и Силья вернулись в Кулмалу. Лайни даже согласилась поиграть им — это были какие-то новые марши, которые принесла война. Один назывался «Марш егерей», другой — «Прекрасная Карелия». А София пела их под музыку Лайни.
Силье становилось яснее и яснее, что все то в ней, чему она инстинктивно отправилась искать поддержку, стало здесь еще более слабым. И ей нужно идти восвояси, ибо все то, о чем она тосковала, на самом деле жило еще лишь в ее собственной душе. И только там она еще могла продолжать растить все это.
_____________
Так и у сегодняшнего воскресенья, долгого и яркого, стали постепенно появляться признаки приближающегося вечера. Изменение теней во дворе Кулмалы было Силье хорошо знакомо; чем дальше за полдень, тем яснее проем ворот напоминал, что пора уходить. Это вызывало легкую грусть, ведь она знала, что все равно придется в конце концов вернуться в Киерикку и остаться там. И она погостила уже так долго, что удерживать ее не стали.
Рантоо виделось все время, пока она шла по тропинке, огибавшей широкое подножие горы. Дальше она пошла песчаным проселком между полями, и вилла осталась уже у нее за спиной, и когда она по каменистой, крутой и извилистой тропинке поднялась на гулкую макушку Сикомяки и остановилась там, ей пришлось повернуться, чтобы еще раз увидеть те дорогие ее сердцу места. Солнце, утром светившее справа, теперь уже светило слева. И возврата для нее в Рантоо больше не будет, покуда вилла была видна, эта округа как бы провожала ее, свою хорошую знакомую, юное человеческое существо, но затем словно окончательно попрощалась с нею, быстро отвернулась. Поля, дороги и скаты крыш снова стали лишь приметами этой деревни, но никакой помощи Силье от них не было. Она осталась чужой им, сердце бешено колотилось, и шея покрылась горячей испариной.
Лучше бы поспешить прочь от душного дыхания деревни, чтобы отдохнуть на прохладной лесной дороге. После только что преодоленного подъема она дрожала всем телом, и предстоящий спуск с горы вызывал слабость в коленях.
Последняя часть красивой воскресной дороги была для Сильи мучительна. Находясь еще на вершине Сикомяки, она наметила для отдыха одно известное ей место у лесной дороги; дойдя туда, она опустилась на землю среди лесных трав, словно достигнув конечного пункта. И в некотором смысле так оно и было. По поводу долго длившейся ее хвори люди — то один, то другой — уже отпускали как бы мимоходом замечания, вроде того, что «если летом заполучишь кашель, он раньше зимы от тебя не отстанет», — но тут на зеленую траву возле дороги вырвалось что-то красное. Это случилось с ней впервые, красное пятно было небольшим и вскоре исчезло в траве, но все же при мысли о преждевременной смерти Силья на мгновение впала в бескрайнюю подавленность и тоску. Лишь теперь разрядилось напряжение, в котором она пребывала весь день. И хотя надежды, с которыми она пустилась с утра в путь, были невелики, но и они не сбылись, они остались там, среди деревни, на залитых солнцем полянах, куда ей после этого — да, и после этого — наверняка нет больше возврата. Усталость завершилась кровотечением на этой никому не известной лесной полянке.
И все-таки неужели не дано Силье достигнуть той жизни, к которой она с юных лет инстинктивно стремилась? Неужели от надежд не останется ничего, кроме отсвета воспоминаний?
Похоже, что так. Девушка сидела тихо, опираясь на одну руку, а лицо ее было бессмысленно блаженным… Когда удается унять кашель, тогда ничего. Надо думать лишь о вещах сегодняшних… Вчера был Иванов день, но и сегодня день праздничный — воскресенье. До чего же это мило, что посреди лета два праздничных дня подряд. Не дали ей отдыха на Иванов день, но зато на сегодня дали… Неужто уже прошел год с того момента… и с того? И каким-то вычитанным в книге рассказов кажется то, что она услыхала от Лауры, профессорской дочки. Поразмыслить об этом без помех можно лишь теперь, здесь. Ее взгляд вернулся из дальней дали в явь и уперся в оставшиеся от брызг крови темные следы на траве, словно изучая, как это они приняли на стеблях очертания слезинок. Но это своевольничали лишь глаза. Мысли же были заняты бывшим другом, молодым человеком, его отрубленной ногой и продырявленным легким. Она думала и о его гордо вскинутой голове, которая виделась в ее воображении еще более благородной после всех перенесенных им испытаний… Он еще не выздоровел, и ничего не известно о его окончательном выздоровлении, ведь ему пришлось пролежать не один час в снегу…
Но теперь-то лето, сугробы давно растаяли, и даже у самых дальних тропинок растут цветы, так что можно присесть среди них. В сладком неведении пускаешься в путь по такой тропке, легкая игривость искрится в речи и во взгляде, пока не предстанет перед тобой полянка, которая так прелестно завлекает присесть, что отказаться невозможно… И коль не откажешься присесть, не откажешься и от многого другого, и станет гораздо теплее…
Было тепло, и все же сидящую у дороги уставшую девушку била дрожь, холодная дрожь, и мучила жажда. А может быть, и действительно уже не было так тепло, солнце только что опустилось за леса, и его энергия дробилась о деревья, о мощные ели, стоящие плотным строем, столь могучие и старые, что могли позволить себе не обращать внимания на тех, кто сидит у их корней. И день, истраченный людьми, как бы поднялся ввысь к самым юным нежным побегам на макушках елей, стал недостижимым с земли, и могучий лес наконец завладел им. Глаз уже заметил поблизости пригнутый к земле можжевельник и в его ветках нити паутины, словно тончайшие натянутые струны. И поверхность почвы тоже видна была как-то яснее, четче; если глядеть на нее пристально, то начинало казаться, что и она так же ждет, как только что ждал створ ворот Кулмалы… Только что… неужели это было только что? Ведь уже приближался вечер. И ведь Силья уже много часов подряд общалась в душе с прежними, с далекими временами. Никто не прошел мимо нее… или все же кто-то… Она побывала в Кулмале, там играли на пианино и пели…
Силья еще напевала про себя. И пусть она не пела в голос, все ее существо пело, и то была длинная песня, которая постепенно превращалась в новую надежду, более широкую, чем этот воскресный поход в гости. Поскольку молодого человека там не оказалось, ни во дворе Рантоо, ни в комнате Кулмалы, сердце вскоре забыло, что его-то оно там и искало. Оно окончательно вернулось на свое место, в самое себя, и нашло там искомое…
Сердце нашло его и с того момента держало только для себя. Они остались вдвоем. Они не общались с другими, не бывали на людях, и никому не дано увидеть ран ее милого. И это тем более легко, что сознание не ведает толком, где он, ее друг. Долгая передышка в придорожной траве кончилась тем, что девушка поднялась уверенная и полная надежд. Высохшие и ставшие почти невидимыми брызги крови тоже стали далеким прошлым. Никогда она не была столь уверена в жизни, как теперь, встав с травы, хотя все тело будто не принадлежало ей, она дрожала в холодном ознобе и хотела пить. Теперь ей надо жить и крепнуть, ибо милый с каждым мигом, казалось, приближается и как бы все увеличивается. У него были свои переживания после того, как он летом уехал, — минувшим летом, или только что, — за это время произошли всякие события, но теперь они отпали. И его отъезд тогда был каким-то недоразумением, которого Силья не смогла понять. И так уж получилось, что теперь он, калека, лежит где-то, а вторая половина этого единого целого бредет здесь уже почти в сумерках по дороге, возвращаясь в Киерикку, в некий дом, где у людей поношенная и грязная одежда, у печи обиты углы, а сами люди беззлобно ворчат. И они оба, и он, и она, должны пройти свои дороги до конца.
Лес опять поредел, и дорога сделалась более ровной, опять превратилась в проселок, вела мимо риг и сараев. Одна знакомая, догнав Силью, поинтересовалась, куда та ходила, и была слегка удивлена разговорчивостью этой обычно тихой девушки. Силья говорила вперемешку о прошлом лете и о нынешнем, о войне, о павших и о тяжелораненых, казалась странно взволнованной, тяжело дышала, а скулы ее покраснели. «Силья, наверное, малость притомилась в дороге?» — сочла возможным спросить попутчица, у которой эта встреча зародила начало сомнения в душевном здоровье Сильи.
Силья немного опоздала, вернулась чуть позже, чем они договорились с хозяйкой перед уходом. Хозяйка сама начала дойку и ничего не ответила Силье, когда она спросила, выдоены ли уже эта и та коровы или ей надо заняться ими. Хозяйка то ли не расслышала, то ли все еще злилась на мужа, с которым у нее произошла перебранка, во всяком случае она теперь молчала. Силья взяла подойник и нагнулась к вымени; корова, похоже, была еще недоена. Она принялась доить, и уже первые капли звонко ударили в дно жестяной посудины… но тут силы оставили доярку, она потеряла сознание. «Господи помилуй, что это с нею», — пробормотала хозяйка своими мягкими губами; ей никак не удавалось поставить прямо свой полный подойник, чтобы прийти на помощь Силье, и она от этого волновалась все сильнее.
Пожалуй, немного молока все же плеснуло через край, но хозяйка уже подхватила девушку, почувствовала, что шея у нее очень горячая, а руки совсем холодные. Силья же ничего не могла вымолвить, и голова ее вяло откинулась назад. «Помогите, скорее сюда! Ради Бога! Да где же они все? Херманни!..» Хозяйка кричала так, словно все домочадцы единодушно выказали великое небрежение и словно всем им в этот воскресный вечер следовало быть на месте в ожидании и этого происшествия и крика деятельной хозяйки. Но когда никто не явился — «что у них — ни ушей, ни глаз нету, что ли, — дети где же? Тауно-о-о-о…».
Силья уже открыла глаза, пыталась нащупать свой опрокинувшийся подойник и встать, чтобы продолжать дойку.
— Оставь уж, — сказала хозяйка, — похоже, ты, бедняга, свое на этом свете уже отдоила.
Девушка настолько пришла в себя, что хозяйка могла повести ее в дом. И как раз хозяин вышел на крыльцо. Хотя он старался не показать, что сконфужен, это было заметно, и хозяйка, ведя девушку в дом, как бы насмехалась над ним, оказавшись все же победительницей в давешней перепалке. Идя мимо мужа, она сочла себя вправе продолжать обиженное молчание и не отвечала на его вопросы.
После этой дойки Силья больше не могла работать. Правда, утром в понедельник она почувствовала себя лучше, она спала так, как спит человек, который после долгих усилий добрался наконец до дома. Но когда она попыталась встать, все вокруг опять почернело у нее в глазах и во рту внезапно пересохло. Не оставалось ничего другого, как упасть обратно в постель; слабый стон долетел до кухни, где хозяйка была уже на ногах. Дом уже и вообще просыпался, со скотного двора слышалось мычание коровы, и в кровати возле двери батрак чмокал губами.
Хозяйка вошла в людскую, и маленькие ее глазки уставились на кровать Сильи. Хозяйке досаждали любые отклонения от устоявшегося хода жизни, а хворая служанка была явлением необычным. Но полагалось выказать сердечность заболевшей служанке. Этим и объясняется, что хозяйка Киерикка сказала Силье весьма злым тоном весьма сердечную фразу — или наоборот. Коровы опять замычали, ибо давно уже было пора начинать дойку. Они словно хотели домычаться до сознания хозяйки. Хозяйка уразумела, что сегодня дойка не пойдет как обычно, и сказала:
— Похоже, придется пойти звать эту Сантру Мякипяя на сегодня, работать за тебя.
Этим хозяйка хотела сразу обозначить, что не намерена содержать больную Силью. Но она прекрасно знала и то, что девушке уже три месяца не плачено жалованье — это успело пронестись в ее медленно соображающем мозгу — и что у нее очень хорошее приданое. Потому-то она и сказала: «За тебя».
Но для Сильи это было мелочью, ей хотелось лишь лежать. Кровать была грязной, и в углах ее завелись клопы. А на улице стоял прекрасный летний день, это ощущалось и внутри дома; казалось, работы на хуторе сегодня шли особенно хорошо. Дети то и дело вбегали в людскую и выбегали, дверь оставалась открытой, и оттуда неслись в дом и запахи природы, и звуки работы. В этот долгий летний день Киерикка казался Силье почти родным домом. В душе ее продолжался тот праздник, что начался вчера.
Она услышала также разговор за дверью хозяина с хозяйкой. Они разбирались — перебивая и поправляя друг друга, — как долго можно держать больную Силью без помощи общины. И хозяин заметил, что девчонка-то из другой волости и здешняя община ничего на нее не даст, только склоки пойдут.
Затем хозяйка пришла поговорить с Сильей. Она перво-наперво сказала, что болезнь Сильи, судя по всему, смертельна и что следовало бы теперь же, пока есть время, основательно выяснить отношения с Богом. И что сейчас надо бы чуток поговорить и о делах материальных. И что если Силья согласится на то-то и то-то — и затем еще на кое-что, — то возможно, тогда как-нибудь они управятся…
Вскоре позвали и Сантру Мякипяя; она пришла с важным видом и перечисляла свои срочные домашние дела, которые ей пришлось оставить. Но Силье все это казалось удивительно незначительным. Гораздо важнее было то, что теперь и она лежит в постели, как ее милый где-то там. До чего было бы славно поделиться с ним тем, как, лежа в постели, они думали один о другом. Силье казалось, что она поднялась куда-то высоко, ближе к нему — любимому другу, — здесь, этим новым летом — никогда уже больше не будет того прошлого, куда она недавно — вчера — в воскресенье — совершила паломничество.
Это был первый проведенный в постели день болезни, и он был подобен воскресенью. Правда, вечером сон никак не хотел приходить, было лишь очень жарко, хотя батрак и приоткрыл толчком дверь. И мучила жажда. И поскольку Силья не догадалась попросить хозяйку принести ей воды, пришлось встать самой. Ночь была светлой, и Силья хорошо знала дорогу к ушату с водой, стоявшему в людской. Ей никогда прежде не доводилось вот так идти к ушату, поэтому она только теперь впервые смогла заметить, что светлой летней ночью, когда все обитатели Киерикки спят, это такой же славный дом, как и другие. Как все комнаты старых наследственных домов, выстроенных давным-давно, в другие времена.
Бессонница казалась уже почти отдыхом, и хотя воображение представляло ей и милого, прибывающего сюда, разум сумел удовольствоваться и таким видением. В ее сознании не было места для разочарования.
Так вот Силья и лежала. Новизной происходящего можно было объяснить то, что скудные христианские чувства хозяйки в эти первые дни потихоньку и постоянно проявлялись мелкими добрыми делами. Она приносила Силье попить цельного молока, которое обычно бережно собирали для маслобойни, иной раз она также давала ей настоящего кофе и сахара, который втайне от мужа выменяла у спекулянта на зерно. Кофе вызывал приятную быстропроходящую испарину. И вообще-то Силье было бы хорошо, если бы не требовалось лежать в людской, различные недостатки которой она теперь, в этом новом своем положении, замечала яснее прежнего. И впрямь было удивительно, что в таких условиях она прожила вот уже почти что год. Ведь все это время кровать была точно такой же. Теперь в Силье с каждым мигом сильнее и сильнее просыпалась тяга к более чистой и как бы более благородной жизни. Не сможет же она быть здесь и тогда, когда… однажды… придет то неопределенное, чему она не умеет да и не пытается придать четкий облик, но приближение чего столь же верно, сколь то, что сейчас это — жизнь.
Однажды в конце недели, когда после дождливой ночи опять светило солнце, Силья, крадучись и не замеченная никем, выбралась из дому. Она почувствовала, что сил у нее хватает, хотя дыхание вроде бы становилось понемногу все горячее. На дворе она теперь удивилась виду дома и двора, словно они впервые попались ей на глаза… У крыльца людской кто-то выплеснул грязную воду. Коровы оставили следы своего посещения двора, и по некоторым из них проехали колеса телеги…
Между постройками можно было увидеть даль, деревню и озеро за нею, где обычный дневной свет становился сверкающим. Но когда она посмотрела туда, глаза быстро стало слепить и появилось чувство усталости. Откуда-то с поля доносился голос пахаря, понукавшего лошадь, это было так близко, что она узнала пахаря по голосу… Удивительно, что она вот так, без дела, обретается тут, во дворе, будничным днем в горячую трудовую пору и никто, проходя мимо, не выкрикнул ей ни одного распоряжения. Хотя жизнь ее день ото дня становилась вроде бы все красивее и яснее и хотя эта жизнь стала несравненно возвышеннее, чем у тех, что там и тут трудятся изо всех сил и заставляют трудиться других, она все же в таком состоянии, что не может ничего делать сама. Где-то в глубине сознания это противоречие казалось далеким, мерзким и гнетущим.
Она двигалась вперед, дошла наконец до баньки-сауны, трухлявые нижние бревна сруба которой полностью скрывала пышная крапива. Окошко предбанника было почти на уровне крапивы, однако же солнце светило в его зеленоватые, залатанные дранкой квадраты. Было довольно приятно вот так, в первой половине дня, войти в сауну. Вспомнились времена, когда она была маленькой девчушкой… Но окно здешней сауны было на теневой стороне, и тут противно воняло сыростью; на оторванной доске пола видны были засохшие пятна крови, тут пускали кровь…
Но в маленькую каморку при сауне светило солнце, и ее наполнял сладковатый запах, подобный тому, какой издает старое некрашеное дерево. Силья вошла и присела на низкую кривоногую табуретку, почему-то выставленную туда. Там валялись в беспорядке и другие вещи, была даже старинная деревянная кровать без досок ложа.
Заметив, как бродила Силья и что она долго не выходит из сауны, хозяйка пошла по ее стопам взглянуть, и чем дело, и открывала те же двери, которые только что открывала Силья. Миленькие глазки хозяйки опять глядели злобно, это была такая же злость, какую испытывает посредственный человек, видя нечто — пусть даже мелочь, — чего сам он никогда не сделал бы. Зачем же она сюда-то привала и что ее заманило?.. И хозяйка сразу же подглядела, не найдется ли тут — да, такого, что плохо лежит, хотя за Сильей ничего подобного не замечали, но кто знает, что ей может взбрести, коль неизвестно, долго ли еще проживет — может, например, попытаться что-нибудь всучить Сантре Мякипяя, чтобы та подольше ее замещала или взяла бы к себе, если нельзя будет находиться здесь. Хозяйка была тугодумна, но успела сплести эту цепочку размышлений за то время, пока глаза шарили по сторонам.
— Я подумала, — сказала Силья, — что из этого может получиться больничный покой для меня.
Уши ее слыхали, что рот действительно произнес это. Но она ведь ничего такого не думала — и особенно заставило ее вздрогнуть то, произнесенное ею: больничный покой. Но с другой стороны, она чувствовала сейчас, что именно так ей годилось и думать и говорить.
— Кто же тебе сюда будет еду подавать? — спросила хозяйка, поднимая деревянный подойник, с которого соскочили обручи.
— Да мне ничего не надо, немного молока только, — продолжала Силья. — И не обреталась бы в людской, если болезнь моя такая плохая, там ведь и дети.
По лицу хозяйки было видно, что в мыслях ее произошла заминка. Она ничего на это не ответила.
— Тут и кровать есть, без дна, правда, — продолжала Силья. — Позволили бы Сантре тут прибраться немного, уж я из своего жалованья буду платить, сколько хватит…
— Нет, Сантру я сюда возиться не пущу, могу и сама прибраться тут, если уж так. Хм, не знаю, что на это хозяин скажет, но теперь пойдем все-таки отсюда.
Хозяйка подалась прочь, шагая быстрее Сильи.
Силья смогла перебраться в комнатку при сауне, где произвели уборку и навели порядок. Силья и сама помогала, по мере своих сил. Комнатка получилась такая славная, что хозяйка сочла нужным сказать: «Я бы теперь и сама сюда переселилась». На что Сантра Мякипяя мимоходом заметила: «Чай, эта прелесть уж скоро перейдет от Сильи хозяйке». Замечание выражало сочувствие Силье.
Приведение в порядок этой комнатки было такой праздничной деятельностью, что когда наконец было готово, мысль о переселении сюда показалась новоселке слегка странной. Но Силья все же настолько была утомлена, что прилегла на кровати, вроде бы ненадолго. Но так, в одежде, она и проспала там до самого вечера. Вечером она пробудилась словно лишь для того, чтобы раздеться, как обычно, отходя ко сну. Однако утром она уже не встала с постели, чтобы одеться. Она теперь слегла окончательно. Рассказ о Силье приближается к концу, приближается к тому событию, о котором говорилось вначале и которое послужило причиной всего этого повествования.
Наступили самые прекрасные дни середины лета, скоро уже сенокос, рожь колосилась и наливалась. Солнце сияло, в воздухе пахло солнечными лучами. Куст крапивы, росший под низеньким окошком Сильиной каморки, успел уже подняться настолько, что заглядывал в окошко и придавал освещению каморки немного таинственный, зеленоватый оттенок, суровость которого удивительно подходила к часто повторявшимся приступам кашля лежавшей там больной. Вскоре появились характерные приметы болезни и на руках ее, они как-то вытянулись в суставах, запястья и тонкие пальцы сделались как бы еще тоньше. И молочно-белое лицо ее тоже сделалось как бы чище и исполнилось некой благодати, на скулах под глазами цвели розы, а красивые ресницы сделались словно еще длиннее, словно увеличилась необходимость прятать за ними какую-то тихую большую мечту.
Поскольку девушка почти ничего не хотела есть, она вскоре начала худеть. Однако же она не успела отощать настолько, чтобы на нее неприятно было смотреть. И пока она была в состоянии вставать с постели и осторожно передвигаться по каморке, можно было почти разглядеть, как просвечивают сквозь тонкую рубашку нежные женственные формы ее тела. И лицо ее не покидала улыбка, которая, как ничто другое, свидетельствовала, чья она дочь. Хотя и здесь в округе — еще более, чем в прежних местах, — наверняка никто не знал ее отца. Эту Силью привыкли считать тут лишь служанкой, которая прежде служила там-то и там-то. И теперь она умирала. Хозяйка считала возможным говорить об этом теперь уже совсем уверенно и в людской, наливая кофе старухе, пускавшей кровь, и самой Силье, стоя у ее кровати. Хозяйка вещала умирающей служанке и Слово Божье, которое та хотя и слушала с добродушным выражением на лице, но все же как-то безразлично.
Дело было в том, что Силья в этот момент смотрела рассеянно на свой собственный чистый фартук, который был теперь на хозяйке поверх ее пыльной серой юбки. Хозяйка, идя к больной, не сообразила снять его, и лишь теперь, сама заметив это, сказала: «Взяла там твой фартук, свой-то сняла в стирку», — «Берите, чего уж там», — сказала Силья. Это было ясное разрешение и даже поощрение. В следующий раз, угощая знахарку кофе, хозяйка особенно подчеркнула это, поскольку тогда на ней была уже и юбка Сильи. И она еще добавила, что, мол, надо же каким-то образом получить возмещение, раз пришлось нанять замену, даже если ничего и не хотеть за уход.
— Девчонке небось еще причитается часть жалованья? — спросила знахарка, ибо она знала точно, сколько осталось недополученным Сильей.
— Этого надолго не хватит, если несколько пенни и недополучила, — буркнула хозяйка и больше не налила кофе в чашку старухи.
Но из-за ветхого окошка каморки при сауне кашель доносился и во двор, где играли на травке мрачнолицые дети Киерикки. Иногда шел по двору и хозяин. И его обутые в сапоги ноги останавливались, на его лице возникало мужское, слегка досадливое выражение, когда он обдумывал свойства услышанного им кашля. Хозяин не ходил взглянуть на свою служанку. Ни разу — за время ее болезни. Ему и в день похорон «лень было» самому ехать в церковь. Семейству Мякипяя и хозяйке он позволил поехать на его лошади.
Тогда Сильи уже не было в живых, но пока-то она еще жила. Душа ее справляла великий праздник в благородном одиночестве и во все усыхающей материальной оболочке, в теле, которое, с точки зрения тех, развивавшихся и множившихся в нем существ, было огромным миром. Продолговатыми клетками те существа соединялись и распадались в плоти этого окружавшего их мира. И, набравшись жизненных сил, они делились надвое — это происходило кипяще-бурно в очагах легких и в дыхательных путях вплоть до самого горла, а также еще там и сям в этом прелестном творении природы, которое, материализовавшись в таком неповторимом образе, жило и росло двадцать два года. Это оказалось бессмысленным расходованием жизни материи. С наступлением вечера температура человеческого тела повышалась, а кожа покрывалась холодными мурашками до того момента, пока ночь не выжимала жар потом сквозь поры кожи. С восхода солнца и до обеда в этой схватке между жизнью и смертью наступало своего рода затишье. И поскольку в те часы и минуты внешний мир, в широком смысле этого слова, а также небеса бывали красивее всего, душа как раз тогда и справляла эти праздники одиночества.
Органы чувств, послушные помощники души, — и их функционирование тоже было в какой-то мере нарушено. Неуверенность в осязании и ощущении температуры появлялась именно тогда, когда она дрожала от озноба, ощущать вкус мешала слизь, возникающая от деятельности тех бесчисленных микробов, и обоняние словно бы было заодно со вкусом. Но полностью действовали еще самые благородные из органов чувств: глаза видели, и уши слышали. Зрение и слух даже вроде бы обострились против прежнего. Аза ними стоял мозг, в котором все ощущения, казалось, устремляются куда-то в самый глубинный пункт, бескрайний, ибо он не имел размера.
Под решетинами крыши крылечка сауны жили ласточки, их щебет был слышен с раннего утра до позднего вечера. Недалеко находился и колодец с журавлем, на верхушке которого почти всегда сидела какая-нибудь из них, самых милых компаньонок больной девушки. И настолько обострился ее слух, что у него появился и такой «недостаток»: в том щебете птиц она ясно слышала человеческую речь. Даже тон голоса менялся в соответствии с содержанием — и то не было обычным повторением фразы, которой здоровые люди подражают цвиканью ласточки. Итак, они были ее лучшими товарками, поддерживавшими ее настроение бодрым, никогда не намекая на ее особое состояние. Они лишь щебетали там, за дверью, иногда, правда, одна из них опускалась на самое неожиданное место, на переплет окна сауны, и оставалась там, так что белая грудка ясно была видна в окне. Но эта птица существовала как бы отдельно от остальных, летала своими окольными путями и вроде бы ничего не знала о больной девушке. Приветствия же и речи ласточек доносились до нее от других, невидимых птиц.
Зато свет был видимым. Попадая в окно, свет заполнял все воздушное пространство, искал в оконном квадрате стекла какой-нибудь пузырек, чтобы сделаться радужным, или более широкий дефект стекла, который странно искажал, уменьшал или увеличивал видневшееся за ним. Но главным все-таки оставалось небо, на которое девушка могла смотреть лежа, прямо из своей постели. Мысль словно ухватывалась там за что-то… могла ухватиться и еще повыше… буквально там, где была самая бледная синева, в конце которой она, казалось, видела самое себя — уходящей, удаляющейся… пока воздух не делался туманным и голова не начинала слегка кружиться. На мгновение становился неслышным и щебет ласточки. Много помех на пути красивого, питающего большие надежды человеческого существа, воображающего, что переживает лучший период для осуществления своих надежд.
Потому что ведь она надеется, что осуществится встреча с той единственной человеческой душой, которая еще есть у нее. Ведь все другие отдалились от нее: хозяйка хотя и приходит поухаживать за больной и смотрит жалостливо своими маленькими глазками, но на ней уже теперь вся одежда Сильи; дети, которые приходят следом за хозяйкой — их матерью — и стоят там в ряд, широко раскрыв рты и глаза, и наблюдают, как мать помогает Силье; Сантра Мякипяя, занятая чем-то немного поодаль и говорящая, что «ведь это же было и желание Сильи тоже, чтобы я получала Сильино жалованье, раз уж оно ей не выплачено, — если я поняла слова хозяйки, то она, верно, думает, будто я только из сострадания к Силье буду за нее работать…».
Все удаляются, только один становится все ближе. И вскоре она сможет уже с ним встретиться, сперва днем, у всех на виду, но затем вечером наедине, в роще на тропинке, по краям которой у корней берез мелькают нежно-белые кукушкины слезки. И оттуда они пошли бы дальше, как бы не касаясь земли… думать о своих ногах Силья не в состоянии, их будто бы и нет у нее, говорят, они распухли… и откуда-то доносится, что у ее милого не хватает ноги… и в легких тоже… стоит мыслям обратиться к этому, как голова опять начинает кружиться, по телу прокатывается холодная дрожь; уже поздний вечер. Я здесь в каморке при сауне, только что сюда приходила и хозяйка хутора. Это такой хмурый хутор, куда я тогда нанялась, ни о чем не подумав. И зимой я помогала тем, кто воевал, — и потом еще этот Телиниеми… Гнетет болезнь, трудно дышать, и состояние полусонное, и так, пока не пройдет ночь — неизвестно уже которая.
И все же одна из них стала последней. Все разрешилось прекрасным воскресным утром. С точки зрения нашего повествования, одним из утр, которое как бы ждало своего часа за длинной чередой других. Можно было бы назвать и месяц, и день, и год, но в этом нет надобности, да к тому же это может вызвать совершенно не относящиеся к делу размышления.
Солнце взошло тогда после трех часов и двигалось помаленьку, заглядывая в сотни и тысячи дворов и окон, в ворота и внутрь комнат, на кровати, где спали люди. Оно заглядывало и в гнезда птиц, которые, правда, не имели ни малейшего понятия, что это утро воскресное, ибо каждое утро, особенно солнечное, было для них одинаковым праздником. Солнце светило также и насекомым, и беспозвоночным, и если маленькая букашка радостно порхала в море солнечных утренних лучей солнца, ласточка радостно устремлялась и хватала ее. Преломляясь по-разному, лучи проникали под поверхность воды. Крохотное существо, усердно гребя жгутиками, торопилось вперед в поисках пропитания и с целью размножения, продолжения своего рода, но тогда, сделав гибкое элегантное движение, его хватала маленькая рыбка, восхитительное видение в утренней, пронизанной солнечными лучами воде. А мимо проплывала большая рыба, в чьих мощных челюстях исчезали время от времени рыбки поменьше.
В усадьбе священника непонятно почему в такую рань пробудился старый пробст, столь старый, что уже впал в детство и плоховато соображал, особенно по утрам, едва проснувшись. В одной рубашке он подошел в своей комнате к окну, посмотрел мгновение на прекрасное тихое утро и подумал о природе, возносящей Господу славу. Затем, сентиментально вздыхая, он засеменил обратно в постель. Угловая комната пробста была в той части главного здания усадьбы священника, где старательно выложенный каменный фундамент был выше всего. Зато та сауна в Киерикке, как уже упомянуто, и вовсе не имела каменного фундамента; если и были когда краеугольные камни, то они ушли в мягкую землю. Бревна нижних венцов были уже трухлявы, окошко слегка покосилось… но и через него солнце все равно светило внутрь на кровать умирающей.
За свою недолгую жизнь Силья видела солнца столько же, сколько и другие люди на ее родине. Но те существа, что заканчивали свою уничтожительную работу в ее юном теле, не терпят прямого солнечного света. Ах, если бы солнечный свет смог в свое время вместе с вдыхаемым воздухом проникнуть во все твои ткани и внутренности, дитя человеческое, и сделать то, что он делает с поверхностью кожи! Но в могилу солнце не светит, а те крохотные-прекрохотные, похожие на палочки существа, они — представители могилы. Да ведь и могила — для них это тоже жизнь.
Уже ведь и Хильма мать Сильи — умерла, бедняга, от того, что ее одолели эти микробы. Многочисленные жизненные невзгоды слишком ослабили ее, и она не смогла оказать им сопротивления. Силья же почти не знала бед в жизни, бывали лишь краткие моменты душевной боли, но и они обычно легко обретали поэтический ореол. И лишь плоть ее чахла и истощалась, словно почтительно уступала все больше места для души. И до последнего мига, пока Силья еще находилась в сознании, эту душу заполняла прекрасная любовь. И величайшее чудо, милосердное устройство природы, выразилось в том, что она до самого конца ни разу не поймала себя на мысли, что вот я сейчас умру, так никогда и не достигнув того, о чем мечтала. Наоборот, ее угасающая душа чувствовала в самом конце, что полностью сливается с душой своего милого друга. То была прекрасная мужская душа, и лишь настолько затуманилось сознание Сильи в последний момент, что она не поняла, была ли то действительно душа ее друга, с которой соединилась ее душа, или же отец — возникший в воображении в самом цветущем своем возрасте — взял ее на руки, держал и смотрел при этом куда-то с гордой радостью победителя во взгляде. Так или иначе, все равно ей стало хорошо…
Так закончилась повесть о последнем побеге старого родового древа и история этого рода, которая случайно оборвалась в это время, — но ведь они обрываются во все времена. Однако же эти древа не такие, как деревья в лесу. Не бывает окончательной смерти рода; если бы существовала возможность видеть без помех сквозь времена, то можно было еще увидеть ответвления всех родов, существующие до сих пор. И род Салмелусов наверняка борется, побеждая и терпя поражения, в самом наилучшем, зрелом состоянии и в нынешнем году, когда доведены до конца наше изображение и рассказ. Заглядывая в очень далекое прошлое, можно сказать, что все мы из одного и того же рода и, стало быть, можем отдать почести борьбе наших сородичей во все времена. Так и ты, читающий эту повесть, возможно, через очень много лет после нас можешь воздать должное нашей борьбе.
Эта естественная энергия жизненной борьбы — лишь знак, смысл и значение которого нам позволено да и необходимо исследовать всегда.
Зарисовки разных лет
Уездный суд
На этой неделе я несколько раз присутствовал на сессии уездного суда; здание суда находится недалеко от моего дома, судьи все знакомые, вот и наведываюсь туда. К тому же меня довольно часто просят помочь при составлении завещаний, и потому мне с моей хозяйкой опять же время от времени приходится присягать в суде, что в тот момент, когда супруги ставят свои закорючки под завещательным распоряжением, они находятся в здравом уме и делают это по доброй воле. Довольно рискованное дело — заверять присягой вещи столь относительные.
А вообще-то я и сам заседал в суде. Я даже, помнится, длинно и запутанно присягал в том, что, «исполняя обязанности», не стану делать того-то и того-то, а буду «судить по совести и по законам Швеции», не проболтаюсь ни о чем, что узнаю на закрытом заседании, и еще много чего другого. Это случилось со мной на одной чрезвычайной сессии, куда я заглянул по пути из лесу, а в лес ходил за дровами. Сначала судебных заседателей было меньше положенного, а когда наконец удалось собрать необходимое число представителей совести народной и вот-вот уже должны были объявить о слушании дела, вдруг встает один старший заседатель и заявляет, что один из участников процесса — его собственный двоюродный брат. Опять незадача. И вот тут-то взгляды судебных заседателей обращаются ко мне. У меня спросили, исполнился ли мне двадцать один год и являюсь ли я добропорядочным жителем данной местности. Я поклонился в ответ, после чего молодой практикант торжественно объявил: «Прошу произнести присягу». И потом: «Прошу занять свое место среди заседателей». Однажды я был и секретарем суда. Вот только председателем пока не был ни разу.
Если при рассмотрении одного дела из-под него «выглядывает» какое-нибудь другое, которое надо во что бы то ни стало сохранить в тайне, то за таким процессом следишь, как за хорошим спектаклем. Вот перед судом предстают двое зажиточных крестьян, один из которых обвиняет другого в краже. Зачитывается протокол «проведенного по данному делу» полицейского дознания, из которого следует, что на поле ответчика обнаружены четыре принадлежащие истцу жердины. Такого добра в хозяйстве у каждого из них сотни, и кроме того, совершенно невозможно доказать, что это именно ответчик взял их с поля истца. Приговор оправдательный, расходы списываются. Но после суда возникает дискуссия: все уверены, что этим дело не кончится. Скорее всего так оно и будет, но в одном можно быть совершенно уверенным, а именно в том, что в суде не всплывет подлинная суть конфликта, в чем бы она там ни заключалась.
Следующая истица хочет получить содержание для своего ребенка. Какая-то старуха свидетельствует, что ответчик приходил однажды в дом истицы и «вел себя там как жених». Вот и все. Всего же свидетелей более десятка, часть из них дает показания в жанре «ни то ни се», но большинство довольно определенно указывает на другого молодого человека, который в настоящее время гуляет неизвестно где, но совершенно точно, что далеко от наших мест. Если бы истица обвиняла его, то он, без сомнения, схлопотал бы приговор. В конце концов представитель ответчика раскрывает существо вопроса, разъясняя, что истица собирается замуж за вон того третьего и вместе с ним задумала ловко все устроить и отсудить алименты у ни в чем не повинного человека. Даже стороннему наблюдателю делается неприятно и он теряет всякое сочувствие к несчастной матери. Так бывает всякий раз, когда среди свидетелей неожиданно объявляются другие «женихи».
Далее на очереди большие крестины на хуторе Петус, во время которых Аларикки Айтамурто обозвал жену Урпаануса Уролы «троллем в юбке». Во время судебного разбирательства я не мог не отметить удивительно прогрессивного образа мыслей финского народа, потому что все свидетели как один уверяли, что знать не знают, что такое тролль. Этого не знал даже самый старый дед, который заявил, что никакого такого тролля он в своей жизни ни разу не встречал. Заседатели добродушно посмеивались: всего каких-то пару лет назад в этом приходе было принято в пост забираться ночью в чей-нибудь хлев и остригать головы баранам. В конце концов это дело удается разобрать, и Аларикки присуждается к уплате штрафа и судебных издержек, после чего начинается второе действие этой драмы в двух частях. Потому что следующее дело, которое объявляет своим высоким голосом констебль, это дело «Айтамурто против Уролы» и в нем участвуют все те же лица, только теперь прежний истец выступает в роли ответчика, а ответчик в роли истца. Уездный суд признает доказанным, что во время тех же крестин нынешний ответчик неоднократно обзывал другого ответчика-истца слюнтяем и еще кем-то, каковое слово его представитель диктует для протокола шепотом, скорее всего потому, что на суде присутствует одна молоденькая цветущего вида практиканточка. И уездный суд выносит точно такой же приговор, что и по предыдущему делу, поменяв местами истца и ответчика. Так заканчивается дело о крестинах.
После всех этих ерундовых дел объявляется следующее, в котором мой пожилой коллега выступает с подобающей его положению элегантностью. Тот же самый хозяин, который жаловался на соседа из-за жердей, продал поэту одну меру ржаной муки, а поэт позабыл за муку заплатить (к сожалению, такая забывчивость — не редкость среди поэтов). Поэт предстал перед судом без шляпы, хитро и зло сверкая глазами, назвал свое имя, осмелился произнести вслух свою профессию и умудрился в длинной гладкой и отчасти рифмованной речи высказать свои взгляды понемногу обо всем. Кто-то упомянул, что поэт сам признался полицейскому, что действительно заказывал муку. На это поэт сказал, что если ему будет позволено ответить, то дело было так, что если часть возьмут себе священник и судья, позвольте-ка начищу вам пуговицы я, и…
— Потрудитесь заткнуть этот фонтан стихов, а то дело добром не кончится, — прикрикнул судья. — Стихи послушаем во время перерыва за чашкой кофе.
Поэта обязали уплатить за рожь и возместить судебные издержки; услышав приговор, он сказал: «Я совершенно согласен с вами, я просто хотел обсудить этот вопрос здесь, в большой хорошей компании». После чего он заплатил за все наличными, и суд отправился пить кофе, не забыв пригласить и нас, двух поэтов, за что судьи были вознаграждены несколькими метрам и лирических стихов моего старшего коллеги.
Käräjät Перевод Э. МашинойБатраки и батрачки
Одна из старых и уже отмирающих сторон деревенской жизни дохнула на меня нынче своим теплом и напомнила о своем былом значении. Вообще-то следовало бы вспомнить о ней только через месяц, когда после Дня всех святых[18] настанет неделя отпуска батраков, но поскольку мы все равно не увидим старых обычаев во всем их блеске, то почему бы сейчас не описать то, что составляет внешнюю сторону этого обычая. Правильнее сказать — составляло, потому что сейчас все это вспоминается как давно прошедшая история. Только в том-то и дело, что человеческая жизнь подобна живому организму и никакую ее часть невозможно отсечь одним махом. И потому отмирающий, ставший ненужным обычай еще долго напоминает о себе.
Вот почему когда я недавно оказался в обществе старух с их неизменным кофейником, они были очень взволнованы этим некогда важным социальным событием местного значения. Приближалась та нора, когда в старину принято было нанимать батраков. Куда перейдет Фанни? Останется ли Ийта дома или пойдет к Кескинену? Ийвари вернул Аланену задаток. Того-то и того-то приглашают туда-то и туда-то. Даже старые посредницы по найму батраков, которые еле-еле таскают ноги, оживают на это время, чтобы если не самим участвовать, то, по крайней мере, внимательно следить за любимым полусекретным занятием, которое принесло им в свое время немало вкусных пирогов и свиных ножек. И хотя в наши дни батраки и работницы приходят и уходят, когда им вздумается, получая жалованье ежемесячно, и в наступившую индустриальную эпоху даже не пытаются сохранить значение своего сословия, все же некий отзвук былого носится в воздухе в эти осенние дни между сентябрем и ноябрем. Хозяева и хозяйки нервничают, а батраки становятся более самоуверенными, потому что хотя они и перешли на месячную оплату, большинство все же придерживается старого обычая отрабатывать год до конца.
Убыстрение темпа жизни подтверждается в том числе и тем, что человек моих лет уже вполне может делиться воспоминаниями о прежнем деревенском житье. Лет тридцать назад все было совсем не так, как нынче. Конечно, тогда, так же как и сейчас, у жизни было множество разных сторон и проявлений, но все они выстраивались в четкие прямые линии. В нашем приходе были люди трех сортов: господа, крестьяне и простой люд, именуемый обычно голодранцами. Господа представляли духовную — пробст — и светскую — ленсман — власть, ну и плюс к ним имелись господа помельче. Крестьяне и голодранцы составляли вместе так называемый народ, или тот материал, которым господа более или менее честно манипулировали. На вершине иерархической лестницы голодранцев стояли батраки и батрачки, которых неизменно поставляла устоявшаяся прослойка торпарей. Слова «бродяга», «забулдыга», «гуляка», «босяк» и т. п. были совершенно неизвестны.
Наше старое сословие батраков, права и особенно обязанности которого были подробно определены уставом о найме от 1865 года, успело в лучшие свои времена сформировать устойчивые традиции. По закону батраки находились почти на положении невольников (хозяин имел право применять телесные наказания к работницам до 14, а к батракам до 18 лет), и потому возникла необходимость в таком механизме, который защищал бы природное самолюбие батраков от слишком сильных ударов. Крепкий батрак, который «умел работать и умел закусить удила», мог быть истинным господином в доме, когда подвыпивший хозяин возвращался поздно ночью и принимался шуметь и изводить добрую покладистую хозяйку. Если же место было из рук вон плохое, а еда и обращение и того хуже, то все равно следовали правилу: «Хочешь не хочешь, а год терпи». Редко кто уходил посреди года, зато очень многие служили на одном месте по многу лет. Прекрасное описание классических отношений между хозяевами и батракам и содержится в рассказе Кюести Вилкуна «Пробст и батрак»[19]. Подобные события имели место не раз, а в роли пробста выступали многие честные хозяева.
Но уж если батрак решил переменить хозяина, то уход обставлялся со всей торжественностью. Новое место полагалось держать в тайне по возможности долго. У зарабатывающих посредничеством старух были свои основания сохранять дело в секрете: не в их интересах было портить отношения с теми хозяевами, чьего работника они переманили в другой дом. Для полной уверенности новый хозяин требовал письменное свидетельство о переходе со старого места; получение этого свидетельства придавало делу оттенок официальности. Если же завесу секретности удавалось сохранить вплоть до того вечера, когда новый хозяин въезжал во двор на своей лучшей коляске, предназначенной только для поездок в церковь, в которую быстро грузили сундучок или шкафчик уезжающего, то это был миг наивысшего торжества батрака. В зависимости от характера он отвечал любопытствующим ребятишкам либо высокомерно, либо со слезой на глазах, — даже за один год жизни в семье, участия в ее работе, печалях и радостях, праздниках и буднях успевают возникнуть такие связи, разрыв которых не проходит безболезненно. Скотница знает всех коров, их имена и привычки, а батрак — всех лошадей, и когда на попом месте заходит речь о скотине, они с удовольствием вспоминают своих знакомцев по предыдущему месту работы и неосознанно преувеличивают их достоинства.
В свое время эта осенняя неделя была важным событием в сельской местности, особенно для бедной части населения. Я хорошо помню, как проходила эта неделя в избе моего детства и как мы, ребятня, тоже разделяли общее настроение тех дней. В этом нам помогали разряженные в выходные одежды батраки, у которых было много денег и сдобных булочек. Когда такой гость, случалось, забредал в наш дом, то мама вынуждена была готовить ему кофе, а он широким жестом приглашал к маминому угощению мальчишку в холщовых штанах, которому в образе этого решительного батрака виделось свое собственное будущее в некоем детски-романтическом ореоле.
С тех давних пор отношения между хозяевами и работниками изменились не только в деревне, но и особенно — судя по публикуемым в журналах повестям — в городе. На селе культура найма захирела. Хозяева стали нанимать голодных бродяг, которые работали за харчи и кров, пока не отъедались, а после уходили неизвестно куда. Хорошие, старательные батраки перевелись в этом мире. В деревне сложилось сословие босяков, которые потом, в одна тысяча девятьсот восемнадцатом году, заходили в дома отнюдь не в поисках работы.
Piiat ja rengit Перевод Э. МашинойРождество
Снова — снова то и дело по самым различным поводам звучит это простое и звучное слово, которое пробуждает в детях восторг, в зрелых людях — глубоко затаенную торжественность, а в стариках — кроткую покорность судьбе.
Рождество, приближается Рождество, это таинство, в котором — так же как и в других праздниках — гораздо больше значат ожидание и воспоминания, чем собственно празднование. Лучшее время всякого праздника — его канун; и в первую очередь это относится к Рождеству. Когда в сочельник начинают сгущаться сумерки, на самой границе между суетой будней и наивысшей точкой веселья, именно тогда смысл Рождества более всего понятен человеческой душе. Еще чуть-чуть — и вот уже начался собственно рождественский праздник, и мы уже сидим в натопленных комнатах после вкусного ужина и пытаемся разными играми да забавами скрасить окончание ускользающего из рук праздника. С тем же чувством мы отправляемся рано поутру в церковь, соблюдая веселые и подчас небезопасные традиции.
Мне довелось повидать на своем веку немало рождественских праздников, и у меня сложилось впечатление, что Рождество — это праздник простых крестьянских изб. Возможно, такое впечатление отчасти объясняется тем, что лучшие свои рождественские праздники я провел в избе. Есть целый ряд причин, почему в господском доме Рождество редко удается на славу. Так, если обитателю избы, или его жене, или его ребенку доведется когда-нибудь как следует рассмотреть господские комнаты и их обеденный стол, то им нетрудно будет описать виденное словами «как на Рождество». В комнатах всегда прибрано и все блестит, и на обед подается два горячих блюда, и к каждому свои приборы. Так что господам от всего Рождества достаются только елка да корзина с подарками, содержимое которой чаще всего известно заранее благодаря «списку пожеланий». Даже пение рождественского псалма нынче большая редкость в среде наших просвещенных господ; в лучшем случае матушка споет какую-нибудь красивую песню, аккомпанируя себе на пианино.
Насколько же больше впечатляют рождественские приготовления в избе, где живут дед с бабкой да шестилетняя дочка покойницы Мари, за содержание которой община платит старикам двести марок в месяц. Пол в избе вымыт, со стен убрано все будничное тряпье, лампа начищена и наполнена керосином, пол устлан соломой. Хотя лучина употребляется теперь только на растопку, Микко по привычке заготавливает перед Рождеством лучинок и прикрепляет их к потолочным балкам, чтобы хоть отчасти закрыть черный от копоти потолок. На столе стоит рождественский соломенный фонарь, и когда хозяева возвращаются из бани, их встречает запах размоченной в щелоке вяленой трески[20], что томится в печи. Майя, дочка Мари, получает фартук, подаренный ей учительницей, и Рождество входит в бедную избу Микко. Садятся ужинать; Микко и Мийна едят из двух имеющихся в доме пожелтевших фарфоровых тарелок, которыми пользуются только на Рождество, а маленькая Майя — из кофейного блюдца. Поскольку, в отличие от обычных дней, в баню сходили еще до ужина, то разрумянившиеся лица празднично блестят и в неспешной беседе слышатся ласковые слова. Похвалы перепадают даже на долю Майи, которая мгновенно забывает полученные за год побои и уже почти верит, что Микко согласится оставить ее у себя еще на год и в январе не придется перебираться в другой дом. А коммуна наверняка согласится прибавить к месячному содержанию те двадцать пять марок, которые требует Микко.
После ужина Майя читает рассказ из рождественской газеты, которая досталась ей на школьной елке, потому что учительница получила на один экземпляр больше, чем было заказано. Вот уже восемь и начало девятого, но никто не ложится спать. Майя успевает прочесть еще целое стихотворение, после чего Микко затягивает песню. Девочке хочется спать. Полураздетая, она укладывается на солому, и на грани сна ей кажется, что она помнит свою покойницу мать, которую на самом деле не помнит и о которой знает только то, что у той никогда не было своего дома. Микко и Мийна гораздо сильнее и могущественнее, чем ее покойная мама…
Рано утром Майю будит разговор Микко и Мийны. Девочка открывает глаза и видит лампу, в которой за ночь значительно поубавилось керосина. С дороги доносится звон бубенцов. Майя садится на постели; заметив ее пробуждение, Микко и Мийна говорят: «Посмотрите-ка на это дитя, и зачем только было просыпаться в такую рань».
В церковь не идут — чего ради идти мерзнуть да путаться под ногами у лошадей. Как бы себе в оправдание Микко рассказывает ту же самую историю, что он рассказывал ровно год назад рождественским утром: про одну ловкую бабку, которая уже несколько раз умудрилась попасть под возвращающиеся с утренней рождественской службы сани, а потом вытребовала себе недурную компенсацию. Кажется, в позапрошлое Рождество Оянперя заплатил ей целых пятьдесят марок.
Близок бледный рождественский рассвет. Майю снова начинает клонить ко сну, и когда девочка просыпается, то уже совсем светло и лампа погашена. Народ возвращается из церкви. Майя всовывает ноги в валенки и выбегает на улицу посмотреть на начинающийся зимний день. Потом назад в избу — и за стол, еды теперь вдоволь, и только в день Тапани[21] она впервые услышит за какую-нибудь небольшую провинность угрозу, что к следующему Рождеству ноги ее здесь не будет. И тогда зашедшим в гости соседям говорится, что навряд ли за девчонку согласятся прибавить обещанные двадцать пять марок, да хоть бы и прибавили, так все равно какой смысл держать в доме эту дурочку.
У ребенка хватает мужества улыбнуться в ответ, и, разглядывая свой красивый фартук, девочка думает, что по крайней мере ей разрешат забрать его с собой на новое место. Следующие праздники, — Новый год, Крещение и день Кнута[22] уводят все дальше и дальше от Рождества, но сильные рождественские впечатления надолго остаются в душе бедного ребенка.
Joulu Перевод Э. МашинойИз гимна во славу сауны
Еще разок довелось мне пережить одно из тех зимних воскресений, которые, как я думал, навсегда ушли вместе с моим детством.
С самого утра, вопреки ходу истории, возникает волшебное ощущение того, что время не движется. Зима тянется уже давно, но будет длиться еще долго. Она хороша сама собой: в такое праздное зимнее воскресенье крестьянин поглядывает в окно и погружается в спокойное созерцание остановившегося времени; воздух, земля и небо выказывают ему свое расположение и не задают пустых вопросов. У него есть пища для себя и корм для животных, дети и все остальные домочадцы здоровы, только старушке матери слегка неможется, но ведь это скорее естественно, чем необычно.
За окном падает тихий, мягкий снег, подчеркивая и усиливая воскресное настроение. Младших детей, забравшихся на кровати взрослых, сморил дневной сон, а старший по собственному почину тащит свой букварь. Поскольку солнце совсем не показывается, весь день похож на сплошное утро, хотя время церковной службы уже давно прошло.
Я надеваю галоши прямо на носки, натягиваю на голову треух и выхожу во двор в одном пиджаке поглазеть на снегопад. Отсюда зимний день выглядит так же, как и через окно. Тщетно пытаясь расслышать, как падает снежинка на мой рукав, я вижу ее изящное кристаллическое строение, когда она тает и разрушается. Возникает такая же мысль, как летом на лугу: меня окружают сотни чудес, а я замечаю только это, единственное. Мне кажется, что и в моей черепной коробке происходит такое же безмолвное движение, какое совершают снежинки.
Потом я замечаю сауну. Вчера вечером она была горячее обычного, да, наверно, и теперь еще не остыла. Я продолжаю топтаться во дворе и представляю себе случайно подсмотренные события вчерашней ночи. Кажется, я и взаправду вижу, как наш хозяин направляется к сауне. Таинственны и неисповедимы пути хозяев.
Тепло остывающей бани доставляет удивительное, не многим ведомое наслаждение, особенно в ночь на воскресенье, через несколько часов после того, как все попарились. Семья — эти здоровые беспечные люди, живущие под заботливым правлением хозяина, — уже ушла спать. А самому хозяину почему-то не спится; кажется, что-то ломит, кто-то грызет суставы, но снадобья из шкафчика, как он чувствует, тут не помогут. Еще раз убедившись, что все спят, что нигде не осталось опасного огня, он мимоходом поправляет одеяла на детях и неслышно выскальзывает через кухонную дверь в морозную лунную ночь.
Вот и началось леченье. Сорокалетний уважаемый всеми хозяин, член приходского совета, он мечтательно стоит во дворе под луной, оглядывает спящую округу и испытывает чувства, о которых когда-то читал или которые сам пережил в былые лунные ночи. Ведь именно в такую ночь тот Матти шел красть картофель, когда увидел, что рядом с ним по снегу скользит призрак покойной хозяйки усадьбы Хейккиля, а в волосах у нее торчит железный гвоздь[23]. И хозяину уже кажется, что призрак автора этой повести — могучего, некогда живого человека — стоит теперь рядом с ним и хочет что-то сказать. Хозяин быстро оглядывается на свой большой дом, в тени которого еще стоит, и безмолвно заверяет спящих там близких: все хорошо, горевать не о чем…
Затем он направляется к сауне. Стараясь двигаться бесшумно, он на цыпочках входит в нее и видит протянувшийся от окна к каменке лунный прямоугольник. Почти во всей парилке светло. Он разглядывает бревенчатые стены и зимние заготовки, вспоминая плотников, которые срубили баню и были довольны, что хозяин хорошо оплатил их неважную работу. Недолго думая, он залезает на полок и вытягивается там, окутанный приятным, бросающим в легкий пот теплом.
Почтенный хозяин наслаждается одиночеством, ему не мешает ни одно «важное дело». Жизнь и смерть, дом и вселенная почти тождественны здесь, на этом полуосвещенном полке сауны. Он закрывает глаза и, кажется, засыпает…
Сегодня, в обычное зимнее воскресенье, я тоже юркнул в свою сауну. Но даже и светлым днем ее еще не остывшие стены ограждают от всего внешнего, докучавшего своей кажущейся неотложностью. Стены и углы теперь уже не так горячи, как ночью, но они все еще дышат подлинностью и гармонией. А за окном падает тихий зимний снег. Скоро наступит Сретенье.
Дети дознались, что я в бане, и ввалились сюда, топоча ногами. Краснощекие, пахнущие свежим воздухом, они влезают в пальто на полок, где вчера вечером шумно парились. Приятно видеть, что их тоже охватывает особое настроение. Они сбрасывают пальто, кидают их в сторону и пристраиваются под бок ко мне. Так они сидят — тихо, словно в церкви.
Но проходит какое-то время, и естественная неистощимая потребность действовать одерживает верх. С самого лета они не пускали мыльных пузырей, а тут на глаза попадается все, что для этого нужно: с окна берется мыло, с краю кадушки — ковш, а из кадушки — капелька прохладной воды. Соломинок сколько угодно на полке. И вот уже под потолком, подобно маленьким вселенным, плавают радужно переливающиеся шары — плод напряженного усердия и надутых детских щек.
Так идет время отца с детьми. Но нас находит служанка и громко сообщает, что приехали гости на двух санях, они уже во дворе.
Värsy saunan ylistysvirten Перевод Л. ВиролайненЛюди в летней ночи (Эпическая серия, 1936)
Ihmiset suviyössä Перевод Г. Муравина1
Настоящих ночей летом в северных краях по сути дела и не бывает. Бывает лишь затянувшийся вечер с ненадолго сгущающимися сумерками. Но в этих сумерках есть невыразимая словом прозрачность, предвозвестница приближающегося утра. Музыка вечера тогда вызывает ощущение темно-синего, фиалочного цвета, и пианиссимо ее звучит столь утонченно, что продолжается еще и в крохотной паузе, а затем уже возникает высокая, нежная мелодия первой скрипки, которую погодя подхватывает виолончель, но это лишь нутром угадываемая, музыкальная картина. Однако она получает подтверждение и во внешнем мире: тысячи ветвей и высь небосвода создают тысячезвукий аккомпанемент — и вот уже утро, хотя только что еще был вечер. Жаворонок взмывает в небо, все выше и выше, и оттуда трелью вещает более мелким, щебечущим в листве пичугам, как выглядит утро, если окинуть его взглядом с высоты. Очарованный светом и высотой, он трепещет, пока возбуждение, достигнув своего апогея, не стихает внезапно, резко, и птица, расслабившись, уже безмолвная, почти падает на землю и превращается на поле в невзрачного пешехода. Солнце светит всю ночь.
Человеческие жилища — между водоемов, под боком у гор, среди полей; группы построек, умело приспособленные к потребностям и инстинктам их обитателей. В свете очень раннего утра они выглядят по-детски невинно, как и природа. Вещи и дела людей, живущих в них, тоже превышают и покое. Сирень в палисаднике между домом и скотным двором полностью во власти чирикающих воробьев, кричащих наперебой, стремительно перепархивающих с места на место, взволнованных; каждый хотел бы что-то высказать, решая, как быть теперь, когда двор, мол, захвачен, но никому не дают пробиться словом, все кричат — и тот, и этот, и та, и…
Так продолжается до сих пор, пока пропахший дымом и испачканный смолой старый Ману, проснувшийся рано и чем-то озабоченный, не проходит мимо медленной, шаркающей походкой. Тогда крикливая компания взлетает из сиреневых кустов и оккупирует мостик, ведущий к конюшне.
Дома, в которых живут люди, самые разные — большие и маленькие, разбросаны между озерами, имениями, волостями, там и сям. Церковь с погостом среди густой листвы. Скромного вида дорогой автомобиль, все формы и линии которого очень изящны, мчится почти беззвучно по гладкой, плавно поворачивающей дороге; за несколько утренних часов он успел показаться десятку деревень, сотням жилищ, оставить позади немало церквей, кресты которых по-утреннему сверкали и молча благословляли окрестность, начинающийся день и человеческую деятельность. Авто не нарушало утреннего покоя. Пожалуй, оно появлялось и исчезало с легкостью, свойственной большой оккультной силе, — и больше его не было видно. Нигде.
Но дома людские — они-то стоят на месте. Несколько новых, только что выстроенных, еще не обжиты. В их стены еще не въелся ни снаружи, ни изнутри дух человеческих радостей и горестей, вселяющий признаки жизни и в мертвые стены. Но среди домов и хижин есть и такие, которые уже лет сто назад обрели душу и сохранили ее. Некоторые обветшали до предела, но глаза их владельцев из года в год, из поколения в поколение внимательно и заботливо следили, а умелые руки всегда подправляли и ремонтировали постройки по мере необходимости. Такой старый дом, быть может, в нынешнем году основательно отремонтирован — осевший фундамент подправлен, подгнившее крыльцо обновлено и весь он заново окрашен снаружи, но остался все таким же старым и почтенным и глядит своими окнами на вечные поля. Его линии, углы и косяки остались прежними, его прочный, здоровый, можно сказать, мудрый костяк лишь получил новое облачение, в котором он нуждался…
2
Кроны лип причудливым контуром ограничивают вид из дома на озеро. С возвышенности противоположного берега — от избенки Ману до хутора Сюрьямяки — видны почти целиком дом и двор с надворными постройками.
Летнее утро озаряет людские жилища и все вокруг них. Оно высвечивает и внутренности домов. Старинные кружевные занавески, накрахмаленные и сверкающе-белоснежные, хотя при ярком свете утра резкость белизны, пожалуй, слегка смягчается. Где-то в самой старой части дома есть такая красиво обставленная комнатка, к атмосфере которой редко примешивается людской дух. Если туда все-таки изредка и приводят гостя или гостью, их всегда приветствует тот безусловно особый девственный запах, который исходит от чистейшего льняного домотканого полотна, от лакированной мебели и, может быть, даже от лежащего на круглом столе альбома для фотографий, который гостья, оставшись одна, начинает невольно перелистывать; любопытные снимки, на них суровые, серьезные, напряженные мужчины-хозяева, в рубашках с пристежными воротничками и хозяйки в блузках с рукавами-буфф, бывшими в моде лет тридцать назад. Видно, что эти блузки надеты не в первый раз и с их помощью вовсе не пытаются скрыть, а скорее наоборот — подчеркивают, что, скажем, та женщина среднего возраста выпекла немало хлеба и через ее руки прошло множество бочек ржи, которую тот мужчина с массивным лицом сеял и обмолачивал, мужчина, у которого даже на снимке один глаз озорно, по-собачьи приоткрыт чуть больше, чем другой. Точно как и у его сына, на том фото, в белой студенческой фуражке, в тужурке, застегнутой под самое горло; и особенно на том групповом снимке, где все в сапогах с высокими голенищами и в свитерах. Приятно опять, после долгого перерыва, пообщаться с родственниками вот так, оставшись в одиночестве, в сумеречной по-вечернему комнатке. Они и теперь присутствовали там, на страницах альбома, все на тех же четырех страницах, и не могли оттуда никуда деться, когда представительница их рода, двадцатидвухлетняя барышня, как девчонка, рассматривала их, сама уже в ночной рубашке, плавно изогнув гибкое стройное тело; милая, трогательная усталость на ее лице — след усердного труда днем. Это было вечером. А затем рано наступал сон и был глубок. Бабушка, которую все ласково называли бабуся, говорила: «Хм, так оно и бывает, когда сама добываешь свой хлеб насущный, и только своими руками его и следует добывать. И тот, кто в середине лета вечером рано заснет, тот проснется рано поутру, уж так устроено природой».
Старик Ману, свой хлеб насущный добывающий выгонкой смолы на принадлежащей усадьбе смолокурне, почти что не спит в такие ночи, но все же глаз а его радостно поблескивают, а старые, крепко сжатые губы забавно изогнуты. Ману, похоже, обзавелся сейчас каким-то надежным заместителем у смольной ямы, поскольку уже поздним вечером его видели бродящим по своему двору, и рано утром он опять бродит там и выговаривает петуху, когда тот снова заводит свое «ку-ка-ре-ку». Речи, обращенные к петуху, явно не очень добродушны, поскольку петух в паузах между кукареканьями зло клекочет на старика, уходящего уже к месту своей работы.
Солнце движется дальше, оно словно бы ищет место, откуда ему было бы удобнее светить сквозь кружевные занавески на лицо молоденькой барышни, спящей в комнатке для гостей на кровати с крепкими спинками. Только что оно достигло стоящего у противоположной от кровати стены комода и на нем зеркала-псише, которое много раз показывало разным девушкам их лицо, а тем, у кого миртовый венок на голове, — насколько лицо это бледно или раскраснелось, ибо здесь всегда наряжали невесту этого дома… Теперь солнце видит у подставки старого зеркала какие-то мелкие вещицы, которых раньше там не было. Их положила, прибыв сюда, та, что спит сейчас в кровати, и она же возьмет их своими изящными пальцами. Скачет по этим вещицам неизменный в летнее утро солнечный зайчик и как бы немного жмурится, но вскоре, коснувшись самой их владелицы, замирает. А утро уже миновало свой первый, влажно-розовый период. Где-то скрипит дверь амбара, мычит теленок. Всеобщее трудовое действо начинается в десятках, сотнях деревень, в тысячах домов, вблизи сотен тысяч озерных плесов и лесных озерец.
Теперь уже солнце светит на лицо девушки, на тонкую, с легким загаром шею, на красиво изогнутые губы, на выглядывающее из мягких коричневых прядей ушко, на еще немного по-детски гладкий открытый лоб. Оно освещает также две руки — ладонь правой под щекой, а левая лежит на запястье правой, каждый сустав пальца, каждый ноготок хорошо прорисовывается, вся рука в гибкой свободной позе. Но эту картину можно лишь представить себе, вообразить. Пытаться посмотреть на это в натуре — нечего и думать. Лишь солнцу позволяется приближаться вплотную к спящей девушке, но и его приближение будит ее. Значит, уже около шести. Так солнце ведет себя по утрам. Это было подмечено в первое же утро, после ее приезда сюда. Две девушки, сидевшие тогда в этой комнатке, не спали ни минуты, лишь вели негромкую беседу и глядели на вечное чудо белой ночи…
Они, эти две девушки, и сейчас здесь, в Телиранте; обе так и живут в разных постройках. Та, которую солнышко уже разбудило, будит вокруг себя и все вещи, к которым она начинает привыкать. Ей вспоминается, что сегодня суббота, — этого дня она втайне ждала. Энергия и бодрость, блаженно почивавшие вместе с телом, теперь просыпаются, вызывая приятное возбуждение; плечи, затылок, руки — все откинулось назад, затем руки вытянулись вверх, глаза снова закрылись, но губы чуть приоткрыты, и на зубах восторженно сверкает отблеск солнца. Во всех членах физическое напряжение вчерашнего дня сменилось теперь, после полного и глубокого отдыха, по-детски блаженной расслабленностью.
Выскочить из постели и сбросить ночную сорочку — одно мгновение. Затем тело просто повторило ту же серию движений, но более упруго, чем только что. Все это сопровождал счастливый вздох. Вскоре барышня уже в купальном костюме, на плечах накидка, и согнутый средний палец правой руки осторожно стучит в оконный квадрат другой постройки. Там приподнялась занавеска и мелькнула голова молодой женщины, ее рыжие кудряшки… Та, что стучала, не осталась ждать, а пошла к берегу, по окаймленной низким ольшаником крутоватой тропинке, ведущей к началу длинного пляжа. Накидку она сбросила на руки. Глядя издали, можно подумать, будто она что-то мурлычит про себя, поскольку вроде бы порой шагает в такт какого-то напева.
3
Для Ману это уже не утро, а настоящий день. На его «пост» долетают многие звуки жизни как с этой, так и с той стороны озера: мычание коров, дожидающихся дойки, карканье ворон, удиравших со дворов и крылец, когда дверь уверенно распахивалась…
Шмель по ошибке тыкался в соцветие на шерстяном свитере Ману. Где же гнездо этого жужжащего насекомого? Было бы здорово высосать мед из сот. Как когда-то в детстве, пастушонком.
Но глянь-ка, поглянь: там же барышня опять плавать идет. До чего же старик Ману наслаждается тем, что он тут один, что можно обратить закопченное и забрызганное смолой лицо в ту сторону, в какую охота, да так и остаться. Хотя и не требуется, он обходит яму — где-то вроде бы надо заткнуть дырку, откуда может вырваться язычок пламени… а затем садится на свое обычное место на краю обрыва у смолокурни, откуда купальня и ее мостки видны, как сцена с балкона. До чего же прекрасно дитя человеческое, когда оно вот такое, как это сейчас. Ишь ты, как барышня ступает, как потягивается, как сгибается, опускаясь в воду. У старого Ману мелькает мысль: вот бы подкрасться, подобраться совсем близко в прибрежный ольшаник, тайком… но ведь это так, не всерьез — ну тебе-то чего туда переться?.. Внезапно приходится поворотиться к яме — заделать дырку в покрытии… Теперь она там плавает на спине — так бы и оставалась, чертовка… И ведь какая пригожая… И вообще… И когда фотографировались все вместе, положила руку на шею старому Ману — ничуть не побоялась, что запачкает свой наряд.
Но вот пришла и хозяйская дочь, эта огненно-рыжая, немного задержалась на мостках, как бы в сомнении, но потом плюхнулась, однако же, в воду, только брызги полетели. Обе качаются там на волнах, как листья и цветы кувшинок, то блеснет на солнце все тело, то лишь голова, так что можно подумать, будто они там тонут. Старому Ману есть на что посмотреть.
Наконец они выходят из воды, словно русалки — мокрые купальные костюмы блестят, словно тюленьи шкуры. Затем они чудно машут руками и ногами — глядя отсюда, от смольной ямы, и не подумаешь, что на них есть хотя бы нитка; до чего же красиво выглядят их фигуры на фоне сверкающего по-утреннему озера. Затем, забежав в кабинку для переодевания и взяв оттуда накидки, они идут рядом, хотя и не глядят друг на друга. Подобно стригункам, вышагивают они по мосткам лодочного причала, и последним старый Ману видит мелькание яркой накидки сквозь ольшаник.
Похоже, Ману погружается в размышления, а это значит, что им овладевает расслабленность.
4
В здешних местах натуральные краски природы разнообразны и в это время года, а если в результате человеческой деятельности или из-за какого-то внезапного происшествия возникает где-либо нарушение существующей гармонии, природа сразу же начинает трудиться, используя разные средства, чтобы постепенно вернуть то великое единство. Поскольку глаз обычно в первую очередь задерживается в пейзаже на человеческих жилищах, он сначала видит серый, красноватый, белый цвет, затем зеленый во всех его оттенках — ведь сейчас первая половина июля. По мере того как день постепенно слабеет, на северо-западной стороне неба накапливается золото, что предвещает наступление вечера. Есть также синеющая вода озера, длинный узкий водоем, поверхность которого тянется то сужающейся, то расширяющейся полоской откуда-то и куда-то туда, за тот заросший лесом мысок и маленькие скалистые островки, и течение воды спокойно даже там, где берега сжимают ее в узеньких проливах. Человеку кажется, что стоит штиль, однако время от времени ветер гонит по воде слабую плавную волну, добавляя тем синевы. На этом синем фоне там и тут заметно выделяются золотисто-коричневые плоские пятна — сплавные плоты. С подходящего места их можно увидеть разом четыре-пять, и обязательно в одном конце плот с дощатым, задымленным домиком и воротом. Поскольку звезд не видно, человеку и в голову не придет смотреть на небо. Его внимание приковывает, определяя его настроение, земля с ее красками и запахами и все, что на ней в покое и в движении.
О красках сказано, если же говорить о запахах, то пахнет травами и цветами, какие-то из них еще только распускаются, большая часть как раз цветет, а некоторые уже дают семена — те, которые месяц тому назад в подобную предвечернюю пору настраивали человеческие чувства на немного иной лад, чем это нынешнее золото сегодня, сейчас. Теперь кое-где на склоне горы, на гумнах уже прошлась обычная ручная коса, и после ее прогулки там виднеется посветлевший участок покоса, который вместе с щемящим запахом сохнущего сена напоминает проходящим мимо, что предстоит трудовая недели и, по крайней мере в середине ее, напряженный, спешный сенокос приобретет настоящий размах. Однако сегодня, во второй половине дня, и будущей ночью в медвяном море клевера и на прибрежных холмах сохранится спокойное изобилие бесчисленных цветочных головок и вдоволь необъяснимой пыльцы.
За всем этим то там то сям кто-нибудь да наблюдает. Небо как есть блеклое, но когда одинокий человек поднимает к нему свои глаза и затем опять опускает их на все окружающее земное, ему кажется, будто он сам побывал там, в небесной бледности, и увидел все внизу широким взглядом. Вон там из своей бедной избы шагает Ялмари Сюрьямяки на арендованный им выгон и размышляет, на сколько хватит сена его корове. Надо бы дождичка… А вон пятидесятилетний, но все еще моложаво-сильный и загорелый хозяин усадьбы Телиранта прохаживается по принадлежащим ему угодьям и пытается совместить в робких надеждах и дождь и сушь. Небольшой ночной дождик не помешал бы сенокосу, зато здорово приободрил бы овощи и яровые. Впрочем, все растущее на полях Телиранта столь доброе, что хорошо переносит продолжающуюся сушь, и он мысленно видит погоду всей будущей недели сухой. Сено будет отменным, и он почти ощущает его сладкий вкус во рту, представляя свое стадо жующим это сено, которое скосят как раз вовремя и потом на него не упадет ни капли влаги…
Сплавщиков на плоту этот вопрос не волнует, как и батраков, стоящих на развилке дорог между деревьями. Они просто живут и довольствуются жизнью. Пылью шоссе пахнет и здесь, в серой неподвижности, особенно знакомо и немного возбуждающе. Придорожные лопухи, подмаренник и репейник окаймляют законную для всех дорогу, которая от этого места расходится в четыре стороны; каждый указатель сообщает название известного города и сколько километров до него. Для человека, странствовавшего по миру и остановившегося теперь тут, в каком-то из здешних хозяйств, поденщиком, эти дорожные столбы — как поэма, особенно те, разными красками намалеванные на указательных табличках названия и расстояния. Туда можно отсюда попасть. Там когда-то удалось побывать. А если не побывал, то можно отправиться.
5
В этом освещении даже бедняцкое хозяйство Меттяля с серой, низко осевшей избой на опушке леса, возле просеки, на отшибе от здешней деревни, выглядит благодушно мирным, почти манящим к себе. Здесь, на хуторе Юкки Меттяля, сейчас хозяйствует лишь его жена Сантра с детьми, сам Юкка с лошадью далеко отсюда, на сплаве.
Из лесу ко двору ведет не очень четко различимая дорога, по которой летом и пешком-то ходят редко, а телеги не ездят вовсе. Человек, прибывающий по ней сюда летом — редкость, не то что зимой, когда и жители дома участвуют в вывозе бревен. Но тот, кто, идучи по своим делам, приближается таким вечером к этому хозяйству, видит его весьма привлекательным: на уныло ровной поляне, окруженной пнями вырубки, постройки по обеим сторонам дороги, проходящей так близко от жилого дома, что зимой поперечные брусья волокуш задевают за него, и батрак, обнажая искривленные зубы на красном от мороза лице, кричит товарищам в других санях:
— Не обивайте углы дома Сантры!
На лесную просеку ведет серая, полураспахнутая калитка из жердей, обветшалая, словно бы оставленная так какой-то бабой или ее детишками. Там, у самой калитки, со стороны просеки конец (или начало) полуразвалившейся поленницы — а сама просека странно широкая, и по обе стороны ее тянется старая замшелая ограда, местами подпертая палками, словно устала указывать путь.
Однако кому придет охота бродить ради таких наблюдений в подобную послеобеденную пору. Дорога, бывшая весной сплошной густой грязью, засохла, и оставленная теперь в покое как бы в возмещение за причиненные весной муки вытолкнула из своего нутра пышный и красивый конский щавель и колокольчики, и не было здесь, как видим, напряженного труда, который мог бы помешать их росту. Тут приятно идти кому угодно, особенно так поздно, когда большая красноватая и круглая луна начинает подниматься в южном конце просеки. В эти недели она еще не светит по-настоящему, а просто виднеется. Но все-таки она была бы будто своя тому, кто приблизился бы в это время к избе, к окошку в конце сеней, которое можно открыть толкнув снаружи. Но кому захочется толкать такое окно! Разве что так, потехи ради. Сени обшиты некрашеными досками, стекло странно синеватое, но еще более загадочна находящаяся за ним занавеска, висящая там много лет в любое время года, — равномерно дырявый лоскут какой то гардины с какого-то окна побольше и получше, чем это, и избе у глинистой просеки, но он хорошо, полностью занавешивает окно изнутри, занавешивает уже многие годы. Странное окно, даже если смотреть на него вблизи: за занавеской непроглядная темень, будто солнце не проникает туда никогда — оно и не проникает, поскольку даже погожими летними вечерами в самые долгие дни по обе стороны Ивановой ночи, когда оно могло бы это сделать, окно загораживает находящийся поблизости дровяной сарай, и солнышку приходится заходить куда-то за него, за вырубку, за камни, в неизвестность, в постепенно заболачивающиеся леса. Какой-то тихий господин однажды летом бродил там с альбомом и нарисовал дровяной сарай, с давно уже перебитым порогом, потому что его использовали вместо колоды для рубки хвороста. Господин рисовал, сидя во дворе, он попросил молока, получил его и выпил, затем пошел восвояси по просеке. Уходя, он взглянул как-то особенно на окно сеней. Это заметили дети.
От Меттяля ведут пешеходные тропы, долгие расстояния, дороги, используемые только летом, и участки полного бездорожья. Но постепенно лес редеет, дороги расширяются, появляются песчаные проселки и покрашенные дома со многими окнами, окнами столь большими, что занавеска, полностью закрывающая окошко в избе Меттяля, была бы лишь крохотной частью целой красивой гардины такого окна. И каждому такому окну требуется даже по две гардины, но они закрывают только края окна, а посередине выращенные хозяйской дочерью красные и пестрые пеларгонии могут во всей красе являть себя всем проходящим мимо: смотреть позволительно любому путнику, кто бы он ни был, и, пожалуй, даже завидовать, лишь бы он не пытался заполучить что-нибудь… И другой дом, тоже такой же большой: сиреневые кусты, образующие естественную беседку, и качели во дворе. К нему ответвляется дорога от шоссе, вдоль которого снова попадаются жилища поплоше и поля, неизвестно чьи; наконец, если захочешь, можешь свернуть с песчаной дороги на такую, где видны колеи, проложенные подводами, или свернуть на поле, перейти через мост и выйти снова на дорогу побольше.
Когда подобные виды повторится перед летним путником раза два-три, он наконец достигнет окрестности усадьбы Телиранта, напротив которой по другую сторону озера — каждое на своем месте среди лесов — изба Ману, лачуга Альвийны и бедняцкое хозяйство Сюрьямяки.
Оттуда-то и приближается сегодня в предвечернюю пору праздничного дня к месту, куда причалили плоты, коновод при собственной лошади на этом сплаве — Юкка Меттяля. Сплавщики-то полагали, что он отлучался к себе домой, на далекий хутор, но он там не был — на сей раз он не стал одолевать этот путь. Он побывал где-то в ином месте и теперь возвращался, чертыхаясь, медленно ступая по проторенной телегами лесной дороге, но совершенно запущенной, потому что ездили по ней крайне редко. Стояло самое сухое время года, но дорога шла там и сям через сырые даже теперь низины, где видны были отпечатки коровьих копыт, а от луж шла приторная вонь. Но в этой вони прекрасно чувствовали себя какие-то маленькие, красивые легкие бабочки. Они там трепетали своими крылышками. И вдоль дороги в том месте выступали из мягкого сумрака кущи раскидистых папоротников, напоминающих веерные пальмы. На ногах Юкки Меттяля были пьексы с высокими голенищами, заплатанные во многих местах и испачканные дегтем, к ним пристала болотная тина, она оставалась на них еще и два дня спустя, когда эти пьексы стаскивали с его одеревеневших ног… Сейчас он был слегка пьян и потому не мог как следует — да и не хотел — сдерживать неуместные проявления куража и куражился даже нарочито. И при этом равномерное его ворчание бурно вскипало бранью.
Юкка присел было на рыхлую кочку, которая тут же провалилась, и он почти упал на спину. Застыв на мгновение в неудобной позе, он уставился на какой-то извилистый корявый можжевельник с немногочисленными ветками и невольно вспомнил, что, уйдя со сплава, не сходил домой. Ему казалось, будто Сантра спокойно и холодно глядит на него откуда-то… Раздражало, что это дело все время всплывало в памяти. — Иди же, Юкка! Хеппули-пеппули!
6
В случайном месте на краю двора смирно стоит авто, все линии которого подчеркивают его марку, как бы защищают честь его расы. Оно стоит там уже со вчерашнего, субботнего, вечера — попав вот так во двор на травку, авто обычно имеет время постоять там, среди старых построек, сутки или двое.
Машина кажется мощной сама по себе, потому что в облике такой «кареты» есть еще нечто удивительное — сочетание силы и грациозности, как у ласточки: даже самый буйный ночной бродяга не посмеет повредить его. Днем же, особенно праздным, воскресным, можно и приблизиться к машине, и полюбопытствовать. Особый, присущий автомобилю запах богатства распространяется вокруг него в сухом воздухе; тепло поблескивающая поверхность металла, мягкие сиденья, бензин, и масло, и смазка — все они вместе дают столь благородное сочетание запахов, что простой деревенский человек не может и представить себя владельцем вещи, пахнущей так… Поэтому деревенский житель с таким смирным, немного благоговейным выражением убивает время, обходя пустую «карету», владелец-водитель которой сейчас там, в доме или, возможно, гуляет где-то на природе. Любопытствующий бедняк впадает в еще более благоговейное настроение, если у него есть какое-то представление о стоимости этого лимузина, сравнительно с другими, и если авто действительно одно из самых значительных по размеру и знаменитых по марке… Но вот этот ничтожный зритель уже подался прочь со двора Телиранты и спустился по береговому откосу в лодку.
Там его встречают другие запахи, и он наверняка втайне наслаждается ими, хотя сам и не признает это наслаждением. Там пахнет озером — то есть чем-то непонятным, происхождения этого запаха не знает никто, разумеется, отдельно ощущается запах прибрежных зарослей, исконный запах смолы в лодке и совсем особенная смесь запахов деревянного дна лодки и свежей рыбы, которая никогда не покидает удачливую лодку… Эти запахи — собственность бедного гребца, трогавшего во дворе усадьбы Телиранта ручки прочно запертых дверок машины и севшего затем вновь в свою лодку и принявшегося не спеша грести.
Один такой гребец увидел лодку сплавщиков и наблюдает за ней просто из любопытства, она приближается от самого дальнего плота и, похоже, направляется в Телиранту. Скорость у нее довольно приличная: две пары весел ударяют в такт, четыре уключины поскрипывают всегда враз. Это плотогоны отправились в Телиранту за молоком. Разве уже время дойки? Неужто я пробыл там так долго? Похоже на то… Над крутым береговым откосом, над высокой рожью — уже явные краски вечера, хотя солнце, если смотреть отсюда, снизу, с воды, точно на линии верхушек колосьев.
Много чего видит со своего места одинокий гребец. От Телиранты в сторону леса простираются открытые поля, которые пересекает тянущаяся к углу хибарки на дальних землях узкая, проложенная колесами телег глинистая дорога, сухая в это время и с цветами по краям; колеи выделяются настолько, что почти видны даже невооруженным глазом с озера. И ясно видны идущие каждый по своей стороне дороги двое — женщина в летнем цветастом платье, молодая и грациозная, гребец даже знает, кто это, и мужчина, молодой и крупный, наверняка как-то связанный с тем воцарившимся во дворе Телиранты длинным, черным лимузином…
На другом берегу озера бедный крестьянин смотрит на арендованный им выгон, думая о кормах и засухе. Красивый выгон, где нет иных деревьев, кроме стройных берез и невзрачного можжевельника, попавшего туда случайно, как сорная трава, да так и оставшегося. Выгон находится за маленьким полем этого мужчины, получившего разрешение расчистить его. Туда же является и его жена с непокрытой головой и в прямом чистом хлопчатом платье, которое она сшила сама такого фасона, какой подходит к ее нынешнему положению. Видно, что роды уже близко, но она двигается бодро, занимается по-прежнему всем и не подает виду, что помнит о том напряженном моменте, который ей предстоит.
Корова все еще спит, она до сих пор не поднялась на ноги. Не взглянув на мужа, жена деловито подступила к скотине, присматриваясь к ее морде и туловищу.
— Эта еще даже жвачку не жует, — сказала жена мужу. Он тоже подошел и был как бы немного в растерянности из-за того, что сам ничего поделать с коровой не может, впрочем, как и с ее хозяйкой, если с ними обеими случится в их положении что-нибудь трудное или ненормальное.
— Наверняка ей нужна какая-то помощь… нет, нет, пока еще не ветеринар — я сперва отправлюсь в Телиранту, поговорю с хозяйкой.
— Да в состоянии ли ты добраться туда? — спросил муж.
— А чем плохо мое состояние? — ответила жена.
И вскоре уже Ялмари видел свою Хилью плывущей на стройной коричневой лодке в сторону усадьбы Телиранта, которая картинно, во всех чертах и красках, стоит теперь неподвижным зеркальным отражением в совершенно тихой воде озера, но вниз головой по отношению к настоящей усадьбе. Бедняк Ялмари легко забыл про больную корову и задумчиво смотрел вслед удалявшейся жене.
Очень красивым выдался как раз этот вечер накануне сенокоса. С выпаса был виден и художник — он греб и, как обычно, приглядывался к постройкам и береговым склонам. Его белая с красным днищем лодка прошла так близко от лодки Хильи, что он смог заговорить с женщиной, которая к тому же стала грести немного медленнее. Художник сказал Хилье, что напишет ее кормящей младенца, но она, махнув рукой, ответила, что ничего не выйдет.
Ялмари пошел обратно к своей избенке, где дети продолжали ту же игру, в которую они играли весь этот прекрасный летний день.
7
Они — те двое, кого гребец с озера видел среди полей, за усадьбой Телиранта, — вышли из дому на прогулку вскоре после полудня. Молодая женщина гостила в Телиранте у своих родственников, а ее спутник подружился с нею минувшей зимой в городе, а теперь, летом, разъезжая на машине, завернул сюда, зная, что она тут. По правде говоря, об этом его визите было вроде бы условлено полунамеком, мимоходом еще весной. Подобные разговоры «не всерьез» вполне могут забыться в течение лета. Этот и был забыт, вернее, почти забыт — Хелкой, но не Арвидом. Да и Хелкина забывчивость была, пожалуй, лишь попыткой спрятать поглубже то, что она знала наверняка, поскольку даже не попыталась отвернуться в сторону, чтобы скрыть засверкавшую в глазах шальную радость. Нет, она позволила глазам свободно лучиться, когда первой из всего населения дома — и действительно застигнутая в тот момент врасплох — увидела знакомое авто, сворачивающее с шоссе во двор, сюда, во двор Телиранты.
Для Хелки это лето было добрым и красивым, она жила тут, как и должно жить людям: трудясь себе на радость и не изнуряя душу, и хотя испытывала порой физическую усталость, замечала лишь, что чувствует себя все лучше — и душевно и физически. Тот разговор ни тогда, весной, ни позже не заставил Хелку задуматься, но едва она различила за ветровым стеклом величаво вскинутую знакомую голову, губы и выражение глаз, как в тот же миг инстинктивно приняла его появление, словно заслуженную награду, словно здесь сейчас сработало все новое, что солнце и вызванные им краски, запахи и ощущения накопили в теле и душе, во всем замечательном человеческом существе.
Субботним вечером следовало проявлять сдержанность, однако в глазах и цвете лица проступала струящаяся тихая радость — Хелкин приятель здесь, и это видели все, кто хотел видеть, особенно молодая Сельма, испытывавшая из-за этого почти неловкость. Это заметили также и родители Сельмы, властительные владельцы имения Телиранта, взглянув на которых даже издали кто угодно мог увидеть, что хотя они уже в зрелом возрасте, но годы ничуть не ослабили их крепкого жизнелюбия. И дочери их хотя и исполнилось уже почти двадцать лет, но она, пожалуй, смирнее своих родителей. Они, конечно же, заметили и только делали вид, будто не замечают… Хелка была им близка.
Субботний вечер мог тянуться бесконечно, поскольку в этих краях пора ночной темноты еще не наступила; было светло, и тем, кто сидел на ступеньках крыльца, на качелях во дворе, на перекладинах высоких стремянок, было все видно и тепло, как днем. И старая хозяйка-бабуся находилась на террасе своей половины дома, участвуя в общих посиделках. Она сказала Хелке, когда та уговаривала ее идти спать:
— Ну да, а потом ты заявишься с топотом, как раз когда я только засну.
Приезжая в Телиранту, Хелка жила на половине старой хозяйки и большей частью питалась с нею вместе, хотя нынче, в летнюю пору, вообще-то ели кому когда и где вздумается, иногда у бабушки, иногда на семейной половине дома.
Однако же наконец хозяин своей властью велел каждому идти спать туда, куда тот может и хочет, и при этом сам взял хозяйку под руку. Все смотрели на них, безмолвно восхищаясь их осанкой… Бабушка все же не позволила командовать собой и осталась сидеть там же, на ступеньках, и тогда все остальные и вся молодежь остались тоже. Да и позже, уходя наконец, она не выказывала настойчивости, а лишь призывала внучку последовать за собой. Она проворчала это добросердечно, к тому же на местном, знакомом и милом наречии, благодаря чему, да еще в устах такой старухи, сказанное прозвучало словно бы от имени целого рода.
Молодежь хотя и осталась во дворе, но, помня о старухе, задержалась там, лишь сколько позволяли приличия.
8
Честно говоря, в воскресенье Сантра Меттяля уже и не ждала мужа домой. Весной он отправился на лесосплав и после этого побывал дома лишь разок, дал ей немного денег, только и всего. Скорее было даже как-то непривычно, что он находился тогда целых две ночи дома. К тому же тогда совпало так, что Вольмари — старший сын Сантры, которым она обзавелась раньше, будучи незамужней, тоже заехал домой, а в таких случаях отчим всегда выходил из себя… Вольмари и уехал в полдень в воскресенье, он отправился дальше своим путем, которым следовал уже не один год. Домой он наведывался лишь тогда, когда бывал хорошо одет и мог небрежно и как бы невзначай показать пачку купюр. Характером он пошел в незнакомого ему отца. Мать — Сантра, всегда ощущала этакий дурной, сладостный спазм, когда вспоминала те дела, которые происходили в связи с зачатием Вольмари и его рождением. Жестокое, даже злорадное выражение появилось на лице этой женщины, едва муж ушел, когда она заметила, что странным образом прочно и неотрывно привязана к этому хозяйству и здешнему быту. Вокруг сновали детишки, сделанные с тем мужчиной — крупным, чуть косолапящим, который удалялся по просеке большими, упрямыми шагами. Сантра осталась дома с повседневными заботами по хозяйству, и тогда ребятишки заметили во взгляде матери нечто такое, чего не бывало ни раньше, когда отец обретался дома, ни позже, после его отбытия. Такое выражение глаз появлялось у матери лишь тогда, когда отец удалялся по просеке, и в субботу вечером, когда ждали его возвращения. В остальное время мать выглядела как обычно.
Она была крупной и ширококостной женщиной. Но хотя кости местами заметно выпирали — плечи, скулы, подбородок, локти, — однако же невзирая ни на что тяжкая жизнь отняла у нее далеко не все из той естественной женственности, которую природа придала ее облику в девичью пору. Это было видно, когда она, неся что-нибудь, шла по летней тропинке или когда присаживалась в свободную минуту где-нибудь отдохнуть. И это звучало в том, как она отшучивалась, когда требовалось, от подначки какого-нибудь мужика, хлебнувшего браги. Признаки той, изначальной женственности в изгибе бровей и губ, особенно в глазах можно было заметить даже тогда, когда она хлопотала по хозяйству, и несмотря на то, что в уголках губ всегда сохранялась горькая складочка, а в глазах — легкая злость безнадежности. Пожалуй, теперь это могли бы различить уже не парни, а лишь некоторые мужчины зрелого возраста. Ей около тридцати пяти лет в эти летние долгие ночи, которые и нынешним летом тешат человеческие чувства молодых и старых, возвышенные и самые низменные. Особенно в те две недели, когда весенние ночи уже позади, а сенокос еще не начался.
В глазах Юкки Меттяля жена была всего лишь посредственно хозяйничающей в избе бабой и ничем больше. Их женитьбу подстроили другие люди, когда отцовское хозяйство — после смерти отца — перешло к Юкке. В юные годы Юкка Меттяля отнюдь не был любимцем девушек. Если он и приходил на танцы, то чаще всего просто стоял в дверях. Но, как правило, он ходил туда только в тех случаях, когда удавалось прежде где-нибудь приложиться к бутылке — настолько, что это было заметно. Так у него появлялась какая-то необъяснимая причина идти туда, где танцуют. Мысль, что ради такого дела настоящий, сильный мужчина отправляется за несколько километров, казалась Юкке сладостной. И, придя туда в подпитии, Юкка Меттяля не танцевал, а непринужденно расхаживал вне круга танцующих, ротозействовал и пел, пытаясь придать голосу нарочитую хрипоту. И редкая девушка подходила пригласить его на танец, — но все же иногда подходили. А тем летом, когда он вышел на свободу из тюрьмы для бунтовщиков и, оправившись душой и телом до прежнего состояния, пошел на танцы в Маханалу в Дом трудящихся, Сантра Коркомяки подошла пригласить его на танец и смотрела ему в глаза, пытаясь понять, есть ли в словах Ниеминчихи хоть доля правды.
Именно в тот раз коварная, льстивая Ниеминчиха и дала ход делу — тому делу, за которое ей попервости было мало любых наград. Однако же в действительности больших заслугу Ниеминчихи в этом деле не было, разве что она своей болтовней немного упростила канитель для каждого — и для Сантры, и для Юкки. С этих же танцев Сантра повела Юкку к себе на чердак амбара. Легкий хмель Юкки тогда уже отчасти развеялся, но когда он уразумел, в чем вопрос, захмелел снова и был как бы совсем пьян и угрожающе ругался, хотя и приглушенным голосом; поддерживая друг друга, закинул руки друг другу за спину, они приближались к дому, где Сантра была в услужении. Она уверяла, что никто из обитателей дома на них и не смотрит, и хотя они все стоят там, на веранде, им, мол, нет ни малейшего дела до всех прочих. Но в понятии Юкки Меттяля прийти вот так с девушкой и взбираться к ней на чердак почти не отличалось от того, чтобы явиться на танцы и горланить песни: на трезвую голову взрослый мужик такого делать не станет. Не решится.
Но той же ночью, перед уходом Юкки, Сантра сказала ему:
— Небось знаешь теперь, что тебе придется взять меня. Это входит в уговор.
Могло и входить, и входило-таки. Вскоре Юкка научился наведываться в амбар к Сантре без того детского стеснения, когда требуется выпивка для храбрости. Это заметили, и когда лето прошло и захолодало, а Сантре предстояло вернуться с амбарного чердака в комнату для служанок в хозяйском доме, настала пора церковного оглашения. Ибо иначе отношения их — такие, какими они были, — не могли бы продолжаться под той же самой крышей, где и хозяин спит с хозяйкой. Об этом им сказал сам хозяин, придя к ним, когда они были вдвоем.
Так вот это и началось, и минуло не столь уж много времени, пока положение не сделалось таким, как теперь, в эти летние ночи. Юкка больше не испытывал детского стеснения взрослого холостяка, но не испытывал по отношению к Сантре и многого другого. Он был обычным мужиком, довольно неплохо зарабатывавшим благодаря лошади, угрюмым и безразличным ко всему, кроме хорошей выпивки на дармовщину, как прежде, когда он ходил по вечеринкам. В ту пору он, случалось, и вообще бывал таким — но не теперь, в последнее время. Теперь он все чаще стремился найти работу подальше от дома, а иногда напивался и норовил тогда придираться и грубить.
В последний раз он побывал тут неделю назад и сначала, в субботу вечером, выглядел приятно. Он явился с далекого сплава в начале дня, неожиданно для Сантры и детей. Сантра готовила брагу для хозяина той большой усадьбы, в которой они выкупали и собственность этот хуторок и где Сантра какое-то время была служанкой. Уже тогда еще неженатый «молодой хозяин», владевший теперь усадьбой, знал искусство Сантры готовить брагу.
9
Для Ялмари Сюрьямяки время тянулось медленно, он расхаживал с выгона на двор и обратно, и на выгон он каждый раз заходил так далеко, что был виден другой берег неширокого в этом месте озера и все находящееся на нем. И он увидел Хилью и хозяйку Телиранты как раз в тот момент, когда те, садясь в лодку, заспорили, кому из них грести. Наконец на весла села Хилья, и Ялмари поспешил на берег встречать их.
— Знать бы, кто тут скорее нуждается в помощи, — сказала Хилья и взглянула на мужа, выражение лица которого сразу сделалось озабоченно-серьезным. Такое выражение, чуть что, всегда возникало у него, и поэтому при первых признаках говорить ему о них не стоило.
— Пора ехать?
— Ну, нет пока… — и Хилья пошла с хозяйкой Телиранты к выгону. Мужчина из бедной избы, не имеющий ни лошади, ни собственной земли, ожидает родов жены всегда в напряжении, а время тянется почти мучительно и томительно. Правда, роды в такую пору, как теперь, когда дороги сухие и можно привезти домой помощь — случай еще не самый худший. А ведь роды бывают и в распутицу!
Сейчас-то погода подходящая. И все равно это событие в жизни супружеской пары Сюрьямяки оказалось на сей раз во многом необычным. Впрочем, оно никогда и не бывает совершенно одинаковым и рутинным даже в самых многодетных семьях.
Ялмари остался во дворе, когда хозяйка пошла с Хильей на выгон осмотреть корову. Но пробыли они там совсем недолго. Ялмари вскоре увидел быстро возвращающуюся во двор хозяйку Телиранты и медленно следующую за нею Хилью.
— Лучше всего, если Ялмари поедет сейчас же — лошадь-то нашли?
— Договорено было с Оллилой — у других-то в этих местах и просить не стоит… Немедленно и отправлюсь — может, покуда хозяйка сможет побыть тут, на всякий случай — а то ведь Альвийны нет дома, хотя я и толковал с ней об этом…
— Да отправляйтесь же!
Солнце склонялось к горизонту, но вечера были еще светлыми, хотя оттенки их красок после Иванова дня изменились. Промозглая сырость царила в той части дороги, которая пролегала в низине, заросшей смешанным лесом, и выходила на болотистый луг. Ялмари Сюрьямяки шагал стремительно, — так стремительно, что в сравнении с его обычной манерой двигаться это бросалось в глаза. Его сознание было в странно-невинном и чистом. Такое он испытывал всегда, когда должно было произойти какое-нибудь важное событие его жизни. И это никак не менялось с возрастом. Так было, когда двенадцатилетним мальчишкой Ялмари стоял и смотрел, как гроб с матерью опускали по посеревшим, облепленным глиной доскам куда-то вниз, в выкопанную в земле яму, где уже были два других, похожих на материн, гроба, один из них — совсем маленький. Там, на погосте, суетились чужие люди, которые одновременно так бы изучали их — отца, Ялмари, Лайну и Вихтори, — мол, как они ведут себя тут… Точно так же настроились его чувства, когда он стоял рядом с Хильей под венцом… Как далеко остались все те заботы, которые были у них с Хильей тогда и к которым позже пришлось вновь вернуться. Сильнее всего угнетало, когда они стояли в церкви перед пастором, нечто такое, что будь бы это и сейчас, он испытывал бы жуткую неловкость… Пастор говорил о Боге, и при этом как бы сам превращался в олицетворение Бога, но тогда не мог он знать… И когда родился их с Хильей первенец — девочка, которая вскоре умерла, — у Ялмари было точно такое же чувство. То, что родился по-настоящему живой ребенок — это было как бы чересчур для тогдашней их полноты жизни… Последовавшая затем смерть отца казалась уже каким-то вовсе второстепенным событием.
Но сейчас в голове его опять, как прежде, начинался шипучий гул, словно всяческие предчувствия все время что-то нашептывали на ухо. Какая-то большая птица встревоженно перелетела через дорогу, небо на юге было ужасающе свинцовым, и это нельзя было назвать тучами, пока не взошла луна — полная, круглая, красноватая, с привычными синеватыми обручами вокруг нее. Луна взошла над долиной Паханоя и поглядывала оттуда словно бы украдкой и явно показывая, что не собирается всходить очень высоко, а поднялась лишь настолько, чтобы видеть, как шагает этот сильно встревоженный человек.
Ялмари пришел в Оллилу, но там не оказалось дома ни одного мужчины.
— Видать, у Сюрьямяки нынче спешка, — сказала бледнолицая и уже переставшая ходить на танцы скотница, в одиночестве занимавшаяся чем-то на большой кухне, служившей одновременно и людской. — Нет никого дома-то, они еще утром уехали к свекру со свекровью, а оттуда они никогда раньше полуночи не возвращались. Но вы же тут все знаете — где и что. Кобыла там, на выгоне Мююлюнийту.
Ялмари уже хватал развешанную на стене сарая упряжь, но вся она, похоже, была как-то не в порядке; нашлась одна сбруя вроде бы годная, но и у этой не хватало пряжки на подуздке. Оставалось попробовать подвязать чем-то, чтобы ремень не болтался.
Попробовать-то можно… После того, как будет кого взнуздать. Ведь Сюрьямяки знал, что старая кобыла Оллилы так запросто не дается, мужчины поплоше, бывало, ловили вдвоем, растянув веревку, он же надеялся, что справится теперь и сам. Но… Кобыла лишь пряла ушами, ловко избегала попыток человека поймать ее и не поддавалась на его хитрости. Ялмари негромко бранился, и та нешуточная тревога, то длившееся неделями ожидание напряженного момента упорно не покидали его сознания, держались в голове и слышались в шуме пульсации крови — шшех!.. шшех!.. «Никакой черт мне не поможет, если я не поймаю эту скотину!» Шшех!.. шшех!.. шшех!.. Он уже был рядом с ее боком и почти дотянулся, чтобы схватить ее за гриву, но… чуть не получил удар задними ногами, когда она взбрыкнула всем крупом так, что ему пришлось отскочить. А она уже словно бы в насмешку пощипывала травку в другом конце выгона, но стоило мужчине хоть немного приблизиться к ней, она опять пустилась в пляс, словно победительница конкурса танцев. «Ох, Господи, помоги! Господи, помоги!» — твердил взволнованный и спешащий мужчина тихо, как молится изнуренный болезнью человек. «Ах ты, сатана!» — заорал он в отчаянии и побежал со всех ног к этой скотине, которая, казалось, издевается, дразнит его. Смотреть на это со стороны было бы забавно, но за этим безумным состязанием наблюдала лишь полная луна, поднявшаяся еще немного повыше над тем мрачным, зловещим свинцовым фоном как бы специально, чтобы получше видеть все происходящее.
Ялмари — наивным и беспомощным мальчишкой — бегал, тяжело дыша, иногда лишь останавливаясь, чтобы попытаться осознать происходящее. Ни на кого другого надеяться не приходилось, что же делать, если он так и не поймает эту лошадь? И опять срывается с его губ похожая на плач и молитву брань, когда он, перейдя с бега на быстрый шаг, следует за приплясывающей, дразнящейся кобылой. А та продолжала свое. Но теперь уже вовсе не подпускала к себе пытавшегося догнать ее человека, а сразу же удалялась, ритмично виляя крупом.
Так продолжалось, пока кобыла внезапно не заржала и не пустилась во всю прыть к воротам. Там стояла, протянув руку к кобыле, Эмми — та бледнолицая скотница Оллилы. Казалось, лошадь уже не сможет замедлить бег и неизбежно собьет женщину. Но именно в последний момент, вытянув прямые передние ноги вперед и заскользив, будто на санях, она остановилась как вкопанная, замерла перед Эмми и принялась слизывать куски хлеба с ее ладони. Сюрьямяки смог свободно подойти к кобыле и надеть на нее уздечку, а кобыла при этом вовсе не обращала на него никакого внимания.
— Долго ли умеючи, — сказала Эмми, прибавив еще, что, мол, с удовольствием продолжала бы смотреть, как кобыла танцует с Сюрьямяки, но поскольку знает, что дело касается Хильи, то пришлось помочь остановить эту клячу.
10
Свернув в субботу во двор усадьбы Телиранта, Арвид, еще не остановившись, заметил, что одно окошко в первом этаже распахнулось, грациозная женская рука придержала его и в оконном проеме показалось весьма знакомое лицо. Видны были коричневые локоны, подправляемые другой рукой, и вся фигура в летнем платье, которая вдруг застыла в безмолвной позе, выражавшей больше, чем восклицание. Но эта фигура быстро исчезла из окна — и из двери веранды выбежала во двор навстречу прибывшему Хелка, с которой он и был знаком.
Платье Хелки, конечно же, сразу бросилось в глаза Арвиду, ибо было совершенно непохоже на то, в каком она была, когда они виделись в последний раз в городе. То был вечерний туалет, а это легкое, цветастое, летнее платье, гораздо лучше позволявшее представить себе тело его владелицы во всей его гибкости…
В тот раз он, Арвид, сначала видел из машины спешащие к двери дома красные, золотистые, белые, зеленоватые туфельки, поднимавшиеся с уличного тротуара по ступенькам и исчезавшие между двумя белыми колоннами. Затем, уже войдя в дом, он видел и то, к чему туфельки были как бы коротким двустрочным эпиграфом. Но одни увиденные из машины туфельки запомнились Арвиду. Потом в зале он сразу же узнал их. Позже с бокалом коктейля в руке он словами и глазами говорил об этом барышне Хелке, и кое-кто из гостей мог со стороны заметить на лицах их обоих выражение, не столь уж обычное для подобной ситуации, но тут к ним подошла хозяйка дома, чтобы напомнить об обещании, которое дал каждый из них… Итак, затем, попозже, когда вечер будет в разгаре…
И вот теперь эта барышня выбежала ему навстречу, стремительно-легкая, загорелая. Заставила ли его душу встрепенуться непохожесть или, может быть, именно сходство? Хелка тогда аккомпанировала безупречно, хотя Арвид и позволил скрипке немного подразнить ее: когда вечер был давно в разгаре и они оказались в дальней гостиной вдвоем, чтобы немного посовещаться… Арвид вспомнил, как аккомпаниаторша в конце их совместного выступления убыстрением ритма и аккордами немного отомстила ему… Позже они беседовали вдвоем в библиотеке, в полусвете настольной лампы с пожелтевшим абажуром. Там-то невзначай, полусловом и было как бы заключено то соглашение, которое он теперь и выполнял. Впрочем, это была слишком зыбкая основа, чтобы вот так завернуть во двор, где никогда раньше не бывал, — дело казалось весьма рискованным. Однако же прибывшего встретил тут взгляд, который словно бы открывал ему дверь, бежал навстречу, почти обнимал. Такой же взгляд, сопровождаемый кивком, бросила на него Хелка тогда, выходя перед ним из библиотеки; это выглядело знаком согласия и было именно им. Теперь это получило подтверждение.
— Бааб! Вот тот гость, о котором я как-то говорила.
Арвид видел профиль Хелки: висок, двигающиеся в разговоре губы, зубы, видел все это здесь, во дворе деревенской усадьбы, в сиянии летнего дня — затем он увидел в боковой двери немного ссутулившуюся старую женщину, которая после сообщения Хелки двинулась ему навстречу, подняла руку, чтобы пожать руку молодого человека, и сказала:
— Добро пожаловать.
Затем старая хозяйка пошла впереди него к парадному входу. Она двигалась так медленно, что Арвид успел хорошо оглядеться вокруг, удостовериться, сколь велик дом, взглянуть на пейзаж. На Хелку он больше не смотрел, и они ничего больше не говорили друг другу. Старая хозяйка и солнечное сияние объединяли их.
Вскоре у Хелки нашлась причина исчезнуть из поля зрения гостя: ведь ей надо помочь бабушке.
— В деревне гостя всегда сначала бросают одного, — сказала старая хозяйка, зайдя за чем-то в залу, где оставили Арвида.
Но вскоре гость начал приобщаться к духу усадьбы, знакомясь с обитателями хозяйской половины. Знакомство это происходило вне дома, на воздухе. Жизнь во дворе, по мере того как дело шло к вечеру, оживлялась: появилось стадо, батраки, служанки, упоминали о сауне, об амбаре, о посещении завтра церкви.
Субботний день шел к вечеру. Арвиду было хорошо, он видел Хелку, и это было замечательно, хотя она лишь мелькала. Однажды она кивнула ему из двери кухни. На ней тогда был большой белый передник.
11
Насчет того, что пора спать, особо не говорилось, да в такое время года, в этих краях, здесь и в таком возрасте — никто о сне и не думает. Арвиду-гостю было постелено в крайней угловой комнатке постройки, остававшейся владением старой хозяйки. Пустая зала, где пахло некрашеным деревом и холодной кафельной печью, отделяла эту комнатку от той части жилья, которой действительно пользовалась старая хозяйка и где спала Хелка.
Часы показывали уже за полночь, когда гость еще тихонько, крадучись, двигался по зале. Это было просторное помещение, в боковых стенах которого имелось по два окна, и на них, как и на других окнах этой постройки, висели уже многие недели в девственной неприкосновенности жестко накрахмаленные кружевные занавески. А в обеих торцовых стенах залы было по две двери. Одна из дверей вела в широкую прихожую, оттуда можно было выйти на дощатую, забавно вздрагивающую под ногами остекленную веранду, где среди десятков маленьких оконных квадратиков там и сям в определенном порядке были вставлены голубые и кроваво-красные стекла. Если в доме все спали, то гость, послонявшись по зале, мог бы выйти еще и во двор так, что этого ниоткуда нельзя было бы заметить.
Очень тихо приоткрылась дверь из прихожей, и в проеме показалась чья-то фигура. Было настолько сумрачно, что находящемуся в зале пришлось напрягать зрение, чтобы узнать ее.
— Не спится?
— Спать что-то еще не хочется.
Спрашивающая остановилась там, в дверях, откуда и задала свой вопрос. Очень осторожно она оперлась о дверной косяк. Теперь она опять была как-то по-новому освещена, и в позе ее было что-то новое. Предписанное судьбой для этих двух молодых людей исполнялось с той нежностью и легкостью, какая присуща силам добра. С каждым словом и движением происходящее становилось все серьезнее. Барышня стояла там, на пороге. На пороге, но так, что полуоткрытая дверь была уже у нее за спиной. Дверь открывалась в ту сторону, откуда она пришла.
Свое «спать что-то еще не хочется» молодой мужчина произнес со странной серьезностью. Он немного приблизился к барышне, но сделал это как бы невзначай, его внимание, казалось, поглощено очарованием летней ночи за окнами. Он глядел в окна по обеим сторонам залы, словно бы усердно воспринимая и отдаваясь тому, что видно как с южной стороны, так и с северной.
— Кто же сможет уснуть, когда такая атмосфера, такие прозрачные сумерки, а колдовские привидения подстерегают повсюду вокруг и голоса их столь низки и столь высоки, что их мелодию ухом и не услышишь.
— Откуда же вы знаете, что она звучит?
— Вижу это в ваших глазах. Ведь вы однажды уже аккомпанировали мне прежде.
Слова, произнесенные молодым человеком, казались ощутимы, будто легкое прикосновение… аккомпанемент… беззвучная мелодия уже звучала. Девушка чувствовала, что опять оказалась во власти этой мелодии, как тогда, зимой, аккомпанируя ему… В этот миг она с особым стеснением вспомнила то их совместное музицирование — как скрипка, казалось, приближалась к самому ее уху и говорила в него такое, что, будь это выражено обычными человеческими словами… и действием… то… Она прилагала усилия, брала аккорды с отчаянной силой, но, несмотря на это, окончание игры показалось ей лишь долгим, нескончаемым пианиссимо, к которому вела мелодия. Ей казалось, что, встав из-за рояля, она уже не была прежней. И затем в библиотеке… она помнила даже расположение там всех вещей.
И вот тот же человек, тот самый мужчина здесь, и сейчас его мелодия действует на нее так же, звуча под сурдинку, и что прелестнее всего — вокруг нет посторонних. Но чем был весь сегодняшний день? Ничем иным, как подготовкой к этому. Было ли в нем хоть что-нибудь, самое ничтожное, случайно мелькнувшая мысль, слово или действие, которые не были бы неостановимыми приготовлениями к этому? Были ли во всей жизни иные мысли, слова, поступки, кроме ведущих к этому… в жизни… Та-ак, но это же… есть… был… Он — он, на правом локте которого так прелестно лежат уже ее пальцы, когда они оба смотрят в окно, на эту ночь… Один профиль на фоне другого, будто четкий, светлый, двойной рельеф, фоном которому служит «чарующий призрак ясных сумерек», как сказал поэт, та северная летняя ночь, не умеющая пользоваться словами… Здесь он… любимый человек… мужчина… тот, у кого днем было какое-то имя, а теперь ничего… тот, для которого где-то там, вне этой залы, существовала какая-то «профессия», к которой он как раз и готовился, упражняясь в то же время в музицировании… о-ох, ничего нет… ничегошеньки… только это. Это удивительное, почти беспамятно-обморочное состояние.
* * *
Ничего не поделаешь — солнце появилось снова. И весь двор таинственно зарозовел, но самым колдовским было, пожалуй, то, что кое-какие места, которые принято было считать всегда самыми солнечными, сейчас оказались как бы в тени, а высветлялись все больше совсем необычные места. Посиделки вчерашнего вечера — где они были? Неужели в этом дворе? — Как же я попала сюда? — Каким чудом? — Благодаря каким происшествиям? — Мы все еще не спим. И никто не знает об этом…
— Спокойной ночи.
Это было произнесено в такой момент, что у другого не было возможности ответить словами. Теперь в пахнущей старым деревом и чистыми тканями зале, где было обвенчано много невест, воцарилась на долгое мгновение полнейшая неподвижность. Затем послышались осторожные шаги, и две двери одновременно закрылись. День угрожал — угрожал так, что они — даже не дожидаясь, чтобы сон напомнил им о себе, вдруг как бы очнулись, сообразили, кто они такие, вспомнили, кого как зовут — все то…
И все же сон успел еще задернуть между ними занавес — чтобы открыть его снова с наступлением дня для новых подтверждающих все событий.
12
Воскресное утро неторопливо, гостю тоже можно подольше оставаться в постели, как и хозяевам. Арвид выглянул в окно на двор, — устойчивая, сухая ясная погода казалась вроде бы незаслуженной. Было то самое утро, зарождение которого уже видели те, кто давеча бодрствовал и любовался на рассвете странным расположением света и тени во дворе. Но сейчас все снова стало так, как вчера днем. Только у девушки-прислуги — белоснежный передник, и в улыбке ее был ясный воскресный оттенок, когда она ответила на утреннее приветствие старого Ману, пришедшего повидаться с хозяином.
В это воскресное утро барышня Хелка спала дольше всех в доме. Хозяин, Арвид и еще какие-то мужчины сходили поплавать, с удовольствием позавтракали и — скрывая, что наслаждаются прекрасным воскресным утром, — отправились удостовериться, в каком состоянии рожь. Большая часть колосьев уже пожелтела, пыльца с тычинок улетела со слабым ветром какого-то прекрасного утра, но у некоторых колосьев нижняя часть еще была темной, если смотреть против света, и ждала еще, что пыльца сделает свое дело, если когда-нибудь еще сможет попасть туда… Но с самого начала утра главным было то переливающееся, искрящееся солнечное сияние, которое, казалось, и впрямь отгоняет самый воздух от своего пути, чтобы все живое — травы, бабочки, люди — дышало одним только им, солнечным сиянием. Находящиеся в усадьбе люди собрались сюда из разных мест, но всех их безусловно объединяло погожее безоблачное утро.
Наконец проснулась и барышня Хелка, вернее, ее разбудили. Разбудило ее пение — да, серенада во дворе деревенского дома в десять часов утра, в воскресенье! На сей раз звуки вторглись в уши, как в иное утро — свет в глаза. Певцы были тут же вознаграждены: занавески чуть раздвинулись, и они увидели милую всем им — каждому по-своему — голову, мягкие коричневые локоны, большие светло-коричневые ирисы глаз, подбородок и ямочку улыбки в уголке рта.
Своих лиц певцы не видели, но та, кому предназначалась серенада, видела их. Ух ты, как старательно ведет свою партию загорелый дядя, брат матери, какое милое у него выражение! Видно, что он как бы вновь переживает свою молодость. Молодые парни-практиканты оба стараются петь серьезно и деловито, но в некоторых местах их пение заставляет хозяина и Арвида обмениваться быстрыми многозначительными взглядами. Хелка смотрит, и в глазах ее на совсем коротенькое мгновение задерживается теплый, глубокий отсвет.
Голова, показавшаяся меж занавесок, кивает, певцы видят это, и затем сбоку появляется кисть руки и локоть, будто на подоконник поставили подсвечник. Когда пение окончилось, каждый из певцов был награжден брошенным на него взглядом, при этом губы находившейся в доме забавно прижимались к стеклу. Случайно проходившая там хозяйка, бросив косой взгляд на певцов, сказала:
— Ого, какой успех имеет эта Хелка.
И хозяйка позвала всех завтракать, кто когда успеет.
13
Снова все собрались вместе — то было общение, при котором все скрыто и, однако же, все явно. Барышня Хелка, похоже, принимала деятельное участие в приготовлениях к завтраку, она лишь весело кивнула Арвиду, гостю, будто и не видела его после вчерашних общих посиделок во дворе. А бабуся облачилась в воскресное платье. И завела разговор о ласточках:
— Не могу уразуметь, но сколько живу в этом доме, всегда тут одни и те же гнезда. Я уже помню их шестьдесят с лишним лет.
— Они, стало быть, твои ровесники, — заметил хозяин.
Дом, и двор, и все хозяйство было старое и находилось во владении одного и того же рода. Этого коснулся разговор за столом и во время обеда, когда сидели кто где маленькими группками. Барышня Хелка объяснила, что земля, принадлежащая ее роду, на самом деле не тут, а там, в стороне Пахаллаоя, и она даже ходит туда каждым летом, но в этот приезд еще не ходила. Сегодня ведь прекрасная погода, можно бы и сходить.
— А меня с собой не возьмешь?
Все заметили, что Хелка и гость сегодня говорят друг другу «ты», но никто сегодня не был свидетелем того, чтобы они договаривались об этом, вчера же вечером, расставаясь, они были еще на «вы». Если кто-то, скорее всего из младших членов общества, и собирался было напроситься Хелке в попутчики, то теперь, после вопроса, заданного гостем, стало понятно, что это неуместно.
— Почему же нет — пошли, — ответила Хелка.
Хозяин, тоже подметивший ту тонкость, счел за лучшее продолжить беседу как ни в чем не бывало. Он принялся рассказывать про руины бывшего жилища, которые все еще видны там, в упомянутом Хелкой месте.
— Точно-то не выяснено, но вероятнее всего, там был когда-то хуторок, который позже, при каких-то обстоятельствах объединили с этим имением. А здесь, среди угодий есть другое хозяйство, которое называется Нунна[24], и Хелка теперь владеет им, вернее, тем участком земли. Так что за здоровье барышни Нунны!
Все весело подняли бокалы.
14
Там, на древнем месте поселения, ничего примечательного не было. Но сам по себе участок — невысокий каменистый холм, с которого в одну сторону открывался резко ограниченный горами вид на озеро, — был привлекательным. Из травы выглядывали там какие-то небольшие выступы, и можно было догадаться, что то — остатки бывшего фундамента и подстенные камни. Отдельные очень старые деревья поблизости тоже давали понять, что когда-то человек относился к ним иначе, чем к тем, дальним березкам и елям. Эти древние деревья, знавшие некогда уход, возвышались посреди выросшего тут позже смешанного леса и будто от имени минувших времен приветствовали с важным видом нынешних путников, которые выглядели совершенно иначе, чем те, первые жильцы здесь, выбравшие эти деревья и ухаживавшие за ними.
Старый, ветхий сарай, куда собирали веточный корм для скота, стоял у подножия этого небольшого холма, и у его стен росло несколько луговых цветков: какие-то колокольчики и отливающие фиолетовым метелки вейника, которые никогда не выросли бы в лесу, не будь здесь этого сарая. Был даже только что расцветший кроваво-красный цветок клевера. Барышня Хелка нагнулась, исследуя траву на невысоком склоне.
— Нет, спелой земляники еще не найти.
— Конечно, даже рожь еще не отцвела до конца.
— Неужто?
— Да, я смотрел сегодня утром. Колосья на одну пятую, по крайней мере, еще темные.
Надо же было о чем-то разговаривать, ведь пришли сюда вроде бы по делу.
Когда они отправились в обратный путь, Арвид, поглядывая на Хелку, вспомнил свою последнюю встречу с нею в городе. Было странно, до чего же хорошо ее фигура и выражение лица подходят к здешним полянам и заросшей травой дороге, по которой ездили крайне редко. Он подбирал шаг, стараясь приноровить свою походку к походке спутницы. Здесь, в глубине леса, можно было держаться посвободнее, здесь не было иных наблюдателей, кроме тихо пролетевшей над ними мухоловки. В траве на дороге росла, кажется, ястребинка и какие-то чахлые лютики.
Лишь просека указывала направление дороги, превратившейся просто в заросшую травой землю. Левый локоть Хелки под мышкой у Арвида вдруг напрягся, словно она увидела что-то ужасное. Это заставило Арвида остановиться, и у нее вырвался короткий смешок, будто упало несколько золотых капель, ее рука неожиданно взметнулась из-под его локтя ему на шею, и барышня поцеловала своего спутника в губы. Этот обряд следовало совершить после посещения ими места старинного родового пепелища, возвращались они иными, чем пошли туда. Молодой человек обнял девушку за плечи, сжал, может быть, слишком сильно, посмотрел ей в глаза также, как тогда, после совместного музицирования, и спросил:
— Ты любишь меня?
— А что же еще мне остается? — И радость едва не прорвалась наружу всхлипыванием… Затем внимание ее обратилось на какую-то неприметную веронику, похожую на упавшее в траву бабочкино крыло. Или на голубой глаз, который видел все.
Вскоре они уже входили в калитку изгороди, за которой начинались настоящие пашни и откуда виднелись уже дом и постройки ближние и дальние. Впереди путников, на южной части неба сгущались свинцовые тона, позади можно было угадать появление вечернего золота. Но появления луны придется еще подождать.
Они шли теперь по разные стороны сухой, гулкой, глинистой дороги. И с обеих сторон разнообразие цветов становилось все более богатым. На стороне Арвида — слева по направлению их движения — трава на дороге была лишь кое-где скошена, там было много маленьких, но с широкими листьями побегов осины, а между ними — обилие вероники, звездочек, таволги, подмаренника, различных колокольчиков. Уже готов был зацвести чертополох, роскошный цветок горных склонов. Сам цветок фиолетовый, листья сверху темно-зеленые, снизу почти белые, и если согнешь стебель, то оттуда обильно выступит белый млечный сок. А со стороны Хелки было пшеничное поле, невзрачные колосья как раз набирали силу. Еще там поодиночке стояли лесные купыри, сумевшие под прикрытием этой чащи длинных стеблей сохранить от ветра зонтики с семенами.
Здесь, среди полей, на виду у земледельцев барышня Хелка вела себя совсем иначе, чем там, на заросшей лесной дороге. Теперь она шла так, как там, в столице, когда Арвид видел ее ступающей по паркету зала для танцев, каждым шагом она как бы возносила славу природе, сделавшей ее такой. Она и теперь, после только что произошедшего, не делала и попыток к разговору со своим спутником, а лишь что-то тихонько мурлыкала себе под нос и, сняв с головы шляпку, помахивала ею в такт ходьбе. Когда он все же попытался затеять что-то вроде разговора, она отвечала любезно, но было явно видно, что мысли ее витают где-то далеко.
Их-то возвращение и видел с озера плывший на лодке, а все рассказанное этому предшествовало.
15
Художник, тихий, деликатный человек, бродил этой ночью и под утро. Так многие странствуют в летней ночи Похьялы, особенно до и после Иванова дня. Причины бывают самые разнообразные, но внешняя предпосылка и сегодня, и в минувшие времена у всех одна и та же: белые ночи.
Его называли художником, поскольку он учился этой специальности и его видели там и сям малюющим красками или рисующим что-то: пейзажи, скотину на выпасах, кое-кого из местных жителей, соглашавшихся позировать ему, когда он осмеливался попросить их об этом. Например, телирантского старика Ману он изобразил во многих позах, в разных одеждах и даже голым: освежающимся на крылечке сауны… Но он также опубликовал много книг, которым никто не отказывал в сентиментальной душевности и непогрешимой элегантности, но которые мало кто читал — и так далее… Именно он в начале вечера и плыл на белой лодке с красным днищем.
На природе он чувствовал себя лучше, чем дома. У него был и дом и семья; он жил в нескольких минутах езды от Телиранты во флигеле уединенно расположенной усадьбы. Его супруга почти самостоятельно приобрела это жилище, когда владельцы его — старики старуха, пенсионера — умерли насильственной смертью и домик их остался свободным. До тех пор художник с семьей жил в своем родном доме, занимая одну-единственную комнату. Там происходило тогда всякое, что необратимым образом повлияло на всю оставшуюся жизнь этого семейства — в какой срок и каким образом настанет ее конец, было так же неизвестно, как и во всех других семьях, но в последнее время, однако же, возникло странное ощущение начала конца. По крайней мере у самого художника, если не у всех остальных. У него за очень короткий период стали появляться приметы возраста. Правда, никаких явных неприятностей он не испытывал — у него были немногочисленные, но тем более солидные друзья и почитатели его творчества, но он… он сам порой будто бы терял уверенность и брел в растерянности наугад…
Художник греб медленно и смотрел на отражение Телиранты в постепенно затихающей воде, видел передвигающихся в усадьбе людей и воображал жизнь их крепкой и счастливой. Наблюдение за природой и людьми стало для него печально-нежной страстью. Особенно нынешним летом, днем и ночью, ссутулясь, бродил он среди летней природы, как бы опасаясь чего-то, словно животное, наивно прячущее голову в укрытие.
Сейчас он время от времени задерживал весла над водой, и из-под обвислых полей шляпы виднелись весьма печальные глаза, которые словно бы прислушивались: теплый напряженный взгляд их был обращен в никуда. Вернее, мужчина вел свой взгляд по линии верхнего края моря колосьев, над которым пламенело на горизонте небо, но взгляд находил в этом лишь зацепку. На самом деле он был направлен куда-то в глубь души самого художника.
Июльское ржаное поле — море колосьев на фоне заката — в известный период жизни это изнуряющее зрелище. Урожай созрел, урожай созревает — или, по крайней мере, уже готовится созревать. Заходящее солнце оглядывает ржаное море, как крепкий крестьянин, у которого поля ухожены и хозяйство всегда в порядке, если же возникает ощущение, будто хозяйство начинает слабеть, он сразу приободряется сознанием, что когорта сыновей и дочерей идет по его стопам и, почтительно помня об отце, готова углублять проложенные им борозды. Под благоприятными знаками зреет его урожай, как на полях, так и в душе. Художник смотрел — и крестьянские судьбы представлялись ему часто более благополучными, чем в действительности. У него-то самого только и было то, что находилось там, в домишке, в Майанмаа. И не об этом он вспоминал, когда его расширенные глаза уставились на море колосьев и на заход солнца.
Он очнулся от мечтаний и снова принялся равномерно грести. Обернувшись, он увидел догоняющую его, целеустремленно гребущую Хилью Сюрьямяки, которая, похоже, торопилась в Телиранту.
— Куда такая спешка?
— Дела.
— А скоро ли я смогу начать картину для алтаря: Мария, кормящая грудью младенца?
— Моя грудь на обозрение всему свету выставлена не будет, да у художника дома есть и своя Мария.
— Да-а, но прийти-то взглянуть на младенца мне позволят? Когда все уже будет в порядке.
— Можно будет. Со временем.
И лодка с красивой крестьянкой проплыла мимо него. Он ясно видел, что ее немного стеснял и одновременно радовал его зачарованный взгляд. Еще и теперь, в ее нынешнем положении, линии ноздрей и бровей сохраняли то особое изящество, которое как бы смягчало озорно-смелую манеру говорить. Сейчас, во время беременности, обычно ровный загар сгустился на скулах Хильи красивым румянцем, окруженным равномерной бледностью щек.
Художник придержал весла, пытаясь как бы нечаянно немного притабанить, будто хотел остановить мгновение, продлить случившуюся тут, на воде, встречу. Странное, ребяческое чувство охватило одинокого мужчину, когда он смотрел вслед удаляющейся Хилье. С увеличением расстояния все менее четко различались черты ее лица, на котором вскоре появился отсвет страстного пурпура заката, точно такой же, как на стене сарая в Телиранте и на платье идущей среди нолей барышни. Гребущая женщина, ее лодка и движении весел были пластичны, казались легкими, почти скользящими по глади воды. Одинокий мужчина в своей лодке медлил, да, дела его таковы, что он действительно отдыхает, любуясь той скромной картиной.
Он плыл без цели, лишь бы плыть. Сразу после этой неожиданной встречи на воде в нем проснулась какая-то мелодия, которую он принялся напевать себе под нос: какая-то медленная мелодия народной песни в искусной обработке тихонько звучала за его сомкнутыми губами, легкий гребок отмечал каждый третий такт, и лодка все больше удалялась от места нечаянной встречи.
16
Нынче, воскресным вечером во дворе Телиранты опять, как и вчера, затеялись посиделки, но многое было иначе. Судя по всему, это было последнее настоящее летнее воскресенье — через неделю в воскресный вечер на тех полях, на которые сейчас тихо наплывает все еще светлая летняя ночь, появятся уже ряды вешал-шестов с сушащимся сеном и тени от них. Сейчас, по случаю праздничного дня, все были одеты немного необычно. И казался торжественным даже проход стада, пригнанного на вечернюю дойку. И те девушки, которые отправились на лодке доить стадо за озером, были в праздничной одежде, они так и лучились ожиданием вечерних радостей.
Бабуся — старая хозяйка — опять сидела на крыльце. И в связи с чем-то у нее появилась возможность сказать:
— Ну да, вы там, в зале шушукались до тех пор, что, кажется, уже и солнце взошло — до сна ли мне было. — Говоря это, она весьма по-матерински глядела на гостя, Арвида, о котором и знала-то всего лишь, что есть тут такой молодой человек.
На скотный двор пришли два сплавщика, в руках у них были бидоны. Хозяйке пришлось встать и пойти туда — присмотреть.
— Утреннее молоко хозяйка небось уже отправила по белу свету? — крикнул один из пришедших. Он был без шапки, и светлые волосы его были аккуратно причесаны, а голубые глаза все время как бы искали чего-то. Он не очень-то походил на сплавщика. Девушки-скотницы даже знали, что его зовут Юрьё Салонен.
Он был с тех плотов, которые стояли на якоре у склона, идущего от поля Хейккиля. Из-за встречного ветра плоты простояли там уже несколько дней, а теперь, когда ветер наконец стих, было воскресенье, и поэтому негоже пускаться в путь до вечера. Сплавщики ходили за молоком в ближайшие хозяйства; те, кто работал на этом плоту, — в Телиранту.
— А Юкка Меттяля уже вернулся из дома? — спросила одна из девушек-скотниц у сплавщиков.
— Нет, уж если этот голодранец добрался до своей бабы, он скоро не вернется, — ответил Юрьё Салонен.
Девушка задала вопрос, потому что Меттяля был женат на ее родственнице в третьей волости отсюда к северу.
— А он не больше голодранец, чем вы, — возразила девушка Салонену.
Получив молоко, сплавщики отправились восвояси, с озера опять доносилось ритмичное поскрипывание уключин их лодки. Пока сплавщики разговаривали с девушками, солнце зашло. И серп луны показался прежде, чем они успели добраться до плота.
17
Пока сплавщики ездили за молоком, успел вернуться Меттяля. Он был немного пьян, а в кармане у него была бутылка с «зельем», и он предлагал отправиться в деревню и немного поразвлечься. Особенно он допекал этим Салонена. Однако тот лишь отворачивался да посвистывал и не очень-то прислушивался к тому, что говорил Меттяля.
Меттяля выглядел совсем иначе, чем Салонен. Он был большим, груботесаным, немного примитивным и обычно любил бахвалиться. Ему принадлежала лошадь, стоявшая вот уже несколько дней без дела под навесом, но, вероятно, уже сегодня вечером ей опять достанется крутить ворот.
— Пойдем, пойдем, Нокиа, чего уж там, — продолжал уговаривать Меттяля. Салонена прозвали «Нокиа», потому что он однажды упомянул, что родился в заводском поселке с таким названием.
— Старик, не долдонь, сказал же, что не пойду! — вспылил Нокиа. Он вышел из себя, поскольку как раз в тот момент, высунув кончик языка из уголка рта, целился финкой и стену домика на плоту, держа ее за острый конец. Метать дорогую каухавасскую финку в стенку было его любимым занятием в свободное время, и он очень гордился, если та втыкалась и то место, в какое он, по его словам, и метил. Случалось, другие сплавщики наблюдали за его стараниями, и если они ему действительно удавались, он принимался рассказывать о феноменальном китайце, которого видел однажды в цирке. Там обыкновенная белая бабенка — хотя, наверное, зазноба того китайца — становилась спиной к дощатой стене, и китаец метал ножи, втыкавшиеся вокруг ее головы. И метал их именно так. Затем, когда женщина отходила от стенки, там оставался ее контур из ножей, словно нарисованный. Ножи втыкались точнехонько рядом. Каждый. Но ничего непредвиденного не случалось, а ведь любой нож вполне мог лишить эту зазнобу жизни, попади он в нее, ведь тот косоглазый метал их чертовски быстро и сильно. Бабенка потом с гордостью выдирала эти ножи из стенки, и ей приходилось дергать что есть силы.
* * *
— Ну, сказал же я, что не пойду, и не долдонь, Господи! — огрызнулся Салонен и опять нацелился финкой в стену домика. Затем он пошел в домик на нары и достал книгу, купленную в пристанционном поселке во время своего последнего похода туда. Книга называлась «Жертвы любви». Салонену не исполнилось еще и двадцати. До нынешнего года он был учеником продавца в городе, но, подгоняемый собственным беспокойным нравом, нанялся на лето в сплавщики. За ним, правда, числился один небольшой штраф, к которому его присудили, однако платить он не собирался, но и садиться в тюрьму из-за этого, по крайней мере нынешним летом, тоже не хотел. И он слыхал, что летний сплав — лучшее место, чтобы скрываться от властей.
Плоты были не особенно велики, да и контора сплавной компании находилась где-то поблизости, поэтому на плоту не было настоящего начальника, за него был старший из плотогонов. Однако ему не доверяли даже выплату жалованья, а платить каждую неделю приезжал на моторке некий господин, как, например, вчера, так что сплавщики не особенно и слушались этого своего старшого. К тому же он был однорукий и не мог показать своего превосходства в работе. Правда, он знал приемы, какие требовались в протоках с сильным течением, и командовал тогда таким тоном, словно был военачальник. Лучшим приятелем Салонена по прозвищу Нокиа был в бригаде сплавщиков Матти Пуоламяки, весьма примитивный мужик, искренне восхищавшийся гибкостью, молодостью и жизнерадостностью Салонена. Позже, когда Нокиа стоял перед судьями, обвиняемый в убийстве, рядом с ним стоял с кандалами на ногах и Матти Пуоламяки, которого обвиняли в подстрекательстве к убийству, поскольку сначала кто-то утверждал, будто слышал, как Матти кричал Нокии: «Бей, бей как следует, если уж бьешь!» Однако это осталось недоказанным, и по решению суда кандалы со щиколоток Матти сняли. Но он все равно стоял в суде рядом с красивым юношей в одинаковой с ним одежде. Среди судебных заседателей и адвокатов о Матти говорили в тот вечер больше, чем о настоящем главном действующем лице — Нокии. Согласно правилам, председательствующий судья спрашивал у каждого обвиняемого о его семейном положении.
— Женат или холост? — спросил он у Матти.
— Не женат я, но уже пять лет как помолвлен. И у нас уже трое детей.
— И почему же вы до сих пор не обвенчались? — допытывался судья.
Молчание, воцарившееся за этим вопросом, нарушил председатель муниципальной комиссии той же волости, откуда Матти был родом:
— Этот Матти забыл пройти конфирмационную школу, оттого его союз с этой Ийотой и остался нескрепленным, но все равно Матти хорошо заботится о семье, по правде говоря, лучше, чем этот убитый Меттяля, семье которого волость бывала иногда вынуждена помогать.
Председатель комиссии и прибыл в уездный суд именно для того, чтобы защищать права детей Меттяля. Матти и Меттяля были из одной волости.
Но сегодня вечером, ничего худого не подозревая, они все в полной мере вели ту жизнь, которая была им предназначена.
* * *
Этим вечером Салонен все же отправился в деревню. Сперва он читал, пока не дошел до места, где можно было прервать чтение, загнул уголок страницы и сунул книгу в карман висевшей на стене куртки, которую носил по будням. Матти сварил кофе — сегодня была его очередь. Меттяля настойчиво продолжал угощать всех из бутылки, он шатался по плоту и время от времени подходил к своей лошади. «Лошадь — вот кто ленивому деньги зарабатывает!» — говорил он и беспричинно тыкал кобылу под брюхо и в чувствительные места кулаком так сильно, что она противно ржала и немного подскакивала. Но тогда ему казалось, что надо еще сильнее ударить ее по крупу. Меттяля был в кураже. Вскоре он внезапно прыгнул в одну из лодок, так яростно оттолкнул ее при этом, что она успела почти достичь берега, прежде чем он взялся за весла. Затем видели, как он подымался, пошатываясь, по береговому откосу к домам. Совершенно глухой, известный своим усердием дед шел ему навстречу, собираясь проверять верши. Между ним и Меттяля завязался уморительный разговор, к которому мужчины на плоту прислушивались с удовольствием.
— Верзила чертов! — сказал Нокиа, и в этот миг глаза его странно блеснули. Затем и он отправился в деревню. Матти отвез его на другой лодке.
Луна взошла и некоторое время смотрела, как развиваются события этой воскресной ночи.
18
Меттяля просто несло неведомо куда, никакой ясной цели у него не было. Его тянуло за деревню, туда, на бедняцкий надел. Там жизнь такая же, какую вел он постоянно в отдаленном уголке своей родной волости. Во дворе были старик и старуха, оба в морщинах, и куча ребятишек разного возраста, которые, увидав незнакомого верзилу, уставились на него, разинув рот и ковыряя в носу указательным пальцем правой руки; большим пальцем левой ноги они ковыряли между пальцами правой. Там Меттяля и застрял, время от времени пытаясь с важным видом затянуть песню, которую смутно помнил еще с той поры, когда очень неуклюже женихался с Сантрой, своей нынешней женой… «Славный был у парня танец с чужою невестою — да-а». Хозяин избы вышел было во двор, и вид у него был суровый, но стоило ему заговорить с Меттяля и увидеть его бутылку, как все уладилось. Меттяля успел зайти в две или даже три избы, прежде чем водка у него кончилась, и тогда он устремился обратно «на побережье». Он использовал это слово, как и другие отдельные слова большого мира. Он утверждал, будто однажды побывал в Америке, и обещал всем, что поедет туда снова, поскольку Старый Свет, похоже, не может как следует прокормить своих жителей… И затем он немного погорланил песню.
Покинув двор, в который он заходил напоследок, Меттяля, растянувшись во всю длину, разлегся на зеленой травке. Лежа, он негромко хрипел что-то вроде песни. Со двора послали мальчишку взглянуть, не случилось ли чего. Мальчишка с опаской подкрадывался к лежащему мужчине. Меттяля слышал это, но не менял положения и не открывал глаза, однако заговорил с мальчишкой:
— Принеси-ка мне оттуда, из ключа, водички! Ты ведь получил только что от меня марку — вот и принеси!
— Да в чем я принесу-то?
— Твое дело, только давай быстрей, неси воду, ради бога!
Мальчишка испугался и побежал обратно во двор, откуда мать его уже сама шла навстречу сыну и, услыхав от него, о чем твердил пьяный, вернулась, взяла ковшик и затем безо всякого колебания зачерпнула воды из источника и отнесла лежащему, чтобы тот утолил жажду.
Странное беспокойство бродило в дурной крови Меттяля в эти выходные дни. Пока он лежал, ему снова вспомнилось, что он не сходил домой. Надо было бы, но… «Пойдем-ка еще куда-нибудь… туда, на побережье… Нет, это конечно не Култаранта[25], и не Пиппурираннико[26] и не Берег Слоновой Кости, но пойти туда все-таки придется… Славный был у парня танец с чужою невестою — да-да…»
19
Салонен тоже пошел прогуливаться по деревне; на молодом гладком лице — отсвет какого-то упоения. Он весьма льстиво, на городской манер заговаривал с встречавшимися ему девушками, не пытался сразу дать волю рукам, называл барышней, и когда кланялся, длинные пряди волос свисали вниз. Он откидывал их и приглаживал пятерней, встряхивая головой, чтобы волосы легли красиво, как прежде. Затем он уже шел дальше. И еще он заговорил очень дружелюбно со старой, некрасивой бабой. И когда старуха вроде бы намекнула, что она, мол, совсем бедная, парень дал ей пятерку. Старуха в первый момент немного опешила, но затем улыбнулась растроганно и пошла своей дорогой. Водка Меттяля немного кружила парню голову.
Затем Юрьё Салонен сел на ступеньки какого-то амбара, потому что там сидела девушка в праздничной одежде, и он подошел поболтать с нею. Болтали обо всякой всячине, девушка спросила совсем по-мужски, сколько плотов еще может быть на подходе в верхнем течении. Когда парень нагнулся к ее уху и шепотом о чем-то спросил, девушка ответила нарочито громко:
— Зависит от того, сумеешь ли попросить как следует!
Эта была не особенно красивая девушка с грубоватой кожей и плоским, широковатым лицом, и от нее несло парным молоком. Салонен крепко обнял ее за талию. И тут же из избы вышел какой-то мужчина.
— Уж не твоя ли она зазноба? — спросил Салонен.
— Ну хотя бы немного и была — там и на двоих хватит, — ответил мужчина и принялся всовывать папиросу в мундштук. Все же видно было, что он немного нервничает, а девушка, похоже, относится к нему с почтением. Мужчина задержал на девушке долгий взгляд, и она ушла, а он тогда заговорил по-другому, более свойски:
— Так оно и есть, тут ты почти угадал — а при деньгах ли ты, приятель?
Луна еще не начинала опускаться, пожалуй, она еще поднималась, когда на плотах стали собираться, чтобы пуститься в путь. Матти Пуоламяки тоже побывал на берегу, он с благоговейным выражением лица разглядывал ржаное поле у ближайшего берегового откоса, изучая, в каком состоянии созревающие на нем колосья. Он посеял дома немного ржи и всю весну тревожился по поводу ночных заморозков. До его дома отсюда было не так уж далеко, и можно было предположить, что и там погода такая же. Пуоламяки относился ко всему немного наивно. Ему по какой-то причине очень нравилось работать на сплаве, и он трудился тут как безумный, так что даже вартесманны были им довольны. Он еще от отца услышал это слово — «вартесманн» — и всегда им пользовался, хотя другие сплавщики говорили «начальник» и «десятник». А этого нынешнего «начальника» они называли просто «пяток», поскольку одной кисти у него не было по запястье.
20
Воскресным вечером на двор Телиранты прикатило еще одно авто. Оно не успело остановиться, как оттуда уже помахала тонкая мужская рука с часами на запястье. Арвид узнал руку своего знакомого. Это был Ханну.
— Я же обещал, я же обещал! А теперь мы отправимся в этот городок… как его?.. Там сегодня помолвка…
Ханну наконец выпрыгнул из своего лимузина и почтительно подошел к старой хозяйке, которая в этот момент случайно оказалась единственным находившимся во дворе представителем живущего тут семейства.
— Не увозите его сейчас ни на какие «кошачьи крестины», ему и здесь наверняка весело, — сказала старая хозяйка и попыталась подняться, чтобы стоя приветствовать нового гостя.
Уже появилась и Хелка. Она была знакома с Ханну — с того же самого бала, когда познакомилась с Арвидом, во время зимнего сезона в столице.
— О поездке куда-нибудь и речи быть не может, пока гость даже не присел в доме. А у тебя как раз ужин поспевает. И надо же было этой Мартте отправиться туда, в Сюрьямяки, корову лечить. — У старой хозяйки было свое направление мыслей. Ведь и тот, второй сплавщик был немного пьян… Впрочем, по той стороне они не шастали. Уж вы никуда сейчас-то не уезжайте, — добавила старая хозяйка.
— Поедем, если только и меня примете в вашу компанию, — сказала Хелка.
— Тогда и говорить не о чем, — ответил господин Ханну. — Загвоздка лишь в том, как разделить пополам барышню Хелку — машины-то две.
— Не беспокойтесь, я поеду с вами, в вашей машине. С Арвидом я ведь целый день провела. — Улыбающаяся Хелка выглядела очаровательно.
Шапку кину я на крючок — сула-вила-вэй — на крючок, а сапоги под кровать, да, сапоги — под кровать. Одну руку суну ей под бочок — сула-вила-вэй — под бочок, чтоб другой за шейку обнять, да, другой за шейку обнять… —это пел на берегу молодой сплавщик, возвращаясь к своим плотам. Он был в веселом настроении и пел хорошо. Стоявшие во дворе Телиранты слушали с удовольствием. Но они не долго следили за этим пением. Гость, лишь наскоро заехавший сюда, попросил передать привет незнакомой ему хозяйке и попрекнул бедняцкую корову, вздумавшую заболеть в столь нежелательный для него момент, помешав тем самым столь желанному для него знакомству.
Они газанули и уехали.
После их отъезда старая хозяйка поднялась и побрела потихоньку в свои комнаты, что слева от входа. Кровать Хелки была красиво застелена белоснежным бельем. Эта девушка ложилась в кровать, засыпала, спала и просыпалась, но все оставалось чистым. Было неловко так долго не менять ей постельное белье, но оно оставалось будто только что застеленным. — Ишь ты, луна какая-то особенная. И что же это Мартта все не возвращается?..
«Мартта… да-а… вот то-то и оно…» — странно подумала старая хозяйка о ней — своей невестке. Между ними были поначалу нелады, как обычно у свекрови с невесткой. Мартта никак не хотела признать, что старая хозяйка знает все в Телиранте лучше пришелицы. Но потом, когда Мартта по-настоящему научилась тут всему, они подружились.
И вот теперь Хелка. Старой женщине было приятно смотреть на отпрыска своего рода — Хелку, которая росла такой красивой. Что уж там о ее имуществе — она, как бы там ни было, достигла совершеннолетия, была здоровой, красивой и сильной. Раздеваясь, старая хозяйка не могла не вспомнить свою девичью пору, когда возникало много таких ситуаций, в которых она чувствовала себя беспомощной. Было очень приятно думать о Хелке. Да благословит ее путь Тот, кто вправе благословлять.
Старая хозяйка время от времени посматривала на озеро, давала взгляду побродить туда-сюда в поисках лодки Мартты. Она уже подумывала, не сходить ли к хозяину, сыну своему, и сказать, что надо бы послать кого-нибудь на другой лодке туда, в Сюрьямяки. Но… ведь он же все-таки муж Мартты, и идти, говорить ему такое было неловко. Да и найдешь ли кого из домашних тут в такой воскресный вечер? Хорошо еще, если сам-то хозяин дома. Старая хозяйка в конце концов улеглась в постель, но долго никак не могла уснуть.
21
Салонен все повторял и повторял песню, которая как бы сама собой возникла у него на губах: «Одну руку суну ей под бочок — сула-вила-вэй, под бочок…» Пуоламяки сел вместе с ним в лодку, и они только вознамерились было рвануть к плоту, как откуда ни возьмись появилась и туша Меттяля.
— Ты, парень, не пой, ты только читай! — прорычал Меттяля и тут же сам возопил, что должно было означать его пение. Лодка, в которой находились Матти и Салонен, была уже в сажени от берега.
— Заткни глотку! — крикнул из лодки Салонен.
— Не тебе мне приказывать, Нокиа, можешь запомнить это теперь навсегда и на веки вечные, аминь!
В этот момент Меттяля нащупал на земле шест от вешала и поднял его.
— Иди-ка сюда, если ты такой храбрый! — продолжал кричать Меттяля, замахиваясь здоровенной жердиной. До лодки ею он не достал бы, позже это было точно установлено судом.
Однако заносчивые слова и угрожающие жесты Меттяля привели Салонена-Нокиа в безумную ярость. Он и вообще-то терпеть не мог этого здоровенного, неотесанного мужлана, у которого подбородок вечно был в густой небритой щетине, не было подтяжек и штаны свисали. Уже давно они втайне злились один на другого. И хотя лошадь принадлежала Меттяля, но сплавщики работали с нею поочередно, и всегда, когда наступала очередь Нокии, он дергал поводья без нужды и очень грубо бранил животное. Правда, потом он, бывало, угощал лошадь кусочками сахара, но это раздражало Меттяля не меньше.
Салонен не заставил себя долго упрашивать, он выпрыгнул из лодки в воду, выбрался на берег и, не раздумывая, бросился прямо на грозившего шестом обидчика. Тот, будучи пьяным да и вообще неуклюжим, не успел пустить в дело свою жердину, прежде чем длинное лезвие каухавасской финки, множество раз втыкавшееся в стену домика, не вошло по рукоятку ему в грудь с левой стороны, перебив ребро и пронзив затем сердечную мышцу.
Именно в этот момент Пуоламяки вроде бы и крикнул Салонену: «Бей как следует, если уж бьешь!», из-за чего он потом и стоял арестованный рядом с Салоненом. Но никто из свидетелей не решился в суде поклясться, что все было именно так.
Меттяля, получивший удар финкой, устремился инстинктивно, в каком-то сумеречном состоянии в бегство вверх по береговому откосу… Он успел достичь как раз границы травы ржаного поля и завалился там безжизненно на бок, кровь хлестала из раны, глаза остекленели и, казалось, уставились на луну.
«Все-таки… все-таки… надо было бы пойти в эти выходные домой… сходить… в свою сауну… и рядом с Сантрой… отдохнуть… отдохнуть… как раньше…»
22
Хозяйке Телиранты пришлось остаться в Сюрьямяки. Состояние Хильи было критическим, и поблизости не нашлось никого, кто бы мог прийти на помощь. Оставить же ее на ночь глядя одну с малыми, неразумными детишками было невозможно. Хозяйка спросила, все ли у Хильи наготове, — все оказалось в порядке, как и следовало ожидать.
— Я-то уже вообразила было, что по естественной причине могу больше не беспокоиться на сей счет, — посетовала Хилья.
— Оно бы, пожалуй, и лучше было, вам и этих, что есть, достаточно.
— Если бы да кабы, что же поделаешь.
Мало-помалу учащались предродовые схватки, было ясно, что, может быть, не пройдет и часу, как наступят роды. От Ялмари же не было ни слуху ни духу.
— Не будем тревожиться, не будем тревожиться, — сказала хозяйка Телиранты. — Ведь у Хильи в этом вроде бы никогда никаких особых заминок не бывало. Ведь каждый раз все шло нормально?
— Бывало все-таки и непросто — теперь мне надо в постель — это сейчас начнется — ой, господи боже мой, что за жизнь такая!
— Ну, ну, не надо… И Ялмари скоро вернется.
— Да-а, а корова-то, бедняга, что с нею будет?
— Все будет хорошо, она уже жует жвачку.
23
Салонен ощутил правой рукой, как лезвие вошло в грудь Меттяля, он ощутил и сопротивление кости, когда финка перебила ребро. Странная, почти сладостная истома охватила Салонена. Он успел увидеть выражение безграничной беспомощности в слабеющем взгляде и приоткрытых губах на столь знакомом неприятном ему лице — и на какое-то мгновение испытал томительную жалость к своей жертве. Это ощущение было сильнее всего, когда он выдергивал финку из груди Меттяля. Затем, как бы очнувшись, он закричал, что нужен срочно врач, но старшой, спокойно присматривавшийся к Меттяля, сказал весомо, что на этом свете врач ему больше уже не потребуется. «Тут сейчас нужен совсем другой — представитель власти», — добавил он и хмуро посмотрел на Салонена.
— Похоже, заработал ты себе казенные харчи. Причем надолго, Нокиа-парниша.
Видно было, что Салонен и сам ошеломлен. Он сперва закричал что-то вроде того, что Меттяля, мол, сам виноват, чего он начал задираться, однако, услыхав сказанное десятником, парень и впрямь как бы очнулся и снова принялся хлопотать насчет врача.
— Туда, в деревню бы только, и оттуда лошадь… Я сам могу сходить!
— А как же, конечно, теперь сам пойдешь с удовольствием!
Салонен, однако, уже двинулся было в сторону деревни.
— Ты, Пуоламяки, и ты, Хейнонен, идите с ним, убийцу так отпускать нельзя.
Молодой человек опять вскипел. Он заговорил торопливо, запальчиво, суетясь, сунув руки в карманы. Хотя голова его не была покрыта, его светлые волосы оставались по-прежнему аккуратно причесанными, но все же он, нервничая, проводил по ним пятерней и затем привычно встряхивал головой, чтобы волосы легли ровно.
— Я никакой не убийца, черт возьми! Кто такое скажет, могу и ему с обиды сделать также!.. А этот… он же меня никогда даже настоящим именем не назвал, все только «Нокиа», как и вы все!
Парень скрипел зубами, и, похоже было, к горлу его подступал плач.
— И я сказал его жене или кто она там была — ой, ты, Юкка, зачем же ты так и себя, и меня… Но сейчас врача нужно сюда привезти, у меня должно быть право привезти врача… Пойдемте со мной, Пуоламяки и Хейнонен, я не удеру, уж у Кортсаани получим лошадь, он справедливый хозяин… Поухаживайте за этим несчастным пока, как сумеете… Ой, черт побери, что же за жизнь такая!
Парень таки не сказал, какая это жизнь. Он сразу ушел с сопровождающими, шел и продолжал говорить и нервничать. Подсознательно он словно бы хотел не видеть этого непоправимого факта, хотя вполне понимал, что это реальность. «Скорее в Кортсаани — просить лошадь и привезти лекаря».
По совету старшого плотогоны оставили труп Меттяля в том положении, как он упал там, на границе травы и ржи.
— Это может быть важно для полицейского расследования, — сказал старшой. — И вспомните, мужики, как все произошло, там этот Меттяля стоял сперва… — С серьезно-хмурым видом старшой и остальные стали вспоминать в деталях, как все случилось.
А среди отцветших купырей и как раз расцветающей таволги, упав головой в рожь, лежал Меттяля в серой саржевой одежде, в заплатанных плотовщицких пьексах с высокими голенищами. Он лежал, и его открытые глаза, казалось, уставились, не мигая, на луну, которая уже начала спускаться. В эту пору полная луна не задерживается долго на самом верху неба. В сплавном сарае спала лошадь Меттяля, и тут же рядом стояла его повозка — неважнецкие обе.
24
После того как Эмми — служанка Оллилы — помогла наконец поймать норовистую кобылу, оставалось лишь запрячь ее, но поскольку в Оллиле ни одного из тамошних мужчин все еще не было, Ялмари — человеку немного медлительному, пришлось еще натерпеться, покуда в конце концов он смог пуститься в путь. Однако злоключения его на этом не кончились.
Всю дорогу он пребывал в том ребяческом настроении. В его взволнованности было что-то крайне беспомощное. Где-то в глубине сознания он как бы испытывал в определенном смысле счастье, но лишь до тех пор, пока ехал один в повозке по лесной дороге летней ночью. И ведь он, как мог, старался, что было сил стегая лошадь. Если же где-то и происходили какие-то беды, то он в этом не виноват — ему не обязательно видеть все несчастья. Уже въехав в деревню, где находилась приходская церковь и воскресным этим вечером еще попадались кое-где на окраине отдельные парочки, он все еще продолжал погонять лошадь и кто угодно мог видеть его старания.
Но тут, в селе, акушерки дома не оказалось: незадолго до прибытия Ялмари ее увезли в другой конец волости. Кобыла Оллилы была вся в мыле, но он должен постараться выполнить начатое, пока есть хоть какая-то надежда. Давай помчимся туда! Небось дома-то уже произошло все, что должно было произойти, а он все еще не нашел эту акушерку, за которой послан, и придется искать — ничего не поделаешь… Вон там кто-то уже скосил сено. Вешала прочно, уверенно стояли в летней ночи. И они как-то по-своему словно бы добавляли Ялмари озабоченности, словно бы напоминая ему, что и он — крепкий и усердный земледелец — должен среди огорчительной спешки умудриться определить свое отношение к этим увиденным им первыми за нынешнее лето вешалам с сушащимся сеном. Живущих в этой стороне он толком и не знал.
Наконец он добрался до того хутора, куда увезли акушерку, добрался словно бы только для того, чтобы услыхать, что и тут дело было в той же стадии, как, вероятно, и у Хильи. «Нет, еще нет, но в любой момент может начаться, так что уехать барышне никак нельзя. А если у вас там какие-то серьезные трудности, то лучше бы попросить приехать доктора».
— Трудности и там, и тут, наверное, одинаковые, так что и у нас нужна такая же помощь. Уж это всегда… когда нет человеку помощи… в этом обществе, — почему-то добавил Ялмари и тут же немного сконфузился, что проявил несдержанность.
— Та-ак… — только и произнесла барышня-акушерка — с головы до ног во всем чистом — и устремилась в глубь дома, откуда слышались приводящие мужчину в ужас крики незнакомой ему женщины, корчащейся в родовых схватках.
А что же теперь делать ему? Не ехать же искать акушерку в другую волость. Да и лошадь начала уже уставать…
25
В машине Ханну Хелка сидела рядом с ним. Сельма и Арвид ехали следом. Телиранта осталась позади, и это было прелестно. Имело свою привлекательность оставить вот так, ненадолго усадьбу, где летнее воскресенье было столь спокойно-счастливым и совершенным. И весьма мило со стороны Арвида было согласиться, чтобы сейчас Хелка сидела в машине Ханну. Возвращаться будут Хелка и Арвид вдвоем, Ханну поедет из города по своим делам, а Сельма останется в городе. Так договорились перед выездом из Телиранты.
Торжественная красота ночи как бы сопровождала путешественников. Она сопровождала их из ландшафта в ландшафт, мелькала сменяющимися видами — то раскинувшимся сбоку от дороги селением — волостным центром, то лишь видениями, прячущимися за поворотами дороги, то привольно и спокойно витала над каким-нибудь озером, за которым возвышалась дремлющая темная гряда гор. За годы, прожитые каждым из наших путников, они имели возможность познакомиться со всем этим, и не в новинку была им дорогая сердцу финская летняя ночь, поэтому они не останавливались, чтобы повосхищаться ею. Они жили в ней, взгляд и сияние их глаз непроизвольно были настроены на одну и ту же волну с ночью. Они переживали эту ночь — как переживали неоднократно январскую лунную, морозную ночь.
— Южнее, должно быть, уже совсем темно в полночь, — сказала Хелка, глядя на мягкий красивый профиль спутника.
— Конечно, особенно дальше, на островах, — ответил Ханну, чуть прищурившись: на дороге, вблизи какого-то двора остались дроги с решетками, на каких возят сено. — В городах на побережье Балтийского моря уже зажигают все уличные фонари. И это великолепно, когда ночь наполнена роскошно цветущими каштанами, освещаемыми электричеством. Но время цветения каштанов там уже прошло.
* * *
Сельма не была знакома с Ханну прежде, она спросила о нем у Арвида как бы небрежно, чтобы скрыть стеснение.
— Будьте осторожны, барышня, такой ночью в его обществе. Он ступает по сердцам, как по цветам лесных полян.
— Вам самому в пору быть осторожнее, — сказала на это Сельма, и водителю рядом с нею пришлось глянуть в ее сторону. Он увидел ее профиль, Сельма следила за едущей впереди машиной, не отрывая взгляда. Арвид видел ее голову с крупными чертами лица и ровной грубоватой кожей, которая больше подходила бы созревающему юноше. Но горячая рыжина прядей, вьющихся от природы возле розового ушка, свидетельствовала о другом. Казалось, что это с трудом пробившиеся наружу язычки пламени, горящего где-то глубоко. Барышня Сельма была по натуре замкнутой: если кто-то пытался с нею сблизиться, будь то ее сверстница или какой-нибудь мужчина, она вежливо немела, и тогда язычки пламени у нее на висках как бы гасли. Она почему-то была убеждена, что у нее неудачная внешность. Если кто-то из обслуживающего сословия — портниха, банщица — говорил с искренностью в голосе: «До чего же у барышни роскошная фигура!» — ей казалось, что они говорят так лишь потому, что некрасиво ее лицо.
Но и сейчас, нынешним поздним воскресным вечером, случайно попавшаяся им на деревенской дороге компания парней смотрела на нее, сидящую на переднем сиденье, с искренним восхищением. Она умела удивительно хорошо подбирать фасон и цвет одежды, хотя никто толком не знал, когда и где она ею обзаводилась. И все, что происходило вокруг нее, Сельма видела и понимала. И рыжеватые локоны, пылающие на висках, были как бы знаками глубоко затаенной, могучей женственности.
После замечания, брошенного этой уравновешенной барышней, Арвид не мог удержаться, чтобы не взглянуть на нее. Она, конечно же, заметила это, но продолжала упорно смотреть лишь прямо перед собой, словно только ее взгляд мог удержать машину в верном направлении.
Но тут пришлось переезжать железнодорожные пути и при этом обоим смотреть в разные стороны. Затем впереди, на полого поднимавшемся холме стал виден пригород. Множество закоулков и сотни построек предместья сливались светлой ночью в одно целое, плавно соединяясь с раскинувшимися по обоим сторонам холма водоемами и возвышавшимися позади него, а местами немного сбоку, заводскими трубами. Где-то там, за ровным, густым сосновым лесом и находилось то место, куда они ехали. «В словах Ханну о помолвке может быть и доля правды, он иногда и сам устраивает такие помолвки для развлечения. Может, ему просто хотелось свозить нас сюда, чтобы развлечь», — так говорил Арвид, тоже глядя теперь только прямо вперед. Тут в пригороде его шикарная машина привлекла внимание. Двое водителей-профессионалов, стоя в небрежных позах, смотрели на проезжающих мимо. «Не худо бы и мне заиметь такую таратайку». — «И что бы ты, думаешь, стал с нею делать, она ведь жрет горючего больше, чем ты в состоянии заработать».
Вышло так, как и предполагал Арвид. «Это где-то здесь, на склоне гряды, я непременно найду», — говорил Ханну. Теперь он ехал лишь чуть впереди, и было видно, как он, улыбаясь, временами поглядывал на спутницу, беседа между ними была явно оживленной, но машину он вел, похоже, весьма целенаправленно. С ходу выехали на булыжную мостовую и тряслись по ней, пока в определенном месте Ханну не свернул без колебаний направо, после чего обе машины вскоре оказались на замечательной дороге, шедшей по гребню холмистой гряды. Оттуда виднелась, мелькая по обе стороны, то там, то сям между сосен ночная синь водной глади. В машине, ехавшей следом за машиной Ханну, тогда уже прекрасно догадались, где была «помолвка» этого господина.
Миновав чьи-то ухоженные сады, где выращивались на продажу фрукты, выехали на обычное шоссе и катили по нему, пока оно не расширилось до большой лужайки, остающейся в тени, вероятно, даже и днем. В одном углу лужайки выстроились в ряд несколько автомобилей. Вблизи от них старые и осевшие каменные ступени вели на расположенную выше площадку, а оттуда деревянные ступени — еще выше. И повсюду, почти до самой двери росла бузина, пышная крапива, конский щавель и вообще все, что приспособилось к грубой почве. Но наверху, в дверях виден был швейцар с золотыми галунами.
«Прицеп» — как потом всю ночь Ханну называл «Паккард» Арвида — тоже въехал на эту лужайку. Прибывшие ранее уже встречали его.
— Здесь эта помолвка, Арвид! — крикнул Ханну. — Посмотрим только чья!
Подав машину назад, Арвид поставил ее аккуратно в ряд с остальными. Из здания слышалась музыка, а откуда-то сбоку от входа — весьма деловая речь, а точнее, почти перебранка — персонал ресторана выяснял между собой отношения. Но дальше, в глубине помещения оркестр играл танцевальную музыку.
Прибывшие были приняты в высшей степени любезно. Сам хозяин встретил и повел их и, покорнейше шепча, упомянул, что как раз освободился стеклянный эркер на веранде. Подойдет? Морщины на лбу и жирная складка на загривке придавали хозяину одновременно услужливый и солидный вид. Согласны — куда угодно! И в мгновение с круглого стола исчезли остатки чьей-то трапезы и было накрыто заново.
За окнами, снизу, из глубины по склонам густо поднимались сосны, почти достигая кронами уровня веранды. И поверх крон видна была и отсюда та самая матовая гладь озера, которую они, подъезжая, видели еще с гряды холмов из-за мелькающих стволов сосен. Там, на озере, какие-то люди плыли на гребной лодке, и, обгоняя их, мчалась моторка — стук ее мотора не долетал сюда, но и немая картина была достаточно эмоциональным зрелищем для глядевших отсюда, сверху. Еще дальше виднелись другие весельные и моторные лодки с горожанами, возвращавшимися из воскресных поездок к по-летнему тихим местам своего жительства. Наверняка у них свои переживания, еще не кончившиеся для многих даже с наступлением этой ночи. Через несколько коротких часов начнут работать станки на заводах, откроются магазины, лавки, конторы. Но сейчас люди еще смотрят из своих лодок на знакомые берега, фантазируя, — где и как было бы жить в воображаемой обстановке. И с высоты берегового ресторана сейчас кто-то тоже глядел на озеро, отключившись от общего веселья, и переживая то же настроение, которое, казалось, царит в той лодке. В ней были только молодые люди, показывавшие всем видом своим, что интенсивно живут этой ночью и еще свободны от напряжения грядущего дня.
26
Художник греб до тех пор, пока его лицо и руки не ощутили дыхания начавшейся ночи. Тогда он перестал напевать себе под нос и задумался о возвращении домой.
С наступлением ночи мужчина приближается к дому, где его жена и детишки уже спят; он делает это с обычнейшим ребяческим удовольствием, если не заряжен — наоборот — яростью. Когда день сменяется вечером, стихает и борьба, которую вызывает день, воцаряется ночной покой, исконный и как слово, и как понятие. Нужда и различнейшие заботы и муки могут подвергнуть дом — семью — испытаниям, и, возможно, подгоняемый ими, задержался допоздна в пути мужчина. Но затем, приближаясь к дому, он знает, что лишь у него есть право вот так, среди ночи войти в это жилище, успевшее уже за время их жизни здесь приобрести знакомую атмосферу. Ночной покой свят; вокруг спящего человека образуется некая охраняющая его сфера. Там, за его лбом, находится мозг, и в нем во время сна схватываются всевозможные добрые и злые духи, безобразные и прекрасные видения, вынужденно загнанные глубоко в подсознание на время той борьбы, что ведет человек днем. Счастлив мужчина, если приходит ночью в свой теплый дом, в гнездо, где его супруга и его дети. Самка и детеныши, они здесь…
Художник пришел к себе на двор, к своему дому. Глядя на это маленькое строение, он вспомнил, вследствие какого неприятного обстоятельства сделалось возможным, что они поселились здесь: старик, многими ненавидимый, и его старуха были тайно убиты в этом самом жилище. Окна-двери дома все еще как будто дают понять, что они-то знают, но нельзя говорить об этом, значит нельзя… Ведь тут теперь твое семейство…
Дверь оказалась запертой, пришлось стучать. Терпение… еще немного терпения… наконец дверь отворили, и в тот же миг он увидел спину женщины в ночной рубашке. Это была госпожа художница, жена его, и пока она удалялась, художник, входя, успел отметить ее походку, безусловно такую же, как всегда, — мужу было предельно знакомо это равномерное шарканье ночных туфель супруги. Она вернулась к постели, легла и лежала неподвижно, очевидно, в той же самой позе, в какой и была, когда услыхала стук в дверь. Сонное дыхание детей доносилось из общей кровати.
Художнику еще и теперь не хотелось спать, он ничуть не спешил в постель. Подойдя к окну, он усердно высматривал, на что следовало бы обратить внимание, кроме как на саму светлую ночь. Маленькая белая бабочка порхала над дорожкой — уж не он ли вспугнул ее, идя домой. Это порхание почему-то навело его на серьезную мысль о тщетности кое-каких занятий, о чем сам не догадываешься… Он увидел и еще одно насекомое: в оконном квадрате, снаружи, застыл неподвижно, будто сто лет назад окаменевший там символ ночи, странный комар-долгоножка. Бесконечно длинные ноги, резко переломленные в одном из суставов, хоботок — продолжение тонкого тельца — и крылышки, неподвижные, раскинутые даже в покое. На просвет можно было видеть прожилки в крылышках. Можно было также очень спокойно рассматривать находящиеся позади крыльев странные отростки и обдумывать чудо: почему вторая пара крыльев превратилась в такое и для чего оно комару… Казалось, значение этого нелепого комара лишь в том, что, находясь в данный момент неподвижно в оконном квадрате, он каким-то странным образом подчеркивает дух летней ночи, который и без него ощущается совсем близко и одновременно очень далеко, в непредсказуемой небесной дали. Так же, как снежная баба среди зимних сугробов подчеркивает и проявляет дух лунной морозной ночи.
— Конечно, сейчас писал груди Хильи Сюрьямяки? — послышалось с кровати.
Художник вроде бы все еще рассматривал долгоножку на фоне светлого ночного неба, но… он больше не видел ее. Он просто так задержался у окна. А потом спокойно повернулся и оглядел комнату. На стульях и на полу валялась детская одежда; некоторые вещи рваные, некоторые запачканы смолой. Из-за духоты в комнате спящие дети скинули с себя одеяла, и простыня под ними была скомкана. И видимо, их кусали комары: у одного ляжка расчесана до крови. Оставаясь удивительно спокойным, неподвижным, отец рассматривал все это. Брошенное только что женой замечание как бы тоже полетело на один из стульев и повисло на нем, подобно детской одежде. Мужчина пошел в другую комнату и открыл там окно. Было далеко за полночь, минуло безумно много времени с тех пор, как он двигался там, в ночи. Какая-то совершенно новая атмосфера, казалось, заманивает его обратно в ночь.
Тихо, по-воровски, он и устремился туда, шмыгнув за угол, будто боялся, что кто-то пустится за ним следом; он вышел на ведущую в гору тропинку и зашагал по ней куда-то прочь, а на лице его было выражение как бы экзальтированного страдания.
27
Ночь проходила, и хозяин Телиранты ждал домой хозяйку, жену свою. Он ничуть не сердился, но не мог и уснуть, даже и не ложился. Он был уверен, что сего женой ничего особенного случиться не могло, задержало ее, вероятно, что-то от нее не зависящее. Но для того, чтобы помочь корове, так много времени потребоваться не могло. Хозяин расхаживал в ожидании. Разочек он даже подумал, что такое ожидание имеет свою привлекательность, если оно случается столь редко; ведь обычно ждать не требуется, разве что только когда уже лежишь сам в постели, — скоро ли жена закончит вечерние дела по хозяйству, прежде чем приблизится к их общей кровати, но и тогда она сперва подходит к окну и, чуть раздвинув занавески, проверяет, что делается во дворе и на той части дороги, которая видна из дома. Уверенное ощущение счастья охватило хозяина Телиранты. Сам он был здоровым, сильным мужчиной, не знавшим в жизни серьезных унижений. Такой же была и его жена — цветущая физически, по натуре уравновешенная, с открытым характером и светлой душой; в глазах мужа она и нынче оставалась все такой же, как двадцать лет назад.
Хозяин ждал, луна стала спускаться.
Телефон зазвонил внезапно. Что это? Небось шалят те, отправившиеся в город.
Но оказалось иное. Из села звонила служанка общинного врача. Она говорила подробно и бестолково, но хозяин Телиранта, и не задавая вопросов, понял, что врач уехал осматривать какого-то мужика, раненного финкой, а может, уже и умершего, там была драка между сплавщиками…
— Ну и что?
— А то, что он нужен еще где-то за озером, в Сюрь… Сюрьямяки… поскольку тамошний хозяин не достал акушерку…
— Я понял. Задержу доктора здесь и доставлю его через озеро в Сюрьямяки.
Хозяин Телиранта приободрился, будто ему предстояло отправиться в путь по какому-то приятному делу. Когда мать, старая хозяйка, появилась на крыльце своей половины и выказала все усиливающуюся озабоченность, сын сказал ей лишь:
— Можете спать спокойно, утром все узнаете.
28
Ялмари Сюрьямяки, погоняя уставшую лошадь, как мог, добрался наконец до дома врача. Он не воспользовался звонком на притолоке двери в приемную, а по обычаю, унаследованному от предков, нашел дверь кухни и принялся колотить в нее. Ночь была тихой, поэтому он расслышал какое-то шушуканье в доме, но никакого движения за дверью в ответ на его стук не последовало. Ялмари догадался, в чем дело, — служанка была не одна. Он снова принялся колотить в дверь и добился-таки, что находящиеся внутри перестали шушукаться и наконец шевельнулась занавеска на окне. И сразу же затем в приоткрывшейся двери появилась женщина.
— Доктора нет, он в Маханале, перевязывает раненого ножом. Тот небось уже и мертвый, но он все-таки поехал, раз за ним прислали…
Ялмари становилось все яснее, что усилия его оказываются тщетными, а мучения продолжаются и усиливаются. Он постарался насколько можно лучше объяснить этой служанке, в чем дело и как он сегодня наездился. Голос его почти дрожал — и лошадь, стоявшая тут же, беспокойно всхрапывала.
Но не зря девушка-служанка была родом из этого села, и не зря она уже два года находилась тут в услужении у доктора. Решение ее было ясным и простым.
— Ведь к вам туда надо добираться на лодке от Телиранты?
— Верно, оттуда и нынче, сегодня именно перевозили…
— Я позвоню в Телиранту и попрошу, чтобы там задержали доктора, когда он будет возвращаться, и направили его через озеро к вам… Да-а, так-то оно так, но если ему понадобятся щипцы, так у него их нет с собой… Я могу дать их вам… Только тогда уж вам обязательно надо ехать так, чтобы встретить доктора в любом случае, если он поедет не через Телиранту, чтобы щипцы не остались у вас. Погодите-ка, я сперва позвоню и потом положу щипцы и усыпляющее в саквояж.
Это дело разгорячило служанку, и она заговорила о таких неведомых Ялмари вещах, которые лишь усилили его страх, что с Хильей может случиться что-то ужасное. Ялмари даже стало казаться, будто, стоя здесь и разговаривая с этой женщиной, он тем самым как бы истязает горемычную Хилью — отсюда, на далеком от дома расстоянии.
Служанка скрылась в глубине докторского жилья, и тут же из двери кухни вышли два местных парня невзрачного вида. Они-то и шушукались только что там с этой девушкой, но теперь, услыхав все, о чем тут говорилось, сочли свое положение неловким и ушли. Возможно, отправились проситься в какую-нибудь еще кухню деревни, если им не показалось, что хватит заниматься такими делами. Расстроенный деревенский мужик вызвал у них взрыв смеха, хотя причину его растроенности они знали.
Служанка отсутствовала, по мнению Ялмари, целую вечность, но наконец вернулась, неся небольшой саквояж. Повторяя предостережения, она вручила саквояж удрученному мужчине.
— Хозяин Телиранта обещал перехватить доктора, когда он поедет там мимо. Теперь вам обязательно надо ехать в Телиранту…
И вот уже Ялмари Сюрьямяки опять в дороге — теперь с таинственным саквояжем, который казался ему сгорбившимся на дне повозки привидением. Ялмари казалось, будто ему самому досталось везти и доставить домой судьбу Хильи, его несчастной Хильи. Его угнетало, что какие-то силы гоняют его сегодня всю ночь туда-сюда, а от него ничего не зависит. Еще ловя эту лошадь, он уже предчувствовал что-то подобное — и затем действовал, действовал, только действовал, хотя и знал, что все тщетно. Шла уже вторая половина ночи.
29
Салонен и Пуоламяки, сопровождаемые Хейноненом, пошли к Кортсаани звонить лекарю. Кортсаани — пожилые и серьезные по характеру люди — лишились из-за этого сна, столь необходимого им, чтобы набраться сил к начинающемуся с утра сенокосу.
Нокиа все еще оставался в том, похожем на экстаз, состоянии, в которое он впал, поняв, что совершил убийство. Примитивный Пуоламяки, вышагивая рядом с ним, время от времени поглядывал на него, но уже не с восхищением, а как-то иначе… В этом юном товарище по работе на сплаве было теперь и для него, лучшего друга, что-то пугающее. Глаза Нокии сверкали как-то по-особенному, и говорил он дергаясь, а иногда принимался тихо, себе под нос, напевать, но и в этом тихом пении звучали угроза и умысел.
— Если я убил мужика, такая, значит, жестокая моя судьба. Была ли благословенна Богом та вода струй Нокии, которой мать моя однажды омыла этого бесшабашного сына своего… Но ты, Матти, и сам видел, что сначала он ко мне задирался, так что и виноват в этом он, а не я… И не допер старшой, черт его побери, сразу отправить за доктором… Словно он что-то из себя представляет, ублюдок однорукий… Лекарь должен приехать, уж этот парень его привезет… Ох, мамочка-золотко, сын твой, тобой рожденный…
И завершало все это усердное бормотание: «Рабом этого мира, терпеть нужду. В определенных местах он визгливо подвывал.
— Видал ли ты, Матти, когда-нибудь, чтобы мужик так упал от удара финкой?
— Нет, чтобы так чисто упал, я-то не видывал, но однажды я видел, как хозяин из Ваттинена ударил вот сюда, в левое предплечье, какого-то незваного гостя, и у того была лишь длинная царапина, а крови натекло, словно бычку горло перерезали, незваный гость стал мертвецки бледным, а лекарь сказал, что если бы кровь текла еще минут десять, то его помощь больше не потребовалась бы. Бешеный был мужик этот Ваттинен — однажды еще…
— Плевать мне на твоего Ваттинена и его дела… Теперь пойдем будить Кортсаани. Эй, хозяин, есть ли кто дома? Человекоубийца пришел! (Эти слова потом приводились в суде, и ленсман сильно нажимал на них.)
У хозяина Кортсаани — низенького и сухощавого — нос был с горбинкой, а волосы всегда старательно расчесаны на пробор. Человек он был старомодный и, несмотря на дальнюю дорогу, чуть ли не каждое воскресенье ездил в церковь. Такой же была и жена его. В их доме и днем-то покой нарушался редко. Из одного времени года в другое, из года в год они могли спокойно поддерживать связь с землей и небом и со всем, связанным с ними, с тем, в чем, по их понятиям, были перемешаны справедливым образом суровость и душевная теплота грубость и нежность, — все то, что составляло для них знакомое еще с туманных детских лет понятие — Бог, хотя сами они об этом так никогда не рассуждали.
— Убийце сюда хода нет, — сказал хозяин пытавшимся войти мужчинам. Он умел настоять на своем, хотя и был старым и сухощавым. Сам он никогда не обивал ничьих порогов.
— Но мы-то, хозяин, войдем, дело уж точно подлежит волостным властям. Перво-наперво нам нужен телефон, затем лошадь, чтобы лекаря привезти, — говоря это, Нокиа пытался пройти в дом мимо хозяина, но тот, не раздумывая, схватил парня за грудки и, тяжело дыша от натуги, сказал немного визгливым, старческим голосом:
— Ну… нет… не войдешь… коль я сказал. Тут можешь говорить.
Как ни странно, старику удалось сдержать разгон Салонена. Остальные стояли рядом, но не вмешивались.
— Неужто хозяин не понимает, там человек, которому лекарь требуется — он малость задирался ко мне, ну я и ткнул его ножом — но лекаря я ему привезу, хотя бы из Кивеннапы, черт побери!»
— Не выражайтесь, тут спит пожилая женщина!
— Простите, пожалуйста! («Странный человек этот Нокиа, — подумал Пуоламяки, — и делается все страннее: с поклоном, не дурачась просит прощения!») Женщине всегда покой и уважение. Я про нее не вспомнил, но теперь-то небось хозяин понял, что дело срочное. Дайте нам лошадь, могу и я наперед заплатить, господи… — И он полез в карман за бумажником. — Только прежде нужно позвонить, дома ли тот господин. И скажите ему: заплатят что положено.
— Ну, стойте тут, и чтоб без глупостей, я пойду звонить.
30
Хилья Сюрьямяки — Ялмарина Хилья, как ее еще называли (а мужа ее называли Хильин Ялмари), была и «на старости лет» здорова телом и бодра духом. Хозяйка Телиранта уже давно поняла, что ребенок может появиться на свет гораздо раньше, чем Ялмари — этот недотепа — успеет привезти сюда какую-нибудь подмогу. Когда схватки у Хильи участились, хозяйка послала ее старшую девочку за этой Альвийной, чтобы хоть кто-то был в помощь. Но и сама она не собиралась уходить до тех пор, пока положение не прояснится.
Когда же Хилья, ничего больше не объясняя, легла на кровать и там при полых схватках так вцепилась в изголовье, что, казалось, ногти впились в дерево, хозяйка Телиранта засучила рукава и, больше ни о чем не спрашивая, пошла в кухню проверить, есть ли вода, подходящий таз и все такое, что, как она знала, могло понадобиться. Схватки же опять внезапно утихли, и сама Хилья была такой, словно ничего особенного не происходило. Она больше ни о чем не сокрушалась, а только объясняла хозяйке Телиранты, где что находится.
— Где подходящая нитка?
— Домашняя пряжа — в берестяном коробе, там, на верхней полке в кухонном чулане.
— А ножницы?
— Там, там… — Хилья лишь махнула рукой в сторону окна, где грубые, сработанные деревенским кузнецом ножницы висели на гвозде, на своем постоянном месте. Их выковал отец Хильи, что делало их в глазах дочери как бы волшебными, поэтому в таких случаях всегда пользовались ими, а не заводскими, купленными позже. Хозяйка Телиранта подготовила все, она нашла где-то даже бутылку с жидкостью, которой можно было продезинфицировать руки, и, сделав это, оставила рукава завернутыми и сказала:
— Раздевайся, хуже, чем суждено, не будет.
Незаметно для себя она обращалась к Хилье теперь на «ты», словно к сестре. У обеих этих женщин и в душе, и в мыслях в тот миг не возникало ничего такого, чего каждая из них не понимала бы.
Раздеваясь, Хилья сказала:
— И куда этот Ялмари подевался? Насовсем пропал, что ли?
В этот же миг в избу вбежала девочка, посланная узнать насчет Альвийны. Выражение лица девочки было страдальческим, этот ребенок уже понимал в чем дело.
— Альвийна в селе, в церкви, на евангелическом празднике и останется там ночевать, вернется не раньше, чем завтра… — Девочка чуть не плакала.
— Ой, ой, а как же там корова? — опять заойкала Хилья, деревенская женщина.
— Ну теперь не до коровы, о человеке позаботиться надо… Ничего, скоро все будет хорошо… А ты теперь сходи, посмотри, как там корова, — обратилась без паузы хозяйка Телиранты уже к девочке, чтобы отослать ее из дома, — момент родов совсем приблизился.
31
В ресторане счастливые молодые люди вскоре разделились на пары, и сложилось так, что Хелка большую часть времени проводила с Арвидом, а Сельма — с Ханну. С едой было покончено, бокалы на белой скатерти выглядели рубиновыми, торчащими прямо вверх цветками, поднятыми на стол этой слегка стемневшей ночью. И они уже успели потанцевать. Все, кто желал выйти на танцевальный паркет, должны были непременно проследовать по притемненному проходу, в конце которого находилась касса. Возвращавшиеся после танца видны были издалека, и пара, остававшаяся сидеть за столом, могла закончить разговор, если не хотела участия в нем других.
На всей длинной веранде столы уже постепенно опустели, но в дальнем конце два пожилых господина, задержавшихся за столом, вели долгую, нескончаемую беседу. Когда же один из них поднялся и пошел медленно и неуклюже, другой крикнул вслед ему:
— Nej, vänta nu![27]
Хелке казалось, будто она только здесь, сейчас встретилась с Арвидом, словно это снова тот вечер в столице, давно, в начале минувшей весны. Произошедшее прошлой ночью в зале Телиранты — далеко отсюда, там, на краю погружавшегося в сумерки двора — о чем бабушка потом сказала, мол, шушукались там так долго — и затем опять эти сегодняшние события… Было странно, что лишь здесь, в сгустившейся ночи, когда Сельма с Ханну ушли танцевать, а они вдвоем с Арвидом остались за столом, эти, казавшиеся тогда столь естественными, события стали снова вызывать у Хелки как бы смущение. Арвид ничего не говорил, лишь пригубил бокал и тихо поставил его на стол. Хелка смотрела вниз, на озеро, вглядываясь в задержавшиеся там последние лодки, но взгляд ее не был спокойным и умиротворенным, она сказала что-то тоном напускного равнодушия, хотя это незначительное замечание не могло скрыть ее радостного возбуждения.
— Пойдем и мы танцевать, — сказала она чуть погодя и, взяв под руку партнера, пока шли к паркету, уже старалась попасть всем телом в ритм музыки и мурлыкала мелодию себе под нос. Теперь Хелка производила впечатление немыслимо юной и немного не от мира сего.
Ханну и Сельма танцевали, очень довольные друг другом. У Ханну на голове красовалась яркая бумажная шапка, и такие же были еще у нескольких танцующих, электролампы были затянуты цветной бумагой, а саксофонист время от времени кидал на танцующих серпантин. Снаружи, на ветках деревьев, кое-где висели бумажные фонарики. Неужели и впрямь уже настолько сумеречно? Но нет, настоящих сумерек еще не было, просто хозяин хотел порадовать посетителей.
Когда музыка смолкла, а аплодисменты стали требовать ее продолжения, Ханну и Сельма остановились неподалеку от выхода. Аплодируя, Ханну вскоре заговорил с каким-то господином, который также, похоже, был в обществе женщины. В ответ на требовательные аплодисменты музыка заиграла вновь, но мелодия сменилась. Пары танцевали — каждая свое. При этом Ханну пытался мимоходом подать своему приятелю Арвиду знаки, чтобы тот подождал его, когда музыка умолкнет. Однако же Арвид и Хелка, оказавшись возле двери, ушли еще до того, как музыка кончилась, ушли обратно на веранду, туда, в самый дальний стеклянный эркер. Как и тогда, идя танцевать, так и теперь, возвращаясь к столу, Хелка мурлыкала что-то себе под нос. Теперь она напевала мелодию последнего танца и в такт мелодии легонько толкала локтем своего партнера.
На веранде уже никого не оставалось, кроме них самих. Правильно оценив ситуацию, хозяин не поставил туда никакого освещения, там и без того света хватало, да и за столами ведь никого уже не было.
Ханну явился в радостном упоении. Он пришел вроде бы лишь по делу.
— Послушайте, влюбленные, там, в большом зале — мои лучшие знакомые, у них стол и за ним есть свободные места — барышня Сельма уже осталась там. И вы тоже кончайте тут мечтать, это же не какая-нибудь деревенская усадьба, а ресторан, да к тому же — один из лучших в летней Финляндии. Пойдем! — Ханну предложил свою согнутую в локте руку Хелке, она же в свою очередь подцепила Арвида под ручку. Хелку явно разогрела та капелька вина, которую она выпила. Хелка вела себя как совсем молоденькая девчонка.
Луна уже давно спускалась к горизонту.
32
Уж если хозяин Кортсаани принимался за какое-нибудь дело, он достойно доводил его до конца. Получив от доктора согласие приехать, он не доверил лошадь в руки таких людей; а позвал своего возчика. Кроме того, он известил по телефону ленсмана. Ленсман пообещал прислать полицейского на мотоцикле, чтобы разобраться.
Салонен и его сопровождающие покидали двор одновременно с повозкой, отправлявшейся за доктором. Нокиа, ловко повернувшись, вскочил на двуколку и сел рядом с возчиком, своих спутников он уговаривал сесть ему на колени, будто ехали на ярмарку. Но тут старик-хозяин — низенький, костлявый и горбоносый — опять сердито прикрикнул таким же голосом, как давеча в дверях:
— Прочь оттуда, или никуда не поедет! В моем дворе такие выходки не проходят!
За спиной хозяина показалась полуодетая и слегка пошатывающаяся спросонок хозяйка. Лицо у нее было дряблое и старое, и на нем отражались огорчения и злость.
— Что плохого мы вам сделали, чего вы так пристаете к нам, старым людям?
Тогда Салонен соскочил на землю и, с искренней вежливостью поклонившись, сказал:
— Простите великодушно, госпожа, мы бы хотели только доехать туда, по дороге, но хозяин ваш мелочится. Хозяин, во сколько обойдется нам доехать? Думаю, в моем отрепье столько-то, чтобы заплатить, еще найдется. — И он широким жестом стал доставать бумажник.
— Это обойдется вам в то, что сейчас, и именно немедленно, вы уберетесь отсюда. Проваливайте! — И хозяин Кортсаани захлопнул дверь сеней с такой силой, что сам тут же пожалел об этом, поскольку перепугал стуком старуху хозяйку, уже глядевшую в окно, как мужчины шли к дороге. Они действительно уходили, шли и говорили о чем-то между собой, похоже позабыв об этом доме. Самый молодой достал из заднего кармана брюк что-то, очевидно, бутылку. Старик Кортсаани испытывал к ним такое отвращение, что в эту ночь не смог больше уснуть. Утренняя бодрость уже захватила мысли старого хуторянина. Его утешало, что предстоящий день, несомненно, будет теплым и сухим. Старые глаза уже уловили признаки утра: одна из коров встала на ноги, теленок бойко зашевелил ушами. И паутина была уже ясно видна: в ее сети нежно задержалась утренняя роса. Хозяин все-таки вышел прогуляться, однако сна он так больше и не нагулял.
Утренняя роса была и впрямь очень обильной, старик почувствовал это, разгуливая в одних подштанниках. Голоса, звуки и тишина были надежными, знакомыми. Еще долетал шумок разговора уходящих мужчин, но откуда-то издалека уже послышалось яростное тарахтение полицейского мотоцикла. «Из каких бы мест мог быть этот парень? Такой молодой еще», — так раздумывал старик хозяин, и его глаз привычно различил крючки и колышки на стене конюшни. Он различал также яблони «трекол», и цветы возле угла избы, и все в усадьбе, остававшейся в надежном покое, который эти кратковременные возмутители спокойствия не смогли серьезно нарушить. На сенокос он выйдет, знакомые поденщики приглашены.
Салонен даже и не помнил о той водке, которой он обзавелся там, раньше, во время вечерней прогулки, — как непостижимо давно уже была эта прогулка! Вся история с Меттяля произошла уже позже… Теперь он достал эту бутылку, в которой еще кое-что оставалось, и угостил Матти.
— Пей, парень, скоро конец нашим гулянкам!
— Нипочем они меня посадить не смогут, — сказал Матти — немного встревоженно.
— Посадят они и тебя, раз видели тебя со мной, — объяснял Нокиа. — И ведь кричал ты мне, когда я выпрыгнул из лодки, что, мол, уж если бьешь, то бей так, чтобы наверняка.
— Разве ж я такое кричал? — Все это начало ужасать Матти. Правда, такое утверждение в устах Нокии вроде бы звучало для него почетным, но инстинкт подсказывал, что от этого могут быть неприятности. Разные там полицейские и ленсманы — враги рабочего человека, — им подобного выкрика небось и не понять, ведь если Пуоламяки и крикнул такое, то лишь от возбуждения, потому что Нокиа столь плавен в движениях, что поневоле засмотришься. Однако же сам Матти Пуоламяки никак не мог вспомнить, чтобы кричал нечто подобное. И он весьма твердо сказал об этом товарищу.
— Кричал ты, парень, так… и не пытайся… — сказал Салонен, глядя прямо перед собой.
Это казалось Матти предательством истинного товарищества. Водка, которой он хлебнул, сделала его немного сентиментальным, он чуть не плакал. Ведь если и его посадят, что будет с Ийтой, Тойво, Лайлой и Тауно? И раз они с Ийтой даже не венчаны, то ничто не помешает ей выйти в это время за кого угодно.
— Дай-ка еще этой твоей водки!
Салонен дал было, но тут же стал отбирать у Матти бутылку обратно, поскольку увидел, что навстречу им едет на мотоцикле констебль. И Салонен понимал, что если полицейский заметил, как Матти пил из горла, то допить им уже не удастся. Потому что, подъехав, он сразу отберет бутылку.
Так потом оно и вышло: полицейский почти вырвал бутылку изо рта Нокии. Констебль, правда, не знал, что это за мужчины, но ведь они явно шли из Кортсаани, а хозяин Кортсаани сообщил о случившемся, так что тут и нечего было много раздумывать.
— Стало быть, так, парни, и где же труп?
— Это еще и не обязательно труп… Какой черт такое сказал, если там еще и врача не было. И лекарь приедет, уж одному-то раненому я всегда смогу оплатить лекаря. Не даст ли констебль нам еще по глотку из этой бутылки? Да и сам бы хлебнул.
Констебль не счел нужным ничего ответить на это, зато принялся для начала спрашивать о том о сем.
— Была ли между вами и этим убитым какая-нибудь застарелая вражда, какая-нибудь давняя история из-за водки или карт? — При этом констебль изучающе поглядывал на Матти. Матти и поспешил ответить:
— Вроде бы у них после одной давней игры в карты осталось что-то такое… и он был таким вредным… скандалист этот Юкка. Однажды ют…
— Ну боже ж мой, каким же надо быть мужиком, чтобы рассказывать все полиции! — запричитал Нокиа как бы про себя. — Да ты же сам крикнул мне, что, мол, бей по-настоящему, коль уж бьешь. Ох, господи, это ж надо…
— Ничего такого я не кричал, — утверждал Пуоламяки, взволнованно шагая рядом.
— Ну, это мы еще услышим, — сказал полицейский. Он внимательно присматривался к мужчинам, будто хотел запомнить их рост, лица и одежду во всех деталях. Полицейский был смуглый и с закрученными вверх кончиками усов. Он еще не мог никого арестовать, поскольку не видел трупа; по правде говоря, ему о трупе ничего и не сообщили, только о поножовщине.
Пуоламяки взялся за руль мотоцикла с другой стороны. Констебль не возражал. Теперь они толкали мотоцикл вперед вдвоем.
До места происшествия было около трех километров, но дорога к концу пути оказалась сильно изрезана колесами телег, и тогда констебль решил оставить мотоцикл в придорожных кустах. Уже виднелось то хозяйство, на задах которого, у края поля… Стали видны старшой и еще двое из плотогонной команды, они все, похоже, глядели в одно место, куда-то прямо перед собой, но, вероятно, заметили и возвращавшихся из Кортсаани.
Лишь теперь, приближаясь к тому месту, Салонен как-то оцепенел и стал замедлять шаги, констебль же, заметив это, уставился на него. Он, похоже, решил не спускать с Салонена глаз. Они подходили все ближе и ближе… Уже виден был на земле знакомый мужчина, лежащий кверху задницей. Таким и Салонен и Пуоламяки помнили этого мужика — спящим, храпящим на нарах в домике на плоту. Они подходили все ближе, ближе… Нокиа молчал, Матти и Хейнонен тоже не решались произнести ни слова.
О лекаре Салонен больше не упоминал, он был бледен и выглядел уставшим, его страшно мучила жажда. И не было ничего, кроме воды в озере, но когда он, чтобы напиться, направился было к берегу, полицейский вцепился в его руку и совсем иным голосом, чем по дороге сюда, закричал:
— Но, но — ни с места! Разве не этот пырнул ножом?
— Этот, конечно, — подтвердили остальные. Не могли же они отрицать очевидное, как бы ни хотелось им остаться в стороне.
— Господи, ведь могу же я пойти попить воды, меня жажда донимает, — сказал Салонен. И его голос тоже был иным, словно в нем теперь звучали тоска и досада.
— Ну, воды-то ты еще вволю напьешься, — ответил констебль, и не успел Нокиа что-либо сообразил., как наручники защелкнулись у него на запястьях.
Затем, больше и не глядя на Нокию, констебль строго продолжал:
— А этот? Он что, кричал тому, другому, подстрекал его?
— Ничего я не кричал, Юрьё ошибается. — Матти непроизвольно назвал Салонена по имени, о чем в обычной обстановке и речи быть не могло.
— Тут стоял такой ор, что я точно сказать не могу, даже если бы он и кричал — может, и не кричал.
— Пожалуй, тогда мы поступим так, — сказал полицейский, освободил левую руку Салонена от наручника и защелкнул его на левой руке Матти. — Вроде бы вы хорошие приятели, так и побудьте немного в паре.
А на траве лежал все это время неподвижно, там же, где свалился, тот ширококостный и с грубыми чертами лица торпарь. И как бы долго и пристально на него ни глядели, он лежал не шевелясь. На нем были заплатанные промокшие пьексы и саржевая одежда со слежавшимися в определенных местах складками. На плоту осталась его лошадь, а за три волости отсюда — дом, земельный участочек, жена и сколько-то детишек.
33
Да, там они и были: хуторок, жена и детишки — и жизнь их в этот момент была обычной, да не совсем.
Небольшие отклонения от обычной жизни в Меттяля начались в субботу вечером.
К тому времени Сантра уже целую неделю готовила сахт — брагу из продуктов, тайком принесенных ее бывшим хозяином. Напиток перебродил, набрал крепость и был действительно великолепным теперь, в субботний вечер, когда хозяин с двумя приятелями явились отведать его. Один из этих гостей был Сантре совсем незнаком, а про другого она знала, что он из села, где находится приходская церковь, и корчит из себя господина.
Сначала они сидели на открытой веранде и любовались красивым вечером. Там они завели было и разговор насчет того, чтобы всем пойти в сауну, но Сантра на это заворчала недовольно, приведя, впрочем, и серьезные доводы:
— Нет уж, там и воды не натаскано, и ничего не запасено, так что сейчас туда и идти нечего, мойтесь уж лучше изнутри.
А оттуда, из сауны, уже возвращались дети: прижав рубашки, они бежали во все лопатки в дом, прямо в постель. Сантра еще поглядывала временами в сторону дороги. У нее шевелилась какая-то необычная мысль, и это поглядывание ее, изображавшее ожидание, было как бы немного насмешливым.
— Сегодня он уж больше не явится, — сказал хозяин.
— Кто его знает, может и заявиться, — ответила Сантра, продолжая многозначительно смотреть в сторону дороги. Кто хотел видеть, тот видел — не только взгляд Сантры, но и все ее поведение свидетельствовало о том, что никого она оттуда, с дороги, и не ждала. Подбиваемая мужчинами, она тоже отведала браги.
Затем вечер продвинулся на несколько градусов ближе к ночи, к неудовольствию разговорчивой компании. Разговаривать пришлось бы тихим голосом, а то и помалкивать, если оставаться на веранде и вообще на воздухе. Это подсказывал гостям врожденный инстинкт, хотя брага в какой-то мере и разгорячила их. Тогда они переместились в ту вечно полутемную каморку за прихожей, окошко которой изнутри закрывала драная кружевная занавеска. Сантра успела немного навести там порядок. Там можно было сидеть на кровати, и еще там был какой-то сундук и пара стульев. С перемещением гостей в дом вечер тоже перешел в новую фазу — в ночь с субботы на воскресенье. В каморке сильно запахло крайне редкостным для нее запахом табака. И говорили там о таких вещах, о которых во всяком случае эти подгнившие стены никогда и не слыхивали. Сантра принесла мужчинам ведро браги, чтобы самой незаметно, пока они будут пить, успеть сходить в сауну.
Странным и особенным был для Сантры этот вечер — уже хотя бы тем, что она была в баньке одна. Она даже не смогла вспомнить, случалось ли такое вообще когда-нибудь. Было почти жутковато оказаться в столь непривычной ситуации, как бы вдвоем с самой собой. Компанию ей составляли лишь темный дальний угол полка да шипение пара на каменке, они делались ей почти что родными и — что действовало на нее сильнее всего, — казалось, видят человека насквозь, состояние его мыслей и настроение в данный момент. Более того, они, казалось, объясняют и разоблачают человеку его самого. Когда шипение пара на каменке прекратилось, не оставалось ничего другого, как начать хлестаться веником. Это опять-таки было пробуждением в действительность… Стало быть, Юкки, хлещущегося веником, сегодня, в субботний вечер, здесь нет… Нет так нет, и… ну да… но что плохого в том, что… те ведь пьют свою брагу.
Сантра остывала после парилки на крылечке сауны и не могла не вглядываться в ночь, как и подобает столь поздно вышедшему из сауны человеку. То же странное напряжение ощущала она и здесь, хотя вокруг было почти светло и она знала, что ей нечего бояться. Ее ведь ни в чем нельзя упрекнуть. Разве что кто-нибудь из живущих поблизости может ей позавидовать. Так, да, — пусть Юкки и нет дома, — но никто из них ничего такого себе не позволял. Сантру немного позабавила эта мысль… Там, в каморке, сидят гости, пьют брагу и ведут нескончаемые разговоры. Самое худшее, что могло случиться, — про эти дела могла прослышать жена бывшего хозяина: Сантра в мыслях да и в разговоре по-прежнему называла владельцев усадьбы, которой раньше принадлежал этот надел, хозяином и хозяйкой. Прослышит? Ну и пусть! Сантра почувствовала, что уже готова каким-то образом к вражде с хозяйкой. Почему бы хозяину и не приходить сюда! И Сантра принялась натягивать на себя сорочку.
Она сунула руки в рукава, потом голову в стан сорочки, затем вытянула руки прямо вверх, чтобы наделись рукава. Хозяину, вышедшему именно в тот момент из двери дома, неожиданно представилась возможность увидеть крепкого сложения фигуру Сантры Меттяля, все ее округлости, грудь и подмышки, словно какую-то могучую скульптуру. Он смотрел, пока Сантра продевала себя в сорочку. Затем он проворно повернулся и пошел за угол избы, будто даже и не заметил вышедшую из сауны.
Ночь достигла того священнейшего и благоговейнейшего момента, когда все звуки стихают: даже та воображаемая музыка, то пианиссимо переходит в небытие, в паузу, наполненную богатым содержанием. Разменявший уже пятый десяток хозяин заметил впервые за долгое-долгое время, какой иддиллической могла быть летняя ночь здесь, в лесной глуши.
Двое других гостей были непривычны к такой браге, вскоре они стали слабеть и норовили разлечься на кровати. Заметив это, Сантра, одетая после бани немного полегче и хлопотавшая возле гостей, сказала хозяину, что надо убрать их отсюда, нельзя им тут ночевать. Сказала она это хозяину не в каморке, а на веранде, и смотрела при этом вдаль, в сторону дороги. Хозяин глянул на ее пунцовые после бани щеки, сжал за левое плечо и, кивнув, пошел в каморку. Сантра вернулась в избу и легла в кровать рядом с младшеньким. Из каморки слышался неразборчивый шум — трое мужчин говорили одновременно. Еще через несколько мгновений все вышли из каморки, и было слышно, как они шагали через двор.
Голоса уже стихли, но Сантра все еще напрягала слух и вскоре услышала какой-то стук на крыльце, а потом в сенях. В проеме двери возник и остановился силуэт хозяина, похоже было, он искал что-то взглядом и наконец нашел — неуклюже крадучись, на цыпочках он приблизился к кровати и сел на край.
— Чуть было не забыл расплатиться за приготовление сахта.
Нащупав правую руку Сантры, он сунул в немного вялую ладонь две купюры, Сантра знала какие, и задержал ее руку в своей.
— Небось этого кваску еще не осталось? — Хозяин сжал руку Сантры, будто руке-то и задавался вопрос. Но рука не ответила.
— Ну, Сантра, не сердись. Я в другой раз, как приду, скощу часть долга за эту торпу.
— Может и так, но что скажет хозяйка?
— Нет, но кваску-то не осталось? — Хозяин нагнулся к уху Сантры так близко, что уловил исходящий от ее волос запах сауны.
— Тогда и посмотрим, — сказала Сантра и оттолкнула хозяина от себя, и тут же послышался приближающийся говор двух других подвыпивших приятелей. Они возвращались взглянуть, не забыли ли здесь третьего.
Тогда Сантра еще сильнее оттолкнула хозяина, и он не сопротивлялся, лишь еще раз сжал на прощание ту руку Сантры, в которой были деньги, и затем выскользнул во двор. Приятели не заметили и не сообразили, что он вышел из избы.
После того, как разговор мужчин, опять удалившись, стих и какое-то время ничего не было слышно, пропел петух. Мгновение спустя пробили часы на стене избы. Сантра бодрствовала, все еще сжимая в руке полученные купюры. Уж теперь-то Юкка наверняка не придет; где же это он может околачиваться нынешней ночью.
Сантра явственно чувствовала, что нынешней ночью муж ее не спит на своем месте в домике на плоту.
Но потом Сантра вспомнила про оставшийся еще в погребе маленький бочонок, в который она собрала лучшую, отстоявшую часть браги, вспомнила и разговор с хозяином перед его уходом — все это было необычным, немного пугающим, но одновременно и влекуще-таинственным. Вновь прокукарекал петух.
34
Сковав наручниками Салонена с Пуоламяки, полицейский оставил их, мол, пусть двигаются в паре где и как хотят; при этом он немного напоминал кошку, оставившую задушенную мышь на потом. А те оба хотели пить и пошли на берег озера и хлебали там из горсти — один из левой, другой из правой — тепловатую озерную воду. Констебля они больше не интересовали, он осматривал труп; не колеблясь, он повернул его, и стали видны оставшиеся открытыми остекленевшие глаза. Одежда на левой стороне была черной от запекшейся крови, и к ней прилипли листочки купыря и зонтики цветов. Невозможно было сказать, в каком месте под пиджаком находится рана.
— Этот, кажется, и впрямь вызвал сюда лекаря, — сказал однорукий старшой, сохранявший все тот же глуповато-строгий вид.
— Да-а, но, пожалуй, мы и сами тут за лекарей сойдем. Теперь только бы достать лошадь, чтобы можно было отвезти этого в морг. А за теми работничками приедут Салонен и Пуоламяки уже поднимались по береговому откосу «закованные в кандалы», как ворчал Нокиа. Он недавно видел спектакль, в котором пели такую песню.
— Тут ничего другого и не остается, как обратно в Кортсаани и звонить в арестантскую, ближе-то телефона нет. А лошадь везти труп, может, найдется вон на том хуторе.
— Там-то наверняка найдется, Микко дома, я видел, как он в окно подглядывал, когда мы мимо проходили, — сказал Матти Пуоламяки, усердно жестикулируя правой рукой.
Один из сплавщиков получил задание сходить на хутор и сказать, что констеблю нужна лошадь, чтобы доставить труп в волостной центр. Сам констебль продолжал осматривать лежащего на земле покойника. В его действиях все больше проявлялся профессионал. Это был не первый мужской труп, представший его взгляду. Однажды ему даже довелось вытащить трупик новорожденного младенца из навозной кучи у хлева.
— Да уж, ударил точно, переделывать не потребовалось, — сказал констебль и, усмехаясь, взглянул на Салонена. При этом он пытался мизинцем определить место раны. — Совет Матти ты исполнил в точности.
— Никакого совета я Нокии не давал, — крикнул на это Пуоламяки, ему опять вспомнились Ийта, и Тойво, и Лайла, и Тауно.
— Может, и не в Нокии, здесь-то как раз другой уезд, — сказал констебль.
Уставшие и потрясенные мужчины заметили, что наступило утро. На плоту ржала лошадь Меттяля.
35
Ряд машин перед красивым летним рестораном постепенно редел. Здесь, как и во многих дворах, свет и тени лежали совершенно иначе, чем несколько часов назад, когда компания из Телиранты прибыла сюда. Теперь взгляд с удивлением останавливался на таких деталях, которых вечером приехавшие не заметили. Двор-площадка оставался в тени, как долина в ущелье, куда не попадает свет солнца, хотя оно уже, наверное, сияет за грядой гор и широким простором озера. Но утоптанная песчаная дорожка странно белела, бледная, словно символ ночного бдения. Цыплята проснулись в клетках под кустами бузины. Ворота открыты, и от них дорога ведет в город. Кто-то срывает цветок и вставляет его в петлицу. Гул разговоров, негромких и медленных.
— Пожалуй, будет лучше, если теперь поведу я, — говорит Сельма Ханну и двум его знакомым.
— А как же водительские права?
Сельма открывает сумочку.
— Идите все на заднее сиденье, и все.
— Нет уж, разве я не могу быть за штурмана? «О донна Клара, я видел ночью тебя…» Ну, так отдать концы! Ой нет, не попрощались с теми.
Тем помахали руками, когда машины уже тронулись.
— А не поехать ли нам всем в Телиранту — пить утренний кофе? — предложила барышня Сельма, когда приблизились к известному повороту дороги.
— Неплохо бы: а то там, в гостинице, все равно ничего, кроме воды из-под крана, не получишь.
Следовавшие сзади Хелка и Арвид заметили, что передняя машина не свернула туда, куда вроде бы должна была. Ее пассажиры подавали руками и глазами какие-то знаки. Стрелки часов приближались к двойке. До Телиранты отсюда оставалось три четверти пути.
— А не сильно ли мы нарушим своим прибытием предутренний покой в доме?
— Ничего не случится, нам же шуметь не обязательно.
Сельма вела на хорошей скорости. Арвид был осторожнее.
— Пусть они себе едут, мы тоже успеем.
Путь лежал на северо-запад. С правой стороны дороги вся огромность неба предвещала спокойное, погожее утро. Когда миновали последний, напоминающий о городе поселок, потянулась каменистая, сухая, поросшая лесом и вереском местность, однообразие которой однажды нарушила тихая деревня с церковью и с аллеями, в конце которых были группы старых, почтенных построек. Дворы и загоны для скота спали в утренней свежести, и было как бы неприлично разглядывать их спящими.
Затем опять пошли песчаные, заросшие вереском пустоши, тянувшиеся версты по две, иногда на границе губернии или волости виднелось несколько приземистых человеческих жилищ. На песчаных откосах у корней сосен росли фиолетовые цветки, одинокая глухарка тяжело взлетела перед приближающейся машиной. Ехавшие впереди уже исчезли из вида. Когда Хелка легонько прислонилась головой к плечу сидящего рядом друга, тот сбавил скорость и хотел было совсем остановиться.
— Нет, нет, поезжай, — воскликнула она нежно и сонно и, свернувшись клубком, прижалась к нему поплотнее.
36
Лицо Ялмари Сюрьямяки выглядело безжизненным и окаменевшим, и он вперялся взглядом то в круп кобылы, то в докторский саквояж, лежащий у его ног. Ялмари проездил более половины ночи, и теперь у него не было даже охоты сильно погонять лошадь, его понукания сделались более добродушными, примерно так понукает свою лошадь справедливый пахарь. И в придачу ко всему получилось, что из-за этого таинственного саквояжа он вынужден теперь тащиться в Телиранту, вместо того чтобы, переехав мост, заскочить домой, — чего очень хотелось ему самому, да и кобыле пришлось бы по нраву. Теперь же он лишь смотрел на ее вспотевшие бока, как смотрит мужик на чужую лошадь, которую он может гонять без присмотра хозяина. Да уж, небось Оллила-старик рот разинет, когда увидит, но ведь и езда на сей раз была весьма необычной.
37
Доктор успел на место убийства как раз тогда, когда труп уже переносили на длинную телегу-сноповозку. Как обстоит дело, доктор увидел уже издали. Пока он брел по росистой траве, туфли его промокли и брючины сделались влажными. Когда он подошел, все умолкли. Лишь на лице констебля мелькнула тень самодовольной усмешки.
— И зачем было вызывать сюда врача, тут только и нужны, что полиция да могильщик.
У доктора уголки губ были опущены, и он поднимал ноги повыше, выискивая места, где высокая прибрежная трава был а посуше.
— Это виновный считал, что было бы надежнее…
— Ну, везти именно меня осматривать покойника как раз и не стоило, — сказал доктор и, слабо улыбаясь, поглядел на остальных мужчин, которые сразу выразили ему свое понимание такими же взглядами.
— Матти, у тебя правая рука свободна, достань-ка у меня из левого нагрудного кармана бумажник, там есть еще сто марок.
— Оставьте марки в покое, они еще понадобятся вам, — сказал доктор и повернулся к констеблю, говоря ему о чем-то по службе, что тот весьма хорошо знал и сам. — Время жаркое, надо бы постираться сделать вскрытие во вторник. Мне ведь не удалось уговорить здешних мужиков соорудить хотя бы приличный погреб. Успеем, мол, выполнить губернаторское распоряжение и потом, после… Вскрытие-то делать придется мне, ведь окружной врач в отпуске.
К их разговору прислушались все вокруг, кроме Нокии, которого раздражало, что находящиеся здесь если и обращают на него внимание, то в последнюю очередь.
Врач, полицейский, Меттяля на сноповозке — они были теперь важнее.
— Уж грудь-то финкой любой молокосос проткнет, но этот парень такой, что и голову отпилит, и кишки наружу выпустит, — говорили между собой мужчины, когда врач, окончательно отказавшись от денег, побрел с измученным видом к дороге, все еще стараясь уберечься от росы в высокой траве.
— Вообще-то уже несколько дней у меня работы почти не было, так что поездка даже внесла приятное разнообразие, вот если бы только не эта проклятая трава — ноги промочил. А надеть охотничьи сапоги мне и в голову не пришло, ведь лето в разгаре, — говорил врач своему вознице и еще раз спросил, откуда тот, — не запомнил толком. И мужик ответил откуда. «Это ведь наша баба ездила к доктору, когда у нее опухоль вздулась…» — Да, да, Эуфросюне Лехтимяки, теперь и я вспомнил. Но чего это хозяин Телиранта в такую рань уже на ногах?
Возница тоже посмотрел, но не успел составить ответа к тому моменту, когда подъехали уже ко двору и хозяин Телиранта вышел на середину дороги, показав тем, что у него дело к доктору.
— Доброе утро, доброе утро!
Хозяин Телиранта объяснил все про Сюрьямяки.
— Муж-то ее, вероятно, вот-вот будет здесь, но мы можем и без него ехать, я вас отвезу на моторной лодке. Только скажу тому мужику…
— Ну, коль уж я к покойнику съездил, то стоит в такое прекрасное утро и на роды съездить, — бодро говорил врач. — Как же мы теперь поступим? Вы, Лехтимяки, подождите тут этого мужа, и когда он приедет, велите гнать побыстрее домой и привезти мой саквояж… Вашему человеку, хозяин, сторожить ни к чему, этот Лехтимяки сам подождет и скажет Сюрьямяки… Тут этих «мяки» — куда не повернись… да… о чем я? Ага! Когда этот муж сюда подъедет, Лехтимяки быстренько отправит его домой, а то вдруг там случились осложнения — иначе чего хозяйка Телиранта там так задержалась…
В то время, когда доктор говорил все это, к ним подкатил автомобиль и остановился. Хозяин увидел за рулем Сельму и узнал сидящего рядом с ней Ханну.
— Отец, мы приехали пить утренний кофе!
— Тогда сварите его себе сами. Мне нужно отвезти туда доктора.
— В Сюрьямяки? Неужто там дело так плохо? — Сельма была неестественно бойкой.
— Туда, туда, — а вы действительно сварите пока кофе, мы тоже с удовольствием выпьем, когда вернемся.
Успела подкатить и вторая машина с Хелкой и Арвидом. Услыхав, в чем дело, они попросили, чтобы и их взяли туда. Обещали, что за это удовольствие доставят потом доктора домой быстрее, чем тот рысак.
— Ну, в таком случае рысаку можно отправляться восвояси. Нет, стоп, черт возьми, а как же мои инструменты?.. Придется все-таки попросить этого косаря задержаться… Прямо-таки настоящее осложнение.
Все устроилось. Экипаж первой машины пошел в дом, а второй — на берег и сел там вместе с другими в моторку, которая сразу же погнала в обе стороны от своего носа равномерные волны по спокойной утренней глади озера. Сидящие в лодке хотя и видели отдельных ранних косарей, но тарахтения косилок услышать не могли.
Когда половина водного пути была преодолена, кто-то заметил, что у ворот Телиранты остановилась лошадь с повозкой, а в ней мужчина. Из лодки стали махать руками и даже кричать. Было видно, как телирантский батрак остановил свою пароконную косилку, спустился с дороги и подошел на какой-то миг к только что прибывшему, после чего тот развернул повозку и, стараясь заставить свою клячу бежать, дергал вожжи и шлепал ими ее по спине.
— Думаю, мужик теперь зря торопится, поскольку это началось уже, видимо, давно, и жена его прежде всегда прекрасно с этим справлялась, — сказал доктор.
38
— И сколько же раз уже доводилось посещать Турку[28] за казенный счет — вот как теперь? — спросил констебль насмешливо.
— Приходилось самому бывать там по пустякам, но теперь-то уж точно, съездим за убийство, — ответил Салонен, пытаясь бодриться. — Хотя я в этом и не виноват. Он раздразнил меня.
— Так оно всегда и получается в этом мире, что и невинный туда попадает, и виноватый, — так вот и этот, судя по твоим словам, выходит, попал туда, на телегу могильщика. Я за свою жизнь многим мужикам заковал ноги в кандалы, и большинство было «невинными». Хе-хе.
Констебль бывал в наилучшем расположении духа, когда вот так, завершив дело, он беседовал с арестованным в умеренно назидательной манере. Мужчины брели по следу прошедшего до них тут по росной траве врача, но их походка могла быть какая угодно, ибо на всех была обувь с высокими голенищами и они могли не опасаться, что промочат ноги, в этом у них было преимущество перед доктором. И они без зазрения совести топтали сочную траву, принадлежащую хозяйству.
Выйдя на дорогу, группа разделилась.
— А ленсман сказал, куда мне этих-то везти? Станет он их допрашивать нынче же ночью, или мне везти их к нам, в арестантскую?
— Да уж ленсман для начала всегда допрашивает сразу, в любое время.
— Ну, тогда повезу их туда, — покорно сказал возчик и голосом подал знак лошади. И здесь опять возникла такая же ситуация, как только что перед тем на поле: ничего не значили ни Салонен, чувствовавший себя главным в этих событиях, ведь он заставил поездить даже господ, ни тем более Матти, этот смешной взрослый мужик, хотя речь-то шла о них. Запой песню — и то не поможет, не стоит и стараться.
Не стоило больше стараться и в пути, ибо земля и небо были уже в ином настрое, им даже самая красивая песня не подошла бы. Уже явно чувствовалось влияние восходящего солнца: страстно заливались пичуги, и большая стая ворон, встревоженно взлетевших впереди с ворот спящей избы, резко закаркала. Когда же выехали на такое место, откуда было далеко видно в разные стороны, там и сям уже тарахтели косилки. В напряженных движениях лошадей, в голосах мужчин и в том, как они правили вожжами, — во всем этом было рвение раннеутреннего труда. Одна из самых горячих трудовых недель года в хозяйствах началась. В течение этой недели ни у кого не будет охоты до ночных похождений; съев ужин и жарко нахлеставшись в сауне веником, мужчина вытягивается на несколько часов в глубоком мужицком сне.
Лишь в отдалении, в конце недели, маячат первые возможности чего-то такого. Тогда опять на молодом крестьянине будет чистая сорочка, тогда он отправится в непредсказуемые вечерние похождения… Нога будет ступать легко, а за лентой шляпы, может быть, окажется цветок. Тогда уже и луна будет выглядеть совсем по-другому, а медвяные цветочные моря лугов сменятся лесом вешал для сена, что в глазах работящего мужика не менее красиво.
Но никто не думал ни о чем таком, приступая к работе в это утро. Мысль простиралась вперед лишь настолько, чтобы можно было на основании своего опыта попытаться определить — удержится ли сухая погода. Если шмель зол и жалит, это может означать, что днем внезапно пойдет дождь, хотя утро и было самым замечательным за весь сезон. Где-то такой косарь оказался на краю покоса, у ограды, тянущейся вдоль дороги, как раз в тот момент, когда приближалась телега с арестованными. Косарь остановил пароконную косилку, чтобы дать лошадям передышку — пусть пощиплют и травку, если им не помешает множество жалящих насекомых. До косаря доносилось ритмичное — в такт бега лошади — позвякивание кандальных цепей: стражник снял с рук Салонена и Пуоламяки соединявшие их в пару наручники и надел им на ноги настоящие кандалы, которые привез с собой.
Косарь уже слыхал, что в соседней деревне вечером подрались сплавщики, теперь он сам смог увидеть, каких увозили — двух бледных мужчин, один из которых был еще совсем молод. Особой жалости к ним косарь не ощутил. Вдоволь насмотревшись им вслед, он вспрыгнул на сиденье косилки, и в душе его было что-то вроде благодарной уверенности. И когда он прикрикнул на лошадей, в голосе его звучала скорее бодрость, нежели озабоченность.
Настоящее будничное утро понедельника началось после того, как постепенно совсем просветлела эта воскресная ночь.
39
Старая хозяйка Телиранты — мать горячо любимого ею нынешнего хозяина — с начала ночи следила за ходом событий. Она знала, что молодежь с гостями уехала на машинах в город — на машинах гостей, своя-то машина оставалась по-прежнему в сарае. Она также знала, что невестка еще вечером отправилась в Сюрьямяки, поскольку туда следовало поехать тому, кто понимает побольше, чем простая деревенская баба. И старая хозяйка была озабочена задержкой невестки, но когда сын на ее расспросы ответил улыбаясь — он явно был в добром настроении, — она в конце концов отправилась спать.
Но заснуть сразу не смогла. И казалась какой-то весьма далекой даже мысль, что сон придет, едва растянешься на постели. И было много чего другого, что ее разум не мог уже больше вообразить, но что она еще помнила с полнокровных, замечательных дней своей молодости… И она почти позавидовала Хелке, чью душевную и физическую красоту даже в старости старая хозяйка инстинктивно предугадывала.
Сон просто не шел к ней. Она несколько раз вставала, подходила к окну, потом снова ложилась. Разок она даже заглянула в другую комнатку, посмотрела на кровать Хелки — будто и без того не знала, что постель оставалась нетронутой, впрочем, она и почти всегда выглядела так, хотя девушка и спала в ней… И, будучи еще на ногах, старая хозяйка не упустила случая поглядеть, как всегда, в окно, удостовериться, какая погода на дворе, и предугадать, какая будет. Про будущее она знала наверняка лишь то, что завтра, в понедельник, будет вёдро. Ни малейшей тучки не было видно нигде. Зато видны были луга, как свои — телирантовские, так и той деревни, что за озером. Она теперь уже стара, но в свое время, молодой женщиной, накосила вручную немало сеновалов. Многие батраки, надеясь на успех, заигрывали с нею взглядом, отбивали ей косу… Так уж получилось, — как и то, что сыну ее, нынешнему хозяину Телиранты, почти пятьдесят. И жена у него великолепная, она лишь на несколько лет моложе его… Да и Сельма уже большая девочка; каждый раз, когда возле нее оказывается какой-либо молодой мужчина, как теперь этот Ханну — прямо-таки досада берет. Сельма и Хелка — до чего же замечательные обе — Господни творенья! Предстоит ведь и им, по предписанию Божьему, исполнить то призвание, которое исполнила и их бабушка — однако же эта мысль странно беспокоила старую хозяйку. И она всегда была почти готова сама, за своих внучек, произвести на молодых людей самое лучшее впечатление.
Но нынче старая хозяйка была в одиночестве, или вдвоем — со своим собственным старым «я». Удивительным образом вспомнилась сейчас вся прожитая жизнь. Она казалась себе все еще той же самой молоденькой девчонкой, какой была тогда, когда начала ощущать себя человеком. Она поглядела на свою руку, теперь уже старую, худую и жилистую, но рука показалась ей похожей на ту ручку ребенка, которую она вот так же рассматривала однажды впервые. Она глянула наружу в летнюю ночь — или сейчас уже утро? — там, по крайней мере, эти водные пространства были совершенно такими же, как и в дни ее молодости, когда ходили на веслах и днем и ночью. И часть построек в усадьбе теперь была иной, однако участки были прежние, и те же ели стояли на склонах гор, изрезанных пещерами. Она дивилась на самое себя, что сейчас вот так посмотрела на все это и что память о всевозможных вещах сейчас так печалит ее.
Старая хозяйка принялась расчесывать свои поредевшие волосы, расчесывала спокойно и потом заплела в косичку, попыталась зевнуть и затем легла в постель.
Хелка еще не вернулась, иначе старая хозяйка услыхала бы. Приятно было все-таки думать о Хелке и Сельме, пустившихся вот так в летние похождения с молодыми людьми. Было приятно знать девочек столь хорошо, как знала своих внучек старая хозяйка Телиранты. И наверняка они вернутся уже совсем скоро.
Но где же задержалась Мартта, хозяюшка? И что случилось в Сюрьямяки?
Теперь речь уже не могла больше идти о корове, наверняка теперь что-то особенное происходит с человеком.
Это Хилья — она теперь, надо думать, родила уже четвертого. Старая хозяйка Телиранты знала и помнила дела этой женщины также хорошо, как свои. Она фактически была важнейшим действующим лицом в истории Хильи и Ялмари. Хилья тогда была в услужении здесь, в Телиранте, и, разумеется, привыкла считать этот дом чуть ли не родным, к помощи которого прибегаешь, когда речь идет о чем-то серьезном. В молодости она была весьма озорной, это старая хозяйка помнила хорошо, но душа у нее была доброй и чистой, и это тоже знала старая хозяйка, знала совершенно точно. И однажды Хильи плакала целый час у нее на плече, словно была погибающей, и хваталась за нее в безнадежном состоянии. А все из-за того студента, который пробыл одно лето и уехал. Тогда-то старая хозяйка и узнала Хилью как следует, стала для нее, беззащитной, как бы второй матерью.
Затем однажды Хилья спросила:
— Могу ли я взять этого Ялмари… ведь тетя знает, что со мною раньше было?
И старая хозяйка Телиранты ответила:
— Можешь радоваться, что такой порядочный человек, как Ялмари, любит тебя. Но запомни одно: ты ничего не должна скрывать от Ялмари. Была ли ты с другими мужчинами, кроме этого магистра?
— Нет, так, как с ним, не была, — сказала Хилья.
— Ну, когда Ялмари в следующий раз заговорит с тобой о совместной жизни, скажешь ему так: я-то с радостью пойду за тебя, но можешь ли ты взять меня в жены, если я не… не невинна?
И старая хозяйка Телиранты, сейчас, на старости лет, и несмотря на усталость от бессонницы, усмехнулась, вспомнив то, что потом рассказала ей Хилья. Девушка сделала как ей было велено и сказала Ялмари точно те же слова, которые хозяйка вложила ей в уста.
— А Ялмари?
— Хи-хи-хи-хи, — веселое настроение Хильи неудержимо прорывалось наружу. — Я никогда не видела мужчины с более глупым выражением лица, чем то, какое было у Ялмари, когда он это услышал, если вообще услышал. Глаза вытаращил, и когда я еще поточнее объяснила, в чем дело, он долго смотрел на меня и спросил: стало быть, как же это, выйду я за него, или как? И что объявление об оглашении… Ха-ха-ха-ха…
Так ют оно все тогда и произошло, и сама старая хозяйка была крестной их первенца. Она сначала немного повозражала, мол, я уже слишком старая, я не гожусь для такой обязанности, но Хилья сказала:
— Если старая хозяйка Телиранта не согласится стать крестной, тогда пусть дитя остается некрещеным.
Все это пронеслось в голове старой хозяйки, когда она глядела в окно на озеро и за него. Затем она опять легла в постель…
Она чувствовала совершенно особую слабость, какой никогда еще не чувствовала. Это происходило больше от размышлений, чем от физической усталости. Ход мыслей все сильнее сосредоточивался на юности — как своей, так и других. Все ущербнее, неполноценнее казалась прожитая жизнь. Как же может человек брести столь неуверенно и с трудом, хотя хорошо знает, как следовало бы? Кем я была? И все-таки я дала жизнь столь многим потомкам. Если бы они только знали мою неполноценность…
Старая хозяйка услыхала, что на дороге разговаривают, но была больше не в силах встать и глянуть в окно. Голос хозяина она различила — и затем послышалось, как тормозит машина, затихающие выхлопы. Но встать, посмотреть она была не в состоянии. Ну и пусть! Теперь ведь уже почти утро, бывало, в такое время вставали на работу — и при этом не спали днем, как нынешние, которые косят машинами, впрочем, просыпаются и теперь рано.
Старая хозяйка слышала еще, как внизу, у берега, завели лодочный мотор. Сперва раза два крутанули, потом послышалось равномерное постукивание, и стихло совсем. Небось в Сюрьямяки подались. Ой, Хилья-бедняжка, как там с нею? Но нет сил встать, чтобы спросить или посмотреть.
40
Арестованных вез крестьянин-землевладелец по фамилии Пиетиля. Он был молод, и при нем жил также его брат, который был еще моложе и вел обычно залихватскую жизнь с вином и молоденькими служанками, терявшими в его обществе всякую способность сопротивляться. Ийвари Пиетиля был парень статный и умел вести себя с каждой девушкой именно так, как требовалось.
Этим июльским вечером он отправился в обычные свои похождения и еще не вернулся, когда Салонена и Пуоламяки привезли после первоначального допроса у ленсмана. Весьма спокойный по натуре Пуоламяки сразу же уснул, как только растянулся на нарах, но Салонен не мог заснуть. Хмель постепенно рассеивался, его мучила жажда, и он забарабанил в дверь арестантской, чтобы дали воды.
В это время в избу вошел мужчина, который грубо спросил, чего надо арестанту.
— Воды, черт возьми, или я сгорю огнем! — послышалось из-за двери камеры.
Вошедшим был Ийвари Пиетиля. Услыхав это требование, он спросил:
— А от вина ты бы, конечно, отказался?
— Не издевайся над арестантом! — раздалось в ответ.
Ийвари принялся шарить по двери камеры, чтобы отворить ее, но тут открылась дверь задней комнаты, и в людскую вошел мужчина в подштанниках, хозяин, старший брат Ийвари, и сказал:
— Ты с этим парнем поосторожнее, он убийца.
— Будь спокоен, уж Нокию-то я знаю, я еще в ту субботу намеревался его вздуть, но тогда с этим заминка вышла, и теперь, видать, уже надолго. Ты иди себе в конуру, а арестанта я покараулю.
Ийвари находился в том состоянии, когда хмель еще полностью не прошел, и поскольку он вообще был поумнее и посильнее брата-хозяина, тот привык соглашаться с его требованиями.
Ийвари открыл дверь арестантской — отгороженный дощатой стенкой угол людской, — и перед ним стоял, собственной персоной, тот самый Нокиа, с которым ему пришлось иметь дело, когда плот проплывал мимо этой деревни, бывшей волостным центром. Тогда действительно едва не возникла серьезная драка. Ийвари уже знал о случившемся ночью убийстве у плотогонов, хотя и находился оттуда так далеко. И несмотря на то, что неделю назад Нокиа нехорошо задирался к Ийвари и затем ему удалось уйти вместе с товарищами, избежав тем выяснения отношений, Ийвари теперь обращался с ним, закованным в тяжелые ножные кандалы, очень дружелюбно. Он махнул Нокии, чтобы тот вышел в людскую, — и вскоре они уже сидели на широкой лавке под окном. Хозяин в исподнем еще раз появился в дверях и сказал брату:
— Это, стало быть, на твою ответственность, Ийвари, то, что ты делаешь.
— А тут у нас сторож есть, — сказал младший брат, вытаскивая из кармана бутылку с какой-то красноватой смесью. В ярком свете утра голубели глаза Салонена. Восход солнца не был виден прямо отсюда, из людской, но отраженный солнечный свет проникал со двора.
Они беседовали о случившемся.
— Он сразу помер? — спросил Ийвари.
— Вроде бы сразу.
— А ты раньше сидел в тюрьме?
— Нет, по-настоящему не сидел, но к штрафам, по мелочи, приговаривали.
— Ты, слышь, не очень-то похож на обыкновенного сплавщика, как это тебя на лесосплав занесло?
— Да вот занесло. Разок надо и такое испробовать. Об этом в разных книжках столько красивых историй, об этой жизни сплавщиков, что надо было разок попробовать. Но — какие же они там уроды, за все лето не видел красивого парня, ни одного. С тех пор как ушел из своего бокса в Тампере.
— Ну а девушек?
— Хо — судомойки зачуханные, медведицы кухонные! Не интересуюсь… Но финка вошла в мужика — блеск! — И Нокиа сделал рукой такое движение, как тогда, нанося удар Меттяля, глаза сверкнули, их голубизна обозначилась резче, и выражение рта сделалось особенным, наслаждающимся. При этом другой рукой он потянулся за бутылкой, которую протянул ему Ийвари. Салонен сделал затяжной глоток. Выпив, он закричал:
— И все равно не жалею, ей-богу, не жалею! «Парень молод был и невинен, был молод, красив и наивен…»
— Ты небось имеешь в виду девушку, — заметил Ийвари.
— Парень был красив и наивен, — повторил Салонен, как бы самому себе, словно про Ийвари он и не помнил. В его взгляде был странный, этакий женственный блеск, когда он смотрел из окна наружу, на небесный простор, как будто инстинктивно ждал оттуда прощения. На топорно сработанном лице Ийвари Пиетиля отражалось тупое непонимание смены настроения сидевшего перед ним юноши, он посмотрел на Салонена немного смутившись и глотнул из бутылки, которая теперь стала как бы общей. Что это он говорил о каком-то парне?
Утро приближалось. Старушка, отданная общиной с аукциона[29] на попечение Пиетиля и все еще остававшаяся у них, словно забыв, что оговоренное на аукционе время попечения окончилось, сошла вниз с веранды маленькой избы, присела возле куста, задержалась там, сколько требовалось, поднялась и, немного ссутулившись, ушла. Было уже утро. Воробьи и ласточки объявляли об этом.
И теперь эти двое молодых людей как бы немного чуждались один другого, хотя вино еще оставалось, та светло-красноватая жидкость.
— Дай я допью до конца! — сказал Нокиа другому участнику давнишней ссоры.
— Пей, божье создание, — сказал Ийвари, который хорошо помнил, что этого добра у него еще полно, то, что в бутылке, — не последнее. — Бери, пей, теперь небось долго не получишь ни этого, ни прочих разных удовольствий. Действительно ведь суровый принцип: полная изоляция. Будь здоров!
— Будь! — И Салонен долго смотрел на этого мясистого, сытого крестьянина. До чего же некрасивый и грубый — и до чего же красивыми были весенние вечера дома, в городе, на Торникаллио с молодым Ильмари, учащимся. О чем только они там не говорили, сидя и держась за руки, той единственной счастливой весной… Потом все пошло-поехало. Мука жизни, кажущаяся иногда будто бы радостью — напряжение этой муки все нарастает, до тех пор, пока она однажды не прорывается наружу. Неужто это так и происходит? Неужто я здесь, в камере, устроенной в углу людской этого дома, с кандалами на ногах, по пути в Турку, а оттуда когда-нибудь обратно в этот же самый приход — и нет больше свободы, — ой, Господи Боже мой — что же я наделал? По щекам Салонена текли слезы, когда он пытался объяснить свое положение молодому, находящемуся на свободе деревенскому богатею.
— Тебе, малый, не понять, что означают эти обручальные кольца на щиколотках у парня — и останутся Бог знает на сколько лет. Ой, ой, Иисусе — черт! — Теперь рыдания были столь сильными, что даже старший брат, хозяин, снова вышел из комнаты и сказал младшему, Ийвари:
— Сам теперь видишь — весь дом не спит из-за того, что ты тут устроил с этим арестантом.
Салонен же плакал и кричал и так тряс тяжелыми ножными кандалами, что страшный лязг наполнил тишину утра. Даже служанки, спавшие в домашней пекарне, находящейся тут же, с другой стороны от людской, вышли посмотреть. Они выглядели заспанными, изумленными и растроганными. Нокиа хотя и не спал всю ночь, но был тем не менее красив и молод. Несколько прядок его длинных светлых, зачесанных назад волос падали на лоб, и он по привычке откидывал их рукой на место. «Вскоре эти прекрасные волосы упадут состриженными на пол тюрьмы и затем окажутся в мусорном ящике», — подумала девушка-служанка. Но юноша кричал:
— Что вы знаете о душевной муке сына человеческого? Когда душу изводит такая тоска, что не знаешь, чего душа хочет. Смотри, смотри, и ты, девушка, тоже, у тебя есть ухажер, которого ты обнимаешь, когда захочется, а у меня что? Нет больше даже мамы, мамы, мамы…
На этом слове его крик и забуксовал окончательно. Он повторял его, подвывая, постанывая, твердил беспрерывно, и произносимое им так это слово обрело совсем иное звучание: ма-мы-мамы-ма-мы… Он упал на нары, уткнулся лицом в подушку и все продолжал кричать: ма-мы-ма-мы… Поскольку, не считая этого выкрика, никакого буйства он не учинял, а выкрикиваемое им слово не являлось бранным, у присутствующих не было причины предпринимать против него какие-либо действия. В конце концов на глазах у служанки выступили слезы, и она убежала. Девушка-горемыка, которая тоже уже давно лишилась матери, а кто ее отец, она даже не знала.
Вот так, рыдая, Салонен и уснул, лишь попросил перед этим совсем смирным, будто бы чужим голосом попить воды. Жадно выхлебав ее, он и уснул. Пуоламяки же все это время спал как убитый, и даже крики приятеля его не разбудили.
Светило солнце. Могло быть уже три часа. Хозяин, этот добродушный мужчина, думал уже о ножах сенокосилки, когда, подтягивая подштанники, смотрел на двор хозяйства, унаследованного от отца.
41
В то же самое время другая компания, охваченная гораздо более радостным настроением, собралась в Сюрьямяки, в доме, куда вот так, летней порой, было вполне прилично зайти любому. Старшие дети уснули вовремя, хозяйка Телиранты устроила их спать в подходящих местах. Так что, когда «великие события» начались по-настоящему, две разумные и опытные женщины уже остались вдвоем. При этом их совсем не заботило, что одна была простая крестьянка из бедной избы, а другая — образованная хозяйка большой зажиточной усадьбы.
Роды оказались легкие, как и всегда раньше у Хильи. У обеих женщин был очень многозначительный вид, когда из сеней послышался стук — ребенок, к тому моменту его уже успели искупать, спал как хорошенький поросеночек, — женщины подумали, что за дверью Ялмари, наконец-то добравшийся домой и привезший, хотя и с опозданием, акушерку. И, будучи совершенно уверены в этом, они слегка оторопели, когда из сеней, нагибаясь, сначала вошел врач — молодой статный мужчина, которого они знали в лицо, а за ним прелюбопытная парочка: барышня-то была известна, но господин — совсем незнакомый. Правда, Хилья видела его мельком, когда приходила в Телиранту звать хозяйку взглянуть, что с коровой… И затем, последним, — сам хозяин Телиранта.
Врач с первого же взгляда на Хилью понял, как обстоят дела. Однако же он сел на край кровати и взял роженицу за руку.
— Нынешней ночью я, похоже, всюду опаздываю, куда бы меня ни привозили: к умирающему или новорожденному. Однако поздравляю вас, хозяюшка. Неужто справились со всем до конца? — спросил он, посерьезнев.
— Да уж. Одного только не хватает: мужика бы моего домой заполучить.
Все рассмеялись. Дитя спало, и барышня Хелка рассматривала его с инстинктивным уважением. Она и друга своего, Арвида, подвела тихонько к плетеной корзинке с младенцем.
— Погляди, какая у него кожа нежная!
Хилья понимала, что доктор и все остальные хотели бы уйти — ведь уже занимался день. Она попыталась незаметно сообщить хозяйке Телиранты, где хранятся в доме деньги, намереваясь заплатить доктору. Но тот заметил это и, будучи в хорошем настроении, сказал:
— Послушайте-ка, хозяюшка, я ведь ни пенни не взял за то, что ездил смотреть на тушу мертвого мужика, а за то, что полюбовался на столь прелестную новорожденную, и подавно ничего не возьму.
Он по-мужски восхищенно посмотрел сперва на малышку, потом на ее мать. Хилья, которая теперь лежала, немного побледнев после вызванной родами потери крови, выглядела действительно красивой.
— И своего мужа вы, надеюсь, заполучите! — сказал доктор, пожимая ей руку на прощанье.
И Хилья таки заполучила его. Как раз в тот момент, когда эта радостная компания собиралась выйти за дверь, оттуда им навстречу вошел мужчина, которому действительно нынешней ночью пришлось кое-что пережить. Сперва иначе как с помощью служанки не смог поймать лошадь, которая должна была везти его, затем его самого гоняли туда-сюда. И теперь щипцы, все эти инструменты, да и лекарь тоже здесь, а ребенок уже явно лежит в корзинке, поскольку все так сердечно улыбаются. Да, ребеночек был там, — девочка. Стало быть, так. Сможет ли Ялмари теперь ухаживать за матерью и дочерью до утра, до тех пор, когда Альвийна вернется оттуда, с евангелического праздника, или хозяйке Телиранты следует остаться здесь?
— Я бы выдал хозяйке диплом акушерки, чтобы могла практиковать хоть в какой волости, — сказал доктор.
— Уж я, наверное, все же как-нибудь этим мужиком до утра обойдусь. Разве же доктор не сказал, что у меня ни в чем нет недостатка?
— Ни малейшего, то-то вы и мужика обратно заполучили. И пусть уж он смотрит, чтобы его золотце слишком рано не вздумало встать с постели. Женщины потом становятся такими некрасивыми, если слишком рано после родов начинают бегать по хозяйству. И приходится их, чертовок, держать и старыми за то, что взяли их такими молодыми и красивыми.
Доктор был в превосходном настроении, несмотря на дармовые визиты.
— И запомните теперь, хозяюшка, сами, чтобы вы не смели вставать с постели слишком рано, как бы хорошо вы себя ни чувствовали.
Вся компания покинула дом, и вскоре Хилья и Ялмари услыхали стрекот мотора удаляющейся от берега лодки. Солнце вставало восхитительно и красиво. Озера, леса, покосы — все было залито его светом и выглядело чудесно. Знакомая, родная, добрая земля Суоми.
— Ну дай хотя бы руку, прежде чем я тут опять засну, — сказала Хилья Ялмари — во взгляде ее читалась безмолвная привязанность и нежность.
Ялмари протянул ей руку, но, подав ей ладонь, взял ее за плечо, потом за голову и притянул к своему лицу. Одно из самых счастливых мест на свете в эту ночь было там, между этими сблизившимися почти вплотную человеческими лицами.
— Ну и поездил же я! Там, за Весиярви, в одном месте встретилась мне карета, настоящая карета о двух лошадях. И откуда такая взялась? Ехали барышни, не знаю, вроде бы и господин там был. Я-то подумал, что там небось и эта барышня-акушерка, поэтому не посторонился, чтобы пропустить их, а спросил. Они на это так захохотали, что наверняка и лесное зверье перепугалось. Тогда только я заметил, что на них была какая-то особенная, странная одежда.
Лицо Ялмари опять склонилось к лицу Хильи, как только что до этого.
Остальная компания череп четверть часа была уже опять в Телиранте. Сельма и Ханну приготовили кофе согласно уговору, и там же суетилась полуодетая, сонная кухарка, чья профессиональная гордость не могла допустить, чтобы, пока она спит, воспользовались ее кухонными принадлежностями и готовили что-нибудь на ее плите. Доктор тоже вошел в дом, но даже не снял плаща и не присел, а так, стоя, и пил кофе, которым его угостили.
— Очень интересная ночь. Вы, любезные господа, — сказал доктор, обращаясь к Сельме и Ханну, — лишились зрелища прелестнейшей идиллии. Хотя я видел множество родов и еще больше смертей, но не перестаю испытывать торжественного чувства в обоих случаях.
— Да, но, доктор, если бы и мы любовались с вами идиллией, то кофе для всего общества не был бы готов, — сказала Сельма.
— Вы абсолютно правы, — доктор поклонился Сельме. — А идиллии, будем надеяться, повторятся еще много раз, и это прекрасно не только в июле. Будем ждать! И огромное спасибо за кофе! А кстати, этот мой саквояж со всякими жуткими инструментами, он где? И еще «Паккард»? Насколько поездка по вызову на ночь глядя была без особых удобств, настолько доставка домой будет шикарной.
Вскоре уже роскошная машина мчалась по ровной дороге к церковной деревне. На всех больших полях видны были пароконные косилки и некоторые двигались навстречу прямо по дороге, и приходилось даже останавливаться, чтобы «не было еще и второго трупа за нынешнюю ночь», как сказал доктор. Хелка сидела одна на заднем сиденье, оба мужчины — впереди.
— Ну вот, я, стало быть, уступаю это место барышне. Очевидно, на обратном пути расположение будет таким. Спокойной ночи и большое спасибо! Было очень, очень интересно.
42
В ночь на воскресенье Сантра Меттяля спала не более двух часов. Несмотря на это, она, проснувшись, чувствовала себя бодрей, чем в другие утра за долгое время, чуть ли не с тех пор, когда она была служанкой. Она так и заснула, сжимая в руке купюры, сунутые хозяином; утром одна из купюр валялась на одеяле, но другая оставалась скомканной в ее горсти. Две сотенных — небрежным жестом! Сантра глядела на них, глядела на сверкающее воскресное утро, вспоминала и пришла к выводу, что муж ее, не появившийся дома вчера, не появится больше и сегодня, в воскресенье. Пробили настенные часы, теперь они и время показывали — их циферблат освещало солнце. Сантра встала и поспешила к скотине. Она была в том же, во что оделась вчера после сауны. Хорошо, что дети еще спят, что не видели, как проснулась их мать. Купюры она без долгого раздумья сунула в блузку, за пазуху. Там они приятно щекотали тело, пока она доила корову, — все такие же скомканные, как и давеча в ее горсти.
Двести марок — непомерно большая плата за приготовление браги: и одной сотни хватило бы вполне. Но с другой стороны в этом было что-то озорно-радующее. Ведь муж по меньшей мере еще неделю не явится домой, бабы в ближайшей округе подумают, что Сантра и дети испытывают некоторую нужду… Сантра стояла уже в каморке в конце сеней, где в достаточной мере видны были следы вчерашнего вечера. Она достала купюры из-за пазухи, разгладила их и сложила так, как они, видимо, были сложены прежде. Она подержала их в ладони, они были словно тайные гости, которых надо спрятать, чтобы даже самый неожиданный визитер не застал их врасплох. Окованный железом сундук был собственностью Сантры, он был сделан отцом — окован и раскрашен. Юкка-муж никогда не открывал его крышку. Там, в самой глубине, имелся узкий поперечный ящичек с крышкой, в котором хранили лучшее столовое белье из льняного полотна. Дно этого ящичка было застелено бумагой, под эту бумагу Сантра и спрятала купюры.
На столе в жестяной кружке осталась еще брага — ручка кружки была повернута так, что можно было догадаться: ушедший последним пил из кружки стоя. И Сантра, стоя там же, взяла кружку, наклонила ее и смотрела, как поблескивает брага, вдыхала ее запах и в конце концов отпила… Брага оказалась теплой и выдохшейся, но еще сохранила знакомый вкус недр земли; и в ведерке за изголовьем кровати еще оставалась брага, но хозяин все же уходя спросил, осталось ли еще.
Кровать, раздвигавшаяся в ширину, сохранила еще следы сидевших на ней людей. Сантра принялась приводить ее в порядок; она раздвинула кровать и застелила так, чтобы на ней можно было расположиться поспать. Она подумала, что, может быть, сама днем немного вздремнет здесь, в укромной каморке. Такого, правда, никогда раньше не случалось, да и будь муж дома, ей ничего подобного и в голову бы не пришло, ведь это было бы принято за изнеженность. Но теперь Сантра была одна, или вдвоем сама с собой, с тем своим вторым «я», которое за эти прошедшие сутки так странно проснулось и которого до сих пор ее самосознание как бы немного побаивалось.
Сантра вроде бы почти напевала себе под нос, когда более старательно, чем обычно, приводила себя в воскресный вид.
Долгое, немного захватывающе-таинственное воскресенье было впереди. Когда дети, поев, заспешили куда-то по соседству в гости, мать не препятствовала им, но когда они уже выходили на дорогу, ведущую от дома к шоссе, мать крикнула им, чтобы остановились, догнала и сказала низким, почти шипящим, строгим голосом:
— Если днем вздумаете болтать о том, что делается дома, — смотрите мне! И как бы вас ни расспрашивали! Помните.
Эта внезапная материнская строгость оказалась непонятной детям, ведь все утро мать была в таком хорошем настроении, прямо-таки особенно добром. И что из происходящего дома имела в виду мать, дети тоже не могли уразуметь сразу.
— Ну то, что эти мужчины приходили вечером пить брагу, — догадалась наконец старшая девочка.
Тогда все они обернулись и увидели мать, выгоняющую коров в лесные ворота, где те застряли. Похоже было, будто Сантру раздражало даже присутствие поблизости любых живых созданий, словно и от них требовалось что-то скрыть.
43
В доме было счастье.
Его обладатели — хозяин и хозяйка — спали крепким добрым сном. Свежесть ночного воздуха охладила каждого из них, и это дало им очень подходящую тему для шуток, когда они — пара зрелого возраста — укладывались в свою общую постель.
Хотя в остальной деревенской округе тарахтели рано проснувшиеся косилки — некоторые из них пришли в движение еще в первой половине ночи и теперь уже возвращались домой, — в Телиранте все успели еще погрузиться на два-три часика в сон перед началом трудового будничного дня. Поскольку ночь в смысле отдыха оказалась пропащей, хозяину не хотелось начинать долгий, тяжелый день сенокоса раньше обычного, не сомкнув глаз. А как хозяин, так и работники. Пусть уж — после такой-то ночи. Два-три часа не много значат. Чуток хорошего, ублаготворяющего сна значит гораздо больше. И вскоре в усадьбе спали все. Даже кухарка растянулась на кровати в кухне во всей одежде после того, как хозяева и гости выпили кофе и распрощались. Какая-то шутка, брошенная доктором кухарке, растянула губы девушки в улыбку за миг до того, как к ней вернулся сладчайший сон.
Все спали, кроме старой хозяйки, которая не смогла уснуть, хотя и видела, что все население дома наконец вернулось. Она слыхала, как Хелка и Арвид вошли в дом, собираясь поспать, однако, похоже, остались еще побеседовать.
В начале ночи старая хозяйка несколько тревожилась за невестку, которая так долго задержалась там, в Сюрьямяки. Время-то такое, что, выходя из дому, не знаешь, будь ты даже женщина, когда встретишь погибель… и каким образом…
Весь вечер и ночь старая хозяйка помнила также и о девушках, молодых своих внучках. Нет, за них она не беспокоилась, хотя, конечно, такой автомобиль, каким бы хорошим он не был, может все-таки вылететь с дороги на поле, а это было бы отнюдь не то же самое, что переворот саней раньше во время санной прогулки. Сейчас, правда, не шло из памяти то обстоятельство, что оба молодых человека раньше не были здесь известны. Этот Арвид, похоже, хороший Хелкин знакомый, а на Хелку старая хозяйка надеялась; она наблюдала за развитием этой девушки с ее детства и знала ее как самое себя. Но тот, второй, который явился сюда, не будучи ни с кем из семьи знакомым прямо, а лишь через Арвида, его-то старая хозяйка немного опасалась, не его лично — она ведь знала и Сельму, — а того, что у Сельмы могут возникнуть неприятности, если она будет с ним водиться. Сельма-то в том возрасте и обладает таким характером, что неудачный опыт такой прогулки может плохо отразиться на ней — один плохой вечер может испортить всю ее будущую жизнь. Может выйти так, что и самым лучшим вечерам этого не поправить.
Все это старая хозяйка как следует обдумывала на протяжении вечера и первой половины ночи, намного позднее, чем это годится в ее возрасте. Но что поделаешь — если сон не желает приходить к ней, так уж пусть и не приходит. Ведь ей не требовалось больше забираться на сиденье косилки или орудовать вилами. Она свои сенокосы откосила старой ручной косой и сгребла сено граблями из рябины, которые вырезал для нее батрак…
Правда, старая хозяйка знала и то, что нив коем случае не проспит утром намного дольше, как бы поздно ни засиживалась вечером. Но можно и днем прилечь на минутку, в самую жару.
И она легла в кровать. Но постель на сей раз не показалась тем местом отдыха, каким была до сих пор — уже второй десяток лет, с тех пор, как однажды наступило освобождение от гнетущей тоски, которая одолевала ее в моменты отхода ко сну на протяжении почти полугода после смерти мужа… То был трудный период — и странно было, что именно нынешним вечером она вспомнила об этом. Почти год она засыпала не иначе, как в тихих слезах. Она никому об этом не говорила — какие разговоры могли быть об этом с другими людьми, она лишь улыбалась, когда другие говорили, что она быстро постарела. Она охотно шутила на тему о новом замужестве: «Если бы только нашелся подходящий сват, а то ведь этот Лепс сделался уже таким старым». Ей не было спасения от тайной тоски до тех пор, пока немногим более, чем через год после смерти мужа, она не отправилась за три волости надолго в гости к дочери. Там ее внуки, дети дочери, прелестным своим галдежом настолько перепутали ход всех бабушкиных мыслей, что через три недели, вернувшись оттуда, она смогла наконец засыпать в своей кровати и спать как убитая и вообще стала после этого настоящей «всеобщей» старой матерью всему населению усадьбы — не только хозяйничавшему теперь сыну и его жене, но и всей прислуге и бессменным крестьянам-арендаторам.
Удивительно, и как это сейчас все всплыло в памяти, абсолютно вперемешку — и старые дела, и то, что сегодня ночью… Теперь уже можно было быть полностью уверенной, что нынешняя, «молодая» хозяйка Телиранты, Мартта осталась там помогать Хилье.
Старая хозяйка опять встала и вышла на крыльцо. Она увидела во дворе хозяина — сына своего, полностью одетого, и он ответил на расспросы матери, не глядя на нее, но вполне доброжелательно. Он вообще, женившись, взял себе манеру так разговаривать с матерью, за что Мартта — невестка несколько раз делала ему замечания; старой хозяйке и самой случалось слышать это.
И опять старушка вернулась в свою спальню, с громким стуком захлопнув дощатую дверь так, что даже стоящая внизу в конце коновязи лошадь вздрогнула. Старая хозяйка была уверена, что от слишком долгого бдения у нее такое состояние, при котором, как бы там ни было, сон наступит не скоро; она ощущала это всем своим телом.
Вернувшись к себе, она чувствовала все усиливающуюся душевную муку. Которая, однако же, продолжалась не слишком долго. На один лишь короткий миг показалось, будто она вернулась к самому своему рождению — к тому мигу, который никогда не остается в памяти.
Именно в этот момент ее отдых был еще потревожен в последний раз, теперь и навсегда. Она услышала, как тронулась машина, она еще сделала усилие, чтобы глянуть в окно, и увидела Хелку и Арвида на переднем сиденье, смотрящих прямо перед собой на дорогу, освещенную утренним солнцем. Там уезжала внучка, дочка дочери, и ее бабушка в несколько секунд испытала глубочайшую, нежнейшую любовь, она как бы хотела открыть перед этой машиной дорогу в будущее, мерцавшее в ее старом сознании; и она также испытала чувство глубочайшей, горчайшей подавленности, своей отстраненности, ненужности.
Она успела лечь в кровать, где ощущение глубокого покоя было последним, что она еще осознала.
44
Счастлив тот мужчина, который ночью целенаправленно приближается к своему дому, где, как он знает, жена и дети в безопасности ждут его. Если же они заснули, то, проснувшись, сразу примут вернувшегося мужа и отца в свое тепло. Такой приближающийся к дому мужчина не особенно обращает внимание на обстановку и происходящее в сонной природе, ибо его походка сейчас более тороплива, чем если бы он приближался к дому тем же путем, но днем, однако, она совершенно равномерна: и он попадет туда, куда стремится, открывшаяся дверь как бы затянет его внутрь. И затем стены жилища, окна, двери и крыша с дымовой трубой — все, будто некая дремлющая матка, под крылышко которой только что шмыгнул последний припозднившийся птенчик.
О бродяге в тихой летней ночи, к тому же одиноком, было бы неверно сказать, что он вообще несчастен. Если один дом, примни к себе под кровлю последнего своего жителя, подобен матке, то то же самое летней ночью — и все мироздание с землей и небом, в его лоне даже самое несчастное дитя человеческое каким-то образом находит успокоение. Человеку Севера тогда «его родина на всей картине», и все это «наидружелюбнейшее материнское лицо». Земля под его ногами — мать — земля, из которой он вышел и куда должен вернуться, а блеклое безграничное небо над его головой есть нечто подобное тому, куда — он надеется — однажды отлетит его душа. Пожалуй, самое большое несчастье для человека, двигающегося в ночи без цели, если он не замечает этого высвобождения из собственных мук. Впрочем, такой человек и сам редко приносит свою душевную муку в летнюю ночь.
Однако же испытываешь тихую печаль, когда видишь мужчину, только что буквально как бы стремившегося в ночи в дом свой и мгновение спустя вытолкнутого оттуда обратно в такую ночь и уходящего, похоже, просто бесцельно блуждать. Такой уходящий, каким бы робким и тихим он не был, несомненно, больше раздражает, чем он же сам, когда только что вернулся и сильно повышал голос. В бодрствующей душе ночи есть, однако же, нечто спящее, которое просыпается по крайней мере тогда, когда виден и слышен такой беспокойный, уходящий из дома путник. Покинутая им комната как бы смотрит ему вслед, и ее проснувшееся материнское око уж больше не закрывается дремотно, а остается спокойно ожидать утра. Так же, как деятельные старики, потревоженные однажды от сна, уже не могут заснуть.
Выйдя на знакомые поля позади своего дома, художник замедлил шаг, но у его движения все же и на сей раз была какая-то цель. Он, казалось, будто бы потихоньку добивается чего-то, хотя невозможно было предположить, что в том смешанном лесу нашлось бы нечто особенное. На тропинке он и остановился, его взгляд казался точно таким же, как тогда на озере: вроде бы прислушивающимся, — теперь, однако же, глаза его смотрели, действительно смотрели в глубь леса и на его «дно», заросшее мхами и папоротником, раскинувшееся и исчезающее где-то за лабиринтом кустов, замшелыми бугорками пней и самими стволами. Но эта, темнее ночи, влажно пахучая и по сути своей какая-то зыбкая глубь леса казалась несомненно реальной. Только и всего. Она никак не «смотрела» на одинокого путника и ни на миг не изменялась сама под его взглядом. Человек, свернувший с дороги и вступивший в ее владения, был наверняка в том состоянии, когда ничего особенного и не ждут.
Распахнув глаза, художник свернул с дороги в лес, сделал несколько шагов и опять остановился. Насколько он продвинулся вперед, настолько же продвинулся и предел его видимости. Ничем и никем не потревоженный художник опять сделал несколько шагов, остановился и зашагал опять. Он обернулся — дорога уже не была видна. Он поглядел по сторонам — видимость была на несколько сажень во всех направлениях, — убедился, что стоит посередине сдавленного со всех сторон пространства, по неясному краю которого кружит суровая, абсолютная безнадежность. Малость неба, светившая в то место, была лишь крохотным прорывом, глазочком, не дававшим представления обо всем небе, также как кожа, виднеющаяся сквозь прореху в одежде, будь этот виднеющийся кусочек сколь угодно гладкий и белый, не дает полного представления обо всей той божественной драгоценности, которая скрыта одеждой.
Художник стоял там, и какая-то часть его сознания была подобна мрачной глубине леса. «Чего ты так мечешься? Что изменится от этого? Ты ведь на сей раз совершенно ничтожен. Знаешь же, что все равно ни на что особенное не решишься. Так чего же стоишь с таким видом посреди болотистой чащи?» Вот что ощущала одна часть сознания, и казалось, что тесное пространство вокруг, в пределах видимости, сочувствовало ему, было с ним согласно.
Художник еще прошел вперед, похоже, поискал подходящее место и, найдя такое, сел. Он, как давеча и Юкка Меттяля, сел на кочку. И тут он почувствовал себя более уверенно, больше не возникали вопросы вроде тех, что мучили его только что: о смысле собственного существования. Осталось просто тихое, совершенно отрешенное от всего происходящего ощущение самого себя, и только. И ни одна птица не перелетала в таком лесу, не было ни ночных бабочек, ни других насекомых. Царил лишь запах, тот особый глубинный запах сырой лесной чащи. Здесь можно было делать что угодно, не было ни одного свидетеля, которого следовало бы побаиваться, стесняться…
И постепенно, постепенно лицо сидящего на кочке мужчины стало понемногу, понемногу кривиться, а глаза, по-детски расширенные, в это же самое время неподвижно уставились на что-то несуществующее. В какой-то момент выражение этого лица можно было бы счесть за гримасу безумия, — если не знать ничего о его прошлом и настоящем, можно было бы подумать, что сюда явился помешанный. Время от времени лицо застывало, воображение напрягалось и пыталось, как только могло, укрупнять те мелкие детали… Мужчина думал о детях, которых только что видел в их смятых постелях, усиливал в себе ощущение их явной беззащитности, их полной неуверенности на этом жизненном пути, начало которого для них положил он сам. Отец представлял себе каждого таким, каким тот спит сейчас там, в комнате, где витали мрачные воспоминания, и он думал об известных слабостях их характеров и трогательных маленьких достоинствах, которых, однако, хватило бы лишь на то, чтобы растрогать смотрящего на них отца, и ни на что больше. Он-то лучше кого-либо знал и чувствовал, насколько хрупким, беспомощным было все, насколько зависит от случая судьба членов этого семейства, оставшихся там, в комнатах. И особенно того из них, который забрел сюда и сел тут на кочку.
Он уже ощущал, как подкатывают к горлу слабые всхлипывания, подобные таким горьким усмешкам, которые человек вызывает у себя нарочно. При этом лицо повторяло гримасы, а чувство в своих метаниях искало новые точки опоры тому, к чему стремилось. Молодость была и прошла, это следует признать, в таком-то возрасте. Едва ли кто бывает доволен своей молодостью — больше, чем всею жизнью. Осознание своей неполноценности мучительно.
Глаза сидевшего в глубине леса увлажнились. Золотые картины юности, или, пожалуй, видения, превратившиеся в картины, наконец настолько ожили в сознании, что выступили слезы. В первый раз, лет двадцать назад, они были гораздо более обильными и горячими, тогда они сами брызнули, вызванные действительно жизненными муками, и тогда они были разрядкой благородной страсти, расслаблением, блаженством.
Теперь мужчина, достигший того возраста, когда начинают стареть, выжал из себя лишь несколько слезинок, а его всхлипывания были и впрямь больше похожи на нарочитый смех, чем на мужской настоящий плач. Он все же склонил голову к кочке, как и тогда, двадцатичетырехлетним. На какое-то мгновение в его закрытых глазах задержались те несколько редких, красивых и чистых картин юности. Но и настроение после слез было каким-то вялым, он мысленно отметил это, и тут же опять возникли те же иронические вопросы.
Он поднялся на ноги и осмотрелся, будто очнувшись от недолгого сна. В глубине леса и там, в кусочке неба, освещение за это время изменилось. Утро наступало и здесь. Будто бы Отец небесный следил за движением каждой души человеческой, за добрыми и недобрыми движениями, и с восходом солнца обязательно находил детей своих, где бы они ни были — в тюремной камере или у корней дерева в чаще леса. Редко можно попасть в такую темноту, куда не достигает свет солнца — и тогда даже Бог вряд ли достиг бы уже души человеческой.
Постояв, художник стал выбираться на дорогу. Он спокойно думал о возлюбленной своей юности, он хотел подняться на вершину, откуда открывается широкий вид в ту сторону, где она жила. Ему было стыдно за то, что несколько минут назад он хотел заплакать, вспомнив свое недавнее посещение дома, он ощущал спокойное превосходство над всем тем, что он там испытал и увидел. Чем выше поднимался он по скату холма, тем больше светлело небо и усиливалось сияние утра. И хотя он не спал всю ночь, все же заметил, взойдя на вершину, что напевает себе под нос. На сей раз он не следовал никакой известной мелодии. А эта музыка устремлялась все выше и выше, но ей неизбежно предстояло и упасть вниз. Он стоял на вершине холма, повернувшись в ту сторону, куда частенько приводили его юношеские дороги. Его мурлыканье усиливалось, он осмелился запеть в голос ранее не существовавшую, мгновенно рождавшуюся мелодию, обращаясь к солнцу, которое висело еще настолько низко над горизонтом, что на него можно было глядеть прямо, и оно не слепило глаз. Достаточно много земной пыли оставалось еще между солнцем и человеком.
Прекрасные фантазии и картины юности — глядя отсюда, он видел их как настоящие сокровища, которыми владеешь всего надежнее, если лишишься их навсегда… И что значит одно поколение? Бесчисленное количество их возвышалось и падало. Отсюда видна возделанная земля с жилищами, видны леса, тающие на горизонте в утренней дымке, извилистые водоемы и гряды гор рядом с ними, возникшие вместе. Мать-земля, поверхность которой мужчина расчистил топором, затем вспахал плугом, засеял семенами, убрал урожай и в конце концов умер и погребен в ней. Чего еще желать!
Художник видел отсюда гребни крыш Телиранты. Он вспомнил старика Ману, чья яма для выгонки смолы должна быть уже в полной готовности.
— Отправлюсь-ка я взглянуть на Ману. Давно уже я не подгребал туда.
Мужчина спускается с холма, восторг, пробужденный солнцем, отражается на его лице. Он проходит мимо своего жилища так, словно ему нет никакого дела до него, выходит на берег и сталкивает лодку в воду.
45
Смольная яма была уже и вправду погасшей. Но Ману всегда привязывался к горящим смольным ямам, каждая из них была словно личность, в компании которой он душевно проводил часть летних дней и ночей. Или скорее она была как бы доверенной на попечение, и опекун обязан каждый миг следить за ее развитием. И у нее точно было желание выгореть дотла, если опекун слишком надолго упустит ее из виду. Но когда все удавалось как нельзя лучше, она давала несколько бочек того благородного жидкого вещества, в котором так замечательно соединяется таинственная сила солнца с напряжением земных недр. Смола была клейкой и тягучей, но — не всякая посуда, удерживающая воду, наверняка удержит и смолу. Может быть, таково же свойство вина, ведь оно тоже совместный продукт земли и солнца.
Художник однажды высказал это свое мнение и Ману.
— Насчет вина-то я не знаю, но вот водка — она действительно требовательна насчет посуды, — ответил на это Ману. — И тут, на севере, водка, как и смола, лучшее средство для груди. И сауна.
Тогда художник перечислил Ману целый список таких веществ, которые содержатся и в смоле, и в дыме сауны, и еще объяснил происхождение водки. Длинные губы Ману старались как можно лучше повторять эти сложные названия.
Но сегодня, утренней ранью в понедельник, встретившись возле погасшей уже ямы, знакомцы говорили не много. Ману, кстати сказать, был в будничной одежде, те же штаны, те же сапоги, но в воскресенье, по случаю праздника он натянул поверх этого старый выходной пиджак хозяина. «Это очень дорогая вещь, но поскольку у хозяина сына-то нет, вот и отдал мне…». То, как он был одет, а также наверняка ставшие известными Ману кое-какие ночные происшествия, сделали его малоразговорчивым и деловитым. Правда, о том, как провел эту ночь художник, он не знал, да и не стал интересоваться, но коль скоро мужчина трезвый как стеклышко в такое-то время суток еще околачивается здесь, наверняка и с ним что-то случилось. Свои заботы у каждого.
— Там человека убили сегодня ночью, — сказал Ману, хмуря брови и глядя в ту сторону, где произошло убийство. — Теперь убить человека, как в былые времена блоху. И чего удивляться, что такое творят сплавщики, если и люди получше делают то же.
Художник ничего не сказал, лишь выразил свое согласие тем, что посмотрел туда же, куда смотрел и Ману.
— В Сюрьямяки у Хильи, должно быть, что-то стряслось, поскольку привозили лекаря.
— Вы что-нибудь слышали, как там? — спросил художник, переводя взгляд на Ману.
— Нет, ничего я не слышал, но видел, что возвращались оттуда веселые, так что там небось все хорошо.
— Ах, так — тогда что ж.
— Хо-хо, так-то вот так. Наверняка здесь, на этом свете когда-нибудь каждый перестанет воображать, будто его испытания самые в мире тяжкие — если не думать ни о чем другом, кроме этих своих… Нет, однако, пожалуй, пора все же двигаться отсюда домой. Разве лодка художника не тут, на берегу?
— Тут, рядышком с лодкой Ману.
Ману все же еще осмотрел свое рабочее место, а художник в свою очередь смотрел на Ману, этого опытного работягу, дополнявшего свой примитивный, смирный ум жизненным опытом. Художник знал судьбу Ману, так же как Ману догадывался о переживаниях художника, хотя об этом они никогда не говорили, да и о другом говорили не много. Теперь же добрые знакомые — Ману впереди, художник следом за ним — вышли на берег, столкнули там каждый свою лодку на воду, кивнули друг другу и принялись грести каждый к своему дому.
46
В воскресенье вечером, когда бывший хозяин опять пришел в Меттяля, вчерашний, субботний вечер казался Сантре уже таким далеким, как только может казаться. На сей раз хозяин пришел один. Сантра находилась в комнате и, заслышав шаги, вышла на веранду, непроизвольно приосанившись. Глядя на глаза и усы хозяина, она протянула ему руку — поздороваться, немного помедлила и затем пригласила в комнату.
Так это началось — и теперь, под утро в понедельник, уже при свете солнца, хозяин спал, усталый, в рубахе с длинными рукавами и в носках. Спал на кровати в доме Меттяля, в каморке. Сантра лежала в комнате, на том же месте, что и сутки назад, и, как тогда, бодрствовала. К счастью, дети уже все спали — наконец-то! Вечером, когда хозяин игриво последовал за Сантрой из каморки на веранду и там обхватил ее руками, младший из детей жутко заорал. Он никогда не видел похожего ни дома, ни в деревне иначе, как в связи с дракой.
Сантра лежала сейчас совершенно неподвижно, уставившись перед собой в пространство, словно чего-то ждала. Лежа так, она вспоминала события прошлой ночи, и… в самом деле ждала чего-то. Вернее сказать, она удивлялась ситуации, в которой вдруг оказалась. Резкое, громадное изменение, по сравнению с которым вся эта атмосфера жилища Меттяля, этот муж, работающий где-то далеко, на сплаве, этот бывший хозяин там, в каморке, — все было ничтожным и как бы отодвинулось в сторону. Сантра чувствовала всем своим существом великую истому и великий приток сил; будто бы какую-то десятками лет наваливаемую на нее ношу стали в эту ночь разгружать с ее плеч. Это было странным, пугающим и радостным, и Сантре еще не дано было знать, что ее жизни уже никак не вернуться туда, где она была еще в субботу. Но она не могла представить себе, чтобы муж ее когда-нибудь мог вернуться сюда оттуда, из большого мира. Ведь уже весь год не было больше ничего другого, кроме того, что было — грубости и безразличия. — Нет, нет, пусть остается где-то там. Здесь нет места, здесь живу я и…
Сантра заметила, что воображает нечто такое, осознание чего лишь добавило этого странного напряжения. Ведь это никоим иным образом не могло продолжаться иначе, чем так, что тот — он уже не был для нее никакой не «хозяин» — остался бы здесь. Но об этом объединении было совершенно невозможно думать при утреннем свете, переходящем в дневной. Там, в большом хозяйстве, должен начаться сенокос, хозяин нужен там, и его станут искать — о-ох, он же еще говорил, чтобы старшая девочка отсюда пришла помогать… туда, на хлеба той женщины… Нет, нет — я возьму, я должна…
Сантра выскочила из постели, пошла к шкафу — шкафу Юкки — и взяла там купчую на этот участок. Она была составлена на целом большом листе бумаги. Лист надо было развернуть, чтобы стали видны расписки об погашении частей долга. Там стояло так: «Сверх указанного задатка — сто марок — сто пятьдесят марок — и теперь последняя: — почерк и подпись были совершенно четкими: Сверх указанного задатка получено пятьсот марок…»
Сантра сложила купчую по прежним сгибам, но не положила ее больше туда же, в шкаф Юкки, а сунула в блузку, за пазуху. Так она вышла в сени, оттуда — на веранду, остановилась, посмотрела — пейзаж был совершенно незнакомым. Купчая была великовата, чтобы держать ее за пазухой, не то, что те вчерашние купюры — но все же она была там. И солнце освещало немного сыроватое утро. Однако же обе коровы и телка еще спали. Ночь-то ведь еще не кончилась. Но уже наступило утро понедельника, и по той дороге никто не явится, по крайней мере сегодня.
Хозяин заметил, что у Сантры за пазухой есть что-то, и вскоре он сообразил, что там. От прикосновения Сантры он с трудом разлепил глаза, но то, что он заметил, сразу сделало его совершенно бодрым. Утро было еще ранним, не слишком поздним.
— Оприходую я еще вторые пятьсот? — спросили губы, едва не касаясь уха.
— И зачем надо было тогда поднимать эту цену так высоко, — ответили другие губы в другое ухо.
— Ну теперь-то мне пора идти.
— Погоди еще. Я ведь не могу тут остаться.
— Останься. Я еще непременно вернусь.
— Но прийди уже вечером. Иначе я не могу здесь быть. Что я буду делать весь день? Я ничего не могу.
Утро уже настолько посветлело, что мужчина видел измученное лицо этой крупной женщины. Он приподнялся и, перекинув через женщину ноги — сперва правую, потом левую — встал на пол.
— Там за шкафом есть еще брага, — сказала Сантра.
Хозяин на ощупь нашел кружку, пил долго, жадными глотками, потом перевел дух и глотнул еще.
Затем он ушел.
47
То, что видела старая хозяйка Телиранты, не было миражем. Звуки происходящего слышали также Ману и художник. И лишь в Телиранте, главном месте действия, счастливые люди спали так крепко, что никто не заметил, как завели машину. Никто, кроме старой хозяйки, которая тогда еще не могла уснуть. Лишь чувствовала усталость.
Оставляя отработанную до конца яму или костер для выжигания древесного угля, Ману как бы оставлял некий период жизни. После этого он почти ощущал, как стареет. Он греб к родному берегу, греб тихо, вяло, даже маленько позевывая. Все дальше виднелась лодка художника, и все тише слышались всплески его весел. Судьбу этого человека Ману чувствовал инстинктивно, хотя никогда не размышлял об этом и, более того, не расспрашивал его.
Ману вытащил лодку на сушу, затем еще возился с чем-то там, на берегу и, уже поднимаясь по береговому склону, еще останавливался, посматривал по сторонам, прислушивался и вдыхал запахи утра. Серая изба была перед ним, была задымленная летняя кухня, где закопченная сковорода стояла на сложенном из валунов очаге, была табачная грядка с хорошими растениями, которых не повредили заморозки. Под привычным камнем лежал ключ от двери сеней. Светило солнце, пела своя, знакомая Ману птица. Нет, он не знал, как она называется, он ни разу и не видел ее толком. Но голос ее он знал. Ману тихонько вошел в избу.
Все было как всегда. На той половине, где обычно в избах держат скот, лежала в кровати жена Ману — Яаханна — бодрствовала или спала, это не имело большого значения, поскольку Яаханна была парализована, паралич разбил ее уже много лет назад. Даже речь была нарушена. Но, лежа там, она настолько развила мимику, что Ману и особенно Лююти, дочь, всегда догадывались, что она имела в виду. В избе Ману всегда была настоящая атмосфера родного дома… Многие этому удивлялись, так же как и тому, что там справлялись со всеми делами и у Яаханны всегда такое чистейшее постельное белье. Правда, Калле-сын был далеко, в мире, но держался там на одном месте и был серьезным и безупречным старым холостяком, постоянно немного посылавшим «маме», как стояло в письме. И однако же…
Лююти, хотя и молодая, привыкла легко просыпаться. Проснулась она и теперь.
— У матери все в порядке? — спросил отец, просто чтобы спросить.
— Да, в порядке, — ответила Лююти, но даже не пошевелилась в постели.
Ману повозился с чем-то в избе, где становилось все светлее, и еще по делам вышел из дома. Как раз тогда-то он и услышал, что в Телиранте завели мотор машины. Неужто все-таки в Сюрьямяки — еще — случилось что?
У Ману не было ни малейшего дурного предчувствия, когда он закрыл за собой дощатую дверь сеней.
Эти же звуки заработавшего автомобильного мотора услышал и художник, плывя на лодке теперь, второй уже раз за эту ночь, в сторону своего дома, второй раз, но теперь совершенно в ином настроении, чем давеча. Он и теперь не очень-то спешил, но направление все же было четким. На одном известном ему месте он обернулся посмотреть назад, затем повернул лодку к берегу, вытащил ее на сушу и без колебаний стал подниматься к дому. Пройдя по тропке половину пути, услышал и он издалека, со стороны Телиранты, звук отъезжающей машины. Все вокруг уже было залито солнечным светом. И солнце удивительно влияло на этого художника. Он чувствовал, что живет, как и те, другие люди: тот хозяин дома, телирантовский Ману и многие другие. Уже там, на вершине холма, он в свете солнца пережил свою юность почти такой же, какой она и была. Он вошел в дом — жена не заперла дверь после его ухода. Он разделся и лег в кровать. На его объятия жена отреагировала лишь тем, что открыла глаза, но ничего не сказала.
48
Настоящей-то ночи на Севере в это время года еще нет. Едва фиалково-темно-лиловое пианиссимо умолкает, перейдя в глубоко чувственную паузу, как уже первая скрипка утра пробуждает высокую звучную мелодию. Не отсутствует при этом и аккомпанемент. Понуждаемые страстью, взмывают в воздух жаворонки, и сотни пичуг щебечут так, что, кажется, грудь их разорвется — все-то тельце птицы величиной с большой палец мужской руки…
Нет ночи, но не очень-то и хочет спать тот, в ком укоренилась привычка многих поколений к условиям Севера, будь то птица, домашнее животное или человек. Когда Ялмари Сюрьямяки вернул кобылу Оллилы обратно в Мюллюнийтту, та вовсе не отправилась сразу спать, а принялась бодро щипать травку, то и дело поднимая голову, поглядывая по сторонам и пофыркивая.
И когда Ялмари повесил сбрую обратно на тот самый можжевеловый колышек, с которого давно, очень давно снял ее, в окошке домашней пекарни показалось добродушное лицо служанки Эмми — а как же, она должна была засвидетельствовать, что невезение преследовало Ялмари до самого конца.
Нет, сон — дело десятое в это время года.
С веранды бабушкиной половины сошла сначала Хелка и за нею Арвид.
Отвезя доктора, они на обратном пути обменялись лишь несколькими фразами.
— До чего же чистое и красивое это дитя, — сказала Хелка мягко и мечтательно.
— Да… и мать тоже, — отозвался Арвид. — Удивительно, как хорошеет женщина в такие моменты. Та женщина, похоже, и всегда красива, но заметила ли ты, каким благородством и чистой одухотворенностью сияло ее бледное лицо? На всем свете нет прекраснее картины, чем святое материнство. Это особенно бросается в глаза в счастливый период младенчества, но иногда и позже, когда дитя уже говорит и ходит. Я видел когда-то молодую мать, взгляд которой, кожа, да и весь ее облик выражали совершенную девичью невинность.
— Это делает честь ее мужу, — сказала Хелка, и в голосе звучали согласие и нежность.
Вот и все, что было сказано на обратном пути. Затем Хелка поспешила в дом, и Арвид последовал за нею, так что он опять мог наблюдать ее походку. Ничего не сказав, Хелка удалилась в свою комнату и оставалась там долго. Однако же Арвид был совершенно уверен, что она еще выйдет.
И она вышла — теплое, как бы вопрошающее сияние было в ее глазах, лице, во всем ее существе.
Арвид первым очнулся от того состояния легкой, кратковременной дремоты, в которое оба они погрузились. Он даже видел что-то вроде сна — или, вернее, он все время сознательно наблюдал за этим видением. Там были земля и солнце, которые сияли друг другу, были пахарь и сеятель, но это было как бы единое целое, и земля имела цвет человеческой кожи, и ее холмы, ложбины между холмами напоминали тело женщины…
Солнце светило в лицо Арвида, пронизывало закрытые веки. На его руке лежала прекрасная голова спящей любимой женщины, которая лишь теперь, к этому моменту столь расслабленная, он чувствовал это — действительно принадлежала ему, была ему отдана. Он легонько сдвинул с ее виска коричневую прядь и затем долго и спокойно целовал; кожа пахла любовью.
Женщина открыла глаза, посмотрела на мужчину — своего мужчину — и сказала слабым голосом:
— А я так же красива, как та молодая мать, о которой ты давеча рассказывал?
Ответа, выраженного словами, не последовало.
* * *
— Смотри, как еще прекрасно утро, когда весь дом спит. Но теперь начнется будничная неделя с ее работами, заботами, напряжением.
— Красиво и это.
— Да, красиво — красивее всего, когда человек облагораживает мир. Посмотри на это старое, переходящее по наследству хозяйство здесь вокруг нас; сколь мощен дух его, и оно как бы независимо от людей, которые нынче живут тут и живы-то его дарами. По-моему, эта старая невестина светелка — святилище, атмосферу которого не хотелось бы нарушать ни низкими мыслями, ни вульгарным словом. У меня такое чувство, что теперь больше нельзя оставаться тут, что мне следовало бы встречать начинающиеся будни где-то в другом месте. Я думаю покинуть дом, прежде чем он проснется.
— Я последую за тобой куда угодно; последую за тобой сегодня и всегда. О-ох, как мне вынести это… это… не знаю, как и назвать. Знаю только, что все, что было до сих пор, было для этого — все, все.
— Ну что же, тогда — в путь. А на эти две ночи пусть опустится занавес сказки. Если когда-нибудь опять приедем в эти комнаты, они будут для нас местом воспоминаний, с которым не будет связано ничего низкого и пошлого. Если нам и предстоит пережить такое, то пусть это случится с нами в других местах.
Они отправились в путь — их дорогу освещало утреннее летнее солнце.
Примечания
1
«Аамулехти» — выходящая в Тампере на финском языке влиятельная ежедневная газета. (Здесь и далее примеч. перев.).
(обратно)2
Кансакоулулайнен — ученик народной (начальной) школы.
(обратно)3
Мийна Силланпяя — мать писателя.
(обратно)4
На период летних отпусков штатных репортеров и корреспондентов редакции нанимают временных сотрудников — молодых людей, пробующих силы в журналистике.
(обратно)5
Землячество выходцев из губернии Хяме.
(обратно)6
«Ууси суометар» — газета, одна из крупнейших в Финляндии, впоследствии переименована в «Ууси Суоми».
(обратно)7
19 января — день Хейкки и Хенрика.
(обратно)8
Попурри — финский танец из четырнадцати и более фигур.
(обратно)9
«Будем веселиться, покуда…» (лат.) — зачин средневековой студенческой песни.
(обратно)10
Т. Т. Р. — финская аббревиатура от названия Рабоче-крестьянской партии.
(обратно)11
Имеется в виду пастор Нюман — герой повести Марии Йотуни «Простая жизнь».
(обратно)12
Передвижная школа по начальному обучению грамоте была организована церковью и Финляндии до учреждения народной школы.
(обратно)13
Капланд — старинная мера площади, равная 154,3 м2.
(обратно)14
Альстрём, Розенлёв — крупные финские акционерные общества.
(обратно)15
Армас (фин.) — милый, дорогой, любимый, прелестный. Используется как мужское имя.
(обратно)16
Шюцкор (по-фински suojeluskunta) — полувоенная организация, нечто вроде сил самообороны или национальной гвардии. Запрещена в Финляндии в конце 1944 г.
(обратно)17
«Из Кивеннапы» — ходячее финское выражение, означающее «из очень далеких мест», «из глуши». Кивеннапа — местечко в Карелии (сейчас за пределами территории Финляндии).
(обратно)18
День всех святых отмечается в субботу между 31 октября и 6 ноября как день поминовения всех святых и мучеников.
(обратно)19
Вилкуна Кустаа (Кюести) Феликс (1879–1922) — писатель, борец за независимое и, Финляндии, автор новелл и исторических повестей.
(обратно)20
Традиционная для Финляндии и Швеции рождественская еда: вяленую треску вымачивают перед приготовлением в щелочном растворе. Блюдо обладает специфическим запахом.
(обратно)21
День Тапани — второй день Рождества в Финляндии, в этот день принято было ходить в гости и кататься ни санях.
(обратно)22
День Кнута — день памяти убитого в 1131 г. герцога датского Кнута Лаварда, или короля Кнута Святого, отмечался первоначально на следующий день после Крещения (7 января), а с 1708 г. празднуется 13 января. Особенно активно отмечается в Западной Финляндии как последний день рождественской поры.
(обратно)23
Эпизод из повести Й. Линнанкоски «Борьба за усадьбу Хейккиля».
(обратно)24
Нунна (фин.) — монашка.
(обратно)25
Култаранта (фин.) — Золотой берег, летняя резиденция президентов Финляндии.
(обратно)26
Пиппурираннико (фин.), или Grain Coast (англ.) — район побережья Атлантического океана в Верхней Гвинее.
(обратно)27
— Нет, погоди-ка! (швед.).
(обратно)28
Констебль имеет в виду находившуюся в Турку мужскую тюрьму для опасных преступников, чуть ли не единственную тогда в Финляндии.
(обратно)29
Объявлялись торги, кто возьмет на попечение при самом малом воспомоществовании от общины.
(обратно)
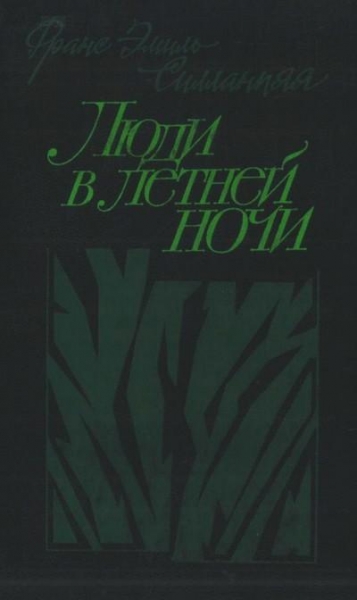


Комментарии к книге «Люди в летней ночи», Франс Эмиль Силланпя
Всего 0 комментариев