Инсургент
Аннотация
Книга рассказывает о драматических событиях создания парижской Коммуны. Это было начало, неудачная попытка, определенный исторический момент, когда народ восстал против угнетателей. Сам Валлес посвятил эту книгу павшим в 1871 году.
Это не столько роман, сколько воспоминания автора о пережитых событиях и встречах, воспоминания о первых литературных выступлениях и политической борьбе, которая в конце концов привела Валлеса на баррикады Парижской Коммуны. Книга не только исключительно острый по содержанию литературный памятник, но и важнейший исторический источник.
Предислoвие[1]
В 1950 году Объединение французских издателей предприняло переиздание «Инсургента» Жюля Валлеса. Попытаемся определить значение этой книги для своего времени, которое сегодня может нам показаться столь отдаленным и безвозвратно ушедшим в прошлое.
Жюль Валлес родился в 1832 и умер в 1885 году. Когда в 1851 году Баденге совершил государственный переворот, ему было двадцать лет. Молодой бакалавр, он живет в Париже и готовится к экзамену на звание учителя. Но уже в это время он выступает против социального строя. Валлес участвует в заговоре молодых республиканцев против кандидата в диктаторы. Отец его, старый преподаватель университета, робкий человек, дорожащий своим местом, упрятал сына в сумасшедший дом. Но заточение длилось недолго. Получив свободу, Жюль Валлес ищет средств к существованию. Найти их было нелегко. На первых порах ему удается получить место преподавателя в коллеже. Но вскоре его оттуда изгоняют, так как он не смог подчиниться дисциплине этого учебного заведения. Он испрашивает себе место в префектуре департамента Сены. Его назначают регистратором в мэрии Вожирар. И вновь ему из-за строптивого нрава вежливо предлагают уйти.
Для Валлеса наступает пора нищенского существования, жизнь богемы, полная превратностей. Он принимает решение стать журналистом. Он пишет и драмы, и романы, и стихи, и статьи, которые отдает в редакцию тогдашних газет и журналов, таких, как «Фигаро» и «Эвенеман». Он обращается за поддержкой к Жирардену и Вильмессану. Он пишет на самые разнообразные темы. В «Фигаро» он ведет отдел биржевой хроники. Биржу он изучил по книге «Деньги». Свои статьи Валлес подписывает: «Литератор, ставший биржевиком». В них мы читаем, что биржа владычествует над Францией и что это хорошо, ибо лихорадка биржевых спекуляций обеспечивает успех промышленности и добродетель — прежде всего дочь благосостояния.
Однако в периодических изданиях, где он сотрудничает, он вскоре отказывается от идей, которые проводил в своих биржевых хрониках. Он помещает свои статьи в газетах, неподвластных правительству империи, таких, как «Ревю Эропеен», «Либерте», «Пресс» и «Эпок». Вскоре он снискал себе известность яркого независимого писателя. Его считают острым, боевым, оригинальным и, несомненно, талантливым публицистом. Но, влекомый своей мятежной натурой, он вел тяжелую и беспокойную жизнь бедняка, богемы и отверженного. Он познал голод, убогие мансарды и всяческие унижения со стороны должностных лиц. Валлес отдается романтическому воспеванию пестрой жизни социальных низов. Сам он принадлежит к их числу. Он повествует о мечтах и невзгодах отвергнутых артистов, отрешенных от должности учителей, изобретателей-неудачников, о горькой участи тех, кто скитается по кабакам и лачугам, ночует под мостом или в заброшенных каменоломнях. Человек большой души, Валлес оплакивает судьбу этих проклятых жертв.
В 1867 году Валлес основывает газету, в которой продолжает выступать в защиту обездоленных, выброшенных обществом людей. В этой газете он безжалостно и открыто нападает на все общественные институты, на освященную государством политику, литературу, искусство, на тех, кого он называет «жрецами литературы, политики, даже революции!»
«Общедоступная и увлекательная газета «Улица» обрушивается на Гюго, на его пьесу «Эрнани», на музыку Россини, на Гонкуров, на правительство. Но после выхода 34-го номера на газету был наложен запрет, и она прекратила свое существование.
В 1869 году Валлес выставляет свою кандидатуру в депутаты от 8-го избирательного округа департамента Сены против кандидата бонапартиста и кандидата республиканца Жюля Симона. Валлес выступает как «кандидат от нищеты». «Сплачивайтесь вокруг меня, в ненависти к порабощению, против солдат, шпиков, священников, сборщиков налогов, чиновников! Вспомните о своих былых поражениях!» — обратился он к избирателям.
Валлес получил 780 голосов против 30 тысяч. После военной неудачи в августе 1870 года правительство прячет его в тюрьму Мазас, но вскоре, захлестнутое дальнейшими событиями, оно его выпускает на волю. В дни Коммуны Валлес входит в секцию Интернационала. 31 декабря он во главе батальона национальной гвардии. Он начинает выпускать боевую газету «Крик народа», которая вскоре становится главным печатным органом Коммуны. В своих статьях он поднимает дух сопротивляющихся коммунаров, пробуждая в них отчаянную энергию. Когда к 16 мая все уже кажется безнадежным, Валлес заявляет, что приняты все меры, чтобы ни один версальский солдат не вошел в Париж. «Париж готов на все, но только не к сдаче». Что касается Валлеса, то сам он дерется до последнего часа. Он в рядах последних бойцов баррикад XI округа. Дважды версальцы объявляли, что он расстрелян, но, преследуемый ими, он бежал после тех драматических событий, о которых он вспоминает в «Инсургенте».
Жюль Валлес оказывается в Бельгии, затем в Швейцарии, потом в Лондоне — в городе, где он обосновывается вплоть до 1880 года, когда пробил наконец час амнистии. В Англии он живет бедно, изредка публикуя статьи и художественные произведения в немногочисленных республиканских органах парижской прессы.
Вернувшись в Париж, он вместе со Стефаном Пишо и Камиллом Пеллетаном сотрудничает в «Жюстис» Клемансо.
В 1882 году в прогрессивном журнале «Нувель Ревю» Жюль Валлес печатает «Инсургента». Он с гневом пишет в «Ревей» о Гамбетте, который предал своих избирателей.
В 1883 году он возобновляет издание газеты «Крик народа», которая становится главной революционной газетой Франции. К сотрудничеству в газете он привлекает социалистов всех школ, публицистов всех направлений, вплоть до анархистов.
«Крик народа» принимает участие во всех выступлениях социалистов на этом этапе рабочего движения нашей страны. В частности, газета резко выступает против колониальных захватов в Тунисе и Тонкине. Она поддерживает мощные забастовки шахтеров Анзена и Деказвилля. Напомним, что участие в газете Жюля Геда придало ее замечательным выступлениям особую силу. Главная заслуга Жюля Валлеса состояла в том, что он предоставил Геду ведущее место в своей газете. Можно сказать, что сотрудничество гедистов способствовало тому, что «Крик народа» стал таким влиятельным органом рабочего класса Франции, которого до того времени у него не было.
Умер Валлес сравнительно молодым (ему было 52 года), через два года после основания газеты «Крик народа».
Трудовой Париж устроил ему торжественные похороны. Свыше ста тысяч тружеников провожали на кладбище Пер-Лашез «кандидата нищеты», «депутата расстрелянных».
Так народ Парижа выразил заслуженную признательность человеку большого сердца, искреннему другу рабочих, славному бойцу Коммуны, большому революционному писателю.
В 1950 году не найдется коммуниста, который не присоединился бы к этим волнующим проявлениям благодарности. Справедливости ради надо сказать, что в современную эпоху социальная революция требует от своих борцов, своих инсургентов знания теории, овладения методом, выработки стратегии, наличия организаций — всего того, что, увы, недоставало лучшим представителям старшего поколения, тем коммунарам, которые с готовностью шли на любые жертвы.
Жюль Валлес гордился тем, что он непокорный одиночка, готовый на любые жертвы, противник всякой теории, всякой организации, всякой дисциплины.
Он был непокорным бунтарем-одиночкой. Он считал себя свободным солдатом «без номера на фуражке». «Не говорите мне, — писал он, — о коллективизме, анархизме, о всяких теориях. Не говорите мне о гуманных и всечеловеческих концепциях Маркса... К чему неясные доктрины? Я не хочу располагаться бивуаком, когда передо мной простирается поле революционных битв. Я не хочу ходить в жизни под номером».
«Инсургент» запечатлел начало, неудачную попытку, определенный исторический момент, когда народ восстал против угнетателей. Этот исторический момент не преходящ.
Советский народ, продолжая дело Коммуны, показал революционерам XX века, каким глубоко научным методом современные инсургенты должны овладеть, чтобы привести пролетариат к победе. Этот новый метод позволил им взять реванш за поражение Коммуны. Отныне в мире многомиллионные массы сплоченного пролетариата готовят окончательную победу, которую не удалось одержать нашим отцам — героям 1871 года.
Марсель Кашен
ИНСУРГЕНТ[2]
Павшим в 1871 году
Всем жертвам социальной несправедливости, тем, кто с оружием в руках восстал против несовершенного мира и образовал под знаменем Коммуны великую федерацию страданий, — посвящаю эту книгу
Жюль Валлес
Париж, 1885 г.
I
А ведь правы были, пожалуй, красные колпаки и черные пятки[3] из Одеона, утверждая, что я жалкий трус!
Вот уже несколько недель, как я занимаю должность классного надзирателя в лицее и не испытываю ни горя, ни печали. Я не возмущаюсь, и мне ничуть не стыдно.
И напрасно я ругал когда-то школьные бобы. Здесь они, по-видимому, гораздо вкуснее, — я уничтожаю их в огромном количестве и дочиста вылизываю тарелку.
А на днях, среди глубокого молчания столовой, я даже крикнул, как, бывало, у Ришфё:
— Человек, еще порцию!
Все обернулись и засмеялись.
Смеялся и я. Постепенно я начинаю приобретать безразличие прикованного к тачке каторжника, цинизм арестанта, примирившегося со своим острогом... Еще немного — и я потоплю свое сердце в полуштофе здешней кислятины, полюблю свое корыто...
Я так долго голодал! Так часто туго-натуго стягивал ремнем живот, желая заглушить рычащий в нем голод: так часто тер его без всякого проблеска надежды на обед, что теперь с наслаждением медведя, забравшегося в виноградник, размягчаю горячими соусами свои пересохшие кишки.
Это почти так же приятно, как зуд заживающей раны.
Как бы то ни было, у меня уже не прежние впалые глаза, лицо утратило зеленоватый оттенок, и в бороде моей часто можно найти застрявшие кусочки яйца.
Прежде я не расчесывал своей бороды; я лишь дергал и теребил ее при мысли о своем бессилии и о своей нищете.
А теперь я ее холю, слежу за ней... так же, как и за своей шевелюрой. А в прошлое воскресенье, стоя перед зеркалом без рубашки, я с удивлением и не без гордости заметил, что у меня отрастает брюшко.
У отца моего было больше мужества. Я помню, какой ненавистью сверкали его глаза в пору его учительства, — а ведь он не разыгрывал из себя революционера, не жил в эпоху восстаний, не призывал к оружию, не проходил школы мятежей и дуэлей.
А я прошел через все это — и вот угомонился, обретя в этом лицее покой богадельни, обеспеченное пристанище, больничный паек.
Один старый фарейролец, участник Ватерлоо, рассказывал нам однажды, как он в вечер битвы, проходя мимо кабачка, в двух шагах от Ге-Сента, бросил ружье и, повалившись на стол, отказался идти дальше.
Полковник назвал его трусом.
«Пусть я трус! Для меня нет больше ни бога, ни императора... Я голоден и изнываю от жажды!»
И он черпал жизнь в буфете этой харчевни, неподалеку от груды наваленных трупов, и никогда, по его словам, он не ел с большим аппетитом, никогда мясо не казалось ему таким вкусным, вино — таким освежающим. Наевшись, он положил под голову походный мешок, растянулся на земле, и вскоре его храп смешался с ревом пушек.
Мой дух засыпает вдали от битв и шума. Воспоминания прошлого звучат в моей душе, как дробь барабана в ушах дезертира: все тише и тише, по мере того как он удаляется.
Что удивительного? — Скитаться в течение целого ряда лет по меблирашкам; довольствоваться любой дырой для ночлега, да еще залезать в нее только глубокой ночью из страха перед бессонницей и хозяйкой; нуждаться больше, чем кто-либо другой, в деревенском воздухе, а дышать миазмами крытых свинцом мансард; обладать аппетитом и зубами волка и быть вечно голодным — и вдруг... в одно прекрасное утро очутиться с едой, с чистой скатертью, постелью без клопов, пробуждением без кредиторов...
Дикий Вентра перестал неистовствовать; он сидит, уткнувшись носом в тарелку, у него своя салфетка с кольцом и прекрасный мельхиоровый прибор.
Он даже, наравне с другими, читает Benedicite[4], и с таким смиренным видом, что приводит в умиление начальство.
Покончив с едой, он возносит благодарение богу (конечно, по-латыни), засовывает руку за спину и распускает пряжку жилета; затем расстегивает одну пуговицу спереди и снова запахивает редингот, доставшийся ему по наследству и неуклюже пригнанный на его рост. Потом, с набитым желудком и жирными губами, направляется во главе вверенного ему класса к широкому двору «для старших», возвышающемуся над окрестностью, подобно террасе феодального замка.
Здесь в известные часы дня небо кажется мне покрывалом из тонкого шелка, и ветерок, точно легкое прикосновение крыльев, щекочет мне шею.
Никогда не наслаждался я такой безмятежностью и покоем.
Вечер
Маленькая комнатка в конце дортуара, где классные надзиратели в свободное время могут читать или предаваться мечтам, выходит окнами прямо в поле; оно изрезано ручейками, там и сям виднеются купы деревьев.
Ветерок доносит запах моря, который как бы оставляет привкус соли на губах, освежает мои глаза, успокаивает сердце. И оно только слегка трепещет, это сердце, в ответ на призыв моей мысли,— так трепещет занавеска на окне от дуновения ветра.
Я забываю свое ремесло, забываю сорванцов, к которым приставлен... но забываю также и нужду и восстания.
Я не поворачиваю головы в сторону бушующего Парижа, не ищу на горизонте дымного пятна, указывающего на поле битвы. Нет! Там, далеко-далеко, я обнаружил группу ив и цветущий фруктовый сад, и на них я устремляю свой растроганный, кроткий, как никогда, взгляд.
Да, приятели из Одеона правы: «Жалкий трус!»
Выйдя из лицея, я сразу же попадаю на спокойные, сонные улицы, а через сто шагов — я уже на берегу ручья. Без мыслей иду вдоль него, лениво поглядывая на листву деревьев или на пучок травы, уносимый течением и борющийся со всякими препятствиями по пути.
В конце дороги — небольшой трактир с гирляндой сушеных яблок вместо вывески. За несколько су я пью здесь золотистый сидр, слегка бьющий в нос.
Да, у меня нет ни стыда, ни совести!
Но у меня не было и удачи...
По счастливой случайности, лицей полон воздуха и света. Это — бывший монастырь, с огромными садами, с широкими окнами. В трапезную проникают солнечные лучи; в открытые окна дортуара доносится шелест листвы и трепет уже тронутой осенью природы, с ее теплыми тонами бронзы и меди.
Я не мог не понравиться ученикам, привыкшим иметь дело или с совсем неопытными, только что соскочившими со школьной скамьи надзирателями, или же со старыми, «заслуженными», еще более глупыми, чем казарменные дядьки.
Они приняли меня вроде как офицера нерегулярной армии, случайно призванного после смерти отца, старого служаки с нашивками; к тому же меня окружал ореол парижанина. Этого было вполне достаточно, чтобы юные узники не возненавидели меня.
Коллеги мои тоже нашли меня добрым малым, хотя и слишком скромным. Сами они проводили все свободное время в маленьком кафе, сыром и темном, где до одурения тянули пиво, пили кофе с коньяком и посасывали трубки.
Я не пью и не курю.
Весь свой досуг я провожу в пустом классе, у камина, с книжкой в руках или же на уроках философии с тетрадкой на коленях.
Преподавателю — он зять самого ректора — лестно видеть на своих уроках чернобородого парижанина с независимым видом, который, точно школьник, сидит на скамье и слушает лекцию о душевных способностях. Эти «способности» сыграли уже со мной штуку, когда я держал на бакалавра; не хватало еще, чтобы они подвели меня на следующем лиценциатском экзамене. Мне необходимо наконец знать, сколько их насчитывается в Кальвадосе: шесть, семь, восемь... больше или меньше!
И я прилежно посещаю уроки, чтобы быть в курсе местной философии.
15 октября
Сегодня начало занятий на словесном отделении; вступительную лекцию прочтет профессор истории.
Да я же знаю его, этого профессора!
Будучи студентом третьего курса Нормальной школы, он преподавал нам в лицее Бонапарта риторику как раз в ту пору, когда я изучал ее.
Это было в 1849 году,— и, я помню, у него срывались тогда смелые, революционные фразы. Я даже вспоминаю, что он приходил в кафе вместе с Анатоли[5] (он был знаком с его старшим братом) и что однажды, услышав, как я за соседним столиком разносил Беранже, он повернул голову в мою сторону.
Фамилия моя, конечно, тут же улетучилась из его памяти, но он запомнил мое лицо. Случай этот он тоже не забыл, и, когда я после лекции подошел к нему, он сразу узнал меня.
— Ну, что поделываете? Я слышал, что вас не то сослали, не то убили на дуэли...
Я признался ему, что приспособился к обстановке, примирился со своей участью, доволен дисциплиной и что меня вполне удовлетворяет эта жизнь, — пробочник для сидра в одной руке, ложка — в другой, глаза устремлены на тихую гладь реки...
— Черт возьми! — проговорил он тоном врача, услыхавшего о дурных симптомах. — Заходите ко мне, потолкуем. Я буду рад отдохнуть хоть немного от всех этих глупцов и ничтожеств.
И он жестом указал на директора и на группу своих коллег.
И это говорит преподаватель, пользующийся милостями всего начальства!
Зачем только я его встретил!
Я жил спокойно, чудесно отдыхал; он снова взбудоражил меня, и, когда в воскресенье я расстегиваю за десертом пряжку и увиливаю от волнующих разговоров, он тормошит меня:
— Надеюсь, вы не собираетесь обратиться в буржуа и разжиреть. Уж лучше я предпочту выслушать от вас еще несколько оскорблений за мой июньский крест[6].
Я действительно в первое же мое посещение наговорил ему много оскорбительного по поводу его ордена и хотел сразу же уйти.
Он удержал меня.
«Мне было тогда всего двадцать лет... я оказался в толпе учеников нашей Нормальной школы... Не уясняя себе значения этого восстания, я стал на сторону Кавеньяка[7], считая его республиканцем, и первым вошел на площадь Пантеона, где забаррикадировались блузники. Мне поручили сообщить об этом в Палате, и там мне нацепили эту ленточку. Но, клянусь вам, я никого не убил, а нескольким повстанцам даже спас жизнь, рискуя своей собственной. Останьтесь!.. Вы хорошо знаете, что человек может измениться, поскольку сами признались, что и вы уже не тот...»
Он протянул мне руку, я пожал ее, и мы стали друзьями.
Я заслужил также расположение одного из его коллег, седовласого папаши Машара. Пережив свою славу в Париже, он похоронил себя в провинции.
— Который из вас Вентра? — спросил он, обращаясь к репетиторам, собравшимся на вторую годовую конференцию.
Я отделился от группы.
— Откуда вы? Где получили образование?.. В Париже? Держу пари, что вы что-то окончили!
И он заставил меня прочесть вслух мою конкурсную работу.
— Да вы — писатель, сударь! — неожиданно выпалил он и, уходя, заставил меня проводить его до дверей своего дома. Дорогой я рассказал ему свою историю.
— Так, так! — сказал он, покачав головой. — Если б это зависело только от господина Лансена и от меня, то вы уже в августе были бы лиценциатом. Но удержитесь ли вы до тех пор? Оставит ли вас директор? Вы производите впечатление независимого человека, а ему нужны лакеи...
— Я уж и так стараюсь быть незаметным, приспособиться... Я решил пойти на унижения...
— Возможно, что вы и стараетесь, но ведь сразу видно, что вы собой представляете, и все эти ничтожества понимают ваше презрение к ним.
Старый учитель был прав. Не к чему мне было прикидываться смиренным, отращивать брюшко и читать Benedicite.
Факультетские святоши, директор и священник лицея решили выжить меня. Моя жесткая борода, мой открытый взгляд, стук моих каблуков — при всей легкости шагов — оскорбляют их бритые подбородки, бегающие глаза, их шаркающую походку.
Меня нельзя было обвинить в небрежном отношении к обязанностям или в пьянстве, и вот эти иезуиты придумали другое.
Они решили организовать заговор против меня, но так, чтобы он шел снизу.
Полночь
Дортуар, где я при свече корпел над своей работой, стал местом засады заговорщиков.
Уже само это здание монастырского типа располагало к бунту. Некогда каждый монах имел здесь отдельную открытую сверху келью. Теперь их занимают ученики. И так как внутренность этих «боксов» не видна, то надзиратель, хотя и слышит шум, не может подсмотреть, что делается за перегородками.
Однажды вечером в этих деревянных стенах вспыхнул бунт: стук в перегородки, свист, хрюканье, крики, и такие забавные, что, право, мне самому захотелось принять участие в этом концерте.
И я тоже начал стучать, свистеть, хрюкать и кричать пронзительным фальцетом:
«Долой надзирателя!»
За все время моего пребывания здесь я впервые почувствовал, что живу.
Стоя в одной рубашке посреди комнаты, я стучу подсвечником в ночной горшок, хрюкаю, кричу петухом и не перестаю визжать: «Долой надзирателя!»
Дверь отворяется... Входит директор.
Он так и остолбенел, увидев меня в раздувающейся сорочке, босиком, с горшком в одной руке и подсвечником в другой.
— Вы... вы... разве не слышите? — растерянно пробормотал он.
— ? ? ?
— Не слышите бунта?.. Криков?..
— Крики?.. Бунт?..
Я протер глаза и прикинулся удивленным и сконфуженным... Он прекрасно понял, в чем дело, и ушел, побелев, как фаянс горшка. Больше уж не будет восстания в дортуаре: нечего опасаться.
Я снова улегся, огорченный, что кончилась эта кутерьма.
Мне стало ясно, что я влип. Но, прежде чем меня выгонят, я потешусь над ними.
Случай скоро представился.
Заболел учитель риторики. Как правило, отсутствующего по той или иной причине преподавателя заменяет классный надзиратель.
Так что сегодня вечером мне придется вести урок, взойти на кафедру.
И вот я там.
Ученики ждут с волнением, порождаемым всякой новинкой. Как выпутаюсь я из этой истории, — я, прекрасный оратор, любимец профессуры, «парижанин»?
Я начинаю:
«Милостивые государи!
Случаю угодно, чтобы я заменил вашего почтенного учителя господина Жако. Но я позволяю себе не разделять его взгляда на систему преподавания.
Я держусь того мнения, что не следует ничего изучать, ничего из того, что вам предписывает учебное ведомство. (Движение в центре). Я полагаю, что принесу вам гораздо больше пользы, посоветовав играть в домино, в шахматы, в экарте. Тем, кто помоложе, разрешается насаживать мух на бумажку. (Движение во всем зале.)
Соблюдайте тишину, господа! Я продолжаю. При изучении Демосфена или Вергилия вовсе не требуется шевелить мозгами, но зато, когда надо сделать девяносто или пятьсот, объявить шах королю или насадить на булавку муху, да так, чтобы не причинить ей при этом особых страданий, — вот тогда необходима ясность мысли, и все ваше внимание, конечно, должно быть сосредоточено на невинном насекомом, которое, если можно так выразиться, зондируется вашим любопытством. (Сенсация.) Словом, я хотел бы, чтобы время, которое нам еще остается провести вместе, не было потерянным временем».
Картина!
В тот же вечер я получил отставку.
II
И вот я снова на парижской мостовой с сорока франками в кармане, и не в ладах со всеми учебными заведениями Франции и... Наварры.
Куда направить свои стопы?
Я уже не тот, что прежде, — восемь месяцев провинциальной жизни преобразили меня.
Целых десять лет я жил, как пьяница, который боится похмелья и на другой день после попойки, едва продрав глаза, тянется дрожащей рукой к припасенной заранее бутылке.
Я опьянялся собственным красноречием и чаще всего растрачивал свое мужество по пустякам.
Даже те, кого я, скрывая свои муки, одаривал весельем, чтобы отвлечь их от их горестей, — даже они не поняли меня и не только не были мне благодарны, но считали меня глупым и жестоким. Тупые, презренные люди... им невдомек было, что под иронией я прятал страданье, как прячут язву под фальшивым носом; что тревога грызла мне сердце, когда резкой шуткой я старался заглушить нашу общую скорбь, — так вышибаешь ударом кулака стекло в душной комнате, чтобы дать доступ свежему воздуху.
Стоило мне устраиваться!
Чего успел я добиться с тех пор, как вернулся из провинции?.. Я и сам не знаю. Я вел здесь такую же растительную жизнь, как и там, с той только разницей, что не наслаждался более готовым кормом и свежей подстилкой для спанья.
Неужели я доберусь до могилы, так и не выбившись из мрака, постоянно обороняясь от жизни, без единой битвы при ярком солнечном свете?
Ну что ж! Пусть они кричат об измене, если им угодно!
Я постараюсь продать мои восемь часов в день, чтобы вместе с куском хлеба обеспечить себе и ясность ума.
В конце концов и Арну[8],— а я считаю его порядочным человеком, — тоже сделался чиновником. Мне сказала об этом на днях при встрече Лизетта.
Мое прошение должно быть подкреплено рекомендациями... Придется нарушить еще одну клятву!
Все равно!
Приняв должность надзирателя коллежа, я уже тем самым стал клятвопреступником, и я снова буду им, выклянчивая подписи людей, пытавшихся уничтожить нас Второго декабря[9].
Несчастный! Вместо того чтобы завоевать себе место в жизни, я только потерял почву под ногами, зато нашел у себя несколько седых волос.
Готово! — Один гвардейский генерал, один книготорговец из Тюильри да бывший директор школы, где преподавал мой отец, дали мне рекомендации, по две строчки каждый.
Этого оказалось вполне достаточно, и вот я назначен регистратором на сто франков в месяц в мэрию, которая находится где-то у черта на куличках и имеет довольно жалкий вид.
Прихожу туда, поднимаюсь по лестницам и спрашиваю начальника канцелярии.
Меня принимает сутуловатый человек в очках.
— Хорошо. Вы будете вести запись новорожденных.
Он ведет меня в отдел актов гражданского состояния и передает какому-то чиновнику. Тот осматривает меня с ног до головы, знаком приглашает сесть и спрашивает, хорошо ли я пишу (!!).
— Не особенно.
— Покажите.
Я макаю перо в чернильницу, но погружаю его слишком глубоко и, вытаскивая, сажаю огромную кляксу на странице большой реестровой книги, лежащей перед этим человеком.
Он в диком отчаянии.
— Прямо на имя!.. Придется делать ссылку!
Он кидается к окну, высовывается наружу и, делая какие-то знаки, кричит.
Что такое? Он зовет на помощь? Чувствует приступ удушья? Или, быть может, хочет приказать арестовать меня?
Кто ему отвечает? Доктор? Полицейский комиссар?
Ни тот и ни другой. Это угольщик, виноторговец и акушерка. Пять минут спустя все они врываются в канцелярию и испуганно спрашивают, что случилось.
— А то, что вот этот господин начал свою службу с того, что измазал мою книгу, и теперь вам всем нужно будет расписаться на полях, чтобы ребенок сохранил свое звание.
Он в бешенстве повертывается ко мне.
— Вы слышите? Зва-ни-е! Знаете ли вы по крайней мере, что это такое?
— Да, я изучал право.
— Сомнительно! — говорит он, усмехаясь. — Все они одинаковы... Бакалавры — это гибель для реестров!
Раздается писк, стук грубых башмаков — и снова акушерка, угольщик и виноторговец.
Мой коллега ставит меня прямо перед лицом опасности.
— Опросите заявительницу.
Как взяться за дело? Что нужно говорить?
— Сударыня... вы по поводу ребенка?
Чиновник пожимает плечами и всем своим видом выражает безнадежность.
— А за каким чертом, по-вашему, ей было приходить сюда? Не сможете ли вы хотя бы констатировать... Удостоверить пол...
Удостоверить пол!.. Но как?..
Чиновник поправил очки и с изумлением уставился на меня, как бы спрашивая, не отстал ли я в развитии, или уж настолько наивен, что даже не знаю, как отличить мальчика от девочки.
Жестами даю ему понять, что знаю это прекрасно.
Он облегченно вздыхает и обращается к акушерке:
— Разверните ребенка. А вы, сударь, смотрите. Да подойдите поближе, оттуда вам ничего не видно!
— Это мальчик.
— Еще бы! — замечает с гордостью отец, подмигивая угольщику.
И вот я — кормилица или что-то вроде того.
Из вежливости мне приходится иногда помочь развязать тесемки, вынуть булавки, распеленать младенца и пощекотать ему шейку, когда он слишком раскричится.
К счастью, в пансионе Антетара я приобрел «навык», и скоро я прославился на весь район своей расторопностью, как некогда своим уменьем заправлять детские рубашонки. Честь мне и слава!..
Мои коллеги не блещут умом, но они неплохие люди. В них нет той закваски желчи и недовольства, что бродит в учительской среде, вечно завистливой, трусливой, шпионящей друг за другом.
Они не дают мне слишком сильно почувствовать мое ничтожество; мой коллега хмурился и брюзжал каких-нибудь два дня, не больше.
— Чему вас только учили в коллеже? Латыни? Но ведь она нужна лишь на то, чтобы служить мессу. Лучше научитесь делать нажим, тонкие и толстые штрихи букв.
И он показывает мне, как нужно делать хвостики готических букв и закругления, когда пишешь рондо. Мы даже остаемся иногда после окончания занятий, чтобы совершенствоваться в английском почерке, который дается мне с большим трудом.
Однажды через окно меня увидел старый товарищ, республиканец.
— Было время, ты устраивал восстания, а теперь выводишь прописные буквы!
Да! Но, покончив с прописными буквами, я свободен, — свободен до следующего дня.
Вечер в моем распоряжении, — мечта всей моей жизни! — а если встать пораньше, в одно время с рабочими, так можно еще два часа поработать со свежей головой, прежде чем идти удостоверять пол новорожденных.
Я распеленываю их, но и сам я тоже вышел из пеленок и смогу доказать всякому, кто усомнится, что я — мужчина.
Похороны Мюрже[10]
Я отпросился, чтобы пойти на похороны Мюрже.
Хочу посмотреть на знаменитостей, которые сбегутся толпой, хочу послушать, что скажут на его могиле.
Похныкали, вот и все.
Говорили о любовнице и о собачке, которых покойный очень любил. Вплетали розы в воспоминания о нем, бросали цветы в яму, кропили гроб святой водой, — он верил в бога или был вынужден делать вид, что верит.
Процессию замыкал взвод солдат с ружьями, провожающий обычно тех, кто был награжден орденом Почетного легиона.
Покойный имел крест; это все равно, что медаль слепого, благотворительная контрамарка. Кавалеру ордена Почетного легиона не дадут подохнуть с голоду; если ему не повезет, — ему достаточно подвязать красной ленточкой свою славу, как подвязывают лошадиный хвост.
Задумчивым вернулся я домой и вдруг почувствовал, что все во мне содрогается от гнева. Но потребовалась еще целая неделя, прежде чем я понял, что шевельнулось во мне тогда. Теперь я знаю.
Это — моя книга, дочь моих страданий, шевельнулась у меня под сердцем, когда я стоял у гроба представителя богемы, которого после безрадостной жизни и мучительной агонии хоронили с большой помпой и прославляли на кладбище.
Так за работу же! Вы увидите, на что способен я, когда голод не разрывает моих внутренностей, точно рука деревенской повитухи, которая своими грязными ногтями пытается вырвать из чрева плод.
Я уцелел и напишу историю тех, кто погиб, — несчастных, так и не нашедших себе места в жизни.
И я буду считать, что достиг цели, если этой книгой посею возмущение так, что никто не заметит и не заподозрит, что под лохмотьями, которые я развешу, как в тюремном морге[11], скрыто оружие для тех, кто сохранил еще гнев в душе, кого не победила нищета.
Они выдумали мирную и трусливую богему, а я покажу им ее отчаявшейся и грозной.
III
Мрачно и уныло в моей тридцатифранковой комнатушке с «видом» на узкий, как кишка, двор, где над кучей мусора торчит голубятня. Оттуда доносится непрерывное, раздражающее меня воркование.
Я только и слышу, что эту надоедливую музыку да рыдания женщины, занимающей рядом со мной темный чуланчик, за который она никак не может заплатить хозяйке. И она все плачет, эта седая учительница... Она нигде не может устроиться и напрасно ищет уроков по десять су.
Несчастная! Как-то вечером я видел, как она за ту же цену предлагала свои старушечьи ласки служителям госпиталя Валь-де-Грас и приоткрывала кофточку, чтобы дать потрогать свою грудь.
Я хотел бы выбраться отсюда: мне кажется, что проникающий сквозь перегородку воздух отравляет мою мысль.
Но я вынужден остаться и даже не помышлять о перемене квартиры, иначе пропадут деньги, внесенные за две недели. Я регламентировал свою жизнь, — моя расходная книга здесь, рядом с книгой воспоминаний, — и бюджет мой незыблем. Мне остается только склониться над бумагой и заткнуть уши ватой, чтобы не слышать горьких всхлипываний старой учительницы и нежного воркования горлинок.
Одна из них часто прилетает на окно моей соседки за хлебом, накрошенным руками этой несчастной, — руками, сохранившими еще запах потных ласк санитаров...
В коллеже голубь был для нас птицей, которая олицетворяет собой наслаждение и гордо восседает на плече богини или поэта. Здесь же он охорашивается под окном потаскушки и точит свой клюв о ее окно. Gemuere раlumbae[12].
Я встаю в шесть часов утра, укутываю ноги остатками своего пальто, — с пола несет холодом, — и пишу до момента ухода в мэрию.
С пяти часов я снова за работой, но не позже как до восьми. Мне страшно оставаться вечером в этой конуре на улице Сен-Жак, недалеко от перекрестка, где прежде действовала гильотина, поблизости от военного госпиталя, почти рядом с приютом для глухонемых. Поистине невеселое окружение!
«Зато, став у окна, ты можешь видеть Пантеон, где будешь покоиться, если станешь знаменитостью», — насмешливо заметил Арну, пришедший как-то навестить меня.
Я не думаю о Пантеоне, не мечтаю стать знаменитостью, не стремлюсь к бессмертию после смерти, — я хочу жить, пока я жив!
Мне как будто начинает удаваться это, но мой жизненный путь еще достаточно непригляден и печален.
Соседка моя обнаглела. Она напивается, приводит к себе мужчин, и они пьют вместе с ней.
Как-то раз один из этих пьяниц отказался заплатить и хотел избить ее; она стала звать на помощь.
Я прибежал и отдернул руку пьяницы, — он уже схватил нож, лежащий на тарелке с сыром, и собирался всадить его женщине в живот. Я вытолкал его за дверь и запер ее за ним. Больше четверти часа он ломился в нее, крича: «Выходи, каналья!»
Учительницу, конечно, выгнали, хотя, как сказала с некоторым сожалением хозяйка: «Она хорошо платила последние две недели». Теперь одни только голуби милуются и оставляют следы перед моим окном, не находя больше крошек на окне соседки.
Работа моя, однако, почти не подвигается: в комнате у меня стужа, а чтобы разжечь кучу каменного угля, приходится тратить много времени. Стуча зубами, я жгу спичку за спичкой, и, если наконец отваживаюсь сесть за стол, так и не растопив камина, мало-помалу дрожь охватывает меня с ног до головы и мысли улетучиваются.
После долгих раздумий я отправился в библиотеку св. Женевьевы поискать в книгах указаний на способы растопки, избавившие бы меня по утрам от длительного стояния босиком, в одной рубашке, перед камином, полным дыма, а не огня.
Но я сел на мель, а между тем дует северный ветер. Вот уже больше недели, как я не работаю, — разве только делаю заметки карандашом, чуть-чуть высунув пальцы из-под одеяла.
Я было попробовал писать в библиотеке. Но если дома я страдал от холода, то там изнывал от жары. В этой удушливой, влажной атмосфере мои мысли размягчаются и обесцвечиваются, как кусок мяса в кипящем котелке, и я начинаю дремать, склонившись над чистым листом бумаги. Сторож бесцеремонно будит меня.
Неужели я не одолею моей книги до весны?
Так нет же, нет! Лучше оказаться несостоятельным должником...
Я только что вышел из магазина Дюламон и К°, где за меня поручился бывший коллега моего отца, обучающий детей латыни.
Мы заключили сделку на халат из монастырского драпа, длинный, с капюшоном и шнуром. Мне вручат его через неделю при уплате половины его стоимости; вторая половина должна быть внесена в конце следующего месяца. Всего: шестьдесят франков.
До получения халата я слоняюсь, ничего не делая.
Наконец он готов.
— Получите ваши тридцать франков!
Посыльный сует их в карман и исчезает, а я немедленно облачаюсь в мою шерстяную рясу.
Ты, мастер, скроивший ее, и ты, купец, продавший мне ее, вы даже не подозреваете, что вы сделали! Вы дали будку часовому армии — той армии, что вам еще покажет себя!
Если б не эта хламида, я, быть может, отступил бы перед черной пастью нетопленного камина, сбежал из моей ледяной конуры, махнул на все рукой — не написал бы своей книги.
Срок платежа приближается. Он назначен на тридцатое, а сегодня уже двадцать второе.
Воспользовавшись тем, что было воскресенье и не нужно было идти в мэрию, я решил закончить работу и переписать ее.
Скорей! Перечитываю еще раз... Ножницы, булавки!.. Вычеркнуть здесь, прибавить там!
Я исчеркал всю рукопись. Отдельные отрывки напоминали черные повязки на глазу или синяки на теле. Я обрезался ножницами, искололся булавками. Капельки крови забрызгали страницы. Эту рукопись положительно можно было принять за воспоминания какого-то убийцы-тряпичника.
Но ведь купец не станет ждать. Он явится ко мне в мэрию, предъявит мою расписку, поднимет шум, и меня уволят. Я теперь чиновник и должен относиться с уважением к своей подписи, дабы не компрометировать правительство; ведь не затем платит оно мне 1500 франков в год, чтобы я жил, как нищий.
Три часа. Звонят к вечерне. В доме тишина, — слышен только кашель чахоточного, выплевывающего остатки последнего легкого.
Как ужасно быть безвестным, бедным и одиноким!
Четверть, половина четвертого!
Я закрыл глаза рукой, чтобы не заплакать. Впрочем, нет, теперь не время распускать нюни. А мой долг?
Необходимо попасть к главному редактору «Фигаро», проникнуть к нему в квартиру. В течение недели его невозможно поймать ни в редакции, ни при выходе из нее, да, кроме того, не очень-то охотно выслушивают в таких местах незнакомых людей.
Но примет ли он меня? Ведь сегодня день его отдыха. Говорят, он очень любит своих детей, а потому, естественно, хочет спокойно забавляться с ними и не потерпит, чтобы ему надоедали в его свободное время.
Э, тем хуже!
Как дрожат мои ноги, пока я поднимаюсь по лестнице.
Звоню.
— Могу я видеть господина Вильмессана?[13]
— Его нет. Он уехал за город и вернется не раньше, как недели через две.
Уехал!.. Но тогда я пропал!
Горничная, очевидно, прочла отчаяние на моем лице.
К тому же она видит кончик свернутой трубочкой смятой рукописи, которая словно корчится от мук в глубине моего кармана.
Она не захлопывает у меня перед носом дверь и наконец решается сказать, что вместо Вильмессана дома его зять и что, если я назову себя, она доложит обо мне и даже передаст то, что я принес.
Говоря это, она указывает глазами на мою рукопись, скрепленную булавками, торчащими, как иглы у ежа. Я вытаскиваю сверток и подаю его так, чтобы она не укололась. Горничная сочувственно улыбается и уходит, держа сверток в вытянутой руке.
Меня оставляют одного по крайней мере на четверть часа. Наконец дверь открывается.
— А ваша рукопись здорово кусается, сударь, — говорит лысый толстяк, потряхивая толстыми, как сосиски, пальцами.
Я бормочу извинения.
— Ничего! Я видел заглавие, прочитал несколько строчек, — публику это тоже укусит! Мы напечатаем ваш очерк, молодой человек! Но придется немного подождать, — это чертовски длинно!
Подождать? Право же, я никак не могу ждать.
— Я должен завтра же, — объясняю я ему, — уплатить карточный долг, вот почему я и осмелился прийти прямо сюда...
— Э, э! Так вы заигрываете с дамой пик? Прикупаете к пяти?
Я понятия не имею, что значит «прикупать к пяти», но надо же что-нибудь ответить, и я глухо изрекаю:
— Да, милостивый государь, прикупаю к пяти!
— Черт возьми! Ну, и аппетит у вас!
Огромный. Я часто замечал это, особенно в те дни, когда приходилось голодать.
— Вот записка к кассиру. Предъявите ее завтра, и вам выдадут сто франков. Это — высокая цена, но ваша статья с огоньком. До свидания!
С огоньком?.. Очень может быть!
Я не старался, чтобы, как это учат в Сорбонне, то, что я писал, походило на труды Паскаля или Мармонтеля, Ювенала или Поля-Луи Курье, Сен-Симона или Сент-Бёва; я не церемонился с образными выражениями, не боялся неологизмов, не соблюдал несторианского порядка, приводя доказательства.
Я взял куски моей жизни и сшил их с кусками жизни других людей. Смеялся, когда мне было смешно, скрежетал зубами, когда воспоминания об унижениях точно соскабливали мясо с моих костей... так соскабливают мякоть с косточки отбивной котлеты, и кровь тихо сочится из-под ножа.
Зато я спас честь целого батальона молодых людей, прочитавших «Сцены из жизни богемы» и поверивших в это розовое беспечное существование. Я громко бросил правду в лицо этим жертвам обмана.
И если они все-таки захотят отведать этой жизни, значит они только на то и годны, чтобы быть завсегдатаями кабаков да дичью для Мазаса. К тридцати годам, доведенные до отчаяния, они кончат жизнь самоубийством или безумием, попадут в лапы больничной сиделки или тюремного сторожа и либо умрут раньше времени, либо в свое время покроют себя позором.
Я не стану их жалеть! Разве не сорвал я бинты со своих ран, чтобы показать им, какие опустошения производят в человеческой душе десять лет потерянной молодости!
IV
Сейчас мода на публичные лекции: Бовалле[14] прочтет «Эрнани» в Казино-Каде.
Торжественное заседание! Great attraction![15] Это своего рода протест против империи в честь поэта, написавшего «Возмездие»[16] *.
Но, как и в цирке, здесь нужен еще артист рангом пониже, клоун или обезьянка, один из тех, что появляются на арене после главного номера, когда публика уже одевается и разъезжается.
Мне предложили роль этой обезьянки — я согласился.
В какой обруч буду я прыгать? Выбираю и предлагаю тему: «Бальзак и его творчество».
Истории Растиньяка, Сешара и Рюбампре крепко засели у меня в мозгу. «Человеческая комедия» является часто драмой жизни: здесь хлеб и одежда, взятые в кредит или в рассрочку, и муки голода, и страх перед взысканием по векселю. Не может быть, чтобы я не нашел захватывающих слов, говоря об этих героях, — моих братьях по честолюбию и страданиям!
День представления настал, — имена знаменитости и обезьянки красуются в программе рядом.
Народу будет много. Придут стариканы 48-го года, чтобы обрушиться на Бонапарта, как только они почуют в каком-нибудь полустишии республиканский намек. Будет присутствовать и вся молодая оппозиция: журналисты, адвокаты, «синие чулки», которые своими подвязками удушили бы императора, попадись только он в их розовые коготки, и которые вырядятся для битвы в свои праздничные шляпки.
Но уже издали я вижу, как перед входом в Гранд-Орьен толпится публика вокруг человека, наклеивающего на афишу свежую полосу.
Что случилось?
Оказывается, чтение драмы Гюго запрещено, и организаторы извещают, что «Эрнани» будет заменен «Сидом».
Многие уходят, пробормотав пренебрежительно три слога моего имени и фамилии... ничего им не говорящих.
— Жак Вентра?
— Не знаю такого.
Никто не знает меня, кроме нескольких журналистов, завсегдатаев нашего кафе. Они пришли нарочно и остаются, чтобы посмотреть, как я выпутаюсь, рассчитывая на то, что я провалюсь или учиню скандал.
Пока там читают александрийские стихи «Сида», я захожу в ближайшую пивную.
— Твоя очередь! Сейчас тебе выступать!
Я едва успеваю взбежать по лестнице.
— Вам! Вам!
Пересекаю зал, — и я на эстраде.
Не торопясь, кладу шляпу на стул, бросаю пальто на рояль позади себя, медленно снимаю перчатки и с торжественностью колдуна, гадающего на кофейной гуще, мешаю ложечкой сахарную воду в стакане. А затем начинаю, ничуть не смущаясь, как если б я разглагольствовал в молочной:
— Милостивые государыни и милостивые государи!
………………………………..
Заметив в аудитории дружественные лица, я гляжу на них, обращаюсь к ним, и слова льются сами собой; мой громкий голос разносит их по всему залу.
После Второго декабря я впервые выступаю публично. В то утро я взбирался на скамьи и тумбы, говорил с толпой, призывал ее к оружию, обращался с речами к неизвестным мне людям, которые проходили, не останавливаясь.
Сегодня, одетый в черную пару, я стою перед разряженными выскочками, воображающими, что они совершили акт величайшей смелости, придя сюда послушать чтение стихов.
Поймут ли они меня, да и станут ли слушать?
Эти пуритане ненавидят Наполеона, но они не жалуют и тех, от чьих слов несет больше порохом Июньских дней, чем порохом государственного переворота. Седоусые весталки республиканской традиции, все они — подобно Робеспьеру и его подражателям, их предкам, — являются строгими Бридуазонами[17] классического образца.
Присутствующие здесь и читавшие меня раньше педанты в белых галстуках совершенно сбиты с толку моими беспорядочными нападками, направленными не столько на бюст Баденге[18], сколько на все гнусное современное общество. Негодное, оно бросает одни лишь свинцовые пули на борозды, где корчатся в муках и умирают от голода бедняки, — кроты, которым плуг обрезал лапы. И они даже не могут разорвать мрак своей жизни одиноким криком отчаяния!
Но не отчаяние, а скорее презрение переполняет сейчас мое сердце и зажигает фразы, которые я и сам нахожу красноречивыми. Я чувствую, как они сверкают и разят среди всеобщего молчания.
Но они не пропитаны ненавистью.
Я не бью тревогу, я зову к атаке! Я дерзок и насмешлив, как барабанщик, ускользнувший от ужасов осады и очутившийся на свободе. Он смеется над неприятелем, плюет на приказы офицера, и на устав, и на дисциплину, бросает в канаву форменную фуражку, срывает нашивки и с увлечением балаклавских музыкантов бьет зорю иронии.
Честное слово, воспользовавшись случаем, я, кажется, выскажу им все, что душит меня!
Я забываю мертвого Бальзака и говорю о живых, забываю даже нападать на империю и размахиваю перед этими буржуа не только красным, но и черным знаменем[19].
Я чувствую, как взлетает моя мысль, легкие расширяются, я дышу наконец полной грудью, трепещу от гордости и испытываю почти чувственное наслаждение во время своей речи. Мне кажется, что сегодня впервые свободны мои жесты и что, насыщенные моей искренностью, они захватывают всех этих людей, которые тянутся ко мне с полуоткрытыми губами, впиваясь в меня напряженным взором.
Я держу их всех в своих руках и обращаюсь с ними по воле вдохновения.
Почему они не возмущаются?
Да потому, что я сохранил все свое хладнокровие и, чтобы расшевелить их мозги, действовал оружием, замаскированным наподобие кинжала греческих трагедий. Я забросал их латынью, говорил с ними языком «великого века», и эти идиоты позволили мне высмеивать свою религию и принципы потому лишь, что я воспользовался для этого языком, чтимым их риторикой, языком, на котором разглагольствуют адвокаты и профессора гуманитарных наук. Между двумя периодами в духе Вильмена[20] я вставляю резкое и жестокое словцо бунтаря и не даю им времени опомниться.
Некоторых из них я просто терроризирую.
Только что колкой фразой я вскрыл, точно ржавым ножом, один из их предрассудков. Я увидел, как целая семья возмутилась и раскричалась, как отец стал искать свое пальто, а дочь — поправлять шаль. Тогда я сурово поглядел в их сторону и грозным взглядом пригвоздил их к скамье. Испуганные, они снова уселись, а я чуть не прыснул со смеху.
Но пора кончать. Мне остается сказать заключительное слово, и я быстро разделываюсь с ним.
Стрелка обошла свой круг... Предоставленный мне час кончился, — жизнь начинается!
В течение суток обо мне говорили в редакциях нескольких газет и в кафе на бульварах. Этих суток вполне достаточно, если я действительно чего-нибудь да стою. Я вышел из неизвестности, освободился из тисков.
Славный все-таки выдался денек! Я смыл слюной своего красноречия весь шлак последних лет, подобно тому, как кровь Пупара[21] смыла грязь нашей юности.
Этот случай мог бы никогда мне не представиться. И, уж конечно, он ускользнул бы от меня, останься я на том берегу и не посещай я кафе, куда ходили несколько честолюбивых писак.
Но то, что я обедал за этим табльдотом и. выпивал иногда, а опьянев, говорил увлекательно и смело; то, что, освободившись от убийственной и нудной работы, я мог проводить время с этими бездельниками, — помогло мне выйти из неизвестности и получить возможность действовать.
Иногда приходилось, конечно, разменять луидор на угощение, но... он бывал у меня теперь в дни получки жалованья.
Как благословляю я тебя, моя скромная должность в 1500 франков! Ты позволяла мне тратить по десять франков в первые дни месяца и по три франка в остальные; ты придавала мне вид добропорядочности и в силу этого доставляла уроки по сто су за час, между тем как до того мне платили по пятидесяти сантимов за точно такие же.
Эта ничтожная должность спасла меня, и только благодаря ей я завтракаю сегодня утром.
Ведь моя лекция не принесла мне ни одного су. Директор щедро расплатился со мной натурой: вчера вечером он угостил меня хорошим обедом.
Но сегодня мой карман пуст: я не был бы беднее, если б меня освистали. Мои перчатки, ботинки, парадная рубашка стоили мне больших денег. Как-то я поужинаю сегодня?
К девяти часам в кишках у меня начало отчаянно урчать. Я отправился в Европейское кафе, где мои товарищи пользуются кредитом, и остановил свой выбор на «баваруазе», потому что к нему полагается булочка.
На другой день я, по обыкновению, отправился в мэрию. Чиновники, увидев меня, высыпали на порог канцелярии.
— В чем дело?
— Господин Вентра, вас требует мэр.
Действительно, уже из коридора, через полуоткрытую дверь зала для венчаний, я увидел, что мэр ждет меня.
Он пригласил меня к себе в кабинет.
— Вы, конечно, догадываетесь, сударь, зачем я вас позвал?
— ?
— Нет?.. Так вот. В воскресенье вы произнесли в казино речь, являющуюся подлинным оскорблением правительства. Так по крайней мере выразился окружной инспектор в своем рапорте префекту. Я со своей стороны должен выразить вам мое удивление по поводу того, что вы компрометируете учреждение, во главе которого стою я, и свое положение, пусть незначительное само по себе, но являющееся для вас, по вашим же собственным словам, единственным средством к существованию. Я должен официально предупредить вас, что впредь вам будут воспрещены публичные выступления, и просить вас подать в отставку.
Не выступать публично — это куда ни шло. В конце концов удар нанесен, и за мной еще даже останется слава преследуемого правительством человека.
Но подать в отставку! потерять мою скромную должность! При этой мысли у меня мороз пробегает по коже. Все газетные статьи, сулящие мне славное будущее, не стоят тарелки супа. А я привык за последнее время к супу, и мне трудно будет выдержать больше одного дня без пищи.
И все-таки нужно было уходить... Я побледнел, пожимая на прощанье руку этому славному человеку, и с грустью оставил мэрию.
Что делать?
Я снова брошен в политику. Но теперь мне нечего бояться, что по моей милости отец лишится места. Семья уже не связывает меня больше, — я сам себе хозяин. Весь вопрос в том, есть ли у меня смелость и талант.
Бедняга! Верь в это и пей воду, отвратительную воду, которую ты так долго лакал из выщербленных кружек меблированных комнат, как бродячая собака из лужи. Несмотря на твой вчерашний триумф, эта вода снова станет твоим каждодневным напитком, если ты захочешь остаться свободным человеком.
Ты думал, что уже вылез из трясины?.. Как бы не так!.. Ты вытащил только голову, но сам еще не выкарабкался.
Жалуйся на свою судьбу! Ты был в агонии, и никто не видел твоих страданий, — а теперь все увидят, как ты будешь подыхать!
Жирарден[22] поручил Верморелю[23] передать мне, что хочет видеть меня.
«Пусть придет ко мне в воскресенье».
Я пошел к нему.
Он заставил меня прождать два часа и совсем забыл бы меня в пустой, погруженной в сумерки библиотеке, если б я не открыл дверь и, поднявшись по лестнице, не ворвался, нарушая приказ, в кабинет, где он отчитывал трех или четырех субъектов; они стояли, опустив головы, и оправдывались, как школьники перед учителем.
Едва извинившись, он продолжал кричать, как на лакеев, на этих людей, хотя у одного или двоих из них были уже седые волосы. А меня он выпроводил одной короткой фразой:
— Я принимаю по утрам в семь часов; если вам угодно — завтра.
Он кивнул головой, вот и все.
Я не ожидал такого сухого приема. Но еще меньше мог предполагать, что мне придется быть свидетелем столь грубого обращения с сотрудниками газеты...
6 часов утра
Мне потребовалось три четверти часа, чтобы добраться до ворот его особняка. Пересекаю двор, поднимаюсь на крыльцо, толкаю большую застекленную дверь и останавливаюсь в затруднении, как если бы очутился на незнакомой улице. Слуги, позевывая, открывают окна, вытряхивают ковры. Я их прошу передать камердинеру Жану, чтобы он доложил обо мне.
И вот я наконец перед ним.
Что за мертвенно-бледная физиономия! Точно маска зловещего Пьерро!
Бескровное лицо престарелой кокетки или старообразного ребенка, и на этой бледной эмали резко выделяются блестящие, холодные глаза.
Настоящая голова скелета, которому озорник студент вставил в глазные впадины две блестящих жестянки и затем, облачив его в халат, похожий на сутану, усадил перед письменным столом, заваленным различными вырезками и раскрытыми ножницами.
Никто бы не поверил, что в халате — человек!
А между тем в этом шерстяном мешке запрятан один из лучших эквилибристов века — весь из нервов и когтей, человек этот в течение тридцати лет всюду совал свой нос, на все накладывал свою лапу. Но, подобно кошке, он неподвижен, пока не учует подле себя добычи, которую можно было бы схватить и исцарапать.
Так вот каков он, этот человек, будораживший умы своими мыслями, которые он бросал каждый день в те времена, когда каждый вечер вспыхивало восстание! Это он схватил Кавеньяка за генеральские погоны и сбросил его с лошади, ринувшейся на Июньские баррикады. Он убил эту славу, как убил уже одного республиканца на знаменитой дуэли[24].
Но ни под его кожей, ни на его руках не видно уж больше следов крови — ни его собственной, ни чужой.
Впрочем, нет, это не голова мертвеца! Это — ледяной шар, на котором нож нацарапал и выскоблил подобие человеческого лица, начертав на нем своим предательским острием эгоизм и отвращение к миру, — чувства, оставившие на этом лице пятна и тени, подобные тем, какие оставляет оттепель на белизне снега.
Эта маска — олицетворение бледности и холода.
Его сплин проник мне в душу, его лед — в мою кровь!..
Я вышел весь дрожа. На улице мне показалось, что вены мои побледнели под смуглой кожей, углы губ опустились и что я смотрю на небо бесцветными глазами.
Впрочем, в моем лице к нему явился неискушенный бедняк. Я заметил, что он сразу угадал это, и почувствовал, что он уже презирает меня.
Я пришел попросить у него указания, совета и, если возможно, предоставить мне местечко на страницах его газеты, где я мог бы высказывать свои мысли и продолжать, с пером в руке, свою боевую лекцию.
Что же он сказал?
Он покончил со мной лаконическим телеграфным языком, двумя ледяными словами:
— Беспорядочно! Нескладно!
На все мои вопросы, порой довольно настойчивые, он отвечал лишь этим монотонным бормотаньем. Ничего другого я не мог вырвать из его сомкнутых уст.
— Беспорядочно! Нескладно!
Встретив вечером Вермореля, я рассказал ему о своем визите и излил перед ним все свое возмущение.
Но он уже успел повидать Жирардена и резко перебил меня:
— Дорогой мой, он берет к себе только таких людей, из которых может сделать лакеев или министров и которые будут отражать его славу... только таких. Он говорил мне о вашем посещении. Хотите знать, что он сказал о вас? «Ваш Вентра? Бедняга, ему нельзя отказать в таланте, но он просто бешеный и во имя своих идей и ради славы захочет играть только на своей собственной дудке: таратати, таратата! Не воображает ли он, что я посажу его с моими кларнетистами, чтобы он заглушал их посвистывание»?
— Так он и сказал?
— Слово в слово.
Расставшись с Верморелем, я отправился домой и всю ночь вспоминал этот разговор, заставлявший меня трепетать от гордости и... дрожать от страха.
Я не уснул ни на минуту. Утром, когда я вскочил с постели, мое решение было принято. Я оделся, натянул перчатки и направился в особняк Жирардена.
Он снял маску перед Верморелем, — я потребую, чтобы он сбросил ее и передо мной, а если он не пожелает, так я сам сорву ее!
— Да, милостивый государь, вы являетесь жертвой вашей индивидуальности и осуждены жить вне наших газет. Знайте, что политическая пресса не потерпит вас; другие так же, как и я. Нам нужны дисциплинированные люди, годные для тактики и маневров... а вы никогда не сможете принудить себя к этому, никогда!
— А как же мои убеждения?
— Ваши убеждения? Они должны считаться с ходячей риторикой и способами защиты, принятыми в данный момент. У вас же свой собственный язык, и вам не вырвать его, если б вы даже захотели. Ничего не могу сделать, ничего! Я не взял бы вас, если б вы даже заплатили мне за это!
— Ну, хорошо, — сказал я в отчаянии, — я не предлагаю вам больше своих услуг в качестве полемиста с красной кокардой. Я прошу принять меня как обыкновенного литературного сотрудника, дать мне возможность продать вам свой талант... поскольку вы находите, что он у меня есть.
Он взялся рукой за свой выбритый подбородок и покачал головой.
— Не подойдет, уважаемый. Когда вы будете исполнять вариации на темы о лесных цветочках или о милосердных сестричках, все равно из вашей свирели будут вырываться трубные звуки. Даже против вашей воли. А вы знаете, что на империю наводят страх не столько смелые слова, сколько мужественный тон. За вашу статью о пикнике в Роменвилле мою газету прихлопнут точно так же, как за статью другого об управлении Руэра[25].
— Стало быть, я осужден на неизвестность и нищету!
— Пишите книги. Да и то я не уверен, что их напечатают и не подвергнут гонениям. А самое лучшее, постарайтесь получить наследство... или же составьте себе состояние игрой на бирже или в карты, либо... устройте революцию. Выбирайте уж сами!
— Хорошо, я выберу!
VI
— Да вы глупы, как свинья! Ах, дети мои, ну не дурень ли этот Вентра! Полюбуйтесь-ка, он уж и нюни распустил оттого, что не может писать статей о социальной революции для жирарденовского заведения. Так вы говорите, что он не хочет даже ваших лесных цветочков? Ну, так я их возьму: сто франков за букетик, каждую субботу.
Это предложение сделал мне Вильмессан, встретив меня на повороте бульвара и осведомившись о моих делах, причем он толкнул меня своим животом и заявил, что я глуп, как свинья.
— Ах, дети мои, что за дурень этот Вентра!
Час спустя я столкнулся с ним случайно на перекрестке; он все еще кричал:
— Ну и дурень, дети мои!
Нечего скрывать, я хотел посвятить политике свою зарождающуюся известность, броситься в гущу битвы...
Жирарден излечил меня от этой мечты.
Однако я не положился на его мнение, не последовал его советам. Я поднимался и по другим лестницам, но и с них спустился ни с чем. Нигде не нашлось места для моих дерзких фраз.
Но все же между строк моих хроник в «Фигаро» мне удается просунуть кончик моего знамени, и в субботние букеты я неизменно подсовываю кровавую герань или красную иммортель, прикрывая их розами и гвоздикой.
Я рассказываю о деревне, о ярмарочных балаганах, перебираю воспоминания о родных краях, о любовных драмах скоморохов, но, говоря о босяках и странствующих комедиантах, я заливаю солнцем их лохмотья, заставляю звенеть бубенцы на их костюмах.
Книга
Подсчитываю страницы, и мне кажется, что труд мой закончен. Ребенок, чей первый трепет я почувствовал в себе на похоронах Мюрже, — этот ребенок появился на свет.
Вот он здесь, передо мной. Он смеется, плачет, барахтается среди иронии и слез, — и я надеюсь, что он сумеет пробить себе дорогу.
Но как?
Люди сведущие твердят в один голос, что толстые книги — «кирпич» и что издатели не желают их больше.
Но я все-таки взял под мышку моего младенца и попытался толкнуться с ним в две-три двери. Нам всюду вежливо предлагали убраться...
Наконец где-то у черта на куличках один начинающий издатель отважился пробежать первые страницы.
— По рукам! Через две недели вы получите корректуру, а через два месяца пустим в машину.
Ноздри мои раздуваются, меня распирает от счастья.
«Пустим в машину». Но ведь это все равно, что на баррикаде команда: «Пли!» Это — ружье, просунутое через полуоткрытые ставни.
Книга скоро появится.
Книга вышла[26].
На этот раз я начинаю думать, что кой-чего добился. Теперь над землей виднеется не только моя голова, — я вылез по пояс, до живота, и надеюсь, что никогда уж больше не буду голодать.
Не очень-то, впрочем, рассчитывай на это, Вентра!
А пока что наслаждайся своим успехом, милый человек! Бродяга, вчера еще никому не известный, — сегодня у тебя есть похлебка в котелке, да еще приправленная лавровым листом.
А книжонка быстро пошла! Малютка оказался решительным, и за его здоровье пьют в кафе на бульварах и в мансардах Латинского квартала. Голытьба узнала одного из своей братии, богема увидела пропасть под ногами. Я спас от постыдной праздности и каторги не одного юношу, спешившего туда по тропинке, которую Мюрже засадил сиренью.
Это чего-нибудь да стоит!
Я и сам мог покатиться по этой дорожке!
При одной мысли об этом меня бросает в дрожь, даже под лучами моей молодой славы...
Моя молодая слава! Я говорю это, чтобы немножко поважничать, но на самом деле не нахожу, чтобы я хоть сколько-нибудь изменился с тех пор, как прочитал в газетах, что появился молодой многообещающий писатель.
Я был больше взволнован во время моей лекции; сильнее потрясен в те дни, когда мне было дано говорить с народом. Там я должен был зажигать трепетавшие рядом со мной сердца; мне стоило только наклонить голову, чтобы услышать их биение; я видел, как мои слова зажигали глаза, впивавшиеся в меня то ласкающим, то угрожающим взглядом... Это была почти что борьба с оружием в руках.
А эти газеты, что лежат на моем столе... они, точно мертвые листья, — не трепещут, не кричат.
Где же грохот бури, которую я так люблю?
Временами мне даже становится стыдно за себя, когда критика отмечает и восхваляет меня только как стилиста, не замечая оружия, скрытого, подобно мечу Ахилла на Скиросе[27], под черным кружевом моей фразы.
Я боюсь показаться трусом и отступником перед теми, кто слышал, как я среди моих нищих собратьев обещал вцепиться в горло врагу в тот день, когда вырвусь из грязных лап нужды и мрака неизвестности.
И вот этот самый враг расточает мне сегодня похвалы.
Признаться, меня не столько радовали, сколько смущали поздравления со стороны людей, которых я презирал.
Подлинное удовлетворение, вызвавшее у меня искренние слезы гордости, я испытал лишь тогда, когда в письмах, неведомо откуда присланных и не знаю как дошедших до меня, я нашел заочные рукопожатия безвестных и незнакомых, растерянных новичков, истекающих кровью побежденных.
«Если б я мог прочесть вас раньше!» — скорбел побежденный. «Что было бы со мной, если б я не прочитал вас!» — восклицал новичок.
Стало быть, я все-таки проник в массу, значит есть за мной солдаты, армия! Целыми ночами шагал я по комнате из угла в угол с этими клочками бумаги в судорожно сжатых руках, обдумывая план нападения на гнилое общество с моими корреспондентами в качестве капитанов.
К счастью, я увидел себя в зеркале: осанка трибуна, суровое выражение лица, совсем как на медальоне Давида Анжерского[28].
Только не это, любезный, — остановись! Тебе не к чему копировать жесты монтаньяров, хмурить брови, как якобинцы. Оставайся самим собой — тружеником и бойцом.
Разве не сладко тебе почувствовать ласку со стороны чужих людей, если твои близкие не поняли, измучили тебя?.. Довольствуйся же этой мыслью и признайся, что ты испытываешь радость оттого, что нашел семью, любящую тебя больше, чем любила твоя родная семья; вместо того чтобы издеваться над тобой и высмеивать твои надежды, она протягивает к тебе руки и приветствует, как приветствуют в деревнях старшего в роде, оберегающего честь родового имени и несущего на себе все его бремя.
Да, вот что переполнило мою душу.
Я почувствовал, что некоторые оценили меня, а я очень нуждался в этом. Ведь так тяжело оставаться, — как это было со мной, — насмешливым и мрачным на протяжении всей своей здоровой молодости!
Среди этих писем мне попалась записочка от женщины:
«И вас никто не любил, когда вы были так бедны?»
Никто!
VII
В редакции «Фигаро» я встретился с одним журналистом, которого знавал когда-то. Еще одна бледная маска, но только с большими ясными глазами, тонкими губами и мраморными зубами; рябая, покрытая рубцами кожа; торчащая, точно железный шпенек волчка, бородка, курчавые растрепанные, как клоунский парик, шелковистые волосы, кончики которых их обладатель постоянно тянул, крутил и завивал своими нервными пальцами. Эта странная голова посажена на плечи, напоминающие вешалку, и втиснута в стоячий воротничок, стесняющий ее движения.
Можно подумать, что эту голову сильным ударом приплюснули к затылку и приладили, точно метелку, к спинному хребту, еще более неподвижному и прямому, чем палка половой щетки.
Костлявый, искривленный, угловатый, так что страшно дотронуться, — того и гляди уколешься!
А между тем я видел, как это лицо ласкали крохотные ручонки.
Когда я встретил его в первый раз, он держал на руках маленькую девочку. Она плакала — мать была не то больна, не то в отъезде, — и он изображал мамашу, вытирал ей слезы.
Глядя на них, у меня самого затуманились глаза.
Я помог ему забавлять девчурку, и она скоро успокоилась и принялась дергать отца за волосы, — смешные волосы, вьющиеся пряди которых пружинили под ее крохотными пальчиками.
В то время Рошфор[29] писал водевили совместно с одним старым шутом. С тех пор он далеко пошел вперед.
Он стал обличителем империи. Своим умом, смелостью, клыками, ногтями, своим вихром, бородкой, — всем, что только есть у него острого, царапает он шкуру Бонапартов. И все это с таким видом, будто он только защищается и не думает их трогать: баран, спрятавший свои рога, цареубийца с клоунской шевелюрой, красная республиканская пчела, забравшаяся в императорский улей и убивающая там золотых пчел, рассыпавшихся по зеленому бархату мантии.
Газеты перебивают его друг у друга. Вот только что «Солей» перетянул его из «Фигаро», и «Фигаро» не знает, что предпринять.
— Вентра, хотите на его место? — спрашивает меня в упор Вильмессан.
Наконец-то!
Теперь уж я отплачу! Им недешево обойдется, что они так долго не могли угадать, какая сила таится во мне.
Сколько я хочу?.. Десять тысяч франков? Ну нет! Этот год должен возместить мне все, что я издержал за десять лет моей жизни в болоте нищеты, копаясь в нем своими окоченевшими от холода руками. Предположим, что, в среднем, я проедал 1800 франков в год (о, не больше!), считая с 1 января по день св. Сильвестра. Стало быть, гоните 18 000 монет, и по рукам. Нет, — так не надо!
Подписали.
Вечером я, простофиля, пожалуй, слишком расхвастался выговоренной цифрой.
Но подумайте сами! Я вырвал этот мешок золота пастью, которая, голодая в течение четверти века, отрастила длинные крепкие зубы.
Я мог за это время раз двадцать погибнуть, — сколько других пало рядом со мной!
Но я выжил. В этом буржуа неповинны. «Ощипывая» их сегодня, я еще не произвожу окончательного расчета с ними. Мы еще не расквитались!
Да и притом я не столько горжусь той высокой ценой, по которой котируюсь, как тем, что в моем лице будут отомщены все непокорные.
Мой стиль — это куски и обрывки, как бы подобранные крюком в грязных углах, где разыгрываются душераздирающие драмы. А между тем на него есть спрос, на этот стиль!.. Вот почему я бью своим триумфом тех, кто когда-то хлестал меня своими стофранковыми билетами и плевал на мои су.
Благодарю покорно! Еще нет и недели, как я работаю в «Фигаро», а они уж находят, что с них довольно.
Читатели этой газеты большей частью народ беззаботный, счастливый — актрисы и светские люди. А я не каждый день смешу их.
Вентра изредка — это оригинально, как пирушка у Рампоно, как незатейливый завтрак из черного хлеба с молоком где-нибудь на ферме, как посещение элегантной дамой каморки рабочего, где так вкусно пахнет супом... Но Вентра ежедневно — нет уж, увольте!
Ну, а я не могу, да и не хочу быть бульварным увеселителем.
Я никого не обвиняю. Я отлично видел, когда меня переманивали сюда, что мне придется бороться против «всего Парижа», и отталкивал от себя стопки золота до тех пор, пока не выговорил себе свободу вести кампанию по собственному усмотрению.
Они знали, с кем имели дело.
По-видимому, нет.
Мне остается только убраться. Не для того — с опасностью для своего достоинства и риском для жизни — оставался я самим собой в дни неизвестности, чтобы стать теперь хроникером ателье и будуаров, плести узоры из красивых слов, подслушивать у дверей, гоняться за злобой дня.
— Если бы вы только захотели... при вашем стиле, — говорит Вильмессан, которому очень хочется удержать меня.
Да, черт возьми! У меня нашлись бы подходящие эпитеты как для улицы Бреда, так и для Сен-Антуанского предместья. Я сумел бы рисовать акварелью, писать маслом, создавать офорты.
Если б я захотел... А вот я не хочу! Мы оба ошиблись. Вам нужен забавник, а я — бунтарь. Бунтарем я останусь и снова займу место в рядах бедняков.
И вот я снова беден — снова, как и всегда!
Хотя и было обусловлено, что в случае ухода мне все-таки заплатят, тем не менее пришлось повоевать: дело было не только в материальном благополучии, но и в самолюбии. Все кончилось ерундой: взаимные уступки, несколько тысячефранковых билетов, предложение написать роман...
Я было взялся за него, за этот роман. Но, по-видимому, слишком жива еще во мне отравленная, поруганная юность. Эти страницы, конечно, еще больше, чем мои статьи, показались бы напоенными глухим бешенством, ощетинившимися злобой.
Не к чему мне было вылезать из моей конуры. Что успел я за это время? Я только навлек на себя ненависть моих собратьев, которых расхолодила моя бледность Кассия[30]. Потерянное вдохновение!
Но вот что-то зашевелилось в политическом болоте, Оливье[31] кипятится, Жирарден защищает его. За стеклами пенсне, нацепленном на нос бледной маски, что-то сверкнуло, серая рука поднялась и погрозила ареопагу государственных мужей, окружающих императора.
Его газету прикрыли.
Он выпускает когти, напрягает мускулы, прыгает на все четыре лапы.
Он мечется и орет в мешке, куда хотят упрятать его — старого кота!
Его газета прекратила свое существование, но он разыскал какого-то человека, попавшего в затруднительное положение, и тот продал ему свой листок, уступил помещение; он водворился там и приглашает к себе всех желающих кусаться.
Он вспомнил о моих клыках и прислал мне лаконическую записку: «Приходите».
В синем пиджаке, с розой в петлице, он поднялся мне навстречу, с улыбкой протягивая руку.
— Ну, бульдог, мы спустим вас с цепи! Вы будете вести воскресную хронику... И, надеюсь, ваш лай будет слышен далеко? Не так ли?
Он подбирает отвислые губы и мурлычет, расправляя когти.
Я рявкнул — и результатов пришлось ждать недолго.
Жирардену приказали прикончить его собаку. Недолго думая он прислал ко мне своего управляющего, чтобы тот привязал мне камень на шею и утопил меня.
А между тем он отлично мог подождать.
Ибо один вояка взялся отправить меня по-настоящему на тот свет, — вояка с султаном на шапке и тремя золотыми нашивками. Как говорят, он уже отточил шпагу и жаждет отомстить за своего генерала.
Этот генерал — Юсуф[32] — варвар, отдал богу свою жалкую душонку. Во имя невинных, убитых по его приказу, я выл возле его трупа, воссылая благодарность смерти.
И вот его штаб поручил самому искусному фехтовальщику пригвоздить меня, окровавленного, к его гробу.
Так по крайней мере говорят. Это только что сообщил мне Верморель.
— Завтра, а может быть даже сегодня вечером, вас вызовут на дуэль...
— Отлично. Садитесь и слушайте меня. Если красные штаны потребуют у меня удовлетворения от имени этого полковника — они получат это удовлетворение в полной мере. Вы слышали о моей дуэли с Пупаром? Было условлено стрелять до последней пули и целиться в грудь, сколько угодно. Но Пупар был моим товарищем, а эти солдафоны — мои враги; стало быть, с ними нужно пойти еще дальше. Будет только одна пуля, одна-единственная. Место выберем на этом дворе, если им угодно, или же, если они предпочитают, можно пойти туда, где я сразил Пупара. Дуэль состоится через два часа после их визита, без всякого протокола и переговоров. Хотите быть моим секундантом?
— Черт!..
— Значит, вы согласны. Сейчас, дорогой мой, мы разопьем бутылочку хорошего вина и чокнемся за прекрасный случай, дающий возможность мне, штафирке и отщепенцу, прицелиться в полкового командира.
Вечер теплый, мое жилье далеко от шумных улиц... сумерки и тишина.
Два-три раза по мостовой застучали сапоги. Я думал, что это они; мне бы хотелось покончить дело разом.
— Теперь уж я приду завтра, — сказал около полуночи Верморель. — Возможно, пароход вышел из Алжира с опозданием. Они могут приехать утром.
Но сегодня, как и вчера, никто не явился.
Можно лопнуть от досады! Запастись мужеством, приготовиться к великолепному концу или к победе, которая увенчает всю жизнь, — и остаться при муках ожидания и унизительной мысли о самоубийстве, внушенной Жирарденом.
Офицер оказался не так глуп, как я думал. Возможно, он даже и не собирался оттачивать свою кривую саблю, узнав, что у меня и так подрезан язык и что как журналист — я мертв.
Действительно, уведомление, помещенное на первой странице жирарденовского листка, указывает на меня как на опасную личность. Никто, конечно, не примет теперь к себе человека, с первого же дня навлекающего грозу на дом, куда он вступает.
Нечего сказать, в хорошее я попал положение: изгнан отовсюду!
Я чувствую себя менее свободным, чем тогда, когда скитался в своих лохмотьях по грязным углам. У меня была по крайней мере независимость человека, который, будучи брошен в подземную тюрьму, может выворотить камень, пробить дыру и, выскочив через нее, наброситься на часового и задушить его.
В этом была моя сила; а теперь мой тайный замысел обнаружен, я открыт. И, как от строптивого каторжника, жупела надзирателей, от меня будут шарахаться и те, кто боится палки, и те, у кого она в руках.
Совсем другое дело, если б я уложил полковника!
— Но, дорогой мой, секунданты могли бы не согласиться на ваши условия, и вы бы еще прослыли трусом.
Очень возможно!
Я живу в мире скептиков и равнодушных. Одни не поверили бы в искренность моего трагического желания, других привело бы в бешенство то, что я впутываю смерть в газетный поединок, и они не постеснялись бы оклеветать меня, лишь бы я не ставил на бульварной дорожке этой кровавой вехи.
К счастью, я достаточно силен, и, если б мои условия были отклонены, я раскроил бы рожу этому провокатору и таскал бы его за усы до тех пор, пока не собралась толпа.
И я закричал бы сбежавшимся обывателям и сержантам:
«Он хотел заколоть меня, как поросенка, потому что умеет обращаться со шпагой... Я предлагаю ему стрелять в упор, а он трусит. Не мешайте же мне расправиться с ним!»
Может быть, меня велели бы за это прикончить, будто нечаянно, — переломали бы мне втихомолку ребра или хребет по дороге в комиссариат, или же со мной расправились бы в участке, среди безобразий кутузки, где какой-нибудь подставной пьяница затеял бы драку, а ключ тюремщика, якобы разнимающего нас, пробил бы мне грудную клетку.
Ничего этого не случилось.
Хорошо еще, что я ни с кем не поделился этими дошедшими до меня слухами. Если б я только заикнулся о них, приятели, конечно, не замедлили бы воспользоваться этим и стали бы утверждать, что я придумал полковника для того, чтобы сочинить эту беспощадную дуэль.
Какая гнусность!
VIII
Вильмессан продолжает кричать по бульварам:
— Вентра?.. Ну и дурень, дети мои!
Чудак!
Это — тот же Жирарден, но только с большими круглыми глазами, отвислыми, мертвенно-бледными щеками и усами старого служаки; у него брюшко и манеры торговца живым товаром, но он обожает свое ремесло и осыпает золотом своих «продажных свиней».
Он способен уничтожить жестокой шуткой сотрудника, потерпевшего у него неудачу, а минуту спустя он, по его собственному выражению, уже «распускает нюни» над рассказом о бедственном положении какой-нибудь семьи, о болезни ребенка, о злоключениях старика. Он вытряхивает из своего кармана золото и медяки в фартук плачущей вдовы с такой же непринужденностью, с какой расправляется с самолюбием дебютанта или даже старого сотрудника. Он бесцеремонно попирает людскую деликатность, — этакое животное! — но и в ногах у него есть сердце.
Он хочет, чтобы его «крикуны» привлекали публику. Если наемник ему не подходит — он публично дает ему по шапке и спускает вниз головой с лестницы своего балагана. Ему нужны паяцы, которые бы по одному его знаку кувыркались, вывертывали себе члены, прыгали до потолка так, чтобы трещал либо потолок, либо череп...
Я не сержусь на него за его грубости, сдобренные шуткой.
— Эй вы, там, могильщик, я хочу вас спросить кое о чем! Правда ли, говорят, что, когда ваши родители приехали в Париж, чтобы развлечься, вы повели их в морг и на Шан-де-Наве?[33] Правда?.. Ну, тогда к черту! Мне нужны весельчаки! А вы, — да будет вам известно, — ничего не стоите! Нет, в самом деле, какой же вы шутник? О, я хорошо знаю, что заставило бы вас улыбнуться, сударь... Хорошая революция? Не так ли? Если б это зависело только от меня... Но что скажет «мой король»? А ну-ка, отвечайте прямо, без уверток: расстреляют папашу Вильмессана, когда настанет царство святой гильотины?[34]
Думаю, что нет! Как-никак, а он открыл арену для целого поколения, бессильно кусавшего себе кулаки во мраке. На почву, где империя сеяла разъедающую соль проклятий, он бросал пригоршнями соль галльской остроты, — ту соль, что оживляет землю, залечивает ушибы, затягивает раны. Этому увальню Париж обязан возвратом веселья и иронии. Кто он: легитимист, роялист? Полноте! Он просто шутник высшей марки и со своей газетой, стреляющей холостыми зарядами по Тюильри, — первый инсургент империи.
Так же и Жирарден.
Мумия из «Либерте» имеет что-то общее с боровом из «Фигаро». Разбейте лед, сковывающий его маску, и вы увидите, что в гримасе его губ притаилась доброта, а в холодных глазах застыли слезы.
У этого бледнолицего человека нет времени для сентиментов, ему некогда объяснять, почему он презирает человечество, почему имеет право третировать, как лакеев, трусов, позволяющих ему это. Не беспокойтесь, он не оскорбит тех, кого уважает!
Он нанес удар целому вороху моих иллюзий, но этот удар был нанесен открыто.
— Я сделал это потому, что почувствовал в вас мужественного человека, — сказал он мне недавно, на одном вечере, и, взяв при всех под руку, долго разгуливал со мной.
Вдруг он остановился и, пристально глядя на меня, сказал:
— Вы, конечно, думаете, что я презираю бедняков? Нет. Но я нахожу глупым, если человек с головой на плечах начинает разыгрывать непримиримого, прежде чем обеспечит себе независимость хорошими деньгами. Это необходимо! А потом, — заметил он, понизив голос, — с деньгами ведь можно делать добро тайком... Иначе голодные отравят вам жизнь!
По-видимому, этот циник и на самом деле милосерден.
Я даже узнал, что человек, сраженный его пулей[35], может спокойно спать на кладбище Сен-Манде: вдова убитого живет на средства, выдаваемые ей окровавленной рукой дуэлянта, а таинственным опекуном сына является убийца его отца.
В этих двух журналистах нашего века есть что-то от шекспировских героев: один таскает живот Фальстафа, другой предлагает современным Гамлетам голову Йорика для размышлений.
— Обзаведитесь собственной лавочкой, дорогой мой, приобретите свою газету! — не перестает мычать толстяк Вильмессан.
Легко сказать! Но все-таки я попытаюсь.
Я посвятил этому шесть месяцев.
Целых шесть месяцев я только и знал, что заказывал разорительные яства в шикарных ресторанах, где просиживал по нескольку часов, подстерегая богачей; так же вот, бывало, во времена Шассена я сидел в ожидании товарища, отправившегося на розыски семи су, чтобы расплатиться за выпитую в кредит чашку кофе с ромом.
Сколько мелких подлостей, комических унижении...
Я смеялся каламбурам «папенькиных сынков», отъявленных тупиц; складывал губы в улыбку, слушая их «басни», и все потому, что они сулили внести в дело каких-нибудь сто луидоров; я спаивал всяких проходимцев, обещавших свести меня с каким-нибудь богатым наследником или ростовщиком... а они только смеялись надо мной.
Какое счастье, что я родился овернцем!
Другой на моем месте давно устал бы и запросил пощады у врага. А я... я не сдал ни пяди; зато сдали мои подошвы.
За то время, что я не работал, я проел все деньги, оставшиеся у меня от «Фигаро». Залез даже в долги. Наконец я добрался и до последнего стофранкового билета.
Я берегу его. Ем хлеб и пью воду дома, чтобы иметь возможность съесть котлету и выпить чашку чая в кафе, посещаемом капиталистами.
Наконец я вцепился в плюшевый воротник одного еврея и защемил между створками своей двери полы его сюртука.
Я крепко держу его.
Его имя будет стоять в заголовке, он будет числиться директором, получать половину дохода и за это должен выложить две тысячи франков.
Не очень-то далеко уйдешь с двумя тысячами франков!
Но далеко или близко, я хочу скорей покончить с этим.
— Так вы говорите, что обладаете администраторскими способностями?.. А я уверен в себе... Ну что ж, афиши на стену!
Мы расклеили их франков на пятьдесят.
Как ни мало их было, несчастных, но одна из них все-таки бросилась в глаза издателю какой-то газеты, и он начал уверять, что, если б я догадался в свое время обратиться к нему, он принял бы меня с распростертыми объятиями. Лжет.
— Бросьте ваше предприятие, оно все равно погибнет в зародыше. Поступайте лучше ко мне!
— Нет!
Мне хочется хотя бы посмеяться в лицо обществу, на которое я не могу наброситься с кулаками. Пусть даже с риском для жизни!
Ирония так и рвется у меня из ума и сердца.
Я знаю, что борьба бесполезна, заранее признаю себя побежденным, но я хочу потешить себя, потешиться над другими, высказать свое презрение к живым и мертвым.
И я сделал это! Позволил себе полную искренность, излил все свое презрение.
В сотрудники я пригласил первых встречных.
Ко мне явился шестнадцатилетний юноша болезненного вида, с девичьей внешностью. Строение его черепа выдавало в нем мыслящего и решительного малого. Он был точно пожелтевшая на воздухе гипсовая фигурка, подтачиваемая изнутри ядом чахотки. Его направил ко мне Ранк[36].
Битых два часа бродил он перед редакцией, не решаясь войти, пока наконец мать не втолкнула его в дверь и не попросила, как милости, литературной аускультации[37] для своего сына, Гюстава Марото[38].
Вслед за ним пришел Жорж Кавалье[39], длинный, сухой, неуклюжий и смешной, — настоящий Дон-Кихот. Года два назад, встретив его в кафе «Вольтер», я окрестил его Pipe en Bois (Деревянная Дудка) за его сходство с теми ясеневыми дудочками, что так искусно вырезывают пастухи. Под этим именем он известен как свистун галерки со времени постановки на сцене Французской Комедии пьесы «Генриетта Марешаль», наделавшей столько шума. Неудачник, но очень неглупый; чудаковатый, веселый и мужественный, с узкой грудью, но с широким сердцем.
Другой — краснолицый, коренастый, с лысым черепом, местами отливающим синевой, как пулярка, начиненная трюфелями, мужиковатый, с проколотыми ушами, с пучком волос под нижней губой. Он водворился у меня, сославшись на покровительство Гонкуров, и повел меня к ним.
Есть у него еще один крестный отец, адвокат Лепер[40], его земляк, депутат в будущем, поэт в прошлом, автор песни «Старый Латинский квартал». Он знает его уже лет десять и очень любит этого малого с синеватым черепом.
— Можете положиться на него, — сказал он, похлопывая того по плечу. — Тяжеловат, но надежен!
И Гюстав Пюиссан стал для моей газеты Роже Бонтаном[41]. Он пишет захватывающие статьи, тщательно изучая и проверяя материал; проникает в природу вещей, выслеживает своих героев и дает вам потрясающие документы.
Есть у меня еще воспитанник Нормальной школы, который плюет на нее.
Все они ведут войну с избитыми фразами и зажигают пожар парадоксов под самым носом у мраморных сипаев, стоящих на страже по музеям; их шутка всегда имеет серьезную мишень и беспрестанно задевает толстый нос Баденге в Тюильри.
Но чтобы болтать о политике, хотя бы и посмеиваясь над ней, необходимо иметь запасный фонд. А нашу бедную «Улицу» каждый месяц конфискуют, запрещают розничную продажу, причиняют нам тысячу неприятностей.
Однажды я написал резкую страничку под названием «Продажные свиньи», направленную якобы против барышников, а на самом деле хлеставшую чиновников и министров, законность и традицию.
Явился судебный исполнитель.
Нас скоро прихлопнут.
Но меня не тронут. Закон обрушивается только на издателя и не намерен казнить виновного, — важно, чтобы было сломано оружие.
Бедный издатель! Кто-то направил его ко мне, и когда он назвал себя, его имя разбудило во мне тяжелые воспоминания, запрятанные с раннего детства в одном из самых исстрадавшихся уголков моей души.
Мне было десять лет; моему отцу, репетитору лицея, разрешили, чтобы я готовил уроки подле него, в классе для взрослых. И вот однажды, когда какой-то ученик вывел из себя господина Вентра, он поднял руку и слегка ударил дерзкого школьника по физиономии.
Брат этого школьника, здоровый сильный юноша, уже с усами, готовившийся в Лесной институт, перепрыгнул через стол и, накинувшись на учителя, в свою очередь, толкнул его и побил.
Я хотел убить этого парня! Я слышал однажды, как эконом говорил, что у него в шкафу есть пистолет. Точно вор, забрался я к нему, обшарил ящики, но ничего не нашел. Попадись мне тогда в руки оружие, мне пришлось бы, возможно, предстать перед судом присяжных.
Директор лицея был возмущен. Перед всей школой были принесены извинения. Отец мой плакал.
Когда в моей памяти случайно воскресала эта сцена, я гнал ее прочь, старался думать о чем-нибудь другом, потому что мне начинало казаться, будто что-то липкое заволакивает мой мозг.
И вот младший брат того, кто оскорбил моего отца[42], вынужден подставить свои щеки под удары правосудия.
На один миг у меня явилось желание выместить на невинном всю свою злобу. Не будь он сед, я вернул бы ему пощечину, отягченную двадцатипятилетней злобой, — я убил бы его.
Но у него добродушный вид, у этого кандидата в издатели. Кроме того, он почти ничего не требует. И вот потому, что брат давшего пощечину предлагает себя по дешевке, — сын получившего эту пощечину забывает оскорбление и заключает с ним сделку. Я не взял бы миллиона за страдания, причиненные мне скандалом, а между тем, чтобы платить на двадцать франков меньше, я ударяю по рукам с этим типом.
Теперь он, в свою очередь, плачет, хотя ему предстоит вовсе не унижение, а скорее почет. Он прослывет «политическим», и те, кто не услышит его стонов и жалоб перед судьями, отнесутся к нему с уважением.
Поверенный газеты, указывая на его несчастный вид, старался вызвать к нему жалость, возбуждавшую смех, и просил снисхождения для бедняги, которому тем не менее присудили шесть месяцев. Он вышел из зала суда, вытирая свой лысый череп и не замечая, что от пролитого потока слез с его клетчатого носового платка уже течет.
— Постарайтесь добиться, чтобы меня не засадили в тюрьму, — просит он среди всхлипываний защитника, и тот обещает ему заняться этим. — Шесть месяцев! Подумайте только, шесть месяцев.
Он выжимает свой платок, а Лорье[43]... смеется за его спиной.
Этот Лорье способен смеяться над любым страданием. И не то, чтобы он был жесток, — нет! Но в его жилах бурлит презрение к человеческому роду, и это презрение кривит и подергивает его тонкие губы. Его физиономия напоминает мордочку грызуна, крысы, — крысы, которую взяли за хвост и окунули в бочку мальвазии. Цвет лица багровый, — он сангвиник!
Под этой хрупкой оболочкой таится мужественная сила, и сквозь мелкие зубы, способные, кажется, разгрызть дерево, вырывается со свистом резкий уверенный голос, точно бурав, сверлящий уши судей.
Он весел, язвителен, даже дерзок. У него на языке не только соль, но и порох; он смешит и внушает страх своей иронией, которая то забавляет, то заставляет обливаться кровью, колет или терзает, как ему вздумается; причем сам он сохраняет полное бесстрастие.
Он — воплощенный скептицизм. Стрелок из любви стрелять и ранить. И он ловко играет своим оружием и своими убеждениями.
Этот маленький человечек без подбородка, без губ, с головой ласки или коноплянки — один из сильнейших умов своего времени, Маккиавелли своей эпохи... Маккиавелли, невзрачный на вид, насмешливый, всюду сующий свой нос, прожигатель жизни, потому что явился после Тортильяра[44], Жана Гиру[45], Калхаса[46] и Жибуайе[47].
Он не напишет «Государя», — этого нечего опасаться, — он пишет сейчас «Трибуна»[48].
Он встретил в суде одного южанина, молодца с черной гривой, хриплым голосом, кривого на один глаз, в нарочито неряшливом костюме. Все вместе взятое придавало ему необычный вид, как бы накладывало на него фабричное клеймо, метку, по которой его легко было узнать. Если б у него было два глаза, Лорье не обратил бы на него внимания; человек — как все, без бельма, без горба, ничем не выделяющийся, никак не подошел бы ему.
…………………………………..
Лорье не раздумывает и тянет руку за феноменом. Он выучит этого барана пробивать рогами отверстия, через которые найдут выход его корыстолюбивые желания и лихорадочное любопытство.
Он мог бы сам своими зубами прогрызть себе лазейку, но предпочитает, чтобы за него потрудился другой.
……………………………..
……………………………..
Он учуял свое время.
Сейчас требуется зычный голос, вульгарный жест, приемы площадного оратора, Тереза[49] мужского пола. Уже порядком надоели Шнейдер[50] и Морни[51], Кошоннет и Кадерусс. Буржуазия по горло сыта империей и хочет выказать себя воинственной по отношению к ней, после того как сама же создала ее своей подлостью, убийствами рабочих, ссылками без суда.
Сословная гордость, а также личная заинтересованность заставляют ее сердито смотреть на Бонапарта. Глаза Гамбетты[52] — причем тот, что прикрыт бельмом, в особенности, — бросают гневные взгляды, и в них угрозой горит смертный приговор власти.
…………………………………………………………………………………………………………
Манера Лорье — смеяться на форуме. Он любит жестокие мистификации и наслаждается ролью Барнума с тонким нюхом, чующим, что ветер дует в сторону паясничающих ораторов.
Ведь даже сама вульгарность Гамбетты способствует его популярности, а талант его питается идеями, глубоко банальными по существу. Комедиант до мозга костей, он не знает устали и, облачившись в львиную шкуру, нигде не сбрасывает ее: ни в буржуазном салоне, ни в веселом кафе, ни в подозрительном кабачке — везде и всегда подражает Дантону, даже за столом, даже в постели.
Он где-то вычитал, что Дантон, прежде чем отойти в вечность, заявил, что ему не жаль расставаться с жизнью, так как он вдоволь покутил с пьяницами и погулял с девицами. И вот он пьет, кутит, изображая Гаргантюа и Роклора[53].
Вокруг его кутежей и оргий создается легенда, и Лорье усиленно раздувает ее.
……………………………………………………………….
Эта смесь пьяного разгула и ораторского пустословия приводит в восторг молокососов, посещающих лекции Моле, и неудачников из кафе «Мадрид», и они кричат толпе:
— Да! Вот это человек!
Комедиант! Комедиант!
IX
Одна статья в «Улице» вырвала у меня кусок хлеба изо рта. Я изобразил в ней парижских депутатов шутами и будущими палачами.
Отныне все оппозиционные газеты закрыты для меня. Я осмелился задеть их кумиры. Бонапартисты засадили меня в тюрьму, представители трехцветного знамени рады будут уморить меня голодом.
На каждой перекладине парламентской лестницы восседает один из пяти левых петухов[54], которых я пообщипал и высек до крови. Они поклялись в отместку выклевать мне желудок и сердце.
Мне уж не дадут больше заливаться соловьем в литературе, как не позволят бешено лаять в политике. Я вступил в борьбу, весело скаля зубы. Эти зубы должны вырасти и стать острыми, или придется дать их вырвать, просить пощады и пойти лизать им сапоги.
Когда я писал эти двести строк, мною руководила действительно блестящая идея... А они подвергают меня клевете, обрекают на смерть!
— Но зато они указывают на вас народу! — сказал один старый инсургент, сверкнув глазами и пожимая мне руку. — Держитесь крепко, черт возьми, и, когда вспыхнет революция, предместья призовут вас, а их поставят к стенке. Запомните, что я вам сказал, гражданин!
Держаться крепко! Ах, если б только у меня был верный кусок хлеба, чистая сорочка, крыша над головой, одно блюдо в молочной, — пять франков в день.
Но у меня их нет!
Чтобы заработать на жизнь, придется стряпать новые книги, компилировать старые, вымучивать статьи для составителей словарей, которые, платя десять сантимов за строчку, будут считать себя вправе унижать меня, сколько им вздумается. Они заставят меня часами ожидать в передней, будут покачивать головой, как старьевщик, обесценивающий принесенный ему товар, в особенности если тот, кого они эксплуатируют, потерпел неудачу.
Лучше уж разбивать камни под палящим солнцем!
— Я прислушиваюсь к тебе!.. — крикнул мне как-то Ландрио... Этот Ландрио бросил Нормальную школу, чтобы стать секретарем у одной важной особы из Сорбонны. Но особа отправилась к праотцам, и он остался ни при чем.
Он стал костылем Гюстава Планша[55], но и папаша Планш приказал долго жить!
И вот уже несколько лет, как Ландрио харкает кровью. Задыхаясь от кашля, разбитым голосом он с конвульсивным смехом умирающего Гавроша подстегивает мое честолюбие.
Он все перепробовал в своей жизни, — все, вплоть до попрошайничества.
И не скрывает этого. Он бросает свое признание вместе с остатками легких в лицо обществу, допустившему, чтобы голод изгрыз его грудь, подточил его честь.
Из-за него я даже прослыл негодяем среди людей, которые отделываются одними соболезнованиями и забавляются, когда он изображает сцену попрошайничества.
— Что до меня, — воскликнул я, присутствуя как-то при этом, — так я скорее остановил бы прохожего и закричал ему: «Дай мне на хлеб, или я задушу тебя!»
Они даже за голову схватились.
«А ведь он и в самом деле способен сделать, как говорит».
Да, я скорее предпочел бы напасть на кого-нибудь у лесной опушки, чем попрошайничать у уличного фонаря. Зато я точно так же предпочел бы разбить себе голову о стену или броситься в реку, чем запятнать свою честность. Это орудие я должен сохранить блестящим и острым, как новый клинок
Ландрио снова издевается.
— Твоя чест-ность!!! Да она доведет тебя до могилы, как меня моя чахотка. Только, пожалуй, им придется укокошить тебя: уж очень ты крепок... Но если ты воображаешь, что их словари досыта накормят тебя, и надеешься потягивать через соломинку винцо за счет Лашатра или Ларусса, то тебе, сынок, придется бить отбой... Сейчас это еще менее возможно, чем прежде... уж поверь мне! Эти либералишки сжались тесно, как пальцы на ногах, а ты наступаешь своими сапожищами на их изящные ботинки. В карантин тебя! В лазарет!.. Впрочем, у тебя еще есть выход: ты тоже можешь сделаться чахоточным. Тогда они, может быть, сжалятся над тобой и позволят тебе объяснять слова, имеющие отношение к твоей болезни. А накануне твоей агонии они даже дадут тебе прибавку, потому что для описания чахотки тебе достаточно будет приложить к чистой странице твой окровавленный платок на манер того, как старик Апеллес писал бешенство... Знаешь что? Когда не веришь ни в бога, ни в черта, надо идти в попы. По крайней мере будешь есть просфоры! А ты, дурень, сам изображаешь просфору, которую жрут!
К счастью, у меня есть кредит у Лавера, кормильца нескольких беспутных молодцов, вроде меня, и нескольких почтенных старцев, вроде Туссенеля и Консидерана.
— Да нет же, мы ничуть не беспокоимся!.. Вы расплатитесь с нами так же, как это делает господин Курбе[56] у Андлера... когда вам будет угодно. И не стесняйтесь, если вам понадобится добавочное блюдо. Но только когда вы станете чем-нибудь, вы ведь вспомните о нас, не правда ли?
Все, кто попроще, верят, по-видимому, что в один прекрасный день я стану «чем-нибудь», между тем как «образованные» только пожимают плечами, слыша мое имя.
— На кой черт вы занимаетесь политикой? Если бы с вашим талантом вы посвятили себя исключительно литературе, — перед вами открылось бы блестящее будущее. А так, что у вас впереди? Нищета, тюрьма... Вы просто не в своем уме!
— Я первый бегу от вас, — заметил с многозначительной миной портной одного из богатых кварталов, который уже давно шил на меня и которому я платил... когда у меня бывали лишние деньги. — Как! Вы могли стать депутатом, а вместо того накинулись на Пятерку! Я не работаю на баррикадчиков, не шью сюртуков, которые будут пачкаться о блузы!
А мне, словно нарочно, нужен был демисезонный костюм.
К счастью, один еврей, обшивающий в рассрочку моих товарищей, согласился снять с меня мерку и предоставил моему выбору весь свой магазин. Но ему как раз нужно сбыть кусок рубчатого плиса, и он во что бы то ни стало хочет вырядить меня плотником.
Я колеблюсь, вздыхаю. Портной взывает к моим убеждениям. Еще немного, и он сочтет меня ренегатом.
— Как, вы стоите за рабочих и стыдитесь быть одетым, как они! Нельзя быть неблагодарным, молодой человек, — кто знает, что они еще смогут сделать для вас!
И этот тоже!
Кому же довериться: инсургенту, содержателю табльдота или этому Шейлоку?
Кому верить?
Мне нечего верить ни одному из них. При всей моей известности, мне приходится снова влезать в ярмо прежней нужды.
Зато на этот раз, когда раздастся клич «к оружию!» и я появлюсь, — меня узнают и, если я буду одет в лохмотья, — преклонятся перед моей нищетой.
Но ведь в ожидании момента, когда можно будет славно умереть, надо жить... а если б вы знали, как тяжело носить костюм от старьевщика, после того как побывал на пути благополучия и славы...
Я сам хотел этого.
Почему не опустил я хоть немного своего знамени? Зачем защищал бедняков?
Но в чем была бы заслуга, если б я жил их соками, как паразит!
X
Тюрьма Сент-Пелажи
Вчера вечером, перед моим отправлением в Сент-Пелажи, мы с товарищами немножко кутнули.
После того как прихлопнули «Улицу», я написал еще две статьи в других газетах. Эти две «проповеди» стоили мне тюрьмы.
Я вошел в нее слегка навеселе!
Там решили, что я болен, и направили ко мне фельдшера.
Я обозлился. Бунтарю — прибегать к помощи медикаментов!..
— Но, сударь, — заметил этот Диафуарус[57], — тут все пичкаются лекарствами. В настоящее время «павильон принцев»[58] находится в моем распоряжении.
Фельдшер — большой шутник. Он сообщил мне много интересных подробностей.
— Политические заключенные делятся на два лагеря: на тех, что ходят, и тех, что не ходят... вы меня понимаете? Восемьдесят девятый год — еще кое-как, девяносто третий никуда не годится, тысяча восемьсот тридцатый[59] — ни то ни се. Есть здесь бывший ученик Пьера Леру...[60] впрочем, нет, больше я вам ничего не скажу...
А он правильно подметил, этот фельдшер попал в самую точку.
Действительно, 93-й никуда не годится.
Каждое утро мимо меня проходит человек, держа, точно священную чашу, белую, чем-то прикрытую урну. Можно подумать, что он идет служить обедню; но он приотворяет потайную дверь, которая тут же плотно за ним закрывается.
Выходит он оттуда так стремительно, что я совершенно теряюсь и едва успеваю кинуть под салфетку беглый взгляд, чтобы рассмотреть сосуд. Но я не обнаруживаю патриархального брюшка — обычной округлости...
В конце концов мне все-таки удалось приподнять завесу.
Таинственная урна есть не что иное, как сосуд интимного назначения, загримированный, чтобы вводить всех в заблуждение, — горшок, принявший вид амфоры. Но он выдает себя... зеленой гуттаперчевой кишкой, убивающей мои последние сомнения. К тому же человек раскрылся передо мной, все показал мне, все рассказал.
— Я ставлю себе одну раз в день вот уже тридцать лет и чувствую себя, как видите, прекрасно.
— Все это так. Но почему вы не поручаете служителю выносить сосуд?
Он выпрямился и гневно уставился на меня.
— Гражданин, в той Республике, которую я хочу, каждый убирает за собой сам. Существуют неприятные работы, как существуют неприятные обязанности.
— Но ведь это же чаша недисциплинированного, кропильница дворянина, — вы поступаете предательски!
— Нет! Я — централизатор по существу и индивидуалист по форме. Пусть у каждого будет патронташ, а уж круглый или овальный — это по выбору.
— А процедура с этой трубкой будет обязательна?
— Не смейтесь, молодой человек, я — ветеран! Вы — новичок и недостаточно еще зрелы, чтобы иметь право взвешивать мои действия.
— Да я и не собираюсь их взвешивать!
Новичок? Недостаточно зрел?.. Недостаточно зрел для такого кальяна, — это верно; и не помешался еще на клистирных трубках, старичок!
Не хочет ли он, чтобы я тоже обзавелся подобным прибором и пользовался им каждое утро по команде, согласно приказу Комитета общественного спасения: «Канониры, к орудиям!»
— Я чист... — повторяет он постоянно.
Еще бы он не был чист после стольких промываний...
— Я твердо стою на своих принципах.
Раз-то в день ему, во всяком случае, приходится присаживаться.
— Наши отцы, эти гиганты...
Что касается моего отца, то он был среднего, скорее даже маленького роста, а деда моего прозвали в деревне Коротышкой. Мои предки не были гигантами.
— Бессмертный Конвент...
— Кучка католиков навыворот!
— Не кощунствуйте!
— А почему бы и нет? Разве я не имею права бросить свой шар, когда ваши боги играют в кегли? Я думал, что вы отстаиваете свободу мыслить, говорить и даже кощунствовать, если бы мне это вздумалось. Быть может, вы прожжете мне язык каленым железом или подвергнете пытке водою, вливая ее в рот вашим орудием... если я не попрошу пощады? Ну нет, этого вы не дождетесь!
Пейра[61] отвечает горькой улыбкой и нахлобучивает на уши шерстяной шлем, вроде тех, что надевают при восхождении на Монблан, — это он-то, уроженец Авентинского холма![62] Ибо он действительно оттуда. Он — настоящий Гракх, этот человек с сосудом, клистирной трубкой и в шапочке с завязками.
Ученику Пьера Леру приходится расплачиваться за своего учителя.
О нем ходит целая легенда.
В каком-то уголке Франции Кантагрель[63] состоял в обществе «Circulus»[64]. Каждому члену вменялось в обязанность во что бы то ни стало поставлять для общего блага свою долю удобрения. Человеколюбие погубило его: он хотел проявить свое усердие, принял какое-то снадобье, и его так пронесло, что ему пришлось возвращаться в Париж, чтобы постараться приостановить действие лекарства.
— Если б хоть кто-нибудь воспользовался этим! — меланхолически замечает он иногда.
Говорят, он написал Гюго по поводу главы о Камбронне[65] в «Отверженных». Гюго ответил ему:
«Брат, есть два идеала: идеал духовный и идеал материальный; стремление души ввысь, падение экскрементов в бездну; нежное щебетанье — вверху, урчание кишок — внизу; и там и здесь — величие. Ваша плодовитость подобна моей. Довольно... поднимитесь, брат!»
— Это я подписался за Гюго и подстроил эту шутку, — признался мне один товарищ по заключению.
Чудаки они все-таки!
Этот сиркюлютен осужден за издание крамольной газетки, как я и предполагал.
Другой — главный редактор республиканской газеты, единственной, которая могла появиться на свет, получить право на жизнь и снискать милость императора. И не то, чтобы издатель ее был льстивым придворным или допустил какую-нибудь подлость, — напротив, он тверд и непреклонен. Но на манер якобинцев; а Наполеон III отлично понимает, что Робеспьер — старший брат Бонапарта и что тот, кто защищает республику во имя власти, является Грибуйлем[66] империи.
К счастью, я могу уединиться.
Я нахожусь в «Пти-Томбо».
Это — узкая мрачная камера в верхнем этаже тюрьмы. Зато, взобравшись на стол, я могу дотянуться до окна, откуда видны верхушки деревьев и широкая полоса голубого неба.
Целыми часами стою я, прижавшись головой к решетке, вдыхаю свежесть ветра и подставляю лоб под солнечные лучи, приходящиеся на мою долю.
Одиночество не пугает меня. Часто я даже гоню от себя и восемьдесят девятый и девяносто третий, чтобы просто остаться наедине с самим собою и прислушаться к своим мыслям, то забившимся где-нибудь здесь, в уголке камеры, то свободно реющим за железной решеткой.
Заключение совсем не рабство для меня, а свобода.
В этой атмосфере уединения и покоя я всецело принадлежу себе.
Клуб
Но этот покой был внезапно нарушен: в тюрьме освободились места, и меня перевели в новую, лучшую камеру; она была переполнена народом, и я ничего не имел против этого. Мое помещение стало салоном, столовой, фехтовальной залой и клубом тюрьмы.
Чего только не вытворяли там!
Первым по части шума и гама был бесподобный папаша Ланглуа[67], бывший соратник Прудона.
— Черт побери!
— Ах, это вы?.. Какая сегодня погода?
— Погода?
Он стучит по столу, по стульям, свирепо вращает глазами и раздраженно отбрасывает ногой утренние туфли, валяющиеся у кровати.
— Какая погода?.. Отличная!
Это сказано яростным, угрожающим тоном. Его рука словно ищет саблю; он сморкается с таким шумом, как будто разрывается снаряд, а когда он уходит, судорожно сжимая в руках старые газеты, — у него такой вид, точно он спешит с донесением к генералу; иногда он тут же врывается обратно с искаженным лицом.
— В чем дело?
— Там кто-то есть!
Достаточно ему пробыть десять минут, чтобы кавардак стал невообразимым.
Все влезают на стулья, сам он взбирается на ночной столик.
Какие-то невероятные жесты, истерические крики.
Все мы — черт знает что...
Как?.. Я, Вентра, колеблюсь повесить управляющего государственным банком?
— Разве речь идет о том, чтобы его повесить?
— Ну да! А вы только кривляетесь, черт возьми!
Он хочет сегодня же воздвигнуть виселицу для держателя звонкой монеты, который живет только своим бумажником, каналья!
Он изображает казнь. Берет носовой платок, подвешивается на нем на несколько мгновений, в самый напряженный момент издает какой-то звук, рискуя проглотить язык, затем спрыгивает со стола и... снова набрасывается на туфли с бешенством щенка, у которого режутся зубы.
— Да этот человек рехнулся, — говорит Курбе, покуривающий в углу. — Он рассуждает о Прудоне? Я один хорошо знал его. Только мы двое и были готовы в сорок восьмом году. Эй, чего вы там кричите так, черт бы вас побрал!
— Я не кричу, я спокойнее вас, тысяча чертей!
Смешны и несносны эти горластые визитеры, эти заключенные, из которых одни ходят, а другие не ходят, — все эти люди, как-никак получившие образование, все эти воспитанные буржуа.
Иногда рабочий, по имени Толен[68], стыдит их за глупость и дает отпор их мелочным вспышкам. Он серьезнее и осведомленнее их, этот представитель физического труда.
Толен уже завоевал себе имя на публичных собраниях. Он является как бы духовным вождем рабочего класса.
У него узкое лицо, — оно кажется еще длиннее и тоньше благодаря длинной бороде и гладко выбритым щекам, — живой взгляд, выразительный рот, красивый лоб.
Он немножко шепелявит, как и Верморель. Я заметил, что люди, отличающиеся косноязычием Демосфена, невероятно честолюбивы. Но за их детским сюсюканьем скрывается железная энергия людей дела.
Благородная внешность под простым рабочим костюмом.
Я уже видел такую же осанку у одного известного проповедника июньской Варфоломеевской ночи, — у белокурого де Фаллу, который с благодушным жестом и медом на устах спровоцировал страшную бойню.
Может быть, носы их и не одной формы, но в своем представлении я сближаю силуэты этих людей, ибо они кажутся мне очень сходными. В них одно и то же тонкое изящество; та же мягкость речи, тот же ясный взгляд... у этого дворянина и у этого простолюдина.
У него слегка раскачивающаяся походка плебея, но, может быть, это даже умышленно. Если б он захотел, она стала бы плавной, как у дворянина. Сдержанный смех, проницательный взгляд, заостренный профиль и бородка, которую он постоянно покручивает... Мне кажется, что он только о том и думает, как бы выбраться из простой среды и мрака неизвестности. Этот бывший чеканщик, давно забросивший свои орудия производства, терпеливо чеканит орудие своего честолюбия.
— Собираются даже открыть подписку, чтобы дать наточить его инструменты, — так они заржавели! — заметил один шутник из мастерской.
Но если он боится работы, от которой грубеют руки, то не боится одиноких занятий, долгих вечеров наедине с отцами экономической церкви и с отцами социальной революции. Он купил на набережной труды Адама Смита[69] и Жана-Батиста Сэя[70], проданные букинисту каким-нибудь разорившимся буржуа или опустившимся неудачником. Теперь эти книги вместе с четырьмя-пятью томами Прудона лежат на столе идущего в гору ремесленника.
У него есть пробный камень для всяких ценностей — денежных и идейных, он станет ученым, да он уже и теперь ученый. Он — старший мастер в цехе, где фабрикуется рабочая революция.
Он зарабатывает себе на жизнь, служа приказчиком у торговца скобяными товарами; тот очень гордится, что у него работает такой ученый малый.
У этого эмансипированного плебея есть уже приверженцы.
В этом мирке отвлеченных идей есть один представитель физического труда — Перрашон[71], неутомимый труженик, не расставшийся со своим верстаком. Он чтит, как бога, того, кто стал обладателем книг и пожирает всю эту премудрость. И он подражает ему, копирует его: так же подстригает бороду и волосы, так же застегивает пальто, так же носит шляпу, заламывая ее на ухо или нахлобучивая на лоб.
Как мне кажется, этот Созий[72] является продуктом хитрости моего Фаллу из предместья. Тесемками своего рабочего фартука Перрашон связывает властителя своих дум с народом; иначе тот, пожалуй, с недоверием посматривал бы на его куртку, готовую того и гляди обратиться в сюртук.
Только бы он не перерезал в одно прекрасное утро эту тесьму и не бросил бы блузников, как бросил блузу.
XI
Я задумал написать историю побежденных в Июньские дни. Я разыскал многих из них. Все они очень бедны, но почти все, несмотря на нищету, сохранили свое достоинство. И только некоторые из них, привыкнув к безделью в тюрьмах, взвалили на жен всю тяжесть труда и заботу о прокормлении семьи.
Многие из этих женщин оказались настоящими героинями. Пока отцы были в Дуллане или на каторге, они растили детвору, отказывая себе во всем, лишь бы маленькие граждане не чувствовали ни в чем недостатка; проявляли необычайную изобретательность и мужество в изыскании ремесла, промысла, способа заработать кусок хлеба. И малютки — будущие инсургенты — росли.
Правда, несколько молодых девушек исчезло в том возрасте, когда голубой бант кружит голову, а нищета заставляет дурнеть. Какая скорбь поселяется в мансарде, когда, возвратившись, изгнанник находит там только затасканный и грязный образ ребенка, которого в одно далекое воскресенье он сфотографировал за десять су на ярмарке в окрестностях Парижа. Было чертовски трудно заставить девочку сидеть спокойно; папа должен был по крайней мере раз десять поцеловать ее и просить быть умницей.
И она была ею.
Но вот уже давно она больше не умница, и никто даже не знает, где она находится. Она не решается навестить мать из боязни, что отец набросится на нее.
— Нет, ни за что! — сказала мне одна из них, заливаясь слезами. — Я боюсь, что он расплачется!
Я живу в этом мире блузников и чувствую себя более взволнованным, чем когда-то среди толкователей Conciones[73] в мире античных героев. Их каски, туники и котурны быстро надоели мне.
Но, общаясь с моими новыми товарищами, посещая простых людей, я вдруг почувствовал презрение и к якобинскому хламу.
Весь этот вздор о девяносто третьем годе производит на меня впечатление кучи изодранных, выцветших лохмотьев, какие приносят тряпичнику дядюшке Гро в его открытую всем ветрам лавчонку на улице Муфтар.
Время от времени дядюшка Гро оказывает мне честь, приглашая к себе обедать, и я счастлив от сознания, что меня, деклассированного, любит и уважает этот человек регулярного труда с корзиной за спиной. Он велит прибавить для гражданина Вентра кусок сала в кипящий котелок, от которого так вкусно пахнет среди отбросов реки Бьевры, и говорит хозяйке:
— Нечего экономить, старуха, была бы только похлебка каждый день.
Затем, обращаясь ко мне:
— Жизнь тяжела, это верно, но нас, рабочих, утешает, что образованные люди, вроде вас, переходят на сторону пролетариев. Кстати, обещайте, что, если когда-нибудь мне придется взяться за ружье, которое вечером двадцать четвертого июня я закопал у Гобеленов, вы придете поесть супу на баррикаду, как пришли сюда. Хорошо?
И жена его отвечает с серьезной улыбкой:
— Да, я уверена, отец, что господин будет заодно с несчастными.
Я указал на кусочек красной фланели, показывающей язык из пасти мешка.
— Мы привяжем его к штыку.
— Ах, молодой человек, ведь вся суть не в Марианне[74], а в Социальной[75]. Когда мы дождемся ее, из трехцветных знамен можно будет корпию щипать.
Социальная и Марианна — два врага.
Старики Июньских дней 48-го года рассказывали мне, что, когда к ним в тюрьмы бросили участников 13 июня 49-го года[76], вновь прибывших встретили неприязненными взглядами и грозными жестами, и с первого же дня их разделила стена. Между головами в одинаковых тюремных колпаках происходили жестокие столкновения, хотя на общих церемониях, на похоронах и в дни разных годовщин у всех в петлицах красовалась неизменная пунцовая иммортель.
Непримиримая ненависть существовала между отдельными партиями, и достаточно было любого предлога, чтобы она вырвалась наружу. Из-за плохо огороженного садика, из-за веточки клубники, выступающей за линию камней, образующих границу, из-за настурции, вытянувшейся по стенке между камер двух противников, — по малейшему поводу бросали друг другу в лицо обвинения в неудачах и ошибках революции.
Я многое узнал в кабачке, принадлежащем бывшему заключенному дулланской тюрьмы; там уцелевшие участники восстания собирались в вечера получки или в дни безработицы. Каждый приходил туда, чтобы высказаться, поделиться впечатлениями о трагических днях, сделать вывод из воспоминаний о зловещей битве.
Лучший говорун этой компании — парень с серыми блестящими и острыми, как сталь, глазами; щеки его точно накрашены, лоб непомерно широк, — как у некоторых актеров, выбривающих его, чтоб придать больше благородства своей наружности, — длинные волосы падают локонами, как у скоморохов и поэтов.
Ему недостает только медного обруча, придерживающего парик акробатов, или венка из бумажных цветов, увенчивающего поэтов на литературных состязаниях.
Никто не сказал бы, что это — бывший столяр, осужденный на вечную каторгу за то, что в своем грубом, повязанном на животе фартуке он искусно возвел на углу Черного рынка баррикаду из камней разобранной мостовой.
Сейчас, когда его ремесло не в ходу, он стал маклером и, если верить ему, понемногу зарабатывает себе на жизнь. Он носит синий сюртук — очень опрятный, но вместе с тем не расстается с картузом.
— Это сохраняет мою шляпу для посещения клиентов, — говорит он. — Да и, кроме того, товарищи, я по-прежнему остаюсь рабочим, странствующим рабочим, вместо того чтобы быть прикрепленным к месту, — вот и вся разница.
— А как Рюо?[77] Давно ты его не видал?
— Нет. Почему ты спрашиваешь?
— Да ты и в самом деле ничего не знаешь: говорят, он был шпиком.
— Поговорим о чем-нибудь другом, друзья, — прервал старый Мабилль. — Все мы оказались бы шпиками, если слушать все, что говорится. Но вот тем, о которых это будет доказано, не мешало бы пустить кровь... чтоб другим было неповадно.
Папаша Мабилль[78] — бывший чеканщик. Среди притупляющего безделья тюрьмы он утратил сноровку своего ремесла и сделался уличным торговцем.
Но в долгие годы заключения он учился по книгам, которые брал у товарищей из соседних камер. Он много размышлял, спорил, делал выводы. Его высокий, изборожденный морщинами лоб свидетельствует о работе мысли. У этого продавца вееров и абажуров — в зависимости от сезона — лицо философа-бойца. Если б на нем был черный сюртук, люди останавливались бы перед этим высоким стариком, почтительно склоняясь перед его величественной внешностью.
«Что он преподает?» — спрашивали бы субъекты из Сорбонны и Нормальной школы.
Что он преподает?.. Его кафедра передвигается вместе с ним. То это столик в маленьком кабачке, облокотившись на который, он призывает молодежь к восстанию; то это взятая на баррикаде бочка, с высоты которой он обращается с речью к инсургентам.
Многие из этих оборванных, чуть ли не умирающих с голоду людей читали Прудона, изучали Луи Блана[79].
И страшная вещь: в итоге всех их расчетов, в конце всех их теорий — неизменно как часовой стоит восстание.
— Нужна еще кровь, видите ли!
А зачем?
Почему эти люди, неизвестно чем существующие, с такими ничтожными потребностями, почему они, похожие на старых святых с длинной бородой и кроткими глазами, любящие маленьких детей и великие идеи, — почему подражают они пророкам Израиля и верят в необходимость жертвы и неизбежность гекатомбы?
Как-то на днях, когда восьмилетняя девчурка обрезала себе палец, здоровенный дядя с волосатой грудью упал в обморок. Нужно было видеть, как вся эта «дичь» государственных тюрем бросилась утешать и целовать ребенка. Один смастерил ей куклу из тряпок, другой купил игрушку за су... Это су было отложено на табак, и он не курил весь вечер. Палец завязали тряпкой, волнуясь при этом больше, чем если бы перевязывали рану искалеченного бойца где-нибудь на перекрестке во время уличного боя.
Парень с острыми глазами задумал книгу. Он пишет; я это подозревал.
— Да, я заносил в тетрадь все, что видел в Тулоне. У меня две тетради, вот таких толстых! Я покажу их вам, если вы зайдете ко мне.
Мы условились о дне встречи.
— Вы увидите мою жену, она дочь Порнена, Деревянной Ноги.
Хрупкое, тоненькое, полное благородства создание, грациозное, смертельно печальное... Безграничная грусть выдает неизлечимое, глубоко спрятанное страдание. Преждевременно поседевшие волосы свидетельствуют о пережитом потрясении; какое-то страшное неожиданное открытие посыпало пеплом эту юную голову, заставило поблекнуть нежное лицо, исполосовало его тонкими, как шелковые нити, морщинками.
Она едва ответила на банальное приветствие мужа, а меня встретила почти с неприязнью.
Я заговорил с ней об ее отце, знаменитой Деревянной Ноге, сыгравшем известную роль в истории февральских событий.
— Да, я дочь Порнена. Отец мой был честный человек.
Она повторила это несколько раз: «Честный человек!» И, опустив глаза и прижимая к груди маленькие ручки, отодвинула свой стул из боязни, как показалось мне, чтобы муж не задел ее, разыскивая свою рукопись по всей комнате.
Наконец, хлопнув себя по лбу, он воскликнул:
— Вспомнил: она внизу!
И он пошел крадущимися шагами, сгорбившись, волоча ногу, неуклюже, но глаза его все время сверкали и пронизывали мрак окутанной сумерками комнаты.
Ставни оставались закрытыми; женщина не распахнула их даже тогда, когда мы вошли, как будто не хотела пролить свет на свои слова.
Пока мы оставались наедине, она произнесла только одну фразу:
— Вы участвуете в заговоре вместе с моим мужем?
— Я не заговорщик.
Она ничего не ответила, и мы молча сидели в темноте.
Он вернулся со своими тетрадями.
— Конечно, это изложено не так, как у профессионального писателя, но здесь много всяких воспоминаний. Используйте их для вашей работы. Но упомяните и мое имя: пусть узнают, что приговоренные к каторге за Июньские дни не были ни такими ужасными невеждами, ни такими страшными злодеями, как их считают.
Она подняла веки и так посмотрела на мужа, что даже я весь похолодел, задетый по пути этим ледяным взглядом. А он, провожая меня, старался заглушить шаги и голос, как это делают в доме, где лежит умирающий или покойник и где нельзя говорить громко.
Я спустился в центр Парижа по безмолвным мрачным улицам, мучимый тревожными мыслями, спрашивая себя, какая драма разыгрывалась между этими двумя существами?
— А, так вы ходили туда, — сказал мне старик, бежавший из дулланской тюрьмы. — Его жена была дома? Молодец женщина! Я видел ее в деле, когда она была еще совсем молоденькой девушкой... крохотная, как мушка, и веселая, как жаворонок. Он даже не заслуживает такого счастья.
— Ну, ясно! Разве ты не знаешь, ведь о нем говорят то же, что и о Рюо, — будто он из шпиков?
— Едва ли! Будь это так, не смотрите, что она такая малютка, — она взяла бы его за усы и, отхлестав по щекам, притащила бы к нам. И передала бы его Мабиллю, чтобы тот пустил ему кровь. Не так ли, Мабилль?
— Да. Если б только ей не было слишком стыдно; а может быть, она его любит... Бывает и так.
В это время кто-то вошел.
— О ком вы говорите?
— О Ларжильере[80].
XII
Ко мне явилось несколько человек и во имя революции потребовали, чтобы я выставил свою кандидатуру в депутаты против Жюля Симона[81].
Я согласился.
Несчастный безумец!
Те, кто думает, что я принял это предложение из честолюбия и желания быть на виду, понятия не имеют о том, как бледнею я и какая меня охватывает дрожь при мысли, что я вступаю в борьбу.
Но раз меня призвали, я не отступлю.
Но что скажу я ему, этому Антуанскому предместью? Как буду говорить с людьми из Шаронны, с блузниками из Пюто? Ведь я могу бросить на весы только едва созревшие теории, которые я даже не имел времени взвесить в своих руках бунтаря.
У меня никогда не было достаточно денег, чтобы купить сочинения Прудона. Я вынужден был брать у друзей разрозненные тома и читать их по ночам.
Хорошо еще, что под рукой была библиотека и я мог время от времени совать нос, а то и погружаться с головой в источники. Но мне приходилось пить залпом, спеша и захлебываясь, ибо на улицу Ришелье я приходил не для изучения социальной справедливости.
Я должен был добывать там из недр книг зерна для своих статей, дававших мне возможность существовать, — статей, которые редактор словаря отказывался принять, если от них несло духом воинственной или плебейской философии. А это случалось иногда, когда мне удавалось хлебнуть из Прудона, — и я ронял тогда красные капли на мою бумагу.
Я не знаю даже половины того, что надо знать, и обречен на позорный провал. Безумец, желающий пойти на штурм старого мира... ученик, готовый восстать против учителя, рекрут, осмеливающийся взять в руки знамя!
Впору отступить, броситься вниз головой с лестницы... как делают беременные девушки, не желающие, чтобы узнали об их позоре...
У меня было сильное искушение поступить так, рискуя изуродовать и искалечить себя: ведь я пострадаю гораздо больше, если заслужу свистки аудитории. Быть раненным — пустяки, но быть осмеянным — это потерпеть крушение всей своей молодости, правда истерзанной страданиями, но все же полной надежд.
Сегодня вечером первое собрание.
Пытаюсь подготовить речь... Легко сказать! Чтобы сделать это как следует, мне потребовался бы не один час. Довольствуюсь тем, что для предстоящего сражения намечаю в качестве путеводных нитей две-три основные линии и разбрасываю по ним идеи, подобно камешкам Мальчика с пальчик. Я буду следовать по намеченному пути, подбирая эти камешки по дороге к людоеду.
Конечно, не мешало бы мне иметь с собой несколько преданных людей. Но ни Пассдуэ[82], ни участников Июня уже нет. Они скрылись, как только я согласился пойти навстречу опасности; разбрелись по своим кварталам в поисках за другими Вентра.
По жестокой случайности, никто из знакомых не живет в том округе, куда мне приказали идти на смерть, как приказал некогда Наполеон своим лейтенантам расположиться на мосту и умереть там. И, заняв место на скамье империала, я в одиночестве отправляюсь в зал клуба.
Сидя на верху омнибуса, я слышу, как восхваляют достоинства моего противника.
— О, он далеко пойдет! Он превратит Лашо в лепешку.
— У него нет других конкурентов?
— Конечно, нет! Кто же из республиканцев осмелится выступить?
Ах ты, несчастный! Да вот подле тебя сидит скромный малый, который, передавая одновременно с тобой три су кондуктору, уронил клочок бумаги, где записаны первые фразы его выступления против твоего фаворита да еще несколько «эффектных», кричащих, как картинки из Эпиналя[83], приемов, которыми он собирается разукрасить свою речь.
Может быть, даже ты сидишь на моих заметках, попираешь задом мое красноречие.
— Мне нужен номер сто пятый.
— Это здесь.
Я быстро сбегаю вниз.
Мой комитет беден, как Иов. Собрание назначено в бывшей конюшне, где с трудом может поместиться человек триста.
Они уже все в сборе.
— Граждане!..
Откуда только у меня бралось все то, что я говорил им? Я сразу перешел к нападению, говорил об отвратительном запахе, о необычности помещения, о нищете, которая делала нас смешными с самого же начала. Я точно срывал эти слова со стен, откуда просачивался лошадиный навоз и где торчали ввинченные кольца, к которым республиканская дисциплина хотела бы привязать и нас, как вьючных животных.
Ну нет!
И я брыкался, становился на дыбы, находя по дороге иронию и гнев.
Раздались отдельные крики одобрения, еще больше раззадорившие меня. Когда я кончил, меня обступили со всех сторон.
Председатель встал.
— Граждане, голосуется предложение выставить кандидатуру Жака Вентра. Руки поднялись.
— Гражданин Жак Вентра избран кандидатом от революционно-социалистической демократии округа.
Приветственный клик трехсот бедняков скрепил торжественно провозглашенную резолюцию.
Мороз пробежал у меня по коже: ведь этот успех ничего не доказывает.
Горсточка приветствовавших меня людей была собрана у порогов беднейших жилищ. Да и мало ли тут таких, которые аплодировали мне лишь потому, что у меня громоподобный голос, или потому, что не хотели вызывать открытого раскола, — и сколько из них покинет меня завтра, чтобы присоединиться к кортежу торжествующего Симона!
Слишком легко досталась мне моя победа. Я чуть ли не касался пальцами всех этих людей, мое дыхание обжигало их лица, а я знаю, что в моих жестах и тоне есть что-то внушительное, действующее на тех, кто стоит так близко ко мне.
Совсем другое дело, когда я окажусь перед лицом врага в громадном, битком набитом зале.
Зал гения
И вот я здесь. Огромный зал переполнен — по крайней мере мне так кажется. Противники мои хорошо подготовились к встрече. А у меня не было времени, и я ничего не приготовил, — ровно ничего. Ни улыбочки вступления, ни хвостика заключения.
Наиболее ревностные из моего избирательного комитета всеми правдами и неправдами заставили меня отправиться по коммунам в погоне за влиятельными лицами. Я бросался туда и сюда, всюду, куда только можно: исколесил весь округ пешком, в омнибусе, в телеге, — больной от всех этих стаканчиков, которые приходилось выпивать перед цинковой стойкой, чтобы чокнуться с честными людьми.
Правда, я только чуть смачивал губы, но тем не менее меня тошнило от вина. Видя, как кисло принимал я угощение, предлагаемое мне от всего сердца, эти люди, конечно, должны были считать меня или очень холодным, или очень гордым.
Единомышленники, которых мы посещали, жили в разных местах и далеко друг от друга; приходилось ловить их то где-нибудь в поле, то вызывать из мастерской, отнимать у них время, подчас компрометировать их в глазах хозяина. Причем случалось иногда и ошибаться на их счет.
Тогда они окидывали меня с ног до головы негодующим взглядом и возмущались, что их могли считать способными помогать мне сеять раскол в партии.
Мелочные волнения, убивающие цвет моей мысли... Изнурительное хождение, во время которого гибли мои идеи.
Ну и дурак я!
Я воображал, что мое жалкое поражение произойдет от того, что я не вооружился целой пачкой доктрин.
Какое там!
Два-три раза мне представлялся случай развивать их, суровые и ясные, перед толпой... Но нашли, что я говорю слишком холодно. Они ждали пламенных речей, и даже мои сторонники дергали меня за фалды и нашептывали, что перед такой публикой нужно пустить волчок громких фраз.
Но если когда-то в руках у меня была плеть красноречия трибуна, то сейчас у меня нет больше желания размахивать ею и разбивать хребты чужих речей. Я стыжусь бесполезных жестов, пустых метафор, — стыжусь ремесла декламатора.
Да, черт возьми! Стоило мне захотеть — и я сумел бы вызвать захватывающие образы, которые потрясли бы этих людей. Но во мне нет больше мужества даже желать этого. Вместе с пылом якобинской веры я утратил и буйный романтизм былых дней. И вот эти люди едва слушают меня. Во мне еще нет твердости убежденного социалиста, но нет больше и данных площадного оратора, какого-нибудь Дантона из предместья. Я сам сбросил с себя все это тряпье. Это не падение, а перерождение, не слабость, а презрение.
Однажды в Булони меня чуть было не укокошили.
— Это вы хотите помешать избранию Симона!
Меня окружили, толкали, били.
Я был один, совсем один.
В первый момент я не придумал для своей защиты ничего другого, кроме старой классической формулы:
— В моем лице вы убиваете свободу слова!
— Ну что ж, убиваем! Да еще кулаком по морде! — заорал белильщик с воловьей шеей.
Бюро испугалось, как бы мое избиение не легло пятном на торжество моего конкурента. Да и я слишком погорячился. Мне, во всяком случае, было чем ответить на подобные аргументы: я мог как следует стиснуть белильщика, между тем как во все время кампании этот угорь Симон скользил у меня между пальцев: липкий и увертливый, слащаво-заискивающий, он всячески старался обезвредить яд моих слов.
То была великая минута. Один! Я осмелился прийти один! — Никогда еще я так не гордился собой, как в тот день бесконечного унижения.
В другой раз я почувствовал прилив гордости при выходе из зала собрания, где знаменитость и я выступали перед толпой один после другого.
Я услышал, как один из членов избирательного комитета сказал, указывая на меня:
— Этот уж заставит чернь слушать себя!
Наконец повинность моя кончилась, избирательная кампания позади. Я свободен!
Там, в стороне Шавилля, есть ферма, где я проводил спокойные и счастливые дни, наблюдая за тем, как молотят пшеницу, как плещутся утки в луже; я потягивал там легкое белое вино под развесистым дубом или валялся на скошенной траве под цветущими яблонями.
Я жажду тишины и покоя. И я иду туда, забывая о выборах в парижских секциях, валяюсь на сене, слушаю кваканье лягушек в зеленых камышах. А вечером засыпаю на грубых холщовых простынях, вроде тех, на какие укладывали меня кузины в деревне.
Деревня!
Да! Я скорее создан быть крестьянином, чем политиканом, крестьянином, готовым взяться за вилы вместе с бедняками в неурожайный год, в голодную зиму.
7 часов утра
Человек с внешностью богатого подрядчика, с толстой золотой цепочкой, в коротких серых штанах и грубых башмаках, явился ко мне, представился как единомышленник и попросил выслушать его.
— Если б вы захотели, то при ваших связях и с вашим талантом...
………………………………….
— Тарди! Тарди!
Тарди — мой старый школьный товарищ, очень бедный, еще беднее меня. Я оплачиваю его каморку рядом с моей комнатой, пропитание же свое он окупает перепиской моих статей.
Я зову его на помощь. Он выскакивает на площадку лестницы в одной сорочке.
— Полюбуйся-ка на этого типа! Он пришел купить меня... и вообразил, что я способен выслушать его, этакий мерзавец!
— Нет, нет, сударь, — бормочет субъект, бледный как смерть, и, спотыкаясь, спускается с лестницы.
— Поживей, а не то я расправлюсь с вами!
— Нет, нет, сударь... — повторяет он, скатываясь кубарем.
Но как они посмели? Кто подослал его?
Расходы по избирательной кампании взял на себя мой комитет, но при содействии одного человека, который, заверив, что хочет послужить делу, предоставил деньги на афиши и бюллетени.
Надо разыскать того субъекта, вывести его на чистую воду.
Я предупредил товарищей. Они тянули...
— Вы стоите выше этого, — заявили они мне наконец, пожимая плечами.
Я продолжал настаивать.
— Бросьте вы это!
Тем не менее во мне осталось какое-то неприятное чувство, и я боюсь, что за всем этим скрывается опасность, когти которой еще дадут себя знать.
XIII
Я один из десяти выбранных народным собранием, чтобы отправиться с запросом, почти с требованием к депутатам Парижа.
Мильер[84], Тренке, Эмбер, Курне тоже входят в число этих десяти.
К кому пойдем мы в первую очередь? Кого из депутатов атакуем первым?
В маленьком кафе, где встретились члены комиссии, мы разыскали в адресной книге адрес Ферри, — он живет где-то на улице Сент-Оноре.
— К Ферри!.. Вы, Вентра, из его округа, вы и будете с ним говорить.
Безмолвный, степенный дом, просторный вход, пышная лестница.
Я поднимаюсь с таким волнением, как будто взбираюсь по ступенькам эшафота.
— Здесь...
На наш звонок выходит горничная.
— Дома господин Жюль Ферри?[85]
— Да, дома.
Ноги мои дрожат. Я белее фартука служанки, который, впрочем... не отличается особенной белизной.
— Как прикажете доложить?
Мы переглядываемся. Ни один из нас не пришел лично от себя; но, с другой стороны, мы не выступаем как представители какого-нибудь признанного комитета или определенного республиканского общества.
— Скажите, что пришли люди из шестого[86] и желают что-то сообщить.
— Из шестого? У нас нет шестого этажа!
Объясняемся... не без труда. Девушка чего-то боится.
— Плевать я хочу! Мы пришли и не уйдем! — заявляет Тренке и прислоняется к стене, как часовой.
Появляется буржуа в коротеньком пиджаке с вытянутой физиономией.
— Что вам угодно, господа?.. — произносит он, обращая на нас свой мрачный, — и какой еще мрачный! — взгляд.
Голос его слегка дрожит, также и руки.
Короткое молчание.
Надо начинать!
— Вам, конечно, известно, милостивый государь, письмо господина де Кератри, где он предлагает всем депутатам в ответ на декрет об отсрочке открытия Палаты[87] явиться к Бурбонскому дворцу в день и час, когда согласно закону должна была открыться сессия. Народное собрание постановило потребовать от представителей Парижа, чтобы они категорически высказались по этому поводу, и поручило нам добиться их присутствия на заседании, где народ выразит свою волю... Вы придете?
Руки его продолжают дрожать; такой широкоплечий и как будто решительный с виду, он, по-видимому, в замешательстве.
— Я не отказываюсь. Но я должен посоветоваться со своими коллегами. Я поступлю так, как они.
— Мы передадим ваши слова кому следует, — провозгласил я тоном сентябриста[88].
Мы поклонились и вышли.
Теперь на площадь Мадлен.
— Можно видеть господина Жюля Симона?
— Войдите, господа.
Вот он, знаменитый чердак.
Многого о нем не скажешь. Это, конечно, не крысиная нора, но далеко и не дворец, запрятанный под крышу.
У Симона вкрадчивые, кошачьи движения, жесты священника, он закатывает глаза, как святая Тереза в истерическом припадке, на языке у него елей, кожа лоснится, губы сморщены, как гузка рождественского гуся. Он узнает меня и идет навстречу, протягивая пухлые потные пальцы.
— Мой бывший и уважаемый соперник...
Я заложил руки за спину и отошел в сторону, предоставив другим опросить этого субъекта.
Как и Ферри, он отвечает что-то неопределенное — он, мол, тоже явится, если так решит его группа.
На лестнице обсуждается мой отказ от рукопожатия.
Мильер возмущается. В качестве старшего он обвиняет меня в том, что я наношу оскорбления из личного самолюбия, и заявляет, что не потерпит, чтобы следующие посещения нарушались подобными выходками.
Он пойдет теперь к г-ну Тьеру[89], но будет «вежливым», — прибавляет он, глядя на меня.
— Будьте, чем вам угодно! Что до меня, так я оставляю за собой свободу не прикасаться к руке врага.
— Вы прекрасно поступили! — одобряет меня молодежь.
Я поступил так, как мне нравилось. Я не признаю ни за кем, даже за старшим, права распоряжаться моими рукопожатиями.
Но как не пожать лапу этому благодушному толстяку с рыжими бакенбардами, с огромным животом и раскатистым смехом, который, прежде чем я еще успел выставить клыки, жужжит мне прямо в ухо:
— А, ругатель, как поживаете? Вы можете быть довольны, что так здорово разделали нас в вашей «Улице»! Да, нечего сказать!
И, похлопывая меня по тому месту, где полагается быть брюшку, он спрашивает, что привело нас к нему.
— Итак, господа, чего же наконец хочет народ? Может быть, он прислал вас за моей головой? Так, видите ли, у меня есть одна маленькая слабость: я дорожу ею. Знаете... старая привычка...
Его слова и вся его фигура дышат добродушием[90].
У этого пальцы не дрожат, они выбивают на столе мотив песенки «Мамаша Годишон», а голова его вертится на туловище пингвина с легкостью и подвижностью колибри.
— Так вам надо знать, пойду ли я на демонстрацию двадцать шестого?..
— Двое из ваших коллег уже дали свое согласие.
— На это мне, положим, наплевать!..
— Значит, вы не придете?
— Ни в коем случае! Подставлять свою голову, не зная, как повернется дело?.. Да вы с ума сошли, мой милый!
Он смеется, и вы невольно смеетесь вместе с ним, потому что этот по крайней мере хоть не виляет.
— Если Бельвилль[91] победит, — я буду тут как тут. Но втягивать его в это дело насильно, разыгрывать Брута... нет, дети мои, это не для меня! Я ни во что не впутываюсь, не даю никаких обещаний. Нет, нет!
И он щелкает ногтем по зубам.
— Все вы кажетесь мне добрыми малыми и достаточно убежденными для того, чтобы дать разбить себе башку. Я, конечно, преклоняюсь перед такими головушками, но свою прячу подальше... Да! кстати, ругатель, вы мне приписали фразу: «Манюэль[92] был героем, но он не был переизбран». Я этого не говорил, но действительно так думаю... Ну, до свидания! Честное слово, можно подумать, что вы все только и мечтаете о том, как бы поскорее отправиться на тот свет. А я вот цепляюсь за жизнь, — таков уж мой вкус! Да оно и понятно, черт возьми: вы — тощие, я — тучный... Осторожно, там ступеньки! Да, послушайте: если вас упрячут в тюрьму, я принесу вам сигар и бургонского. И какого еще!
Он свешивается через перила и посылает нам всей пятерней звонкий, многообещающий поцелуй.
Пельтан[93]. Голова апостола.
Он и в самом деле пророчествовал. Это — начетчик революции, бородатый миссионер, пропагандирующий республиканскую веру; у него манеры, взгляд и жесты капуцина, члена Лиги[94]. С кропильницей Шабо[95] в руках он изгонял беса из июньских инсургентов и отлучал их через решетки подвала Тюильри. Одержимый, — он вполне искренне считал их мерзавцами и продажными.
Что-то скажет он нам?
Ничего особенного... он тоже должен посоветоваться со своими коллегами. И он простер к нам свои волосатые руки, как бы благословляя нас.
— Аминь! — протянул, гнусавя, Эмбер.
Наш обход окончен.
А Гамбетта?
Гамбетта придумал ангину; он прибегает к ней всякий раз, когда опасно высказывать свое мнение.
Меня не проведешь этим трюком, я знаю, под чью он пляшет дудку.
Но рискованную игру ведут те, кто насмехается над народом. Сейчас у них ангина так, в шутку, но настанет день, когда им перережут горло всерьез.
Жюль Фавр[96] разорвал наше требование, даже не читая, и его толстые губы скривились в гримасу величайшего презрения.
Видел ли Мильер Тьера? — Не знаю. Во всяком случае, если он его и встретил, то не нахлобучил ему на уши его серую шляпу, — уж это наверно!
Бансель[97] в отъезде, в провинции.
Явятся ли они?
Зал Бьет, бульвар Клиши
Они явились.
По расшатанной лестнице поднялись они в залу с голыми стенами, освещенную коптящими лампами и уставленную вместо кресел старыми школьными скамьями.
В глубине, на подмостках, сооруженных из толстых побеленных досок, поставили стол и несколько соломенных табуреток.
Там народные представители будут сидеть, как на скамье подсудимых; с этой плохо обтесанной трибуны совесть предместий голосом нескольких деклассированных, одетых в пальто или куртки, произнесет свое обвинение и будет поддерживать его перед судом, — судом из пятисот или шестисот человек, чей приговор хотя и не будет иметь силы закона, не станет от этого менее грозным для тех, кого он покарает: перст народа заклеймит их.
Я стою в группе, где страстно разглагольствуют и жестикулируют.
Обсуждают, кого бы предложить аудитории в качестве председателя.
Жермен Касс[98] интригует, упрашивает, бегает взад и вперед, — старается быть на виду...
Мильер надел свою самую широкополую шляпу и похож в ней на квакера. С напряженным, горящим под очками взглядом, с сжатыми губами и нервными жестами, он требует для себя этого отличия из уважения к его прошлому и возрасту и обещает, — при этом он жует слова, как члены секты аиссуа[99] жуют стекло, — быть Фукье-Тенвиллем[100] собрания.
Решено предложить его кандидатуру. Вожакам даются соответствующие указания. Один только Касс плачется и ворчит; он охотно вцепился бы зубами в икры Мильера, если б только посмел. Но какой-то кузнец, услышав, как он скулит, быстро усмиряет его; он затихает и забивается в угол с оскаленной пастью, но с поджатым хвостом.
Вот и они!
Ферри, Симон, Бансель, Пельтан.
Их появление встречают ропотом. Они сразу должны догадаться, что попали во вражеский лагерь. Едва сторонятся, чтобы дать им пройти.
Где они, эти трубачи и офицеры, эти фанфары и этот кортеж, которые обычно сопровождают председателя Палаты; где они, эти швейцары в черном, с серебряной цепью на груди?
Здесь только плохо одетые люди.
Среди собравшихся депутаты Парижа могут заметить социалистов, уже выступавших на публичных собраниях; сейчас они, бледные и решительные, обдумывают обвинительные речи, которые произнесут от имени суверенного народа.
— Мильер, Мильер!
Он готов, и ему остается только сделать один шаг, чтобы занять место за зеленым столом.
— Вы будете выступать, Вентра?
— Нет.
Я недостаточно уверен в себе, да и не пользуюсь таким доверием этого трибунала в блузах, как те, кто каждый вечер приходил поговорить с ними в новые клубы.
Если бы еще не было сказано всего, что нужно, я, может быть, и решился бы. Но я знаю, будет сказано все.
Я вижу это по блеску некоторых глаз, чувствую по трепету, пробегающему по залу, читаю это даже на лицах самих обвиняемых. Они серьезны и вполголоса обмениваются тревожными замечаниями.
— Граждане, заседание открыто!
Сейчас начнется расправа!
Готовь свой гнев, Брион![101] Вооружайся презрением, Лефрансе![102] Пропитай ядом свой язык и ты, Дюкас!
XIV
Брион — Христос, только косоглазый, в шляпе Вараввы. Но в нем нет покорности; он вырывает копье из своего бока и, раздирая до крови руки, ломает терновый венец, оставшийся на его челе, челе бывшего мученика той Голгофы, что зовется Центральной тюрьмой.
Он был приговорен к пяти годам за принадлежность к тайному обществу, но его выпустили на несколько месяцев раньше срока, так как он стал харкать кровью. Вернувшись в Париж без единого су в кармане, он так и не залечил своих легких, но в его изнуренном теле крепко сидит живучая душа Революции.
Проникновенный голос идет из больной груди, как из надтреснутой виолончели. Трагический жест: рука поднята точно для клятвы. Порой его с головы до ног, словно древнюю пифию, потрясает дрожь. Глаза его, похожие на дыры, проткнутые ножом, пронзают закоптелый потолок клубных зал, подобно тому как восторженный взгляд христианского проповедника пронзает своды собора, чтобы устремиться прямо к небу.
Болезни, тюремное заключение не помешали ему заняться изучением великих книг, и он выжал из них весь сок, разжевал самую их сердцевину. Это поддерживает его, как горячая бычья кровь, выпитая прямо на бойне. Он живет своей страстью, — пылкое сердце поддерживает его грудь; из своей болезни он вывел даже целую теорию, и, хотя он не подозревает этого, она является дочерью его страданий и в его устах наводит ужас. «Капитал погиб бы, если б каждое утро колеса его машин не смазывались маслом из человеческой крови и пота. Эти звери из чугуна и стали нуждаются в уходе и наблюдении рабочего».
Ему самому тоже не помешал бы уход за его истекающими кровью бронхами, как не помешали бы его расшатанному организму несколько капель масла, именуемого вином.
Но об этом нечего и мечтать! Он сидит чуть ли не на одном хлебе и воде. Он делает листья к искусственным цветам, а это ремесло сейчас не в ходу. Его орудия производства разрушают остаток его жизни — яд приходит на помощь голоду.
Но другой яд — свет газовых ламп и тяжелые испарения, идущие от массы людей, набившейся в слишком тесных помещениях, — нейтрализует первый: клин вышибается клином. В этой атмосфере Бриона охватывает лихорадка, она электризует его, поднимает над толпой и уносит ввысь.
Как бы то ни было, он живет полной жизнью. Каждый вечер, раздвигая своим красноречием границы настоящего, он за три часа переживает больше, чем иные за целые годы; в своих мечтах он захватывает будущее; больной, он бросает живительные слова легиону рабочих с плечами атлетов и железной грудью, глубоко растроганных при виде того, как этот пролетарий без легких убивает остатки своего здоровья, защищая их права.
Бриона всегда сопровождает товарищ ниже его ростом, одетый в сюртук, какие носят домовладельцы; у него медленная походка, голова всегда немного набок, под мышкой — зонтик.
Он похож — до того, что можно ошибиться, — на человека, который в 1848 году в Нанте поразил меня смелостью своих речей. За эту смелость он поплатился скромной службой, дававшей ему возможность существовать. Его хозяева, задетые и напуганные тем влиянием, какое он приобрел в клубах, дали ему расчет, и он просто, с достоинством, простился с народом.
«Я не могу дольше оставаться среди вас, — сказал он, — я несу крест всех голодающих. Я уезжаю в Париж, там мне, возможно, удастся продать свое время за кусок хлеба... там мне, бедняку, может также представиться случай отдать свою жизнь, если в день восстания потребуется заткнуть собой какую-нибудь брешь».
Несколько времени спустя стало известно, что он принес обещанный дар. Его изрешеченный пулями труп был поднят у подножья баррикады на Пти-Пон — каменной трибуны этого социалиста, загнанного в тупик голодом и нашедшего выход в смерти.
Лефрансе своим желтым задумчивым лицом и глубокими, кроткими глазами напоминает мне этого человека. На первый взгляд кажется, что это смиренный христианин. Но подергивание губ выдает в нем страстность глубоко убежденного человека, а проникновенность голоса — возвышенную душу этого обладателя старомодного зонтика. Горячая, трепетная речь звенит и переливается в порыве гнева; но жесты его просты и скромны, как и его костюм и шляпа, которые ничем не выделяют его из толпы. Его слова не пылают огнем, хотя они и жгут.
Его голова мечтателя почти неподвижна на хилом туловище, стиснутый кулак не потрясает дерево трибуны, своим жестом он не пронзает грудь врага.
Он опирается на книгу, как и в те времена, когда был преподавателем и смотрел за порядком в классе.
Иногда даже в начале его речи кажется, что он дает урок, с линейкой в руках, как настоящий учитель; но стоит ему подойти к сущности вопроса — и он забывает свой педантический тон и становится молотобойцем, выковывающим идеи, которые сверкают и искрятся под ударами его высоко взлетающего молота. Он бьет прямо и сильно. Это самый опасный из трибунов, потому что он сдержан, рассудителен и... желчен.
Желчь народа, огромной толпы с землистыми лицами, проникла в его кровь; она окрашивает его насыщенные фразы, придает его импровизациям звучность медалей из старого золота.
Этот адвокат истекающих кровью страдает революционной желтухой и обладает чувствительностью человека, с которого содрана кожа; уязвленный сам, он язвит других, даже не желая того; он честен и мужествен, и жизнь его так же громко, как и его красноречие, говорит о его убеждениях. Этот Лефрансе — крупнейший оратор социалистической партии.
Дюкас — весь какой-то растопыренный. Он таращит свои круглые глаза; раздвигает острые локти, расставляет заплетающиеся на ходу ноги; широко разевает прорезанный, как щель копилки, рот, откуда вырывается резкий, хриплый голос, звук которого царапает вам не только барабанную перепонку, но и кожу.
— Ты похож на рыжего кота, который пакостит на горячие угли, — сказал ему как-то Дакоста[103].
Он похож также и на кота, царапающего когтями оконные стекла в комнате, где его забыли и где он просидел три дня, изнемогая от голода и бешенства.
Есть что-то двойственное в этом малом с рыжими волосами: он разыгрывает Марата с миной ошеломленного Ласуша[104], проповедует гильотину с жестом марионетки, подражает интонациям Грассо, говоря о «бессмертных принципах», и восклицает: «Ньюф! Ньюф!» — между двумя тирадами о Конвенте.
Сухой, как палка, руки, как спички, ноги, как веретена, весь словно на тонкой железной проволоке, — он кривляется и бренчит, как связка деревянных паяцев у входа в дешевый магазин. А до чего он был смешон в этой роли свирепого шута за столиком кафе, уставленным кружками пива, которые он прибаутками и угрозами отвоевывал у буфетчика.
— Если ты нальешь с пеной, я тебя повешу! А если не принесешь еще две полных кружки — для меня и гражданки, — тебе отрубят голову, когда наступит революция. Утоли же народную жажду, да поживей!
Несчастный хозяин кафе бежит со всех ног, инстинктивно проводя тыльной стороной руки по затылку.
Ньюф! Ньюф!
Но когда «Ньюф! Ньюф!» выступает на собрании, перед народом, — он напоминает Говорящую голову. Он торжественно подымается по ступенькам эстрады, вращая зрачками, хмуря брови; три волоска его шафранной бородки воинственно торчат вперед. На нем узкий сюртучишко, из которого выпирают его острые кости, и панталоны цвета жженого трута, штопором спадающие на женские ботинки из серого тика. Но его ноги недоноска так малы и сухи, что болтаются и в этих ботинках.
Он прижимает к себе портфель, напоминающий портфель чиновника или учителя городской школы. От долгого пользования черная кожа покрылась белыми пятнами, но тем не менее народ относится к этому портфелю с большим уважением.
Как будто в нем лежат наказы революции, постановление об ограничении богачей, смертный приговор спекулянтам и объявления для наклейки на дверях Комитета общественного спасения.
Этот портфель создал ему репутацию сурового труженика, поглощенного своей работой социалистического монаха или методичного террориста. И когда его маленькая фигурка появляется на трибуне и он медленно-медленно раскрывает свою кожаную папку, чтобы достать из нее какую-то заметку, а потом, гнусавя, читает ее, как читает священник стих из евангелия, который он собирается толковать, — среди собравшихся проносится шепот: «Тсс!..» Сморкаются потихоньку, как в церкви перед началом проповеди, и правоверные, убежденные, что «все должно быть, как в 1793 году», благоговейно слушают его, косо поглядывая на соседей, подозреваемых в модерантизме.
— Вот этот без колебаний отдаст приказ рубить головы!
Это сказано нарочно для меня... для меня, который, пожалуй, призадумался бы над этим. В зале Денуайе за мной установилась репутация человека, который не стал бы действовать так, как «наши отцы», отступил бы перед крайними мерами и после третьей жертвы предложил бы палачу пойти закусить и выпить.
Но Дюкас поступил бы, как «наши отцы», и, чтобы не пропадало даром время, собственноручно принес бы завтрак на эшафот.
— Да, граждане, только в тот день я по-настоящему исполню свой гражданский долг и сочту себя достойным высокого звания революционера, когда по моему указанию сделают «чик-чик» какому-нибудь аристократу.
И он издает это «чик-чик», сопровождая его сначала жестом забавника-полишинеля, — народу нравятся дерзкие и смешные гримасы, — а затем повторяет это движение с торжественностью исполнителя приговора над Стюартом или Капетом, который обнажает шпагу, опускает ее на королевскую шею и отсекает голову, дотоле священную и неприкосновенную.
Его слова точно лижут нож гильотины, и он оттачивает лезвие на оселке своего жестокого и бичующего красноречия. Как обезьянка, цепляющаяся хвостом за веревку колокола, он хватается, смеясь, за веревку палача.
11 часов вечера
Ну конечно, сказано все, что было нужно сказать. Я почувствовал вдруг, что существует еще одна неизвестная партия, минирующая почву под стопами буржуазной республики, и я предугадал близкую грозу. Непоправимые слова вспыхнули под низким потолком, как зарницы в готовом разверзнуться небе.
Депутаты Парижа покинули зал подавленные и униженные, смертельно бледные перед агонией своей популярности.
XV
10 января 1870 г. [105]
Мы в библиотеке Ришелье.
— Хороши шутки! Ходят слухи, будто Пьер Бонапарт убил своего портного, — говорит хриплым голосом человек в очках, с длинным носом, густой бородой и насмешливым ртом. Зовут его Риго[106].
— Вот это замечательно! Бонапарт — под арестом, и портные не смеют больше требовать уплаты по их «маленькому счетику»... Впрочем, шутки в сторону! Надо узнать, правда ли это, и тогда уж действовать.
— Кто сообщил тебе эту новость?
— Бывший сыщик, уволенный за что-то; он доставляет нам теперь заметки; как бишь его?.. ну, тот, кому заказана книга, разоблачающая префектуру... Ты идешь в «Марсельезу»?[107]
— Бегу!
По дороге к нам присоединяются товарищи.
— Убит вовсе не портной... а один из ваших...
— Кто-нибудь из сотрудников?..
— Да, убит наповал! Идемте все на улицу Абукир.
— А знаешь, Вентра, это, конечно, большое несчастье для нашего приятеля, но зато как хорошо это, черт возьми, для социальной революции.
Будет хорошо. Почин действительно сделал один из наших — Виктор Нуар.
— По-видимому, негодяй всадил ему пулю в грудь, но говорят, что он еще жив.
— Жив?.. Кто идет со мной?
— Куда?
— К Бонапарту!.. В Отейль, в Пасси, я и сам не знаю... словом, туда, куда сегодня утром отправился Нуар... Абенек, дайте нам сто франков.
— Нужны не только деньги, но и оружие! — кричат Эмбер и Марото.
Абенек, секретарь редакции, не особенно одобряет нас.
— Нате, вот пятьдесят франков. Возьмите извозчика, поезжайте туда скорее... Но зачем оружие? Достаточно одной жертвы. Вы можете все погубить, осложнить положение... Оставьте убийство на ответственности убийцы!
— Не оставить ли ему и убитого?
— Кто едет в Отейль, занимайте места!
Мы богаты: пятьдесят серебряных кругляков да десять свинцовых.
Извозчичья карета едва плетется. Спускается вечер... на набережной свежеет.
— Где вы велели остановиться? — спрашивает извозчик. Он забыл уже, куда его нанимали, и с беспокойством всматривается в печальную даль.
Мы назвали ему какой-то выдуманный адрес, указывающий только нужное направление.
— Вам скажут, когда выедете за заставу.
Приехали.
Никаких следов разыгравшейся здесь драмы. Мы опрашиваем одного за другим редких прохожих. Они ничего не знают...
— Где дом принца Пьера?
— Здесь!.. Нет!.. Дальше!..
Наконец замечаем красный фонарь: полицейский участок.
Нечего долго раздумывать, войдем!
— Милостивый государь, мы — сотрудники «Марсельезы». Говорят, что Виктор Нуар...
— Ранен... Да, сударь.
— Опасно ранен?
Он безнадежно разводит руками и исчезает.
Нуар перенесен к своему брату на тихую, мирную улицу в Нейи. Несколько деревьев простирают свои черные обнаженные ветви над новыми домами, от которых веет спокойствием и пахнет известью.
Переулок Массена; это здесь.
К нам выходит старший брат. Наши взгляды спрашивают, его молчание служит нам ответом.
Не говоря ни слова, он вводит нас в окутанную сумерками комнату, где находится покойник.
Он лежит, вытянувшись на нераскрытой постели, его лицо чуть ли не улыбается. Точно большой спящий ребенок. Руки еще в лайковых перчатках, что делает его похожим также и на шафера, прилегшего отдохнуть, пока свадебные гости веселятся в саду.
На нем кашемировые панталоны, купленные в «Белль-жардиньере» для торжественных случаев, — он любил пощеголять; манишка сорочки облегает без единой морщинки его широкую грудь, но в одном месте на ней виднеется синее пятно. Это пятно оставила пуля, проникая в сердце.
— Скажите, агония была страшная?
— Нет, но нужно устроить страшные похороны.
С наших пересохших от волнения губ срываются торопливые, пылкие слова.
— А что, если мы возьмем его с собой?.. Будет, как в феврале...[108] Посадим его на телегу, как тех, расстрелянных на бульваре Капуцинов, и будем ездить по улицам, призывая к оружию...
— Вот это так!
Наши голоса сдавлены рыданием, но тон решителен.
— Захочет ли извозчик везти покойника?
— Он ни о чем не догадается. Мы натянем на него пальто, вынесем его, как больного; спустившись с лестницы, надвинем ему пониже шляпу и внесем в экипаж...
Даже Луи не колеблется и отдает в наше распоряжение своего младшего брата.
Но вдруг нас охватывает страх.
— Не можем же мы вчетвером поднять народ!
И на горе революции мы оказались слишком скромными, — а может быть, просто трусами!
Мы выпустили козырь из рук, не рискнули на эту кровавую ставку.
Мы отправились обратно в город
Смеркалось... И когда мы высунулись из дверцы кареты, чтобы взглянуть еще раз на дом, где лежал наш друг, нам показалось, что он сидит, облокотившись на окно, и смотрит на нас широко раскрытыми глазами.
Это брат его подставлял вечернему ветру свой влажный лоб и покрасневшие веки.
Нам сдавило горло. Они были похожи друг на друга как две капли крови.
В редакции «Марсельезы»
Париж уже знает о преступлении.
Сотрудники безотлучно дежурят в редакции, куда со всех сторон стекаются республиканцы.
Приходит Фонвьель в продырявленном пальто, — пуля пробила ему новую петлицу. Он рассказывает, что видел, как был вытащен из кармана пистолет и наведен на Нуара, как попала в него пуля и он побежал, смертельно раненный, судорожно сжимая руками шляпу.
— А вы? — спрашивают нас.
Мы рассказываем о нашей поездке, о возникшей у нас идее.
— Но где бы вы его положили?
— Здесь!.. — В предместье!.. — У Рошфора! Его жилище неприкосновенно.
Это положение страстно защищается.
— Как депутат он имеет право прогнать ударом шпаги или выстрелом из ружья всякого, кто осмелится перешагнуть его порог. И кто знает? Улица Прованс не так уж далеко от Тюильри!..
А я, я хотел бы даже, чтобы Виктор Нуар лежал сегодня ночью на нашем рабочем столе, как на плитах морга, и чтобы любимцы народа, — будь они в сюртуке или рабочей блузе, — стояли в карауле возле убитого.
— Но для этого надо, чтобы он был здесь.
— Так едем за ним!
Но произнесены уже роковые для революции слова: «Слишком поздно».
За тем домом, конечно, следят, он окружен теперь.
Мы действовали, как настоящие журналисты...
А между тем представлялся такой прекрасный случай!..
Разве можно во время гражданской войны давать остывать мужеству и смелости! И тот, кто готов бесстрашно поставить на карту свою жизнь, — разве не имеет он права воздвигнуть баррикаду так, как находит это нужным, и отдать ее под команду мертвеца, — если убитый внушает больше страха, чем живой.
Он был гигантского роста и с такой огромной головой, что потребовалось бы по крайней мере двадцать пуль, чтобы раскрошить ее на его геркулесовских плечах.
А пока что — Париж волнуется. В Бельвилле собрание. Большой зал Фоли-Бержер полон негодующего народа.
Над эстрадой траурное полотнище, и под сенью этого лоскута раздаются взрывы ярости против убийцы, назначается боевая встреча у гроба убитого.
«Пора положить этому конец!»
Еще одна фраза, брошенная некогда, в трагические часы, — слова, подобранные в глубинах истории, выкопанные на кладбище инсургентов прошлого, чтобы стать девизом инсургентов завтрашнего дня.
И всюду женщины. — Это знаменательно.
Когда вмешиваются женщины, когда жена сама подталкивает мужа, когда хозяйка срывает черное знамя, развевающееся над ее котелком, чтобы водрузить его на баррикаде, — это значит, что солнце взойдет над охваченным восстанием городом.
12 января
Мы все должны встретиться на похоронах.
Только надо, чтобы похоронная процессия двинулась из редакции «Марсельезы»; чтобы сбор состоялся на той улице, где помещается газета; чтобы взбудораженный квартал наводнили возмущенные демонстранты и чтобы они не двигались в путь, пока не соберутся тысячи.
Кто знает, быть может, этот людской поток увлек бы за собой полки и артиллерию, затопил бы пороховые погреба империи и унес бы Наполеонов, точно какую-то падаль?
Все может быть!
У Одеона
Шествием руководит Риго; как сержант, распекающий рекрутов, как овчарка, собирающая стадо, он выравнивает одних, лает на других.
— По четверо, сомкнутыми рядами! Держитесь строя, черт возьми!..
Раздаются суровые слова:
— Кто с пистолетами — вперед!
И тут же шутливые:
— Трусы в середину!
В хвосте идут те, кто вооружен только циркулями, ланцетами, ножами с металлическими ручками, — последние, впрочем, могут нанести ужасные раны, — полосами стали или железа, спрятанными под рабочими блузами... Ведь в этой колонне Латинского квартала полно рабочих.
Они были соседями студентов и стали их товарищами по тайному обществу «Ренессанс»[109] или по какому-нибудь другому, раскрытому и преследуемому. Они входили в состав социалистических комитетов наряду со сторонниками кандидатур Рошфора и Кантагреля; пили вместе с ними кофе с коньяком в дни выборов, питались хлебом из отрубей в Мазасе.
Риго более уверен в этих ребятах из мастерских, чем в учащейся молодежи. Вот почему он поместил их в арьергарде. Они пинками будут подталкивать центр; пырнут тех, кто попытается бежать.
Рассказывая мне это, он не перестает нюхать табак. Его подбородок испачкан, жилет весь замусолен, ноздри обожжены. Но лицо и взгляд его сияют гордостью.
Он поскрипывает своей табакеркой, точно Робер-Макер[110], но он заставляет меня также — этакий мошенник! — вспомнить и Наполеона, который достает щепотку табаку из жилетного кармана, не переставая диктовать план битвы.
Что и говорить, в нем что-то есть!
Когда он поглаживает револьвер и с таким видом, словно треплет щечку ребенка, приговаривает: «Спи, мое дитятко, спи»,б— а вслед за тем, задорно грозя ему пальцем, прибавляет: «Придется-таки тебе проснуться, постреленок, и поплевать на сипаев»[111], — это успокаивает центр, не допускающий, чтобы можно было так шутить перед лицом настоящей опасности.
Нельзя сказать, чтобы это не нравилось и решительным людям. Они чувствуют, что этот бородатый весельчак в очках одинаково хорошо будет осыпать солдат как пулями, так и бранью и подставит грудь или покажет им свой зад, проявит себя героем или насмешником в зависимости от того, примет ли дело трагический оборот, или выльется в фарс.
По дороге
— Вперед!
В первом ряду выступают пять или шесть молодых людей в пенсне, рассудительных с виду.
Из всей толпы только у одного Риго легкомысленный вид. Да и он, может быть, казался бы серьезнее, если б нарочно не взъерошил волос, не говорил хриплым голосом и если бы для выражения своей точки зрения на духовенство, аристократию, магистратуру, армию и Сорбонну он не усвоил жеста собачонки, которая, подняв заднюю лапку, бесчестит какой-нибудь памятник.
Брейле, Гранже, Дакоста похожи на ученых, испортивших себе глаза над книгами.
Постоянные участники демонстраций недоумевают, почему эти «очкастые» разыгрывают из себя начальников.
Они не напоминают ни Сен-Жюста, ни Демулена, ни монтаньяров, ни жирондистов. Притом некоторые слышат, как они называют дураками и предателями «депутатишек» левой.
Кто эти люди? — Это сторонники Бланки.
Отовсюду маленькими группами или целыми батальонами, как мы, Париж направляется в Нейи. Идут стройными рядами, если собираются человек сто, или взявшись за руки, если сходятся всего четверо.
Это — куски армии, стремящиеся соединиться, лоскутья республики, которые снова склеиваются кровью убитого Нуара. Это зверь, которого Прюдом называет гидрой анархии; он поднимает свои тысячи голов, спаянных с туловищем одной и той же идеей, и в глубине его тысяч орбит сверкают раскаленные угли гнева.
Языки не издают свиста; красный лоскут не шевелится. Нечего говорить друг другу, — все знают, чего они хотят.
Сердца переполнены жаждой борьбы, — переполнены также и карманы.
Если обыскать эту громадную толпу, у нее нашли бы всевозможные наборы инструментов и всякие кухонные принадлежности: ножи, сверла, резаки, клинки, воткнутые в пробки, но готовые каждую минуту освободиться от них, чтобы проткнуть шкуру какого-нибудь шпика. Только бы он попался... с ним уж расправятся!
И пусть берегутся полицейские крючки. Если они обнажат сабли, мы зазубрим орудия труда об их орудия убийства.
Для белоручек тоже нашлось дело, и дорогие, изящные пистолеты становятся влажными в разгоряченных, затянутых в перчатки руках.
Порой заостренная, как кинжал, мордочка какого-нибудь из этих инструментов или пасть одного из револьверов выглядывают из-под пальто или из-под плохо застегнутого сюртука. Но никто не обращает на это внимания. Напротив, даже дают понять с гордой улыбкой, что они тоже могут и хотят ответить как следует не только полиции, но и войскам.
Но безмолвствует полиция... Невидимы войска...
Это заставляет меня призадуматься. А вдруг в нас начнут сейчас стрелять откуда-нибудь сбоку, из дома с запертыми дверями и закрытыми ставнями, при первом же крике против империи, вырвавшемся у какого-нибудь пламенного республиканца или брошенном провокатором?
— Тем лучше! — говорит мой сосед, похожий на карбонария. — Буржуазия выползла из своих лавок и примкнула к народу. Теперь она — наша пленница, и мы будем держать ее перед жерлами пушек до тех пор, пока ее не распотрошат, как нас. Тогда она взвоет от боли и первая подаст сигнал к восстанию. Нам останется только ловко овладеть движением и перестрелять всю банду: буржуа и бонапартистов!
Серьезное лицо обращено в нашу сторону, сморщенная рука опускается на мое плечо. Это — Мабилль. Он пришел как раз вовремя, чтобы услышать теорию избиения этого алгебраиста, — теорию, которую он вполне одобряет, кивая своей седой головой.
Я спрашиваю его, вооружен ли он.
— Нет. Лучше будет, если меня убьют безоружного. Сентиментальные люди наговорят много громких и красивых слов о беззащитном старике, убитом пьяными солдатами. Это будет очень хорошо, поверьте мне!.. Ах, если б только пролилась кровь, — закончил он, и его голубые глаза светились кротостью.
— Нам стоит только выстрелить первыми.
— Нет! Нет! Пусть начнут шаспо![112]
Пассаж Массена
Риго, я и еще несколько человек прошли сквозь расступившуюся перед нами толпу.
Она не горда и не обижается, когда ее обгоняют. В часы великих решений она любит, чтобы ее возглавляли живые лозунги, известные ей личности, с именем которых связана определенная программа.
Что происходит?
Какой-то колосс, взобравшись на соломенный стул, словами и кулаками защищает входную решетку от авангарда кортежа.
Это — старший Нуар, тот, что накануне соглашался выдать еще теплое тело своего брата, чтобы зажечь восстание.
Он остыл вместе с покойником.
И сегодня он отказывается выдать гроб Флурансу;[113] бледный, с горящими глазами, тот требует его для нужд революции, с тем чтобы погребальная процессия прошла через весь Париж, — потому что дышлом похоронных дрог можно будет, как тараном, украшенным мертвой головой, пробить брешь в стенах Тюильри.
Эти стены могут рухнуть еще до наступления ночи, если не упустить случай и повернуть в сторону Пер-Лашеза[114] лошадей процессии, стоящих головой по направлению к кладбищу Нейи.
— Как вы думаете, господин Вентра, будут сражаться?
Я не знаю того, кто ко мне обращается.
Он называет себя.
— Я Шарль Гюго... Вы не в ладах с моим отцом (литературные разногласия!), но зато, мне кажется, вы хороши с наиболее энергичными из этих людей. Не могли бы вы оказать мне услугу собрата и устроить меня в первых рядах? Вам это будет совсем не трудно, — ведь вы немножко командуете всей этой толпой...
— Вы ошибаетесь, здесь никто не командует. Даже Рошфора и Делеклюза[115], может быть, сметет сейчас эта людская волна, если вдруг в словах какого-нибудь уличного оратора блеснет ослепляющая молния или просто в этом пасмурном небе неожиданно вспыхнет сноп солнечных лучей... Впрочем, посмотрю...
Что посмотрю? Кого посмотрю?
— Вы за Париж или за Нейи? — спрашивает Брион, хватая меня за рукав; глаза его горят, голос срывается.
— Я за то, чего захочет народ.
Авеню Нейи
Народ не захотел битвы, несмотря на отчаянные мольбы Флуранса и настойчивость нескольких героических натур, которые, пытаясь зажечь этот народ, схватили за узду траурных кляч.
— Редакция «Улицы», вперед! — призывали революционные отряды.
— Не водите этих людей на убой, Вентра!
Неужели вы думаете, что можно кого-нибудь повести на убой, предписать массам быть храбрыми или малодушными?
Они несут в самих себе свою скрытую волю, и красноречие всего мира бессильно здесь!
Говорят, что восстание вспыхивает тогда, когда к нему призывают вожди.
Неправда!
Двести тысяч человек, жаждущих битвы, не послушают командиров, если те крикнут им: «Не ходите в бой!» Они перешагнут через трупы офицеров, если те встанут им поперек дороги, и по их изувеченным телам бросятся в атаку.
Один только Мабилль был прав. Если б какое-то чудо двинуло войска без провокации, если б по чьему-то безрассудному приказу явился полк солдат и затеял перестрелку вокруг этого дома, — о, тогда народным трибунам достаточно было б сказать одно слово, подать сигнал, и знамя Республики взвилось бы над баррикадами, пусть даже ему суждено было быть изодранным картечью и покрыть своими клочьями тысячи трупов.
Но ни у народа, ни у правительства империи нет особого желания встретиться и дойти до рукопашной у могилы какого-то убитого журналиста, — место не подходящее для победы солдат и слишком тесное, чтобы развернуть на нем знамя социальных идей.
Кто-то подошел и отозвал меня от моей группы.
— Рошфор близок к обмороку. Пойдите взгляните, что с ним... вырвите у него последнее распоряжение.
Я нашел его, бледного как смерть, за перегородкой какой-то бакалейной лавчонки.
— Только не в Париж, — проговорил он содрогаясь.
На улице ждали его ответа. Я взобрался на табурет и передал то, что мне было сказано.
— Но вы-то, — крикнул мне Флуранс, — вы-то, Вентра, разве вы не с нами?
Возбужденный, с пылающим взором, почти прекрасный в своем отчаянии, он подбегает и чуть ли не набрасывается на меня.
— С вами ли я? Да, если с вами народ.
— Народ решился!.. Смотрите, похоронные дроги двигаются в нашу сторону.
— Ну что ж, идем им навстречу.
— В добрый час! Спасибо и вперед!
Флуранс пожимает мне руку и обгоняет нас. В нем живет вера и сила святого. Он раздвигает толпу своими костлявыми плечами, как рассекает волны океана пловец, спеша на помощь к утопающему.
Вдруг позади начинается волнение, раздаются крики...
Это Рошфор догоняет нас в экипаже. — Что случилось?
В воздухе прозвучал новый призыв:
— В Законодательный корпус!
Я хватаюсь за эту мысль, также и Рошфор.
— В Законодательный корпус! Решено.
Фиакр, направлявшийся к кладбищу, круто поворачивает и едет в сторону Парижа.
Я сел рядом с Рошфором; также и Груссе. И вот, молчаливые и задумчивые, мы катимся неизвестно куда.
Потихоньку, про себя, я думаю, что если нам удастся добраться до Палаты, она будет захлестнута толпой и нам придется присутствовать при новом 15 мая[116], совершенном двумястами тысяч людей, четвертую часть которых составляют буржуа.
Да, их действительно тысяч двести!
Высовывая голову из экипажа, мы видим, что шоссе запружено народом и волнуется, точно русло бурлящего потока.
Еще спрятаны пистолеты и ножи, но извлечено уже из тысячи грудей оружие «Марсельезы».
Земля дрожит под ногами толпы, которая точно отбивает такт; а припев гимна взлетает высоко к небу.
— Стоп!
Дорогу нам преграждают солдаты.
Рошфор выходит из экипажа.
— Я — депутат и имею право пройти.
— Нет, вы не пройдете.
Я бросаю взгляд назад. Во всю длину улицы вытянулась процессия, сбившаяся, нестройная. Было уже поздно, все много пели, устали...
День окончен.
Подле меня семенит мелкими шажками маленький старичок; он один, совсем один, но, я вижу, его провожает глазами целая группа, среди которой я узнаю друзей Бланки.
Этот человек, пробирающийся сейчас вдоль стены, пробродил весь день по краям вулкана, всматриваясь, не взовьется ли над толпой пламя восстания — первая вспышка красного знамени.
Этот одинокий маленький старичок — Бланки.
— Что вы здесь делаете?
Я так и прирос к месту, пораженный внезапной тишиной и безлюдьем.
— Вы хотите, чтобы вас схватили, — проговорил художник Лансон, уводя меня прочь.
На площади мы столкнулись с товарищами; измученные, забрызганные грязью, они шлепали по лужам, оставшимся после дождя.
Мы пообедали вместе в какой-то жалкой харчевне.
Некоторым из нас был дан совет не ночевать дома.
Художник увел меня к себе.
Но они не осмелились арестовать ни одного человека, довольные тем, что накануне не произошло никакой стычки.
Дурной симптом для империи! За недостатком солдат она не послала шпиков. Она колеблется, выжидает, ее дни сочтены. У нее тоже пуля в сердце, как и у Виктора Нуара.
XVI
15 июля[117]
Берегитесь крови!
Она нужна им, они хотят войны! Нищета наступает на них, вздымается волна социализма.
Простой народ страдает всюду: на берегах Шпрее так же, как и на берегах Сены. Но на этот раз у страдающего народа нашлись свои защитники в блузах, стало быть пора устроить кровопускание, чтобы соки новой силы вытекли через рану, чтобы возбуждение масс разрядилось под грохот пушечной канонады, как разряжается, уходя в землю, смертоносный ток при ударе грома.
Победят они или будут побеждены, но народный поток, натолкнувшись на щетину штыков, будет разбит о зигзаги побед и поражений.
Так думают пастыри французской и немецкой буржуазии, дальновидные и предусмотрительные.
Впрочем, красные штаны и компьенские стрелки ничуть не сомневаются в победоносном шествии французских войск через завоеванную Германию.
На Берлин! На Берлин!
На одном из перекрестков со мной чуть было не расправилась воинственно настроенная ватага, когда я вздумал высказать ей весь свой ужас перед этой войной. Они обозвали меня пруссаком и, вероятно, разорвали бы на части, не назови я себя.
Тогда они отпустили меня... не переставая ворчать.
— Этот хоть и не из таких, но он тоже не лучше. Они не верят в родину, в братство и в дружбу, им плевать на то, что державы Европы оскорбляют нас.
Пожалуй, мне действительно наплевать на это.
Не проходит ни одного вечера без бурных диспутов, которые неминуемо кончались бы дуэлью, если б сами нападающие на меня не считали, что нужно беречь шкуру для неприятеля.
И часто самыми ярыми шовинистами в наших спорах оказываются наиболее передовые, старики 48 года, бывшие бойцы. Они бросают мне в лицо эпопею четырнадцати армий[118], подвиги майнцского гарнизона[119], волонтеров Самбры и Мааса и 32-й полубригады. Они забрасывают меня деревянными башмаками мозельского батальона, тычут в глаза заслугами Карно[120], султаном Клебера.
Мы взяли полосы материи и, написав на них обмакнутой в чернила щепкой: «Да здравствует мир!» — ходили с ними по всему Парижу.
Прохожие набрасывались на нас.
Среди нападающих были агенты полиции, но они не подстрекали толпу. Они довольствовались тем, что выслеживали людей, на которых обрушивался гнев толпы, и тогда они выбирали среди них тех, кого знали как участников какого-нибудь заговора, кого видели на собраниях, в день демонстрации на могиле Бодена[121] или на похоронах Виктора Нуара. И как только человек был намечен, свинцовая дубинка и кастет расправлялись с ним. Боэра[122] чуть не убили, другого сбросили в канал.
Порой меня охватывает постыдное раскаяние, и я испытываю преступные угрызения совести.
Да, сердце мое переполняется сожалением, — сожалением о принесенной в жертву юности, о жизни, обреченной на голодание, о моей попранной гордости, о моей будущности, загубленной ради толпы. Я думал, что эта толпа наделена душой, и мечтал посвятить ей когда-нибудь все свои мучительно накопленные силы.
И вот теперь эта толпа следует по пятам за солдатами. Она идет в ногу с полками, приветствует радостными кликами офицеров, на чьих погонах еще не высохла декабрьская кровь, и кричит: «Смерть!» — нам, желающим заткнуть корпией раструбы сигнальных рожков.
Это самое глубокое разочарование в моей жизни!
Среди всех унижений и неудач я хранил надежду на то, что настанет день — и народ отомстит за меня... И вот этот самый народ только что избил меня[123], как собаку. Я весь истерзан, и в сердце моем бесконечная усталость...
Если б завтра какой-нибудь корабль согласился взять меня к себе на борт и увезти на край света, я уехал бы, стал дезертиром из чувства отвращения, отщепенцем всерьез.
— Но разве вы не слышите «Марсельезы»?
Она внушает мне ужас, ваша теперешняя «Марсельеза». Она стала государственным гимном. Она не увлекает за собой волонтеров, она ведет войска. Это не набат подлинного энтузиазма, это — позвякивание колокольчика на шее прирученного животного.
Какой петух возвещает теперь своим звонким «ку-ка-ре-ку» выступление полков? Какая идея трепещет в складках знамен? В 93-м году штыки поднялись от земли с великой идеей на острие, как с огромным хлебом:
День славы наступил!!!Да, вы увидите это!
Площадь Бурбонского дворца
В день объявления войны мы все трое — Тейс, Авриаль и я — отправились к Законодательному корпусу.
Ярко светит солнце, мелькают красивые женщины в нарядных туалетах, с цветами на груди.
Вот лихо подкатил военный министр или какой-то другой; новая коляска, лошади в серебряной упряжи.
Точно какой-то придворный праздник, торжественная церемония, молебен в Соборе богоматери. В воздухе носится аромат пудры и цветов.
Ничто не выдает волнения и страха, которые должны сжимать сердца при известии о том, что родина готова обнажить меч.
Слышатся приветственные крики... «Ура!»
Жребий брошен,— они перешли Рубикон!
6 часов
Мы пересекли Тюильрийский сад молча, в полном отчаянии.
Кровь бросилась мне в лицо и грозила залить мозг. Но нет! Эта кровь, которую я обязан отдать Франции, вышла самым нелепым образом через нос. Увы, я обкрадываю родину, наношу ей ущерб; кровь все идет, идет не переставая.
Лицо и пальцы у меня совершенно красные, носовой платок имеет такой вид, как будто им только что пользовались при ампутации, и прохожие, возвращающиеся в приподнятом настроении от Бурбонского дворца, сторонятся меня с жестом отвращения. А между тем они же сами приветствовали постановление, обрекающее нацию исходить кровью изо всех пор.
Вид моего похожего на томат носа неприятен им... Шайка сумасшедших! Пушечное мясо!
— Не мешало бы ему спрятать свои руки! — бросает с брезгливой гримасой какой-то бородач, только что кричавший во все горло.
Я умываю лицо в бассейне.
Но тут вмешиваются мамаши.
— Какое он имеет право пугать лебедей и наших крошек? — раскричались они, созывая своих малышей, из которых трое или четверо были наряжены зуавами.
Красный Крест
Все журналисты забегали. Каждый хочет вступить в армию.
Организовали санитарный батальон. Все, кто пробыл хотя бы недолго на медицинском факультете, все, у кого завалялось в кармане какое-нибудь старое свидетельство, — все обращаются к некоему доктору-филантропу, подающему хирургию под женевским соусом[124]. Он придумал какой-то черный костюм стрелка или туриста в трауре, и все записавшиеся имеют в нем не то монашеский, не то похоронный вид.
Я только что видел, как они выходили из здания министерства промышленности. Сержант, шедший во главе, — секретарь редакции «Марсельезы», тот самый, что в день убийства Виктора Нуара соблаговолил дать нам немного денег, но наотрез отказал в пистолетах. Этот славный малый, воинственный, как павлин, важно выступал с ворохом амуниции, нацепленной за его спиной наподобие распущенного веером хвоста.
В этих санитарных отрядах, которые только что отправились, сбиваясь с ноги, на поля сражения, много искренне преданных делу людей, но сколько там также романтиков и комедиантов!
Сады и скверы полны людей, одетых наполовину в штатское, наполовину в военное. Их разбивают на взводы и заставляют бегать, топтаться на месте, образовывать каре, круг...
— Против кавалерии скрестить штыки! Защищайся от пехоты! Сохраняйте расстояние в пять шагов... Уберите локти!.. Девятый, вы выдаетесь из строя!.. Левой, правой! Левой, правой!
И локти убраны, и девятый подобрал свое брюшко...
Левой, правой! Левой, правой!
Ну, а дальше что?
Неужели вы думаете, что в разгар сражения где-нибудь на лугу, в поле или на кладбище, когда вдруг неожиданно повстречаешься с неприятелем, эти дистанции будут соблюдены и штык будет действовать с размеренностью метронома?
Каждый день по направлению к вокзалам двигаются целые отряды, но это скорее шумные, разбегающиеся во все стороны толпы, а не дефилирующие войска. Они катятся, как огромные волны, и бутылки торчат из их мешков.
А я... по охватившему меня волнению я чувствую, что поражение уже сидит на крупах лошадей кавалеристов, и не жду ничего хорошего от всех этих фляжек и котелков за спиной пехотинцев.
Они идут, словно на какой-то пикник... Боюсь, как бы дождь из ядер не попал в их суп, пока они будут чистить картошку и лук.
От этого лука поплачешь!
Никто не слушает меня.
То же самое было и в декабре, когда я предсказывал поражение. Мне отвечали тогда, что я не имею права обескураживать тех, кто захотел бы сражаться.
Сейчас мне кричат: «Вы — преступник и клевещете на родину!»
Еще немного — и меня, пожалуй, отведут в штаб как изменника!
Вандомская площадь
Меня и в самом деле препроводили туда, схватив во главе кучки людей, приведенных в отчаяние подлинными поражениями, взбешенных вымышленными победами и горланивших: «Долой Оливье!»
Меня узнали, указали другим и выдвинули вперед. Это была большая честь, но зато какую я получил взбучку... Тут было все: и удары сапогом в спину, и эфесом шпаги по ребрам... Били и приговаривали: «Ну, двигайся же, бунтовщик!»
Десять человек поволокли меня в штаб национальной гвардии.
— Шпион! Шпион! — ревели мне вдогонку.
А когда я крикнул в ответ: «Дураки!» — несколько буржуазных штыков принялись оспаривать друг у друга удовольствие проткнуть меня; но лейтенант, командующий постом, вырвал меня из лап солдат.
Он знает меня, он видел карикатуру, где я изображен собакой с привязанной к хвосту кастрюлькой.
— Как! Это вы!.. Но ведь вы — тот молодец, которого я ищу! Вас-то мне и надо! Они чуть было не распотрошили вас?.. Сорвалось!.. Но они все равно способны сослать вас в Кайенну![125] Да, да!
Он прав. Из министерства юстиции поступил приказ передать меня жандармам.
Четыре черных силуэта обступили меня, и мы двинулись в путь, как китайские тени.
Наши шаги гулко раздаются в ночной тиши; полуношники подходят и глазеют на нас.
Остановка в полицейском участке. — Допрос, обыск, заключение в кутузку.
Нарочный привозит распоряжение о переводе меня в арестный дом.
Я устало опустился на деревянные нары, между нищим с культяпками, растравляющим свои язвы каким-то снадобьем, и человеком с интеллигентным, но совершенно растерянным лицом. Увидев, что я сравнительно прилично одет, он придвинулся вплотную ко мне и тихо, сквозь сжатые зубы, чуть не задыхаясь, зашептал:
— Я — скульптор... Я не успел намочить глину... Не дал поесть кошке... Я шел купить ей печенки... меня схватили с республиканцами...
У него захватило дыхание.
— А вы? — с трудом вымолвил он.
— Я не шел за печенкой... У меня нет кошки, у меня есть убеждения.
— Как ваше имя?
— Вентра.
— Ах, боже мой!
Он отодвигается, закутывается в свое пальто и прячет голову, как страус.
Но скоро он высовывает ее и дрожащим голосом, почти касаясь моего уха, шепчет:
— Когда придут полицейские, сделайте вид, что не знаете меня, хорошо?
— Да, да! Спокойной ночи! Эй вы, калека, уберите-ка ваши крылышки!
Утро. На скульптора жалко смотреть.
Его допрашивают первым.
— Я ничего не сделал... Я шел за печенкой для кошки... Я — скульптор... Я не намочил глину... Меня освободят?.. Я стою за порядок...
— За или против — нам наплевать! Уведите его!
Я — стреляная птица.
Тюремный сторож догадывается об этом, и мы с ним болтаем по дороге в камеру.
— Вы уже сидели здесь?.. Я это сразу понял! Вместе с Бланки? Делеклюзом? Межи?..[126] Я знаю всех этих господ... Употребляете? — И он протягивает мне табакерку.
Мне разрешили выйти подышать свежим воздухом.
Правда, я по-прежнему меж четырех стен, но зато под открытым небом.
Какой-то шум отвлекает на минуту тюремщиков, и они бросают заключенных на полдороге.
Какой-то человек подходит ко мне и трогает меня за плечо... Нет, это не человек, а какой-то призрак, выходец с того света!
— Вы не узнаете меня?
Мне кажется, что я действительно видел уже где-то этот потертый сюртук, болтающийся, как пустой мешок.
— Я скульптор.
— Да, помню... глина... кошка... печенка...
— Как вы думаете, что они сделают с нами?
— Расстреляют.
— Расстреляют!.. Нас!.. А между тем у меня там кое-что было!
— Где это?
— Разве я вам не сказал своего имени?
— ?..
— Я Франсиа.
Франсиа! Вот тебе на! Ведь это ему было поручено изваять статую воинствующей Республики с обнаженной шпагой в руке.
Я все жду, что меня вызовут на допрос, жду с мучительным беспокойством.
Один из сторожей сообщил мне по секрету, что на днях перед зданием Палаты была бурная демонстрация.
Он утверждает, что сегодня после полудня будет еще одна во главе с Рошфором; его должны вызволить из тюрьмы Сент-Пелажи.
У следователя
— Милостивый государь, вы обвиняетесь в подстрекательстве к гражданской войне.
Хочу объясниться, но чиновник останавливает меня взглядом и жестом.
— За то время, что вы находитесь здесь, милостивый государь, великие бедствия постигли Францию. Она нуждается во всех своих сынах. Лицо, приказавшее арестовать вас, просит меня теперь открыть перед вами двери тюрьмы. Вы свободны.
Он сказал это совсем просто, и голос его задрожал при словах «великие бедствия».
Я вышел из дома заключения еще более печальный, чем вошел туда.
Я подбежал к афишам. Эти огромные белые плакаты, расклеенные на стенах, испугали меня: я словно увидел бледный лик моей родины.
Что там такое?..
Признайся, Вентра, что в глубине души ты был скорее несчастен, чем доволен, узнав, что император одержал победу. Ты страдал, поверив слухам о победе, почти так же, как горбун Наке[127], которого это заставило плакать от злости.
И вот облачко заволакивает твои глаза, на них показываются слезы.
Двое суток провел я, сосредоточив все свои мысли и чувства на известиях оттуда, прислушиваясь к эху далекой канонады и к шуму улицы.
Все тихо.
XVII
Десять часов утра. Стук в дверь.
— Войдите!
Передо мной высокий детина с мертвенно-бледным лицом, заросшим густой черной бородой, в очках, какие носят немецкие студенты, и в шляпе калабрийского бандита.
— Вы не узнаете меня?
— Право, нет.
—Я — Бридо[128]... Один из ваших учеников в Кане.
Да, да, припоминаю. Мальчик с такой фамилией был как раз в том отделении, которому я, будучи временным заместителем учителя риторики, рекомендовал ничего не делать.
— Ну что же, как сложилась ваша жизнь?
— Я подыхал с голоду! Получив аттестат бакалавра, я решил поступить на юридический факультет. Мой отец мог заплатить только за три семестра, не больше. Он — мелкий деревенский нотариус. Я считал его богатым, пока он однажды со слезами на глазах не признался мне, что он очень, очень беден... Полагаясь на свою репутацию хорошего ученика, я начал бегать по учебным заведениям... Не тут-то было! У тех, кто учился в Париже, есть еще какие-то связи, протекция их бывших учителей... Но провинциал, будь он семи пядей во лбу, мечтающий приложить свои знания между Монружем и Монмартром[129], может, не раздумывая, броситься в воду вниз головой!.. У меня оказалось больше мужества... Я стал рабочим, гравером. Я не такой уж искусный мастер, но и моим неловким резцом мне все-таки удается заработать себе на жизнь... Сколько раз вспоминал я вас и то, что вы говорили нам по поводу университетского образования. Тогда я думал, что вы шутите! Ах, если б я вас послушал!.. Впрочем, дело не в этом. Я пришел не затем, чтобы хныкать перед вами. Вот уже три года, как я принадлежу к одной бланкистской секции. Секции хотят выступить!
Я схватил его за руки.
— Вы говорите, что секции хотят выступить?.. Так вот, не рассказывайте мне об этом, сохраните вашу тайну. Я не хочу, чтобы на меня легла какая-то доля ответственности за попытку, заранее обреченную на неудачу; единственным результатом ее будет то, что многих славных ребят засадят в Мазас и в Центральную тюрьму.
— Я выполняю возложенное на меня поручение. Вчера у нас зашел разговор о людях, которые не останутся равнодушными, если в каком-нибудь углу раздастся пистолетный выстрел. Ваше имя Бланки назвал первым; он знает вас по рассказам товарищей и решил, что вас нужно предупредить... Теперь вы можете поступать, как вам будет угодно. Я знаю, что вас не затащишь туда, куда вы сами не хотите идти, но все-таки будьте сегодня в два часа пополудни у казармы Виллетт — и вы увидите начало восстания.
Половина второго
Я пришел.
Они тоже пришли, черт возьми! Всего несколько человек: Бридо, Эд[130], — он делает мне знак головой, на что я отвечаю подмигиваньем, — смуглый субъект в фуражке, с пенсне на носу, сгорбленный старик с длинным кротким лицом, да плюс еще какой-то тип.
Бланки стоит немного поодаль, возле бродячего фокусника.
Тра-та-та!
— Милостивые государыни и милостивые государи, покупайте мой порошок для чистки!.. Представьте себе, что вы в гостях у жены министра и снимаете нагар со свечи... Тогда вы сыплете немного моего порошка... И скоморох, не переставая расхваливать свой товар, подходит время от времени к красно-бурому барабану, чтобы выбить на нем дробь своей магической палочкой.
Уж не на этом ли ярмарочном барабане будут бить призыв к атаке, любезный Бридо?
— А, гражданин Вентра! Давно уж нам нужно свести с вами счеты. Наконец-то вы мне попались... теперь уж я вас не выпущу.
Я случайно столкнулся нос к носу с одним механиком из этого квартала; у нас с ним не раз бывали стычки. Он — коммунист, я — нет.
Он и в самом деле не выпускает меня и заставляет проводить его немного.
Он пристает ко мне с вопросами, я отвечаю. Но мысли мои далеко. Я невольно прислушиваюсь, не донесет ли теплый ветерок, овевающий наши головы, эхо перестрелки; и в ту минуту, когда мой собеседник спрашивает в упор, какие у меня имеются возражения против коллективной собственности, — я думаю о Бридо, об Эде и о Бланки.
Почему вдруг умолк барабан шута?
— Признайтесь, что вы разбиты! — говорит механик, весело чокаясь со мной. — Если б только нам удалось захватить власть!
Власть? Вон там, около фигляра, их шестеро, готовых уже овладеть ею.
Но я не говорю об этом товарищу, — не считаю себя вправе.
Довольствуюсь тем, что спрашиваю, может ли, по его мнению, движение, руководимое воинственно настроенными людьми, увлечь народ против империи.
Он берет спичку и медленно проводит ею о штаны.
— Смотрите, достаточно будет сделать вот так, и все вспыхнет. Только вот так!
— Вы уверены, дружище?
А между тем, если б что-нибудь произошло, мы знали бы это здесь... Но пока ничего!
Очевидно, в тот момент, когда фокусник жонглировал своими шариками, их схватили в толпе, да так, что они даже и ахнуть не успели, и теперь шпики вылавливают подозрительных.
4 часа
Ни шума, ни волнения!
Рабочие, вырядившись в новые пиджаки, прогуливаются со своими расфранченными женами. Старшие сестры тащат за руки маленьких братишек, останавливаясь перед выставленными на витринах картинками и сластями. В мозолистых руках виднеются цветы, и на лицах всех этих тружеников написано желание отдыха и покоя.
Воскресенье — неудачный день для восстаний.
Никому не хочется портить свое лучшее платье, лишать себя угощения в кафе, на которое давно уже отложено несколько су; к тому же это единственный день в неделю, когда можно побыть в кругу своей семьи, навестить старика отца, повидать друзей.
Не следует призывать к оружию в дни, когда бедняки принаряжаются, когда они, промечтав об этом целую неделю в своих мрачных жилищах, устраивают пирушку в веселом, увитом зеленью ресторанчике.
Поэт Гюстав Матьё[131] и волосатый Реньяр, поймав меня за столиком в ресторане Дюваля, где я только что уселся, сообщают мне, что человек тридцать осадили казарму[132] пожарников в квартале Ла-Вилетт и открыли огонь по полицейским.
И, по-видимому, уложили одного или двух.
— Преступники! — говорит Матьё.
— Идиоты! — кричит Реньяр, которому, как бланкисту, самому полагалось бы там быть.
Идиоты! Преступники!.. — эти честные, смелые люди...
Необходимо в ближайший день обсудить все это.
Эд и Бридо арестованы по собственной неосторожности.
Военный суд выносит смертный приговор.
Как их спасти?
Быть может, на общественное мнение воздействует письмо какой-нибудь популярной, знаменитой личности?
И мы ищем, кто бы мог составить и подписать это письмо величайшей важности.
Трудное дело.
Осужденные заявили, что они отвергнут всякое ходатайство о помиловании, возбужденное перед империей; да и мы сами не хотели бы, во имя их, допустить какую-нибудь слабость, — даже ради их спасения.
Люди убеждений — ужасный народ.
Но все же мы думаем, что, если заговорит такая величина, как Мишле, — его услышат... и, возможно, прислушаются к его словам.
Рожар[133], Эмбер, Реньяр, я и еще несколько человек отправляемся к нему.
Он предстал перед нами таким, каков он есть: величественный и женственный, красноречивый и чудаковатый.
Он сразу согласился и захотел только узнать, кому будет направлено это послание, которое, не походя на просьбу, должно вместе с тем иметь целью отмену смертного приговора.
— Вождям обороны! — предложил я.
— Хорошо, очень хорошо!
Он встает и проходит в соседнюю комнату, оставляя нас на минуту одних.
Затем возвращается и снова садится за стол, вокруг которого мы столпились, безмолвные и взволнованные.
— Сударь, — произносит он, обращаясь ко мне, тоном человека, передающего слова оракула, — мадам Мишле того же мнения, что и вы.
И мы приступаем к составлению письма.
Он не любит Бланки и в первой же строчке своего черновика взваливает на него ответственность за выступление и за приговор.
— Наши товарищи, — заявляет один из нас, — не согласятся даже для спасения своей жизни отречься от своего вождя...
Он закусывает губы, кряхтит «гм! гм!» и снова исчезает, но ненадолго и, вернувшись, говорит нам:
— Решительно, господа, женщины на вашей стороне; мадам Мишле понимает вашу щепетильность и одобряет ее. Вычеркнем эту фразу.
Наконец, когда уже все кончено, он идет еще раз посоветоваться со своей Эгерией. Мы смеемся, но со слезами умиления на глазах.
Он обратился к сердцу той, кто являлась подругой его жизни и спутником его идей. И это сердце высказалось, как и наши, за жизнь и честь наших друзей.
Мишле шагает из угла в угол.
— Они не посмеют их убить, я не допускаю этого... Такие стоят чудесные дни! При таком солнце кровь оставила бы на газоне слишком отвратительное пятно... буржуа не захотят расположиться на травке, если от нее будет пахнуть трупом. Они присоединятся к нам, вы увидите. Во всяком случае, я ручаюсь вам, что они не расстреляют их в воскресенье.
Воззвание заканчивалось приблизительно такими словами:
Господь взирает на народы...
Господь... Слово это не очень-то пришлось по вкусу нашей четверке атеистов, и мы встретили его гримасами и молчанием.
Мишле смотрит на наши физиономии и, пожимая плечами, говорит:
— Ну да, я понимаю... Но это звучит хорошо.
Мы отправились с письмом по редакциям, причем все оспаривали друг у друга эту честь.
А, черт возьми! Как хорошо, что я не принадлежу ни к какой группе, ни к какой церкви, ни к какой клике.
По-видимому, есть два течения в бланкизме, и каждое из них отказывает другому в праве спасти головы осужденных.
И эти головы скатились бы, если б их судьба была предоставлена группе, которая соглашалась помешать казни лишь в том случае, если вся слава по отмене приговора выпадет на ее долю.
К счастью, кончилось тем, что дело было поручено независимым, вроде меня, и мы обошли все органы прессы.
В «Деба» человек, которого нам назвали Максимом Дюканом[134], негодующе потряс головой, слушая нас. Он жесток к побежденным.
Почти всюду письмо было принято как хорошая рукопись и напечатано, но без единой строчки сочувствия или жалости.
Тогда мы бросились к депутатам Парижа, которые, кстати сказать, почти неуловимы. Они надавали нам неопределенных обещаний, а у некоторых срывались даже оскорбительные слова, так что приходилось заставлять их замолчать.
Гамбетта резко выступает против осужденных и требует с трибуны, чтобы их наказали как действующих заодно с врагами родины.
Ах, бандит! Ему-то лучше, чем кому-либо другому, известно, что это — смелые и мужественные люди. Но такие люди беспокоят его, они — угроза его будущему. Кто знает, не удастся ли ему выудить себе диктатуру в мутной крови поражения? Так почему же не отделаться от этих непокорных при помощи солдат империи?
Коллеги Гамбетты тоже колеблются, — настолько они чувствуют над собой его власть. Однако они не захлопывают перед нами дверей, потому что атмосфера достаточно накалена и они боятся, как бы во время восстания, — а оно может вспыхнуть каждую минуту, — их отказ не прицепили к их депутатской перевязи, как прицепили некогда фонарь к груди герцога Энгиенского[135], — чтобы виднее было, куда стрелять.
XVIII
3 сентября. Вести о Седане[136]
Собравшись группой в несколько человек, мы обошли редакции газет буржуазной оппозиции, где за последние дни уже происходили какие-то тайные совещания, на которые, конечно, не были допущены нарушители порядка, вроде меня.
Я хорош только с истинными революционерами и терпеть не могу жрецов, чьи символы веры я так беспощадно высмеял и которые не могут простить мне моей статьи о Пятерке.
Но сегодня делегаты имеют право врываться во все двери с либеральными вывесками.
Впрочем, перед важностью событий стушевываются все разногласия, и доктринеры в погоне за людьми дела домогаются сейчас даже тех, кого они еще недавно считали опасными крикунами.
Когда безмолвствуют и колеблются полки, крикуны — это клад. Только недисциплинированные могут сломить дисциплину.
Ими воспользуются, а потом, назавтра, — когда они вырвут ружья из рук солдат или заставят их опустить штыки — они будут поставлены к стенке и расстреляны.
Я прекрасно знаю, что нас ожидает!..
Среди всеобщей неразберихи, при первом же известии о готовящейся манифестации или назревшем протесте, все они стараются наладить отношения и обмениваются рукопожатиями и поклонами.
Распоряжение дано.
«К одиннадцати часам собраться в кафе Гарен, с той стороны, где вход для дам, — тсс! Это — чтобы сбить с толку полицию!» Там будет оглашена республиканская прокламация. В полночь она будет напечатана, и каждый захватит с собой несколько экземпляров... чтобы расклеить их по улицам.
Вот о чем шушукаются сторонники якобинских листков и что заставляет меня поскорее удрать от них.
Нет уж, занимайтесь этим сами!
А я смешаюсь с толпой, брошусь в самую гущу ее.
Эй, где там стычка, где еще не оформившееся смятение, где отвага, ищущая вождя?..
Десять часов вечера
Неподалеку от театра Жимназ небольшая толпа напала на полицейский пост.
Эти не ждали полуночи; они не знали, что на стенах должен быть расклеен какой-то циркуляр. Они сами — живая прокламация, расклеившая себя на виду у опасности. Полицейские уже пытались разорвать ее своими саблями, а пули только что поставили на ней свой штемпель.
Кто-то выстрелил.
Метили в Пилеса, и он ответил. Выстрел за выстрел. Убили одного из наших. Он убил одного из них.
Это хорошо!
Бегу туда, но людской поток захлестывает меня и уносит в своем течении к Бурбонскому дворцу.
Есть ли кто-нибудь из популярных лиц во главе?
Никого!
Впрочем, трудно что-нибудь различить в этом приливе и отливе; напор всяких случайностей ломает и спутывает ряды людей, подобно тому как катит и смешивает морская волна гальку на песчаной отмели.
Многие узнали меня.
— Вы разве не на совещании депутатов, Вентра?
— Как видите! Я не нуждаюсь ни в их советах, ни в разрешении, для того чтобы кричать: «Да здравствует Республика, долой Наполеона!»
— Тсс! Тише! Не бунтуйте!..
— Не бунтовать?.. Но ведь я так это люблю!
— Наши представители должны принять нас у входа в Законодательный корпус и дать нам инструкции. До тех пор — молчок!
Вечно ожидать, пока генеральные штабы высидят свои инструкции.
Неужели окружающие меня думают, что если они будут молчать, то войска и полиция станут церемониться с ними? Пусть даже они проглотят свои языки, — им все равно перережут глотку, если только власть чувствует себя еще достаточно сильной, чтобы пойти на это.
Кричать «да здравствует Республика», — но ведь этим, товарищи, можно только сохранить свою шкуру! Если восстание имеет лозунг и знамя, уже побывавшее в боях, — оно на полпути к победе. Когда перед ружьями встает идея, — они начинают дрожать в руках солдат, которые ясно видят, что офицеры колеблются подать своей шпагой сигнал к избиению.
Эти носители эполет чувствуют, что на них смотрит история.
Час ночи
На площади Согласия я подошел к группе людей, во весь голос призывавших к восстанию.
Как поступили другие? Добрались ли они до Палаты, видели ли депутатов? — Ничего не знаю.
Одно несомненно: толпа все время дробится, делится на мелкие части.
Змея извивается в ночной тиши. Усталость рвет ее на куски, но они не перестают трепетать. Двое или трое окровавлены; есть несколько раненых смельчаков: они нападали в одиночку, когда в начале вечера полиция еще осмеливалась показывать свой нос и стрелять.
Ночь свежа; с безмятежного ясного неба на землю льется покой.
4 сентября[137]. Девять часов вечера
Вот уже шесть часов, как у нас Республика, «Республика мира и согласия». Мне хотелось провозгласить ее социалистической, я высоко поднял свою шляпу, но мне нахлобучили ее на нос и заткнули глотку.
— Рано!.. Пусть еще овца поплачет! Для начала пусть будет просто «республика»... И птица ведь не сразу гнездо вьет! Тише едешь, дальше будешь... Не забывайте, что близко враг, что пруссаки смотрят на нас!
Я даю овце поплакать, но мне кажется, что, с тех пор как я живу на свете, она только и знает, эта овца, что рыдает передо мной, и я вечно вынужден ждать, когда она кончит.
Ну что ж, плачь, плачь!.. Лишь бы только и мне дали пролить слезу... В этом я уже менее уверен.
Итак, у нас Республика? Скажите на милость!
Однако, когда я хотел войти в ратушу, мне преградили путь прикладом ружья, а когда я назвал себя, то начальник поста раскричался:
— Этого мерзавца в особенности не смейте пропускать! Вы знаете, что он только что говорил? «Нужно выбросить в окно это картонное правительство и провозгласить революцию!»
Неужели я сказал это?.. Возможно. Только, во всяком случае, не в таких выражениях.
Конечно, я не полезу на скамью, чтобы шикать на социальную республику; но если она высунет свой нос, то я, уж конечно, не откажусь помочь ей выбросить в окно всех этих депутатишек, не запретив им, впрочем, подостлать внизу тюфячки, чтобы они не сделали себе бобо.
Во многих местах хватали полицейских и избивали их. Какие-то буржуа, благопристойные на вид, совершенно спокойно советовали побросать их в Сену. Но блузники не очень уж нажимали на них, и достаточно было напомнить им о женах и детях этих полицейских, чтобы они выпустили свою добычу.
Я помог — без особых усилий — освобождению двух полицейских чиновников. Они были в новеньких с иголочки мундирах и уверяли меня, отряхиваясь и поправляя свой пробор, что они всегда были республиканцами и передовыми до чертиков!
— Мы, может быть, добиваемся даже еще большего, чем вы, сударь.
Чем я?.. Ну, я-то не очень многого добился пока что. В этом столпотворении я потерял шляпу, да и голос тоже, крича во все горло: «Долой империю!»
Я надорвал легкие, истощил свои силы, не могу ни говорить, ни двигаться и в этот вечер триумфа чувствую себя таким же усталым, как и в вечер поражения, девятнадцать лет назад.
И так всегда: охрипший и измученный, я подвергаюсь угрозам и оскорблениям в дни, когда Республика воскресает, точно так же, как и в дни, когда ее хватают за горло.
Но на что мне жаловаться?.. Разве депутаты Парижа не находятся в ратуше... конечно, предварительно чуть было не провалив движения!
Самым низким трусом оказался Гамбетта. Жюлю Фавру пришлось приглашать его, да и то еще он явился не сразу, этот мелкотравчатый Дантон.
В конце концов он все-таки решился. Они битком набились в экипажи, и по пути все сидящие внутри поделили между собой роли. Тот, кто сидел на козлах рядом с кучером, оказался обделенным; ему оставили одни отбросы.
По дороге какой-то человек пытался напасть на один из экипажей. На него накинулись с криками:
— Долой бонапартистов!
— Я официант из кафе, — отбивался он. — Вот эти двое, что сидят в карете, не заплатили мне за сигары и не рассчитались за выпитое.
Поднялся смех. Но двое или трое субъектов из свиты с внешностью классных надзирателей чуть было не сыграли с ним плохую шутку, заявив, что Батист порочит правительство.
Батист моментально дал отпор.
— Если они не хотят платить мне за сигары, то пусть по крайней мере дадут какое-нибудь местечко!
Ты получишь его, но смотри не опоздай! Все места будут заняты; раздел добычи, начатый на рысях, мчится галопом, подстегиваемый жадностью и честолюбием.
Добрый простой народ услужливо подсаживает на своих плечах всю эту свору политиканов, которые после декабря 51-го года ждали только случая, чтобы вернуться к общественному пирогу и снова получать хорошие оклады и чины.
Они торжественно выступают в зале Сен-Жана, где подмостками им служат большие столы, высовываются в окна и, нанося жестами и фразами удары по рухнувшей империи, уподобляются полишинелю, избивающему уже мертвого полицейского.
И славный пес лает в их честь! Он и не подозревает, несчастный, что на него уже готовится нападение, что все их речи — медовые пироги, где скрыт ужасный яд, что они только и думают о том, как бы перебить ему лапы и сломать клыки. Сегодня они прибегают к его защите и охране; завтра они обвинят его в бешенстве, чтобы иметь предлог уничтожить его.
— Не надо нам изгнанников, — зарычал Гамбетта, когда было произнесено имя Пиа[138].
Но сам он предложил Рошфора, за которым нет социалистического прошлого, с чьим именем связана только борьба с Баденге, но вовсе не с Прюдомом[139].
У них свой план: свести его на нет, скомпрометировать, если им это удастся, а затем, лишенного популярности, снова бросить в руки толпы.
А пока что эта популярность будет служить им прикрытием.
— Рошфор! Рошфор!
Черт возьми, он еще, пожалуй, обратится в нашего врага!
Двери тюрьмы Пелажи открылись перед заключенными, и вчерашние пленники, с автором «Фонаря» во главе, шествуют по бульварам с красным цветком в петлице.
Провожаемые криками «ура», они входят под своды.
Кончено, Рошфор — их заложник! Все эти Гамбетты и Ферри задушат его трехцветным знаменем.
5 сентября
Сегодня, 5 сентября 1870 года, во второй день Республики, все мое состояние равняется двадцати су.
У Ранвье[140], Уде и Малле — тридцать су на троих.
Мы все перед ратушей, куда каждый пришел инстинктивно, не сговариваясь с другими.
Несколько бунтарей вроде меня, да несколько ремесленников, как мои товарищи, бродят под дождем, подходят друг к другу и говорят о социалистическом отечестве, которое одно только и может спасти отечество классическое.
Мы совсем промокли. Особенно продрог Ранвье: ботинки у него дырявые, и ноги его мерзнут, шлепая по грязи.
А он так кашляет!
К тому же 3-го вечером полицейская сабля вырвала клок материи из его слишком ветхих брюк. Их зачинили, но безуспешно: ветер все-таки проникает через дыру. Он смеется... но дрожит от этого нисколько не меньше!
Республика одевает его не лучше, чем кормит. Победа народа — это перерыв в работе, а перерыв в работе — это голод, — совершенно одинаково как до, так и после победы!
Как мы обедали?.. Я и сам не знаю! Кусок хлеба, сыр, литр вина в шестнадцать су, сосиска — и все это второпях, у стойки.
Собратья-журналисты, товарищи по ремеслу, уже обеспеченные местом, проходили мимо трактиров и шли в кафе, где заказывали себе всякие яства, за которые будет расплачиваться мэрия, или спешили к военному портному за мундиром с воротничком, обшитым галунами.
Они смотрят на меня с сожалением, кивают мне, как богатый бедняку, как откормленный пес ободранной дворняжке. И их глаза светятся удовлетворением, что они видят меня голодным в компании плохо одетых людей.
Неужели и сейчас, на другой день после провозглашения Республики, мы все еще остаемся в тени, осмеянные, невидимо связанные по рукам и ногам? Мы, кто смелостью своих слов и пера, рискуя штрафами и тюрьмой, подготовили торжество буржуа, заседающих теперь за этими стенами? Они снуют взад и вперед, суетятся без толку, уподобляясь мухам на оглоблях колесницы, той колесницы, что мы вытащили из выбоин и грязи.
Меня уже причислили к нарушителям праздника и виновникам беспорядка за то, что я схватил за фалды одного из наемников нового режима и спросил его, что, собственно, делают в их «лавочке».
Я тряхнул его... Но в результате тряхнули меня!
— Из того, что у нас Республика, еще не следует, что каждый, кому вздумается, может управлять! Да я и не собираюсь...
XIX
6 сентября.— Бланки
В десять часов утра собрание на улице Рынка.
Маленького роста старичок, утопающий в широком сюртуке с слишком высоким воротничком и чересчур длинными рукавами, раскладывает на столе какие-то бумаги.
Подвижная голова, лицо — точно серая маска. Большой ястребиный нос, как-то нелепо переломленный посредине; беззубый рот, где между десен шмыгает кончик розового, подвижного, как у ребенка, языка.
Но над всем этим — громадный лоб и глаза сверкающие, как раскаленные уголья.
Это — Бланки.
Я называю себя. Он протягивает мне руку.
— Давно уже хочу познакомиться с вами. Я много слышал о вас. С большим удовольствием забрался бы с вами куда-нибудь в уголок и поговорил... по-товарищески. Приходите ко мне вечерком, когда здесь все кончится. Хорошо?
Он сует мне свой адрес, дружески прощается со мной и спрашивает, явились ли люди из квартала Ла-Виллетт...
Сразу же после собрания я побежал к нему.
Живет он у одного товарища, побывавшего в ссылке после государственного переворота; у него он скрывается после стычки в Ла-Виллетт.
Я застал его с карандашом в руке, составляющим воззвание, которое он и прочел мне.
Это было перемирие[141] во имя родины между ним и правительством обороны.
Я повел носом.
— Вы находите, что я не прав?
— Через месяц вы будете на ножах!
— Это уж будет их вина.
— Во всяком случае, усильте хотя бы одной боевой фразой ваше слишком спокойное заявление.
— Пожалуй... Что же вы предлагаете?
Я взял перо и приписал: «Надо сегодня же ударить в набат».
— Вот это концовка!
Потом, спохватившись, он прибавил, почесывая голову:
— Но это не так-то просто.
Так вот он, этот призрак восстаний, оратор в черной перчатке, тот, кто поднял на Марсовом поле сто тысяч человек и кого документ Ташеро[142] обвинял в предательстве!
Поговаривали, что черная перчатка скрывает проказу, что глаза его налиты желчью и кровью... Неверно: у него чистые руки и ясный взгляд. Он похож на воспитателя детей, этот вдохновитель людского океана.
И в этом его сила.
Трибуны со свирепой выправкой, с львиной внешностью и бычьей шеей взывают к животному, варварскому геройству масс.
Между тем как Бланки, холодный математик в деле восстаний и репрессий, словно держит в своих сухих пальцах смету страданий и прав народа.
Его речи не парят, как большие птицы с шумом широких крыльев, над толпами людей, которые часто вовсе не желают думать, а только хотят быть усыпленными музыкой восстаний, звучащей порой без всякой пользы для дела.
Его фразы как воткнутые в землю шпаги, которые трепещут и звенят на своих стальных клинках. Это он сказал: «У кого меч, у того и хлеб!»
Спокойным голосом бросает он свои острые слова, и они проводят борозды в мозгу обитателей предместий, оставляют красные рубцы на теле буржуа.
И потому, что он мал и, по-видимому, слаб, потому, что он кажется еле живым, — потому-то и зажигает он своим коротким дыханием народные массы, потому-то они и носят его на щите своих плеч.
Революционное могущество в руках у простых и хрупких... народ любит их, как женщин.
Есть что-то женственное в этом Бланки. Обвиненный в вероломстве классиками революции, он обратился для защиты к воспоминаниям о своем домашнем очаге, брошенном им для битв и тюрьмы, и вызвал призрак нежно любимой жены, умершей от горя, подруги, чье присутствие он постоянно чувствовал в уединении своей камеры, за стеной которой плакал ветер моря.
Пять часов. — Ла-Кордери[143]
Сегодня после полудня у народа было свое заседание.
Старая политика должна погибнуть у ложа, на котором Франция истекает кровью в родовых муках; она не может дать нам ни облегчения, ни спасения.
Теперь все дело в том, чтобы не увязнуть в этой трясине и — чтобы не дать сгнить в ней колыбели Третьей республики — обратиться к колыбели Первой революции.
Вернемся в Зал для игры в мяч[144].
В 1871 году Зал для игры в мяч находился в самом сердце побежденного Парижа.
Знаете ли вы между Тампль и Шато д'О, недалеко от ратуши, сырую площадь, зажатую между несколькими рядами домов? Их нижние этажи заселены мелкими лавочниками, дети которых играют тут же на тротуарах. Здесь не проезжают экипажи. Мансарды битком набиты бедняками.
Этот пустынный треугольник — площадь Ла-Кордери.
Здесь так же безлюдно и уныло, как на улице Версаля, где шагало под дождем третье сословие. Но с этой площади, как некогда с улицы, куда вошел Мирабо, может прозвучать сигнал, раздаться приказ, на который откликнутся массы.
Всмотритесь-ка хорошенько в этот дом, что повернулся спиной к казарме и одним глазом смотрит прямо на рынок. С виду он спокоен, как и все другие. Но войдите в него!
На третьем этаже, через дверь, которую можно высадить одним ударам плеча, вы попадаете в зал, большой и голый, как классная комната.
Здесь заседает новый парламент. Приветствуйте же его!
Сама Революция сидит здесь на этих скамьях, стоит, прислонившись к стенам, облокотившись на трибуну. Революция в блузе рабочего. Здесь происходят заседания Международного товарищества рабочих, здесь собирается Федерация рабочих союзов.
Это стоит всех античных форумов! Из этих окон могут прозвучать слова, которые зажгут толпу, совсем как те, что Дантон своим громовым голосом бросал из зала суда в народ, доведенный до исступления Робеспьером.
Но здесь нет тех грозных жестов, как тогда, не слышно и барабана Сантера[145]. Нет также и той таинственности заговоров, когда клялись с повязкой на глазах под острием кинжала.
Это сам Труд с засученными рукавами, простой и сильный, с мускулистыми руками кузнеца, — Труд, чьи орудия сверкают во мраке и который кричит:
— Вам не убить меня, не убить! Я скажу свое слово!
И он говорил.
Здесь собрались члены Интернационала, все известные социалисты — в числе их Толен. В результате обсуждений, продолжавшихся около четырех часов, возникла новая сила: Комитет двадцати округов.
Это — секция[146], дистрикт, как в великие дни 93-го года, свободное объединение выборных граждан.
Каждый округ представлен четырьмя делегатами, избранными собранием. Я — один из этих избранных, на кого возложена защита прав предместья против ратуши[147].
Мы раскинули по всему городу сеть нашей федерации, и наши задачи будут совсем иные, чем задачи федерации Марсова поля[148]... несмотря на весь вызванный ею в истории шум.
Восемьдесят бедняков, вышедших из восьмидесяти лачуг, будут говорить и действовать, — а если нужно, то и драться, — от имени всех улиц Парижа, объединенных нищетой и желанием борьбы.
Семь часов. — Бельвилль
Беглым шагом двинулись мы в Бельвилль.
Мы решили организовать клуб.
Но сначала нам пришлось обратиться к приятелю трактирщику, чтобы тот отпустил нам в кредит графинчик вина и кусок жареной телятины. Мы набросились на это, как волки: последние два дня мы мало ели, но много кричали, — а это здорово подводит живот.
— Скажи, папа, у нас революция? — спрашивают дети трактирщика, воображая, что дело идет о каком-то празднике, ради которого наряжаются, или о драке, когда нужно засучивать рукава.
Право, как-то даже не похоже... не скажешь, что рухнула такая штука, как империя.
Теперь надо собрать народ.
— Как это сделать?
— У меня есть свой план! — заявляет Уде.
Он увидел остатки какого-то полка, расположившегося на солнышке, возле казармы. Он направляется туда, подходит к кучке солдат, отыскивает среди них горниста, тащит его к тумбе и говорит:
— Влезай сюда и труби во имя Революции.
И горнист затрубил.
Таратата! Таратата!
Сбежался весь квартал.
— Задержи народ на улице, пока мы не найдем какого-нибудь помещения.
— Но где?
— В Фоли-Бельвилль, — предлагает кто-то. — Зал может вместить три тысячи человек.
— Можно видеть директора?
— Это я.
— Гражданин, нам нужен ваш зал.
— Вы заплатите за него?
— Нет, народ просит у вас кредита; но можно будет сделать сбор пожертвований. Если вас это не устраивает, тем хуже! Или вы предпочитаете, чтобы высадили двери и переломали все скамейки?
Владелец почесывает затылок.
Таратата! — Таратата!
Горнист приближается. А вместе с ним и толпа.
Директору не остается ничего другого, как согласиться.
Заседание
Избрано бюро. Уде, как живущий в этом квартале, председательствует.
В нескольких словах он благодарит аудиторию и предоставляет слово мне, чтобы объяснить зачем мы собрались и от чьего имени будем говорить.
Весь зал схвачен энтузиазмом.
Кажется, я сказал все, что было нужно.
Собрание принимает программу Коммуны, намеченную в воззвании Ла-Кордери.
Вдруг выстрел.
— Убивают!
Люди кидаются к эстраде и кричат, что там, с их стороны, на тротуаре убили одного из наших.
— Стрелял переодетый жандарм. Вся бригада квартала, прятавшаяся с четвертого сентября, снова перешла в наступление... На нас сейчас нападут.
По углам поднимается паника, но подавляющее большинство встает с криком:
— Да здравствует Республика!
Над головами замелькало и засверкало оружие всех сортов и калибров.
Под лучом газовой лампы блеснуло лезвие неизвестно откуда взявшегося топора. В амбразуре окна какой-то человек вытаскивает из кармана шары, похожие на картофель Орсини[149].
—Пусть только сунутся!
Но никто не явился. Убийца бежал.
Отыщут ли его? — неизвестно.
Перед закрытием собрания принимается резолюция: всем присутствовать на похоронах.
В день погребения меня подталкивают вперед и объявляют, что гражданин Вентра произнесет речь.
Могильщик облокачивается на заступ, глубокое молчание воцаряется на кладбище.
Я выступаю вперед и обращаюсь с последним приветствием к тому, кто пал среди нас, сраженный пулей, и чья могила так тесно соприкасается с колыбелью Республики.
— Прощай, Бернар!
Перешептывание... Кто-то дергает меня за фалды.
— Его зовут не Бернар, а Ламбер, — подсказывают мне вполголоса родные.
Бедняги! Я смущен и немного взволнован, но это волнение выручает меня из глупого положения, помогая придать более широкий смысл моим словам.
— Еще ниже должны мы склониться перед останками таких безвестных, павших без славы... Воздаваемые им почести относятся не к их личности, оставшейся скромной в своем мужестве и страдании, а ко всей великой семье народа, в которой они жили и за которую умерли!
Но что бы я там ни говорил, я все-таки глубоко огорчил семью Ламберов.
Клуб хочет иметь своих делегатов в муниципалитетах. Он приказал нам немедленно водвориться в мэрии и дал для поддержки пять вооруженных человек, — не больше, не меньше.
Там нас послали ко всем чертям.
Наша пятерка хотела во что бы то ни стало удержать нас хотя бы на лестнице; готова была пожертвовать своей жизнью, если потребуется. Думаю, что они сочли нас мягкотелыми, потому что мы не отдали приказа стрелять.
— Мы их припугнем, черт возьми, а тем временем один из вас отправится за подкреплением, — кричал капрал, покручивая усы.
За подкреплением?.. Но найдем ли мы, — мы, кому так горячо аплодируют каждый вечер, — хотя бы одну полную роту, которая последовала бы за нами до конца?
Несколько раз принимали решение всей массой двинуться к ратуше.
Половина зала поднимала руки; раздавались угрозы, и мы даже испугались, как бы это не завело нас слишком далеко.
Слишком далеко?.. Не дальше, как до угла улицы, где толпа рассеялась, предоставив нам втроем или вчетвером нагонять страх на правительство.
Мы уселись в омнибус — прощай наши три су! — и, добравшись до места, уныло бродили по плохо освещенным коридорам с нашим требованием, или ультиматумом. Мы наткнулись на запертую дверь, когда подошли к кабинету Араго, на штыки — когда вздумали рассердиться. В темноте зашевелились часовые, по знаку какого-то штатского с перевязью и в высоких сапогах.
Я полагал, что звание батальонного командира удвоит мою мощь трибуна и что неплохо будет, если в конце моих фраз увидят восклицательные знаки штыков.
И я выставил свою военную кандидатуру, хотя никогда не был солдатом, смеялся над галунами и был уверен, что на каждом шагу буду путаться в своей сабле, к которой питаю непреодолимый ужас.
Состоялась встреча с несколькими важными особами нашего квартала. Свидание происходило у фабриканта Мельзезара, воображавшего почему-то, что я похож на бандита, и с удивлением отметившего, что у меня вид доброго малого... Но это заставило заскрежетать зубами одного приверженца Марата; ему хотелось бы, чтобы те, кто будут рубить чужие головы, имели на своих плечах такую, которая внушала бы ужас.
Зато мой вид успокоил нашу именитую публику, и я был избран почти единогласно.
Эта честь стоила недешево! Мне потребовалось кепи с четырьмя серебряными галунами: восемь франков, ни одного су меньше, да и то благодаря тому, что было куплено у Брюнеро, друга Пиа, уступившего мне его по своей цене.
На этом я хотел закончить свои расходы по обмундированию, но у меня стоптаны башмаки, и через два дня я замечаю, что самолюбие батальона страдает от этого.
Я представил свои каблуки на рассмотрение комитета, заседавшего без меня, но куда я потом был торжественно приглашен.
— Гражданин, мы только что голосовали за выдачу вам пары сапог на двойной подметке. Это показывает, — прибавил докладчик, — каким уважением пользуетесь вы у народа.
Увы, всюду есть завистники! Эти двойные подметки вызвали недовольство.
Однако не могу же я их отодрать. Тем более что мне от них тепло и ноги мои блаженствуют.
Несмотря ни на что, ропот не смолкает. Конечно, не в лагере сознательных, — эти ребята знают, что для защиты их интересов я не жалею ни подошв, ни собственной шкуры, — орудует организованная мэром шайка: она привлекла на свою сторону башмаки, из которых торчат пальцы.
— Они еще покажут и зубы, — образно выражается писарь второй роты, предупреждая меня на утреннем докладе.
— А, вот как! Ну, подождите!
Бьет барабан.
— Пусть те, у кого нет сапог, явятся завтра к главному штабу босиком, и командир сам поведет их в мэрию. Примкнуть штыки и захватить боевые патроны!
Все пришли к месту сбора босиком.
Толпа смеется, выражает удивление, горланит.
— Вперед! Марш!
Муниципалитет в волнении.
Мэр, оптик по профессии, вооружился морским биноклем и направляет его в нашу сторону.
Он видит множество заскорузлых ног с судорожно напряженными для прыжка мускулами; одни — почти белые от волнующего ожидания, другие — черные от гнева...
Развязка не заставила себя долго ждать.
Не успели мы выстроиться под его окнами, как в воздухе потемнело от башмаков, запорхавших, точно пучки роз. Совсем как в Милане, когда женщины бросали букеты на кивера наших солдат, — только запах был иной.
Но этот невольный поставщик обуви поклялся отомстить.
Он хочет во что бы то ни стало избавиться от меня как от командира батальона.
И он нашел способ!
Сегодня, утром, в ливень, способный затопить целую армию, мои солдаты были отправлены куда-то к черту на кулички, за город, будто бы по приказу командира. Им сказали, что он будет руководить стрельбой и что они найдут его уже на месте.
А я и понятия не имел об этой прогулке и, сидя дома, преспокойно слушал шум дождя.
И вот под моим окном вспыхивает мятеж, раздаются возмущенные крики: «Долой Вентра!» Некоторые даже постукивают ружьями, заявляя, что поднимутся ко мне.
— Не поднимайтесь! Я сам спущусь к вам!
Их человек пятьсот — шестьсот. Они заполнили зал Фавье и грозят мне кулаками, когда я прохожу среди них, направляясь к трибуне.
Но все они — славные ребята, и, несмотря на свой гнев и проклятия, они не оскорбили меня, не задели ни одним жестом. Кончилось даже тем, что они выслушали меня, когда я указал им на предательство. Волнение улеглось, гнев утих...
Но с меня довольно. Я возвращаю кепи и саблю и подаю в отставку.
Всего хорошего, товарищи!
XX
Я живо сорвал свои четыре галуна; на них, бедных, было просто жалко смотреть, — так они поблекли, порыжели и полиняли... И вот я свободен!
Именно теперь — я настоящий командир батальона. Никогда не следует принимать официального начальствования над революционной армией. Я думал, что чин приносит с собой авторитет, — он отнимает его.
Ты только ноль перед номером батальона. И подлинным начальником становишься лишь в бою, если первым кидаешься в опасность. Ты впереди — и другие идут за тобой. А потому крещение избранием не значит ничего; есть лишь одно крещение — огнем!
Да, теперь, когда мой головной убор не украшен уж больше серебряными червяками, все те, кому я был так предан и кто чуть было не превратился в моих врагов, дружески протягивают мне руки. Я председательствую на собраниях различных групп, не будучи официально председателем ни одной из них. Не нужно мне почестей. Я хочу быть простым солдатом, получать свои тридцать су и иметь право кричать вместе со всеми: «Долой начальников!»
— Не советую вам, господин капитан, иметь меня в своем батальоне!
Капитан смеется или только делает вид, что смеется, так как отлично знает, что отныне офицеры у меня в руках и что это я буду подсказывать им мятежные лозунги.
Однако мой чин оказал мне услугу, когда мы, как начальники, в полном составе отправились в ратушу изложить волю Парижа и потребовать, чтобы не злоупотребляли его отчаянием, а хорошенько вооружили его против врага.
Однажды утром мне довелось увидеть, как все правительство национальной обороны, выведенное на чистую воду, запуталось во лжи под ясным взглядом Бланки.
Слабым голосом, спокойно и сдержанно он дал им понять, в чем заключается опасность, указал на средства, какими можно избежать ее, прочитал целую лекцию политической и военной стратегии.
И Гарнье-Пажес в своем высоком воротничке, и Ферри со своими бакенбардами, и бородатый Пельтан — все они имели вид школьников, уличенных в полном невежестве.
Правда, Гамбетта не присутствовал, а Пикар явился лишь в середине заседания.
После Бланки слово взял Мильер. От имени революционеров он требовал отправки комиссаров за пределы Парижа, «чтобы представить народ армиям».
— Послушайте, Вентра, — говорит толстяк Пикар, увлекая меня в амбразуру окна и теребя пуговицу моего пиджака. — Вы знаете, я совсем — ну, ни капельки — не протестую против того, чтобы вас отправили куда-нибудь подальше с вашим мандатом полномочного представителя предместий. Это доставило бы мне даже некоторое удовольствие... Но другие, — вы только взгляните на них! Ну, разве не простаки мои коллеги! Они могут избавиться от вас и чего-то еще раздумывают. Я так вот готов подписаться руками и ногами, лишь бы убрались подальше эти красные.
...Красные? Где красные? — прибавил он, подражая завсегдатаям дешевых танцулек, которые кричат: «Визави? Где визави?»
И расхохотался.
Затем, нагнувшись к самому моему уху и поводя пальцем у меня перед носом, сказал:
—Но вы, хитрец, вы никуда не поедете! Готов держать пари на кролика, что не поедете!
Я не держу пари на кролика... слишком дороги они сейчас. К тому же я проиграл бы. Точно так же, как и он, я не понимаю этих кандидатур, представленных на утверждение правительства.
Нельзя оставлять город, когда в нем голод и тридцатиградусный мороз: этот голод и этот холод подготовляют горячку восстания. Нужно оставаться там, где подыхают.
Да и нечего рассчитывать на то, что провинция, не пожелавшая прийти нам на помощь, зашевелится вдруг только потому, что в одно прекрасное утро явятся люди из Парижа и начнут вечером разглагольствовать в клубах.
Но зато это будет совсем «как в 1793 году».
Так думают люди убежденные, а те, что себе на уме, считают, что раз поставил ногу в стремя официального положения, то уж ни кулаки восстаний, ни выстрелы реставраций не должны выбить тебя из седла.
— Черт бы вас побрал! — кричит Пикар своим коллегам. — Отправляйте их, и пусть их там повесят, или пусть они сами лезут в петлю, если им угодно. Когда затрещит их собственный затылок, они уж не станут толкать вашу башку в ошейник гильотины... будьте спокойны! А когда все утрясется, они еще будут просить, чтобы вы дали им у себя местечко и легализовали их мандаты бунтарей. Так всегда бывает.
Однако эта философия никак не устраивает власть; она не желает показать вида, что уступает толпе, и хочет играть роль Юпитера-громовержца, изрекающего «Quos ego»[150], перед которым смиренно отступают пенящиеся волны.
Но они грозно вскипели однажды вечером. Мы, группа командиров предместий, в полной парадной форме пришли спросить, не издеваются ли над народом?
Явились Ферри и Гамбетта и затараторили во имя отечества и долга... Гамбетта был резок и распекал нас.
Но мы дали отпор холодно и твердо.
Лефрансе высказался, за ним другие: ослиная шкура их декламаций была пробита.
Не зная что ответить, они начали грозить.
— Я велю вас арестовать, — заявил мне Ферри.
— Посмейте только.
Они не осмеливаются и с жалким видом отступают. Гамбетта улизнул под шумок, выбросив последний заряд красноречия.
Ферри, разыгрывающий роль смельчака, остается. Его окружают, теснят... Никто не знает, чем закончится этот вечер и будет ли каждый из нас ночевать у себя дома.
Несколько командиров шепчутся в углу; видно, как их руки сжимают эфесы сабель.
— Вентра, вы с нами?
— В чем дело?
— Нас здесь сотня, мы представляем сто батальонов. Из этой сотни только человек восемь за Гамбетту и Ферри. Что, если остальные девяносто два скажут этим восьми и тем двум: «Вы наши пленники»?
Мысль пришлась по вкусу. Через час может случиться много нового.
Но по нашим губам и глазам было нетрудно догадаться, о чем мы сговариваемся.
Не опередят ли нас? Не вызовут ли роту с караула, чтобы окружить и обезоружить нас?
Нет. Они не уверены даже в тех, кому поручили защищать себя.
Необходимо все же предотвратить опасность.
Кто их спасет?
Два человека: Жермен Касс, разыгрывающий непримиримого, но одной ногой стоящий в их лагере, и Вабр[151], всегда бывший с ними.
Они вдруг исчезают, но через несколько минут появляются, возбужденные и запыхавшиеся.
— К укреплениям! К укреплениям!
Сбегаются со всех сторон.
— К укреплениям! Неприятель прорвал наши линии! Бастионы взяты!
Никто уж не думает больше о заговоре, а если некоторые и продолжают лелеять мысль о нем, то они хорошо понимают, что этот маневр убивает их.
Вот как случилось, что однажды вечером на прошлой неделе ратуша ускользнула из рук нескольких решительных командиров, хотевших овладеть ею.
Но терпение!.. Они еще возьмут свое!
XXI
30 октября
Уде и Малле врываются ко мне в комнату и сообщают о бойне, о поражении при Ле-Бурже[152].
— Уде, отыщи горниста!.. Малле, раздобудь топор!.. Барабаны, бейте сбор!..
Вся улица охвачена волнением. Трубы и барабаны неистовствуют. У Малле в руках топор.
И вот под тем самым окном, где недавно кричали: «Долой командира!», — сотни людей ждут, чтобы Вентра растолковал им, почему он поднял тревогу.
— Граждане, я беру назад свою отставку и прошу у вас разрешения стать во главе вас и, не медля ни минуты, двинуться в Бурже, на помощь нашим, которые погибают там от руки врага, оставленные без поддержки.
Трепет толпы. Крики:
— В Ле-Бурже! В Ле-Бурже!
Все пожимают руки Уде и Малле, моим славным товарищам, являющимся всегда вовремя, чтобы проложить мне дорогу своей отвагой.
— Но зачем топор?
— Чтобы взломать бочку с патронами, которую запрещено выдать мне без приказа мэра и особого разрешения штаба; но я велел выкатить ее на улицу, чтобы вы могли набить свои патронташи. Высаживайте дно!
— Да здравствует Республика!
Все выстроились... Ни один не уклонился от сбора.
Ко мне подходят командиры. Вокруг моего развенчанного кепи образуется как бы военный совет.
— Выступаем, решено! Но прежде надо снестись со штабом, чтобы согласовать с ним наше участие в сражении, узнать, какие уже приняты меры.
Это бревно поперек дороги кладут нам старые солдаты.
Приходим к Клеману Тома[153].
— Дома господин генерал?
— Он сейчас не принимает.
— Нам необходимо видеть его.
— Стой!
Долой все приказы! Часовые наступили на них и раздавили их тяжестью своего гнева, как только мы бросили им в лицо зловещие новости и наше решение.
На шум появляется Клеман Тома.
Он выходит из себя и, узнав меня, обращается ко мне:
— Чего вам еще нужно?
Я кричу ему, чего мы хотим, кричат это и другие.
— Я велю задержать вас, если вы не оставите этот тон!
Мы не оставляем его... и нас никто не трогает. Но он старается подавить нас своим авторитетом и своим мнимым стратегическим опытом, — этот генерал, бывший тридцать лет назад всего-навсего кавалерийским унтер-офицером.
Он заявляет нам, что в ратуше только что совместно с корпусными командирами был разработан план действий и что наш неорганизованный поход может провалить его.
— Наличные силы распределены по отрядам соответственно правилам войны и должны выступать в точно определенный момент, по условленному сигналу. Подготовлены планомерные вылазки, чтобы раздавить врага и отомстить за наших убитых... Согласитесь ли вы взять на себя ответственность за поражение, подвергнуть себя упрекам в безумии и даже в измене?
Я опустил голову и, подавленный, побрел обратно на бульвар Пуэбла, где меня ждали люди со знаменем в центре.
Нас сопровождал штабной офицер. Он пообещал, что если потребуется двинуть подкрепление в Ле-Бурже, то первым будет брошен туда 191-й батальон.
Ну что ж, хорошо! Мы легли спать со слезами на глазах и свернули знамя, намокшее под дождем и вонявшее отсыревшей шерстью, тогда как оно должно было благоухать пороховым дымом.
31 октября[154]
Новые известия, еще более ужасные. Базен[155] изменил!
Правительство обороны знало это и скрывало.
— В ратушу!
Все кварталы, один за другим, договариваются отправиться вместе.
Пошли.
Но у Ла-Кордери группа собравшихся там приятелей задерживает меня, заявляя, что роты могут идти дальше и без меня, а им надо поговорить со мной в интересах народа.
— Надо обсудить, как руководить движением.
Но нас только семеро. Знаменитости отсутствуют. Бланки показался и затем исчез; точно так же и Вайян[156]. Самых популярных поглотили батальоны, пожелавшие иметь их с собой, и теперь они не отпускают их ни на шаг. В их числе и я: меня уже требуют, приходят за мной.
— Вентра! Вентра!
Ах, как наивны те, кто думает, что главари руководят восстанием!
Так называемый главный штаб дробится, разбивается на части, рассеивается, тонет в пучине человеческих волн.
Самое большее, если голова одного из этих вожаков вынырнет на мгновение, как бюст раскрашенной женской фигуры, вырезанной на корме корабля, которая то появляется, то исчезает по прихоти стихии, по воле волн.
Все же мы впятером или вшестером, стоя на краю тротуара, постановили, что вечером должна быть провозглашена Коммуна.
— Коммуна... решено.
— Идите же наконец, — зовет человек, которому поручено привести меня.
По дороге меня отбивают от моего сержанта, и захватчики полностью овладевают мною так же, как до того поступил он. Меня отделяют от толпы, поднимают на стул, вытащенный из трактира, и заставляют разглагольствовать. Импровизированным комитетом, создавшимся тут же, у бильярда, мне поручено составить прокламацию и обсудить в промежуток между двумя рюмками черносмородинной, кого следует «поставить у власти».
Выстрел!
Дети пищат и прячутся.
Наш трактирный комитет, состоящий из храбрых малых, решает, что наступил момент действовать. Мы пытаемся вернуть бегущих и направляемся к ратуше с намерением захватить ее.
— Она в наших руках, — говорит мне Уде; он как раз возвращается оттуда. — Ты ведь ничем не хочешь быть, не правда ли? — Ну так вернемся в свой квартал и останемся в предместьях среди никому не известных.
Я не посмел противоречить. А между тем мне очень хотелось бы пойти в ратушу, может быть даже получить там какой-нибудь боевой пост, стать чем-нибудь в восстании.
Уде заставил меня покраснеть за мои намерения, или, вернее, у меня просто не хватило смелости. С сожалением повернул я обратно.
Но Уде, который любит меня и сам пользуется моим уважением, яснее видит дело.
Уступим место другим и возвратимся к себе.
Впрочем, сначала поднимемся по лестнице Ла-Кордери.
Я застаю там семь-восемь человек и привожу их в замешательство сообщением о том, что, по словам Уде, новое правительство сформировано.
А они как раз были заняты составлением своего списка... как это было у трактирщика.
— Но наш долг — войти в состав этого правительства! — заявляет молодой адвокат в коротеньком синем пиджачке, стараясь принять эффектную позу. Он готов, если надо, умереть под знаменем восстания, но не откажется и от выгод, которые может принести его честолюбие, задорное, как и вихор его черного парика (он у него совсем такой, как у народных трибунов на гравюрах), которым он встряхивает на манер Мирабо, подергивая при этом своими тщедушными плечами.
Я только даром потерял там время. Вернулось еще несколько человек; мы расспрашивали друг друга, ссорились и ругались, словно византийцы[157], обсуждая, как надо вести себя с народом, — как будто этот народ подсматривал за нами в замочную скважину и ждал нас на лестнице, чтобы умолять стать его господами.
Кончено, я возвращаюсь к своим сарматам.
— Вы знаете, что в мэрии Ла-Виллетт остались национальные гвардейцы, не пожелавшие утром принять участие в движении?..
— Идем занимать мэрию Ла-Виллетт!
Я — в сабо. Мои почетные сапоги натерли мне ноги, и я надел эту деревянную обувь, завалявшуюся где-то в углу.
Поверх куртки я накинул поношенный, потертый плащ, ставший из синего зеленым... Но зато у меня сабля с портупеей.
Я обнажаю ее. И под дождем, падающим с серого туманного неба, шлепая по лужам, веду три десятка людей на улицу Фландр.
На нас жалко смотреть: с волос течет, штаны забрызганы грязью. На моем тесаке уже выступили ржавые пятна, а крылья у плаща намокли и поникли. Я похож на курицу, выскочившую из лохани с водой.
— Стой!
Вечное «стой» встречает меня у всех дверей с тех пор, как я появился на свет.
Но идущие за мной и промокшие насквозь люди выстроились в боевом порядке позади моего плаща, и он отряхивается, выпрямляется.
— Дорогу народу, хозяину власти!
Решетка открывается, и мы проходим.
— Теперь, когда ратуша в ваших руках!..
На дворе, битком набитом солдатами и ощетинившемся штыками, невообразимый шум.
— Шарф! Шарф!
Несколько командиров подбегают ко мне и опоясывают меня.
— Именем Революции назначаем вас мэром округа! — говорят они, затягивая на мне пояс... затягивая его слишком туго.
Они отпускают его немного; но теперь очередь за головой.
— Во имя Революции, облобызаемся!
И я получаю несколько звучных поцелуев, попахивающих луком и даже чесноком.
Теперь за работу!
— За работу? Но что я должен делать?
А речи! Разве можно обойтись без обращения к народу, без того, чтобы не сказать ему, что готов умереть за него?
— Ведь вы умрете за него, не правда ли?
— Ну, конечно.
— Так вот и скажите ему. Он любит, когда ему говорят это... Полезайте на стол... Внимание!.. Тише!.. Теперь можете начинать.
И я начинаю.
Чувствуя, что мое красноречие иссякло, я заканчиваю:
— Граждане, время разговоров прошло!
Теперь я готов приступить к тому, что делают обычно носители набрюшников.
— Что же они делают? А?
— Понятия не имею, — бормочет стоящий рядом со мной человек; его только что назначили моим помощником, и он тоже ждет, чтобы ему указали его обязанности.
— Очень просто, надо подписывать ордера, — говорит какой-то старик, по-видимому совершенно ошеломленный моим невежеством.
Подписывать ордера? Охотно, но на что?
— На извозчиков, на лампы, на масло, на бумагу, на все что угодно, черт возьми, как это всегда делается в революцию!
Вот тебе на! Я думал, что у меня будут требовать только патронов, и готов был подписаться обеими руками. Что до остального...
— А как же посылать за сведениями в ратушу? В районы? Нужны извозчики. За вашей подписью ими можно будет воспользоваться бесплатно... А за деньгами они придут завтра.
Завтра? Я совсем не знаю, что будет с нами завтра.
Однако я уже не только подписал несколько ордеров, но и «обокрал кассу». Враги, несомненно, обвинят меня в краже, если только перейдут в наступление. Я хорошо знаю эти процессы на другой день после восстания и рискую не только своей жизнью... Ей, по-видимому, не грозит опасность... Зато моя честь ставится на карту вместе с этими несколькими пятифранковыми монетами, взятыми под ответственность того, кто распоряжается в данный момент и кто зовется Жаком Вентра.
Впрочем, жребий брошен! Будь что будет!
Но я постараюсь, чтобы дело приняло серьезный оборот, и не стану тратить время на то, чтобы подписывать ордера на фураж и разные накладные.
Но дело не принимает серьезного оборота — совсем напротив!
Я слышу на лестнице невообразимый крик и шум.
Это — Ришар, бывший мэр. Он только что явился из ратуши, куда ходил за распоряжениями к своим хозяевам, и теперь пробирается через батальон захватчиков.
Он кидается на шарф, в который меня затянули.
— Отдайте мне его! Вы нарушаете закон! Я велю вас завтра расстрелять!
Он вцепился мне в живот и пытается сорвать с меня трехцветный пояс, завязанный узлом. Этот узел впился мне в пуп... Я синею.
— Наших братьев душат, — кричит участник 48-го года, хотя я и не состою в родстве с ним.
Мэр вынужден выпустить меня из рук, и его, в свою очередь, основательно сжимают. У него уже глаза стали вылезать из орбит.
К счастью, я успел отдышаться.
— Граждане, пусть ни один волос не упадет с этой пустой головы, пощадите скорлупу этого гнилого ореха.
Все смеются. Гнилой орех брызжет слюной.
— Можете пытать меня сколько угодно, но я повторяю, что завтра вас ждет возмездие!
— Никто не собирается вас пытать, но, чтобы вы не надоедали народу, мы запрячем вас в шкаф.
И я велел сунуть его в стенной шкаф... огромный шкаф, где ему, право, очень удобно. Он может там стоять, если ему угодно, отлично может вздремнуть на средней полке, свернувшись калачиком.
Революция идет своим путем.
Час ночи.
Один из стражей желает поговорить с теперешним мэром от имени мэра, сидящего под замком.
— Что случилось? Он покончил с собой? Задохнулся в шкафу?
Нет!.. Парламентер молчит.
— Да говорите же!
Он не решается... Наконец, наклонившись к самому моему уху, шепчет:
— Простите, извините, господин командир... но он просто извивается там... Вы, конечно, понимаете?.. Позвольте ему сходить, гражданин?
— Позволить ему сходить в шкафу, — говорит Грелье[158], мой помощник, — в шкафу! Слышите?
— Вы слишком жестоки!
— Дорогой мой, если он вылезет оттуда, половина людей тут же присоединится к нему и сбросит нас. Он — горячий и решительный малый... пусть уж лучше разрядится там.
Пусть!
Не проходит и часу, как появляется другой сержант, весьма несговорчивый. Его прозвали сапером — из-за бороды, совершенно закрывающей его лицо. Он с радостью даст убить себя вместо «своего командира».
— Для него я даже сбрею бороду, — говорит он, и его глаза горят преданностью.
Он приносит вести из шкафа.
— С вашего позволения, господин командир, шкаф совершенно затоплен... Но это еще не все!
— Что же еще?
Он тоже затрудняется, не знает, как объяснить.
— Видите ли, этот человек уже не стесняется больше... и просит...
— Чего же он просит?
— Он просится, господин командир, выйти на минутку... для кое-чего более серьезного!
— Вы видите, — говорит Грелье, — реакция поднимает голову. — Только что одно требование, теперь — другое.
Он повертывается к саперу.
— А что говорит стража? Что думает она о его претензиях?
— Они говорят, что может кончиться очень печально, если его вовремя не выпустить...
— Так выпустите его, ради бога... Полейте хлором в шкафу и дайте ему свободу вместе с ключом от надлежащего места.
Мэр не заставляет повторять себе два раза и пулей вылетает из шкафа, оцарапавшись при этом о железо створки.
— Пруссаки! Пруссаки! — закричало несколько шутников, и они чуть было не заставили весь батальон взяться за оружие и направить его на ободранный зад мэра.
И подумать только, что завтра, если мы будем побеждены, завопят, что я толкал к убийству, вел людей на бойню! Между тем до настоящего времени если и пролилась кровь по моей вине, то только кровь этого «пруссака»...
Побеждены! — Похоже на то.
Из ратуши поступают мрачные известия.
По-видимому, правительство собирается с силами. Говорят, что ему приходят на подмогу; один правительственный батальон выступил в полном порядке, с Ферри во главе, и двигается против восставших.
Неужели это правда?..
— Что бы там ни было, собирайтесь, товарищи. Выступим навстречу этому батальону!
— Мы голодны! Мы хотим пить!
— Есть и пить будете потом, в Париже.
Но они упорствуют, говорят, что меньше будут дрожать за свои животы, если ублаготворят свои желудки.
— Ну, так живо! Взломайте в погребе несколько бочонков с селедками и вином... По селедке и по стакану вина на человека!
А затем ранцы на спину! Я снова возьму мою саблю и сброшу шарф. Кто хочет надеть его?
— Ну нет! Вы не выйдете отсюда!
И они предательски и исподтишка препятствуют моему уходу.
Начальники частей, которые последние два месяца явно или тайно были на стороне экс-мэра и ненавидели меня за мою популярность в клубе, осмелели, узнав о наступательных действиях буржуазии. Их эмиссары сеют возмущение в отделениях, получивших по кружке вина и по копченой селедке.
— Устроил беспорядок и теперь удирает! Смотрите, чтобы он не улизнул! Иначе вас арестуют и вы будете отвечать за все. Да и знаете ли вы, куда он вас ведет и что вас ожидает?.. Он захватил мэрию, — ну и пусть остается в ней заложником!
Я попробовал настаивать, но бельвилльцы прикинулись глухими. Только несколько простых и смелых ребят отправились всем взводом навстречу опасности.
Наша звезда закатывается.
Узнаем, что 139-й подходит и собирается взять нас приступом.
— Они уже напирают на решетку, — докладывает мне капитан.
— Через эту самую решетку снимите их авангард. Пли!
— Но ведь начнется резня.
— С нами разделаются еще хуже, если они почувствуют, что мы боимся. Пойдите скажите им, что вы будете стрелять, если они двинутся с места.
Они остались на месте, и вовсе не из страха, — признаю это, — а потому, что хотя они и не на нашей стороне, но страдают, как и мы, и в сердце у них тоже раны патриотов.
Все равно! Я послал за патронами на пост вольных стрелков; ими командует лейтенант, мой бывший товарищ по нищете, с кем мы вместе терпели и голод и холод.
В нем я по крайней мере уверен: он не откажет в боевых припасах.
Так нет же, черт возьми, — он отказал в них!
С тех пор как этот отщепенец нацепил эполеты, он стал вполне благонамеренным. Возможно, он даже рассчитывает получить крест или патент на офицерский чин в регулярной армии. И если он будет драться, как лев, то только как такой лев, которому надоело поститься в пустыне и который стремится к корму зверинца и аплодисментам толпы.
А!.. Есть от чего разбить себе голову об стену!
С мусульманским спокойствием ожидали мы конца драмы среди селедочного запаха и винных паров.
Ах, эта селедка! Мой шарф пропах ею. Красное знамя, неизвестно откуда взявшееся и водруженное перед моим пюпитром, тоже пропахло ею. Порох, деньги, — какие у нас есть, — все пропиталось запахом взломанных на дворе бочонков.
Можно подумать, что находишься на Рыбной улице в Лондоне, а не в цитадели инсургентов предместья Ла-Виллетт.
1 ноября
Мало-помалу цитадель эта опустела. Отправившиеся за новостями не вернулись. То ли их захватили в плен, то ли они сами не захотели вернуться в осиное гнездо, уже отмеченное гневом буржуазных батальонов.
Нас осталось там всего несколько человек. И мы ничего не знаем о том, что творится в Париже.
Только что получена депеша:
«Мэру XIX округа».
Это я — мэр, потому что на мне шарф.
Распечатываю и читаю: «Порядок восстановлен без кровопролития».
Нужно поскорее удирать. Я едва держусь на ногах от голода, изнываю от жажды.
Подавленный, усталый, сонный, вхожу в ресторан, куда в полдень мы с товарищами заходили обычно перекусить. Я застаю здесь тех, кто не явился ночью: они или боялись меня, или ждали конца, чтобы на что-нибудь решиться.
Концом будет, несомненно, мой арест, и в очень скором времени. Возможно даже, что меня сцапают прежде, чем я успею доесть яичницу.
Жалкие люди! Они уткнулись носами в тарелки, делая вид, что не замечают меня; сдвигают стулья, чтобы я не сел за их столик.
Я все-таки подхожу к ним.
— Меня заберут как инсургента, как вора. Я выставлю вас свидетелями.
Они не дают мне кончить.
— Гм... Гм... Черт!.. Как?.. Но... В конце концов вас никто не заставлял захватывать мэрию. Вы, может быть, спасли Ришара, изолировав его от толпы, но, если б вы не заняли его места, этим людям и в голову не пришло бы душить его... Говорят, будто вы велели расстрелять Луи Нуара, и он сам подтверждает это!..
Мне стало противно. Я проглотил стакан вина и чуть ли не бегом направился к ратуше.
Никаких следов ночного мятежа, почти не видно часовых, на стенах ни одной царапины от пуль. Безмолвен дом, пустынна площадь.
— Пожалуйста, на десять су серого мыла. Да, да, на десять.
И я побежал домой и превратил свою комнату в ванную; я выпросил у приятельницы-соседки одеколону, чтобы спрыснуть свою куртку. Опустил ноги в воду и взялся руками за голову.
Вот я и чист. Теперь, если меня по дороге и оцарапает какой-нибудь штык, я попаду в больницу в чистой рубашке и свежих носках.
А то, что мне могут продырявить кожу, — очень возможно. Я непременно еще раз зайду в мэрию, после чего буду считать себя вправе исчезнуть и скрыться от преследований.
— Пожалуйста, еще немного одеколону. Скажите, соседка, от меня все еще пахнет селедкой?.. До свидания!
— Вас арестуют, господин Вентра?
— Думаю, что да.
— Оставайтесь дома.
— Так меня заберут здесь, только и всего.
Она слегка краснеет. Мы с ней близки. И, пряча свою душистую мордочку в моей все еще зловонной бороде, она предлагает мне:
— Я спрячу вас у себя.
— Невозможно! Но если я не вернусь, пришлите мне белье. И одеколон... побольше одеколону! Заранее благодарю вас!
Я занял у швейцара пять франков.
Пять франков! Ночью я опорожнил свои карманы и оставил все, что у меня было, кассиру, — даже мои собственные деньги. С этими ста су я могу теперь спокойно выжидать событий.
Вот я и во дворе. На этот раз я без сабли и вхожу сюда, как в тюрьму.
Решетка запирается за мной по приказу коменданта. Вчера, во время сумятицы, я не видел его, но он вынырнул сейчас, когда я проиграл.
Оказывается, этот несчастный действительно думал, что я хотел расстрелять его.
И это — брат Виктора Нуара, тот самый, что принял меня у смертного одра, где лежало еще не остывшее тело его младшего брата? Это он выступает против меня, обвиняет и призывает к ответу перед караульными солдатами, солдатами батальона, которым командует бонапартист.
К счастью, здесь еще оставалось несколько наших — Бутлу со своими людьми. Они дремали, положив под голову ранцы, но проснулись от шума и заявили:
— Никто не посмеет арестовать Жака Вентра!
Луи Нуар постеснялся и не решился обратиться за помощью к бонапартисту, может быть близко стоящему ко дворцу в Отейле, — и меня отпустили.
Кроме этого неблагодарного сумасброда и молодцов, завтракавших со мной сегодня утром, все остались верны своему долгу. И когда я появился в зале, где они собрались, как на военный совет, меня встретили с распростертыми объятиями.
— Удирайте, да поскорее! Нам сообщили в канцелярии правительства, что готовится приказ о привлечении вас к суду.
Я вышел под охраной нескольких смелых товарищей, прикидываясь беззаботным и спокойным. За углом меня ожидал фиакр; кучер — один из наших.
Он стегает чуть не до крови свою клячу и галопом увозит меня все дальше и дальше от этой мэрии, откуда я выбрался почти чудом.
— Нн-о! Дохлая!..
Когда мы отъехали достаточно далеко, он щелкнул кнутом, попросил прощения у лошади и сказал мне:
— Фу, черт возьми!.. Ну, теперь поцелуемся!
XXII
Пассдуэ, мэр XIII округа, скрывал меня в течение трех дней.
На третий день я взял его бритву, сбрил бороду, подрезал баки, оставил только усы и эспаньолку и отправился к одному приятелю, не занимавшемуся политикой и предложившему мне удобное и надежное убежище в одном из мирных клерикальных кварталов. Там я смогу обмануть полицию и ускользнуть от военного суда.
Но собираются ли они арестовать нас?
К концу недели мне стала невтерпеж жизнь беглеца, прячущегося в своей дыре, и я возвратился в Ла-Кордери.
Если они намерены схватить нас, им стоит только поставить у входа своих агентов.
Они и в самом деле стоят там.
Значит, им известно, что я вернулся, что вернулись также и другие, кого преследуют за 31 октября и на кого они имеют право наложить лапу. Нас очень легко узнать, — так мало меняют нас обмотанные вокруг шеи кашне и маскарадные очки.
А между тем правительство не проявляет никаких признаков жизни и дает нам возможность раз по двадцать в день взбираться и сбегать вниз по лестнице Ла-Кордери.
Ла-Кордери стала своего рода форумом.
Она вооружает Революцию, составляет наказы для будущего восстания, — она могла бы спасти родину!.. Мне она — совсем недавно — спасла честь.
Это случилось в ту пору, когда я носил кепи с четырьмя галунами. Я был как-то на карауле в бастионе. Ко мне подходит один офицер.
— А вы знаете, какие носятся слухи? Утверждают, что в избирательной кампании против Жюля Симона вы были заодно с империей.
— Неужели смеют так говорить!
— Да, и во всеуслышанье!
Я бросаю свой батальон и быстро вскакиваю в первый попавшийся фиакр.
Да, об этом громко говорят в кафе, а вчера об этом кричали даже на народных собраниях.
Распространил этот слух креол Жермен Касс.
— А что, если для начала я разобью ему морду?..
— Успокойтесь, — говорит мне Бланки, — и не бейте ничего. Это — начало вашей популярности.
Популярности? Смеется он, что ли, надо мной?
Быть спокойным!.. Да не могу я! С пылающей головой, с сердцем, готовым разорваться от муки, с пересохшим горлом и блуждающим взглядом я несусь из одного квартала в другой. Бросаю экипаж, когда он задерживается на перекрестке, вбегаю как сумасшедший в дома, где живут друзья — члены моего бывшего комитета, — в которых я уверен, и кричу охрипшим голосом: «На помощь! На помощь!»
Я тащу их с собой; по дороге захватываю еще и других, кому известны моя полная нужды жизнь и мое мужество. И еще до захода солнца в Ла-Кордери согласились на мое требование о расследовании. На завтра назначено заседание восьмидесяти совместно с народными комитетами.
Как мучительно долго ожидание! Что за ночь я провел!
Наконец наступил день.
Вместе со мной обвиняются Брион, Гайяр[159] и еще один. Утром мы все отправились в префектуру полиции и потребовали показать нам клеветнические документы, — оружие, которое отравили, чтобы убить нас.
Но нам ничего не показали!
Зал битком набит, комиссия в полном составе. Избирается президиум. Слово предоставляется мне.
Я рассказал все, с начала до конца: как за мной явился комитет во главе с товарищем Пассдуэ, — а ведь Пассдуэ уж никто не заподозрит, не правда ли? Я как раз в это время завтракал в каком-то кабачке. Они пристали ко мне с ножом к горлу. Мне повторяли на все лады, что я, будущий историк июньских героев, обязан представлять этих побежденных перед лицом проклявших их республиканцев и показать им изувеченный труп социальной войны.
Я согласился, но заявил: «Как видите, я завтракаю за тридцать су. Я беден и не могу дать ни сантима на свои выборы».
«Один человек предложил нам деньги на плакаты», — ответил мне комитет.
«Это ваше дело», — сказал я в заключение.
— А если он все-таки был подкуплен империей?
С какой целью?.. Мы предприняли кампанию, не рассчитывая на победу. Цифровые данные убеждали нас в полном поражении.
Пятьсот голосов? Да разве мы могли получить их?
Мы получили их. Но неужели такая безделица могла помешать пройти Симону?..
И вот из-за чего я стою перед вами, обвиняемый в измене. Взгляните на меня! Разве у меня глаза продажного человека?
Нужно ли вам говорить, сколько я перестрадал за свою жизнь? Как боролся с голодом, чтобы остаться свободным?
Так неужели же после целого ряда лет такого героизма, в момент, когда оставалось только немного потерпеть, чтобы стать почти знаменитым и даже счастливым, — я отказался бы от себя, сковал бы себя цепью, продался?
Не мне говорить вам, стою ли я чего-нибудь, но разве вы не понимаете, что десятки раз уже я мог сделаться богатым, если б только захотел!
Я прекрасно знаю, что вы оправдаете меня!.. Но самый факт обвинения все равно оставит горечь в моей душе.
Моя честь?.. Она выйдет отсюда еще более незапятнанной, чем когда бы то ни было! Но моя гордость? Кто сможет омыть ее раны, извлечь из них гной, занесенный туда грязными пальцами Касса?
……………………………………
Они не дали мне кончить.
Изо всех углов зала ко мне потянулись руки. Некоторые обнимали меня; у иных были слезы на глазах.
Но что из того! В будущем всегда найдется несколько мерзавцев, которые откопают всю эту грязь и швырнут ее в меня в тот день, когда я буду обезоружен поражением, изгнанием или смертью.
XXIII
23 февраля
Оказывается, я ошибался, думая, что субъекты из ратуши не посмеют нас преследовать!
Они посмели.
31 октября пройдет перед судом солдафонов. Офицеры взятой в плен армии будут судить свободных людей.
Перед ними предстанут Лефрансе, Тибальди, Верморель, Везинье, Жаклар, Ранвье, а может быть, и другие, если их удастся захватить. Их проведут между двумя рядами заряженных ружей с примкнутыми штыками, готовыми пронзить их грудь при первой попытке к бегству или бунту.
Их посадят на скамью, узкую и жесткую, как школьная парта, засунут между столом и старой печкой так, что не видно будет даже их голов, — голов, в которые целятся статьи кровавого кодекса.
Но я знаю, что на этот раз на карту не поставлены ни их головы, ни даже их свобода. Кто, имеющий сердце, решится осудить их?
Осудить за то, что, видя, как корабль несется на рифы, они кинулись к капитану и закричали:
— Франция идет ко дну! Дайте сигнал тревоги!
Их осудить!! Почему бы их тогда не отхлестать треуголкой Трошю, не проткнуть шпагой Базена?
Но это не все. На этой неделе полиции хватит работы, и прокурору Республики придется только поспевать с обвинительными заключениями.
Они будут судить также клочок бумаги, называемый «Красная афиша»[160]. Она была расклеена на стенах в тот момент, когда не хватало хлеба и снаряды сыпались дождем.
Ну и задало оно нам жару, это воззвание... Вайяну, Леверде, Тридону * и мне.
На заседании 5 января Ла-Кордери поручила нам стать выразителями общей мысли.
Было условлено, что к десяти часам утра следующего дня мы приготовим прокламацию, и если собрание одобрит ее, то она удостоится чести быть расклеенной в ту же ночь во всех предместьях Парижа.
Но надо было составить ее.
Надо было выразить волю народа его простым и вместе с тем мощным языком. Народ брал слово перед лицом истории, в разгар самого страшного из ураганов, под огнем неприятеля. Нужно было думать одновременно и о родине и о революции.
И вот четверо литераторов, запершись в маленькой комнатушке на улице Сен-Жак, ломали себе голову над каждой новой строчкой, выходившей из-под их пера, боясь впасть в пошлость или декламацию.
Нам было стыдно перед самими собой, и каждый удар стенных часов мучительно отдавался в нашем мозгу.
Наконец к пяти часам утра наша трудная работа была на три четверти сделана.
Тридон[161] — совсем больной, обреченный на смерть пожиравшей его болезнью, — предложил немного вздремнуть, с тем чтобы потом снова взяться за дело.
Мы растянулись с ним вдвоем на импровизированном ложе, но вскоре я оставил его, чтобы предоставить ему больше места. Бедняга: на шее — корпия, на теле — лохмотья... Он закутался в единственное оставшееся нам одеяло; другое взяли товарищи.
Тело его было уже в агонии, но мысль оставалась сильной и ясной.
Когда мы встали, мы услышали непривычную по силе пушечную канонаду. Это началась бомбардировка.
А наш манифест застыл на месте... оцепенел, как и мы.
Трудно передать наше отчаяние: мы боялись оказаться недостойными наших товарищей; а новые ядра свистели нам в уши, как недовольная публика в театре.
Недоставало одной, только одной фразы, но такой, где трепетала бы душа Парижа; Париж тоже должен был сказать свое слово, чтобы занять место в будущем.
Мы поплелись в Ла-Кордери, так и не закончив воззвания и не только не думая об опасности, а скорее даже с тайным желанием быть убитыми в пути.
Но вот при одном особенно сильном залпе Тридон встряхнулся, наморщил брови и, глядя на небо, бросил в морозный воздух одно слово, одну фразу.
Он нашел!..
Прокламация, прочитанная среди торжественного молчания, была покрыта аплодисментами.
«Дорогу народу! Место Коммуне!» — так кончалась она.
Вот эту-то прокламацию они и собираются преследовать судом. А между тем она не являлась призывом к восстанию; это был крик, вырвавшийся из наболевших сердец, и скорее крик отчаяния, чем крик негодования.
Подписавшие ее были арестованы, но толпа, с барабанщиком во главе, открыла им двери мазасской тюрьмы. И вот теперь судебный пристав из Шерш-Миди[162] вызывает их.
Господа из ратуши хорошо помнят этот плакат, хотя за это время утекло немало и грязи капитуляции, и крови 22 января...[163]
Но 22 января тоже предстанет перед судом. Они хотят сделать из него преступный день.
Но кто же был преступником?..
Бедный Сапиа![164] Сраженный, он упал с дешевой тросточкой в руках. Он кричал: «Вперед!» — но у него не было ни сабли, ни ружья.
Не стрелял, конечно, и поднятый мертвым девятилетний ребенок; так же, как и старик, чьи мозги брызнули на фонарь: в его кармане нашли молитвенник, а не бомбу.
Сколько невинных убито 22 января!
Те, кто не мог достаточно быстро бежать, прятались за кучами песку или, скорчившись, ложились позади сваленных фонарей в грязи по самые уши.
Время от времени один из этих притаившихся отделялся от кровавой груды и полз на животе в более надежный уголок... Но вдруг останавливался и не двигался уж больше. А на боку у него можно было разглядеть алое пятно, — точно отверстие в бочке с красным вином.
Среди тех, кого приведут завтра жандармы, есть и такие, что явились тогда лишь для того, чтобы поднять раненых или прикрыть своим носовым платком обезображенные лица мертвецов.
Жестокие, бестактные люди, стоящие у власти, не поняли, что им тоже лучше было бы поступить по их примеру и набросить на эти страшные дни покров забвения.
8 марта
Суд над 31 октября свершился!
Трибунал из солдат оправдал большинство из тех, кто согласно договору, заключенному в ту зловеще закончившуюся ночь, вовсе и не должен был бы подлежать ни аресту, ни преследованию.
Шпага военного суда пригвоздила клятвопреступников из ратуши к позорному столбу истории.
На скамье подсудимых остались только Гупиль[165], я и еще несколько человек, привлеченных к ответственности за действия, не предусмотренные соглашением.
«Красное воззвание» тоже вышло победителем на судебном разбирательстве.
В Шерш-Миди было два заседания, две группы обвиняемых, два одинаковых оправдательных приговора. Члены правительства обороны должны еще до сих пор краснеть от стыда...
Ферри, однако, просто из себя выходил: он презрительно обращался с побежденными и клялся честью, что видел меня — да, именно меня, Вентра, — ночью 31 октября в ратуше, что я был среди тех, кто кричал больше всех и кто грозил отправить его в Мазас.
Чтобы изобличить его, я должен был сделать следующее заявление:
1) что, испытав на себе, что такое Мазас, я скорее допустил бы гильотинировать товарища, чем отправить туда врага;
2) что я считаю его, Ферри, скорее заслуживающим порки, чем мученичества;
3) что, к моему великому сожалению, я никак не мог оскорблять правительство на его курульном кресле, так как обвиняюсь в том, что как раз в это самое время, находясь в Ла-Виллетт, я упрятал в шкаф почтенного Ришара, законного мэра, и отравил народ, накормив его селедками, «предназначавшимися для раненых».
Факты говорили сами за себя, но Ферри, по-видимому, нажаловался на меня, и если только председатель военного суда заодно с правительством, — мне не поздоровится...
11 марта. Шерш-Миди
— Тебя, Вентра, наверно, приговорят к шести месяцам.
Возможно, я и получу шесть месяцев тюрьмы, но могу дать вам расписку, что постараюсь не отсиживать их.
Быть задержанным и посаженным в тюрьму в такой момент — значит, в самом непродолжительном времени попасть в ссылку. Достаточно как-нибудь вечером вспыхнуть восстанию в предместье — и тебя схватят и тайком отправят в Кайенну, если только это не кончится еще проще: смертью от пистолета какого-нибудь полицейского, уставшего за день восстания, или расстрелом у стены по всем правилам искусства.
В воздухе пахнет расстрелами. В опьянении победы, в ярости борьбы с неопределенным исходом — горе заключенным!..
Было бы ужасно исчезнуть таким образом.
Правда, эти упрощенные убийства не получили еще широкого распространения, но если даже отбросить возможность перехода в небытие, уже само заключение в тюрьму было бы тоже слишком тяжело.
Как знать, донесутся ли до меня шумы города, проникнут ли сквозь решетку моей камеры вспышки урагана? Неужели я ни о чем не буду знать? Ничего не услышу?.. а в это время будет решаться судьба наших, они будут рисковать своей жизнью, их ряды будут опустошаться...
Так пусть же тот, кто хочет, разыгрывает из себя Сильвио Пеллико[166], а я, я постараюсь проскользнуть у них между пальцами!
Это будет нетрудно.
Хотя мы — обвиняемые, но мы на свободе. Мы сами добровольно предстали перед судом. Поэтому нас охраняют спустя рукава.
Слева от меня — старый служака, прямой, как дуб, с длиннющими усами, которыми он два или три раза чуть было не выколол мне глаза: он на голову выше меня.
Но он посматривает на меня — сверху — без всякой злобы, пожалуй даже добродушно, хотя и бормочет сердито какие-то непонятные слова, — точно жует камни.
Суд удалился на совещание.
По углам оживленно обмениваются мнениями, спорят. У меня, может быть, осталось всего несколько минут свободы, надо воспользоваться ими, чтобы поболтать и поспорить, как другие... а главное, чтобы посмотреть, не открыта ли дверь.
Фу, черт!.. Ус моего соседа уже в четвертый раз лезет мне прямо в глаз. Но на этот раз я разобрал, что брюзжит он мне в ухо вот уже добрых четверть часа:
— Да удирайте же вы, милейший, черт вас возьми!
— Спасибо, старина... Постараюсь!
Я перешагнул порог, и вот я на улице. Как это было и в Ла-Виллетт, я иду ленивой походкой, будто гуляю, но, повернув за первый же угол, ускоряю шаги.
Я нашел себе убежище в двух шагах от той тюрьмы, где мне пришлось бы отбывать наказание.
На другой день товарищ, оповещенный о месте моего пребывания, принес мне приговор. Меня как миленького присудили к шести месяцам, но это мало беспокоит меня.
Хуже другое: эти солдафоны осадного положения одним росчерком пера закрыли шесть социалистических газет, в том числе и «Крик народа»[167], вышедший уже восемнадцатым номером и имевший большой тираж.
Ферри отомстил. Я свободен, но газета моя убита.
К несчастью, он отомстил не только мне. Милосердие военного суда было одним притворством; по делу 31 октября только что вынесен смертный приговор Бланки и Флурансу.
Пускай!.. они вне пределов досягаемости.
В моем убежище я никого не вижу, ничего не знаю. Но я чувствую, что собирается гроза, вижу, как темнеет горизонт. Пусть бы уж они поскорее вывели из терпения народ, и пусть грянул бы первый удар грома!
XXIV
18 марта
Стук в дверь.
— Кто там?
Это один из трех друзей, знающих мой тайник. Он бледен и задыхается.
— Что случилось?
— Один линейный полк перешел на сторону народа!
— Значит, идет бой?
— Нет, но Париж на стороне Центрального комитета[168]. Утром шаспо пробили головы двум генералам.
— Где?.. Как?..
— Один отдал приказ[169] открыть огонь по толпе. Но солдаты смешались с федератами, а его самого схватили и убили; первым выстрелил какой-то сержант в пехотной форме. Второй убитый — Клеман Тома. Он явился пошпионить, но кто-то из бывших участников Июня узнал его. К стенке и его!.. Сейчас их трупы, продырявленные, как шумовка, валяются в саду на улице Розье, там наверху, на Монмартре.
Он умолк.
Но ведь это — Революция!
Вот она наконец, желанная минута; я ждал ее, мечтал о ней с тех пор, как испытал первую жестокость отца, как получил первую пощечину учителя; с первого дня без куска хлеба, с первой ночи без крова. Вот она, отплата за коллеж, за нищету и за Второе декабря.
И все же я дрожу. Мне не хотелось бы, чтобы на заре победы наши руки были обагрены кровью.
А может быть, также сознание, что отрезано отступление, перспектива неизбежной бойни, грозной гибели заставили застыть кровь в моих жилах... И не столько из страха попасть самому на эту гекатомбу, сколько от леденящей мысли, что может настать день, когда мне придется руководить ею.
— Когда вы имели последние известия?
— Час назад.
— И вы уверены, что после расстрелов не было стычки, что не случилось ничего нового, трагического?
— Ничего.
Как спокойны улицы.
Никаких признаков того, что под небом произошли какие-то изменения, что полуторафранковые Бруты[170] перешли Рубикон, подняв руку на карликового Цезаря.
Кстати, что стало с Карликом? Где он, Тьер?
Никто не знает.
Одни думают, что он прячется, готовый каждую минуту бежать; другие — что он копошится в каком-нибудь укромном уголке и отдает распоряжения собрать силы буржуазии, чтобы подавить восстание.
Площадь ратуши безлюдна. Я думал, что мы найдем ее запруженной народом, волнующейся или загроможденной пушками с направленными на нас жерлами.
А она пустынна и безмолвна; не нашлось еще здесь боевого парня или кого другого, кто силой своего убеждения смело зажег бы весь форум сразу, как ламповщик — люстру.
Толпа держится в сторонке, вытягиваясь в линию любопытных, но вовсе не строясь в боевой порядок.
И чего только не говорят!
«Двор полон артиллерии, канониры ждут с зажженными фитилями!.. Вспомните 22 января!.. Если мы сделаем хоть один шаг вперед, откроются двери и окна, и нас всех расстреляют».
Такие разговоры ведутся в разных концах площади, уже окутанной сумраком ночи и где мне мерещатся окровавленные силуэты двух генералов.
Вдруг прибегает какой-то гражданин.
— Улица Тампль занята Ранвье... Брюнель собрал свой батальон на улице Ризоли...
Ранвье и Брюнель там! Я тоже иду туда!
— Держитесь ближе к стенам! В случае залпа меньше опасности.
— Да нет! Если б во дворе стояли митральезы, а за окнами прятались бретонские мобили, — их было бы видно!
И мы, несколько человек, разрываем линию; извлекаем три звена из цепи колеблющихся, остальные звенья следуют за нами, бросают линию, и мы двигаемся все вместе.
В самом деле, вот и Брюнель, в парадной форме; он уже у ворот со своими людьми.
Я подбегаю к нему.
Он объясняет мне положение.
— Район в наших руках. Если даже они снова сформируются в каком-нибудь неизвестном нам пункте и нападут на нас, мы сможем продержаться до тех пор, пока Центральный комитет не пришлет нам подкрепление... Ранвье, как вам правильно сказали, здесь, рядом. Утверждают, что Дюваль[171] двинулся с людьми из пятого и тринадцатого округов на префектуру; если это неверно, нужно предложить ему немедленно выступить... Необходимо, чтобы улица Тампль всю ночь охранялась по-военному. Я был солдатом и считаю совершенно необходимым противопоставить казарменной дисциплине дисциплину восставших. Разыщите же Ранвье и, как лучший его друг, передайте ему по-товарищески эти замечания. Я лично не могу этого сделать — подумают, что я хочу разыгрывать из себя начальство.
— Будет исполнено!
Он уже там и, бледный, руководит сооружением баррикады.
— Ну вот и готово! Погляди!
Черная линия штыков, целая вереница безмолвных людей. Это — армия Дюваля, молчаливая, как войско Ганнибала или Наполеона после приказа пройти незамеченным через Сен-Готард или Альпы.
Народ на страже — ночь надежная.
Но завтра, с восходом солнца, потребуется громкий призыв сигнального рожка.
И я взялся за одного приятеля.
— «Крик народа» должен снова появиться!.. Предупредите Марселя, выясните в типографии относительно бумаги... Скорее перо, я примусь за передовую!
Я уселся за стол.
Но... я ничего не написал.
Кровь слишком сильно бурлила в моих жилах, мысль жгла мозг; фразы казались мне или слишком напыщенными, или недостойными по своей простоте той великой драмы, над которой только что взвился занавес. Этот занавес, как и театральный, имеет два отверстия, пробитые двумя пулями, по-видимому уложившими на месте обоих генералов.
Когда я немного успокоился и, облокотившись на открытое окно, устремил свой взгляд на город — его застывший покой испугал меня.
Разве город не заодно с Революцией? Разве пули, выпущенные в генералов и пронзившие эти живые мишени, не задели сердце Парижа и он еще не на своем посту? Неужели восстание окажется делом только нескольких вожаков да немногих отважных батальонов?
Почему не чувствуется возбуждения, не слышно шума шагов, бряцанья оружия?
А что, если я снова вернусь к восставшим, к черному войску Дюваля, на серую баррикаду Ранвье?..
Подумать только: меня, защитника угнетенных, словно какого-нибудь сюртучника, охватывает тревога перед неизвестными именами!
И я захлопнул окно, не желая смотреть на непроницаемый город; он кажется мне мертвым, а говорили, что он восстал. Я захлопнул окно, и мой мозг тоже словно укрылся за каменную стену, — ни одна мысль не приходит мне в голову.
И на диване с вылезающим из него конским волосом я провел часы, которые должен был бы провести на ногах или прикорнув на походной койке, готовый в любую минуту опустить курок.
Утром я побежал к ближайшим друзьям.
Они тоже выжидали, ошеломленные выстрелами на Монмартре.
А между тем среди этих товарищей есть по-настоящему смелые люди. Это несколько успокаивает меня и примиряет с моей встревоженной совестью.
Не перед опасностью отступали мы целую ночь, — я и мои друзья, — а перед половинчатой победой, одержанной без нас и которую мы могли потерять, вступив в ряды слишком поздно.
Я направляюсь в ратушу.
— Где заседает Центральный комитет?
— Наверху. Направо.
Я пробираюсь, шагая через спящих людей, свалившихся, точно изнуренные животные, на ступеньках лестницы. Они напоминают мне те огромные бурые туши быков, что валялись на улицах во время осады, освещенные бледным светом луны.
Многие из лежащих здесь людей весь вчерашний день, с самого рассвета, провели на ногах, исполняя свой долг и тяжелую работу. Пощекотав штыками груди лошадей, на которых восседали толстые солдафоны Винуа[172], вечером они резали хлеб, делили припасы; некоторые из них запили свой кусок свинины и свою усталость стаканчиком вина, подбодрившим их, — и теперь они немного навеселе.
Но все они как один схватятся за ружья и откроют огонь, если Моро, Дюран или Ламбер — вот имена их генералов! — крикнут, что наступает Ферри с бретонцами и с 106-м полком, как 31 октября.
«К оружию!»
И все побросали бы оловянные кружки, чтобы взяться за патронташи; и уж не тыкали бы больше своим дешевым ножом в кусок домашней солонины, а воткнули бы в жирные груди буржуа свою однозубую вилку, что на конце фленго[173].
Но пока ничто не дышит гневом, не излучает энтузиазма!
Можно подумать, что, за недостатком мест для постоя, целому полку разрешено было расположиться на крыльце префектуры, с правом устраиваться по своему усмотрению как с ужином, так и с ночлегом.
XXV
Где же Центральный комитет?
Комитет?.. Он рассыпался по этой комнате. Один пишет, другой спит; этот разговаривает, сидя на кончике стола, тот, не переставая рассказывать какую-то смешную историю, чинит револьвер, у которого что-то застряло в глотке.
Я не знаю ни одного из них. Мне называют их имена, — я их слышу впервые. Это все делегаты батальонов, популярные только в своих кварталах. Они выдвинулись как ораторы и как решительные люди на собраниях, часто очень бурных, откуда вышла федеральная организация. Я ни разу не присутствовал на этих заседаниях, потому что вынужден был скрываться как до моего осуждения, так и после него.
Сейчас их не больше шести-семи человек в этом огромном зале, где еще не так давно танцевала империя в раззолоченных мундирах и бальных туалетах.
А сегодня под потолком с виньетками из геральдических лилий заседает полдюжины молодцов в грубых башмаках, в кепи с шерстяным галуном, в куртках и солдатских шинелях без эполет и аксельбантов — Правительство.
Они едва замечают, что вошел посторонний. И только потолкавшись минут пять, я решаюсь подойти к тому, кто был занят чисткой револьвера. Он уже, впрочем, не смеется и решительно говорит только что вошедшему человеку:
— Ну нет! Вам все еще хочется морочить Революцию! Скорее я предпочту, чтобы мне пустили пулю в лоб, чем соглашусь подписать... я не подпишу!
Заметив меня, он резко спрашивает:
— Вы тоже делегат от какой-нибудь мэрии?
— Я главный редактор «Крика народа».
—Так чего же вы молчите? Стоите, как последний...
Я действительно явился последним; я не принимал участия в расстрелах вчера утром, не сражался на баррикадах вчера вечером.
Признаюсь ему в своих колебаниях, рассказываю, почему занимал выжидательную позицию.
— Понимаю, — говорит он, — наша неизвестность внушает недоверие... Но за нами полмиллиона неизвестных с оружием в руках, и они выступят по первому нашему зову.
— Вы уверены в этом? — вмешивается оставленный им ради меня собеседник, Бонвале[174], мэр III округа, маленький толстяк; он, по-видимому, очень возбужден и говорит повышенным тоном, как парламентер, предъявляющий свои условия или передающий вызов. — Вы уверены, что население пойдет за вами, как вы это говорите?.. Мы, «Лига прав Парижа», предлагаем вам передать на время (только на время) власть в наши руки, чтобы иметь возможность решить, что делать дальше!..
— Товарищи мои поступят как им будет угодно. А я... я вернусь в свой округ, засяду в вашей лавочке и не подпущу вас туда близко... Вот!..
— Без нас вы — ничто!
— А вы сами-то что такое? Неужели вы думаете, что все ваши муниципальные чинуши и депутатишки хоть что-нибудь да значат теперь? Другой разговор, если б они стали во главе движения! Тогда они даже обокрали бы, подвели бы нас. Мы, социалисты, пропали бы! Если бы дело оказалось в руках «избранников города»... погибла бы Коммуна!
И, засмеявшись, он прибавил:
— Отправляйтесь-ка, мой милый, к вашим хозяевам и передайте им, что мы здесь по воле людей никому не известных и что только митральезами можно нас выбить отсюда.
— Это ваше последнее слово?
— Поговорите с другими, если вам угодно. Но я повторил вам только то, что мы говорили сегодня ночью, — все как один!
В эту минуту вошла кучка невооруженных людей; одни — усталые, встрепанные — зевали; другие, сверкая глазами, размахивали исписанными листами, хлопали по бумаге, сравнивали текст.
Это ядро Комитета, получившее какие-то известия, явилось обсудить ответ депутатам.
— Война или мир? — спросил Бонвале.
— Это зависит от вас. Мир, — если вы не будете упрямы и заносчивы, если представители народа пожелают обратиться к народу. Мы согласны залезть в тиски ваших традиций, только действуйте прямо, не виляйте хвостом, не занимайтесь предательством! Вы же как будто только это и делаете!.. А теперь, любезный, оставьте нас в покое; нам придется порыться в наших карманах. Нужен миллион для наших трехсот тысяч федератов, а у меня... всего десять франков!
— Ну что ж! Остается только взломать кассы!
— Чтобы нас обвинили в краже, в грабеже!
Испуганные вскрики, колебание, страх бедняков... Их мозолистые руки, привыкшие держать только трудовые деньги в вечер получки, дрожат и не хотят прикоснуться к груде банковых билетов и мешкам золота, спрятанным под замком.
— Но ведь необходимо выдать жалованье национальным гвардейцам, обеспечить им их тридцать су. Иначе что скажут женщины? Если хозяйки обратятся против нас, движение затормозится, и Революция погибла.
— Правильно!
— Но самое страшное то, что могут найтись недисциплинированные, которые толпами бросятся раздобывать хлеб и вино в большем количестве, чем это им требуется. Они взломают двери, чтобы утолить свой голод и жажду, дать выход своему гневу... и из-за каких-нибудь трехсот лоботрясов коммунары прослывут сборищем трехсот тысяч мошенников.
— Но возможно, что в этих несчастных сундуках не найдется чем расплатиться и за два дня!
— Если даже там хватит всего на одни сутки, так и это время надо выиграть. Все падет на наши головы... а они едва держатся у нас на плечах. Я готов начать первым. Что ты на это скажешь, Варлен?[175]
— Идем за клещами!
Пропасть разверзлась, как под ударом заступа могильщика. Взлом замков возлагает на Комитет такую же ответственность, как и расстрел генералов. Все, кто имеет хоть несколько су, «порядочные люди» всех классов и всех стран, бросят в этот очаг «грабителей» проклятия, бомбы и солдат.
Я встретил Ферре[176].
— Знаешь, что они решили?
— Да! И после этого ты еще находишь, что все идет как надо!.. Они посмели составить протокол, которым устранили себя от расправы над Леконтом и Тома. Народу уже выражено недоверие, и это ты печатаешь его в своей газете! Мало того, ты еще вместе с другими требуешь освобождения Шанзи!..[177] Ты далеко пойдешь! — прибавил он с горечью.
— Ты как будто подозреваешь измену?
— Нет! Но измена наказывается, а слабости прощаются. Лучше преступники, чем нерешительные. Помни, что сад при ратуше так же велик, как и тот, что на улице Розье...[178] пусть они поостерегутся!
XXVI
«Крик народа» снова появился.
— Покупайте «Крик народа» Жака Вентра, — кричат разносчики.
Два часа дня, а из типографии уже разлетелись по этой площади и предместью восемьдесят тысяч листов.
— «Крик народа» Жака Вентра! — только и слышно со всех сторон, и газетчик не может удовлетворить спрос.
— Хотите последний номер, гражданин? Для вас два су, — говорит он улыбаясь, — право, стоит того!
— Посмотрим!
26 марта
«Что за день!
Ласковое яркое солнце золотит жерла пушек; благоухают цветы, шелестят знамена... Точно синяя река, рокочет и разливается Революция, величавая и прекрасная. Этот трепет, этот свет, звуки медных труб, блеск бронзы, огни надежд, аромат славы — все это пьянит и переполняет гордостью и радостью победоносную армию республиканцев.
О великий Париж!
Как малодушны мы были, когда хотели покинуть тебя, уйти из твоих предместий, казавшихся нам мертвыми.
Прости, родина чести, город свободы, аванпост Революции!
Что бы ни случилось, — пусть завтра, снова побежденные, мы умрем, — у нашего поколения все же есть, чем утешиться. Мы получили реванш за двадцать лет поражений и страданий.
Горнисты, трубите к выступлению! Барабаны, бейте в поход!
Обними меня, товарищ; в твоих волосах седина, как и у меня! И ты, малыш, играющий за баррикадой, подойди, я поцелую тебя.
День 18 марта раскрыл перед тобою прекрасное будущее, мой мальчик. Ты мог бы, подобно нам, расти во мраке, топтаться в грязи, барахтаться в крови, сгорать от стыда, переносить несказанные муки бесчестия.
С этим покончено!
Мы пролили за тебя и кровь и слезы. Ты воспользуешься нашим наследием.
Сын отчаявшихся, ты будешь свободным человеком!»
Я получил удовольствие за свои деньги. Два-три федерата пытаются читать газету через мое плечо, замечая с проницательным видом:
— А он все-таки складно пишет, этот чертов Вентра! Вы не находите, гражданин?
Смешавшись с толпой, я с глубоким удовлетворением прислушиваюсь к тому, что говорят обо мне.
Видя, что я остаюсь невозмутимым, когда публика, похлопывая по газете, приговаривает: «А ведь здорово сказано!» — энтузиасты обвиняют меня в бесчувственности, бросают на меня гневные взгляды и угощают исподтишка тумаками, от которых у меня болят бока, но залечиваются раны сердца.
Мне кажется, что это уже не мое истерзанное тяжелыми обидами сердце, а душа самой толпы наполняет и ширит мне грудь.
О, если б меня взяла смерть, если б настигла пуля в этот час моего возрождения!
Сегодня я умер бы вполне удовлетворенным... Кто знает, что сулит мне завтра борьба!
Некогда мрак безвестности скрывал мои слабости; теперь народ будет смотреть на меня сквозь строки, которые, точно вены моей мысли, разбегаются по листам серой бумаги. И если окажется, что вены мои худосочны, что кровь в них слишком бледна... лучше уж тогда удары нищеты, порции в четыре су, бумажные воротнички, бесконечные унижения!..
По крайней мере оставалась бы горькая радость чувствовать себя самым сильным в мире скорби, слыть — не обладая большой доблестью, а лишь благодаря тому, что когда-то учил латынь, — великим человеком среди обездоленных.
И вот в этот час раздумья я стою, точно голый, перед полумиллионом смелых людей, взявшихся за оружие, чтобы стать свободными и не подыхать от голода... несмотря на работу или за неимением таковой!
Ты тоже подыхал с голоду, Вентра, ты был почти безработным в продолжение пятнадцати лет. Тогда, в тяжелые минуты, ты, конечно, искал средств против голода, обдумывал пути борьбы с социальной несправедливостью.
Что же нового принес ты из недр твоей скорбной юности?
Отвечай, вчерашний бедняк!
В ответ я могу показать синие следы тисков на запястьях и язык, распухший от ран, нанесенных ножницами императорской цензуры.
Размышлять! Изучать! — Когда?
Пала империя, явился пруссак... Пруссак, Трошю, Фавр, Шоде[179], 31 октября, 22 января!.. Немало надо было тратить усилий, чтобы не умереть от голода и истощения, одновременно держа под прицелом правительство национальной обороны и не переставая в то же время давать отпор врагу...
Всегда настороже, всегда наготове или впереди!..
Попробуйте-ка взвешивать социальные теории, когда свинцовый град сыплется на чашку весов.
XXVII
Где остальные товарищи? Кем заняты важные посты?
Ни одного известного человека. Все люди, взятые случайно из Центрального комитета. В суматохе боя некогда было выбирать. Важно было водрузить пролетарское знамя там, где развевалось знамя буржуазное... Любой юнга может это сделать не хуже капитана.
— Не знаете, кто в министерстве внутренних дел?
— Ни черта не знаю! — говорит один из командиров. — Подите узнайте, Вентра; оставайтесь, если там никого нет, помогите товарищам, если они в затруднении.
— Это, кажется, на площади Бово?
Я не уверен. Но, по-моему, именно туда мы ходили на другой день после 4 сентября повидать Лорье по поводу кого-то, кто был арестован новой республикой, не помню уж за что.
В министерстве внутренних дел «подписывает» Грелье, хозяин прачечной, славный малый; я знавал его на высотах Бельвилля. Он был моим импровизированным помощником в ночь 31 декабря в мэрии Ла-Виллетт.
Он подписывает приказы, изобилующие варваризмами, но зато пропитанные самыми революционными намерениями. Водворившись здесь, он объявил грозный поход на грамматику.
Его стиль, удвоение согласных, пренебрежение к причастиям и их согласованию, его росчерки пера в окончаниях множественного числа — все это дало в его распоряжение целый полк с пушкой.
Все чиновники, не удравшие к версальцам, начиная с начальника канцелярии в потрепанном сюртуке и вплоть до курьера в парадной ливрее, испытывают страх перед этим человеком, так бесцеремонно расстреливающим орфографию и поставившим к стенке Ноэля и Шапсаля[180]. Кто знает, не относится ли он с таким же презрением и к человеческой жизни!
Он кидается ко мне и обнимает меня.
— Какое счастье, старина, — говорит он, — что придет Вайян, а то я уж сыт по горло! Какая скука быть министром! А ты нигде не министр?
— Ну нет...
Я уже собирался уходить, как вдруг увидел, что между створок открывшейся двери просунулась голова одного из сотрудников «Фигаро», Ришбура. Он был секретарем конторы газеты, когда я работал там хроникером. Покончив с цифрами, он набрасывал планы романов, рассчитывая продать их в один прекрасный день по три су за строку.
Его прислал Вильмессан с просьбой отменить постановление о запрещении газеты.
Он ссылается на свободу печати, взывает к моему заступничеству.
Я не обладаю такой властью, любезный!
Безыменная сила, завладевшая Парижем и издающая прокламации и декреты, не повинуется г-ну Вентра, журналисту и стороннику самой полной свободы слова. Конечно, я того мнения, что даже под грохот пушек, в разгар восстания типографским мушкам должно быть позволено[181] бегать, как им заблагорассудится, по листам бумаги; и я хотел бы, чтобы «Фигаро», предоставлявший мне долгое время свободу, тоже пользовался ею.
Но Грелье протестует.
— Свободу «Фигаро»? Да что вы! Эта газета только и знала, что высмеивала и обливала грязью социалистов и республиканцев, когда они не могли защищаться. Она всегда была на стороне шпиков и солдафонов, стояла за аресты и уничтожение тех, кто устроил сейчас революцию.
Бельвиллец воодушевляется и входит в азарт:
— Да вот вам: я помню, как однажды Маньяр[182] написал, что для установления спокойствия необходимо отобрать человек пятьдесят агитаторов среди рабочих и богемы и отправить их в Кайенну, на каторгу. И сейчас, если б я думал, как он, если б я был таким же негодяем, — я велел бы засадить в Мазас и Вильмессана и вас, всю банду! Вы требовали, чтобы нас арестовывали, чтобы закрывали наши газеты. Мы выполняем только наполовину вашу программу... и вы уже жалуетесь. Убирайтесь-ка отсюда, да поживее! Другие, может быть, не были бы так великодушны. Проваливайте, это будет самое благоразумное.
Сотрудник «Фигаро» исчез. Я попытался было защищать свое мнение.
— Ты, Вентра, помалкивай!.. Если б тебя услышали федераты, они возмутились бы и взяли бы тебя под подозрение. Подумай только: эта газета смотрела на них, как на добычу для каторги, и вдруг она получит право снова выходить, чтобы снова осыпать их оскорблениями!.. Да ведь любой сержант со своей ротой, не ожидая нашего приказа и не считаясь с нашими протестами, схватит этих редакторов и расстреляет их без лишних слов. Тебе этого хочется?
Он совсем разгорячился, и все окружающие тоже пришли в сильное возбуждение.
Часовой, чей штык поблескивал за окном, остановился, чтобы послушать, и, когда «министр» кончил, я увидел, как дрогнуло его ружье, отбросив черную тень на залитую солнцем стену. Человек молча взял на прицел и жестом показал, что уложит всякого, кто вздумает развязать язык оскорбителям бедняков.
— А знаешь, кто в министерстве народного просвещения?
— Как же! долговязый Рулье[183]
Рулье — здоровый малый лет сорока, крепкого сложения; на лице его всегда следы похмелья. Он ходит вразвалку, задрав нос кверху; носит гусарские штаны, шапку набекрень. На ходу размахивает руками и ногами, будто расчищает дорогу для идущего за ним народа. Невольно ищешь в его руках жезл первого товарища компаньонажа или палочку барабанщика, которой он вот-вот взмахнет над целым батальоном бунтарей.
Он — сапожник и революционер.
— Я обуваю людей и разуваю улицы, — говорит он.
В орфографии он не сильнее своего коллеги из министерства внутренних дел. Зато в истории и политической экономии этот сапожник сведущ больше, чем все дипломированные особы, в чьих руках перебывал портфель, — тот портфель, что он еще позавчера ощупывал с видом человека, понимающего больше в опойке, чем в сафьяне.
Наващивая дратву или прокалывая шилом кожу, он в то же время следил за нитью великих идей и выкраивал из республики мыслителей свою собственную.
Он умел на трибуне придать блеск и выпуклость своим фразам, как передку башмака, заострял шутку, как носок ботинка, вбивал в головы слушателей свои аргументы, как гвозди в каблуки. В его ораторском инвентаре имеется и фантазия и основательность, так же как в его саржевом мешке, в котором он разносит заказы, вы найдете и туфельки маркизы, и сапоги каменщика.
«Трактирный» трибун, забавный и в шутках и в гневе, маниак дискуссий, одинаково красноречивый и перед стойкой и в клубе, он всегда готов опрокинуть стаканчик, защищая все свободы... и свободу выпивки наряду с другими.
— Есть только два вопроса. Во-первых: интересы кап'тала.
Он произносит это слово, как двухсложное. Глотает «и» с наслаждением человека, уничтожающего своего противника.
— Во-вторых: автономия! Вы должны знать это, Вентра, ведь вы были в школе. Бакалавры говорят, что это слово греческого происхождения. Они знают, откуда оно идет, но вот куда приведет, — этого они не знают.
И он посмеивается, потягивая винцо.
— Объясните-ка мне, пожалуйста, что это за штука автономия, — говорит он, вытирая бороду.
Все ждут ответа.
Среди наступившего молчания он повторяет:
— Что до меня, так я за всякую автономию: кварталов, улиц, домов...
— И винных погребов?
— Еще бы!..
Мне любопытно поглядеть на него при исполнении обязанностей, и я отправляюсь на улицу Сен-Доминик.
— Вы хотите видеть Великого магистра?[184] — спрашивает меня швейцар с серебряной цепью, видя, что я блуждаю по коридорам.
Великого магистра? Смеется он, что ли, надо мной?
Тем не менее я утвердительно киваю головой с видом важной особы.
Он ведет меня по лестнице.
Табачный дым, крики.
— Да говорят же вам, что я никогда не играю партии вчетвером. Я оказался бы тогда, как каторжник, прикован цепью к субъекту, с которым должен был бы действовать заодно. Нет, нет! Каждый за себя: автономия!
Стук бильярдных шаров.
— Вот видите, так бы мог сыграть шар и ваш партнер!
— Да. И что же? Я должен был бы быть ему признателен за это? Расчувствоваться? Предпочитаю быть автономным, мой милый.
— И потом, где же тут была бы выгода... интересы кап'тала, — говорю я, входя.
Меня похлопывают по животу и наполняют рюмки ромом.
— Вам должен правиться этот напиток, — он здорово попахивает кожей.
— А вы предпочитаете сосать вашу чернильницу, а? Эх вы, чернильная душа!.. Да и чего вы сюда явились? Желаете выставить нас за дверь?
Он опрокидывает еще рюмочку и говорит:
— Мне на это наплевать. Я хоть и сапожник, а вошел сюда первым, словно какой-нибудь сорбонец, и был почтительно принят всей челядью канцелярии министерства. Мы намерены ввести «кожу»[185] в хранилище французского языка и вышибить пинком все традиции.
— Скажите, Рулье, кто вас сюда назначил?
— Вот тоже!.. Неужели вы думаете, что я получаю какие-то приказы и стал настоящим чиновником? Мне нужно было сдать в этом квартале заказанную обувь. Увидев вывеску на министерстве, я решил зайти сюда. Кресло было свободно, я уселся в него — и вот сижу до сих пор!.. Эй вы, там, человек с цепью, вас не затруднит сбегать в колбасную за жареной ножкой для меня и студнем для Тельера?.. Мы поедим здесь. Вы закусите с нами, Вентра, выкладывайте-ка вашу долю!
И он протянул кепи, собирая на завтрак.
— Мы уже истратили деньги, выданные Комитетом, — пять франков на человека. Теперь приходится устраиваться на свой счет.
Угощались мы в кабинете министра; а так как нас было человек пять-шесть и свинина была обильно залита вином, то события дня обсуждались очень горячо.
— Добьемся мы своего или не добьемся?
— Все равно! — гремит Рулье. — Сейчас у нас революция, и она будет до тех пор... пока это не изменится. Главное успеть показать, чего мы хотели, если уж нельзя будет делать то, что мы хотим.
И, повернувшись ко мне, он добавил уже почти серьезно:
— Вы, может быть, думаете, что с тех пор, как мы здесь, мы только и делали, что катали шары на бильярде да выпивали? Нет, дорогой мой, мы попробовали состряпать программу. Вот смотрите, чем я разрешился.
Он вытащил из кармана несколько засаленных бумажек, пахнущих клеем, и протянул их мне.
— Разберете? Полно ошибок, а? Но все-таки, скажите мне, что вы об этом думаете!
Что я думаю? Я совершенно искренне думаю, что этот обладающий комической внешностью любитель всякой «автономии», что этот «трактирный» оратор наделен более ясным умом и более широким мышлением, чем все эти пожелтевшие ученые с почтенными манерами, которые корпят в библиотеках над старыми книгами, стараясь проникнуть в тайны философии, отыскать причины, порождающие нищету и богатство.
Он понимает в этом больше их, больше меня! В его помятых, засаленных листках заключен целый план обучения, превосходящий по своей мудрости все катехизисы академий и ученых советов.
Рулье следит за мной глазами.
— Обратили ли вы внимание на параграф, где я высказываюсь за то, чтобы все дети, достигшие пятнадцатилетнего возраста, получали свою порцию вина? Если хотите, дружище, я могу вам объяснить. Так вот: если у меня явились кое-какие мысли и я мог изложить их по порядку, то это только потому, что я всегда зарабатывал достаточно, чтобы выпивать свою литровку и потягивать кофе с коньячком. Говорят, что я напрасно раздражаю свой нос. Но, черт возьми, именно тогда, когда у меня пощипывает в носу, крепнет моя мысль, и я вижу яснее, когда у меня начинают блестеть глаза... Верьте мне, молодой человек, что не из доброжелательства рекомендуют беднякам воздержание, а из страха, чтобы вино не расшевелило их мозги, не привело в движение их мускулы, не разожгло их сердца! Вам нравится то, что я написал? Да?.. Так знайте же, я писал это, потея от обильной выпивки.
XXVIII
Список членов Коммуны появился в двадцати экземплярах, от двадцати округов Парижа.
Я — один из трех, избранных Гренеллем.
Я служил там когда-то мелким чиновником в жалком здании мэрии, и там, в отделении для новорожденных, не раз видали, как я бледнел и смахивал слезу, когда приносили малютку, завернутого в блузу, снятую с плеч несчастного отца, дрожащего от зимней стужи. Некоторые, простудившись, умирали, и я присутствовал на их похоронах.
И вот десять лет спустя об этом вспомнили. Имя мое, названное одним из отцов, приходивших ко мне когда-то под снегом в одном жилете, было подхвачено и принесено, как ребенок в куртке рабочего.
— Надеюсь, ты доволен?
— Да, доволен, что народ вспомнил обо мне. Но это избрание, ты и сам понимаешь, равносильно смертному приговору.
— Ты серьезно думаешь, что придется поплатиться своей шкурой?
— Гильотина или расстрел — одно из двух. И если нас расстреляют, — это можно будет счесть за удачу.
— Брр!.. А все-таки при мысли, что тебе перережут шею, невольно мороз пробегает по коже.
Товарищу, по-видимому, тоже не очень улыбается эта перспектива; но в глубине души у него все же таится надежда, что я разыгрываю комедию и нарочно для него придумал эту грядущую гекатомбу.
Однако надо отправляться на свой пост.
— Скажите, пожалуйста, где заседает Коммуна?
Я задаю этот вопрос во всех уголках ратуши. Прохожу по пустым залам, по залам, битком набитым народом, и никто не может дать мне никаких указаний.
Встречаю коллег; они добились не больше моего, но зато больше выходят из себя. Они выражают недовольство Центральным комитетом: смеется он, что ли, над ними, заставляя их напрасно ждать у запертых дверей?
Наконец мы нашли.
В бывшем помещении департаментской комиссии зажжены лампы, и мы можем там совещаться.
Высматриваем себе местечко, разыскиваем своих друзей, стараемся найти нужный тон и манеру вести себя.
Здесь голос не будет звучать так, как в танцевальных залах, приспособленных для грома турецких барабанов и раскатов здоровенных глоток: здешняя акустика не для бурных речей.
Говорящий не поднимется на трибуну, с высоты которой можно ронять жесты и метать взгляды.
В этом амфитеатре со скамьями каждый будет говорить со своего места, стоя в полумесяце своего пролета. Заранее можно сказать, что крылья у декламации будут подрезаны.
Нужны будут факты, а не фразы; жернова красноречия, перемалывающие зерна, а не мельница, вертящаяся от ветра громких слов.
Когда все уселись, когда Коммуна заняла место, — воцарилось глубокое молчание.
Но вдруг я почувствовал, как что-то дерет мне уши. Какой-то субъект, сидевший позади меня, поднялся и, встряхивая длинными, гладкими, как у немецкого пианиста, волосами, оставляющими сальные следы на воротнике его сюртука, и вращая тусклыми глазами за стеклами очков, стал протестовать срывающимся голосом против того, что сказал кто-то до него.
Этот «кто-то» — быть может, это был я сам — спросил, как уладят свое дельце избранники Парижа, являющиеся одновременно версальскими депутатами.
Ведь нужно же было знать, чего держаться.
Человек с волосами, свисающими точно ветви плакучей ивы, заявил, что после требований, предъявленных в таком тоне, он немедленно удаляется. И, перекинув пальто через руку, он вышел, хлопнув дверью.
Это не хитрая штука!
Но разве пришло мне в голову удрать, отряхнув прах от ног своих, когда мне стало ясно как день, что нас поглотит якобинское большинство?
Чем больше опасность, тем священнее долг оставаться на посту.
Почему же этот Тирар[186] не желает послужить тем, кто выбрал его представлять и защищать их интересы?
— Я присоединяюсь к правительству! Может быть, вы вздумаете меня арестовать? — крикнул он, бросая яростные взгляды из-под своих очков.
Успокойся, тебя не арестуют! И ты отлично знаешь это, подлый трус, — ты, у кого даже не хватает смелости присмотреться к возбужденному Парижу. Другие, может быть, тоже подадут в отставку, но они останутся жить на мостовой, откуда взвилось пламя революции, — пусть даже с риском, что оно поглотит их... Скатертью дорога!
Что же еще произошло в этот день? — Ничего. Организационное заседание!
При выходе кто-то подошел ко мне.
— А вы сейчас здорово огорчили Делеклюза. Он вообразил, что вы имели в виду именно его и даже чуть ли не указали на него, когда говорили о тех, кто колеблется между Парижем и Версалем.
— И он взбешен?
— Нет, он опечален.
Это верно. Складка презрения не бороздит уже его лицо; в глазах светится тревога, в опущенных углах губ притаилась тихая грусть.
Он чувствует себя выбитым из колеи среди этих блузников и бунтарей. Его республика имела свои строго начертанные пути, свои военные рубежи и межевые столбы, свою боевую тактику, свои пределы страданий и жертв.
Теперь все изменилось.
Растерянный, бродит он без авторитета и престижа среди этих людей, не имеющих еще ни программы, ни плана и не желающих никаких вождей.
И он, ветеран классической революции, легендарный герой каторги, он, претерпевший столько мук и в своем желании почета считавший, что имеет право на пьедестал дюйма в два высоты, — повержен на землю, и на него обращают внимания не больше, чем на Клемана[187], а слушают, может быть, даже меньше, чем этого красильщика с улицы Вожирар, явившегося в башмаках на деревянной подошве.
Я проникаюсь почтительной жалостью к этой печали, которую Делеклюз не может скрыть. Больно смотреть, как он старается прибавить шагу, чтобы поспеть в ногу с федератами. Его убеждения страдают, и он задыхается, обливается кровью в своем желании присоединиться к стремительному движению Коммуны.
Это усилие является как бы исповедью, раскаянием, безмолвным и героическим признанием в тридцатилетней несправедливости по отношению к тем, кого он обвинял в смутьянстве, считал изменниками, — и только потому, что они шли вперед быстрее, чем его комитет ветеранов Горы.
Его закаленное дисциплиной сердце не выдержало, и из глаз его брызнули искренние слезы; он поспешно подавил их, но они все же смягчили металлический блеск его взгляда и приглушили голос, когда он благодарил меня за мои объяснения. Я принес их ему с тем уважением, каким молодой обязан старику, которого он, не желая того, обидел и... заставил плакать.
Как ужасны эти сектанты, кто бы они ни были: новообращенные или брюзгливые старики, дьячки Конвента или правоверные демократы-социалисты.
Верморель: аббат, с наклеенными усами; бывший певчий церковного хора, он разорвал в минуту гнева свое пурпурное одеяние, но остатки его проглядывают в его знамени.
Жесты его хранят следы отслуженных месс, а моложавый вид еще больше увеличивает сходство с мальчиком из хора.
Действительно, в провинции нередко можно видеть во время религиозных процессий таких великовозрастных парней с миловидным, круглым и нежным лицом под алой скуфьей; они разбрасывают лепестки роз или кадят перед балдахином, из-под которого прелат раздает благословения.
Череп Вермореля так и просит маленькой пурпурной шапочки, хотя он и прикрыл его фригийским колпаком.
Он даже чуть ли не сюсюкает, как все эти прислужники кюре, и постоянно улыбается профессиональной улыбкой священника, — бледная улыбка на бледном, как просфора, лице. На внешности этого атеиста и социалиста лежит отпечаток семинарии.
Но он вытравил из своего религиозного воспитания все, что отдавало низостью и лицемерием. Вместе с черными чулками он отбросил и скрытые пороки иезуитов, сохранив при этом их суровую добродетель, упорную энергию, неуклонное стремление к цели, а также бессознательную мечту о мученическом венце.
Он вошел в революцию через двери алтаря, как миссионер в Китае, идущий навстречу пыткам, и внес в нее неукротимый пыл, потребность отлучать неверующих, бичевать нерешительных, готовый сам принять стрелы в грудь и быть распятым грязными гвоздями клеветы!
Читая каждый день свой красный требник, комментируя страницу за страницей свои новые «Жития святых», подготовляя приобщение Друга народа[188] и Неподкупного[189] к лику святых, он печатал их революционные проповеди и втайне завидовал их смерти.
Ах, как хотелось бы ему погибнуть под ножом Шарлотты[190] или от пистолетной пули термидора![191]
Иногда мы с ним воюем по этому поводу.
Я ненавижу Робеспьера, деиста, и считаю, что не следует подражать Марату, каторжнику собственной подозрительности, истеричному защитнику Террора, неврастенику кровавой эпохи.
Я присоединяюсь к проклятиям Вермореля, когда они направлены против сообщников Кавеньяка, причастных к июньской бойне, когда он швыряет их в толстое брюхо Ледрю, в мерзкую рожу Фавра, в шишку Гарнье-Пажеса, в апостольскую бороду Пельтана, но... более кощунственный, чем он, я плюю на жилет Максимилиана и разрываю, точно ухо бракованной лошади, петлицу васильково-голубого фрака[192], где в день праздника Верховного существа красуется трехцветный букет.
И подумать только, что, не говоря этого, а может быть, и не подозревая, Верморель защищает убийцу Эбера и Дантона... Потому что все эти расстриги только меняют культ и в рамку самой ереси вставляют религиозные воспоминания.
Их вера и их ненависть только меняются местами: они пойдут, если это будет нужно, как иезуиты — их учителя — по пути злодейств, чтобы достигнуть желанной цели.
Верморелю следовало родиться в девяносто третьем году. Он мог стать Сикстом Пятым[193] социалистического папства. В глубине души этот кощей, явившийся слишком поздно или, может быть, слишком рано в наш трусливый мир, мечтает о диктатуре.
Иногда его охватывает злоба.
Тем, чьи помыслы были устремлены к небу, земля часто кажется слишком мизерной. Не имея возможности выйти самим или быть выдвинутыми другими на ступеньки какого-нибудь Ватикана предместий, на яркое солнце, — эти дезертиры кафедры кусают себе руки во мраке. Возносясь в мечтах к вечности, они изнывают от мук в этой тесной и жалкой жизни.
Сплин, разрушительный, как раковая опухоль, пожирает то место, где, как им некогда казалось, должна была находиться душа, и тошнота отвращения проникает в их ноздри, трепетавшие от благоухания ладана. За отсутствием этого аромата им необходим запах пороха, воздух же насыщен лишь оцепенением и трусостью. Они еще борются некоторое время, пока в один прекрасный вечер не проглотят яда и не умрут, как животные, не имеющие души!
Он тоже проделал это когда-то.
Он боролся с собой шесть месяцев. Старался изжить свое беспокойство, рассеять свою тоску, бросаясь от одного занятия к другому. Перебывал последовательно издателем, продавцом книг, романистом, газетным хроникером Латинского квартала, выпустил книгу о Бюлье, основал еженедельную газету, затем написал роман «Desperanza». В своей жажде деятельности он вгрызался во все и сломал себе на этом зубы. Тогда он купил яд, решил умереть, но... жадно уцепился за жизнь, после того как рвотное избавило его от мышьяка и от некоторой доли разочарованности.
Говорят, что в этой попытке самоубийства была замешана любовь.
Любовь — нет. Женщина — возможно.
Этот человек ненасытных желаний, этот неутомимый труженик воевал день и ночь с существом, делившим с ним очаг и постель.
Его голова, созданная для почетных ран — на баррикадах или на эшафоте, — выглядит иногда очень смешно, вся исцарапанная мегерой, которая держит его в своих когтях и даже на улице преследует своей бранью.
Дома у него, наверное, происходят ужасные сцены: сожительница этого светского аббата истязает его булавочными уколами.
Возможно, что, тоскуя о желанной власянице, томясь жаждой испить уксуса, он ничего не имеет против этих уколов, преподносимых на конце половой щетки, за отсутствием копья Голгофы.
Никогда не прислушивался он к журчанию ручейка, никогда не любовался порхающей птичкой; нося свое небо в себе самом, он никогда не вглядывался в горизонт, никогда не провожал глазами бегущее облачко, горящую звезду, заходящее солнце.
Он не любит земли и выходит из себя, видя, как я прирастаю к ней каждый раз, когда мне случается попасть на лужайку, напоминающую уголок Фарейроля. Для него земля — шахматная доска, где можно передвигать пешки, выбивать из седла офицеров, делать мат королям. Цветы он видит только перед ружейным дулом в тире и к шелесту листьев прислушается только тогда, когда они вырастут на древках знамен.
Он презирает меня. Считает меня поэтом и называет лежебокой, потому что свои статьи, даже самые боевые, я писал там, в деревне, на лодке, под ивами маленькой бухты, и потому еще, что по вечерам, облокотясь на окно, я подолгу глядел в поле, где в сумерках вырисовывались очертания плуга, сверкавшего при лунном свете своим лемехом, как отточенный топор.
Насколько проще те, что вышли из народа!
Ранвье. — Длинное худое тело; на нем, точно на пике, насажена иссиня-бледная голова, которую можно было принять за отрубленную, когда он опускал веки.
Казалось, что эта голова уже потеряла всю свою кровь у какой-нибудь стены для расстрелов или в корзине палача: волосы спутаны, как у только что казненного, губы белы, и в углах их застыла последняя гримаса агонии.
Таково лицо Ранвье в спокойном состоянии. Его бледность точно пророчит ему мученичество, заранее накладывая на его чело печать скорбной жизни и трагического конца.
Но стоит ему открыть рот и заговорить, как лицо его озаряется детской улыбкой, и его хриплый от чахотки голос пленяет остатками берийского акцента и какой-то певучестью. Должно быть, в молодости он был запевалой на клиросе у себя в деревне, потому что до сих пор у него сохранилась мелодичность в голосе, несмотря на то что горло его разъедено ядовитым воздухом городов.
Он был владельцем небольшого предприятия, но банкротство поглотило все его деньги. Он никогда не говорит об этом, считая, что запятнал честь партии, но возможно, что бледность, которая, словно мукой, покрывает его лицо, появилась в то утро, когда синдик объявил его несостоятельным.
Тому, кто знает его, известно, как он страдает... но многим известно также и то, что он был и остался честным и порядочным человеком.
Этот живой труп — трезвенник и пьет воду с сиропом, когда хочет чокнуться с любителями выпить; ест мало, чтобы оставить свою долю другим; работает по ночам, чтобы кое-как прокормить шестерых детей, растущих на его попечении без матери.
Жена его умерла. Эта стойкая доблестная женщина оказала большое влияние на своего мужа; дети ее тоже обязаны ей вечной признательностью за ее любовь и самоотверженность, а также, может быть, и вечной скорбью за те семена социального гнева, которые она заронила в их сердца, проповедуя им даже со своего смертного ложа солидарность с обездоленными и право угнетенных на восстание!..
………………………………..
………………………………..
XXIX
Воскресенье 21 мая
Последнее заседание было очень бурным. Явились три члена меньшинства и заявили, что они требуют беспощадной войны с врагом и отказываются от своего решения не появляться в ратуше, раз народ мог подумать, что их недовольство Комитетом общественного спасения было только предлогом, чтобы избежать кровавой ответственности.
Да, лучше погибнуть под знаменем, сшитым из лохмотьев 93-го года, лучше принять обновленную допотопную диктатуру, казавшуюся нам оскорблением новой революции, — все лучше, чем дать повод думать, будто покидаешь поле битвы.
И мир заключен; его заключили на словах под звуки страшного взрыва, от которого вдруг задрожали стекла и громко забились сердца. Он раздался совсем неожиданно и прозвучал грозно и зловеще.
Рука об руку, товарищи!
Сегодня заседание еще более торжественно.
Чтобы закрепить вчерашнее примирение, выбрали председателем Вентра, того, чья газета с самого начала борьбы была органом диссидентов.
И даже те из меньшинства, кто, подобно Тридону, решили не приходить, оставаясь во что бы то ни стало верными принятой резолюции, даже они на этот раз на своих местах, потому что в декларации, не одобренной предместьями, было сказано, что в тот день, когда придется судить кого-нибудь из наших, — утихнет всякая ненависть и все знамена объединятся, чтобы свершить правосудие во вновь переполненном народом зале Коммуны, превращенном в Верховный трибунал.
Должны ввести обвиняемого Клюзере[194].
Вот он. Сейчас решится его участь.
Что-то будут говорить?
Злоба улеглась, утихло недоверие.
Чувствуется, что дебаты окончатся оправданием, но пока что они протекают очень внушительно. Ораторы вдумчивы, аудитория безмолвна.
Вдруг открывается дверь, — та, через которую обычно входят члены Комитета общественного спасения, — и появляется Бильоре[195].
Он просит слова.
— После Вермореля, — отвечаю я.
— Я должен сделать собранию сообщение... чрезвычайной важности.
— Говорите!
В руках у него бумага, он читает ее.
Это депеша от Домбровского[196].
«Версальцы прорвались...»
Точно упала завеса молчания.
Это продолжалось столько времени, сколько требуется каждому, чтобы проститься с жизнью.
У меня было такое ощущение, будто вся кровь моя ушла в землю, а глаза расширились и заблестели на побледневшем лице.
Мне показалось, что я вижу где-то далеко-далеко странный и обезображенный силуэт себя самого, покрытого грязью.
Страх мучений здесь ни при чем, совсем ни при чем. Возмущается моя гордость: побежден! убит, не успев ничего сделать!
На одно мгновение эти мысли острой болью пронзили мне мозг.
Ты, Вентра, представитель Коммуны в момент ее агонии, — как возвестишь ты о ее смерти?
Выждав некоторое время, — ровно столько, чтобы показать, что мы не растерялись при известии о поражении и при первом призраке предстоящих пыток, — я, придав голосу уверенность и спокойствие, обращаюсь к Клюзере:
— Обвиняемый, вам предоставляется последнее слово.
Я решил, что лучше всего закончить актом правосудия, показать, что забываешь об опасности, когда надо вынести приговор, от которого зависит жизнь и честь человека.
Кончено. — Оправдан.
Заседание закрыто.
Я иду к своей скамье и собираю разбросанные листки, на которых набросал первые строки своей завтрашней статьи.
XXX
Завтра!
Я думаю, что в нашем распоряжении осталось каких-нибудь несколько часов, чтобы успеть обнять близких, наскоро составить, — если стоит того, — завещание и приготовиться к тому, чтобы предстать с подобающим видом перед карательным отрядом.
До чего же я все-таки испорчен! Мне хочется, перед тем как отправиться к праотцам, по-царски пообедать. Я имею полное право прополоскать себе горло и освежить сердце несколькими стаканчиками старого вина, прежде чем мне снимут голову или начинят кишки свинцом.
Коммуна не пострадает от таких пустяков!.. А мне посчастливится умереть сибаритом, после того как я прожил всю жизнь жалким бедняком.
— Госпожа Лавер! Пожалуйста, бутылочку нюи, колбасы с картофелем, миндальное пирожное за сорок су, — я захвачу его с собой, — и варенье, то, что стоит на шкафу, вы знаете... Ваше здоровье, господа!
Я недурно провел там часок. Бургонское было в меру подогрето, колбаса жирна, пирожное сладко.
— Еще рюмочку коньяку?
— Ну нет! Я не хочу, чтобы голова была тяжелой!
Бросаю салфетку и берусь за шляпу.
Мы пробираемся вместе с Ланжевеном[197] в ту сторону, где, как нам сказали, находится Лисбон[198].
Версальские ворота
— Здесь, господин полковник!
— Отлично. Бойцы будут рады видеть правительство в своих рядах. Всё в порядке, все необходимые меры приняты; а сейчас я падаю от усталости и хочу вздремнуть где-нибудь в сторонке. Послушайте меня и сделайте то же самое; не стоит выбиваться из сил раньше времени.
Мы следуем его совету и, подложив под голову патронташи, располагаемся каждый на своей куртке. Неподалеку на носилках, жуткий в своем небесно-голубом одеянии, лежит, вытянувшись, ординарец Лисбона, тюркос, изувеченный накануне ядром; его разбитый череп точно изгрызен крысами.
Я не сплю. Припав ухом к земле, прислушиваюсь, не донесутся ли издали какие-нибудь звуки.
Существует ли связь между отдельными пунктами защиты? Выработан ли общий план? Мне говорили, что генерал Ла-Сесилиа, комендант этого района Парижа, хранит эти тайны в кобуре своего седла. Он должен прибыть, чтобы отдать Лисбону последние распоряжения.
Но мы... мы ничего не знаем…
Когда при Коммуне мы захотели вмешаться в военные дела, военная комиссия звякнула шпорами и отослала нас, кого в министерство народного просвещения, кого в другое место, — куда попало.
— Разве вы были когда-нибудь солдатом! Что вы понимаете в этом? Назначена уже особая комиссия, не вставляйте же ей ваших перьев в колеса... Предоставьте действовать специалистам!
А теперь я кусаю себе кулаки.
Где он, этот Ла-Сесилиа? Я не слышу топота его знаменитой черной лошади, которую, как говорят, он любит заставлять приплясывать под собой.
Мне хочется встать, взять первую попавшуюся клячу, вскочить на нее и галопом пуститься по Парижу, рыча от бешенства и призывая народ.
Но это значило бы дезертировать при приближении врага!
Утром разведчики захватили нескольких нарочито оборванных женщин и каких-то типов с подозрительными физиономиями. В оправдание своих ночных шатаний они ссылались на нищету, и когда один из них сказал, что шел в поле поискать чего бы поесть, я, в память своих былых голодовок, помешал его расстрелять. А между тем что-то слишком белы у них руки и... очень уж правильна речь!
Наконец сон одолевает меня... Бросаю последний взгляд, тяжелый и невидящий, на плохо освещенный подвал, где мы впятером или вшестером свалились от усталости на каменном полу, переставая храпеть, когда рядом разрывался снаряд, но не двигаясь с места из-за таких пустяков.
Понедельник. К оружию!
— Вставать! — тормошит нас Лисбон.
— Что-нибудь новое?
— Почти ничего... Неподалеку расположился линейный полк. Да вот, посмотри, ты можешь отсюда видеть красные штаны!
Со сна меня немного лихорадит. По спине пробегает дрожь от утреннего холода. Сердце захлестывает тоска при виде бледного неба.
Где мой шарф?
Вокруг нас собирается народ.
— Скажи им что-нибудь! — шепчет мне Лисбон, оправляя на себе помятый мундир и пристегивая портупею.
Я произнес коротенькую речь и, распустив немного пояс на пальто, занял место на углу баррикады. Ланжевен последовал моему примеру.
Лисбон взобрался на груду камней... в него можно целиться с самого конца улицы.
Он тоже произносит несколько революционных фраз и заканчивает жестом римского оратора, закидывающего на плечо край своего пеплума. Но только куртка его слишком коротка, и, как бы он ни тянул ее, ему не поднять ее выше пояса.
Ланжевен удивлен, видя, что я улыбаюсь. По губам моим и в самом деле пробежала усмешка, когда в герое я вдруг обнаружил актера, и одно мгновение я только это и видел на фоне картины битвы, освещенной бледным рассветом.
Но если отбросить его некоторую рисовку, — полковник Лисбон прост, искренен и смел.
Он взбирается еще выше, поднимает свою тирольскую шляпу и, повернувшись в сторону версальцев, кричит: «Да здравствует Коммуна!»
Теперь за дело.
— Здесь чего-то недостает, — замечает один федерат.
— А вон там камни плохо сложены, — говорит другой.
— Достаточно ли у нас патронов? — спрашивает третий.
Но вот со всех сторон раздаются жалобы. Поднимается ропот.
То не пехота открыла по нас огонь, то федераты обстреливают нас словами гнева и упреков.
«Мы измучены. Сколько недель уж торчим здесь... Мы хотим повидать наших жен!.. Не приняты никакие предосторожности!»
И они наперебой указывают на отверстие в баррикаде, на дыру, образовавшуюся из-за недостатка мешков, — проклятую дыру, находящуюся как раз на такой высоте, что солнечные лучи, проникая в нее, заливают ее ярким, белым светом. Через эту дыру улетучится вся храбрость батальона.
Но разве дело в недостатке храбрости?
Нет! Их грызет тоска по семье. Им хочется поцеловать малюток, приласкать жену, прежде чем броситься в неизвестность решительной битвы на мостовой Парижа, где они предпочтут умереть, если уж все будет кончено.
Это не солдаты, привыкшие к своей казарме, не регулярные войска. У всех у них семьи, и они совершенно неприспособлены к жизни в лагерях и на бивуаке.
К тому же их пугает наше невежество в военном деле; они не верят, чтобы эти два представителя правительства, токарь и журналист, и даже этот полковник — бывший актер — были в силах противостоять настоящим офицерам, окончившим Сен-Сирскую школу, явившимся из Алжира загорелыми, закаленными, дисциплинированными, вышколенными.
Мы оттиснуты толпой. Нас загоняют под какой-то навес и там с гневными жестами осыпают отрывистыми фразами.
— Где распоряжения? Какой выработан план?..
Они громко выкрикивают то, что я тихонько говорил самому себе, припав ухом к земле в ожидании топота лошади Ла-Сесилиа.
— Вам лучше бы убраться, — говорит мне Лисбон, — они способны поставить вас к стенке. Меня они все-таки знают, немножко любят, я постараюсь их удержать.
— Извозчик!
— Пожалуйте!
— Вам не страшно там, на ваших козлах, приятель?
— Страшно?! Я из Бельвилля! И хорошо вас знаю. Но! Поехали!
Пули свистят, кляча выгибает спину, возница наклоняется ко мне и начинает болтать.
— Им ни за что не войти, гражданин... если каждый будет как следует защищать свой квартал.
Эта-то идея нас и убьет! Каждый квартал отдельно!.. Социальной революции придется отступить.
Войска стреляли от Трокадеро по направлению к Марсову полю. Военная школа опустела, также и военное министерство.
Я взбираюсь по лестницам, ломлюсь в двери.
Никого!
Внизу суматоха поражения.
— Все в ратуше, — крикнул мне из-под сводов один капитан.
— Надо идти туда, — говорят офицеры, свертывая на Гревскую площадь.
Несколько решительных преградили нам дорогу.
— Не пройдете! — кричат они.
У одного из них волосы развеваются по ветру, рукава засучены, на обнаженной волосатой груди запеклась кровь. Он только что получил удар штыком и направляет теперь свой против толпы.
— Ни с места!
Он готов разить всех подряд.
Но людской поток унес его, вместе с его оружием, как крошку мяса, как металлическую стружку, прежде чем он успел крикнуть, сделать хоть одно движение. Слышен был лишь гул толпы, как будто шло по пыльной дороге стадо буйволов.
Ратуша
Они и в самом деле здесь. Ла-Сесилиа и еще человек двадцать — корпусные командиры, члены Коммуны.
Лица сумрачны; говорят вполголоса.
— Все погибло!
— Вбейте назад в вашу глотку эти слова, Вентра! Нужно, напротив, кричать народу, что город станет могилой для войска, вдохнуть в него мужество, призывать его строить баррикады.
Я рассказываю, что видел.
— У Версальских ворот они, возможно, и колебались, но вы увидите, что в Париже они продержатся против солдат до тех пор, пока у них будут патроны и снаряды.
В Париже? Но что говорит этот Париж?..
С самого раннего утра я видел лишь картину поражения.
Полдень
Где только была моя голова! Я думал, что город будет казаться мертвым еще до того, как будет убит! Но вот вмешиваются женщины и дети. Красивая девушка водружает совершенно новое красное знамя, и оно пылает над серыми камнями, точно красный мак на развалинах.
— Ломайте мостовую, гражданин!
Всюду горячка, вернее — здоровое возбуждение. Ни криков, ни пьяных. Изредка кто-нибудь подбежит к стойке и тут же, наскоро вытерев тыльной стороной руки губы, возвращается к работе.
— Мы постараемся устроить сегодня хороший денек, — говорит мне один из утренних крикунов. — Вы только что усомнились в нас, товарищ. Приходите-ка сюда, когда здесь станет жарко, и вы увидите, имеете ли вы дело с трусами.
Красные знамена развеваются... Теперь можно умереть.
И никаких начальников. Никого, на чьем кепи блестели бы четыре серебряных галуна, кто был бы опоясан хотя бы шарфом Коммуны с золотой кисточкой.
Мне тоже хочется снять свой шарф, чтобы не казалось, что я пришел сюда распоряжаться, когда все уже сделано. Впрочем, на него никто не обращает внимания.
— Ваше место не здесь, — резко сказал мне федерат с морщинистым лицом. — Разыщите остальных, устройте совещание, примите какое-нибудь решение. Неужели вы еще ничего не приготовили, черт возьми?.. Пушку сюда, Франсуа! Эй, тетка, патроны клади там!
Я не стою этой женщины, катящей ядра, и этого парня, устанавливающего пушку. А как носитель шарфа я и вовсе не иду в счет.
XXXI
V округ
Но, может быть, те, с кем я сталкивался с того момента, как вступил в битву с жизнью, — может быть, они будут рады в этот решительный момент увидеть в своих рядах меня, их старого товарища по нищете и труду, беднягу, который так долго шатался в потертом пиджаке по аллеям Люксембургского сада?
Этот Латинский квартал, где томилась моя скорбная юность, если и поставлял бойцов для социальных войн, то главным образом в лагерь угнетателей. Потомки Прюдома всегда старались увильнуть от битв, где их пальто могла задеть рабочая блуза, где мастер баррикады мог прикрикнуть на бакалавров, если бы они помешали маневрам или стрельбе.
Кто знает, не будут ли они более решительны, имея во главе одного из своих же!
Я побежал в ратушу.
— Приложи-ка сюда печать, Гамбон!
— Прекрасная идея! Там, вокруг Сорбонны, они все тебя знают. Только, если не ошибаюсь, ты не в ладах с Режером?[199] Впрочем, вот твоя бумага... А теперь обними меня! Кто знает, что может случиться.
Он обнял меня, подписав как член Комитета общественного спасения мое назначение председателем комиссии по обороне, заседающей в Пантеоне.
Я не очень-то силен в стратегии. Как нужно укреплять квартал? Как ставят орудия на батарее?
Разве интеллигент что-нибудь понимает в этом?
Проходя мимо коллежей Сен-Барб и Луи-ле-Гран, я пригрозил им кулаком. Школьник с седеющими усами, я проклинал эти казармы, не научившие меня ничему, что пригодилось бы мне сейчас в борьбе с войсками.
Режер принадлежал к «большинству» и был одним из наиболее горячих. Мы все-таки поздоровались. Но он хочет сохранить за собой командование... все командование.
Ну что ж, спрячь в карман свою бумажку, Жак. Напомни старым товарищам только о своем прошлом, о днях нищеты и тюрьмы, о том, как ты с ними работал в библиотеке, вместе разгуливал по Одеону.
Многих из них я встретил на улице. Одни бежали, искали, где бы спрятаться, другие храбро взялись за дело.
Мне пришлось подписать целую кучу назначений в делегаты, на основании моего полномочия, которое я вытащил, все измятое, из своего жилетного кармана.
Такие бумажонки нужны для двадцатилетних честолюбцев. Они готовы быть расстрелянными вечером, лишь бы иметь возможность похвастаться утром офицерским свидетельством.
Однако они сразу же принялись за работу; нагромождали тюфяки, доставляли провизию и амуницию и подвергали себя смертельной опасности.
Это-то как раз и нужно!
Если завтра некоторые из этих папенькиных сынков будут убиты или сосланы, — это бросит семена восстания на буржуазную почву.
Я делаюсь полноправным членом отряда, расположившегося вокруг Пантеона. Мало хорошего говорят здесь о Коммуне.
— Если б она была более энергична!
— И если б вы, Вентра, не усыпляли народ вашей умеренной газетой, — горячится один лейтенант, чуть не хватая меня за горло.
В этом отряде не любят «меньшинства».
Выстрел!
— Черт подери, придется класть заплату на пальто! Еще немного пониже, — пришлось бы зашивать и кожу.
Разрядился чей-то пистолет... нечаянно.
Мы помирились.
Злоба затихает перед лицом приближающегося врага.
Он уже на Монпарнасском вокзале.
Нападет ли он на наш квартал?
— А что, если мы нападем на него первые?
Эта мысль была высказана вечером, на совещании командиров, одним из прежних товарищей, тоже литератором, но не признающим классической стратегии и баррикадных боев.
— Двинемся вперед и выбьем их!
— Это безумие! — возражают единодушно бывшие солдаты.
Да. Но, во всяком случае, безумие смелых, оно может привести в замешательство противника и едва ли будет опаснее пассивного сопротивления.
Но мы с товарищем остаемся одни с нашим безумным проектом и клянемся идти бок о бок до конца, чего бы это ни стоило.
— Обещайте прикончить меня, если я буду тяжело ранен.
— Согласен, но с условием, что вы окажете мне ту же услугу, если почин сделаю я.
— Идет!
Я чертовски боюсь физических страданий и из чувства малодушия предпочту смерть, хотя, конечно, не особенно весело умереть где-нибудь под забором от руки своего товарища.
— А по-вашему, приятнее быть проколотым штыком?
— Проколотым!..
— Дорогой мой, эта солдатня, если б она могла, искромсала бы нас на куски уже тогда, когда мы проповедовали войну до победного конца. На этот раз они острием своих сабель выколют нам глаза: ведь это из-за нас их вытащили из родных деревень.
Ко мне подходит один из бойцов.
— Гражданин, не хотите ли взглянуть, как выглядит труп предателя?
— Кого-нибудь казнили?
— Да, булочника, он сначала отрицал, а потом сознался во всем.
Федерат заметил, как я побледнел.
— Вы, может быть, стояли бы за его оправдание! Неужели вы не понимаете, черт возьми, что, разбивая голову одному иуде, спасаешь жизнь тысяче своих? Меня приводит в ужас вид крови, а между тем мои руки залиты ею: он уцепился за меня, когда я приканчивал его. Но ведь если никто не будет убивать шпионов, что же тогда?
В спор вмешивается еще один.
— Не в этом дело! Вы хотите сохранить чистенькими ваши ручки на случай суда или для потомства. Это нам, народу, рабочим, достается всегда черная работа... чтобы нас же потом оплевывали. Не так ли?
Этот разъяренный человек сказал правду.
Да, мы хотим войти незапятнанными в историю, хотим, чтобы наше имя не было связано с кровавым удобрением боен.
Признайся в этом, Вентра. И не очень-то гордись бледностью, покрывшей твое лицо перед трупом расстрелянного булочника!
Вторник, 5 часов утра
Сражение началось со стороны Пантеона.
Какое печальное зрелище являет собой под лучами восходящего солнца вереница носилок, залитых пурпуром человеческой крови! Это несут на перевязочные пункты раненых с улицы Вавен и бульвара Араго.
Я провел эту ночь, так же как и предыдущую, в одном из закоулков мэрии, по соседству с мертвецом.
Булочник лежит там, за досками, и окровавленные клочья соломы, служащей ему подстилкой, добрались по сточной канавке до самых моих ног.
На рассвете меня разбудили, и я отправился к баррикадам.
Но по дороге меня останавливали командиры и капитаны, хватали за руки, за полы, требуя припасов, хлеба, совета... и даже речей.
Некоторые угрожали:
— И после этого Коммуна смеет еще поднимать голос!
Я окончательно теряюсь. И никого подле меня, кто надоумил бы, поддержал, разделил со мной это бремя. Из членов Коммуны, избранных нашим кварталом, я видел пока только Режера, — но его со всех сторон осаждали, и к тому же он был слишком поглощен делами муниципалитета, — да Журда, который показался всего лишь на минутку, так как у него тоже немало ответственных дел.
В его ведении находятся последние экю, чтобы питать восстание и расплачиваться за съестные припасы, которых так громко требуют наиболее решительные. В довершение всего его министерство горит от версальских ядер.
И я один.
Время от времени меня подталкивают к стене какого-нибудь дома и совещаются, не покончить ли со мной.
Эльзасец Вюрц, следователь, состоящий при Ферре, только что спас меня от этой блестящей перспективы.
— Вы не Вентра!
Собирается толпа.
— Шпион! Прикончить его!
— В мэрию! В мэрию!
— Зачем в мэрию? Вон там, у забора!
— Жак Вентра с бородой. Вы не Жак Вентра!
— К стенке его! К стенке!
Эта стена является передним фасадом одного кафе на улице Суффло.
Я попробовал было объясниться.
— Да поймите вы, черт возьми, что после того как я удрал из Шерш-Миди, я начал бриться!..
Несмотря ни на что, меня, наверно, прикончили бы, если б Вюрц не бросился в разъяренную толпу.
— Что вы собираетесь делать?
Если не узнали меня, зато хорошо знают его. Он клянется, что я имею право называться своим именем.
— Простите, гражданин, извините!
Я отряхиваюсь, как мокрая собачонка, и мы отправляемся всей компанией выпить по стаканчику.
Теперь, когда они уже не сомневаются в том, что я — Вентра, я становлюсь пленником всех этих вновь прибывающих батальонов. Их офицеры стараются насесть на меня, прижать главного редактора «Крика народа», единственного носителя алого шарфа в этом округе.
И они взваливают на меня всякие мелочи, душат меня ими. Обращаются ко мне по всякому поводу и без всякого повода.
С тех пор как началась борьба, у меня едва нашлось время пойти взглянуть, как идет защита. Несколько раз я собирался пробраться туда, где как бешеные отбивались Лисбон и Анри Боэр.
Но каждый раз меня задерживали, окликали, возвращали и чаще всего потому, что возникало подозрение в предательстве и кто-нибудь уже бился в руках этих недоверчивых и раздраженных людей, требовавших немедленного и упрощенного суда.
Однако, насколько мне известно, не было ни одного убитого, за исключением булочника. Правда, поговаривали, что на каком-то дворе расстреляли командира Павиа, не поднимая шума, из опасения, как бы я не спас его; но никто не видел его трупа.
Эстафета: «Улица Вавен просит подкрепления».
Барабан призывает «Детей отца Дюшена»[200] на помощь попавшей в беду баррикаде.
Они не заставляют просить себя дважды.
— Пусть нас ведет Вермерш! — раздается со всех сторон.
Но Вермерша нет на месте.
— Ах, уж эти писаки, журналисты!.. Прячутся по погребам, когда нужно сражаться!
— Вам угодно журналиста? Я к вашим услугам!
— В путь!
Бьет барабан. Я иду рядом с ним, и его дробь отдается в моем сердце; моя человечья кожа трепещет, как и его ослиная.
На полдороге меня тянут к себе сбежавшиеся на шум люди.
— Вы должны пойти... у версальцев есть сторонники, тайно работающие в мэрии шестого округа; они действуют заодно с инженерными войсками, занявшими Монпарнас. Моя фамилия Сальватор; вы должны знать меня по выступлениям в клубе Медицинской школы. Поверьте мне и идемте с нами... Вашу работу на перекрестке Бреа может выполнить любой человек, тогда как в Сен-Сюльпис вас, несомненно, послушают.
— Ступайте, если это необходимо, — говорит мне сам капитан «Детей отца Дюшена».
Здесь и в самом деле идет горячий спор, чуть ли не драка.
Я стараюсь разобраться в происходящем.
Но вот является Варлен — идол квартала, — и перед ним все внезапно смолкает.
Я свободен!
Нет еще, не совсем. Меня разыскивает командир батальона, расположившегося в V округе.
— Вентра, не подниметесь ли вы опять наверх? — говорит он, едва заметив меня. — Поговаривают о том, чтобы взорвать Пантеон.
— Иду.
Штук двенадцать снарядов разрываются около фонтана Сеи-Сюльпис, бросая нам под ноги зловонные осколки.
За занавеской вырисовывается профиль священника. Если идущие со мной федераты заметят его, — он погиб!
Нет! Они не видели его... Скорее, мимо!
Мрачна и пустынна эта улица, —только куски чугуна несутся впереди и позади нас, точно крысы, бегущие в сточные канавы.
Дома заколочены. Их фасады с закрытыми ставнями — словно огромные слепые лица.
На углу настоящий слепой, с собачонкой у ног, жалобно просит:
— Подайте милостыньку!
Я знаю его вот уже тридцать лет. Когда он появился здесь впервые, его волосы были черны, а теперь у него седая голова. Мне кажется, что он стоял на этом самом месте 3 декабря 1851 года, когда Ранк, Артур Арну и я пришли захватить эту самую мэрию, где сидят сейчас наши вперемешку с изменниками.
Еще одна бомба, — и новые чугунные осколки, горячие и скверно пахнущие.
— Подайте милостыньку, господа!
Ты, нищий, не выпускающий из рук своей деревянной чашки даже под ядрами, автомат, олицетворяющий беспомощность, — ты вместе с тем обладаешь бесстрашием героя! Твой гортанный крик, выделяющийся своей монотонностью среди человеческого урагана, неумолимо звучит в этой беспощадной борьбе.
Вот он там, у церковной колонны, как статуя, — статуя Немощности и Нищеты, — стоит среди народа, который мечтал излечить язвы и уничтожить нищету.
Ему подают. Люди, идущие сражаться, бросают мелкую монету, а сами выпрашивают патроны.
— Спасибо, добрые господа!
XXXII
Первое впечатление этого утра было ужасно. Когда я направлялся к Красному кресту, чтобы узнать, как обстоят дела наших бойцов, я увидел бегущих женщин. Они несли узлы с пожитками и тащили за руки ребятишек.
— Всюду поджигают! — кричали и плакали женщины.
Несколько человек, поспешно удирая, осыпали меня проклятиями.
Мне хотелось протянуть, как заградительную цепь, мой красный шарф и пресечь дорогу панике. Но нельзя остановить обезумевших, будь то на улице Бюсси или у Версальских ворот.
Хозяйка молочной, в трудные времена отпускавшая мне в кредит порцию риса за четыре су и на три су шоколаду, уцепилась за меня, испуская отчаянные вопли:
— Нет, вы не позволите поджечь квартал! Ведь вы порядочный человек! Выступите же с вашим батальоном против поджигателей!..
На одну минуту я был задержан ею и другими, стариками и детьми, кучкой человек в двадцать: они рыдали и ломали руки, спрашивая, куда им деваться, причитали, что все погибло...
Наконец мне удалось вырваться от них. Я кинулся в первый переулок и снял свой шарф.
Я знаю по дороге, на улице Казимира Делавинь, читальню, куда в течение десяти лет ходил заниматься и читать газеты. Я могу зайти туда, и у меня будет две-три минуты времени, чтобы взвесить в своем сознании этот пожар.
Я постучал.
— Войдите!
Мне хотелось бы хоть на минуту остаться наедине с самим собой... Едва ли это удастся.
Присутствующие умоляют меня отказаться от борьбы.
— Ведь это — беспощадная бойня... может быть, страшные пытки, если вы будете упорствовать.
— Я и сам отлично знаю это, черт возьми!
— Подумайте о вашей матери: ваша смерть убьет ее...
Ах, негодяи! Они знали, куда ударить... И вот, как последний трус, я забываю охваченную огнем улицу, свою роль и свой долг. Все существо мое переполняется воспоминаниями о родной стороне, и я вижу так ясно, как будто она вошла сюда, женщину во вдовьем платье и белом тюлевом чепце. Ее большие черные глаза впились в меня безумным взглядом; сухие пожелтевшие руки протянуты ко мне с невыразимой скорбью.
Залп!
Мимо окон пробегают несколько федератов и бросают ружья на мостовую.
— Смотрите!.. Они бегут!
— Да, они бегут. Но я, я не имею права бежать... Прошу вас, оставьте меня. Я должен сам обдумать все это.
………………………….
Все обдумано. Я остаюсь с теми, кто стреляет и кто будет расстрелян!
Что там болтали эти растерявшиеся женщины, будто «все погибло»? Ну, облили два-три здания керосином... Подумаешь!
Все наши школьные книги, рассказывавшие о доблестном Риме или о непобедимой Спарте, были, насколько я помню, полны пожаров. Победоносные полководцы приветствовали огонь пожаров, как восходящую зарю, а осажденные устраивали их, чтобы быть прославленными историей... Мои последние классные сочинения были посвящены героическому сопротивлению... разрушенной Нуманции, обращенного в пепел Карфагена, пылающей Сарагоссы.
А капитан Файяр, получивший орден за поход в Россию? Разве не обнажал он голову каждый раз, когда говорил о Кремле, который «эти русские» зажгли, как пунш! «Ну и молодцы!», — приговаривал он, покручивая ус.
А разграбленный и спаленный Пфальц? А сотни других уголков мира, сожженных во имя королей или республик, во имя иудейского или христианского бога?
А гроты Заача?..[201] И разве герцог Пелиссье, Пелиссье-Малаховский не унес на каблуках своих сапог клочья обгорелой человеческой кожи?
Мы же, насколько я знаю, не загоняли версальцев в погреба, чтобы сжигать их там живьем.
И если я сдался, стал поджигателем, то только после того, как окинул взглядом все прошлое и нашел там предшественников.
Мы обсуждали это сначала вдвоем, Ларошетт и я, оба окончившие школу, затем вчетвером, вдесятером... Все единогласно высказались за огонь.
Один из них так и кипел гневом.
— И эти нищенки смеют требовать пощады для своего скарба, когда идет битва за интересы всех бедняков, когда у сотен артиллеристов горят от огня вражеских пушек уже не рубашки, а их собственная грудь!.. Э, черт побери! Да я сам был богатым десять лет назад, до того как занялся политикой! Разве я не бросил всего этого в огонь?.. А сейчас, когда стратегия отчаявшихся накладывает руку на несколько щепок и кирпичей, — те, из-за кого мы разоряемся, ради кого идем на смерть, смеют бросать нам поперек дороги узлы со своим скарбом?
И он засмеялся как безумный.
— Я понимаю бешенство буржуа, — снова заговорил он, повернувшись в ту сторону, откуда доносилась непрекращающаяся канонада. — При свете нашего факела они увидели блеск непобедимого оружия — оружия, которое нельзя сломить и которое восставшие будут отныне передавать из рук в руки по пути гражданских войн... Что значит это по сравнению вот с тем? — заключил он, отбросив ружье и указывая нам на кровавый дым, покрывший весь квартал красным колпаком.
— Вы как будто говорили, лейтенант, что нужно сжечь часть улицы Вавен?
— Да, два дома; их стены продырявлены версальцами, и оттуда на нас врасплох могут свалиться линейные войска. Вы знаете эти два угловых дома? в том, что справа, есть булочная в нижнем этаже.
Странное совпадение! На первых же порах я наткнулся на труп хлебопека, а сейчас, по моему распоряжению, учинят расправу над мешками муки.
Царство хлеба будет предано огню и мечу. Сгорит молотой пшеницы гораздо больше, чем ее нужно было бы, чтобы прокормить меня за все годы моей голодовки.
— Ну-ка, черкните здесь ваше имя, Вентра!
— Извольте! И можете спалить лишнюю развалину, если понадобится.
Я расписываюсь на чистом бланке.
— Мы были уверены, что вы не станете вилять!
Один из федератов, смеясь, вытащил из кармана старый номер «Крика народа» и ткнул пальцем в строчку: «Если господин Тьер — химик, он поймет...»[202]
— Гм... вы уже тогда думали об этом!
— Нет! И не я написал эту горячую фразу. Я прочитал ее как-то утром в статье одного моего сотрудника. Я нашел ее несколько прямолинейной, но, конечно, и не подумал выдать за опечатку. А версальские газетки не преминули отметить, что сразу узнали мои когти и замашки бандита!
— Да, — заявляет Тотоль, — мы хотим взорвать Пантеон.
Тотоль — батальонный командир и пользуется безграничным авторитетом у бойцов, хотя он и балагурит, как мальчишка; во время осады он с такой дерзостью давал отпор немцам и наставлял им «нос», был так забавен и держался так геройски, что его выбрали единогласно.
Его предложение было встречено восторженным «ура».
— Уж вы-то, во всяком случае, не будете защищать этот памятник, — сказал мне Тотоль. — Памятники для Вентра... подумаешь!.. Да ему наплевать на все эти храмы славы и коробки для великих людей! Не так ли, гражданин?.. Ну-ка, пойдемте, велим народу отойти в сторонку!
Мне стоило большого труда удержать Тотоля и объяснить ему, что, не являясь поклонником памятников, я тем не менее не желаю, чтобы ими пользовались для истребления половины Парижа.
Но они дьявольски упрямы, и, что бы я им ни говорил, гибель Пантеона решена. К стенке Пантеон!
А вместе с ним у стенки могут оказаться и Сент-Этьен-дю-Мон[203], и библиотека святой Женевьевы!..
И вот нам, — людям, пользующимся известным уважением, с мэром во главе, нескольким благоразумным командирам да группе более уравновешенных федератов, — пришлось объединиться в группы по четыре-пять человек, чтобы помешать этим горячим головам накинуться на Пантеон, как на какого-нибудь реакционера. Они уже провели вокруг него шнур, пропитанный серой и селитрой и смоченный керосином.
— Ведь, рассчитывая нагнать страху на деревенщину, вы только напугаете наших! Кумушки возведут вас в разбойников, а другие кварталы перебегут к пруссакам... а может быть, и к версальцам.
Пришлось целый час втолковывать им это, наседать на них, читать им наставления.
Необходимо было также возразить и маленькому старичку, упорно почесывавшему череп во все время дискуссии и, наконец, проговорившему кротким голосом:
— По правде говоря, граждане, мне кажется, нам было бы лучше, для чести Коммуны, не прятаться во время взрыва... Самое лучшее, если мы останемся там и взлетим на воздух вместе с солдатами. Я не оратор, граждане, но у меня есть свое суждение... Простите мою робость... я никогда не говорил публично. Но вот я осмелился, и мне кажется, что для первого раза я вношу великолепное предложение. Только поторопимся: если мы будем здесь долго болтать, мы никогда не взорвемся. Никогда! — заключил он с глубоким вздохом.
Он-то и спас осужденного! Его опасения, что мы не успеем разлететься вдребезги, вызвали смех, и на эту тему больше не говорили.
Усыпальница великих людей[204]
Я здесь с полуночи.
Нас много. Собрались почти все вожаки V и XII округов, не состоящие начальниками частей.
Разделывают окорок, болтают.
— А знаешь, Шоде-то... — говорит мой сосед слева, делая при этом весьма выразительный жест.
Пока что я еще не замешан ни в какую бойню. Мне везет!
Но несколько человек стояли в карауле у Пелажи и рассказывают о казни.
— Как он умер?
— Неплохо.
— А как держали себя жандармы?
— Неважно.
Они закусывают и говорят об этом, как о представлении, где они были зрителями, сами не играя никакой роли.
Утром, когда возобновится перестрелка, они снова пойдут на свои посты, потягиваясь и зевая.
А сейчас, раз считаешь, что поражение неизбежно, — не грех выпить прощальный стаканчик перед тем, как распрощаться с жизнью.
Среда, утро
Появляется Лисбон. Он в полном отчаянии.
— Все наши позиции захвачены. Люди падают духом... необходимо что-то предпринять, остановиться на каком-нибудь решении.
— Что же делать?
— Нужно придумать! Поищем вместе выход, Режер, Семери, ты, я, Лонге...
Лонге и в самом деле с нами; он тоже вернулся в Латинский квартал.
Мы поднялись в кабинет мэра, защелкнули задвижку, чтобы не слышны были наши взволнованные речи, наше совещание in extremis[205].
………………………………
Я получил удар в самое сердце, я почувствовал ту мучительную боль, что испытывают обесчещенные...
Начальник легиона считает, как и Лисбон, что защита напрасна; доктор Семери, заведующий перевязочным пунктом, согласен с мнением начальника легиона. Тогда поднимается мэр.
— Мы подпишем приказ сложить оружие!
Мне вспомнился день, когда судили Клюзере.
«Вы не посмеете сказать, что я — предатель!» — воскликнул он, запустив руки в волосы и мотая головой из стороны в сторону, словно увертываясь от пощечин.
И, покачнувшись, он в отчаянии упал на скамью.
Меня охватило такое же отчаяние.
— Сдаться! Неужели вы это сделаете, Лонге? И все вы?
— Да, я это сделаю, — холодно промолвил начальник легиона.
А доктор так и накинулся на меня:
— Вы, что же, хотите завалить квартал трупами и затопить кровью? И вы берете это на себя?..
— Да, я беру на себя право не подписать этого приказа, которого, впрочем, федераты и не послушаются... Я не хочу, чтобы в лагере восставших имя мое было покрыто позором. Не хочу! Само мое присутствие здесь уже делает меня вашим сообщником, и, если вы капитулируете, вам придется убить меня, или я сам должен буду покончить с собой.
— Мы плохо поняли друг друга, — поспешил заметить Режер, испуганный моим волнением.
У Режера, конечно, есть заблуждения, но он не трус.
Семери тоже, по-видимому, успокоился.
Но оба они внушают мне опасение.
— Лонге, бежим разыскивать наших! Где Коммуна?
— В мэрии одиннадцатого округа. Там Делеклюз. Правда, оттуда ничего не исходит, но зато все туда стремится. Вот куда нужно идти!
— Идем!
Вдруг раздается страшный взрыв, от которого разлетаются вдребезги оконные стекла.
Это, наверно, взлетел Люксембург![206]
Но Люксембург стоит на месте. Взорвался лишь пороховой погреб... Тотолю хотелось взрыва, и он его устроил.
Я вижу, как он идет, потирая руки.
— Что вы хотите? Иначе я умер бы неудовлетворенным. Впрочем, это ни к чему не повело: там не оказалось ни одного линейца. Сорвалось!
Рядом с ним какой-то человек рвет на себе волосы.
— Ах, почему мы там не остались!
Они в конце концов получат свой Пантеон, этот шут и этот безутешный. Они обезумели от поражения и не остановятся ни перед чем.
XXXIII
Ярко светит солнце, погода чудесная.
Мы пробираемся тихими улицами; вьющиеся растения свешиваются со стен на камни баррикад. Горшки цветов увенчивают гребни заграждений.
Голубая, сверкающая Сена катит свои воды между пустынными, но залитыми светом набережными.
Перейдя реку, сразу чувствуешь, что здесь сопротивление носит серьезный характер. За каждой грудой вывороченных из мостовой камней скрыт небольшой отряд. Бойцы здороваются с нами и говорят в ответ на наши дурные новости:
— Может быть, здесь нам больше повезет... Да и потом — будь что будет!.. Мы исполним наш долг, вот и все!
И часовые снова усаживаются с видом крестьян, отдыхающих в час, когда в поле им принесли обед.
Рядом с пиджаками — женские платья, и даже мелькают детские рубашонки. Жена с сынишкой принесли бульон и жаркое, разостлали скатерть на голой земле.
Мы предлагаем им выпить стаканчик.
— Только маленький! — говорят они.
Среди всех, с кем мы чокались, не было ни одного пьяного.
Площадь Вольтера. Мэрия XI округа
Коммуна заседает.
— Да где же?
— Наверху, в большом зале.
Неверно: Коммуна не заседает.
Командиры, простые бойцы, люди в кепи с одним или несколькими галунами, в поясах с белыми и желтыми кистями, члены нашего и Центрального комитета — все смешались в одну кучу, и все совещаются.
Какой-то лейтенант, взобравшись на стол, требует поставить кордоны на границах округа и декретом запретить кому бы то ни было переходить за них.
— Уже есть случаи дезертирства, — кричит он грозным голосом, — и они будут еще...
И, протянув руку по направлению к двери, где столпилось несколько человек, украшенных галунами, кричит:
— Дюжину пуль тому, кто вздумает удрать!
Взятие Монмартра вывело из себя даже самых спокойных и посеяло в душах семена подозрения.
Монмартр, который должен был быть вооружен до зубов, Монмартр, не подпустивший к себе неизвестно откуда взявшийся генеральный штаб квартала, Монмартр, чей военный делегат лично отгонял штатских, — этот Монмартр сдан, продан... Снаряды оказались не того калибра, орудия не держались на лафетах, отдавалась ложная команда, и вот... над холмом развевается трехцветное знамя.
Это предательство обезглавило оборону. Оно подписало также смертный приговор всем тем, над кем в течение двух последних дней был занесен кулак федератов или на кого указывал палец женщины, — в этом залитом кровью цирке, откуда исчез карликовый цезарь и куда он хочет вернуться.
Он не пожалел казны республики, чтобы усмирить республиканцев. Конечно, ему пришлось прибегнуть к помощи мула, нагруженного золотом[207], для того чтобы открылись некоторые проходы, чтобы священный холм, изрыгнувший Винуа и поглотивший двух генералов, мог быть так быстро захвачен солдатами!
Заподозренные уже прошли перед нами, подгоняемые толпой. Мы нырнули в этот людской поток, но нам не удалось выловить ни одного человека.
Один из пленников оказался отчаянным малым. Он стрелял из окна и хвастал этим до последней минуты. Он пал, прохрипев: «Долой Коммуну!»
Другой защищался против обвинения в предательстве и требовал, чтобы его отвели к начальству. Он разговаривал, как рантье из Маре.
— Я никогда не занимался политикой!
— За это-то я и хочу прикончить тебя, — ответил один из бойцов. Час назад пуля пробила ему левую руку, а сейчас он правой наводил револьвер на того, кого тащила толпа.
И он уже готов был выстрелить, когда вдруг решили, что нельзя все-таки учинять самосуд и что нужно отвести этого человека в Комитет общественного спасения, как он сам этого требовал со слезами на глазах.
— Комитетчики его отпустят... Это так же верно, как то, что я потерял пять пальцев, — ворчал раненый, потрясая своим обрубком, словно затянутым в красную перчатку. — Люди, не занимающиеся политикой!.. Да ведь это же самые большие трусы и негодяи! Они выжидают, чтобы знать наверняка, на кого наплевать и с кем лизаться после бойни!
И он побежал, бледный от бешенства, за конвоем пленника. Тряпки, обертывавшие его руку, свалились по дороге, но он не поднял их, а только засунул в карман куртки свою руку, похожую на огромный сгусток крови.
Жутко смотреть, как тонет человек среди людских волн!.. Вот покажется на миг из этого водоворота его лицо, и он, как утопающий, бросит взгляд на небо... Иногда он даже взывает к богу! Но его пришибает удар кулака или приклада, и он снова скрывается, чтобы появиться уже в последний раз с помертвевшей, бессильно болтающейся головой...
— Но если он все-таки невиновен!
— А полиция? Разве она церемонится, расправляясь со своими жертвами? И разве представители правосудия так уж тщательно проверяют, действительно ли состоящий под следствием совершил то, в чем его обвиняют... когда после всяческих истязаний, после полицейского участка и Мазаса они посылают на суд присяжных невиновных, которых этот суд потом оправдывает?! А если уж выносится обвинительный приговор, то это — смирительная рубашка или саван, эшафот или каторга!
Он замолк и начал лихорадочно считать патроны в своем патронташе.
Появляется Варлен в телеге со скамьями.
— Знаешь, где я раздобыл эту колымагу? Это — колесница палача.
— О чем вы тут толкуете?
В кучке людей, которые кричат и жестикулируют около него, я узнаю кузнеца Малезье.
— О Домбровском. Представь себе, это я задержал его тогда у Сент-Уанских ворот. Мне показалось, что он хочет удрать. Легко было заподозрить это, подумай сам: за углом оседланные лошади, адъютанты поглядывают в сторону пруссаков!.. я уверен, что он не направлялся в Париж, — он, который умер так славно!
— Говорю вам, что здесь что-то неладно, — энергично поддерживает один федерат. — Ведь то, что он довел до сведения Коммуны о предложении версальцев, еще не доказывает, что он не спелся с Тьером[208].
Тление еще не коснулось покойника, а память о нем уже тронута червоточиной... И Верморель только напрасно потерял время и труд на свое надгробное слово.
Обойдя с Лефрансе, Лонге и еще несколькими товарищами бивуаки бойцов, мы снова направились в мэрию.
Вдруг кто-то хлопнул меня по плечу. Это — Жантон[209], бланкист.
— Как дела?
— Гм... Неважно! Мы только что совершили неприятное дело: пришлось расстрелять парижского архиепископа, Бонжана[210] и еще троих или четверых...
Какой-то мрачный недоносок вставляет свое слово:
— Дарбуа[211] хотел было дать мне свое благословение... а вместо этого я послал ему свое.
Мне уже случалось встречать этого замухрышку! Он был самым непримиримым на всех собраниях и выступал как ярый сторонник свободного брака.
У него была незаконная жена. Он обожал ее, и она вертела им как хотела. На ее резкости он отвечал детской лаской. Они быстро мирились, — женщина была не злой, — и трогательно было видеть, как этот маленький дрозд нежно ворковал под крылышком этой большой курицы.
И вот этот-то дрозд вдруг ощетинился и просвистал в уши уходившего в вечность прелата насмешливую песенку своего безбожия.
Лефрансе, Лонге и я — мы все побледнели.
— По какому праву, от чьего имени совершились эти убийства? Ответственность за эту бойню падет на всю Коммуну в целом. Наши шарфы запятнаны брызгами их мозга!
— Приказ подписал Ферре, а также, как говорят, и Ранвье.
Неужели это правда?
Со стороны Ферре это меня не удивляет. Я встретил его в тот момент, когда, отдав распоряжение расстрелять Вейссе[212], он следил с высоты Нового моста за тем, как совершалась расправа и как потом тело было брошено в Сену. Он был спокоен и улыбался.
Это фанатик. Он верит в силу и применяет ее, не заботясь о том, сочтут ли его жестоким, или великодушным. Он сводит на нет как безоружных, так и вооруженных: удар за удар, голову за голову, — все равно голову волка или барана, — и механически прикладывает свою делегатскую печать ко всякой бумажке, которая приводит к уничтожению врага.
Враг — и священник, и сенатор, скорчившиеся в своих тюремных камерах. Дурные они или хорошие, не все ли равно! Сами по себе они мало значат и никому не нужны. Они лишь манекены, которых необходимо повергнуть ниц перед историей: Июнь убил Аффра[213], Май убьет Дарбуа.
Несчастный Дарбуа! Я видел, как у этого самого Ферре, так безжалостно осудившего его, вырвался жест сострадания, когда я, после одного посещения Мазаса, рассказывал ему об этом бледнолицем пленнике, который лихорадочно метался, почти на свободе, по огромному тюремному двору и при виде нас убежал, как затравленный зверь!
Но делегат при префектуре счел долгом раздавить свое сердце, как изменника, как сообщника буржуазии, и во имя Революции он повиновался массе.
— Но эта бойня ужасна! Ведь это пожилые люди, безоружные пленники! Все будут кричать, что это — подлость!
— Подлость?! А что вы скажете, господин литератор, о сентябрьских убийствах? Или вы только шутили, советуя нам поступать, как в девяносто третьем году?
Какой-то доктринер сокрушается и причитает:
— Вы сыграли на руку противнику: Тьеру только это и нужно было. Теперь старая гиена будет облизывать себе губы!.. Разве Флотт[214] не рассказал вам, что произошло в Версале? Тьер не освободил Бланки только потому, что предчувствовал такую развязку, надеялся на нее... Ему нужны были и эти вожди, и трупы священнослужителей, и тела всех этих жертв, чтобы подпереть ими свое президентское кресло...
— Возможно, что это и так! — возразил один из рядовых бойцов. — Но пока пусть знают, что если Коммуна издает декреты в шутку, то народ выполняет их всерьез... Моя пуля, во всяком случае, не пропала даром.
Четверг. Мэрия Бельвилля
Я застал Ранвье в мэрии Бельвилля.
Он только что обошел всю линию обороны и вернулся совершенно подавленный.
Снаряды падают дождем. Пули изрешетили крышу, с потолка на нас сыплется штукатурка. Ежеминутно приводят новых арестованных и тут же хотят их расстрелять.
Во дворе шум.
Я высовываюсь в окно. Какой-то человек, без шляпы, в штатском платье, выбирает удобное место и становится спиной к стене, готовый к смерти.
— Так хорошо?
— Да!
— Пли!
Он упал... но еще шевелится.
Еще один выстрел из пистолета в ухо. На этот раз он уже недвижим.
Зубы у меня стучат.
— Надеюсь, ты не собираешься упасть в обморок из-за раздавленной мухи, — говорит мне Тренке, входя в комнату и вытирая пистолет.
Пятница. Улица Аксо
— Собираются отправить на тот свет еще целую пачку.
— Кого?
— Пятьдесят два человека — попы, жандармы и шпионы.
Еще одна бойня вне битвы!
Я понимал их, когда они расстреливали архиепископа, как когда-то обезглавили короля. Этого требовала идея, они считали, что необходим пример... Но что поделаешь! Библия плебеев, как и средневековый требник, имеет свои красные заставки; свой красный обрез...
Вот они!
Молча двигаются они вперед, во главе с высоким старым вахмистром. Он идет прямо, по-военному... за ним следуют священники, путаясь в рясах, иногда бегом, чтобы догнать свой ряд.
Разница в походке не мешает ритму, и кажется, что слышишь «раз, два!» марширующей роты.
Следом за ними идет толпа.
Еще не чувствуется ни суматохи, ни лихорадочного возбуждения.
Но вот раздается визг какой-то мегеры... теперь им несдобровать, они погибли!
— К нам, члены Коммуны! На помощь!
Члены Коммуны прибегают со всех сторон, сбиваются в кучу, стараясь оттеснить толпу. Они кричат, бранятся... некоторые даже плачут.
Коммуну посылают ко всем чертям!
Позади, стараясь не отставать, семенит со всей доступной его шестидесятилетним ногам скоростью старик, без шапки, со спутанными, мокрыми от пота волосами.
Я узнаю его.
Этого едва передвигающего ноги человека с трясущейся головой я встречал в последние дни империи и во время осады у папаши Беле. Мы ссорились: они упрекали меня в недисциплинированности и кровожадности.
Я окликнул его:
— Скорее идите к нам на помощь, через пять минут их убьют!
Толпу начинает охватывать ярость. Какая-то маркитантка кричит: «Смерть им!»
Старец останавливается, чтобы перевести дыхание, и, размахивая ружьем, которое держит в своих сморщенных руках, повторяет, в свою очередь: «Смерть! Смерть!»
— Как? И вы тоже!..
Он отталкивает меня как сумасшедший.
— Дайте же мне пройти! Их шестьдесят?.. Это как раз то число, которое мне нужно! Я только что видел, как версальцы расстреляли шестьдесят человек, пообещав сначала оставить их в живых.
— Послушайте!
— Убирайтесь к черту, или я вас пристрелю!
……………………………
Стреляет взвод. Сначала несколько отдельных выстрелов, затем грохот залпов, долгий-долгий... нескончаемый...
…………………………….
Федераты возвращаются, обмениваясь впечатлениями.
Усевшись за столиком маленького кафе, старик вытирает лоб. Он подзывает меня.
— Я вам только что нагрубил, но теперь, когда все кончено, можно и поздороваться. Ах, дорогой мой, я вознагражден. Если б вы видели Ларжильера... он прыгал, как кролик.
Ларжильер?.. Я так и думал!
— Но остальные?
— Остальные? Они поплатились за предательство улицы Лафайет. Это уже не политика, а убийство! Я ничего не понимаю в ваших махинациях, это Галифе[215] толкнул меня на это дело! Я вовсе не за коммунаров, но я против палачей в эполетах... Пусть мне укажут еще угол, из-за которого надо стрелять, и я пойду туда.
И взгляд его пылал гневом под снегом ресниц.
Мимо проходила женщина, он остановил ее.
— Выпейте стаканчик с нами.
— С удовольствием, только сначала пойду попрошу воды, чтобы замыть обшлага.
Ей лет тридцать, недурна, вид болезненный.
Она вернулась, и завязался разговор.
Она тоже не думает о социальной республике, но ее сестра была любовницей викария; поп бросил ее беременной, украв все их сбережения.
— Вот почему я вышла на улицу, увидав, как мимо моего окна проходят сутаны; вот почему я вцепилась в бороду одному монаху, похожему на любовника Селины, вот почему я кричала: «Смерть им! Смерть!» — и вот почему у меня в крови обшлага.
Она рассказала нам также историю маркитантки, подавшей сигнал к бойне.
Эта маркитантка — дочь человека, который был арестован в последние дни империи по доносу провокатора и умер в тюрьме. Услышав, что в толпе есть шпионы и что с ними хотят расправиться, она присоединилась к этой толпе, а потом стала во главе ее.
Она первая пустила пулю в Ларжильера.
XXXIV
Суббота. Площадь Труа-Борн
Всю ночь провели на ногах. На рассвете Курне, Тейс, Камелина[216] и я снова направились в центр.
Улица Ангулем еще держится. Там с отчаянием защищается 209-й батальон, в котором знаменосцем — Камелина.
Увидев, что он явился, бойцы устроили ему настоящую овацию. Меня они тоже любят, но с некоторым оттенком презрения. Во-первых, я из «правительства», а затем во всю свою жизнь я ничего не умел носить как следует; даже свой шарф я повязываю то слишком высоко, то слишком низко, а до момента опасности я и вовсе меланхолично таскал его под мышкой, завернув в газету, как омара.
— Эй вы, проклятый кривляка! Вам хорошо разыгрывать там у себя наверху Бодена и стоять скрестив руки, пока мы тут валяемся на земле и жуем грязь!
Действительно, они уже целый час лежат на животе в грязи, с испачканным лицом, в одежде, пропитанной слякотью, и, стреляя через бойницы, находящиеся на уровне земли, наносят жестокий урон неприятелю.
Член Коммуны стоит, прислонившись к выступу баррикады. Его лоб выдается над камнями, и пули окружают его все более и более суживающимся ореолом. Но люди дела недовольны: конечно, он подвергается опасности, но пусть-ка он тоже потрудится, поглотает песку, выпачкает себе морду, поваляется на земле, как товарищи!
— Кривляка!
В конце концов мне это надоело. Раз они меня больше не слушают, я считаю себя свободным и сам выберу себе место действия.
Когда-то, будучи командиром 191-го батальона, я, чтобы заставить забыть о моей наружности сельского стражника и моей неспособности к военному делу, поклялся, что в решительный момент буду со своим батальоном или с тем, что от него останется.
Иду туда.
Немного осталось от этого батальона, но уцелевшие рады меня видеть.
— Так вы не бросите нас?
— Нет!
— Правильно, гражданин!
Воскресенье, 28 мая, 5 часов утра
Мы на гигантской баррикаде, внизу улицы Бельвилль, почти против залы Фавье. Мы тянули жребий с заменявшим меня офицером, кому первому пойти немного поспать.
Я вынул счастливый номер и вытягиваюсь на старой кровати в чьей-то брошенной квартире. Спал я плохо; черви, съедавшие тюфяк, скоро закопошились у меня на теле, — что-то уж очень они торопятся!
Иду сменить товарища.
До сих пор мне приходилось больше бороться с федератами, чем с версальцами. Сейчас, когда свободным осталось одно это предместье и не нужно судить ни предателей, ни подозрительных, дело стало гораздо легче. Теперь остается постоять за честь и встать у знамени, как офицеры у грот-мачты, когда корабль идет ко дну.
Я на посту...
На страшный огонь неприятеля мы отвечаем пальбой из ружей и пушек.
Окна в «Ла-Вейез»[217] и во всех домах на углу мы заткнули тюфяками; пробитые снарядами, они дымятся.
Время от времени чья-нибудь голова, перевешивается через балюстраду — совсем как Петрушка. — Готов!
У нас есть пушка; при ней находятся молчаливые, исполненные мужества артиллеристы. Одному из них не больше двадцати лет, у него золотистые, как спелая рожь, волосы и синие, как васильки, глаза. Он краснеет, как девушка, когда хвалят меткость его стрельбы.
Минутное затишье.
— Может быть, парламентер?
— Чтобы предложить нам сдаться?
— Сдаться? Пусть только сунется!
— Вы хотите захватить его в плен?
— За кого вы нас принимаете? Подобные гнусности могут делать только версальцы. Но мне все-таки доставит удовольствие бросить ему в лицо словечко Камбронна.
С улицы Ребеваль доносятся крики.
— Не зашли ли они с тылу, пока их посланник отвлекал наше внимание?.. Подите-ка посмотрите, Вентра!
— В чем дело?
— Да вот тут среди нас есть субъект, отказывающийся принять участие в нашей работе.
— Да, я отказываюсь... Я против войны!
И человек лет сорока, с апостольской бородой и степенным видом, подходит ко мне и говорит:
— Да, я за мир, против войны! Ни за них, ни за вас... И вам не удастся заставить меня драться.
Но подобные рассуждения не по вкусу федератам.
— Ты думаешь, мы не предпочли бы поступать так же, как ты? Воображаешь, что для забавы обмениваются здесь такими орехами? Ну-ка, бери это ружье и стреляй, не то тебе не поздоровится!
— Я за мир, против войны!
— Чертова скотина! Берешь, что ли, ружье?.. или хочешь понюхать пороху?
Но он питал отвращение к «табаку» и последовал за федератом, таща свое ружье, как костыль.
Парламентер уходит.
— Дерьмо! — орет командир, стоя на эстраде, сооруженной из булыжника мостовой.
Вдруг окна обнажаются, каменная плотина рушится.
Белокурый канонир громко вскрикивает. Пуля попала ему в лоб и пробила черный глаз между двумя его синими глазами.
— Все погибло! Спасайся кто может!
……………………………..
……………………………..
— Не спрячет ли кто-нибудь двух инсургентов? — вопрошали мы по дворам, обводя глазами этажи, как нищие, ожидающие, не свалится ли им сверху монета.
Но никто не подал нам милостыни, — милостыни, которой мы просили с оружием в руках.
В десяти шагах от нас — трехцветное знамя.
Новенькое, чистенькое и сверкающее, оно оскорбляет своими свежими тонами наше знамя, лохмотья которого висят еще то здесь, то там, грязные, порыжевшие, словно увядшие и растоптанные цветы мака.
Нас впустила одна женщина.
— Мой муж на соседнем перевязочном пункте. Если хотите, я сведу вас туда.
И она ведет нас под градом пуль, которые свистят со всех сторон, разбивая стекла фонарей, срезая ветки каштанов.
Мы пришли. Да и пора уж было!
К нам подходит хирург с повязкой Красного креста на руке.
— Не предоставите ли вы нам убежище, доктор?
— Нет, из-за вас перебьют моих больных.
Снова на улице.
Но муж этой женщины знает другой пункт для раненых, неподалеку.
Приходим туда.
— Примете нас?
— Да.
Так ответила нам твердо и несколько вызывающе маркитантка, прелестное создание лет двадцати пяти, в синей суконной форме, красиво облегающей ее стройную фигуру с пышным бюстом. Она не трусит, молодчина!
— У меня здесь пятнадцать раненых. Вы сойдете за доктора, ваш друг — за фельдшера.
И она повязывает нам больничные фартуки.
Надо подкрепиться... Она бьет яйца, жарит яичницу, угощает нас вином для выздоравливающих. За десертом мы забываем опасность... Мы согрелись, глаза блестят.
Но из палаты, где лежат ампутированные, доносится надрывающий душу стон.
— Ох! Поговорите со мной перед смертью!
Мы встаем из-за стола, но... уже поздно.
Подле этого еще теплого трупа, в погруженной во мрак комнате, — окна заложены тюфяками, — нами снова овладевают печальные мысли. Мы стоим молча и стараемся разглядеть сквозь щель, что делается на тротуаре.
Вот бредет с видом шакала какой-то моряк. За ним еще моряк, потом пехотинец; целая рота с безусым лейтенантом.
— Пусть все спустятся к нам!
Я выхожу первый.
— Где заведующий пунктом?
— Это я.
— Ваше имя?
Меня научили, что говорить, и я повторяю.
— Для чего этот экипаж?
Маркитантка велела заложить его, чтобы мы могли вскочить в него и удрать, как только представится возможность.
Но я отвечаю, не моргнув глазом:
— Вы исполняете ваши обязанности, я собираюсь приступить к своим — подбирать и перевязывать раненых.
Он нахмурил брови и уставился на меня.
— Прикажете распрягать?..
Он еще раз взглянул на меня и сделал своим хлыстом жест, означавший, что дорога свободна.
— Ну что, Ларошетт, вы едете?
— Нет, вам не удастся сделать и двадцати метров. Вы идете на верную смерть.
Я не только иду, я даже бегу мелкой рысью, потому что погоняю свою лошадь.
Раз десять меня чуть было не задержали, и в конце концов это уж наверно случилось бы, если б один линейный офицер не спас меня, сам того не подозревая. Он бросился наперерез лошади.
— Только не в эту сторону! Этот сброд все еще стреляет сверху.
— Тогда мое место именно здесь; мой ланцет может на что-нибудь пригодиться!
И я спрыгнул с тележки.
— Для штатского вы довольно смелы, — сказал, смеясь, вояка.
— Капитан, я умираю от жажды. Нельзя ли раздобыть стаканчик шампанского в этом краю дикарей?
— Может быть, в этом кафе!..
Мы залпом осушили бутылку, и я снова взбираюсь на подножку.
— До приятного свидания, доктор!
Это напутствие успокоило несколько подозрительных типов, шнырявших вокруг моего экипажа и заставивших меня решиться на эту комедию с выпивкой.
— Кучер, погоняй!
Мой возница, по-видимому, не знает, кого везет, и, кажется, подхлестывает только для того, чтобы получить на чай.
Нужно, однако, спешить.
— Лазаретная повозка!
По дороге я встречаю своих «коллег». В фиолетовых воротничках, с золотыми нашивками, они прогуливаются среди солдат, приготовляющих ужин или моющих пушечные лафеты.
Некоторые смотрят мне вслед, но кто узнает Жака Вентра? Борода моя сбрита, я в синих очках.
Я только что заметил в зеркале у витрины магазина бритое лицо с выдающимися скулами, бледное, как лицо священника. Спутанные волосы откинуты назад; физиономия неумолимого человека; вид сурового партизана. Они, наверно, принимают меня за фанатика, разыскивающего раненых не столько для того, чтобы им помочь, сколько затем, чтобы их прикончить.
— Раненые? — сказал мне один адъютант. — У нас их нет: врага мы добиваем, а у наших есть свои полковые хирурги, и они отправляют их на специальные пункты. Но если вы хотите подобрать эту падаль, вы окажете нам большую услугу; вот уже два дня, как она отравляет нам воздух.
К счастью, он замолчал... У меня потемнело в глазах.
— Один! Два!
Мы взваливаем «падаль» на тележку.
Солдаты сами тянут за повод нашу клячу и подталкивают колеса, лишь бы мы поскорее увезли эти трупы, заражающие воздух.
На одном из этих трупов, поднятом за кучей досок на дровяном складе, мухи кишели, как на дохлой собаке.
Их у нас семь. Тележка больше не вмещает; мой фартук — сплошная лепешка запекшейся крови. Даже сами солдаты отворачиваются, и мы свободно мчимся по этой стезе ужаса.
— Куда направляетесь? — спрашивает последний часовой.
— В госпиталь Сент-Антуан!
Здесь полно санитаров.
Я направляюсь прямо к ним и указываю на свой груз человеческого мяса.
— Сложите тела в этом зале!
Зал завален трупами. Дорогу мне преграждает чья-то рука; смерть захватила ее в жесте героического вызова, и она так и застыла, вытянутая, угрожающая, со сжатым кулаком, который, наверно, должен был опуститься на физиономию офицера, командующего расстрелом.
Они обыскивают свои жертвы. У одной из них находят классную тетрадь. Это — девочка лет десяти; ее закололи ударом штыка в затылок, а розовая ленточка с медным медальоном — так и осталась на шее.
У другой обнаружили табакерку из бересты, дешевые очки и бумагу, удостоверяющую, что она — сиделка и что ей сорок лет.
Немного поодаль лежит старик; его обнаженный торс выдается над грудой мертвых тел. Вся кровь вытекла, и лицо его так бледно, что выбеленная стена, у которой его положили, кажется рядом с ним серой. Его можно принять за мраморный бюст, за обломок статуи на гемонии[218].
Того, кто составлял списки убитых, неожиданно позвали опознать одного сомнительного. Он просит меня заменить его на минутку.
— Садитесь вот здесь, на углу стола.
Это дает мне возможность спрятать свой взгляд. Но иногда приходится отвечать на какой-нибудь вопрос и выдавать свой голос.
Составитель списка возвращается и усаживается на свое место.
— Вы свободны, благодарю вас.
Свободен! Нет, не совсем еще, но теперь уже скоро... или я погиб...
— Уходите, уходите же скорее, — шепчет в ужасе мой проводник. — Заинтересовались, кто вы такой.
К моему счастью, где-то поблизости убивают; они не хотят упустить такого зрелища, и все бегут туда.
Давка помогает нам незаметно выбраться.
— Стой! Кто вы?
Я извлекаю свою «погребальную» расписку.
— Проезжайте! Нет... постойте!
— Что там еще?
— Не отвезете ли вы на перевязочный пункт раненого солдата?
Еще бы нет!
Нам повезло! Мы спасены теперь. Я поддерживаю нашего солдатика и готов обнять его.
Он просит перевязать его... Ах, черт возьми!
— Нет, нет, не надо повязок, голубчик. Они не помогают!
Он настаивает. Ну что ж, перевяжу его... но только как бы он от этого не отправился на тот свет.
В конце концов мы его отговорили. Но чего ему еще надо?
— Доктор, доктор! Вон там наш полковник и мой командир. Я хотел бы проститься с ним.
— Волнения вредны вам, голубчик! Они могут вызвать лихорадку...
Теперь все идет как по маслу.
Каждый раз, когда нужно обогнуть место, где полно солдат, я выставляю в роли ангела-хранителя нашего пехотинца. Он совсем плох... Хоть бы дотянул до лазарета!
Беда! Лошадь потеряла подкову и захромала.
Она не хочет идти дальше, ее слишком загнали.
— Вот видите, — говорит возница, — надо было дать ей напиться крови!
Ну, на этот раз я пропал!
Вон там стоит человек; он впился в меня взглядом, и я чувствую, что он узнал меня. Разве это не он в редакции «Деба» нахмурил брови, читая письмо Мишле в защиту наших друзей из Ла-Виллет? Разве не он хотел, чтобы прикончили осужденных?.. Сейчас стоит ему только подать знак, и его палачи искромсают меня.
Но и на этот раз все обошлось благополучно.
Решил ли он, что ошибся, ужаснулся ли перед доносом... но он повернулся и пошел прочь.
— Это господин Дюкан, — говорит один офицер, указывая на него, и, в свою очередь, останавливается передо мной.
Мое сердце готово выпрыгнуть из груди.
Но вдруг брезент нашей повозки раздвигается, умирающий высовывает бескровное лицо и, протягивая неуверенным жестом руку, шепчет:
— Позвольте, прежде чем умереть, пожать вам руку, господин офицер.
С этими словами, глубоко вздохнув, он падает навзничь, стукнувшись головой о дно повозки.
— Бедняга!.. Спасибо вам, доктор!
Скорей, скорей! Ах, уж эта кляча! Н-но!..
Нужно сдать наш труп. Мы въезжаем в ворота лазарета.
Директор во дворе... Он сразу же узнает меня.
Я подхожу к нему.
— Вы намерены выдать меня?
— Я вам отвечу через пять минут.
Они показались мне почти короткими, эти пять минут. Я едва успел оправить рубашку, распрямить воротник, пригладить волосы пятерней. Подумайте, сколько дел: привести в порядок туалет, составить прощальное слово, принять подобающий вид.
Появляется директор.
— Откройте ворота, — кричит он привратнику.
И он отвернулся, боясь не выдержать и не желая, чтобы я поблагодарил его хотя бы жестом.
Хромоногая лошаденка снова трогается в путь.
— Куда ехать?
— На улицу Монпарнас.
К секретарю Сент-Бёва! Он спрячет меня, если только мне удастся добраться до него.
Мы проезжаем на нашей загнанной кляче по переулкам, где я прожил двадцать лет, где я проходил во вторник с батальоном Отца Дюшена, где я безотлучно находился в течение трех первых дней недели.
Но вот храбрости возницы пришел конец.
— Я не собираюсь рисковать своей шкурой... хватит с меня... Слезайте... и прощайте!
Он изо всей силы стегнул лошадь кнутом и скрылся.
Где бы найти приют?
Постойте! В десяти шагах отсюда, в переулке дю-Коммерс, есть гостиница, где я когда-то жил. Дорога к ней идет по пустынной улице Эпрон и по переулку,
Уже пять дней как квартал взят; красные штаны попадаются редко.
Поднимаюсь по лестнице. В квартире невообразимый шум и крик.
— Да, я капитан Летеррье, говорю вам, что ваш Вентра издох, как последний трус! Он ползал по земле, плакал, просил пощады... Я сам видел!
Тихонько стучу, мне открывает хозяйка.
— Это я, тише! Если вы меня прогоните, я погиб...
— Входите, господин Вентра.
…………………………….
XXXV
Вот уже несколько недель, как, забившись в свою дыру, я жду случая проскользнуть у них между пальцев.
Но удастся ли мне это?.. Не знаю.
Два раза я чуть было не выдал себя. Соседи могли видеть мою высунувшуюся из окна голову с бледным, как у утопленника, лицом.
Все равно! Возьмут — так возьмут!
Теперь моя совесть спокойна.
Обратив взор к горизонту, на столб Сатори[219] — нашу Голгофу — я много передумал в своем уединении и знаю теперь, что жестокости толпы — это преступления честных людей, и я не тревожусь больше за свою память, закопченную в пороховом дыму и запятнанную запекшейся кровью.
Время омоет ее, и имя мое сохранится в мастерской социальных войн как имя рабочего, который не был бездельником.
Моя злоба утихла — у меня все же был свой счастливый час.
Сколько других детей, как и я подвергавшихся побоям, сколько других бакалавров, голодавших, подобно мне, сошли в могилу, так и не получив отмщения за свою мрачную юность!
А ты — ты собрал свои лишения и горести и повел свой взвод новобранцев на восстание, ставшее великой федерацией страданий.
На что же ты жалуешься?
Это — правда. Так пусть же придут за мной, пусть солдаты заряжают свои ружья, — я готов.
……………………………………
Я только что перешел пограничный ручей.
Я вырвался от них и снова могу быть с народом, если народ будет брошен на улицу и вовлечен в борьбу.
Смотрю на небо, в ту сторону, где Париж.
Оно ярко-синее, с красными облаками — точно огромная блуза, залитая кровью.
Примечания
1
Настоящее предисловие взято из французского издания «Инсургента» (Les œuvres de Jules Valles. Jacques Vingtras. L'Insurgé, avec une ргéfасе de Marcel Cachin. Les Éditeurs français réunis. Paris 1950). Перевод предисловия О. Степанова.
(обратно)2
Роман «Инсургент» — третья часть трилогии «Жак Вентра» (1-я часть —«Детство», 2-я часть — «Бакалавр») — печатался в журнале «Nouvelle Revue» («Нувель ревю») с 1 августа по 15 сентября 1882 г. Редакция журнала произвела в романе ряд сокращений, отмеченных в тексте строками точек.
В 1885 г., после смерти Валлеса, «Инсургент» вышел отдельной книгой с теми же пропусками в тексте. Архив Валлеса хранился у его подруги, журналистки Северин (псевдоним Каролины Реми, 1855—1929), которая не сочла нужным восстановить полностью текст романа. Сохранилась ли рукопись «Инсургента», и в каком виде, неизвестно.
(обратно)3
Красные колпаки и черные пятки из Одеона. — Одеон — театр в Париже. Здание этого театра окружено галереей, где расположены прилавки книгопродавцев. Здесь встречались студента, художники, писатели. Это был своеобразный клуб молодежи. Красные колпаки — республиканцы. Черные пятки — легитимисты. «Они... говорили о короле, важно повертываясь на каблуках башмаков, до того худых, что из них виднелись голые пятки, красные от холода зимой и черные от пыли летом» (Жюль Валлес, «Бакалавр», гл. XXX «Под арками Одеона»).
(обратно)4
Застольная молитва.
(обратно)5
Анатоли — школьный товарищ Валлеса.
(обратно)6
Июньский крест — орден, которым были награждены участники подавления восстания парижского пролетариата 23—26 июня 1848 г.
(обратно)7
Кавеньяк Луи-Эжен (1802—1857) — французский генерал, губернатор Алжира, в мае 1848 г. был назначен военным министром, руководил кровавым подавлением Июньского восстания парижских рабочих. Стоял во главе правительства вплоть до избрания Лун Бонапарта президентом республики (декабрь 1848 г.).
(обратно)8
Арну Артюр (1833—1891) — литератор, член Парижской коммуны, автор книги «Народная и парламентская история Парижской коммуны». С Валлесом его связывала двадцатилетняя дружба, Выведен в романе «Бакалавр» под именем Рену.
(обратно)9
Второе декабря. — В ночь на 2 декабря 1851 г. президент республики Луи-Наполеон Бонапарт (племянник Наполеона I) совершил государственный переворот, разогнал Законодательное собрание и захватил в свои руки всю власть в государстве. Через год он был провозглашен императором под именем Наполеона III.
(обратно)10
Мюрже Анри (1822—1861) — французский писатель, автор произведения «Сцены из жизни богемы».
(обратно)11
Морг — здесь: тюремное помещение, где обыскивают арестантов.
(обратно)12
Голубки ворковали (лат.).
(обратно)13
Вильмессан Ипполит (1812—1879) — французский журналист, редактор-издатель газет «Фигаро» и «Эвенман», ловкий литературный делец. Вильмессан не прочь был привлекать к сотрудничеству в этих газетах некоторых левых писателей, но терпел их лишь до тех пор, пока их острое перо не вызывало серьезных нападок со стороны властей.
(обратно)14
Бовалле Пьер-Франсуа (1809—1873) — французский артист (трагический актер).
(обратно)15
Большой аттракцион (англ.).
(обратно)16
В честь поэта, написавшего «Возмездие». — Сборник стихотворений Виктора Гюго, изданный в 1853 г., во время пребывания поэта в эмиграции, и направленный против Луи Бонапарта и его клики авантюристов, задушившей республику во Франции и установившей в стране режим полицейско-бюрократической диктатуры.
(обратно)17
Бридуазон — судья из комедии Бомарше «Женитьба Фигаро», невежда и буквоед.
(обратно)18
Баденге — презрительное прозвище Наполеона III, данное ему республиканцами по имени каменщика, в одежде которого он бежал в 1846 г. из крепости Гам, куда был заключен в 1840 г., после неудачной попытки захватить государственную власть во Франции.
(обратно)19
Черное знамя. — Восставшие в ноябре 1831 г. лионские ткачи подняли черное знамя, на котором были начертаны слова: «Жить, работая, или умереть, сражаясь!» Этот лозунг был популярен среди трудящихся и во время революции 1848 г. и в дни Парижской коммуны 1871 г.
(обратно)20
Вильмен Франсуа (1790—1876) — французский литератор и публицист, министр народного просвещения с 1839 по 1844 г., автор «Курса французской литературы» и «Сущности христианского красноречия». Язык его отличался плавностью, размеренностью и традиционной метафоричностью старых академических речей.
(обратно)21
Пупар — Пупар-Давиль Луи (1833—1890) — французский писатель, драматург. Выведен в романе «Бакалавр» под именем Леграна. В одной из глав романа рассказывается о дуэли, в которой был ранен Пупар.
(обратно)22
Жирарден Эмиль де (1806—1881) — французский буржуазный публицист умеренно-либерального направления; редактировал газету «Пресса», потом газету «Либерте» и ряд других газет. Отличался крайней политической беспринципностью.
(обратно)23
Верморель Огюст (1841—1871) — французский публицист и историк, член Парижской коммуны. Сотрудничал в ряде органов печати. В 1866 г. основал газету «Французский курьер», в которой вел социалистическую и антимилитаристскую пропаганду. Опубликовал ряд политических памфлетов и исторических трудов (в том числе книги «Деятели 1848 г.» и «Деятели 1851 г.», направленные против буржуазных республиканцев и против бонапартистов). В дни Коммуны редактировал газеты «Порядок» и «Друг народа». По вступлении версальских войск в Париж принял активное участие в баррикадных боях. Был тяжело ранен, арестован и умер в тюремной больнице.
(обратно)24
На знаменитой дуэли.— Речь идет о дуэли, состоявшейся 22 июля 1836 г. между Эмилем Жирарденом и Арманом Каррелем (1800—1836), редактором республиканской газеты «Националь». Дуэль была вызвана нападками Карреля на деляческий характер журналистской деятельности Жирардена. Каррель был смертельно ранен на этой дуэли.
(обратно)25
Руэр Эжен (1814—1884) — министр Наполеона III, ярый реакционер.
(обратно)26
Книга вышла. — Это был сборник рассказов «Непокорные» (1865).
(обратно)27
Меч Ахилла на Скиросе. — Согласно греческому мифу, Ахилл, по предсказанию оракула, должен был погибнуть под Троей. Мать его, богиня Фетида, отправила Ахилла на остров Скирос, чтобы помешать ему принять участие в Троянской войне. Но греки не могли без его помощи овладеть этим городом. Тогда Одиссей взялся найти Ахилла. Переодевшись купцом, он отправился на остров Скирос, где Ахилл, переодетый в женское платье, скрывался среди царских дочерей. Одиссей разложил перед ними браслеты, ожерелья и кружева, из-под которых сверкал украшенный драгоценными камнями меч. Юноша Ахилл, увидев меч, выдал себя: он схватил его и последовал за Одиссеем.
(обратно)28
Давид Анжерский Пьер-Жан (1788—1856) — французский скульптор.
(обратно)29
Рошфор Анри (1830—1913) — талантливый французский публицист периода Второй империи, буржуазный радикал. В своем журнале «Фонарь» и в своей газете «Марсельеза» высмеивал и обличал Наполеона III и его правительство. После свержения империи был освобожден из тюрьмы и включен в состав «Правительства национальной обороны». Во время Коммуны издавал газету «Мо д'Ордр», в которой резко осуждал версальских реакционеров, но вместе с тем критиковал и политику Коммуны. После подавления Коммуны был арестован и сослан в Новую Каледонию, откуда в 1874 г. ему удалось бежать. Впоследствии Рошфор, изменив своему прошлому левого республиканца, примкнул к реакционной клике антидрейфусаров.
(обратно)30
Кассий Кай — римский республиканец; принял участие в убийстве Юлия Цезаря (44 г. до н. э.) — полководца и диктатора Рима.
(обратно)31
Оливье Эмиль (1825—1913) — французский политический деятель и публицист, буржуазный республиканец правого крыла, депутат Законодательного корпуса. Впоследствии перешел на сторону бонапартистов. В 1870 г. был министром-президентом. После свержения империи эмигрировал в Италию. В 1874 г. возвратился во Францию. В 1905—1909 гг. опубликовал труд «Либеральная империя», в котором оправдывал свои действия на посту главы кабинета и приукрашивал политику правительства Второй империи в последний период ее существования.
(обратно)32
Юсуф Жозеф (1810—1866) — французский генерал. Под именем Юсуфа Мамелюка участвовал в завоевании Алжира. Об этих его «подвигах» и писал Валлес в фельетоне, напечатанном 26 марта 1866 г. в газете «Либерте».
(обратно)33
Шан-де-Наве — кладбище, где хоронили казненных.
(обратно)34
Царство святой гильотины. — Имеется в виду революционный террор периода якобинской диктатуры 1793—1794 гг.
(обратно)35
Человек, сраженный его пулей — Арман Каррель, убитый Жирарденом на дуэли.
(обратно)36
Ранк Артюр (1831—1905) — французский публицист буржуазно-радикального направления, товарищ Валлеса, выведенный в «Бакалавре» под именем Рока. В 1853 г. за участие в заговоре против Наполеона III был сослан на каторгу, откуда бежал. Во второй половине 60-х гг. сотрудничал в левореспубликанских газетах. Был избран членом Парижской коммуны, но вскоре (6 апреля) вышел из ее состава. После подавления Коммуны эмигрировал в Бельгию. После амнистии 1880 г. возвратился во Францию. Был сенатором буржуазной Третьей республики.
(обратно)37
Аускультация — медицинский термин, означающий выслушивание больного.
(обратно)38
Марото Гюстав (1848—1875) — французский революционный журналист, близкий к бланкистам. Во время Коммуны редактировал газеты «Гора» и «Общественное спасение», в которых призывал к решительной борьбе с версальской контрреволюцией. Мужественно сражался на майских баррикадах. Умер в ссылке, в Новой Каледонии.
(обратно)39
Кавалье Жорж (1847—1878) — французский журналист, левый республиканец, сотрудничал в газетах «Улица», «Марсельеза» и др. Во время Коммуны был главным инженером путей сообщения.
(обратно)40
Лепер Шарль (1823—1885) — французский адвокат и политический деятель, буржуазный радикал.
(обратно)41
Роже Бонтан — образ бедного чудака, созданный Беранже. Человек веселого нрава, всем довольный, старающийся «жизнь прожить не плача, хоть жизнь куда горька».
(обратно)42
Младший брат того, кто оскорбил моего отца — Сципион Лимозен (род. в 1812 г.); эпизод этот рассказан в романе «Детство».
(обратно)43
Лорье Клеман (1832—1878) — видный французский адвокат, защищал главным образом журналистов, привлекавшихся к суду за нарушение законов о печати; выступал защитником на процессе парижской федерации I Интернационала.
(обратно)44
Тортильяр — персонаж романа французского писателя Эжена Сю «Парижские тайны», хромой уличный мальчишка, отчаянный и смелый.
(обратно)45
Жан Гиру — тип грубого и циничного убийцы, созданный французским литератором и карикатуристом Анри Монье (1809—1877).
(обратно)46
Калхас — «великий жрец» из оперетты Оффенбаха «Прекрасная Елена»; он пользуется слабостями человеческими, чтобы доставлять удовольствие сильным и власть имущим и устраивать себе легкую и приятную жизнь.
(обратно)47
Жибуайе — персонаж пьес французского писателя Эмиля Ожье (1820—1889) «Бесстыдники» и «Сын Жибуайе», тип беспринципного журналиста-дельца, продающего свое перо тому, кто больше заплатит.
(обратно)48
...пишет сейчас «Трибуна» — намек на то, что Клеман Лорье подготовлял в это время к печати сборник своих речей в суде.
(обратно)49
Тереза — псевдоним певицы Эммы Валадон (1837—1913), которая с большим успехом исполняла народные песни и романсы.
(обратно)50
Шнейдер Эжен (1805—1875) — французский политический деятель и крупный промышленник (владелец пушечных заводов в Крезо); председатель Законодательного корпуса Второй империи.
(обратно)51
Морни Шарль-Огюст, герцог де — по матери брат Наполеона III. Один из руководителей бонапартистского переворота 2 декабря 1851 г. Был министром внутренних дел, а затем председателем Законодательного корпуса Второй империи. Свое влиятельное положение в правительстве использовал для личного обогащения.
(обратно)52
Гамбетта Леон-Мишель (1838—1882) — французский политический деятель и адвокат, лидер буржуазных республиканцев в последние годы Второй империи. Защищая перед судом в ноябре 1868 г. участников демонстрации на могиле депутата Бодена, убитого 3 декабря 1851 г. на баррикаде в Сент-Антуанском предместье, Гамбетта произнес речь, прозвучавшую как обвинительный акт против бонапартистского правительства. Однако, выдвигая довольно широкую программу прогрессивных реформ, он уверял имущие классы, что демократическая республика «принесет с собой улучшение положения и поднятие нравственности обездоленных без всякого ущерба и опасности для обладающих богатством». В 1869 г. он был выбран депутатом Законодательного корпуса. В качестве министра внутренних дел «Правительства национальной обороны», созданного после свержения империи, много сделал для организации обороны Франции против нашествия немецких войск. После 1871 г. возглавлял партию умеренных буржуазных республиканцев. Отказался от осуществления реформ, которые он выдвигал в свое время.
(обратно)53
Роклор Гастон (1614—1683) — французский генерал, прославившийся при дворе Людовика XIV своим остроумием.
(обратно)54
Пять левых петухов — пять оппозиционных депутатов Законодательного корпуса: Оливье, Даримон, Генон, Фавр и Пикар, буржуазные республиканцы правого крыла.
(обратно)55
Планш Гюстав (1808—1857) — французский литератор и критик.
(обратно)56
Курбе Гюстав (1819—1877) — французский художник-реалист, участник революции 1848 г., член Коммуны. В дни Коммуны возглавлял «Федерацию художников». После подавления Коммуны эмигрировал в Швейцарию.
(обратно)57
Диафуарус — отец и сын, персонажи комедии Мольера «Мнимый больной», в которой высмеиваются невежество и шарлатанство тогдашних врачей.
(обратно)58
«Павильон принцев» — восточная камера в парижской тюрьме Сент-Пелажи, служившая местом заключения для лиц, осужденных за «проступки политического характера» на срок не больше года.
(обратно)59
Тысяча восемьсот тридцатый... — Перечисляя эти даты, Валлес тем самым называет и участников различных революций во Франции. Восемьдесят девятый — приверженцы принципов первого периода французской буржуазной революции XVIII в. Девяносто третий — сторонники Конвента и якобинской диктатуры 1793 г. Тысяча восемьсот тридцатый — либералы и демократы, сторонники и участники революции 1830 г.
(обратно)60
Леру Пьер (1798—1871) — французский писатель и публицист, республиканец и демократ; был близок к сен-симонизму, затем отошел от него и создал собственную утопическую систему с мистическим уклоном.
(обратно)61
Пейра Альфонс (1812—1890) — французский политический деятель и публицист буржуазно-республиканского направления, принимал участие в организации подписки на памятник Бодену, за что был приговорен к тюремному заключению.
(обратно)62
Авентинский холм — один из семи холмов Рима. В конце V в. до н. э. плебеи восстали против господства патрициев и, вооружившись, удалились на этот холм. Примирение состоялось только после того, как патрицианская олигархия согласилась на введение института народных трибунов.
(обратно)63
Кантагрель Франсуа-Жан (1810—1887) — французский политический деятель и публицист, последователь Фурье. В 1849 г. был приговорен к ссылке. Вернулся в Париж только через десять лет. Во время Коммуны издавал газету «Демократическое единство», в которой выражал сочувствие программе Коммуны.
(обратно)64
Circulus (круг — лат.) — член общества Сиркюлютен.
(обратно)65
Глава о Камбронне.— Несколько глав второй части романа Гюго «Отверженные» посвящены описанию битвы при Ватерлоо (18 июня 1815 г.), где старая наполеоновская гвардия была почти совершенно уничтожена. Последнее каре, которое англичане расстреливали из пушек, продолжало сражаться под командой генерала Камбронна. На предложение английского офицера сдаться, Камбронн, согласно исторической легенде, ответил крепким ругательством.
(обратно)66
Грибуйль — народное имя, прозвище человека бестолкового, не очень умного.
(обратно)67
Ланглуа Амедей-Жером (1819—1890) — французский политический деятель и публицист, прудонист. За участие в выступлении 13 июня 1849 г. против реакционной политики правительства Луи Бонапарта был приговорен к ссылке. На Базельском конгрессе I Интернационала (в 1869 г.) выступал в защиту института частной собственности. После свержения Второй империи был командиром 106-го батальона национальной гвардии. В феврале 1871 г. был избран депутатом Национального собрания. Поддерживал врагов Коммуны.
(обратно)68
Толен Анри-Луи (1828—1897) — французский социалист, рабочий (гравер и резчик), прудонист. В 1871 г., будучи депутатом Национального собрания, выступал против Коммуны. Был исключен за это из I Интернационала. Валлес сильно преувеличивает его роль и значение в описываемый им период (конец 60-х гг.).
(обратно)69
Смит Адам (1723—1790) — английский буржуазный экономист.
(обратно)70
Сэй Жан-Батист (1767—1832) — французский буржуазный экономист, проповедник гармонии классовых интересов.
(обратно)71
Перрашон — французский социалист, рабочий (бронзовщик), член I Интернационала, участник Парижской коммуны.
(обратно)72
Созий — персонаж из комедии Мольера «Амфитрион». Это имя стало нарицательным для обозначения человека, перенимающего лицо, голос и манеры другого.
(обратно)73
Conciones — народные собрания в древнем Риме, а также речи, произносившиеся на них. Сборник этих речей служил во французской школе материалом для упражнения в переводе.
(обратно)74
Марианна — так называли во Франции демократическую республику.
(обратно)75
Социальная — так называли социалистическую республику.
(обратно)76
13 июня 49 года — в этот день (13 июня 1849 г.) партия мелкобуржуазных демократов (они называли себя «новой Горой» — то есть новыми якобинцами) организовала в Париже демонстрацию протеста против отправки французских войск для подавления Римской республики. Демонстрация была разогнана правительственными войсками.
(обратно)77
Рюо — был замешан в заговоре 1853 г. на жизнь Наполеона III и приговорен к ссылке. Из полицейских документов, найденных во время Коммуны 1871 г., выяснилось, что он много лет состоял на жалованье у полиции. По распоряжению члена Коммуны и ее делегата общественной безопасности Рауля Риго Рюо был арестован и в последние дни Коммуны расстрелян.
(обратно)78
Мабилль — французский революционер, участник революции 1830 г.; руководил вооруженной борьбой на одной из баррикад во время Июньского восстания 1848 г.; участник Коммуны 1871 г.
(обратно)79
Блан Луи (1811—1882) — французский историк, публицист и политический деятель, один из теоретиков мелкобуржуазного социализма. Будучи членом Временного правительства 1848 г. и занимая пост председателя комиссии по рабочему вопросу, заседавшей в Люксембургском дворце, он выступал за примирение классов в то самое время, когда буржуазия подготовляла разгром пролетариата. После подавления Июньского восстания эмигрировал в Англию. В 1871 г., будучи депутатом Национального собрания, резко выступал против Коммуны.
(обратно)80
Ларжильер — за участие в Июньском восстании 1848 г. был приговорен к каторжным работам; в 1867 г. фигурировал в числе обвиняемых по делу о кафе «Ренессанс». Во время Коммуны был разоблачен как многолетний агент императорской полиции и расстрелян в последние дни Коммуны.
(обратно)81
Симон Жюль (1814—1896) — французский политический деятель и публицист умеренно-либерального направления. В 1863 г. был избран в Законодательный корпус, принадлежал к республиканской оппозиции. После свержения Наполеона III был министром народного просвещения в «Правительстве национальной обороны», а затем в версальском правительстве. В своих сочинениях резко выступал против социализма. Ярый враг Коммуны.
(обратно)82
Пассдуэ Огюст — французский публицист революционно-демократического направления, редактировал газету «Корсар». После революции 4 сентября 1870 г. стал членом Центрального Комитета 20 округов. Во время Коммуны 1871 г. сотрудничал в бланкистской газете «Гора», сражался на майских баррикадах. Умер в ссылке, в Новой Каледонии.
(обратно)83
Эпиналь — город во Франции, издавна славившийся производством ярких картинок-олеографий.
(обратно)84
Мильер Жан-Батист (1817—1871) — французский публицист и политический деятель, революционный социалист. В феврале 1871 г. был избран депутатом Национального собрания. Не принимал активного участия в Коммуне, но сотрудничал в ее революционной прессе. 26 мая был схвачен версальцами и расстрелян без суда.
(обратно)85
Ферри Жюль (1832—1893) — французский политический деятель, умеренный буржуазный республиканец, был членом «Правительства национальной обороны», а затем версальского правительства. Ярый враг Коммуны.
(обратно)86
Имеется в виду VI парижский округ.
(обратно)87
Палата — Законодательный корпус Второй империи. В конце 60-х гг. в нем была довольно значительная оппозиционная группа, состоявшая из умеренных буржуазных республиканцев и нескольких буржуазных радикалов. Вопрос об отсрочке сессии Законодательного корпуса революционные группы стремились использовать для того, чтобы высказать республиканским депутатам от Парижа ряд горьких истин и разоблачить их антинародную сущность. 1869 г. можно считать началом полного разрыва революционной демократии с буржуазными республиканцами правого крыла.
(обратно)88
Сентябрист. — В первые дни сентября 1792 г., когда австро-прусские войска приближались к Парижу, в парижских тюрьмах народные массы расправлялись с врагами революции и сторонниками старого режима; при этом было перебито около полуторы тысяч человек.
(обратно)89
Тьер Адольф (1797—1877) — французский политический деятель, историк и публицист. В период Июльской монархии был министром внутренних дел, жестоко подавлял республиканские восстания. Во время Февральской революции 1848 г. пытался спасти монархию. В 1849—1851 гг. являлся лидером партии орлеанистов в Законодательном собрании. В 1863 г. был избран членом Законодательного корпуса. В 1871 г. Национальное собрание избрало его главой исполнительной власти, а потом президентом республики. Руководил кровавым подавлением Парижской коммуны.
(обратно)90
Его слова и вся его фигура дышат добродушием. — Имеется в виду Эрнест Пикар (1821—1877), буржуазный республиканец правого крыла, наживший себе огромное состояние биржевыми спекуляциями. Был членом «Правительства национальной обороны», а затем версальского правительства. Ярый враг Коммуны.
(обратно)91
Бельвилль — рабочий район в Париже (XIX округ).
(обратно)92
Манюэль Жак-Антуан (1775—1827) — французский политический деятель либерального направления, в 1818—1823 гг. был членом палаты депутатов. В 1823 г. открыто выступил против военной интервенции в Испании. Его похороны вылились во внушительную антиправительственную демонстрацию.
(обратно)93
Пельтан Пьер-Эжен (1813—1884) — французский политический деятель, умеренный буржуазный республиканец. После революции 4 сентября 1870 г. был членом «Правительства национальной обороны».
(обратно)94
Член Лиги — по-видимому, «Священной лиги», созданной французскими католиками в 1576 г. при короле Генрихе III для борьбы с гугенотами (французскими протестантами). Во главе этого объединения наиболее реакционных групп католического лагеря стоял герцог Генрих Гиз, которого сторонники Лиги выдвигали кандидатом на французский престол.
(обратно)95
Шабо Франсуа (1759—1794) — бывший монах, член Конвента, якобинец. За свои пламенные революционные речи был прозван «неистовым монахом».
(обратно)96
Фавр Жюль (1809—1880) — французский политический деятель и адвокат, буржуазный республиканец правого крыла. При помощи подлогов нажил большое состояние. После свержения империи был министром иностранных дел в «Правительстве национальной обороны», а затем в версальском правительстве. Принимал активное участие в подавлении Парижской коммуны.
(обратно)97
Бансель Дезире (1822—1871) — французский политический деятель. В 1869 г. был избран в Законодательный корпус; примыкал к буржуазно-республиканской «левой».
(обратно)98
Касс Жермен — в 60-х гг. примыкал к бланкистам. Во время Парижской коммуны затесался в число служащих канцелярии делегации внешних сношений, по-видимому в качестве версальского шпиона.
(обратно)99
Аиссуа — мусульманская секта в Северной Африке. Члены ее считали себя неуязвимыми, стоически относились к физической боли и умышленно подвергали себя истязаниям.
(обратно)100
Фукье-Тенвилль (1746—1795) — общественный обвинитель при Революционном трибунале во время якобинской диктатуры 1793—1794 гг. После контрреволюционного переворота 9 термидора был казнен.
(обратно)101
Брион Огюст — французский социалист, член I Интернационала. Был избран членом Коммуны (на дополнительных выборах 16 апреля 1871 г.), но ушел в отставку.
(обратно)102
Лефрансе Гюстав (1826—1901) — французский политический деятель и педагог, активный участник революции 1848 г., один из организаторов союза учителей-социалистов. За участие в сопротивлении бонапартистскому перевороту 1851 г. был изгнан из Франции. В 1859 г. возвратился во Францию. Вступил в I Интернационал. Был членом Парижской коммуны, ее Исполнительной комиссии, Комиссии труда и обмена, Комиссии финансов.
(обратно)103
Дакоста Гастон-Пьер (род. в 1849 г.) — французский революционер бланкистского направления. В 1870 г. был ближайшим сотрудником Валлеса в газете «Улица» и ее ответственным редактором, за что поплатился длительным тюремным заключением. Был заместителем прокурора Парижской коммуны, вел энергичную борьбу с контрреволюцией. Был приговорен к смертной казни, которая была заменена ему бессрочной каторгой.
(обратно)104
Ласуш — Букэн де-ла-Суш (1828—1915) — французский комический актер, пользовался большим успехом у зрителей.
(обратно)105
10 января 1870 года. — Принц Пьер Бонапарт, двоюродный брат Наполеона III, поместил в одной газете оскорбительное для корсиканских демократов и социалистов письмо, советуя «истреблять их, как вредных животных». Один из сотрудников газеты «Марсельеза» Паскаль Груссе, будучи корсиканцем, счел себя оскорбленным и послал Пьеру Бонапарту вызов на дуэль через двух своих товарищей по редакции: В. Нуара и Фонвьеля. Принц спросил Нуара, солидарен ли он с этой «сволочью», то есть редакцией «Марсельезы». Получив ответ: «Мы солидарны с нашими товарищами», — он убил молодого журналиста выстрелом из пистолета. Известие об этом подлом убийстве вызвало в Париже всеобщее негодование. В похоронах Виктора Нуара 12 января 1870 г. приняло участие свыше двухсот тысяч человек. Ни одна из парижских организаций не имела в этот момент определенного плана действий, массы были не подготовлены к восстанию и не имели оружия. Энгельс писал 1 февраля 1870 г. Марксу: «Истинное счастье, что... на похоронах Нуара не вспыхнуло восстание». Правительство располагало 60-тысячной армией и, как замечает Энгельс, «в полчаса вся эта безоружная толпа (несколько револьверов, которые могли находиться у некоторых в карманах, считать не приходится) была бы рассеяна, изрублена или взята в плен» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 285).
(обратно)106
Риго Рауль (1846—1871) — французский революционер, бланкист, сотрудничал в ряде демократических газет и не раз судился за резкие статьи против религии и церкви и за восхваление Парижской коммуны 1793—1794 гг. Член Парижской коммуны 1871 г., был ее делегатом общественной безопасности, а затем прокурором. Стоял за решительные меры против контрреволюционеров. Захваченный версальцами, был 24 мая без суда расстрелян на улице.
(обратно)107
«Марсельеза» — газета, выходившая с декабря 1869 г. под общей редакцией Рошфора. Хотя главный редактор был буржуазным радикалом, газета была близка к парижской федерации Интернационала. Наряду с левыми республиканцами в ней сотрудничали почти все видные французские социалисты того времени. Газета уделяла много внимания рабочему движению.
(обратно)108
Как в феврале. — 23 февраля 1848 г. в Париже на бульваре Капуцинок правительственные войска без всякого предупреждения расстреляли мирную народную демонстрацию. Было убито свыше пятидесяти человек. Когда по улицам Парижа на повозках провозили трупы убитых и сопровождавшие их группы рабочих призывали к мести, толпа отвечала единодушным криком: «К оружию!» Это событие послужило толчком к усилению революционной борьбы, которая в ночь на 24 февраля приняла огромный размах.
(обратно)109
«Ренессанс». — В кафе «Ренессанс» в Париже происходили встречи революционных студентов с рабочими. В 1866 г. здесь состоялось собрание, на котором делегаты Женевского конгресса I Интернационала должны были представить отчет. Под конец собрания нагрянула полиция и арестовала присутствующих. В январе 1867 г. все они были осуждены за «участие в тайном сообществе»: в руках судей список подписчиков бланкистского органа «Кандид» превратился в список членов подпольного общества.
(обратно)110
Робер-Макер — герой мелодрамы Антье, Сен-Амана и Полианта «Постоялый двор Адре», тип дерзкого плута и бандита. Стал собирательным образом для обозначения преступности правящих кругов французской буржуазной монархии 1830—1848 гг. «Робер-Макером на троне» называли в оппозиционных памфлетах Луи-Филиппа.
(обратно)111
Сипаи — туземные войска в Индии, находившиеся на английской службе. В данном случае имеются в виду французские правительственные войска.
(обратно)112
Шаспо — система ружья, введенная в 1866 г. во французской армии.
(обратно)113
Флуранс Гюстав (1838—1871) — французский политический деятель, публицист и ученый, близкий к бланкизму; за свои республиканские убеждения и материалистические взгляды был лишен профессорской кафедры; принимал участие в восстании греков против турецкого гнета на острове Крит. В 1868 г. вернулся в Париж. В 1870 г., после неудачной попытки поднять восстание в Бельвилле, уехал в Лондон, где познакомился с Марксом и вступил в Интернационал. Участвовал в восстании 31 октября 1870 г. против «Правительства национальной обороны». Был избран членом Парижской коммуны и вошел в состав ее Военной комиссии. Во время похода отрядов национальной гвардии на Версаль (3—4 апреля) был захвачен версальцами и зверски убит.
(обратно)114
Пер-Лашез — кладбище, находящееся почти на окраине Парижа, в противоположной от Нейи стороне.
(обратно)115
Делеклюз Луи-Шарль (1809—1871) — французский публицист, мелкобуржуазный демократ, участник революции 1848 г. Много лет провел в тюрьме и в ссылке. Был членом Коммуны, ее Исполнительной комиссии, а в последний период ее военным делегатом. 25 мая был убит на баррикаде.
(обратно)116
15 мая — В этот день (15 мая 1848 г.) в Париже состоялась демонстрация ста пятидесяти тысяч человек, в большинстве своем рабочих, поводом к которой послужило восстание поляков в Познани. Демонстранты ворвались в зал заседаний Учредительного собрания с возгласами: «Организация труда! Налог на богатых! Да здравствует Польша!» Бланки потребовал следствия и суда над виновниками резни рабочих в Руане (27—28 апреля), решительных мер по борьбе с нищетой масс, предоставления работы и хлеба безработным, оказания военной помощи восставшим полякам. Учредительное собрание, депутаты которого разбежались, было объявлено распущенным, и народ приступил к созданию нового правительства, составленного из революционных демократов и социалистов. Но это новое правительство еще не успело сформироваться, как безоружная демонстрация была рассеяна буржуазными батальонами национальной гвардии. Бланки, Барбес и другие революционные деятели были арестованы и приговорены к многолетнему тюремному заключению; революционные клубы были закрыты; 16 мая прекратила свое существование Люксембургская комиссия по рабочему вопросу.
(обратно)117
15 июля. — В этот день (15 июля 1870 г.) правительство Наполеона III обратилось к Законодательному корпусу с просьбой ассигновать средства на проведение мобилизации ввиду «оскорбления Франции Пруссией». Через четыре дня Франция объявила войну Пруссии.
(обратно)118
Четырнадцати армий. — Здесь и дальше перечисление тех патриотических усилий и военных подвигов, которые совершил французский народ в борьбе с интервенцией монархических держав в период французской буржуазной революции конца XVIII в.
(обратно)119
Майнцский гарнизон. — В 1793 г. французский гарнизон, занимавший крепость Майнц, выдержал продолжительную осаду со стороны войск монархической коалиции.
(обратно)120
Карно Лазар (1753—1823) — французский военный инженер, член Конвента. В качестве члена Комитета общественного спасения занимался организацией военных сил республики, получил прозвище «организатора победы». После реставрации Бурбонов (1815) эмигрировал в Бельгию.
(обратно)121
Демонстрация на могиле Бодена. — левореспубликанского депутата Бодена (1811—1851), убитого на баррикаде во время бонапартистского государственного переворота, произошла 2 ноября 1868 г.
(обратно)122
Боэр Анри (род. в 1852 г.) — студент и литератор (театральный критик); после подавления Коммуны был сослан за участие в революционных событиях 1870—1871 гг. После возвращения из ссылки отошел от революционного движения.
(обратно)123
...этот самый народ только что избил меня... — Валлес ошибался: в большинстве своем это были не трудящиеся, а переодетые в рабочие блузы полицейские агенты и праздношатающиеся обыватели.
(обратно)124
...под женевским соусом. — В Женеве в 1864 г. была заключена международная конвенция о Красном Кресте.
(обратно)125
Кайенна — главный город французской колонии — Гвианы, служившей местом политической ссылки.
(обратно)126
Межи Эдмон (1844—1884) — участник революционного движения 60-х гг., рабочий-механик, был приговорен к каторжным работам. Участвовал в восстаниях 31 октября 1870 г. и 22 января 1871 г. в Париже. Во время Коммуны был комендантом форта Исси.
(обратно)127
Наке Альфред (1834—1916) — французский ученый и политический деятель, буржуазный республиканец. В 1869 г. участвовал в революции в Испании. Участник революции 4 сентября 1870 г. В 1871 г. был избран депутатом Национального собрания. Впоследствии примкнул к булаижизму.
(обратно)128
Бридо Габриэль — французский рабочий (гравер), бланкист. 14 августа 1870 г. участвовал в нападении бланкистов на казарму в парижском квартале Ла-Виллет, за что был приговорен к смертной казни. Революция 4 сентября 1870 г. привела к его освобождению из тюрьмы. Во время Коммуны был начальником муниципальной полиции.
(обратно)129
Между Монружем и Монмартром — то есть в Париже, так как эти возвышенности расположены на его противоположных концах.
(обратно)130
Эд Эмиль (1844—1888) — французский революционер, студент, типографский служащий, журналист, член Парижской коммуны и ее Комитета общественного спасения, командовал южными фортами.
(обратно)131
Матьё Гюстав (1808—1877) — французский революционный поэт, популярный среди коммунаров.
(обратно)132
...осадили казарму... — 14 августа 1870 г. отряд вооруженных бланкистов (сам Бланки тайно прибыл в Париж для руководства восстанием) совершил нападение на казарму, расположенную в квартале Ла-Виллет, чтобы раздобыть там оружие и начать всеобщее восстание с целью свержения империи. Массы населения, не подготовленные к выступлению, не поддержали бланкистов. Организаторы этого дела были преданы военному суду. Крушение империи спасло их от смертной казни.
(обратно)133
Рожар Луи-Огюст (1820—1896) — французский политический деятель, педагог и публицист, сотрудник лево-республиканских газет, автор памфлетов против правительства Второй империи; за памфлет «Речи Лабиена» был приговорен к пятилетнему тюремному заключению. Был избран членом Парижской коммуны, но отказался заседать в ней.
(обратно)134
Дюкан Максим (1822—1894) — французский литератор, участвовал в подавлении Июньского восстания 1848 г., за что получил орден; автор произведения «Судороги Парижа», одной из самых клеветнических книг о Коммуне.
(обратно)135
Герцог Энгиенский — французский принц из династии Бурбонов, по приказу Наполеона I был расстрелян в ночь на 25 марта 1804 г.
(обратно)136
Вести о Седане.— 1 сентября 1870 г. в битве при Седане французская армия потерпела полное поражение. На следующий день эта армия во главе с Наполеоном III сдалась в плен немецким войскам.
(обратно)137
4 сентября. — Известие о Седанской катастрофе революционизировало население Парижа. 4 сентября 1870 г. народные массы направились к Законодательному корпусу, проникли в зал заседаний и потребовали низложения Наполеона III и его династии. Революционные демократы и социалисты, застигнутые врасплох, не сумели возглавить движение. Это дало возможность группе депутатов от Парижа захватить в свои руки инициативу образования нового правительства («Правительства национальной обороны»), в состав которого вошли буржуазные республиканцы и частично монархисты, и ликвидировать попытку социалистических групп добиться провозглашения революционного правительства с участием Бланки. Энгельс писал 7 сентября 1870 г. Марксу: «Вся эта республика, как и ее мирное рождение, до настоящей минуты представляет собою чистейший фарс» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 395). Маркс в своей работе «Гражданская война во Франции», характеризуя действия «Правительства национальной обороны», писал, что «...оно унаследовало от империи не только груду развалин, но также и ее страх перед рабочим классом... Вынужденное выбирать между национальным долгом и классовыми интересами, правительство национальной обороны не колебалось ни минуты — оно превратилось в правительство национальной измены» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. I, стр. 456 и 458).
(обратно)138
Пиа Феликс (1810—1889) — французский журналист и драматург, участник революции 1848 г., мелкобуржуазный демократ. После революции 4 сентября 1870 г. выпускал газету «Борьба», а позже газету «Мститель». Был членом Парижской коммуны, ее Исполнительной комиссии и Комитета общественного спасения. Проявил себя как фразер и интриган, сеявший раздоры среди членов Коммуны и клеветавший на социалистов.
(обратно)139
...с чьим именем связана только борьба с Баденге, но вовсе не с Прюдомом — то есть борьба с Наполеоном III, но не с буржуазией.
(обратно)140
Ранвье Габриэль (1828—1879) — французский революционер, художник-декоратор (по фаянсу), участник республиканского и социалистического движения 60-х гг. Член I Интернационала. Был членом Парижской коммуны и ее Комитета общественного спасения. Один из организаторов баррикадной борьбы с версальцами в майские дни. После подавления Коммуны эмигрировал в Англию.
(обратно)141
Это было перемирие. — После революции 4 сентября 1870 г. Бланки и его ближайшие соратники опубликовали в газете «Отечество в опасности» заявление, в котором выражали готовность поддержать «Правительство национальной обороны», если оно проявит энергию и будет защищать страну от внешнего врага. Скоро Бланки понял свою ошибку, стал выступать с критикой «Правительства национальной обороны» и требовать его отставки.
(обратно)142
Документ Ташеро — фальшивка, опубликованная во французской печати 31 марта 1848 г.; в ней прозрачно намекалось на то, что Бланки выдал будто бы полиции организацию тайного общества «Времена года» и участников восстания 12—13 мая 1839 г. Расследование, произведенное в 1848 г. специальной комиссией, не подтвердило клеветнических утверждений журналиста Ташеро.
(обратно)143
Ла-Кордери — площадь в Париже; в доме № 6 на этой площади происходили заседания Федерального совета парижских секций I Интернационала, Федеральной палаты рабочих обществ, а также Центрального комитета 20 округов, составленного из делегатов от окружных комитетов бдительности. Этим комитетам, избранным на народных собраниях после революции 4 сентября 1870 г., был поручен контроль и наблюдение за мэрами и другими представителями местной администрации, а также сбор предложений, касающихся управления и обороны Парижа. В состав ЦК 20 округов вошли представители различных революционных групп: бланкисты, члены Интернационала, мелкобуржуазные демократы (подавляющее большинство членов этой организации составляли социалисты); среди них было много рабочих. Центральный комитет 20 округов добивался осуществления следующих требований: всеобщего вооружения населения, избрания всех должностных лиц и командиров национальной гвардии, учета и реквизиции предметов питания и первой необходимости, введения карточной системы, обеспечения всех граждан жильем, упразднения полицейской префектуры и организации муниципальной полиции, отмены всех законов, ограничивающих право ассоциаций и собраний и свободы печати. В дальнейшем этот орган народных масс являлся главным руководителем революционного движения в Париже, вплоть до возникновения Центрального комитета национальной гвардии.
(обратно)144
Зал для игры в мяч. — Депутаты третьего сословия, собравшиеся 20 июня 1789 г. на очередное заседание Национального собрания, нашли двери отведенного им для заседаний помещения запертыми по приказу короля. Депутаты отправились тогда в большой зал для игры в мяч и здесь торжественно поклялись не расходиться до тех пор, пока не будет выработана конституция.
(обратно)145
Сантер Жозеф-Антуан (1752—1809) — видный деятель французской революции конца XVIII в., принимал участие в штурме Бастилии (14 июля 1789 г.) и во взятии Тюильрийского дворца (10 августа 1792 г.), начальник парижской национальной гвардии.
(обратно)146
Секция. — Париж во время революции 1789—1794 гг. был разделен в административном отношении на 48 секций, каждая из которых имела выборные Комитеты: революционный, наблюдательный, гражданский, военный, продовольственный и некоторые другие. Эти органы, составленные преимущественно из простых людей (рабочих, ремесленников, мелких торговцев и т. д.), играли крупную роль в революционном движении (особенно в период якобинской диктатуры 1793—1794 гг.).
(обратно)147
...против ратуши. — В здании ратуши заседало так называемое «Правительство национальной обороны», образовавшееся 4 сентября 1870 г.
(обратно)148
Федерация Марсова поля — массовое празднество, устроенное 14 июля 1790 г. на Марсовом поле в Париже в день годовщины взятия Бастилии. Собравшиеся (парижане и делегаты со всей страны) поклялись защищать законы, принятые Национальным собранием, и «сохранять неразрывные узы братства со всеми французами». Дальнейший ход революции показал, как понимала «братство всех французов» крупная буржуазия.
(обратно)149
Орсини Феликс (1819—1858) — итальянский революционер, боровшийся за свободу и независимость Италии. 14 января 1858 г. бросил три бомбы в карету Наполеона III, в котором он и другие итальянские патриоты видели главную помеху объединения Италии.
(обратно)150
Quos ego — «Вот я вас» — угроза, которую римский поэт Вергилий (70—19 гг. до н. э.) вкладывает в уста бога морей Нептуна, разгневанного на ветры, разбушевавшиеся над морем.
(обратно)151
Вабр Луи — один из наиболее жестоких версальских офицеров, председатель военного суда в Шатле, ежедневно присуждавший к расстрелу сотни коммунаров.
(обратно)152
Ле-Бурже — 30 октября 1870 г. прусские войска заняли расположенный близ Парижа городок Ле-Бурже. 8-тысячный гарнизон его оказал ожесточенное сопротивление врагу. Главнокомандующий генерал Трошю не оказал гарнизону своевременной помощи.
(обратно)153
Клеман Тома (1809—1871) — французский генерал; в 1848 г. принимал активное участие в подавлении Июньского восстания парижских рабочих; во время осады Парижа командовал национальной гвардией. Во время восстания 18 марта 1871 г. был расстрелян по подозрению в шпионаже.
(обратно)154
31 октября. — В этот день (31 октября 1870 г.) пролетарские батальоны национальной гвардии заняли ратушу, объявили «Правительство национальной обороны» низложенным и провозгласили Коммуну, наметив в ее состав Бланки, Ранвье, Мильера и других видных революционеров. Но они не позаботились о том, чтобы закрепить одержанную победу, и в ночь на 1 ноября войска, верные старому правительству, заняли ратушу и вытеснили оттуда революционеров. «Правительство национальной обороны» осталось у власти, но обещало произвести выборы в Коммуну и не преследовать участников восстания. Ни одного из этих обещаний правительство не сдержало.
(обратно)155
Базен Ашилль (1811—1888) — французский маршал, командовал армией, занимавшей крепость Мец. 25 октября 1870 г. он предательски сдал пруссакам Мец и 170-тысячную армию. В 1873 г. был приговорен за это к смертной казни, которая была заменена ему ссылкой.
(обратно)156
Вайян Эдуард (1840—1915) — французский революционер, инженер и врач по образованию, член I Интернационала, бланкист; был членом Парижской коммуны и ее Исполнительной комиссии, делегатом просвещения. Впоследствии был одним из руководящих деятелей социалистического движения во Франции. В 1913 г. был выдвинут кандидатом на пост президента республики.
(обратно)157
...словно византийцы... — «Византийскими спорами» называют пустые, отвлеченные дебаты в момент, когда на очереди стоят серьезные жизненные вопросы.
(обратно)158
Грелье — участник Парижской коммуны, член Центрального Комитета национальной гвардии и его делегат по Министерству внутренних дел.
(обратно)159
Гайяр Наполеон (1816—1900) — французский революционер, участник Парижской коммуны, председатель Комиссии по постройке баррикад.
(обратно)160
«Красная афиша» — воззвание к парижскому населению, выпущенное 5 января 1871 г. ЦК 20 округов и призывавшее массы к революционному выступлению против изменнического «Правительства национальной обороны». Под этим документом стояло 130 подписей (среди них были подписи многих будущих деятелей Коммуны).
(обратно)161
Тридон Гюстав (1841—1871) — французский политический деятель, адвокат и публицист социалистического направления. За участие в борьбе против империи был приговорен к длительному тюремному заключению; эмигрировал в Бельгию. После свержения империи вместе с Бланки основал газету «Отечество в опасности». Был членом Парижской коммуны, ее Исполнительной и Военной комиссий. После подавления Коммуны эмигрировал в Бельгию.
(обратно)162
Пристав из Шерш-Миди — на улице Шерш-Миди находились военный суд и военная тюрьма.
(обратно)163
22 января. — В этот день (22 января 1871 г.) в Париже вспыхнуло восстание с целью свержения изменнического «Правительства национальной обороны». Восстание было подавлено войсками, стрелявшими из окон ратуши, перед которой собрались группы революционеров.
(обратно)164
Сапиа Теодор (1838—1871) — французский социалист, командир 146-го батальона национальной гвардии во время осады Парижа, был тяжело ранен во время восстания 22 января 1871 г. и умер по дороге в госпиталь.
(обратно)165
Гупиль Эдмон-Альфонс (род. в 1838 г.) — французский публицист, буржуазный радикал; был избран в Коммуну, но 11 апреля вышел из ее состава.
(обратно)166
Пеллико Сильвио (1789—1854) — итальянский писатель-революционер, был арестован австрийскими властями за участие в борьбе за освобождение Италии и провел девять лет в крепости. Опубликовал интересные воспоминания («Мои темницы»).
(обратно)167
«Крик народа» — ежедневная парижская газета революционно-демократического направления, которую выпускал Валлес. Первый номер вышел 22 февраля 1871 г. 11 марта газета была закрыта; после 18 марта ее издание возобновилось.
(обратно)168
Центральный комитет. — Центральный комитет национальной гвардии. Состоял из делегатов от 215 батальонов пролетарских и мелкобуржуазных округов Парижа. Окончательно оформился в середине марта 1871 г. Среди членов Центрального комитета было много видных революционеров и социалистов. После восстания 18 марта 1871 г. и до избрания Парижской коммуны ЦК национальной гвардии исполнял обязанности временного революционного правительства. 28 марта он передал власть Коммуне, в состав которой были выбраны многие его члены.
(обратно)169
Один отдал приказ... — Имеется в виду генерал Леконт, командир 88-го полка, который 18 марта несколько раз отдавал солдатам приказ стрелять по безоружной толпе; был арестован и расстрелян солдатами.
(обратно)170
Полуторафранковые Бруты. — Имеются в виду национальные гвардейцы, получавшие жалованье в размере полутора франков в день.
(обратно)171
Дюваль Эмиль (1840—1871) — французский рабочий (литейщик), бланкист, видный деятель I Интернационала. Был членом ЦК национальной гвардии, членом Парижской коммуны и ее Исполнительной и Военной комиссий. Во время похода отрядов национальной гвардии на Версаль (3—4 апреля) командовал одной из колонн коммунаров; был захвачен в плен версальцами и расстрелян без суда.
(обратно)172
Винуа Жозеф (1800—1880) — французский генерал, с 20 января 1871 г. занимал пост военного губернатора и командующего вооруженными силами Парижа. Командовал резервными войсками в составе версальской армии. Принимал участие в подавлении Коммуны.
(обратно)173
Фленго — народное название ружья.
(обратно)174
Бонвале Шарль — французский политический деятель, буржуазный республиканец. После провозглашения республики 4 сентября 1870 г. был мэром III округа. Дважды выставлял свою кандидатуру в Парижскую коммуну, но не был избран. Был одним из организаторов и руководителей «Лиги республиканского союза прав Парижа», добивавшейся прекращения гражданской войны и соглашения с версальским правительством ценой роспуска Коммуны.
(обратно)175
Варлен Луи-Эжен (1839—1871) — французский рабочий (переплетчик), один из виднейших организаторов французского рабочего движения, руководил рядом стачек. Был секретарем Парижской федерации Интернационала, членом ЦК национальной гвардии, членом Парижской коммуны, ее Комиссии финансов и Военной комиссии. До последнего момента героически сражался на баррикадах. 28 мая был схвачен версальцами и после жестоких пыток расстрелян.
(обратно)176
Ферре Теофиль (1845—1871) — французский социалист бланкистского направления. Был членом Парижской коммуны и ее делегатом общественной безопасности. После подавления Коммуны был арестован, предан суду и 28 ноября 1871 г. расстрелян.
(обратно)177
Шанзи Альфред (1823—1883) — французский генерал, командовал во время войны 1870—1871 гг. второй Луарской армией; был арестован по приказу ЦК национальной гвардии, но вскоре освобожден при условии, что он не будет сражаться против Коммуны. Шанзи сдержал данное им слово.
(обратно)178
На улице Розье. — На этой улице 18 марта 1871 г. были расстреляны своими солдатами генералы Леконт и Клеман Тома.
(обратно)179
Шоде Гюстав (1817—1871) — французский политический деятель, адвокат и публицист; 22 января 1871 г., будучи помощником мэра Парижа, руководил подавлением восстания. Во время Коммуны был арестован и содержался в качестве заложника, а затем был расстрелян.
(обратно)180
Поставили к стене Ноэля и Шапсаля — то есть учебник французской грамматики, составленный ими; иными словами — расправился с грамматикой.
(обратно)181
Типографским мушкам должно быть позволено... — Эта фраза свидетельствует о том, что Валлес, как и некоторые другие деятели Коммуны, не понимал необходимости репрессивных мер против контрреволюционных органов печати. Все же Коммуна закрыла ряд таких газет. Но их сотрудники не были арестованы, типографии не были опечатаны, вследствие чего некоторые враждебные Коммуне газеты продолжали выходить, вопреки запрещению, под измененными названиями.
(обратно)182
Маньяр Франсис (1837—1894) — французский журналист, сотрудник буржуазной газеты «Фигаро».
(обратно)183
Рулье Эдуард — французский революционер, по профессии сапожник, участник Июньского восстания 1848 г. Во время Коммуны был членом подкомиссии труда и сотрудничал в газете «Коммуна». В первые дни после восстания 18 марта исполнял обязанности уполномоченного по Министерству народного просвещения.
(обратно)184
Великий магистр — старинное название главы ведомства просвещения во Франции.
(обратно)185
Cuir — значит «кожа» и ошибка в произношении, состоящая в неправильном соединении слов.
(обратно)186
Тирар Пьер-Эмманюэль (1827—1893) — французский политический деятель и крупный торговец, мэр II округа. Был избран членом Парижской коммуны, но на первом же заседании подал в отставку. Впоследствии был министром буржуазной Третьей республики.
(обратно)187
Клеман Виктор (род. в 1824 г.) — французский рабочий-революционер (красильщик), член I Интернационала, прудонист, член Коммуны и ее Комиссии финансов. После подавления Коммуны был приговорен к трехмесячному заключению в тюрьме.
(обратно)188
Друг народа — так называли видного деятеля французской революции XVIII в. Марата, редактировавшего газету «Друг народа».
(обратно)189
Неподкупный — так прозвали Робеспьера.
(обратно)190
...под ножом Шарлотты — Шарлотты де-Корде д'Армон, убившей Марата 13 июля 1793 г.
(обратно)191
Пуля термидора. — В день контрреволюционного переворота 9 термидора (27 июля 1794 г.) был тяжело ранен из пистолета Максимильен Робеспьер.
(обратно)192
Васильково-голубой фрак — носил Робеспьер.
(обратно)193
Сикст Пятый — римский папа (с 1585 по 1590 г.); вмешивался в религиозные войны во Франции, поддерживал наиболее реакционную часть католиков. Возбудил против себя ненависть римского населения денежными поборами. Учредил из кардиналов комиссию под названием «Конгрегация индекса», которая должна была наблюдать за пополнением списка запрещенных книг («индекса»).
(обратно)194
Клюзере Гюстав-Поль (1823—1900) — французский генерал, участник Коммуны. В 1848 г., будучи офицером, участвовал в подавлении Июньского восстания парижских рабочих; принимал участие в Крымской войне; участвовал в гражданской войне в США (1861—1865) и получил чин генерала в армии Севера. В конце 60-х гг. сотрудничал во французской левореспубликанской прессе, вступил в I Интернационал. 28 сентября 1870 г. участвовал в восстании в Лионе, 1 ноября — в восстании в Марселе. После восстания 18 марта 1871 г. стал на сторону Коммуны. Был избран членом Коммуны, занимал пост военного делегата. Своей бездеятельностью возбудил против себя большое недовольство среди коммунаров, был смещен и арестован, но впоследствии оправдан. После подавления Коммуны бежал за границу.
(обратно)195
Бильоре Альфред-Эдуард (1841—1876) — французский художник и политический деятель. Был членом Парижской коммуны, ряда ее комиссий и Комитета общественного спасения. Принадлежал к ее якобинско-бланкистскому «большинству». Был сослан в Новую Каледонию, где и умер.
(обратно)196
Домбровский Ярослав (1830—1871) — польский революционный деятель, уроженец Волыни, окончил в Петербурге Военную академию, после чего служил офицером в русской армии. Был членом подпольного польского Центрального революционного комитета и участвовал в подготовке восстания в Польше. В 1862 г. был арестован, но в 1864 г. бежал из московской пересыльной тюрьмы. Эмигрировал во Францию. После свержения империи сформировал польский легион. Во время Коммуны был комендантом парижского укрепленного района, затем командующим одной из трех действующих армий Коммуны. Был смертельно ранен на баррикаде 23 мая 1871 г.
(обратно)197
Ланжевен Пьер-Камилл (1843—1913) — французский революционер, рабочий по металлу, член I Интернационала. Был членом Парижской коммуны и ее Комиссии юстиции.
(обратно)198
Лисбон Максим (1837—1905) — драматический артист, участник Коммуны, был членом Центрального комитета национальной гвардии.
(обратно)199
Режер де Монмор Теодор-Доминик (род. в 1816 г.) — врач-ветеринар. Член Парижской коммуны и ее Комиссии финансов. В майские дни руководил обороной квартала Пантеон. Был сослан на каторгу в Новую Каледонию.
(обратно)200
«Отец Дюшен» — революционная газета, выходившая с марта 1871 г., 11 марта была закрыта по приказу генерала Винуа и возобновлена 30 марта. Редактировали ее Э. Вермерш, М. Вильом и А. Эмбер.
(обратно)201
Гроты Заача — оазис в Алжире, близ которого был расположен арабский городок, разрушенный французскими войсками во время национально-освободительного восстания арабов.
(обратно)202
Если господин Тьер — химик... — В одной из статей, помещенной в газете «Крик народа» 16 мая 1871 г., говорилось: «Приняты все меры... чтобы ни один вражеский солдат не вошел в город. Форты могут быть взяты один за другим, крепостные валы могут пасть, но ни один солдат не войдет в город. Если господин Тьер — химик, он поймет нас. Париж решится на все, но не сдастся». Статья эта не была подписана, но впоследствии Валлес утверждал, что автором ее был бланкист Казимир Буи, член редакции газеты «Крик народа». Действительно, Коммуна создала специальную комиссию («научную делегацию»), которой было поручено изыскивать новые технические средства ведения войны, накоплять взрывчатые вещества и т. п. Но комиссия эта не успела сколько-нибудь широко развернуть свою деятельность.
(обратно)203
Сент-Этьен-дю-Мон — церковь в Париже, расположенная за Пантеоном; построена в XII в.
(обратно)204
Пантеон.
(обратно)205
В последнюю минуту (лат.).
(обратно)206
Люксембургский дворец.
(обратно)207
Мул, нагруженный золотом. — Македонский царь Филипп говорил, что мул, нагруженный золотом, может пройти в любую крепость. Смысл этого образного выражения достаточно ясен. Тьер широко применял «оружие» подкупа.
(обратно)208
...с Тьером. — Тьер действительно пытался подкупить и скомпрометировать Домбровского и подсылал к нему своих агентов, но они ничего не добились. Домбровский до конца своей жизни остался честным революционером, преданным делу Коммуны.
(обратно)209
Жантон Гюстав (1825—1871) — французский революционер, рабочий (столяр); участник Июньского восстания 1848 г. в Париже, бланкист. Во время Коммуны исполнял обязанности следователя по политическим делам. Был приговорен к смертной казни и расстрелян.
(обратно)210
Бонжан Луи-Бернар (1804—1871) — председатель кассационного суда в Париже. Был арестован властями Коммуны, содержался в тюрьме в качестве заложника и в майские дни был расстрелян.
(обратно)211
Дарбуа Жорж (1813—1871) — архиепископ парижский. Был арестован властями Коммуны по подозрению в контрреволюционных действиях и содержался в тюрьме в качестве заложника. Коммунары предлагали обменять его и других заложников на Бланки, но Тьер отказался. «Он знал, что, освобождая Бланки, он даст Коммуне голову, архиепископ же гораздо более будет полезен ему, когда будет трупом» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. I, стр. 497). В майские дни Дарбуа был расстрелян.
(обратно)212
Вейссе — шпион версальского правительства, пытавшийся подкупить Домбровского. Был разоблачен, арестован и расстрелян коммунарами.
(обратно)213
Июнь убил Аффра... — Парижский архиепископ Аффр был смертельно ранен солдатами правительственных войск 25 июня 1848 г. перед баррикадой, загораживавшей вход в Сент-Антуанское предместье, куда он явился с целью добиться прекращения вооруженной борьбы.
(обратно)214
Флотт Бенжамен — французский революционер, друг Бланки. Через него велись переговоры с версальским правительством об обмене арестованных Коммуной заложников на заключенного в тюрьму Бланки. Переговоры не увенчались успехом: Тьер отказался освободить Бланки и позволить ему вернуться в Париж, опасаясь, что это усилит Коммуну.
(обратно)215
Галифе Гастон (1830—1909) — французский генерал, командовал бригадой в версальской армии, один из наиболее жестоких и циничных палачей Парижской коммуны. В 1899—1902 гг. был военным министром буржуазной Третьей республики.
(обратно)216
Камелина Зефирен (1840—1932) — рабочий-бронзовщик, член I Интернационала. Был делегатом Коммуны при Монетном дворе. В последние годы своей жизни — член Французской коммунистической партии.
(обратно)217
«Ла-Вейез» — ресторан в рабочем квартале Парижа, Бельвилле, где происходили народные собрания в период выборов.
(обратно)218
Гемония — «Лестница вздохов» — обрывистый спуск в Риме у Авентинского холма, по которому стаскивали в Тибр тела казненных.
(обратно)219
Сатори — военный лагерь около Версаля, одно из мест, где расстреливали коммунаров.
(обратно)
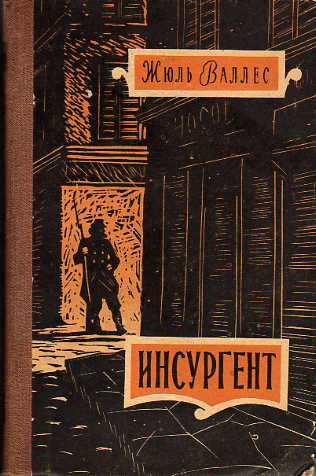



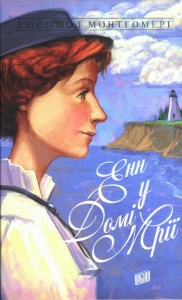
Комментарии к книге «Инсургент», Жюль Валлес
Всего 0 комментариев